Анджей Струг Богатство кассира Спеванкевича
РОМАН
Перевод с польского
С. Свяцкого
I
Когда поезд тронулся, Спеванкевич попытался, не смотря на давку в вагоне, высвободить правую руку: дернул раз, другой — безуспешно. Эти движения показались предосудительными притиснутой к нему спиной девице в замызганной студенческой фуражке. Наконец студентка, особа невысокая, но в теле, с раздражением обратила к Спеванкевичу свое плоское веснушчатое лицо. А тому надо было всего-навсего перекреститься.
Сзади на Спеванкевича навалился мужчина, от которого разило сивухой, слева старый еврей вонзил ему в бок ребро жестяной коробки. Справа копошился мальчонка-гимназист, он совсем потонул в давке и своим большим ранцем старался отгородиться от женщины необъятных размеров, которая, казалось, вот-вот его раздавит. Она уже поставила ему на голову объемистую корзину со сломанным ободом, до отказа набитую свертками. Мальчонка пищал и извивался под корзиной, женщина сопела, поводя налитыми кровью глазами.
Спеванкевич снова попытался вытянуть руку. Прикоснулся к невидимому гладенькому личику ребенка, опять задел студентку.
— Послушайте, вы! В конце концов…
— Простите, пожалуйста…
— Отодвиньтесь, — грозно проворчала женщина с корзиной; ее оплывшая жиром рука жгла Спеванкевича через костюм и пальто.
— Куда мне двигаться?
— Ай-ай-ай, — взвизгнул гимназистик.
— Стой спокойно, щенок! Ишь, как ранцем давит… Чего мечешься? Вот я тебя за уши… Безобразник…
Корзина осела и угрожающе накренилась. Мальчонка выскользнул из-под нее и, припав к полу, забился между студенткой и кассиром. Тому удалось наконец высвободить руку и сотворить крестное знамение.
И тут Спеванкевич спохватился, что совершил богохульство. Допустимо ли в его положении взывать к Божьей помощи? Тем усерднее стал он молиться. Ни разу в жизни не ощущал он такого стремления к небесам. А впрочем… Поможет ли молитва?.. Пусть судит его Господь — непостижимый, всемогущий, всемилосердный, он читает в сердцах, он ведает страдания и муки…
Поезд с грохотом проскакивал стрелки и мчался между составами, которыми были забиты соседние пути.
Спеванкевич закрыл глаза и, продолжая молиться, отдался созерцанию безумных видений, вспыхивавших среди багрового мрака.
— Господи, Господи, воззри на меня, червя ничтожного, пресмыкающегося во прахе… Тебе все ведомо — суди, мог ли я иначе?.. Ужели поразишь ты меня судом человеческим, ты, всеведущий?.. Ужели… Ужели…
Он бездумно твердил молитвенное слово, пока не почувствовал отвращение, пока оно не потеряло смысла.
Ужели… Что это значит? Никак не вспомнить…
Невероятная, не поддающаяся описанию чудовищная реальность превратилась вдруг в сон, который каждую минуту мог прерваться — Спеванкевич понимал это. Дурацкий сон… Он видел его уже много раз. И все, вплоть до мельчайших подробностей, было как теперь: давка, жара, те же лица, те же до единого, угольный чад, мелькающие за окном поезда… Но вот страх исчез, сердце больше не замирало, Спеванкевич погрузился в приятную дремоту. Туго набитый портфель вот-вот вывалится из-под ослабевшей левой руки, он еще прижимает его к себе, но портфель сейчас упадет — ну и что особенного? Но портфель не падал, потому что его поддерживал старик еврей, упорно глядевший в окно. Что он там видит?
Вот проплывает черный закоптелый дом, на стене — огромная реклама, ярко сверкающая на солнце красками. Лазурь неба, лазурь моря. Белый пароход, повисший в бесконечности, дымит всеми четырьмя трубами, смотрит на Спеванкевича множеством иллюминаторов. Там ждет его покой, забвение, сон!.. Там появится новый человек и начнется-его новая жизнь. Спеванкевич вновь закрыл глаза, и видение судна взмыло в пурпурном зареве, переливаясь зелеными, желтыми, изумрудными отблесками…
Позади началась перебранка: торопливо перебивая друг друга, закричало разом несколько голосов; мужчина, от которого несло водкой, нажал на Спеванкевича.
Тот в свою очередь нажал на женщину с корзиной, очутившуюся на месте студентки. Корзина затрещала.
— Эй, эй, что вы делаете?
— Это не я, меня толкают… — отвечал Спеванкевич, не открывая глаз и продолжая любоваться феерией ярких пятен, меж которых скользил его пароход — теперь уже черный. Жаль было расставаться с ним и, откладывая пробуждение, он крепче сжимал веки.
…Он сидит в тени на веранде, глядит вдаль. А вдали замер корабль под белыми парусами, накрененный ветром, неизъяснимо прекрасный. Горячий ветер доносит запахи океана и словно теплой водой ополаскивает лицо, руки, обнаженную шею. От легкого перестука машины подрагивает палуба. Это подрагиванье передается ногам, обутым в белые ботинки, распространяется по телу приятным легким журчанием. Радость жизни, покой, возрождение всего его существа, разрыв с прошлым, свежие силы, вторая молодость… А впереди широкий мир, где открываются перед ним великие возможности, а над миром — его власть.
Цейлон. На взгорье тихий белый отель, из-под пальмовых ветвей врывается в окна до неправдоподобия пышный пейзаж. Причудливо клубящиеся холмы, изумрудные долины с серебряными нитями потоков, а за ними где-то далеко, в непостижимой выси, — океан, это его дорога. За океаном простирается материк, там муравейники неведомых людей, города-спруты. Там в сейфе его ждут деньги, частица богатства, которую он выслал с пути…
Его захлестнул экстаз. Он ощущал, как гаснет память, уходит то, что было вчера, полчаса назад. Гигантским прыжком вознесся он в пространство и с сумасшедшей скоростью мчится над своим прошлым — над бедами, над нищетой. Душа вырвалась из тела и парит на воле, на крыльях радости. Провидение, неумолимая сила судьбы, несет его над препятствиями, опасностями, над страхом, который подстерегает его повсюду. Свершилось… Чудо подхватило его.
Но глаза пришлось все-таки открыть. Женщина с корзиной дергалась как одержимая и орала на старика еврея. Жестяная коробка, которую тот прижимал к груди, упиралась взбешенной женщине в подбородок. Коробка подпрыгивала, потому что под ней трепыхался мальчонка: нижней половиной своего тела он старался протиснуться у Спеванкевича между ног, словно искал там прохода. Пропахшая сивухой личность навалилась всей тяжестью ему на спину…
Спеванкевич глянул в окно и содрогнулся — поезд проезжал Товаровую улицу. Еще только Товаровую?!
А сколько пережил он за эти несколько минут… Куда унесся…
В одно мгновение он вернулся из просторов вселенной назад, застрял в вечерней давке пригородного поезда. Неведомая сила безжалостно и грубо втиснула Спеванкевича в его собственную оболочку. Он почувствовал, как тело немеет, волосы шевелятся на голове, — выходит, ничего еще не было, даже не начиналось! Ничего?!..
Это было непостижимо. В растерянности он попытался дать оценку невероятному своему положению. С трудом ворочая шеей, осмотрелся. Встретил устремленный на себя взгляд жилистого тощего субъекта в соломенной шляпе — ощутил страх. Этот безвестный страдалец был приперт к стене дамой в красной, похожей на церковный купол шляпе с колосьями, которые тыкались без конца ему в потное лицо, он пытался от них уклониться и беспрестанно мотал своей горбоносой лошадиной головой, морщил нос, встряхивался, но не мог ни закрыться, ни почесаться, потому что обе его руки были зажаты. Спеванкевич наблюдал за этим человеком с возрастающей тревогой: не переставая двигать головой, незнакомец в то же время, казалось, ни на секунду не спускал с него глаз.
«Чего ему от меня надо? Кто он такой?»
Может, самый обыкновенный неврастеник, а может, пялится из глубины вагона на хорошенькую девчонку…
Стоит ли принимать сразу на свой счет? А что, если шайка послала за ним сыщика? Что, если рассыльный Крохмальский, главный в банке доносчик, заподозрил что-то…
Спеванкевича прошиб пот. Он опустил глаза и долго не решался взглянуть на незнакомца. Стал мысленно твердить: «Будь мужчиной. Не давай волю воображению. Старайся ни о чем не думать, дремли, позевывай, улыбайся собственным мыслям. Главное, чтоб как-то прошел этот первый час — до Скерневиц. Боже, какая давка… Но в давке не так опасно… Человек растворяется r толпе, пропадает. На вокзале никого из знакомых не было — это он уже выяснил… А в Скерневицах — максимум осторожности… Здесь могут ехать и Вильчинский, и Спых, оба живут как раз в Скерневицах… Даже наверняка они здесь, в этом поезде… Возвращаются из банка, как обычно..»
Он внушал себе это для успокоения. Повторил раз, другой, третий, поднял голову: незнакомец тотчас перехватил его взгляд. В больных глазках с подрагивающими веками было что-то издевательское. Опять Спеванкевич затрясся от страха, опять стал вспоминать, докапываться…
«Нет, нет, чепуха… Самый бестолковый сыщик не станет так глупо… Железнодорожный вор тоже, даже если каким-то чудом пронюхает… Кроме того, кроме… Ах, как кружится голова…»
Под этим упорным, диким взглядом пробудились все его тщательно скрываемые от мира терзания. Вставала, запечатленная день за днем, история последних лет: безудержные взлёты и чудовищные падения. Все его страсти, такие давние и уже как бы застывшие под непроницаемой скорлупой тайны, ожили вновь в этих глазах, это было ошеломляющее своей неожиданностью разоблачение: незнакомец знал все.
Невероятно, но именно так. Не время доискиваться, каким образом этот страшный человек догадался о том, чего не знал в целом свете никто. Надо спасаться — любой ценой, ни секунды не медля!
Эти глаза так и тянули из него правду, так и побуждали к признанию. Спеванкевич не в силах был от них оторваться, он оцепенел от ужаса. Вдруг незнакомец улыбнулся и подмигнул ему заговорщически, почти дружески… Что бы это значило?
Женщина, державшая на весу корзину, которую некуда было поставить, изрыгала в лицо старику еврею гнусные антисемитские ругательства, перемежая их божбой и астматическим сопением. Еврей безмолвствовал, обхватив руками коробку, закрыв глаза с трагически приподнятыми бровями. Перед незнакомцем вынырнул внезапно мальчонка, отгородив его от дамы с колосьями. Из купе показался и стал пробиваться сквозь толпу дородный, в грязном мундире железнодорожник. Он натужно охнул, как перед тяжелой работой, и втиснулся в человеческую массу, сбившуюся в тесном проходе: вклинился между женщиной и стариком евреем, сплющил корзину, пролез между дамой с колосьями и незнакомцем, повернув того лицом в другую сторону, и двинулся вперед, глухой к воплям, визгу, несущимся вслед проклятиям. Освободившись от страшного взгляда, Спеванкевич немедленно пришел в себя.
Поезд остановился — Влохи. Спеванкевича это удивило: так быстро доехали. Он хотел взглянуть на часы, но справа на него навалился толстяк — складки на жирной шее, пятна на панаме. Левая рука — он почувствовал это только сейчас — затекла и нестерпимо болела. И зачем надо было прижимать с такой силой портфель? Тот застрял между ним и стариком евреем и держался сам по себе.
Но худшее было позади. Он уже отдавал себе отчет в своих поступках. Начал мыслить. А ведь последние три часа он пребывал в смятении, не знал, что с ним творится. Кто управлял им все это время? Когда, в какую минуту родилось страшное решение? С чего началось все это?
Сперва в его окошечке появился лысый череп Зайончковского. На этот раз бухгалтер ругался чуть ли не в голос, речь, впрочем, шла все о том же. Молчать, дескать, больше нельзя и так далее, и так далее…
— Что случилось?
— Что случилось?.. Не хуже моего знаете… Тысячи людей разорились. Со злотым катастрофа — все сейфы забиты злотыми. Кто не дурак, хватает доллары… Три дня… Три дня безумия! И чем все это кончилось?
— Чем?..
— Доллары возвращаются. Они вернутся все до единого! На каждом заработали в среднем по шесть злотых! Миллионы и миллионы награбили!
— Ну и что?
— То есть как «ну и что»?
— Обычное дело. Каждый имеет право обменять валюту.
— Вот как! Шутки шутите! Но с меня довольно. Я их ославлю на весь свет, пусть будет, что будет…
— С ума сошли, что ли?
— Не буду покрывать преступников!
— Если вы в самом деле собираетесь… О таких вещах не говорят…
— Я только вам…
— Болтовня все это.
— Увидите!
— Сомневаюсь.
— Увидите! До всей шайки доберусь!
— Ничего с ними не будет…
— Не будет? Тогда я первый отказываюсь от такой Польши…
— Уж какая есть.
— Неправда! Разве за это мы сражались? Разве за это погиб на войне мой единственный сын?..
— Болтовней мир не исправишь.
— Увидите завтра в утренних газетах. Заголовок дам такой: «Святое право на обмен валюты».
— Уверен, что не увижу.
— Увидите! Богом клянусь, памятью моего сына-героя…
Телефон.
— Слушаюсь, пан директор!.. Из Гданьска и из Катовиц… Еще нет… Сегодня не успеть, но завтра начну с утра… Сам знаю, что срочно… Слушаюсь… слушаюсь…
Стоило повесить трубку, как в окошечке появилась широкая, бритая физиономия биржевого маклера Шулима Шрона,
— Добрый вечер!
Все знали эту единственную и неизменную остроту Шрона: он здоровался и прощался так в любое время суток. Можно было это назвать остроумием, иссякающим с уходом дня.
— Добрый вечер, Шрон, что там у вас?..
— Пустяки, ничего особенного… — ответил Шрон, передавая в окошечко пачки банкнотов, — сущие пустяки. Этих бумажонок наберется тут семнадцать тысяч сто долларов…
С непостижимой быстротой перебирая пальцами, Спеванкевич стал считать банкноты. Их шелест перерастал, казалось, временами в мелодию.
— Ай-ай-ай… ай-ай… — закачалась в окошке огромная, потная физиономия маклера.
— Зубы у вас болят?
— Ай-ай-ай… Это же колоссально… Что значит колоссально? Это гениально!!! Ай-ай-ай… Этот Сабилович заслужил, чтоб ему в Варшаве памятник поставили. Вот как!
— Этого только не хватало…
— А директора Згулу — сразу министром финансов и промышленности. Вот как!
— Не морочьте голову… Вы на этих грязных делишках тоже руки погрели…
— Было, было… Я что, жаловаться к вам пришел?
— Все вы ворье. Один больше, другой меньше…
— А вы как думали?
— Чтоб вы все от чумы околели!
— Добрый вечер! Никогда этого не будет. Добрый вечер!
— Проваливайте к чертям…
С этого и началось. Средь бела дня он впал в лунатическое состояние, и все шло само собой. Было без четверти два. Он составил кассовую ведомость, проверил ее, связал банкноты в пачки и стал у распахнутой настежь дверцы сейфа. Отгородившись таким образом от постороннего взгляда, он принялся набивать пачками денег свой большой желтый портфель. Доллары не влезали. Он запихивал их как можно глубже, поправлял, перекладывал — спокойно, без спешки. Еще девятьсот фунтов, еще с тысячу швейцарских франков… Оставалось только двадцать пять тысяч злотых сотенными и пятисотенными бумажками. Жаль было бросать. Еще раз все переложил — не помещается. Растолкал злотые по карманам как попало. Сейф был пуст: только пачек десять мелких банкнотов и груда монет.
Спеванкевич закрыл сейф и, покончив с делами, позвонил директору Згуле, записал кое-какие распоряжения на завтра и одним из последних покинул банк…
Вдруг он вздрогнул. Ему вспомнилось, как старший рассыльный, подавая ему с обычной угодливостью прикурить, зацепил невзначай взглядом его битком набитый портфель, Старший рассыльный Крохмальский, главный доносчик директора Сабиловича…
Сердце бешено забилось — остановилось — замерло… Появился шум в ушах… Изо всех сил он прижал портфель к себе, даже руку свело судорогой. Но боль отрезвила его. Черт с ним, с рассыльным!
…Потом он направился к братьям Яблковским, выбрал себе лучшее английское пальто, реглан, и вышел, разомлевший, счастливый: ему казалось, что он может без опасения купить в этих великолепных магазинах все, что ему заблагорассудится…
…Потом в молочной на Маршалковской улице он выпил подряд три стакана простокваши… Что было дальше, неизвестно. Опомнился он только в вагоне.
Вот и все.
Да, произошло это непостижимо легко и просто. Он ощутил необыкновенную радость. Все остальное, конечно, устроится.
Его ведут могучие таинственные силы, в их руках его судьба. Он знал, что над ним простерта их благостная опека.
Да, но почему все произошло именно сегодня? Потому что сегодня в кассу хлынули доллары?.. А ведь он даже не думал об этом, просто-напросто, ощутив, как толчок, властное веление, он прихватил деньги и устремился прочь…
Свершилось. Но в самом себе он не чувствовал пока перемены, все — было потрясающе будничным. Вот удивительно! Проницательным и ясным взглядом мог он окинуть теперь свой великий план с самого начала и до конца. Все было предусмотрено и учтено — ни промаха, ни загвоздочки. Завтра в полночь он растворится в необъятности мира. Поезд из Снятыня отходит в двенадцать тридцать семь — расписание он знал на память. А завтра в три часа дня во Львове выйдет из вагона герр Рудольф Понтиус, житель Кенигсберга, с паспортом, где есть все необходимые визы.
Останется в прошлом бестолковая жизнь неудачника Иеронима Спеванкевича, кассира банка «Детполь», образцового служащего, доброго товарища, при мерного семьянина, проживавшего много лет во флигеле на Панской улице… Утонет в бурной пучине невиданного скандала, который долго-долго не даст покоя его сослуживцам. Он видит, как они дивятся, размахивают руками, того и гляди потеряют рассудок.
Видит обоих директоров: старый Сабилович я молодой Згула, они сидят в глубоких кожаных креслах в кабинете, где в убранстве чередуются польские и американские национальные цвета, и смотрят друг на друга, оторопев от изумления. Пусть налюбуются — оба угодят за решетку: одновременно с похищением кассы откроется противозаконная задержка поступивших к ним из Лодзи вот уже две недели назад трехсот тысяч активов английского банка, мало того, обнаружатся махинации с этими активами, игра на понижение злотого. Так вам и надо, американская сволочь!
…Утрата[1]. Поезд стоит долго, множество пассажиров пытается в давке выбраться из вагонов. Школьники выскакивают в окна. Шум, крики. В суматохе Спеванкевича протолкнули вперед — он очутился рядом с незнакомцем, но тот даже не удостоил его взглядом. Он писал что-то карандашом в толстом блокноте и, углубленный в это занятие, помогал себе тем, что хмурил брови и высовывал кончик языка. Стало просторней, и Спеванкевич заглянул в купе — ноги подкашивались, захотелось хоть на минутку присесть. Два места были свободными. У окна сидел его сослуживец Вильчинский (отдел текущих счетов) и читал газету. Спеванкевич попятился, но тот его уже заметил и, указав на газету, многозначительно покачал головой. Пришлось зайти. Ругаясь про себя, Спеванкевич сел на скамью.
— На этот раз, пан Иероним, шайка хватила, кажется, через край, — прогудел ему хриплым басом в самое ухо бухгалтер и хлопнул ладонью по газете. — По-моему, у них уже сорвалось, а может, еще сорвется. Завтра увидим.
Спеванкевич с жадностью набросился на газету. «Вечер Польский» на видном месте поместил набранную жирным шрифтом краткую заметку.
«Отдел умственных упражнений „Вечера Польского“. Очередная загадка. Премия — само выполнение благородной задачи.
Было их двое. Оба прибыли из Америки. Один молодой, другой старый. Кто из них больший вор?
К участию в конкурсе приглашаем прокурора Речи Посполитой и правительственного комиссара г. Варшавы.
Если до завтрашнего дня загадка не будет решена, сообщим дополнительные подробности».
— Ну как?
Спеванкевич сложил газету и с презрительной гримасой протянул Вильчинскому.
— Правильный ответ они получат сегодня: шайка откупится.
— Ну нет, нет! Такого, знаете, еще не бывало!
— Видно, слишком много запросили, шайка ответила отказом — вот вам и загадка. Теперь подороже заплатят. Придется раскошелиться. Шантаж, и точка.
— Нет! Я знаю, чья это работа. Он пошел ва-банк! — И наклонившись к уху собеседника, бухгалтер прошептал: — Это Зайончковский.
— Возможно. В таком случае он помог шантажистам — дал в руки этим подлецам газетчикам доказательства. Старый дурак!
— Человек отваги! Человек долга! — прошептал Вильчинский.
— И те и эти договорятся друг с другом, а старика выдадут с головой. Выгонят его на все четыре стороны с шестерыми ребятишками и с волчьим паспортом! Ни один банк не возьмет, даже рассыльным.
Вильчинский только руками развел.
— Ну, если мы будем так…
— А как еще? — накинулся на него Спеванкевич с ожесточением, которое его самого удивило. Черта ему теперь в этом самом банке?
Вильчинский замолк. Две дамы, сидевшие напротив, ели клубнику. Женщина с корзиной, развалившись на скамейке, с сопением перекладывала свои покупки — бутылки, свертки. Голова ощипанной курицы на дряблой шее свешивалась через край корзины — глаза закрыты, казалось, курица всецело покорилась своей судьбе. Перед дверью маячил на фоне окна силуэт незнакомца, он что-то писал стоя. Бесцветные волосы, выбиваясь из-под соломенной шляпы канотье, падали редкими прядями на уши, и можно было предположить, что у их владельца изрядная лысина. Все-таки очень странное лицо… Вильчинский по-прежнему молчал. Спеванкевич задумался: что ему отвечать, если разговор возобновится? Уж конечно, Вильчинский его спросит… Хотя бы для того, чтоб продолжить разговор, черт бы его подрал… Такой хороший был план… Но обязательно подвернется какой-нибудь кретин, который поставит дело под удар, все разрушит…
«Как же мне быть теперь в Скерневицах? Наказанье Божье».
Вильчинский открыл рот. Вот и пожалуйста…
— Я? Я хочу заехать на часок в Брвинув, там у меня именинница…
— Да, сегодня Ванды…
— Ванды…
— И портфель полный… Охо-хо… Фрузинский или Ведель?[2] — наивно осведомился коллега, положив руку на портфель. Сперва Спеванкевич ощетинился, потом его вдруг затошнило: рот наполнился слюной. Но он нашел в себе силы рассмеяться.
— Ни то ни другое — одни только книжки. Не люблю швырять деньги на ветер.
— Правильно. Только это намного дороже. Жуткую цену дерут за книжки.
Вильчинский опять смолк. Захочет еще чего доброго посмотреть эти книжки, вот скотина! А с Брвинувом он удачно вывернулся. Он попрощается (до завтра — ха-ха-ха…), сойдет и самым спокойным образом пересядет в последний вагон. А что, если там поджидает его Спых, ведь и он живет в Скерневицах? А что, если там окажется другой какой-нибудь попутчик, — почему бы нет? — которого тоже угораздило ехать в Брвинув? Тогда он на всякий случай первым задаст вопрос и тут же что-нибудь придумает… Тяжкая, проклятая задача!..
Спеванкевич вскочил, сам не свой. Незнакомец покосился на него, не прерывая своего занятия. Вильчинский вопросительно уставился на Спеванкевича. Улыбнулся. Спеванкевич ответил ему кислой улыбкой.
— Оставьте портфель, — понимающе сказал сослуживец.
Проклиная все на свете, Спеванкевич оставил портфель Вильчинскому. Впрочем, портфель был закрыт на ключ. Скрежеща зубами, покинул купе. Заперся в уборной, снял шляпу и, отирая вспотевший лоб, стал шепотом ругаться. Затем начал выгребать из куртки и из брюк мятые купюры по сто и по пятьдесят злотых и набивать ими вместительные боковые карманы нового пальто. Застегнул карманы на пуговицы. Безо всякой на то необходимости проверил еще раз, лежит ли в бумажнике его собственный паспорт и паспорт на имя Рудольфа Понтиуса, и поспешно вышел из уборной, ощутив в последнюю минуту сильную тревогу за портфель.
Но сразу же за дверями в него вонзились страшные глаза незнакомца. Он стоял, загородив собой дорогу. Спеванкевич, застигнутый врасплох, почувствовал вдруг всю свою беспомощность — этот взгляд гипнотизировал его. Мозг обволакивался туманом, веки слипались, клонило в сон. Кассир, однако, взял себя в руки, встрепенулся, вытаращил глаза, еще секунда, он соберется с силами и так толкнет этого человека (почему он вызывает у него такой ужас?), что тот полетит вверх тормашками.
Но взгляд незнакомца стал мягче, глаза сделались даже ласковыми, в них мелькнуло дружелюбие. И Спеванкевич невольно ответил улыбкой. Тогда незнакомец приложил палец к губам, на его подвижном актерском лице появилось таинственное выражение… Тем же пальцем он погрозил Спеванкевичу перед самым носом, покачал головой, в то время как другая его рука сунула кассиру какую-то бумажку. Спеванкевич послушно, не сказав ни слова, взял ее. Поезд замедлил ход — Прушкув. Незнакомец открыл дверь, спустился на ступеньки, соскочил на ходу. Некоторое время он шагал наравне с вагоном, затем ушел вперед. Обернулся, снял на прощание шляпу: он и в самом деле был лысый, с венчиком длинных растрепанных волос и напоминал собой сошедший со старинной гравюры персонаж из романа Диккенса. Спеванкевич помчался по коридору, ощутив еще сильнее тревогу за портфель. Но сделав несколько шагов, остановился, развернул бумажку, взглянул. Его удивило, что записка состояла сплошь из печатных букв, мелких и тщательно выписанных:
«Все открылось! Первая полоса оцепления — Гродзиск! В Скерневицах круг замыкается. Из Брвинува направишься в сторону быдгощской линии на станцию Блоне — два часа пути. Ты во власти нашего радионаблюдения. Со всех сторон тебя окружают мощные волны эфира, единственный выход — Блоне. Там садись на поезд и поезжай с Богом!»
Читать дальше не было сил… Спеванкевич скрючился, почти сел на пол. Возникло ощущение, будто его гнетет огромная тяжесть. Окна в длинном проходе перекосились и застыли, точно на кубистической картине. А снаружи, за стеклом, набегали волнообразным движением и дыбились ярусами ломаные прямоугольники зеленеющих полей; облака в синем небе приобрели резкие угловатые очертания; на горизонте грозной молчаливой шеренгой выстроились гигантские башни — антенны центральной радиостанции… В голове мелькнула догадка.
Поезд тронулся. Вильчинский дремал, покачиваясь, портфель сползал понемногу с его коленей. Спеванкевич взял портфель, сослуживец даже не шелохнулся. Каждый мог сделать то же самое.
От этой мысли Спеванкевича пронизала дрожь. Короткой волной она пробежала вдоль позвоночника и стихла. Обыкновенный, рожденный осторожностью человеческий страх отступал перед чем-то новым. Словно черной тучей окутал его непостижимый ужас — предчувствие неведомого, мистический, обезоруживающий ужас… Он был не в состоянии мыслить, перестал понимать, что с ним происходит. Зловещая муть…
Минуту спустя он пришел в себя, достал из кармана записку, хотел убедиться, правильно ли он все понял… Но не осмелился даже взглянуть, только зажал крепко в кулаке. Вильчинский, свесив голову, сладко похрапывал. Женщина на скамейке напротив перепаковала уже свои свертки и теперь записывала в блокнот расходы, поминутно слюнявя огрызок карандаша. Голова курицы болталась, точно маятник, и Спеванкевич следил за ней в оцепенении, не в силах оторвать взгляда. У него было желание разбудить Вильчинского и спросить, прямо и начистоту, правда ли это, что он, Иероним Спеванкевич, находится тут своей собственной персоной? Откуда он взялся? Если Вильчинский подтвердит, что так оно и есть, пусть скажет, что делать дальше…
Нет! Разбудить коллегу, разумеется, надо, но только затем, чтоб он тут же разбудил его самого. Все это глупый сон, иначе и быть не может. Дамы, евшие клубнику, стали расти у него на глазах, теряя очертания. Голова его сделалась тяжелой, Спеванкевич пробовал поднять ее, но она опускалась. Наконец он коснулся лбом портфеля, стоявшего на коленях, качнулся еще раз и уснул.
…Проклятая лестница, крутая, грязная, темная, вонючая. Стены с облупленной краской, все в пятнах, перила липкие… Из верхней квартиры выходит на лестницу чад, доносится глухой говор, гвалт, писк… Четвертый этаж… Площадкой ниже расселись еврейки с ребятишками — ну и дух… Он пробирается между ними, шагает по ступеням, острый запах карболки, словно ножом, режет густую вонь. «Четвертый городской пункт помощи детям. Фонд барона Хирша». Чуть повыше уже сплошная толпа. Приходится расталкивать потных женщин, перешагивать через детей с гноящимися глазами, со струпьями… И наконец пятый этаж — «Иероним Спеванкевич». Смешная фамилия — кто, собственно, это такой?
У стены неуклюже копошится покалеченный таракан со сломанными усами. Двинется, остановится. Он пытается вскарабкаться на стену, срывается, падает и не может встать на лапки, извивается на полу, вертится волчком… Это он, Иероним Спеванкевич.
Он достает ключ от французского замка. Доносится знакомая предобеденная перебранка жены с кухаркой. Карольтя кричит уже намного громче хозяйки. Из «гостиной», сквозь две закрытые двери, слышатся мерзкие звуки — это Ядя разучивает на фортепиано строго-настрого запрещенный «Танец Анртры». («…Отец во что бы то ни стало хочет погубить мой талант».) «Танец» оборвется, стоит только ему переступить порог. Но даже того, что он слышал, вполне достаточно. Он опускает ключ в карман — войти нет сил. Картина собственного дома приводит его в содрогание. Он попятился и, приняв неожиданное решение порвать с этим («Лучше в Вислу, чем домой!»), начал спускаться по лестнице. И лишь на третьем марше спохватился, что надо снова пробираться сквозь толпу евреек с больными ребятишками, а это тоже свыше сил. И он замирает на месте. Ни туда ни сюда! Вот вам Иероним Спеванкевич…
— Вам сходить, Брвинув!
— Что?! Ага… ага…
— До завтра. Желаю приятно повеселиться!
— Спасибо…
Спеванкевич сошел с поезда и предусмотрительно поспешил к последнему вагону. Оглянулся, Вильчинский, высунувшись из окна, смотрит ему вслед. Перрон до самого конца состава — пустой. Дойдя до последнего вагона, Спеванкевич обернулся еще раз — Вильчинский все еще смотрит. Положение и ужасное, и глупое. Не поехать этим поездом — значит, не успеть в Скерневицах на скорый — весь план летит тогда к чертовой матери. В отчаянии он обернулся снова — Вильчинский махал ему шляпой. Выругавшись про себя, Спеванкевич помахал в ответ.
— А вы что тут делаете?
В последнем вагоне у самого последнего окна сидел Спых с газетой в руке.
— Я? Ничего… Я так…
— Уже читали?
— «Вечер Польский»? Знаю, знаю…
— Что там «Вечер»… Вот в сегодняшней «Польской Пыли»!.. Подчистую разделали, с именами, с фамилиями, влипла вся шайка. Кто-то из наших… сведения самые достоверные… Читать страшно, глазам не веришь. Что завтра будет!.. Многие из служащих полетят по одному только подозрению…
— Никто не полетит. Если все так, как вы говорите, то шайка пойдет за решетку.
— В таком случае еще хуже — мы все полетим: наша лавочка обанкротится.
Окно вместе со Спыхом двинулось с места. Спеванкевич ойкнул и непроизвольно, уже безо всякой надежды, пошел за поездом…
— Знаете, что я думаю?
— Ну?
— Только так, между нами… Дайте честное слово, а?
— Ну что?
— Это работа Зайончовского!
— Идиот, старая перечница!
— Фанатик, сумасшедший человек! Полное отсутствие солидарности! Как это ужасно… подвергать… товарищей…
Расслышать остальное не удалось. Поезд прибавил ходу. Открылось ровное бескрайнее поле, а в той стороне, где была Варшава, замаячили на горизонте ажурные мачты-антенны…
В пустой голове лопнула до предела натянутая тонюсенькая струнка. Она соединяла — Спеванкевич отлично это чувствовал — обе барабанные перепонки; теперь, когда она лопнула, в ушах что-то запищало, заскрежетало, как бывает в телефонной трубке, когда приходится ждать соединения. Тут кассир вспомнил о таинственной записке.
Он торопливо двинулся вдоль путей. Побыть одному, сосредоточиться — вот что сейчас ему необходимо. Он чувствовал, что неудача, постигшая его в связи с уходом поезда, может обернуться удачей, но каким образом это произойдет, пока еще сам не знал. В голове что-то вспыхивало, мерцало и гасло. Так миновал он одну за другой несколько дач. Долго преследовал его фонограф, разносящий по округе нахальные квакающие куплеты. Спеванкевич прошел сторожку, где спал, усевшись на пол и согнувшись в три погибели, стрелочник, обошел груды трухлявых, поросших сорняками шпал и добрался до переезда. Стало полегче… Ах, если б еще сесть… Отдохнуть…
В новом пальто было нестерпимо жарко, портфель оттягивал руку, будто его набили камнями… Спеванкевич до сих пор еще не решил, хорошо или плохо он поступает, умно или глупо. В самом деле, как определить, спасает он себя сейчас или же бесповоротно губит?.. Ничего он так и не выяснит, пока не отдохнет и не прочтет до конца записку.
Дорога шла с небольшим подъемом, и взгляду открылась груша-дичок с пышной листвой. Захотелось поваляться в тени. Он сделал еще несколько шагов и увидел, что под грушей стоят две детские колясочки и какие-то люди нежатся в холодке, на травке. Благим матом орал ребенок. Вдали, в открытом поле, по обеим сторонам виднелись две дачи… Спеванкевич остановился, беспомощный и несчастный.
Прежде всего нельзя допустить, чтоб его тут заметили. Он повернулся, сделал несколько шагов назад. Справа от дороги начиналась межа. Он двинулся вдоль этой межи, нырнул в буйную зелень колосьев, скрывших его с головой. Межа вскоре сделалась шире и перешла то ли в овражек, то ли в промоину, где редкие стебельки ржи торчали среди привольно разросшейся ромашки. Спеванкевич швырнул портфель под корявый куст терновника, где было немного тени, сбросил с себя пальто, постлал на траве, снял куртку и жилет, расстегнул воротничок и лег навзничь, раскинув руки. Он вздыхал и постанывал от удовольствия в этом уединении, он отдыхал. Когда к нему вернутся силы, он решит, как быть, — в конце-концов не произошло еще ничего особенного… Одни пустяки…
Но внезапно он вскочил, сел и повел вокруг диким взглядом. Крик ужаса застрял в пересохшем горле. Он поднялся, стал перетряхивать и раскидывать одежду, схватил пальто, упал на колени. Ноги подкосились от слабости, впрочем, и от счастья, от переполнившей все его существо благодарности Всевышнему, которую он поспешил излить в самой чистой, самой искренней молитве… Потому что желтый портфель лежал как ни в чем не бывало на прежнем месте. Спеванкевич схватил его, прижал к груди, приник к нему губами и рухнул на землю в экстазе наслаждения, будто этот портфель уже заключал в себе всех неизвестных, но рожденных в мечтах наипрекраснейших женщин мира, которые отдадутся ему вскоре на обоих полушариях, на волшебных островах, в экзотических городах, в джунглях, в пампасах, в спальных вагонах, на вершинах вулканов, на склонах Килиманджаро, в Кордильерах… И он положил голову на портфель, набитый чудесами, закрыл лицо от солнца шляпой, улегся удобней…
II
Если бы подсчитать и собрать воедино все деньги, которые в течение двадцати пяти лет прошли через руки кассира Спеванкевича, получилось бы число астрономическое, значение которого не мог бы постичь человеческий ум, даже с помощью логарифмов или иных каких символов высшего порядка, представляющих собой, впрочем, не что иное как фикцию, плод теоретического безумия. Валюты всех стран мира, облигации, закладные, самоуверенно шелестящие банкноты твердого курса и акции с хвостами купонов, уходящих в отдаленное будущее… Рубли, рубли и рубли, а дальше, с наступлением бедствий мировой войны, немецкие марки, австрийские кроны, затем марки Безелера с орлом Зигмунта и, наконец, марки чисто польские, национальные, которые в круговороте лихорадочного обращения становились лоскутками, тряпками и тут же чудовищно плодились в новых выпусках, с новыми красками и узорами, где несчастного Костюшко обвивали удлиняющиеся гирлянды нулей… Пока наконец после ужасов последней девальвации, когда следовало быть миллиардером, чтоб ездить в трамвае, не родилась в Польше безупречно юная денежная единица, полновесно позвякивающая золотом, серебром и радостью, с ног до головы дитя Европы, бестрепетно глядящая в глаза фунту и доллару.
Кассир Спеванкевич пережил все это. Неукоснительно и непреложно, пунктуально и скрупулезно в течение семнадцати лет месил он ежедневно чужое богатство своими трудолюбивыми руками. Шелестел, неутомимый, этими волшебными бумажками, пропускал, пленник кассы, через свое узенькое окошечко потоки миллионов. Бесстрастный, деятельный, бдительный, точный, как самая точная машина, он являл посетителям свое бледное как бумага лицо, мертвое, безучастное ко всему, что не входило в круг его обязанностей. Никто еще не заметил в его окошечке улыбку, гримасу нетерпения, не наблюдал любезности или гнева. Не дрогнули бы эти черты, если бы перед кассой появился вдруг голый людоед с Соломоновых островов, или человеческий скелет, или даже корова — была бы в порядке подпись, на месте штампы и номера. Безупречный служащий, образцовый семьянин — Панская тридцать один, третий двор, флигель налево, — долголетний вице-председатель союза банковских служащих, он не обзавелся среди сослуживцев друзьями, впрочем, недоброжелателями тоже: всеми уважаемый, со всеми был он ровен, ни с кем — близок. Нельзя было даже назвать его молчаливым, потому что и разговоров он не затевал, а если спрашивали, отвечал с подчеркнутой краткостью. Служащие помоложе передразнивали его, копируя нарочито размеренные движения, бесстрастное лицо и неподвижный взгляд, что удавалось особенно банковским барышням. Никто, впрочем, серьезно им не интересовался, никто о нем ничего не знал. Трудно было определить, чем такой человек может жить вне службы. Мушарский, молодой лоботряс, который продержался в «Детполе» две недели и получил расчет за то, что был бестолков, ленив и грубил начальству, успел прославиться лишь тем, что пустил в оборот слово «шайка» (условное название, составленное по образцу телеграфных сокращений) из фамилий двух директоров-американцев Сабиловича и Згулы[3], а также двух аферистов из наблюдательного совета: сенатора от Великой Польши Айвачинского и депутата сейма от Малой Польши Кацикевича), этот самый Мушарский первый занялся проблемой кассира как личности. Легкомысленный бездельник установил, что Спеванкевич вне служебных часов не существует.
— То есть как не существует?
— Не существует, вот и все.
— Что же тогда с ним происходит?
— Закрыв кассу, он возвращается домой, может быть, даже обедает, впрочем, это ещё не доказано, затем дожидается, когда утром откроют банк, и так все сначала.
— Но я видел его вчера в кино.
— Это был не он.
— То есть как не он?
— Вы с ним разговаривали?
— Нет…
— Видите, вам показалось.
— Но ведь у него жена, трое детей…
— А вы видели жену? Видели хоть одного ребенка?
— Я не видел, но…
— Так чего ж вы спорите? Ведь это мумия, манекен с механическим заводом, автомат. Раз в месяц в него бросают жалованье, и за это он до следующей получки регулярно пересчитывает деньги, поглощает их через окошечко и выбрасывает обратно.
Да, никто на свете не знал кассира.
Не знала кассира и жена Леокадия, в девичестве Щупло, выросшая в аптечной атмосфере дочь провизора из Рыбалтиц. Она с фанатизмом врачевала как болезни детей, так и свои собственные, умела определять их по малейшему признаку, не позволяла им угаснуть в доме ни на один Божий день. Неизменно с градусником в руке, оснащенная запасом капель, порошков, пузырьков с рыбьим жиром, трав, чудодейственных рецептов, пухлых справочников, таких, как «Здоровье без врача», «Лечение травами в Польше», «Друг дома», «Друг польского дома» и «Новый друг польского дома», объявлениями шарлатанов, заграничных и отечественных, она жила в вечном беспокойстве, постоянно сетовала, вздыхала, стонала и была на свой лад втайне счастлива, что ей удается сохранить жизнь любимых детей, из которых — о чудо! — несмотря на все материнские эксперименты, никто еще не умер.
Муж в этом доме был тенью. Он никому не докучал и в ту пору их совместной жизни был почти незаметен, давно позабыт, пребывал как бы в отсутствии.
Призрак мужа и отца обитал в маленькой боковой комнатушке — вход прямо из передней. Там была кушетка, лысый коврик, бюст Сенеки, книжная полка, зеркальный шкаф, старинное кресло у столика и вид на глухую облупленную стену. Если кому-то на свете и была известна тайная жизнь кассира, так, пожалуй, только этой отвратительной стене, до которой, стоя у окна, казалось, можно было дотянуться рукой. Это она отгораживала от него весь мир и в то же время оберегала его от мира — сумрачная подруга, наперсница, которой он поверял свои сумрачные откровения, свои дикие мечты, свидетельница безудержных взлетов распаленного воображения. Близ этой стены изнывал в путах титан, обращенный заклятьем в жалкого кассира.
Шли годы. Менялись времена, возникали банки. Спеванкевичу было уже сорок семь, и никакого чуда не совершилось, знак милосердия Божьего не появился на темной стене. Лучезарное чудо его освобождения, чудо его завтрашнего дня, шло всегда на один шаг впереди, соблазняя, обманывая; оно уходило вперед незаметно, почти с улыбкой, до отчаяния близкое.
Спеванкевич стал ходить к гадалкам. Покупал билеты самых различных лотерей, но выигрывали, разумеется, другие люди. Заглядывал с переменным успехом в тайные игорные притоны до тех пор, пока в кафе «Любители ботаники» на Кармелитской улице шулера не обчистили его так, что ему потом два года пришлось платить ростовщикам долги с процентами. Осторожно и разумно спекулировал он на акциях, и нажил уже едва ли не состояние, но крах какой-то компании лишил его всего. После этого ему полюбились прогулки вдоль Вислы, в сумерки, когда река превращается в серую, безмятежную убегающую вдаль равнину. На просторах этой странной равнины фосфоресцировали обманчивые извилистые тропки-следы, они подступали к его ногам, звали, манили, достаточно было шагнуть, сделать одно движение… Ничего из этого так и не получилось.
Он украдкой ходил в кино, бегал в дальние кварталы на Желязную, на Вольскую, на Смочую улицу, в захудалую «Мимозу», «Сказку», в третьеразрядный «Рай», где не мог встретиться никто из знакомых. Там, смешавшись с толпой, он упивался дыханием подлинной жизни. Ему импонировала отвага бандитов, гениальные воровские трюки, немыслимые побеги, погоня, авантюры и приключения. Дрожью восторга отзывались в нем истории зарытых сокровищ, украденных драгоценностей, похищенных детей американских миллионеров. Его любимым героем был преступник, бунтующий против всемогущих законов общества, в рукопашной схватке вырывающий у богачей их богатство, с тем чтоб на другом полушарии вести жизнь честную, спокойную, полную удовольствий. Случалось это довольно часто, но всякий раз, согласно суровым правилам американского кинокатехизиса, когда картина близилась к концу, на другом полушарии появлялся детектив в соломенной шляпе, и тогда после головокружительной скачки на четверке лошадей над краем пропасти, после погони на мотоцикле, в автомобиле, в поезде-экспрессе, на катере, на парусной яхте, на аэроплане священный закон богатого мира побеждал безраздельно, а героя пристреливали как собаку, или отправляли в «Синг-синг» на двадцать лет отсидки. Такая уж повелась мода — гнусная, постыдная, пустая! Едва возле бунгало счастливого похитителя появлялся подозрительный тип в соломенной шляпе, Спеванкевич, понимая к чему клонится дело и не дожидаясь, когда будут осквернены его лучшие чувства, убегал из зала.
А действительность? Хроника событий несла каждый день все новые вести с поля битвы за житейское счастье.
Достойные восхищения подвиги мудрых медвежатников, которые пробивают ночью своды и стены и, работая самым совершенным инструментом, взрезают стальные сейфы… Изготовители фальшивых денег, которые швыряют жестом великолепного презрения свои банкноты в толпу, гениальные аферисты, которые средь бела дня, вопреки бесчисленным формальностям процедуры, изымают из банка сказочные суммы с помощью искусно подделанных чеков — вот герои, вот люди, достойные лавров, они идут напролом, берут без церемоний все что можно от жизни. Он с восторгом наблюдал их деяния, часами просиживал, забыв обо всем, над какой-нибудь коротенькой заметкой в газете и в глубине души молился за них, преследуемых, окруженных силами законности и порядка.
Вот они, его братья. Спеванкевичу не хватало только их воли и отваги. Перед лицом реальной жизни он был подлым трусом, бессильным, отчаявшимся мечтателем. Единственным утешением могло служить ему то, что он всегда был и останется честным и порядочным человеком. И потому самой жалкой и вместе с тем самой любимой его мечтой было — чудо. В один прекрасный день из Лондона, с Суматры, лучше из Америки, да еще из Южной, приходит сообщение об огромном состоянии, оставленном покойным дядей Ильдефонсом Спеванкевичем, которого он никогда и в глаза не видел. От этого дяди не было давно никаких известий; вот уже много лет, как родственники о нем забыли. Помнили только, что когда пришло его время идти в солдаты, то покойный дед, слывший большим скрягой, не мог, а точней, не пожелал дать посреднику-еврею триста рублей откупного, и дядя бежал за границу, порвав с семьей и угрожая, что он всем еще покажет… Чудо такого рода не было исключено, оно явилось бы самым мирным из всех переворотов, дало бы наилучшие шансы выплыть из смрадного болота на широкий океан жизни. С давних пор Спеванкевич убедился в том, что только сила больших денег может вырвать его из трясины пожизненного прозябания.
Не осуществилась мечта о прекрасной, сулящей возрождение любви, о карьере финансиста, о литературной славе… Самые различные надежды, внезапно вспыхивая и угасая, заставляли его все острее чувствовать свое унижение, жгучее презрение к самому себе и ненависть к человечеству.
Именно в момент крайней депрессии, а было это семнадцать лет назад, произошло событие непостижимое и абсурдное — Спеванкевич женился. На что он рассчитывал? Чего ждал от панны Леокадии Щупло? Каким образом это случилось? Все шло само по себе и совершилось неизвестно когда и как. Женитьбу подготовил единственный его приятель, помощник нотариуса, добрейший и искренне (не слишком ли?) преданный ему Стах Грошковский. Видя, что происходит, он принялся за дело с бескорыстным неистовством дружбы, выискал где-то панну Леокадию Щупло и, вдохновленный дьяволом, представил в самом выгодном свете эту веснушчатую девицу, эту жалкую и чахлую телку. Он проливал слезы на свадьбе, поднимал бокал за долгую и счастливую жизнь созданных друг для друга существ. Это было наверняка единственное и уж по крайней мере последнее преступление, какое совершил этот добряк — вскоре Господь его покарал. Он трагически погиб на углу улицы Видок и улицы Згоды под колесами «скорой помощи», мчавшейся на спасенье человека, которого переехал трамвай. Пусть земля будет ему пухом, он не ведал, что творит. Кассир давно отпустил ему тяжкую вину.
С той поры на Спеванкевича нашло умопомрачение. Длилось оно долго, дети рождались один за другим. И когда он увяз в этой топи уже по шею, когда он закопал себя и засыпал, именно тогда в один прекрасный день он очнулся и понял, что, собственно, произошло…
Но страх смерти парализовал помыслы о самоубийстве, не лишенные, кстати сказать, подчас даже некоторой изысканности. Он прошел через это, познал себя, основательно и до конца. Вот уже более десяти лет он любовался умудренностью, но ничто не менялось в его судьбе; тем не менее тайные планы и мечты, возникавшие в его душе, подобно вихрям, обрели наконец определенность. Неустанно, терпеливо, с усердием пробивали они себе русло, точно поток в скале. И выросла вместе с ними та одержимость, которая либо завершается безумием, либо приводит к победе. Как осужденный на пожизненное заключение узник, он изобретал, вопреки реальности, вопреки здравому смыслу, план побега. Ему пришлось одолеть великие преграды, пришлось создать целую философскую систему, чтоб ею, как стальной пилой, надпилить решетки своей тюрьмы.
Вперед! Надо побороть страх смерти, ведь в случае поражения ему остается одно: покончить с собой. Может быть, это даже не очень трудно, потому что жизнь, поделенная между каморкой, где помещается касса, и комнатушкой с видом на стену, хуже смерти. Беспокоило его другое: как убедить самого себя, что взлелеянный им замысел не постыден, как отречься от чести и веры?.. Сможет ли он обрести покой на другом полушарии, утвердиться там в роли нового человека? Забыть о прошлом? Посмеяться над тем, что где-то далеко-далеко, в Варшаве, жива память о Спеванкевиче-воре?
Глубоко укоренилось в нем понятие добродетели, устарелый, привитый с детства предрассудок, вредное уважение к благородству и честности. Утверждая в себе это логически мотивированное и обоснованное презрение к «добродетели», он тем не менее по-прежнему испытывал перед ней суеверный страх. А впрочем… только бы удалось, только б дано ему было насладиться радостями жизни долгий остаток лет — все равно когда-нибудь настанет смерть и он вступит в «тот мир», где неведомые силы потребуют от него отчета за содеянное.
Не раз случалось ему размышлять об идеальной сверхчеловеческой справедливости загробного суда, и он был почти уверен в оправдательном приговоре. Ведь этот суд есть не что иное, как синтез холодной до ужаса логики — ниже температуры межпланетного пространства, абсолютного нуля (—273°) — и непостижимого жара милосердия, которое горячей, чем пылающая бездна солнца. Разве могущество банков повлияет на Господень суд? Несомненно — нет. В то же время социальный строй общества основан на капитале, и кто знает, не будет ли там, в этом четвертом измерении, конфликт между вором-одиночкой и грабителем-банком решен в пользу последнего, если учесть, конечно, что интересы капитала будут возведены в догму… Этот вопрос давно не давал ему покоя.
С незапамятных времен не бывал он в костеле, не задумывался никогда над вопросами веры, но вот внезапно он открыл в себе сохранившиеся с давних пор живые крупицы прошлого, которые теперь, в решающий момент, обнаружились, проросли, как плесень, и замутили ясную картину мироздания. Он познал самого себя: он был ничтожеством, червем, возмечтавшим о величии…
Шло время. Через его руки текли несметные богатства. Чужие деньги стали для него пыткой. Пачки банкнотов обжигали его. Ежедневно через его руки проходили десятки и сотни тысяч, и неумолчный навязчивый шелест бумаги был издевательством, он искушал, превращался в голос: «Это все твое, бери и ступай куда глаза глядят».
Жизнь в далекой стране манила его неотразимостью новизны. Мало того, что он бросит опостылевший ему дом, покинет Польшу, расстанется с жалкими буднями кассира — он оставит здесь еще самого себя: содрогаясь, он извергнет из своего нутра мертвую куклу, смердящее отрепье прошлого. В единый миг снято будет с него проклятие судьбы, возродится новый человек, вернется чудо молодости, жажда жизни, ясная свободная мысль. Сердце забьется от радости, в душе оживет красота, благородство и добро, шире вздохнет грудь, наслаждаясь благословенным неведомым покоем…
Плыли через его руки деньги, и шепот их был для него отравой и соблазном. Труд кассира казался ему самой позорной из всех форм рабства. Думая о своих облеченных доверием товарищах по профессии, окунающих руку в чужое богатство, он вспоминал мрачный эпизод из «Саламбо». Гамилькар осматривает залы и мастерские своего дворца и доходит в конце концов до мельниц. Там, в мучной пыли, нагие изголодавшиеся рабы вращают огромный жернов, на рты им надеты намордники, чтоб они не могли съесть, даже украдкой, горсть муки, в которой бредут по колено…
Это видение преследовало его неустанно, распаляя, дразня, побуждая к действию, с каждым днем все сильнее и сильнее, подавляя предрассудки, привитые смолоду принципы морали, убеждения. Кое-что, впрочем, сохранилось. Но и это исчезло в последнее время — в лучезарную эпоху независимой Польши. Ушедший в свой собственный мирок, огражденный от жизни отшельник даже не заметил политических перемен, для него все оставалось по-прежнему.
Зато он подметил в первые же годы независимости необычные перемены в делах хорошо знакомых, на которые уже много лет подряд взирал из окошечка своей кассы. Иллюзий у него не было, он всегда представлял себе, что такое банк, кому и чему он служит, каковы его интересы, операции и закулисные делишки. Но то, что стало твориться в банках на следующий же день после начала мировой войны, на так называемой заре независимости, было для него неслыханной, недопустимой по бесстыдству подлостью. Прекратились все кредитные операции. Быстро пришли в забвение обычные методы, привычки, нормы. Банк потерял последнюю связь с хозяйственной жизнью.
В окошечке замелькали новые, еще не виданные личности, которые расплодились в мутных водах той весенней поры. Нахальные плебеи, не умеющие даже расписаться, евреи с пейсами — отребье гетто, не знающее ни одного польского слова, юнцы-скандалисты, бабы в платочках, наглые чудовища, страшилища… Все они приносили и уносили пачки банкнотов. Самоуверенные, прокладывающие себе путь локтями спекулянты, богатые хамы, от которых за версту несло воровством, горластые, развязные, дерзкие. Черная биржа захлестнула самые респектабельные банки.
Банки плодились ежедневно, как насекомые. В благословенную для всеобщего мошенничества памятную эпоху инфляции было их в столице бессчетное множество: на всех углах всех улиц, в бельэтажах, во дворах, в подвалах. От их фантастических названий разило наглой рекламой. Не таясь, в открытую, присваивали они себе львиную долю какого бы то ни было займа, полученного государством в какой бы то ни было части света. Из бедной польской марки они беззастенчиво выжимали все возможное, они завлекали, манили, приводили в неистовство и разоряли дотла сотни тысяч мелких спекулянтов, обладателей трех долларов и трех акций какого-нибудь «Псевдополя». Их магические фокусы с долларом повергали в безумие как министерские умы, так и невежественное простонародье. Полиция, тайная и явная, пешая и конная, самозабвенно преследовала на улицах и в кафе валютчиков и никак не могла до них добраться, потому что вся черная биржа уже давным-давно обосновалась и царила в бесчисленных концессионных банках.
В ту пору Спеванкевич, соблазненный крупной надбавкой, перешел в открытый с большой помпой банк «Детполь». Именно там он все окончательно понял. Понаблюдав вблизи за гениальными операциями американских директоров, Згулы и Сабиловича, он отбросил последние колебания, потому что обокрасть грабителей такого масштаба, значило совершить акт справедливости и вместе с тем оказать обществу услугу. А уж если не акт справедливости и не услугу, то все равно не грех.
Предприятие меж тем созрело. Не оставалось уже препятствий практического порядка, оставался только страх. Следовательно, тем более тщательно продуманным, тем более безошибочным должен быть план действий.
III
В обширном дворе дома по Маршалковской улице, где весь первый и второй этаж занимал с фасада фешенебельный банк «Детполь», появилась однажды в темном углу, рядом с помойкой, убогая лавчонка с нахальным названием «Дармополь», выписанным белыми буквами на черной доске. Она возникла там на правах предприятия, конкурирующего с другой дворовой лавчонкой, которая ютилась напротив и чье название было выведено черными буквами на белой доске: «Дешевполь». Весь товар «Дармополя» приехал на одноконной пролетке. («Дешевполь», кстати будь сказано, располагал несравненно большим запасом ничем не наполненных коробок на своих полках.)
Обе лавочки торговали всем в кредит, начиная с отрезов материи, слегка истлевшей, и кончая бракованными дамскими туфлями давней моды, на которые во всей Варшаве за последние несколько лет так и не нашлось покупателя. Клиентура состояла исключительно из беднейших служащих — жильцов все того же огромного дома. В задней комнате «Дешевполя», точно в норе, обитала целая семья. А из окна лавочки за снующими по двору людьми с величайшим усердием часами наблюдал пожилой оборванный еврей с воспаленными глазами; главным его занятием было метание грозных взглядов в окна ненавистного ему конкурирующего предприятия, где обороты, впрочем, были тоже весьма скудные.
В «Дармополе» царила рыжеволосая, коротко подстриженная, элегантная и одинокая панна Ада. Вечерами ее стройная гибкая фигурка красовалась, радуя глаз, внутри освещенной лавочки, а днем ее огненная голова, появляясь в окне, озаряла собой, казалось, сумрак двора. Завидев ее, хозяин «Дешевполя» начинал бурчать себе под нос ужасные проклятия на иврите: мало того, что захватчица обирала его семью, в ее магазинчик стали вскоре наведываться какие-то мужчины, у которых там не могло быть абсолютно никакого дела, кроме одного-единственного… Было это и грешно, и мерзко, и вместе с тем удивительно, потому что посетители редко задерживались там больше, чем пять минут. После длительного наблюдения владелец «Дешевполя» установил, что «рыжая обезьяна» торгует американскими папиросами, которые ее клиенты выносят тайком, пачками, спрятав их под мышкой. Это его успокоило.
Появлялись там и господа из банка, зашел в один прекрасный день, уведомленный сослуживцами, и кассир, заядлый курильщик и любитель американских папирос. Как раз в этот момент Ада забралась на прилавочек и стояла, далеко отставив ногу и упершись ею в полку, с которой что-то снимала. Она взглянула на посетителя сверху вниз и немного сбоку и застыла в этом своем движении: руки подняты, ноги в хорошеньких туфельках до половины обнажены. Спеванкевич обмер…
Так началась эра великого перелома в жизни отшельника. Один взгляд на рыженькую приковал к «Дармополю» все его помыслы и мечты, заполнил его пустую жизнь, заставил помолодеть на двадцать лет. Пьяный от вожделения, он устремился к своему счастью со слепотой мальчишки, впервые ощутившего в себе язвящее жало страсти. Такого он не испытывал уже много лет. С горя Спеванкевич перепробовал многое, стал даже пить. В одиночку, ночами, запершись в своей комнатушке, он высасывал бутылку за бутылкой — вино он приносил украдкой в портфеле, — и потом, одурманенный, бормотал допоздна бессвязные монологи, беседовал с бюстом Сенеки, а пустые бутылки выносил все в том же портфеле и, заходя в какой-нибудь двор, оставлял их там в уборной. Но он не погряз в пьянстве, потому что ни водка, ни коньяк не давали ему забвенья.
Никогда не прельщали его и те потаскухи, которые шляются по городским улицам и готовы к услугам по первому требованию. Ему претила вульгарность и хамство варшавских жриц Венеры, отдающихся по дешевке, но ему ведома была гигантская, жадная бездна сладострастия. Вместе с кровяными тельцами по его организму носились искорки неутоленной от века плоти. Днем и ночью не давала ему покоя красота незнакомой дамы, мелькнувшей на улице, в трамвае, в кино — неважно где. Всякий раз иная, все более прекрасная, и лицом, и душой, и телом одному ему предназначенная, она неизменно терялась в вихре города, оставляя после себя тоску, отчаянье, искушая мечтой. А то вдруг его захлестывала жажда какого-то абстрактного вожделения, в известной степени мистического и, безусловно, преступного, несшая с собой ужасы сладострастия и все извращения, известные ему по псевдонаучным сексуальным трактатам, по французским романам, по объявлениям в «La Vie Parisienne»[4] от которых захватывало дух. Маркиз де Сад, вавилонские бездны Парижа, черные мессы… Под маской бездушного существа, аскета, крылись страсти могучие и… бескрылые. В своих мечтах кассир был вечно жаждущим насыщения максималистом, в тайных своих вожделениях он возносился высоко. Все или ничего! Вот и приходилось довольствоваться ничем. Наконец сатана наслал на него эту ни с чем не сравнимую, невероятную Аду.
Ее рыжие волосы, ее белая шея, особенный взгляд ее глаз: один синий, другой карий, гибкая линия рта, очертания груди под легкой блузкой — каждая мелочь, каждое ее движение наполняли его душу беспокойным дразнящим восхищением. Одно только прикосновение ее руки в момент приветствия, прохладной, мягкой, сладострастно льнущей к ладони пронизывало его с головы до пят дрожью наслаждения.
Выслушивая его неловкие комплименты и восторги, Ада улыбалась с видом презрительного снисхождения и равнодушно позевывала. Впрочем, в лавчонке она всегда скучала. Молчаливая, вечно погруженная в свои мысли, она редко роняла два-три слова и смолкала, не кончив фразы. Говорила она по-польски с некоторым затруднением, потому что выросла в Америке, откуда недавно приехала. Но и в этом было какое-то детское очарование, да и вся она манила таинственностью, дышала экзотикой, неизвестностью.
Любители американских папирос клиенты из банка, хвалили ее товар, а на нее не обращали ни малейшего внимания. Считали ее дурнушкой, говорили: «У этой рыжей еврейки так луком воняет, тьфу…»
Спеванкевич слушал это, тая возмущение, но в глубине души, однако, был рад, что никто из сослуживцев не стоит у него на дороге. Что до лука — хамы, и все тут!..
Это был ее собственный аромат, роскошный упоительный запах тела, дьявольский и одновременно божественный. Нельзя было его с чем-нибудь сравнить, дать ему полное определение. Кто знает, может, именно он так страшно опутал кассира… Про себя он называл этот запах ароматом нарда и сандалового дерева, которых, впрочем, ни разу в жизни не нюхал, знакомый с ними лишь по эротической литературе, в особенности по поэзии Меты Уистинской-Гондолянской, которая обильно кропила этими благовониями свои неповторимые вирши.
С Адой он познакомился в конце мая, а когда с началом июня пришла пора грозам и зною — этот ее запах, обычно как бы интимный, веющий тихими волнами, заметно усилился и наполнил мир безумием. Когда Спеванкевич стал делать ей намеки, порой весьма прозрачные, то ответом ему было глухое безмолвие. Жесты повыразительней, робкие попытки сближения вызывали гримасу презрения или пронзительный злой взгляд странных глаз, которые гасили у обожателя всяческий порыв. И все же знакомство переросло в некое подобие дружбы. Кассиру дано было право наведываться в лавочку вечерами, когда окна были занавешены и никто не мог помешать его надеждам, его восторгам. С самого начала он понял, что право на ухаживание в его возрасте, даже если человек лишен пороков, так же, впрочем, как добродетелей, надо и в «Дармополе» приобретать за определенную цену. Шоколадки, цветы, билеты в оперу, перчатки, шелковые чулки и тому подобные дары принимались весьма холодно и перспектив не сулили. И вот однажды вечером, уходя, он бросил на прилавок пятьдесят злотых и на следующий день получил привилегию целовать без всякого ограничения ее мягкие безвольные руки, что уже само по себе было упоительно; стоило ему, однако, подняться по божественной атласной дорожке выше локтя, как рыженькая встряхивала рукой, гоня его губы, словно надоедливую муху. Он снова подбросил такую же бумажку, и вечерние визиты были перенесены за малиновую занавеску, за шкафы, в уютную комнатку, где помещался широкий диван, газовая плита, а в углу тлела кроваво-красная лампа. Было здесь тепло и душно, все было пропитано запахом тела рыжей Ады.
…Она села в угол дивана, заложила небрежно ногу за ногу, обхватила обнаженными руками колено и задумалась. Спеванкевич рухнул тотчас на пол, потянулся к коленям, скуля, плача и осыпая поцелуями ее ноги, стал просить, чтоб она сжалилась над ним. Потоком хлынули заверения, без конца твердил он ей о своей любви. Жаловался, описывая свою жизнь, нелепую, жуткую и одинокую, клянчил, унижался, ползал по облезлому ковру, принялся даже сулить нечто не совсем понятное, но великолепное, какие-то золотые горы, бил при этом себя в грудь и повторяя одно и то же: «Увидишь! Увидишь! Увидишь!»
Ада слушала молча, и даже не препятствовала, как бы по рассеянности, слишком уж вольным порой ласкам и поцелуям, которые перемежались без устали признаниями и клятвами, но стоило кассиру подняться с пола с намерением переползти на дива& или коснуться бедра, как Ада отталкивала его своими сильными упругими ногами и опрокидывала обратно на ковер.
На том все и кончилось. Несмотря на новые бумажки в пятьдесят и даже сто злотых, на новый ливень посулов и просьб, слез и заверений, линия обороны не отодвинулась ни на пядь.
— Я порядочная… Со мной так не выйдет.
— Чего ты хочешь?! Я дам тебе все! Чего хочешь?
— Вот если бы вы принесли сюда всю кассу и отдали мне в руки, почему бы нет… Бежали б мы вместе за границу…
— Ты бы вместе со мной бежала!?
— Почему бы нет…
— Нравлюсь я тебе? Хочешь со мной жить?
— Бели б вы мне не нравились, позволила б я вам сюда каждый день таскаться да небылицы плести?..
— Любимая… Единственная…
— Только вы на настоящее дело никогда не пойдете…
— Это почему же? Если хочешь знать…
И тут, несмотря на весь свой пыл, он прикусил язык. Еще немного, и он открыл бы ей весь свой великий план — к тому и шло. Спеванкевич испугался самого себя.
— Вот видите, ничего не выходит. Для такого дела парень должен быть молодой, рисковый, свойский. Тут уж пан или пропал…
Спеванкевич смолк, задумался. Новая великая идея созревала у него в голове. Он засмотрелся на округлые, как бы неведомой силой спаянные колени искусительницы, не смея уже шевельнуться, боясь произнести слово — новое гениальное открытие рвалось из него прочь, пробивалось само собой наружу.
— А много бывает в вашей лавочке денег?
— По-разному бывает…
— А сегодня? Много осталось на ночь?
— Сегодня? Сколько же там осталось? Злотых будет, наверно, тысяч сто…
— Что мне ваши злотые — я про доллары спрашиваю, про валюту!
— Долларов всего несколько тысяч.
— Ну так сегодня бежать нам смысла нет, мне этого маловато.
— Ха-ха-ха… — кассир рассмеялся в ответ, неискренне и мрачно. — А вчера, когда подбили итог, было полмиллиона злотых и сто пятьдесят тысяч долларов, ну еще фунтов так с тысячу.
— Вчера стоило, — произнесла она в задумчивости и, став очень серьезной, глянула ему в глаза. — И почему это черти не принесли вас вчера?! — крикнула Ада и ворвалась с дивана. Взгляд у нее загорелся.
Вскочил и Спеванкевич. Они стояли и смотрели, же отрывая глаз друг от друга. Она сурово, повелительно, он — тая и замирая под ее взглядом. В голове у Спеванкевича помутилось. Рыжая Ада становилась персонажем его мучительных снов, видением, возникшим в пучине воображения, женщиной, рожденной в мечтах, его хозяйкой и повелительницей. Все, что она прикажет, будет исполнено. Спеванкевича охватил страх. Он хотел броситься прочь, но не мог отвести от нее взгляда. Глядел, глядел и стал как бы засыпать… Ощущение реальности стиралось. Улетучивалось всякое воспоминание о прежней жизни, промелькнувшей в жалкой суете, надвигалось нечто новое, неведомое, какое-то ужасное, неимоверное чудо, которому непостижимым образом предстоит воплотиться в действительность.
Он очнулся и, по-прежнему глядя в дикие глаза Ады-демона, Ады-укротительницы, понял, что вопреки всем странам, наперекор самому себе он и в самом деле готов совершить это…
Он понял, что до сих пор его безумный замысел был всего лишь игрой в отчаяние, был призрачным кинофильмом, где его роль исполнял кто-то другой, ему не известный. Теперь на страшном экране, в ослепительном свете правды, он узнал самого себя. Началась великая эпопея.
Сперва пошли как бы шутки.
Ада, равнодушная до той поры, сонная и молчаливая, оживилась, стала совсем иной. На скучающем лице появилась улыбка. Наконец-то он завоевал ее любовь, упорством и старанием приблизился к цели… Мысль эта весьма существенно, можно даже сказать, чрезмерно подняла дух кассира. Спеванкевича точно подменили. Слишком долго находился он во власти унизительного, преувеличенного представления о собственном ничтожестве. Столько лет прозябал он в бездонном, всепожирающем презрении к самому себе, что этот первый успех сделал его заносчивым. Он сразу почувствовал себя мужчиной.
Но мучительница, приветливо ему улыбаясь, дала в то же время понять, что о желанном диване не может быть пока и речи. Кокетничая и поддразнивая его, она прибегала все к новым хитростям, трюкам и уловкам, и это было как бы сплошным потоком чар, бьющим из неведомых эротических родников. Позволяла она ему немного, даже все меньше и меньше, и время от времени вроде невзначай, невинно, в шутку, возвращалась к их «великому плану». Она смеялась над тем, какие у него испуганные глаза и над самим «великим планом», дополняя его тем не менее новыми деталями. Словно и в самом деле…
До Америки они могли бы добраться кружным путем, обогнув чуть ли не весь земной шар, потому что через Гданьск, Гамбург и Ливерпуль бегут только желторотые, а на Лонг-Айленде их ждут агенты с наручниками… Купят себе именьице в Калифорнии — там ее родной дом. «Я полагаю, вы не такой глупый и не считаете, будто я приехала сюда под своей настоящей фамилией…» Америка — страна замечательная, вот где настоящая жизнь, а на побережье Тихого океана растут пальмы, тепло… Они поедут в Румынию, потом морем до Смирны, посидят с недельку — и в Александрию. Потом войдут в канал. Там в это время года — жуткая жарища, но ничего не попишешь, не ждать же до зимы… Пересадка у них будет в Коломбо, поторчат они там примерно полмесяца и в Сидней — далеконько, а? Да, но таким образом удастся замести следы — что им тогда этот глупый телеграфный кабель? Что им тогда радио? Потом напрямик — через Тихий. А там пройдет всего две недели, и они уже у себя в Сан-Франциско…
Кассир, вникая в детали сногсшибательного маршрута, трепетал от наслаждения и страха. Выходит он, самый что ни на есть обыкновенный Спеванкевич, действительно попадет в экзотические страны?! Глобус и карту земного шара он всегда считал воплощением мифа, научным вымыслом, натяжкой… Еще мальчишкой, зазубривая в школе сотни географических названий, он не верил в их реальность, так как не мог представить себе, что когда-либо далеко уедет и сам все увидит. Он, Спеванкевич, который за всю свою жизнь ни разу не пересек границы и далеко не ездил, не считая гнусного Таганрога, где он проторчал три года в Камско-Азовском банке… А теперь… Сердце замирало в груди от любопытства, впрочем, больше от страха, что все это — о милосердный Боже! — в самом деле может случиться.
— Но послушайте, — вырвался вдруг у него протест, порожденный инстинктом самосохранения, — ведь для этого нужен настоящий паспорт, а виз-то сколько! Не те времена, когда каждый может ездить куда заблагорассудится!
— Паспорт? Глупости… Закажете завтра утром четыре фотографии, их при вас сделают, и завтра же мне их принесете.
— Как это так? А визы?
— Нет у вас других забот? Будет паспорт, будут и визы.
— Зачем так спешить?
— А чего ждать? Одного только надо ждать: чтоб в кассе скопилось побольше денег.
Видя, что его страх растет, Ада состроила гримасу и расхохоталась.
— Не бойтесь, я только так, шучу…
— Да ведь я знаю, знаю…
— Завтра же тащите фотографии. Хотя бы в шутку.
Странно, но на следующий день фотографии были принесены. С той поры Спеванкевич каждый день дважды отчитывался о состоянии кассы — один раз в дирекции в половине третьего, другой — в «Дармополе» ровно в три, так было ему приказано. Он приносил ей листочек, где наличность была помечена до последнего гроша. Лицо Ады выражало презрение — этого было мало.
Спеванкевичем на службе в ту пору владела лихорадка ожидания: вдруг что-то необычайное! Всякий раз, когда в кассе скапливалась к вечеру большая сумма, он дрожал от страха, его бросало в пот. Но неизменно в последнюю минуту приходили люди с чеками и забирали значительную часть денег. Испытав облегчение, он производил выплату и с невинным видом шел на отчет к Аде. Но ни разу не появилась у него мысль преуменьшить фактическую сумму вдвое или вчетверо. Он стал уже прощаться с опостылевшей ему Варшавой; на жену и на детей смотрел как на призраки прошлого, а когда, возвращаясь домой, протискивался на лестнице сквозь толпу вонючего сброда, это было по-своему даже забавно, так глубоко он верил, что его муки скоро кончатся, забудутся навсегда. Вместе с тем он никак не мог поверить до конца в свой страшный замысел — это была только уловка для того, чтоб завоевать Аду.
Желание овладеть рыжеволосой назло его вечным неугасимым огнем. Сказались долгие годы воздержания, угнетал, душил избыток сил, а то немногое — ах, немногое! — что она ему позволяла и на что он с жадностью набрасывался, только усиливало неутолимую жажду. Всякий день выдавалась минута, в банке ли, у ног ли Ады, на улице, дома ли в бессонную ночь, когда он шептал: «Пусть будет все, как она хочет… Если уж иному не бывать, сделаю, как она хочет, поеду с ней на край света…»
Но когда по прошествии десяти дней Спеванкевич увидел у Ады паспорт на имя немецкого гражданина Рудольфа Понтиуса, жителя Кенигсберга, коммерсанта, сорока семи лет от роду, когда он обнаружил в этом паспорте свою фотографию, отштемпелеванную по всем правилам, а среди разноцветных печатей и подписей нашел также визу немецкого консула в Кенигсберге и разрешение на проезд через польскую границу — он цепенел, вытаращил глаза, разинул рот, глухо застонал и бросился вон из комнаты. Схваченный за полу в открытых уже дверях, он был насильно водворен обратно за шкафы. Стоило ему вновь попробовать вырваться и заверещать, как неожиданно в темной каморке у него перед глазами вспыхнули белые электрические искры — раз, другой, третий… Звонкие оплеухи горели жаром на обеих щеках…
Не успел он опомниться, как почувствовал, что голова стремительно ходит вверх-вниз, вправо-влево и боль в черепе обостряется невыносимо, казалось, у него вырвут сейчас все волосы. Слабея, он ниже и ниже склонял голову, еще ниже, еще и наконец, поверженный, рухнул на пол. Дух захватило от изумления. Он не мог понять этой грубости, удивлен был ее силой… Когда зажглась красная лампа, он поднял голову и увидел, что Ада полулежит на диване, заложив руки за голову и тяжело дышит. Он засмотрелся на ее обнажившиеся ноги и в помрачении пополз к ним… Его объял сумасшедший, гибельный восторг. Родилась и созрела угрюмая, как ночь, бесстыдная жажда унижения. Ада не проронила ни звука. Кассир подполз и стал перед ней на колени — она была для него теперь более чем прежде властительницей, высшей святыней. Он положил голову ей на колени, и те уступили, безвольно разошлись. Замерев в экстазе, он впервые почувствовал на пылающих от боли щеках прохладу ее нагого тела.
Теперь, когда он понял, что обречен на ее милость и немилость, что утратил последнюю возможность защиты, он перестал даже думать о своем страшном деле. Оно маячило где-то неправдоподобно далеко, точно ни к чему его не обязывая. Могло ли быть иначе? Все будет так, как она прикажет, рыжеволосое чудовище и ангел, дьяволическое его божество. Нет больше разлада с самим собой, внутренней борьбы. Мозг застыл в мудром великолепии покоя. Впервые в своей жалкой жизни он ощутил мужское достоинство, ступил ка порог величия. Ужас нависших над ним событий был равен бездне его страсти — едва ли не эллинская трагедия двух мощных начал, насколько он мог себе их представить по уцелевшим воспоминаниям о всяких там Антигонах и Софоклах. Он пребывал в руках Рока (Парка, Мойры), и его судьба сбывалась. В любой день мог завершиться второй акт трагедии, и тогда начнется неизвестное… Он видел самого себя в трагической маске. Шелестели, подобно волнам далекого прилива, мрачные предсказания хора, провозглашаемые угрюмым гекзаметром. И откуда-то, из бесконечной дали, из страны пальм, залюбовавшихся на свое отражение в морской лазури (Калифорния), слышался радостный пеан увенчанных цветами мальчиков и девочек, пеан в честь его любви, победы и счастья. Что будет?
Иногда, в минуту прозрения, когда он был самим собой, — случалось это по нескольку раз в день — в нем пробуждался вдруг давний Спеванкевич, жалкий бедняк, и тогда он жаждал, чтоб все оставалось по-прежнему: пусть существует Ада в ореоле великого ожидания, пусть сверкают над ней отблески страшного зарева, но только пусть все обойдется без роковых последствий. И ему отчетливо рисовалось будущее: из этих планов все равно ничего не получится, по той простой причине, что если вопрос встанет ребром, то он, Спеванкевич, ни за что на свете на такое дело не пойдет… Зато в «Дармополе», в каморке за шкафами, его вера в великий замысел, его трагическое мужество были колоссальны, несравненны.
Ада меж тем сделалась капризной и беспокойной, злилась и привередничала все больше — Невозможно стало с ней разговаривать. Долларов в ту пору было в кассе слишком мало и с каждым днем все меньше. Но эта женщина обвиняла с яростью свою несчастную жертву и говорила Спеванкевичу прямо в глаза, что он без зазрения совести врет и выкручивается, потому что боится. Временами она впадала в неистовство, била его, таскала за волосы, уже почти седые, измывалась самым жестоким образом, не давая взамен ни малейшей, даже самой ничтожной награды. Когда Спеванкевич молил ее, чтоб она сжалилась, чтоб позволила хоть погладить свою руку, она гнала его, запрещала являться на глаза. Она стала принимать его на пороге, разговаривать через щелку, не снимая цепочки. Он сообщал ей итог дня, порой в отчаянии даже значительно его завышая, а она хлопала дверью перед его носом.
Однажды, во время такого короткого разговора, происходившего шепотом через щелку в дверях, он заметил за спиной у Ады, над ее огненной шевелюрой, пару чьих-то глаз, глядящих на него испытующе и одновременно как бы с угрозой. Дверь захлопнулась, Спеванкевич понурил голову и побрел прочь с тоской в душе. Но стоило ему дойти до ворот, как что-то заставило его остановиться, постояв, он повернул поспешно назад. Сам не ведая как, очутился на темной лестнице, перед дверями лавочки. В нем проснулась ревность — чувство, до той поры ему незнакомое. При мысли, что Ада ему изменяет, что какой-то другой мужчина… что, может быть, это уже давно и потому… Он задыхался от ярости, сам еще не ведая, на что направить свою одержимость. Ему хотелось ломиться в дверь кулаками, бить каблуками, час и другой, пока не откроют. Для начала, впрочем, он сдержался и постучал как обычно, только с оттенком решительности.
Странное дело, цепочка звякнула, дверь широко открылась. Ада, приложив палец к губам, глядя из-под нахмуренных подведенных бровей, всем своим видом призывала его соблюдать осторожность… Кто-то сидел у окна, но после яркого уличного света в полутемной лавочке лица было не разобрать.
— Здравствуйте, есть как раз свежий товар. Что-то вы давно не заходили?..
— Так получилось, я собирался…
— Как здоровье?
— Спасибо, ничего.
Ада пропала за занавеской, а кассир остался один на один с незнакомцем. Это был широкоплечий малый, сидел он нахально расставив ноги. Чудовищно выглядели остроносые ботинки на его огромных лапах. На голове — большая клетчатая спортивная кепка, залихватски сдвинутая на затылок, в зубах — трубка. Оторопелый кассир прошелся по лавочке, до окна и обратно, стараясь разглядеть посетителя. Его встретил взгляд спокойный, немигающий и такой пронзительный, что Спеванкевич потупился и ужасно смутился. Лицо у парня было бледное, массивное, с толстыми губами с расплющенным, горбатым некогда носом, какое-то бесстыдно обнаженное, до омерзения выбритое. Спеванкевич ощутил ненависть и страх. Ему хотелось как можно скорей сделать «покупку» и бежать, и вместе с тем хотелось помедлить, чтоб разобраться до конца в этой двусмысленной ситуации. Он чувствовал на себе взгляд разбойничьих глаз незнакомца, и это его повергало в смятение. Он сделал вид, будто изучает иллюстрированный американский каталог, лежавший на прилавке, а сам вертелся и ежился от волнения, даже руки задрожали… Ада не возвращалась.
«Боится меня… Значит, виновата… Зачем же тогда впускала?.. Ага, она боится и этого парня, не знает, как быть, и потому не возвращается… Боже, что делать?»
Как бы в ответ на его мысль, незнакомец кашлянул, и кассир, не сумев совладать с удивлением, обратился в его сторону. Звук был глуховатый, но сильный, точно долетевший из глубины колодца. Кашлянуть так мог только бык или слон.
— Значит, вы тоже любитель американских папирос?
Парень зарокотал глубоким, исходившим откуда-то из недр живота хриплым басом. Несмотря на обыденность фразы, в тоне прозвучала угроза и предостережение. Не ответить было нельзя.
— Да, очень люблю. Привык…
— Нехорошо, — пророкотал парень, — отучайтесь…
— Да, да, — с удивительной готовностью подхватил кассир и смолк, сам не зная, как продолжать разговор.
— Во-первых, покупать эти папиросы — значит подрывать государственную монополию, иначе говоря, вредить Польше, а во-вторых, есть в них что-то такое, что очень ослабляет мужскую силу, в особенности после определенного возраста. Предупреждаю! Ха-ха-ха…
От этого гогота задребезжало неплотно вставленное стекло в закрытом окошке.
— Все это враки! Глупости это! — пропищала из-за занавески Ада. — Не смейте, Болеслав, подрывать торговлю. Кассир не такой простачок, чтоб поддаться на уговоры…
Голос у нее странно изменился, звучал фальшиво. Спеванкевич почувствовал укол в груди. Глянул на парня, а тот загудел небрежно, не вынимая изо рта трубки.
— Откуда ж вам, Ада, знать о таких вещах? Это наши мужские тайны.
— Хи-хи-хи!.. — зазвонил роскошный серебряный голосок из-за занавески.
— Ха-ха-ха… — отозвался парень октавой ниже.
Этот символический обмен голосами объяснил все. Кассир почувствовал, как лицо у него каменеет и стынет. Слова, которые он собирался произнести, застряли в горле. Он молчал. Было ясно, что он попал в глупейшее положение, что парень смеется над ним прямо в глаза. Выручила его Ада:
— Помогите мне кто-нибудь, лестница поехала, еще слечу…
Спеванкевич бросился за шкафы. Огляделся, но различить что-либо в полумраке было трудно. Лишь мгновение спустя он понял, что Ада стоит рядом.
— Подержите вон тот пакет, — громко произнесла Ада и тут же зашептала: — Возьмешь папиросы, заплатишь и убирайся. И чтоб через час был обратно, понял?!
— Я отсюда не уйду! — зашипел кассир.
— Держите лестницу! Спускаюсь…
— Спускайтесь! Держу! — сказал кассир чересчур громко и грозно. — Кто это? — шепнул он, сжав ей руку.
— Старый ты дуралей… В чем дело?.. Спасибо… Подождите минуточку, надо поставить лестницу на место… Сам видишь, невоспитанный мужлан…
— Ничего я не вижу! Врешь! — пропыхтел Спеванкевич ей прямо в ухо.
И тут он почувствовал на своих губах ее жаркие, влажные, сладостно мягкие, раскрытые губы. Губы прижались сильней, и он ощутил легкое прикосновение языка, упоительное и одновременно пронизывающее, как лезвие бритвы. Первый поцелуй Ады!
— Ну ладно. Спасибо. Пошли.
Красный как рак, с бегающими глазами вышел Спеванкевич из-за шкафов. Парень стоял у окна, лицом ко двору. Был он невысокого роста, можно сказать, приземистый или, точней, неожиданно, чудовищно коротконогий. Зато невероятно широкий в плечах, с бычьей шеей. Он повернулся, зевая, покачался неуклюже с носка на пятку в своих остроносых ботинках — вылитый орангутан! — еще шире открыл рот и только потом заслонил его широкой, как лопата, ладонью. «Нет! это невозможно», — подумал кассир и мгновенно успокоился, засиял. Поцелуй Ады плясал еще мелкими искорками на губах. Почувствовав внезапный прилив счастья, Спеванкевич ощутил потребность сеять вокруг себя добро и радость. Сжалившись над безобразным Квазимодо, он самым любезным образом произнес:
— Вы, наверно, очень сильный, да?
Орангутан ощерил зубы и вместо ответа взял Спеванкевича под мышки, поднял и без малейшего усилия поставил на прилавок, словно четырехлетнего ребенка. Кассир постоял наверху, перебирая ногами и строя рожи, похихикал, после чего стал слезать. Силач вежливо ему помогал, но вдруг с такой проницательностью глянул на Спеванкевича в упор, что тот содрогнулся.
«Какие жуткие глаза… Только это, наверное, от ревности». И он ощутил гордость. Взял сотню «Лаки страйк», сотню «Свит кэпарал», расплатился, откланялся и вышел. Тут же во дворе взглянул на часы — через час, значит, без четверти пять. Его охватила радость. Воспользовавшись тем, что в воротах никого не было, он сделал несколько прыжков для разминки и затем, неуклюже танцуя, устремился на улицу. Он и не заметил, что как раз в этот момент оба директора, Сабилович и Згула, намеревались выйти из банка через стеклянную дверь, ведущую со второго этажа под арку, да так и замерли на месте при виде той пантомимы, какую исполнил один из самых солидных служащих их учреждения. Кассир уже изрядно разогнался, как вдруг ему навстречу торопливо скользнул с улицы, точно опасаясь чего-то и глядя в землю, еврей в лапсердаке, сгорбленный, скрюченный. Они столкнулись друг с другом. Еврей взглянул на Спеванкевича со страхом, тот обругал его кратко и внушительно и вышел на улицу.
Юношеская радость, своевольная и бездумная, дивная и озорная, носила его по Маршалковской взад и вперед. Толпа, снующая по тротуарам, автомобили, трамваи, магазины — все слилось в хаос красок и звуков. В шумном потоке жизни Спеванкевич ощущал свое величавое одиночество. Хоть и не был он знаменит, никто из тысяч этих людей не мог с ним сравниться. Он шествовал среди них со своей непостижимой тайной, словно невидимое, довлеющее над миром божество. Ощущая себя бесконечно выше толпы, он не презирал, однако, людей-муравьев, он был к ним равнодушен, даже капельку благожелателен. Он нес в самом себе свою божественную суть, которая разрасталась в нем иногда, как огромный пожар, и заслоняла собой весь мир… Однако с тем, что еще ждет его впереди — ах, осталось сорок три минуты! — не может сравниться даже этот чудо-вестник, первый восхитительный ее поцелуй, подаренный добровольно, во собственному побуждению!
Когда Спеванкевич в четвертый раз проходил мимо аптекарского склада фирмы «Помагальский и Шкодник», ему встретилась какая-то невзрачная дамочка, только что вышедшая с покупками из магазина. Эта особа привлекала почему-то к себе его внимание. Он удивился. Помедлил, пораженный, машинально поднес руку к шляпе, так как дама остановила его и, не дав опомниться, сразу о чем-то затрещала. Да, в самом деле… Подумать только… Она тоже была поражена этим событием — сколько лет не встречались они с мужем на улице!
Спеванкевич выяснил, что с Юзиком все уже в порядке, а Карольтю как раз сегодня она уложила в постель, потому что опасается кори. Обе эти новости она поведала с равным удовольствием и с поспешностью, точно опасаясь не использовать до конца все возможности необычной встречи, которая повторится, верно, не раньше, чем через несколько лет. Он покивал головой и пробормотал в ответ несколько слов. Расстались они спокойно, вроде бы даже с улыбкой, и каждый отправился в свою сторону, удовлетворенный тем, что произошло. Обоим супругам, так же, впрочем, как детям и кухарке Анзельмовой, и в голову не приходило, что муж, отец и глава семейства мог бы вести себя дома капельку иначе и не уподобляться глухонемому жильцу. Еще какую-то минуту маячил в душе кассира образ жены, как дикая догадка, как сон, как миф, как заблудившаяся комета, влекущая в своем хвосте четверых ребятишек, и исчез, затерявшись в безмерности пространства и в вихрях воспаленного воображения, меж тем как сам он всецело пребывал за шкафами в крохотной комнатушке «Дармополя». Спеванкевич безумствовал в ожидании, его захватила, захлестнула неистовая волна вожделения. Он пошатывался, как пьяный, и на каждом шагу кому-то мешал, кого-то толкал, ежеминутно направо и налево извинялся.
Ада встретила его томным взглядом, какого еще не бывало, но как только Спеванкевич в ответ на этот призыв стал вертеться вокруг и тяжело притопывать, словно старый конь в упряжи, которого одолевают слепни, Ада тотчас умерила его пыл суровостью лица и холодным как лед взглядом. Отстранив протянутые к ней с жадностью руки, она решительно, хоть и негромко заявила, что принять его сможет только завтра вечером. Видя его отчаяние, добавила шепотом:
— Зато… зато… Да что тут говорить? Сами увидите…
И было у нее в глазах такое обещание, так лениво, так роскошно шевельнула она бедрами, как бы потягиваясь, что кассир вдруг обмяк — день был исключительно жаркий — и опустился на стул под окном, на котором час тому назад сидел этот подозрительный парень.
— Кто ж это был? — с невинным лицом задал Спеванкевич коварный вопрос.
— Ходит тут, на работу хочет устроиться… Бывает у меня иногда один инженер, вот я ему и обещала, что поговорю с ним о месте. Он хороший монтер.
— А зачем приходит сюда инженер?
— А вы зачем приходите? За папиросами и больше ни за чем.
— Ну… Я все-таки…
— Чего глупости городить? Он — одно, вы — другое. Вы — мой дорогой жених.
Тут кассир потерял дар речи, весь побагровел и напыжился от счастья. Столь решительного заявления он не ожидал. Обычно, стоило ему завести речь о будущем, как Ада уклонялась от ответа, да и вообще подразумевалось, что они поделятся где-то деньгами и разойдутся тихо-мирно, как честные компаньоны и хорошие друзья: он направо, она налево. Услышав такое, Спеванкевич вскочил, бросился на колени и, обхватив ее бедра залепетал:
— Дорогая моя… Госпожа моя, душа моего сердца… Навсегда соединимся мы с тобой, как боги на земле… В стране моря и пальм… убаюканные в гамаках ароматом кактусов, легким веянием океанов, окруженные свитой верных негров… Я буду тебе хорошим мужем, опекуном… я дам тебе счастье, о каком не слыхивали на земле… Отдам тебе все свое сердце… Каждый свой вздох…
— Да, уж вы должны постараться… Еще бы…
— Да, я буду стараться… Помоги мне, Боже… Клянусь тебе, Ада, боготворимая супруга моя…
— Да что говорить! С таким приданым меня возьмет, целуя ручки, любой граф, генерал, воевода…
— Я буду для тебя всем! Генералом, воеводой…
— Что мне воевода? Мне нужен человек с тонким умом, очень культурный, чтоб, как цепной пес, был возле меня на страже, понимаете вы это?
— Ада, даже если нам ничего не удастся, даже если мы останемся бедняками…
— Подавитесь своим глупым словом! Что не у дастся? Все уже удалось, только дождаться хорошего дня. Пусть хоть завтра. У меня все готово — раз, два и в дорогу!
Спеванкевич, у которого затекли колени, с усилием встал и тяжело вздохнул. Облокотившись о прилавок, он стоял сникший, скрюченный, глядел на Аду несчастными глазами.
Неожиданно в душе все померкло. Когда действие являлось ему не в расплывчатом будущем, а в ужасном слове «завтра», по коже пробегали мурашки, он съеживался в комок и искал только нору, в которую можно было бы юркнуть. Даже Ада отдалялась тогда от него, бывало, на несколько минут, а бывало, и на несколько часов. Когда она вновь приближалась, он долго еще думал о ней со страхом, но это был не роскошный, исходящий от рабской покорности божественной Цирцее трепет, а подлый страх за собственную шкуру. Мучили его к тому же порожденные фантазией чудовищные подозрения…
Взглянув на поблекшего внезапно кассира, на его понурую седеющую голову, Ада взяла Спеванкевича за подбородок, подняла его лицо к свету. Воплощение убожества и отчаяния…
— Ну? Ну?! — спросила она грозно.
Спеванкевич молчал, да и что было отвечать? Ему хотелось расплакаться, губы сложились в подковку. Как несчастный ребенок, испуганными глазами он уставился на дверь.
— Куда? Куда?!
Но кассир в этот день ужасно измотался. Доконали его последние недели сумасшедшего, неправдоподобного какого-то существования — вечно в готовности, в непреывном вожделении, в страхе, постоянно под каблуком у мучительницы, распаленный, истерзанный, постоянно между милостью и немилостью… Все это с небывалой остротой ощутил он в это мгновение.
— Ты… Ты, негодяй… старая свинья…
Ада захлебывалась от ярости, глаза метали молнии, кассир поднял уже левую руку, чтоб закрыть лицо, жалкий, никому не нужный, уничтоженный… Потом отвел руку, зажмурился… И пожелал вдруг боли, насилия над собой, наигоршего унижения, бесстыдства и позору…
Но удару не суждено было обрушиться.
В лавчонке чудесным образом появился вдруг человек. Ни через дверь, ни через окно… Не было, а появился… Спеванкевич уставился на пришельца в изумлении.
И тут начался страшный скандал. Ада верещала пронзительным сопрано, старый еврей пытался перекрыть ее надсадным дребезжащим воем… Накидываясь друг на друга и отскакивая, они метались но лавчонке. Еврей схватился за ручку двери, Ада потянула его за лапсердак обратно, при этом стали видны его брюки, убогие до невероятия, сотканные, казалось, из старой паутины.
Спеванкевич узнал еврея — это был тот самый, с которым час назад он столкнулся в воротах… Нетрудно было догадаться, что все это время еврей стоял за шкафами… И еще Спеванкевичу пришло в голову, что Ада-американка лукавила, заявляя, будто совсем позабыла идиш…
Лапсердак затрещал. Отлетели две пуговицы и открылась куцая полосатая жилетка, под ней мятая грязная рубаха и черная бахрома арбаканфеса. Брюки держались пока что чудом, но, казалось, вот-вот слетят… Еврей все же вырвался. Очутившись в дверях, он погрозил Спеванкевичу кулаком и обрушил на него поток гневных непонятных проклятий… Ада выбежала следом, однако, несмотря на возню и хриплые крики за дверями, вернуть его уже не могла. Минуту спустя он появился во дворе, торопливо семеня мелкой старческой рысцой и, вопреки всем усилиям, оставаясь при этом как бы на месте. Он погрозил кулаком «Дармополю». А из пещеры «Дешевполя» за ним наблюдал зловещий конкурент с лицом мертвеца и с умирающим ребенком на коленях; он с библейским негодованием тряс головой.
Ада ходила взад и вперед по лавочке, исторгала продолжительные стоны и всхлипывала, опирая при этом сухие глаза. Прошивая ее взглядом, острым, как шило, Спеванкевич застыл, подобно изваянию. В душе роились самые ужасные подозрения, рос страх и гнев…
— Почему у вас такое лицо? Почему вы так смотрите? Нет того, чтоб защитить бедную девушку… Вы еще ругаться со мной хотите!..
— Кто это? Что это значит? Отвечай!
— Да ведь это ж мой дядя, старый еврей, вы что, от ревности последнего ума решилась?
— Не выкручивайся! Что этому пархатому надо выло за занавеской?
— Какой пархатый? Что еще за пархатый?! Не могу слушать таких невежливых выражений… Он очень порядочный торговец, это мой единственный опекун.
— Он подслушивал, подглядывал! Зачем ты сюда его зазвала?
— Я его зазвала? Сам притащился в гости… он очень устал, ну, я дала ему содовой воды и сказала: «Отдохните, дядюшка, на диване». Он сразу и уснул.
— Ну и что?
— Так ведь я о нем забыла… Стоило вам прийти, начисто забыла… А он встал и увидел.
— Ну и что из этого?..
— То есть как что? Так ведь он проклял меня ужасным словом, проклял за то, что я вожу знакомство с гоем! Дядя старый, набожный… Ай-ай-ай… Что мне делать? Теперь он притащит сюда всю родню… Бежим скорее!.. Бежим!
Дело было ясное. Но в усталой голове кассира осела какая-то тяжелая муть. Почему и в самом деле не дядя? Дядя так дядя, чтоб его черти… Но, думая о дяде, он почему-то упорно связывал его с этим «орангутаном». Причем так упорно, что даже спросил, как думал, без пояснений:
— Говори правду: этот твой дядюшка с «орангутаном» знаком?
— «Орангутан»?.. Это кто такой? Кого это так зовут?
Тут Спеванкевич слегка поостыл, тем более что Ада, закрыв лавочку, потянула его за занавеску. Одним движением мягкой вкрадчивой руки она разгладила на лбу морщины. От неожиданной ласки сердце кассира растаяло и на лице появилось выражение безграничного обожания. Изголодавшись за неделю, он впился губами в ее округлое белое плечо, с закрытыми глазами он вбирал в себя волшебные ароматы нарда и сандалового дерева. Он заскулил, заумолял… Дрожащими робкими пальцами скользнул по ее шее, спустился ниже и… испугался собственной смелости. Запрета, однако, не последовало, и он пошел дальше, пока не добрался до области недоступной и недозволенной — прибежища ласки и чуда. Он пребывал в полузабытьи, парил в своей упоительной бездне, а когда приоткрыл веки, то его хмельному взгляду предстало тело Ады, наполовину обнаженное, с едва прикрытыми платьем бедрами… Это повергло его в неописуемый восторг. Но когда, насмотревшись почти до боли и млея от благодарности, он поднял глаза, перед ним возникло ее лицо, раздраженное, злое, глядящее в непримиримом ожесточении куда-то вдаль.
— Любимая… Ада, что с тобой? Ты сердишься на меня? Принцесса моя… Ты… Ах, какое блаженство… Упоение…
— Вот и сидите тихо, раз вам хорошо… А мне есть о чем думать… Ой, есть…
Кассир склонился головой на ее непорочную прелестную грудь и тяжело вздохнул от нахлынувших чувств. Ада встряхнулась.
— Чего расстонались? Живот болит, что ли?
— Ада… Скажи, разве где-нибудь на земле… Ах, нет скорей в небесах, в раю Магомета…
Она сбросила его назойливую руку и вскочила. Одним движением плеч поправила на себе платье и скрылась за занавеской. Кассир извивался на диване, издавая стоны томления.
Вдруг кто-то начал колотить в двери и, не дождавшись, когда отзовутся, стал ломиться еще сильнее. Щелкнул ключ, скрипнул замок.
— Славненькая моя Дора, рыженькая моя, отчего это у тебя тут всегда такой дух…
Молодой звучный голос неожиданно смолк. Спеванкевич весь подобрался, затаил дыхание.
— Мое вам уваженьице, пани Блайман, — послышался другой голос, человека постарше, басовитый, с напевной интонацией жителя окраин.
— Подумать только… Здравствуйте, здравствуйте… Ведь надо же… Давненько вы… — Ада смолкла на полуслове.
— Давно-недавно, сложа руки сидеть не люблю. Живу по пословицам: есть охота, была бы работа, с разговора сыт не будешь… Ха-ха-ха…
— Ну-ну… Пополнели вы, пан Бурмило, в вашем возрасте так нельзя.
— Я уже тебе не по душе, детка? А ведь и по-другому бывало…
— Вы мне не по душе? Что вы… Всегда!
— Мы пришли к тебе, Дора, с новостями: дедушка за эти три года высидел замечательные планы, — игриво заговорил молодой голос. — Не худо бы при случае потолковать…
— Чего там при случае? — вставил «дедушка». — Давай ближе к делу.
— Правильно! — подхватил молодой голос.
— Чего это вы так спешите? — протянула словно в удивлении Ада. — Планы, планы… Их всегда много, планы ничего не стоят.
Настудило молчание. Кассир встал бесшумно с давала и подкрался к занавеске. Молодой человек начал насвистывать какой-то мотивчик, старик смачно зевнул. Понемногу, с величайшими предосторожностями, Спеванкевич отогнул наконец краешек занавески. Сначала он увидел свисающие с прилавка длинные ноги в светлых узких брюках, белых носках, лакированных полуботинках. Ноги задвигались и стали пощелкивать одна о другую, точно готовясь к танцу. Их хозяин, молодой человек в сдвинутом на затылок котелке, сидел, прижав ко рту белый круглый набалдашник трости. Он смотрел на Аду, и взгляд был открытый, веселый, задорный. Ада стояла за прилавком возле окна, наклонив в задумчивости голову, и золотой ореол окружал сиянием ее рыжую шевелюру. У прилавка, тяжело опершись на локти, сидел лысый пузатый «дедушка», он смотрел на Аду с добродушно-хитрой ухмылочкой на своей широкой жирной физиономии. Молодой человек перестал насвистывать и дрыгать ногами. Наступила тишина.
Кассира терзало безудержное любопытство, но еще сильней, пожалуй, был страх. Что, если доведется ему сейчас узнать какую-нибудь жуткую тайну? Готовая вот-вот обнаружиться, она витала, казалось, над приумолкшими вдруг собеседниками… То, о чем они только что говорили, было вступлением, не имевшим, собственно, почти никакого значения. Ада (пани Дора?., пани Блайман?..) была сильно смущена, чувствовалось, что не знает, как быть. Тем двоим, разумеется, это нравилось — Спеванкевич ненавидел их и в то же время дрожал от страха. Этот молодой готов хоть кого резать тупым ножиком на кусочки, станет еще насвистывать от удовольствия, а старик будет наблюдать с добродушной улыбкой. Одно слово — бандиты! Ничего не говорят — знают: кто-то спрятался за занавеской. Оно и к лучшему — встанут сейчас и уйдут. Ой, скверно!.. А ну как взбредет им в голову, что этот «кто-то» подглядывает и может их потом опознать. Потом… Это значит после чего, когда «потом»?
— Так… Тааак… — протянул старик своим жирным баском.
— Имей в виду, Дора, работать ты должна с нами и только с вами. А? Ну ладно, значит, все в порядке!.. — весело сказал молодой, точно приветствуя друга, который внезапно вернулся.
— Я ничего еще не сказала! Ничего! — очнулась Ада и замахала руками, будто отгоняя от себя какое-то страшное видение.
— Ну тогда скажи, золотая ты наша… протянул старик с угрозой, недвусмысленно прозвучавшей в слове «золотая», которое было произнесено с особенным ударением.
В ответ Ада сделала беспомощный отчаянный жест в сторону занавески. Спеванкевича бросило в дрожь. Оба посетителя взглянули на занавеску и расхохотались. Кассир мгновенно покрылся испариной, стал пятиться и наткнувшись на диван, плюхнулся назад, так, что застонали пружины.
— Ничего… Случается, почему бы нет? — успокоительно произнес старик. Спеванкевич готов был поклясться, что эти слова адресованы ему.
— Pourvu que cette canaille de[5] Блайман попозже вернулся… Ха-ха-ха…
— От Мокотува[6] досюда недалеко, но, говорят, выберется он оттуда еще только через полгодика, а?
— Чтоб его черти взяли! — закипятилась Ада. — Какие у меня из-за него неприятности!
— Ну нет, пусть черти его пока не трогают. Вы знаете, Дора, сколько он нам должен?
— Этот мерзавец?.. Может, и должен, только я ни о чем не знаю. Не знала и знать не хочу.
— Ишь, как ты запела, малютка…
— Пани Блайман, вы придете к нам завтра утром в девять! Ровно в девять! С вами, видать, надо иначе!..
— Не могу, честное слово, завтра не могу…
— Ровно в девять! И предупреждаю, будем говорить о деле, потому что мы начинаем завтра с утра, понятно?
— Будь умницей, Дора… Ты что, к мужу торопишься?
— Что?.. Вы хотите… Вы…
— Ну конечно! А ты что думала?
— Ровно в девять!
Остаток разговора велся шепотом и потонул в шарканье ног. Дверь наконец скрипнула, и кассир испустил вздох облегчения, оказалось, однако, преждевременно, потому что занавеска вдруг раздвинулась, и между шкафами появился молодой человек, слегка наклонясь вперед, он в течение нескольких секунд внимательно разглядывал Спеванкевича. Потом любезно произнес: «Простите, я только так…» — и исчез.
Спеванкевич горячо поблагодарил Господа, что все кончилось. И вдруг его осенило. В мозгу полыхнуло ослепительное пламя догадки…
Но Ада стала в дверях и не выпускала. Началась возня. Обхватив его за шею, она пыталась заглянуть ему в глаза, но он, позволяя себя целовать, упрямо глядел на выходящее во двор окно, туда, где его ждало спасение. Там свобода, покой, безопасность…
В какие дела он впутался!.. К каким людям попал… Старый дурень, сбрендил… Ада смеялась все громче, все веселее — заливалась смехом. Он глянул на нее хмуро…
А она заговорила — ясно, обстоятельно, открыто, отвечая с поспешностью на каждое его сомнение, точно читая его мысли. Спеванкевич стал понемногу успокаиваться… Просто ей пора развязаться с темными делишками этого Блаймана. Нет, женой она ему не была, никогда, этот старый прохвост почему-то так думает — кто-то, видно, ввел его в заблуждение. Бурмило? Сидел? Да, сидел — а кто не сидел? На то и тюрьма. За что? Не все ли равно? Пустяки. Какая-то кража государственного имущества — он на железной дороге работал. А Блаймана кто-то другой в отместку за что-то засыпал… Ее заставят? Как же, держи карман шире… Ах, они просто хотят, чтоб она потолковала с женой одного там чиновника… Такие два борова, а не могут куда надо со взяткой пролезть… Да, они непорядочные люди… Пристают ко мне с этим Блайманом, а что мне Блайман? Только и всего, что с его паспортом приехала из Америки… Дурочка была, с того все и пошло… Если б не паспорт, не смел бы ни один негодяй переступить этот порог… Она и в глаза-то раньше никогда людей такого сорта не видела. Грозят? Ничего бы им с ней не сделать, если б не знали, что она прописана тут под чужим именем… И тот и другой называют ее «Дора»? Так она над этим смеется…
Так, не переставая болтать, она увлекла его за шкафы, Ни на минуту не умолкая, зажгла красную лампу, разложила на диване пестрые, причудливой формы подушки. Болтая, стала снимать чулки. Кассир, далеко еще не убежденный, но уже несколько успокоенный, стал поглядывать на ее босые ноги, видеть которые ему довелось впервые.
Инстинкт самосохранения безошибочно толкал его к бегству. Страх обдавал попеременно то горячей, то ледяной волной. Он уже отказался, зарекся от опасного предприятия на вечные времена и еще раз поблагодарил Господа за остережение. Однако же все смотрел, смотрел…
— Что, хорошенькие ножки у твоей Ады?
Она забралась на диван и положила ноги ему на колени. И все-таки злость у Спеванкевича не проходила. Вот сейчас встанет и уйдет… Он машинально провел рукой по гладким ступням, и в ту же минуту сопротивление было сломлено. Два подозрительных субъекта бесследно исчезли. Сомнения стихли и уснули. Его окружила пустота, все отодвинулось, даже самого себя он видел в каком-то безмерном удалении. Руки блуждали в рассеянности по гладкой коже от колена до ступни. Засмотревшись, он потерял представление о реальности. Бесконечно утомленный, все более слабый… О чем ни принимался он думать, все пропадало в сонной пустоте. Он сник, голова стала тяжелая-тяжелая, качнулась раз, другой…
…В окне он увидел еврея из «Дешевполя», окруженного стайкой отощавших ребятишек… Те множились на глазах, из одного становилось двое, трое, десятеро, вот они выбежали из лавочки… Голодная орава заполонила весь двор, голова к голове; стало тесно. На кассира уставилось множество безумных запавших глаз, с темным обводом вокруг век… Зеленые лица, плешивые черепа, беззубые рты… Еще минута, и они бросятся в окно, захлестнут его, точно потоп, ворвутся сюда, за шкафы… Голодные дети съедят его, загрызут, как мыши короля Попеля[7]… Спеванкевич пискнул от страха и проснулся…
Ада спала, положив голову на пестрые подушки, полунагая, раскинув руки, повернувшись слегка набок. Он уставился на нее в оцепенении, в сомнении, точно перед ним был призрак. Так продолжалось довольно долго, и вдруг босые ступни дрогнули у него на коленях, лениво шевельнулись и кассир, будто пораженный электрическим током, пронизавшим его с головы до пят, приподнявшись, вновь рухнул на диван.
Когда он проснулся, было уже очень поздно, наверное, за Полночь. В доме — мертвая тишина. Ада безмятежно овала, зарывшись головой в подушки. Пышная ее нагота отливала золотисто-розовым сиянием и источала тяжелый аромат нарда и амбры. Спеванкевич сел на диване и засмотрелся на нее в экстазе, в безмерном изумлении, как на существо непостижимое. То, что совершилось, казалось чудом, в которое невозможно было поверить. Счастье терзало его, мучило, рвалось наружу. Спеванкевич преобразился изнутри, собственные мысли стали вдруг чужими, все тайное и сокровенное — далеким и незначительным.
Спало невыносимое бремя судьбы, отошло в забвенье жалкое прошлое, отвратительная вереница сорока семи лет! Все превратилось в кошмарное повествование из какой-то другой жизни, в дикий бред, потому что подобный Спеванкевичу человек был попросту невозможен.
Он почувствовал себя обновленным, его охватила юношеская радость. Это было как великое счастье, как несметное богатство… Он ощутил свою силу, мощь и власть над житейскими делами, к нему тянулось все прекрасное, доброе, благородное. Дары сыпались, как из рога изобилия. Он все знал, все понимал. Обнажились перед ним потаенные истины, неведомые ни одному из мудрецов мира. Хитросплетения обстоятельств, загадки бытия стали вдруг легкими и простыми для понимания.
Впервые в жизни посетила его неизведанная до той поры благодать самоуважения. Никогда больше не содрогнется он от отвращения при мысли о самом себе — об этом чудовищно смешном Спеванкевиче. Он пройдет по вселенной в нимбе великих деяний, и в скором времени все признают его. Он совершит подвиги, оставит после себя достославную память…
С удивлением смотрел он на наготу Ады. Из-за подушек не видно было лица, но тело распласталось перед ним как воплощение огромной сверхъестественной тайны. Что же было причиной непостижимого чуда перемены? Причиной были они: груди, плечи, бедра и ноги, живое изваяние тела с его округлостями было причиной — это заново открытое воплощение красоты, явленное в невыразимом совершенстве форм. Из заклятого тайника он выкрал сокровище, перелил в свои жилы молодую кровь. Он возрожден и умудрен, он второй Фауст, и пусть в час смерти все дьяволы, если только они существуют, волокут его душу в ад. Он ощутил гордость победителя, отозвался в нем торжествующий мужчина, который достиг цели, овладел желанной женщиной и насытился ею. Отныне он будет ее повелителем. Спеванкевича распирало от самодовольства. Ада ему подчинится, его мужская воля будет владычествовать над ней, как над рабыней.
Ада шевельнулась во сне, потянулась… И тотчас в нем угас всякий след мысли. Он наклонился к ней, схватил в объятия. Она раскинула руки, ленивая, сонная, сводящая с ума своим бессилием.
Когда утром он собрался уходить, Ада произнесла знаменательные слова:
— С сегодняшнего дня мы друг за друга горой, мы — одна фирма. Сматывайся отсюда, явишься в три, будут интересные новости.
А его так изнурила эта решающая ночь, что не было никакого желания узнавать что-то новое. Зловещий еврей уже поджидал его в окне «Дешевполя». Спеванкевич пересек двор, отклоняясь слегка от прямой линии и пошатываясь на расслабленных ногах.
В банке не было еще ни одного клиента, но среди служащих царило необычайное оживление. Все они понемногу спекулировали, чем могли, сообразуя свои действия со сложными маневрами дирекции. Их истолковывал коллегам, почти так же, как истолковывают сновидения, гениальный Колебчинский, выходец из Галиции, который с удивительной прозорливостью разгадывал иногда тайную суть какой-либо комбинации, а порой был причиной всеобщего разорения. Но это, как нередко случается с профессиональными хиромантами, не умаляло его авторитета. В банке чего-то ждали. Последнюю неделю Спеванкевич был так поглощен своим титаническим делом, что не обращал ни малейшего внимания на то, что происходит вокруг. Колебчинский носился как угорелый по комнатам и с видом начальника штаба в момент сражения кратко и властно бросал на ходу взбудораженным сослуживцам распоряжения:
— Еще выждать! Спокойно, друзья мои, только спокойно! Я говорю — выждать!..
В этот день операции в кассе были совсем мизерные, в окошечко лез всякий сброд с грошовыми чеками и взносами. Около двенадцати в кассу заглянул сам Колебчинский. Он волновался.
— Послушайте, коллега, не было никаких новостей из Катовиц?
— Нет.
— А из Гданьска?
— Ничего.
— Черт побери! По моим расчетам еще со вчерашнего дня должны начаться поступления. Что они там творят?.. Згула с самого утра сидит на телефоне, говорит с Гданьском, а мне ничего не выяснить. Закрылся, бестия. Моя барышня с междугородной заболела, дрянь такая… Так что ясности никакой…
Спеванкевич давно уже не пускался в долларовые спекуляции, предоставив это крупным финансистам и бесчисленным идиотам помельче, вроде своих сослуживцев. Но ситуация на бирже близко затрагивала его интересы. Просмотрев курсы за неделю, он уже знал: сегодня, завтра, — в любую минуту доллары могут начать свое возвращение в кассу. Объяснялось это тем, что огромные активы английского банка, обращенные в валюту и переведенные в «Детполь» обоими сельскохозяйственными синдикатами и рядом лодзинских фирм и поначалу задержанные, были пущены теперь в оборот вместе с небольшим количеством наличных денег, имевшихся еще в банке, и со всеми почти депозитами. Игра шла наверняка: в панике, какой не помнили еще с давних времен инфляции, курс злотого упал на бирже до 13,80, доллары были нарасхват, теперь же, после перелома, он полз вверх с часу на час, и в полдень фиксировалось 7,15.
Но это, однако, было уже пределом дерзости, тем более что времени оставалось в обрез. Кредиторы, у которых все сроки истекли, забрасывали телеграммами британского консула, тот нажимал на министерство иностранных дел, иностранные дела нажимали на финансы, министерство финансов тоже начало проявлять настойчивость и в любой момент могло перейти к прямым требованиям, лодзинские же фабриканты грозили «Детполю» всерьез. Пресса пока молчит, но шайка уже обеспокоена, земля горит у них под ногами. Сенатор Айвачинский со вчерашнего дня торчит в Катовицах, депутат Кацикевич сегодня утром вылетел аэропланом в Гданьск. Вывернутся, ничего им не будет…
Завтра, в это время, в кассу может поступить и скопиться на одну единственную ночь максимум наличности. Если уж бежать — о Боже, Боже! — значит, бежать завтра и только завтра…
Но до двух так ничего и не поступило. Зато вскоре после того, как операции были прекращены, возле кассы появился старый, неряшливо одетый еврей и, уцепившись обеими руками за стальную решетку окошечка, стал что-то клянчить.
— Закрыто!
— Пан кассир, одно только слово…
— Сказано: закрыто.
— Ай-ай-ай, очень важное дело… Срочное дело!
— Что такое?
— Вот какое дело…
Спеванкевич, который как раз в этот момент пересчитывал деньги, покончил с десятитысячной пачкой, отложил ее в сторону и шагнул к окошечку.
— Что надо? Если в кассу, то не может быть и речи…
— Я совсем даже не в кассу…
— Тогда что же?..
— Я по этому самому делу… — Еврей льстиво и хитровато улыбнулся, и его лицо покрылось сетью бесчисленных мелких морщинок, среди которых потонули на мгновение красные выпуклые глаза.
— Ну? Будете говорить? Нет у меня времени на каждого дурака…
Еврей втиснул голову между металлическими прутьями и хриплым голосом все с той же подобострастной улыбкой зашептал:
— Верните мне мой паспорт или давайте сейчас же десять тысяч злотых! А если нет, тогда…
Гром средь ясного неба! Это был вчерашний «дядюшка»…
Чудом прозрения, одним неимоверным усилием воли Спеванкевич не более чем в секунду постиг ситуацию, избрал средство защиты, овладел собой и противником.
— Что?! Какой паспорт?! — заорал, глядя на него сверху вниз, кассир.
Еврей в страхе оглянулся, боязливо повел плечами тряхнул своими патлами и, вытаращив глаза, зашипел:
— Tccc! Шаа…
— Немедленно вон отсюда, не то велю прогнать!
— Что такое?! Поговорить нельзя?
— Крохмальский! — рявкнул Спеванкевич на весь банк.
— Здесь! — отозвался издалека рассыльный.
— Пусть будет пять тысяч… Три тысячи — мое последнее слово!
— Вышвырните вон этого сумасшедшего. Будет сопротивляться, позовите постового. Сам черт не разберет, чего он тут хочет…
— Зачем же постового? Ну-ка ты… марш на улицу!
«Дядюшка» покосился на квадратные, как шкаф, плечи рассыльного, на орден «Крест за отвагу» и сразу отпустил решетку. Не успел Крохмальский протянуть к нему руку, как он отступил без слова к дверям и, не оборачиваясь, рысцой устремился через главный вестибюль прямо на улицу.
— Сумасшедший! — произнес Спеванкевич.
— Наверно, из тех, кто прогорел на долларах. Много этой швали сейчас по банкам шляется.
— Очень может быть… — равнодушно согласился кассир, обращаясь к своим делам.
Он чувствовал, как, несмотря на зной и духоту, его охватывает ощущение нестерпимого холода. Руки, пересчитывающие деньги, дрожат. Челюсти ходят ходуном, зубы постучат и остановятся, точно отщелкивают азбукой Морзе какие-то страшные таинственные слова — никак, ну никак их не унять…
Потом пришел иссушающий мучительный жар, пот со лба крупными каплями накатывал на глаза. Тем не менее Спеванкевич трудился — уже из последних сил. По три-четыре раза приходилось пересчитывать ему пачку банкнотов, так часто он ошибался. Но он весь ушел в работу, чтоб хоть как-то дотянуть до конца дня, а главное, чтоб отогнать страшные мысли. Медленно, нестерпимо медленно ползло время, но вот он подбил итог, вписал в реестр приход и расход и закрыл сейф. Постоял посреди своей клетушки, твердя наизусть цифры отчета. В гардеробной долго и старательно мыл руки, декламируя пронзительным свистящим шепотом:
Ach, neige, Du, Schmerzenreiche, Dein Antlitz gnadig meiner Noti.. Das Schwert im Herzen, Mit tausend Schmerzen Blickst auf zu deines Sohnes Tod…[8]Плеск воды в умывальнике вторил его молитве. В эту минуту он как никогда ощущал всю ее глубину. Такой порыв к небесам не может остаться незамеченным.
Wohin ich immer gehe, Wie weh, wie weh, wie wehe Wird mir im Busen hier…[9]Вдалеке кричал, ругая кого-то, рассыльный. Спеванкевичу показалось: вот-вот постучит в белые двери гардеробной видение. Он обернулся украдкой и задекламировал громко, с пылкостью заправского актера:
H ilf! Rette mich von Schmach and Tod! Ach, neige…[10]Голоса стихли. Спеванкевич прервал свою молитву и вздохнул с облечением: «Ja, ja… Da bin ich jetzt ein Deutscher… Herr Rudolf Pontius aus Konigsberg…[11]»
Спеванкевич, в прошлом студент Коммерческой академии в Лейпциге, неплохо знал немецкий. А еще лучше помнил он свой родной Кенигсберг, где сорок семь лет назад — согласно паспорту — произошел на свет и где задолго до него родился знаменитый философ Иммануил Кант. Одно только он забыл — видно ли из города море. Улицы, дома — старые и новые, — кафе, магазины, гостиницы, скверы и площади, памятники разных конных и пеших Гогенцоллернов проходили перед его взором послушной чередой, но моря как не бывало… В конце концов он плюнул и вышел из банка.
На улице, как опытный, уверенный в себе ездок отпускает уздечку, он ослабил поводья мыслей, клубившихся и плясавших огромным табуном в закоулках его черепа.
«Эй, эй!.. Потише! По очереди, не все сразу…
…Итак… Если где-то поблизости его караулит „дядюшка“, он сразу того за шиворот и к постовому. „Дядюшка“, само собой разумеется; даст по дороге тягу, и делу конец…
Во всяком случае…
…Следует смотреть правде в глаза: он окружен бандой негодяев, которая, играя на его любовном увлечении, хочет использовать план похищения денег в своих интересах… Во-вторых, его тайна открыта, и Ада участвует в заговоре… В-третьих — как теперь быть?»
Внезапно его осенила догадка… Какое счастье! Ему в его ужасном положении открылась внезапно одна непреложная истина.
Не дьявол, нет, само провидение послало ему «дядюшку», который то ли по глупости, то ли по жадности, а может, по причине каких-то серьезных разногласий в самой банде вовремя раскрыл ему всю игру. О Боже…
Что, если завтра, послезавтра, когда в кассу поступят наконец доллары, его и в самом деле охватит безумие и он… какой ужас… Ада тут же выдаст его бандитам, те ограбят дочиста и пристукнут, заманив в какую-нибудь дыру, а то еще отпустят на все четыре стороны, и это будет чудовищно, к тому же до нелепости, до ужаса смешно… Так, видимо, и должно было случиться. Еще вчера… Ах, лишь вчера он стал что-то подозревать… Предчувствия, признаки, опасения…
С самого начала, впрочем, было все ясно! Спеванкевич не выдержал и на углу Злотой улицы хлопнул себя по лбу. Он содрогнулся от ужаса перед тем, что могло произойти и что, безусловно, произошло бы, если б не этот глупый и вонючий, посланный ему провидением «дядюшка»…
Вон он стоит на трамвайной остановке, спиной к тротуару. Спеванкевич сам готов был заговорить с «дядюшкой» и от всего сердца поблагодарить его. Да еще описать всю историю в двух-трех словах, чтоб тому было о чем думать до конца своих дней, если он только тут же не повесится с отчаяния. Но Спеванкевич, прибавив шагу, прошел мимо. Однако минуту спустя позади него, справа, послышалось угрожающее бурчание:
— Я вам покажу… Так обчистить бедного человека может только нахал, плут, непорядочный кассир… Честное слово, я к самому директору пойду… Я скажу ему, какой вы кассир…
Спеванкевич обернулся и посмотрел противнику прямо в глаза, как ни в чем не бывало, с веселой издевочкой.
— Ты еще тут? Ладно…
Он потянул еврея за рукав лапсердака, сошел вместе с ним на мостовую и направился к полицейскому, который, как одержимый, размахивал руками в белых манжетах на углу Хмельной, пытаясь навести порядок на забитом автомобилями и пролетками перекрестке. Еврей вырвался и бросился в самую гущу движения. Он метался, замирал, возвращался и лавировал, потеряв голову, казалось обреченный попасть под колеса. Спеванкевич следил за ним с холодным удовлетворением. Тот, однако, пробился и исчез за углом.
Кассир миновал Главный вокзал и шел дальше, не ведая, куда несут его ноги. Шел он легко, точно какая-то сила, отталкивая его от земли, все влекла и влекла вперед. Лишь на углу Вспульной он заметил, что заметно ускорил шаг, и понял: он спасается бегством. Тогда он взял себя в руки и остановился. Зачем бежать? От кого?
Боже, Боже, что делать?.. Голова шла кругом. Словно брызги кипятка, кропил его страх. Он посмотрел по сторонам — где укрыться? Паника… Каждый прохожий был ему страшен: в каждом он подозревал одного из бандитов — ведь не мог же он знать их всех в лицо… Как теперь быть?
Он свернул направо на Вспульную и шел, едва владея собой, — испуганная лошадь, готовая вот-вот понести. Боже, что делать… И вдруг проблеск мысли и… какое облегчение! Он знал, что ему делать!
Ни-че-го. Забыть обо всем на свете, ни о чем не думать, и точка. Кто для него опасен? Кто и к чему его принудит? Ада потеряла над ним свою власть, он ощутил это еще ночью, а утром убедился уже окончательно. Промучился две-три недели в безумном вожделении, а сегодня объелся этой самой Адой до тошноты, и точка. Чтоб ее черти взяли!..
На углу Познанской кто-то потянул его сзади за рукав: Спеванкевич обернулся как ужаленный — ему казалось, что поблизости никого нет… Еврей в своих стоптанных штиблетах подкрался тихо как кот. Он был весь мокрый от пота, тяжело дышал и распространял вокруг себя отвратительное зловоние.
— В чем дело?!
— Они хотят обвести вас вокруг пальца… Уж вы мне поверьте! Почему бы нам не быть заодно?.. Пан кассир, вы имеете солидного компаньона — пополам! Мне половину и вам половину! А?!
Кассир замахнулся на него тросточкой, но «дядюшка» даже не дрогнул. Вытаращил свои красные глазищи и жарко дышал ему в лицо луком. Кассир молча двинулся вперед и, сделав несколько шагов, свернул неожиданно в ближайший двор. Огляделся и юркнул в узенькую дверь. Дверь с мрачным грохотом захлопнулась за ним сама собой. Спеванкевич очутился в темной, грязной уборной.
— Вы ничего не знаете! Я вам скажу все! Я вам такое скажу, за что заплатить стоит…
Кассир ужаснулся. Бессовестный еврей незаметно проскользнул и сюда — как призрак. Он что-то знает! Спеванкевичем овладело неодолимое жадное любопытство… Заколебался… Что делать? Как поступить?…
И вдруг он схватил еврея обеими руками за горло. Стал душить, трясти. Замоталась голова в просаленной бархатной шляпе, глаза вылезли из орбит. Спеванкевич швырнул старика в тёмный угол, где — он заметил это лишь в последнее мгновение — сидел кто-то, не подавая признаков жизни. Зато теперь там все задвигалось, заклубилось. Спеванкевич бежал. Он предусмотрительно бросился в противоположный угол двора и в несколько прыжков по черной лестнице, узкой и темной, взбежал на третий этаж. Он затаится, переждет, пусть «дядюшка» разыскивает его на улице… Спеванкевич остановился перевести дух, и в ту же минуту, дверь справа приоткрылась и в щелке показалась женская головка.
— Это вы?
— Это я, — машинально ответил Спеванкевич.
— Пожалуйте, пожалуйте…
Спеванкевич протиснулся в темную прихожую, заставленную шкафами и старой мебелью. Словно в трансе, шел он за полненькой дамочкой по квартире и оказался в боковой комнатушке, где почти все пространство занимал огромный письменный стол и до самого потолка громоздились полки, уставленные какими-то ящиками, коробками, аптекарскими пузырьками, мешочками, рулонами материи, грудами тарелок, разнообразной формы бутылками…
— Пожалуйста, присядьте, через минуту я готова, — попросила дама, запахивая на груди под шеей непослушный розовый халатик. Была она еще не стара и на Спеванкевича глядела любезными до приторности глазками. Кассир упал в кресло и тяжело навалился на стол. Взглянул в окно. Из уборной вылез пожилой лысый человек в фартуке. Неистово бранясь, он принялся приводить в порядок свой костюм… Глухо гудел его голос в стенах двора. Кассир улыбнулся. На столе лежала растрепанная книжка, она была открыта.
«…чудесная надежда! Минул упоительный вечер под благоуханной сиренью, и вчерашний соловей смолк навеки. Пришло время наихудшим опасениям — мрачному будущему без завтрашнего дня. Чтоб отыскать и убедить легковерного князя в неосновательности наговоров низкого Ромуальда, у Эвелины не было достаточных средств, а унизиться до того, чтоб обратиться с просьбой к бессердечному дядюшке, не позволяла ей гордость. Она воздела взор к небесам, которые, по иронии завистливой судьбы, были лазурными и безоблачными, и обратилась к Творцу всего сущего с детской верой в мольбу чистой девицы. Душа ее металась в тесноте своей клетки, как голубок, изловленный предательскими силками. Трагичность положения возрастала самым тревожным образом, неся с собой самые ужасные опасения. И не без основания, ибо Эвелине чужды были практические интересы жизни, даже в детстве не знала она горячо любимой матушки, которая молодою еще женщиной под действием несчастных обстоятельств впала в скоротечную чахотку; покинула Эвелину и дражайшая тетушка, которую, как мы помним, она похоронила осенью. Не было у Эвелины никакого выхода, не было у нее духовной опеки, потому что каноник Буц как на грех должен был вернуться лишь в пятницу, не было у нее средств, не было мужества, не было советов добрых друзей, которых у Эвелины не было вовсе…»
В исступлении кассир схватил обеими руками груду истрепанных страниц, швырнул в окно. Вскочил и… пришел в себя.
— Я… я, кажется, я сошел с ума… сошел с ума… уже! Боже, что теперь будет?!
Диким взглядом повел он по комнате. Сейчас он разобьет вдребезги все эти бутылки, одну за другой… А то выскочит в коридор и станет метаться по квартире в поисках ни в чем не повинной хозяйки. Он готов был убить ее…
— Простите, пожалуйста… Через пять минут я готова… Только, пожалуйста, не заглядывайте сюда… Еще нельзя… Правда, нельзя… Хи-хи-хи…
Дама в прихожей усердно и долго искала что-то в шкафу, то и дело издававшем при этом протяжный скрип, точно он в муки страдания молил о пощаде. Она ушла… ушла… На свое счастье… Спеванкевич вскочил. И, точно спьяну, ощупью, пополз с упорством к входной двери, натыкаясь по дороге на мебель, которая была расставлена таким образом, будто ему нарочно хотели загородить дорогу. Ага, вот она… Спеванкевич принялся искать замок, долго водил щеколдой, пробовал так и этак — не получается. Его охватило такое отчаяние, что он даже застонал во весь голос — и дверь уступила. Кубарем, как четырнадцатилетний мальчишка, скатился он вниз. Во дворе пнул, пробегая мимо, остатки книжки про бедную Эвелину и выскочил из ворот.
Освобожденный, он бодро помчался в сторону костела св. Варвары. Он был уже весел и с удовольствием покрутил бы своей тросточкой, не забудь он ее у незнакомки. Вот так штука! Уф, это просто невероятно!
Он бродил по тенистым аллейкам Помологического сада и ел вишни, доставая их из пакетика. Какой-то мальчонка спросил его, который час. Спеванкевич ответил ему с отеческой улыбкой, дал даже пригоршню вишен и спохватился вдруг, что у него у самого есть дома точно такой же мальчик. Это повергло его в неописуемое изумление.
«Нет! Нет, это просто ни на что не похоже… Невероятно…»
Он испытывал смертельный страх перед чем-то, что одновременно его еще и смешило. Внезапный ужас перемежался с какой-то странной веселостью. Сад был похож на сон. Но и вся его жизнь была тоже сном. Кому же, черт побери, мог присниться этакий Спеванкевич? Трудный вопрос… Против того, что это сон, есть веские доказательства. Голова работает четко и ясно. С безумным планом бегства, с тысячами долларов, с жизнью в Калифорнии и с мыслью об Аде он расстался минуту назад, бесповоротно и навсегда. Он уже и думать забыл о подобных глупостях. Забыл… Давно забыл. Но что значит давно?.. «В секунду можно годы заключить…» Поэты все-таки правы; разумеется, не всегда, но иногда здорово удается им передать что-нибудь такое в двух-трех обыкновенных словах… Спеванкевич остановился и стал глядеть но сторонам: ему вдруг показалось, что весь окружающий мир существовал уже когда-то очень-очень давно. Он исчез, его больше нет и никогда не будет. Что же в таком случае существует?! Собственно, ничего… И Спеванкевич ощутил безысходную тоску, которая надвинулась на него отовсюду беспросветнее мрака. Куда ни взглянет — перед глазами завеса. Со всех сторон словно высокая прозрачная стена (ужасно толстое стекло!). И хотя мир перед ним как на ладони, не вырваться ему из-под стеклянного купола, который сомкнулся над головой. Не стоит и пробовать.
Прислонившись к дереву, он забылся в оцепенении, веки слипались, голова качнулась раз, другой…
Очнулся он от неимоверного гула и воя, похоже было, что-то валится на него с высоты. Спеванкевич присел, сжался.
Непонятная буря улетела вдаль, неистово урча и громыхая. Над садом прошел самолет, вот он растаял на глазах, исчез, смолк.
Это Рудольф Понтиус с чемоданом, набитым долларами, умчался по воздуху через румынскую границу. Хватайте, держите!
Пророческое видение наполнило его сердце восторгом. Вновь родилась вера и отвага. Все так легко и просто! Зачем мучиться, творить глупости, дрожать от страха? Нужно один-единственный раз решиться — и все. Завтра начнут поступать доллары, и, если к двум часам их наберется больше двухсот тысяч, — ноги в руки и пошел!
— Пан кассир…
«Дядюшка» был у него за спиной, на газоне, под третьей в ряду грушей. Он делал умоляющие знаки, сняв шляпу, низко кланялся. Кошмарный призрак… Спеванкевич забыл о нем. Он уже не существовал — и вот он появился снова… Но кассир не ощутил гнева, только ужасную усталость от этой передряги с евреем.
— Подойдите ко мне!
— Я и так… я тут хорошо слышу! — «Дядюшка» топтался на месте, не обнаруживая желания приблизиться.
— Не бойтесь, я вас не трону, — подбодрил его кассир, сам, впрочем, не зная, что ему делать с евреем.
— Я и так… Вы меня, конечно, извините, я теперь немножко нехорошо пахну! Но это не страшно…
— Вот видишь! Чего ж ты ко мне прицепился?
— Прицепился, потому что мне вас жалко. Ведь они вас обмануть хотят… Что же дальше будет? Ай-ай-ай…
— Что дальше? Плевать я хотел на вас всех, вместе взятых!
— Так ведь эти негодяи оберут вас до нитки! Хорошо еще, они пока друг с другом из-за вас грызутся, но когда обе банды помирятся…
— Думаешь, я не знаю?
— Ничего вы не знаете! Только сегодня утром приехал один такой из Лодзи, называется Хип или Рымпал.
— Ну и что? Пошел-ка он…
— Да ведь он их всех помирит… Погодите, еще узнаете, выпустят они из вас кишки…
— Кто он такой?
— Он все может, он и на мокрое дело пойдет…
— Мокрое дело?…
— Ему все равно: он и с пушкой, и с ломиком, и с финкой может, он и шейку пощекочет — что угодно. Хип все может…
Этот набор не вполне понятных слов сильно обеспокоил кассира. Высокомерие пока не растаяло, но это была уже одна видимость.
— Какое ему до меня дело? С чем приехал, с тем и уедет.
— Он уедет, но с вашими долларами, а вы что?
Махнет раз ножичком — и вы уже никуда не уедете.
— Зачем мне уезжать, если я не собираюсь?
— Отдайте тогда паспорт, значит, он вам не нужен.
— Подойди поближе, отдам.
Наступила пауза. Еврей снял шляпу и принялся грязной тряпицей вытирать лысину. Кассир закурил «Свит кэпарал», глубоко затянулся. Это его немного успокоило.
— Что скажешь об Аде?
— Какой Абадий?
— Ну, Ада… Эта рыженькая из «Дармополя»? Будто не знаешь, о ком говорят!
— Какая там Ада! Это Гитля Ангелыитифт, перекупщица она, ее каждый вор знает.
— Значит, курва?
— Если надо, каждая курвой будет, это еще полбеды. По специальности она обироха и шильничать горазда…
— Шильничать?..
— Каждого обманет. Известно…
— По-настоящему ее Дора Блайман зовут?
Еврей махнул рукой.
— Она и Дора Блайман, и еще Стася Мандук, для каждого у нее свое имя. А у нас зовут ее Медвежатница.
— Хорошее имя.
— Это потому, что она больше с медвежатниками знается.
— И получалось у нее что-нибудь?
— Работа у медвежатников тяжелая: подкапываться, сверлить, а ведь сейф, его не всегда вскроешь… Чем с медвежатниками промышлять, лучше с одним глупым кассиром спознаться. Вы на всем этом деле ни гроша не заработаете.
— Ого!
— Она вас вокруг пальца обведет. А вы что? Или большой любитель с моста Понятовского в холодную водичку прыгать? Уж, наверное, нет… Пойдете в Мокотув на четыре годика, на шесть лет, на восемь… Ай-ай-ай, ничего себе заработали…
— Какой ты глупый! Так ведь я все себе возьму, да поминай как звали.
— Э, слишком вы для этого втюрились — что ж я, своими глазами не видел? Просто вы глупый фрайер. Ни за что вы теперь от нее не отцепитесь!
— А что, может, мне с тобой бежать? Ха-ха-ха… Ха-ха-ха-ха…
— Слушайте, а?..
— Ну что?
— Бросьте мне по доброте одну папироску, спички у меня есть.
Спеванкевич исполнил его просьбу. «Дядюшка» с жадностью закурил. Разговор разменивался на мелочь, смысла во всем этом не было. Идиотизм ситуации возрос до необычайности. Спеванкевич отлично знал, что никто не может с ним ничего сделать: ни этот вонючий «дядюшка», ни Медвежатница, ни «орангутан», ни толстяк дедушка, ни вчерашний молодой человек, ни этот таинственный примиритель Хип, прибывший из Лодзи. Ясно как день. Так зачем же и для чего?..
На тропинке лежал расколотый кирпич. Спеванкевич схватил обломок побольше и запустил им в еврея. «Дядюшка», прячась за ствол, пытался сказать еще что-то, но когда метко пущенный обломок угодил в дерево и разлетелся на куски, — он отскочил и бросился наутек, распустив полы лапсердака, как крылья. Кассир пробежал за ним следом шагов десять.
На следующий день, часов с одиннадцати, доллары хлынули в кассу потоком, но их быстро проносило через фильтры банка, и к вечеру осадок был незначительный. Что-то около пятнадцати тысяч. Колебчинский торжествовал. Он уже разгадал маневр дирекции и требовал от сослуживцев еще двух дней терпения. Все действия банка носили вынужденный характер: приходилось пустить в ход чужие, задержанные на какое-то время активы, депозиты и тому подобные «нечистые» деньги. Каждая независимая и мелкая бумажка в сто злотых как бы обретала в этом хаосе свободу действий, существовала сама по себе, в привилегированном положении: не воспользоваться такой ситуацией мог только круглый дурак. Вождь, оперирующий крохотным объединенным капитальцем служащих банка «Детполь», их жен, дочерей, зятьев, дядьев, шурьев, тестей, бабок и внуков устремился в дальнейшее наступление, захватывая территорию, с которой поспешно отступала могущественная шайка.
— Финансовый парадокс, дорогие мои друзья! Парадокс, и ничего более! В нашу послевоенную эпоху бесчисленных политических и социальных парадоксов финансовые парадоксы наиболее поразительны — таково уж их свойство!
Эта магическая формула успокаивала даже самых недоверчивых. Прогарцевав по служебным комнатам на своем парадоксе, гениальный галичанин около двух часов заглянул в кассу.
— Много они сегодня изъяли?
— Семьдесят пять.
— Значит, завтра может быть еще столько же. Нет, пожалуй, намного меньше. Только послезавтра пойдет главная волна. На это я ставлю и выигрываю. А?
— Несомненно, коллега!
— Вот так-то!
Колебчинский ушел, приплясывая и напевая какой-то танцевальный мотивчик. Спеванкевич посмотрел ему вслед и прыснул в кулак. Его собственный план был основан на более действенном парадоксе.
Поначалу казалось, будто затевается шутка. Он не ощущал ни признаков внутреннего перелома, ни страха перед надвигающейся опасностью. Было ему удивительно легко. Решение пришло вовремя, без волнения, созрело скрыто и постепенно, без участия ума и воли, и объявилось, когда настал его час. Замысел этот появился давным-давно. Но сперва он казался безрассудным фантастическим желанием раба, жалким утешением в черной недоле, недоступной мечтой страдальца, детской причудой седого неудачника… Никогда, даже на мгновение, не допускал он, что может произойти нечто подобное. Даже в минуты умопомрачения, когда он валялся у ног Ады, умоляя ее о снисхождении, он не думал всерьез о похищении денег.
И только вчера ночью его разбудило точно прикосновение могущественной руки. Он очнулся, поняв, что это значит. Никакого страха, никаких колебаний — великолепное легкомыслие героизма… Так мужественный солдат идет на штурм, не думая о колючей проволоке, пулеметах, шрапнели, гранатах. А ведь ему, Спеванкевичу, ничего похожего не грозило… Каждый умный и решительный кассир, обладая даром логического предвидения и умея правильно оценить проблемы, великие, малые и мельчайшие, в состоянии совершить то же самое, к тому же почти без риска. Спеванкевича издавна поражало, что подобные вещи случаются неслыханно редко — удивительное падение духа среди невольников капитала, извечная мельница Гамилькара…
Не требовалось никаких размышлений, все было уже готово в тот самый момент, когда у него в руках очутился этот превосходный паспорт со всеми визами. Надо же, чтоб именно тогда забавный эпизод с Адой дал ему ключ к великой тайне провидения! Хитрая Медвежатница, искусно раскинув свои воровские сети, готовя ему страшную судьбу, работала исключительно на него. После того, как банк закрыл, кассир направился к Аде. Этот нелепый, спятивший от жадности «дядюшка», мог, пожалуй, ему навредить — черт их там разберет, какие у них отношения… Надо ее задобрить, усыпить подозрения.
В окне «Дешевполя» за спиной зловещего лавочника с умирающим ребенком на коленях его уже поджидала затаившаяся в полумраке вездесущая тень «дядюшки». Под его насмешливым взглядом тень отпрянула в глубину и пропала. Кассир улыбнулся с удовлетворением, было очевидно, что «дядюшка», примкнув к конкурирующей банде, не смеет показываться «племяннице» на глаза. Эта воровская интрига начала его уже забавлять, как зрелище, которое он сам заказал и устроил, чтоб рассеяться немного перед отъездом. Пусть ссорятся, пусть мирятся, пусть хватают друг друга за глотку, пыряют ножом. Чего бы только он не дал, чтоб посмотреть на их рожи на следующий день после бегства!
Не успел он постучать в двери, как почувствовал, что из темноты лестницы кто-то протягивает к нему руки, хватает за одежду, валится на пол. Это был «дядюшка», он стал на колени, лицо с вытаращенными глазами выражало мольбу, порыв безумца, который созерцает обличив божества. Отчаянная, сумасшедшая, последняя уже надежда осужденного, который у подножия виселицы молит палача о снисхождении. Он заскулил, зашептал… О этот вчерашний, не выветрившийся еще смрад!..
— Ясновельможный пан… Не надо, пусть пан ничего не говорит… Ясновельможный… иначе они меня убьют… Я буду вам сообщать, я все скажу, вы человек умный, вы меня поймете, да? Вы сами увидите…
Кассир с омерзением его оттолкнул и потянулся к дверной ручке. Не поднимаясь с земли, тот вцепился в него.
— Ясновельможный… Ведь если б не мой паспорт, ничего б не было, а?. Вы человек порядочный, честный… Вы не обидите бедного еврея… Я прошу мало, для вас это пустяк — десять тысяч…
Наверху кто-то громко затопал ногами, сбегая по лестнице. «Дядюшка» поднялся и умоляюще сложил руки, подбородок у него трясся, из глаз капали слезы.
— Ничего не надо вперед! Потом, если Бог поможет… Дадите мне эти десять тысяч… Вы должны дать!
Кассир постучал. «Дядюшка» отскочил. За дверью послышались шаги.
— Десять тысяч — это пустяк! Но я сказал — десять тысяч долларов… Долларов, ясновельможный…
— Ладно. Знай мою доброту. Получишь, только сиди тихо и не рыпайся.
Повернулся ключ, щелкнул замок. Зловонный «дядюшка» мигом испарился.
Ада приняла его, пугливо поводя глазами, растерянно улыбаясь, она ластилась, хихикала, наконец закрыла лицо руками.
— Что ты вчера натворил… Ай, что ты такое вчера со мной сделал… Аде теперь так стыдно…
— Ада, любимая, супруга моя ненаглядная, цветок моих наслаждений… — с тайной издевкой произнес кассир, заключая ее в объятия, а сам, так, чтоб она не заметила, высунул у нее за спиной язык.
— Почему вчера не пришел? Ада так тосковала!
— Я до ночи сидел с директорами. А потом… я ужасно устал, ведь я уже старенький…
— Ты, озорник!.. Будет он мне рассказывать… Хи-хи-хи… За такого старенького трех молодых дают… Десять!
Прикосновение ее раскрытых губ, столь сладостных еще вчера, наполнило его отвращением, что уже само по себе было удивительно. Эта Ада с ее растрепанной рыжей гривой, с тощей голой шеей, с ее вульгарным кокетством, в ярко-зеленом коротюсеньком платьице, застегнутом на огромную, как блюдце, блестящую пуговицу, к тому же на самом неприличном месте, походила на обыкновенную уличную девку, даже не самого высокого пошиба. Он глядел на нее и ничего прежнего в ней не находил, зато открывал все новые недостатки. Поначалу он считал, что она просто веснушчатая, что свойственно рыжим, но теперь вдруг увидел: да она вся пестрая, как индюшачье яйцо. Обнаженные по колено ноги были не только жилистыми и худыми, но еще и кривыми впридачу… Она уставилась на него своими косыми глазищами (когда-то прелестно косенькая!) и улыбнулась крашеными губами, обнажая в дурацком оскале десны. А нос… Злой волшебник изменил ее в течение ночи! Нет, добрый волшебник, мудрый!
Спеванкевич не в силах был больше смотреть на нее — вот-вот расхохочется. Он отвернулся. Пришлось затаить презрение, чтоб не выдать себя, чтоб не выругать ее тут же последними словами. Он жаждал как можно скорей отомстить этому пугалу за свои безумства, за унижения. Но он был, как и требовалось, нежен, вздыхал, закатывал глаза, совсем как актер в кинематографе, и, якобы в порыве восхищения, бормотал комплименты.
А сам меж тем раздумывал всерьез над причинами своего безумия, которое ему удалось преодолеть или, говоря точней, от которого он спасся благодаря чуду, пока еще не вполне понятному. Что происходит с мозгом мужчины, охваченного вожделением? Где у него глаза? Почему он глупеет так внезапно и так безнадежно? Да еще не всякий обретает ум после достижения заветной цели, наоборот, как раз в этот момент многие гибнут безвозвратно: рабы своего безумия, они готовы удовлетворять прихоти любой обезьяны. Его ужаснула вчерашняя ночь. Зато сегодня все как рукой сняло — немыслимый переворот! А что, если эта его страсть вернется? Он оглядел Аду с ног (ну и лапы!) до головы (пугало пугалом!) и успокоился — нет, страсть не вернется.
— Что новенького сегодня? — спросила Ада, обхватив его за шею и погружаясь в его глаза своими блуждающими врозь глазами.
— Все уже началось… Дня через три можно будет бежать. Ты готова?
— Я? Готова?.. Надела шляпку, вот и готова. Я всегда готова. Главное, чтоб было много, много, много…
— Будет больше, чем думаешь!
— Ах ты моя конфетка с ликером! А пораньше нельзя? Завтра, а?
— Не успеют перевести из Катовиц, из Гданьска. Но авизо уже есть.
— Нам бы лучше поскорее… Потому что… не все гладко идет.
— А что такое?
— Да ничего особенного, боюсь только… нагрянет ко мне… родня.
— Чем нам твоя родня помешает? Уедем, и все тут.
— Да уж, конечно, уедем, но могут и помешать. Нам на первое время нужно надежное место, а тут нагрянут — хорошую квартиру отберут. Ах, одни неприятности…
— Значит, мы не сразу…
— Сразу нельзя! Недельку надо посидеть в Варшаве, а может, две или три недели, пока газеты не утихнут, пока полиции не надоест.
— Что? Сидеть здесь? И не подумаю!
— Ах, глупый, что раскричался, а? Думать — моя забота.
— Здесь, в Варшаве?.. — не унимался кассир, мастерски разыгрывая ужас и желая тем самым побольше выведать о любопытной интриге, задуманной, чтоб его погубить.
— Чем тебе Варшава не нравится? Спрячемся на Смочей улице. Хоть и не в Лондоне, зато во сто раз надежней. «Держи карман шире», — подумал про себя кассир, а вслух спросил:
— А дальше-то что?
— Дальше? Дальше все деньги, кроме тех, какие на выезд и на жизнь нужны, мы через верных людей переправим в надежное место, за границу, в банк… в три, в четыре разных банка.
Хотя Спеванкевич самым дерзким образом разыгрывал комедию, эта перспектива по-настоящему его ужаснула. Точно в театре, увлекшись эффектной сценой, он вдруг поверил в правдивость мелодрамы из жизни графов, миллионеров и бандитов. Он запротестовал.
— Боишься? Так ведь деньги будут перечислены на твое имя!
— Я не боюсь, потому что доверяю тебе. Но деньги могут и пропасть. Лучше держать их при себе.
— При себе! На границе обшмонать могут…
— Обшмонать?
— Ну… Обыскать значит… Наши таможенники — лопоухие, а румынские — стервецы.
— Вот оно как…
— Спросят, откуда столько долларов? Вот и погорели. Доллары вывозить нельзя!
— Моя дорогая, поступай, как знаешь. Только что я буду делать эти три недели на Смочей?
— Зачем спрашиваешь? Сам знаешь: ты будешь ласкать свою Адзю. Ай, не будет нам скучно. Какая там постель! Перина, атласные одеяла.
В порыве страсти она принялась целовать кассира гораздо дольше и сильнее, чем ему того хотелось.
— Отдай мне паспорт, тебе надо сбрить усы и подкрасить волосы, сделаем новую фотографию.
— Паспорт? Он дома лежит. Зачем его с собой таскать? Еще потеряю.
— Ай-ай-ай… Принесешь его завтра утром, до работы.
Ада с беспокойством посмотрела в окно, затем на часы.
— Иди, иди! Заявится еще кто из банка, не надо, чтоб тебя сейчас в лавочке видели…
— А на ночь… На ночь можно? — робея, точно девушка, спросил кассир.
— Ты бессовестный! Сегодня на ночь нельзя! Натешишься еще на Смочей, погоди!
«Ну, этого тебе не дождаться…» — сказал сам себе с решительностью кассир и тяжело вздохнул.
В воротах Спеванкевич увидел нечто ужасное. В закоулке, отгороженном открытой настежь входной дверью, высокий худощавый мужчина в светлом костюме, схватив обеими руками старика еврея за воротник, бил его головой о стену так, что гул стоял вокруг. Все совершалось молча: ни жертва, ни мучитель не издавали ни звука. Мужчина покосился на кассира — его молодое и симпатичное лицо выражало спокойствие. Спеванкевичу запомнился блеск светлых, пронзительных и как бы веселых глаз… Еще раз до него донесся глухой удар о стену, и он выскочил на улицу.
В этот момент у ворот остановился лимузин Сабиловича, и кассиру бросилось в глаза огромное багровое лицо директора. Он хотел проскользнуть мимо, но Сабилович поманил его пальцем, и Спеванкевич с раболепным поклоном подбежал к автомобилю. Стекло медленно поползло вниз.
— Послушайте, Спеванкевич, там все в порядке? Вы только правду говорите!..
— Как же, пан директор… Конечно… В порядке, в порядке!
— Никого в банке не было?
— Никого?..
— Никого… Ну как бы это сказать… Никаких нежелательных лиц… Потому что в наши времена… Ах, дорогой пан Иероним, в какие страшные времена мы живем!
Спеванкевич остолбенел. Не приходилось ему еще пускаться в доверительную беседу с директором. Тот обращался к нему по внутреннему телефону с коротким запросом, отдавал приказы, а Спеванкевич, тоже по телефону, докладывал, что полагается. Страх на лице директора, загадочный вопрос, безумные глаза, фамильярное «дорогой пан Иероним» — он и не подозревал, что директор изволит помнить, как его зовут, — это пахло катастрофой. Неужели министерство финансов намеревается на этот раз вмешаться всерьез? Невероятно! Может, Англия пригрозила, что пришлет эскадру и займет Хель, Пуцк и Гдыню…
— Пан директор, что-нибудь случилось?!
— Не знаю… Не знаю… Иногда мне хочется, чтоб уже случилось… Но узнать об этом — боюсь… Правительство у нас недостойное, а во главе министерства финансов — слепой деспот. Негде искать защиты, ибо… Ой, что-то мне нехорошо… Ибо нация дала ему едва ли не диктаторские полномочия. Да, пан Иероним, это как если бы все сказали вдруг: «Зарежь их!!!» У меня нож у горла…
Директор обеими руками рванул на себе воротничок и захрипел:. Кассир стал бормотать какие-то уверения, утешать, ошеломленный жалким видом надменного финансиста. Американец Сабилович, финансовая акула, хозяин биржи, доверенное лицо Банк-треста и межокеанского Гив-лимитед-банка, валютный король, перед которым дрожали все, включая Банк Польский и Дирекцию сберегательных касс… Что это, конец света?..
— Директор Згула, несомненно…
Слова Спеванкевича покрыл сардонический смех. Расхохотаться так мог только человек, утративший последнюю надежду. Шофер навострил уши и чуть заметно улыбнулся.
— Уехал в Катовице, ускорить операцию… Оставил меня правительству и газетам на растерзание. Да, уехал… Пан Иероним, дайте ухо…
Кассир сунул голову в окно автомобиля. Багровое лицо директора стало киноварным, пошло синими пятнами. «Не выдержит, — подумал кассир, — сейчас его хватит удар».
— Уехал?! — пробормотал загробным голосом директор. — Он бежал!!! Позорно предал меня, молокосос, щенок, негодяй, а ведь он обязан мне всем! Нет, я буду защищаться, его делишки мне хорошо известны…
— Да вы успокойтесь, я отвезу вас домой…
— Ни за что на свете… Может быть, там уже… Черт бы побрал вашу Польшу!..
Кассиру это надоело, шоферу тоже. Он обернулся и с решимостью спросил:
— Пан директор, куда?
— В бордель!
— В какой?
— Сперва в «Южные вести»!
И директор, схватившись за голову, откинулся на низкое сиденье. Заурчал мотор.
Спеванкевич сиял от счастья. Один только вид поверженного сатрапа был для кассира-раба источником радости и блаженства. Так тебе и надо! Поражение было тем более ужасным, что совершилось в момент сказочного триумфа, венчающего собой гигантскую финансовую операцию, о которой все специалисты отзывались с восхищением. Наконец-то справедливость восторжествует. За грабеж страны, за то, что сотни тысяч порядочных людей обобраны до нитки, за все личные драмы, самоубийства, за апоплексию, растраты, разводы… Директора — за решетку! Наблюдательный совет — за решетку!.. Вся шайка — за решетку!
Не пожалев денег, Спеванкевич пообедал в Английском отеле. Его возбуждение, его радость доходила, обостряясь, временами до ликования, до подлинного счастья, которое необходимо было выразить, разделить с кем-то. Горящими глазами, словно бы в восторге, он обводил заполненный избранной публикой зал. Он знал жизнь каждого из этих людей, читал их мысли, ничто не могло укрыться от его взгляда. Не прибегая к хиромантии, он мог предречь любому, что ждет его завтра, через пять, десять лет и даже больше. Если бы только он решился, встал в эту минуту и обратился к присутствующим, он открыл бы им дела и обстоятельства, о которых никто из них не имеет ни малейшего представления. После первых же слов все сбежались бы, обступили его, слушали, затаив дыхание, — ах, несчастному человечеству так нужна правда! Все пали бы перед ним на колени, объявили его диктатором, королем, пророком — Польша так тоскует по вождю… И если б только он пожелал…
Но всякий раз в это опасное, головокружительное мгновение внутренний голос, таинственный и смутный, внезапно остерегал его. Остерегал его также холодный неприязненный взгляд одного из метрдотелей, который с некоторых пор кружил над Спеванкевичем, будто ястреб. И тогда с неохотой, почти машинально, кассир умерял восторг и погружался в состояние сладкого безмятежного покоя.
Его колоссальный план, тайны «Дармополя», все реальное и насущное, уходило вдаль, стиралось, затихало. Он остался наедине с самим собой и с помощью односложных реплик и многозначительного покряхтыванья пустился в беседу с Рудольфом Понтиусом из Кенигсберга, с самым верным своим приятелем.
Что из того, что немец? Он в состоянии заменить ему весь мир. Судьба свела их недавно, но они родились, созданные друг для друга, они знали об этом давно, и вот теперь, должным образом подготовленные для осуществления великого плана, они составляют собой единое целое. Иногда в этом содружестве преобладал Понтиус, а кассир стушевывался, иногда верх брал кассир, а его приятель смолкал и таял, становясь зыбким отражением мечты. Это был процесс пульсации их душ, взаимно проникающих друг в друга, который необходим, чтоб установить между ними безупречное равновесие и достичь в дальнейшем полной гармонии.
Не будь под боком Понтиуса, кассиру не совладать бы с трудностями. Он потерял бы ориентировку в обманчивом хаосе явлений, недооценил бы сложной игры противника. В его положении нельзя быть одиноким. Чувство реальности, свойственное дорогому Рудольфу как немцу, вырвало Спеванкевича из сумасшедшей славянской неразберихи, спасло ему честь и жизнь. Понтиус надзирал над дальнейшей реализацией плана и взял на себя все хлопоты, связанные с бесчисленными техническими вопросами, неизбежными при осуществлении столь трудного предприятия. Рудольф назначит день и час, обдумает все, ни о чем не забудет — какое облегчение!
Спеванкевич пообедал и, когда стало смеркаться, отправился в Саксонский сад, просто так — самый что ни на есть обыкновенный служащий, который не знает, как убить свободный вечер. Он бродил по людным аллеям, по пустынным дорожкам, наблюдал, отдыхал, думал… ни о чем. Вечный поэт, он парил над действительностью этого вечернего сада: над стайками ребятишек, пенсионерами, над всякого рода фланерами, над бесчисленными евреями, которые в одной из самых длинных аллей заняли все скамейки подряд.
В легкой прозрачной пыли, взлетавшей над деревьями наподобие тумана, реяло, казалось, что-то фантастическое. В наступающих сумерках лица становились смутными и расплывчатыми, расстояния теряли определенность, предметы — отчетливость, мир погружался в сладкое забытье. Спеванкевичу бросились в глаза странные фигуры, только с виду обычные, они то возникали, то пропадали на дорожках сада. Каждая приманивала его необъяснимым образом, возбуждая любопытство и внушая одновременно страх. Что за существа, кто такие?..
Иногда они скользили друг за другом, потом на несколько минут исчезали совсем, потом кто-то в одиночку появлялся на лавке, едва различимый в полумраке. Спеванкевич не мог рассмотреть лиц, зато узнавал каждого. Чем отличались они от остальных людей? Ничем. Но Спеванкевич уловил в них что-то особенное — безошибочно, явно. Вот внезапно исчезли опять. Спеванкевич поглядел вокруг, но все снова стало трезвым и будничным. Успокоившись, он решил было закурить, как вдруг ощутил свое одиночество. Это не было знакомое уже чувство отрешенности от мира, которым он гордился, считая его одной из основ своего существования, это было неожиданное и насильственное отчуждение от таинственной стихии, в которой он пребывал. Ему показалось, будто он извергнут из своего собственного «я», как бы лишен прежней своей оболочки. Развеялась великая иллюзия, сопутствовавшая ему вот уже много лет подряд, и он очутился внезапно в абсолютной пустоте. Это было тяжелей мучительного сна, где всплывают, перемежаясь друг с другом, бредовые картины, загадочные лица, где дикие голоса произносят непонятные слова и обнажается вдруг ужасная истина, в которой заключено все то, чего человек не знает о себе, о людях, о своей судьбе, о предназначении вселенной… Открывается в календаре жизни страшный, неотвратимый день смерти… Становится ясным убожество человеческого существования, его бессмысленность… Земля уходит из-под ног… Гаснет солнце… В голове вихрем проносится стая сумасшедших, странных мыслей… Они врываются разом, перескакивают друг через друга, в обрывках, в клочьях… Наконец человек не в силах вынести кошмара, он просыпается в холодном поту.
Но эта явь была пострашней сна, а снов он помнил немало. Он чувствовал, что с ним произошло нечто непонятное. Он перестал ощущать, что существует на свете. Ему стало вдруг недоставать своего собственного присутствия — он даже посмотрел по сторонам. Как это он сам себя потерял?! Как мог сбежать сам от себя этот… этот… Спеванкевич? Позвольте… Позвольте, что же тогда от него осталось?! Что же тогда в нем мыслит, видит и о себе ничего не ведает?..
Спеванкевич зашатался как пьяный: ноги его не держали и он потащился к скамейке. Там сидел уже некто и курил папиросу — в густом мраке, под деревьями, светилась яркая искорка. Еще не дойдя до скамейки, Спеванкевич узнал одно из загадочных существ этого сада, догадался об этом по какому-то признаку.
Он овладел собой, наваждение исчезло, смятение улеглось. Обретя душевное равновесие, кассир почувствовал, что любопытство настойчиво толкает его к незнакомцу. Но внезапно появился и страх, равный по силе любопытству. Спеванкевич боролся с собой. Трудно было отказаться от привычного представления о том, что жизнь во всем и до конца реальна, что, несмотря на порожденные ею чудеса и чудачества, всюду царит железная логика. У него появилось вдруг искушение преступить опасную черту… Вопреки очевидности он должен сейчас довериться собственному чутью. Но им владел страх, и неизвестные слова — как же все-таки начать разговор? — застряли в глотке… С мучительно бьющимся сердцем Спеванкевич ожидал, что будет дальше. Но неизвестный помог ему сам — подвинулся, освободив место на скамейке.
— Прошу вас…
Этим было сказано все. Спеванкевич погрузился в незнакомца и растаял, безвозвратно, без остатка. Тот обыкновенный мир, по которому он вечно тосковал, открылся ему теперь, как море наслаждений. Он достиг дна истины, он радовался и гордился тем, что не погряз в трясине мелкого прозябания, был верен взращенной в одиночестве мечте и теперь, после стольких лет, удостоился милости великого посвящения, вступил в сферу освобожденных духов, которые существуют и процветают наперекор реальной жизни и суровым законам повседневности.
Собственно, это не было даже разговором. Они сидели рядом, как бы сливаясь друг с другом. Спеванкевич тоже закурил. Время от времени то он, то незнакомец ронял слово, фразу. Были это отдельные мысли, они не составляли диалога, лишь дополняли чью-то давнюю, очень давнюю беседу, теперь почти позабытую. Где она происходила? Когда? Неизвестно — может быть, в снах. Они объяснялись с помощью сокращенных формул таинственного языка, доступного лишь посвященным.
— Я всегда верил: должны существовать где-то такие же люди, как я.
— Нас куда больше…
— Никогда не встречался я ни с кем из наших, но верил всегда — не один я на свете, и вот сегодня я разгадал знак.
— Тут не может быть знаков. Мы находим друг друга, когда есть необходимость. Вот и все.
— Только что я видел не меньше десятка наших — в саду!
— Ошибаешься, это я тебя призывал, все другие лишь мое порождение, мой отблеск…
— Так это ты меня призывал? Вот я и пришел. Пришел… Теперь мы будем вместе? Всегда?..
— Вместе мы будем столько, сколько необходимо, потому что наши судьбы переплелись. Но сейчас хватит и минуты.
— Не покидай меня! Я одинок…
— Обрети самого себя, и тебе не нужен будет никто. Призови свое мужество и освободись с помощью подвига, совершенного в одиночку!
— Я собираюсь…
— Потому я и пришел.
— Ты мне поможешь?!
— Я уже раз тебе помог, но больше не сделаю ничего. С завтрашнего дня — действуй один.
— Ты веришь в победу? И это завтра?! Завтра?! Ах, если б ты был со мной и в час великого испытания!
— Я и так с тобой и даже в некотором смысле с тобой останусь — ведь у тебя мой паспорт.
И тут кассир, витавший все время в сфере духов, так и подпрыгнул на месте. На секунду у него перехватило дыхание, сердце, схваченное болью, остановилось. Сперва он съежился, затем напрягся, как пружина, приготовился бежать. Но не успел он еще выдать себя словом, движением, как рука страшного человека тихо легла ему на колено. Кассир был самым жестоким образом вырван из бездны четвертого измерения и повержен на землю. Он мигом пришел в себя. Ловушка…
При обыске в кармане у него обнаружат этот проклятый паспорт… Нет, он выбросит его в саду, пока его будут вести!.. И тогда какой-нибудь честный человек найдет паспорт — он наверняка будет честный: какая ему от паспорта корысть?.. А там его собственная фотография! фотография! фотография!..
— Неправда! Не имею ни малейшего представления, о чем вы говорите… Паспорт?.. Извините, пожалуйста…
— Не бойся! Я Рудольф Понтиус.
— То есть как? Тот самый? Из Кенигсберга?! Быть этoгo не может!..
— Капитан двести тридцатой роты саперов, кавалер железного креста, павший на поле боя под Дуамоном…
— Павший?..
— От ручной гранаты…
И граната под Дуамоном грохнула, точно в подтверждение его слов, да так здорово, что кассира подбросило на скамейке. В саду горели фонари. Все фантастическое Исчезло без следа. Капитан Понтиус пропал. Орава мальчишек, смеясь и гикая, мчится напрямик по газонам, по аллее…
— Вот наша учащаяся молодежь! Разве в прежние времена такой скандальный случай был бы возможен…
Порядочный человек не может у нас подышать спокойно чистым воздухом — сразу какой-нибудь негодяй поднимет пальбу, — заговорил брюзгливый дрожащий голос справа.
— Ха-ха-ха! Петарда, вспомнили, видно, Пасху!
— На Пасху можно! — раздался озорной голос слева.
— И на Пасху нельзя! Никогда нельзя! — сурово воскликнул голос справа, стукнув палкой о землю. Спеванкевич встал и пошел.
Взрыв петарды оживил его, влил новые силы, освободив от раздумья о непознаваемом. Проблема вновь замечательным образом упростилась: если хочешь, чтоб что-то вышло — без промедленья за дело. Итак, завтра! При условии, разумеется, что поступят большие деньги. Действительно, о чем думать? Все подготовлено, все известно. Бегство в Румынию по первоначальному плану Ады разработано до мельчайших подробностей. Долгие ночи провел он, изучая железнодорожное расписание, в том числе международное, а также расписание океанских линий Ближнего и Дальнего востока, покорил мысленно пространство и время. Совладает ли он с собой в критическую минуту? Хватит ли сил сделать первый шаг? Приходилось рассчитывать на вдохновение, которое осенит его в решающий миг. А если не осенит?
В течение долгих лет он вынашивал свой великий план, и первый шаг представлялся ему, как нечто само собой разумеющееся. Фантазия наряду с перипетиями бегства рисовала ему почти исключительно картины жизни в дальних уголках земли. Безудержные оргии воображения… Сочинялись бесконечные повести о приключениях и удаче единственного на свете человека, который отважился умертвить свое собственное бесполезное «я», рожденное в житейских невзгодах, чтобы вновь явиться в величии и славе. Теперь, когда час приблизился, он понял, что не решил еще одного вопроса, может быть, самого простого, но самого страшного… А что, если он никогда не решится взять кассу? Ведь без этого ничего не выйдет.
Мысль была потрясающая. Пока все существовало в воображении, эта проблема не имела значения, но если… если… если…
«Завтра! Завтра! Завтра! Завтра!»
Огромные пронзительные красные буквы встали у него на пути. Спеванкевич замер под памятником Юзефу Понятовскому[12] подавшись вперед, не веря своим глазам. На ограде, которой были обнесены руины собора, зловеще Пылали страшные слова. Кто-то загородил ему дорогу…
Лишь поборов замешательство, отбросив черные подозрения, фантастические, глупейшие, Спеванкевич понял, что это ни более ни менее как трюк навязчивой рекламы, которая сообщает о чем-то чрезвычайно важном, что должно произойти завтра и только завтра, сообщает и вместе с тем предупреждает, что послезавтра будет поздно. Спеванкевич не стал доискиваться, будут ли это гастроли заграничного тенора, боксерский матч или же, наконец, лотерея… Красные буквы запали ему в душу и стояли перед ним всюду, куда бы он ни шел. Завтра — завтра — завтра…
Его томило беспокойство, он не знал, что с собой делать, как убить остаток вечера. Любопытство толкало его к Аде — заглянуть хоть одним глазком в окно, в знакомую щель между темно-красной портьерой и рамой, прокрасться на лестницу, подслушать, что происходит в лавочке…
Примирил ли Хип обе банды? Договорились ли уже те и эти, каким образом поделят добычу? Условились ли, в какую дыру заманят влюбленного кассира и что сделают с его трупом? Ах, увидеть бы собственными глазами, послушать, как говорят о таких вещах! Эти люди повергали его в изумление, коварство Ады придавало ей демоническое очарование. Их характеры, их дела, приключения влекли его в мир неизвестный, исполненный чудес и диковин. Жалко скопированный в кино, где первую роль играл неизменно сыщик-преследователь и торжествовала полицейская справедливость, даже там знаменовал он собой могучий бунт против всего раз навсегда установленного и освященного. Он, этот мир, своими преступлениями протестовал против бесчисленных преступлений существующего строя. Вечная война, где с одной стороны бой ведет одинокий преступник со своей пылкой отвагой, с хищной изобретательностью, а с другой — общество и государство, уголовный кодекс, тюрьма, виселица, все честное, благонамеренное. Глубоко скрытые симпатии толкали Спеванкевича издавна к этим людям, проклятым и преследуемым. От них исходило очарование тайны, веяло от них ледяным ужасом. Позор и слава освещали мрачным заревом деяния их жизни…
Они избрали его жертвой, взяли в кольцо и, уверенные в легкой победе, грызутся уже из-за добычи. Он признавал их правоту, его не возмущал их разбойничий замысел, для него это было занимательное зрелище с одним лишь недостатком: развязка целиком и полностью в его руках. Никто никогда не принудит кассира взять кассу. Это чудо могла совершить одна только Ада — еще вчера к тому шло. Охваченный безумием, он изнывал от желания. Но Ада не выдержала характера, вероятно, под действием неизвестных причин, то ли интриг, то ли подозрений, она пожелала окончательно в нем увериться, приковать его к себе самой прочной цепью, ей-хотелось, чтобы только ей был он послушен и не пошел на предательство. Кто может знать, что творится у них за кулисами… Во всяком случае, она не учла мужской психики, молода видно еще, слишком самоуверенна. Но если б не эта ночь— кассир содрогнулся от омерзения, — в ожидании ее он сделал бы все, что приказало б его рыжее божество — бррр…
А теперь — как же, дождетесь! Вот будет потеха, когда Медвежатница, видя, что жертва не появляется день, другой, станет на третий забрасывать его письмами, звонить по телефону, явится наконец в банк или на квартиру, а скорей всего постарается перехватит его где-то на улице.
«Простите… Ошибаетесь… Не имею чести…»
«Не валяй дурака, Иероним, тебе хорошо известно, что ты должен делать! Почему не делаешь?»
«Послушайте, однако…»
«Ты им не верь, они тебя прикончат! Ты верь мне, своей любимой Адочке, ты глупыш, ты еще совсем ребеночек!.. Пойдем со мной, я тебе все объясню… Иди скорей, у меня там есть одна чудная вещь, там стоит очень мягкий диван, он — хи-хи-хи, — он велел тебе сказать — знаешь что? — что он по тебе очень соскучился и очень тебя просит…»
В середине этого диалога Спеванкевич не выдержал и рассмеялся вслух. Шедший впереди мужчина внезапно оглянулся; Спеванкевичу стало стыдно, и он повернул назад.
Вот потеха! Славная штука! В этом радостном возбуждении Спеванкевич шагал по Крулевской, в направлении к дому. Ему было весело. Наконец что-то произошло в его дурацкой жизни. Столько впечатлений, столько потрясающих переживаний, и все по дешевке, без малейшего риска, даже даром — ничего удивительного, на то и «Дармополь», ха-ха-ха!..
И он опять расхохотался. И опять какой-то шедший впереди мужчина обернулся, постоял в нерешительности и, пожав плечами, пошел своим путем. Он был даже похож на предыдущего: светлый костюм и панама с алой ленточкой.
Внезапно хорошее настроение исчезло. Это случилось, когда он проходил мимо оружейной лавки. Орудия смерти приводили кассира в содрогание — так было с недавнего времени, когда он пережил тяжелейший кризис, носясь с мыслью о самоубийстве. Но причиной перемены была все-таки не витрина — что-то совершилось у него в голове, наступило состояние, похожее на то, какое было час назад, в саду… Нет, даже хуже.
И он остановился, вконец расстроенный. Ах, разве он не знал об этом раньше, знал постоянно — с самого начала! Знал…
Собственно говоря, знал, да забыл. Вроде бы и помнил, но с этой вечной своей рассеянностью… Нет, неправда, он прекрасно знал об этом! Он сам себя обманывал, жалкий одинокий лицедей, неисправимый трус. Неужели только сейчас уверился он в том, что ни завтра, что никогда-никогда вообще не отважится он на это?
Итак, не будет никакого переворота, никакого возрождения. Не будет величия, красоты, дыхания широкой жизни, не будет Калифорнии… А ведь всего несколько недель назад взлелеянные издавна мечты начали, казалось, воплощаться в действительность, жалкая душа пробудилась к полету и со дня на день мужала в предчувствии невероятного события. Он приготовился к великому бунту, в голове возник пламенный манифест, который в свое время, с соблюдением всех мер предосторожности, он вышлет из неведомого места в Польшу. Это будет подобно грому. Всколыхнется общественное мнение, с разных сторон зазвучат голоса, выйдут в свет брошюры, разгорится полемика. Возникнет литература вокруг большого вопроса — вокруг проблемы Спеванкевича-Мстителя, появятся союзы, клубы, партии, его имя станет знаменем борьбы за неприукрашенную правду жизни. Содрогнутся финансовые магнаты, апостолы несправедливости и эксплуатации, поднимут голову униженные. Такого движения не остановишь. А когда по прошествии лет дело созреет и разразится революция, когда Польша будет, преодолевая неимоверные трудности, возводить новый государственный строй, тогда пронесется слух…
«Он» жив! Издалека он наблюдает за делом рук своих. Он прибывает! Спеванкевич-Мститель возвращается на родину! И вот великий старец объявляется в столице. Он станет перед народом и скажет: «Я прибыл! Судите Спеванкевича — растратчика, но послушайте, что скажет вам Рудольф Понтиус…»
Рудольф Понтиус!
Миллиардер, космополит, свинцовый и оловянный король, владелец островов и плантаций, сотен банков и тысячи пароходов, гениальный финансист, перед которым трепещет мир… Рудольф Понтиус из Сан-Франциско и одновременно из Сиднея, Лондона, Буэнос-Айреса, Бомбея… Тот самый… В концерне, носящем его имя, прежние польские правительства не раз клянчили у директоров пустяковый стомиллионный заем, клянчили не раз, но тщетно. Рудольф Понтиус! Повелитель вселенной!.. Это он! Он! Он кассир Спеванкевич! Урра!
Его речь будет краткой.
«Я похитил в самом грабительском из всех банков — столько-то и столько-то, — чтоб выразить свой протест против преступлений старого строя. Я распорядился этим капиталом сам, никого не беря в советники, кроме собственной совести. Трудом своей жизни я приумножил его более чем тысячекратно, и теперь я отдаю своему народу — все. Берите — вот миллиард долларов!»
В течение недель он так сжился со своим великим предприятием, что считал его делом верным, едва ли не совершившимся. Опираясь на базу в несколько сотен тысяч долларов и оперируя на просторах мирового рынка, он, Спеванкевич, в силу свойственных ему незаурядных финансовых способностей явит собой единственный в своем роде творческий гений. Это было очевидно. А теперь…
Теперь марш домой, в свою конуру с видом на стену… А завтра — в кассу, считать чужие деньги. И так день за днем, до самой смерти. Довольно! Хватит! Кому хорохориться? Кому этот мир губить? Марш в конуру! Ату его, идиота, труса, ату его, Спеванкевича-Мстителя!
Спеванкевич втянул голову в плечи и помчался домой, как настеганный. Он до такой степени пал духом, что решил, отказавшись от своего предприятия, немедленно остепениться и заняться в первую очередь детьми, в особенности четырнадцатилетним Дидеком и семнадцатилетней Цецилькой. Отданные всецело под опеку матери, оба дойдут вскоре, если он их не спасет, или до полного отупения, или до сумасшествия. Дальше;.. Он возобновит систематические занятия английским языком… Дальше… Еще сегодня он набросает сценарий фильма, взяв за основу свои недавние приключения: Медвежатница, Квазимодо, «дядюшка» — сущий кладезь идей, ну и наконец он, Спеванкевич… Он уже подыскивал название для своего шедевра. Самого себя он уже умертвил. Не осталось ничего — одно только отчаяние…
Он застонал.
…Хорошо, ах как хорошо представлял он себе это свое возвращение домой… Когда, скажем, еще в эпоху своих карточных увлечений, раз в двадцатый проигравшись в пух и прах, брел он домой на рассвете… Или когда, проблуждав долгие часы по городу и насладившись своими не ведающими границ мечтами, он спускался внезапно с небес на землю где-нибудь на углу Панской улицы… Когда, добывав на каком-нибудь ошеломляющем фильме, послушав концерт Бетховена, он устремлялся из зала в вихре высочайших надежд… Когда притащившись из опустевшей, заплеванной пивной, не пьяный и не трезвый, кляня последними словами свою судьбу, звонил у ворот…
Нет такого угла, где б он мог преклонить голову, нет никого на свете, кому бы мог он пожаловаться, кто понял бы его, прижал к груди… И эта безнадежная пустыня скуки, отравляющая его своими гадкими вонючими испарениями каждую минуту, с каждым вздохом… И это отвращение к самому себе, к своему собственному существованию и зависть-ненависть ко всему живому…
Сознавая, бывало, что через пять минут он неизбежно очутится у ворот, он начинал плакать где-нибудь посреди Панской улицы. А улица была темная и пустынная. Слезы жгли до боли, разъедали глаза, как кислота. Он всхлипывал, плакал тихо-тихо, и вдруг из глубины истерзанной души вырывался стон. Горло сжималось, короткими редкими глотками он хватал с усилием воздух — и разражался наконец страшными рыданиями, безоружный в своем горе, не стыдясь никого и ничего. Улица была пустынна и безжалостна… Но случилось однажды, что во время одного такого возвращения, когда он рыдал в диком отчаянии, из ворот вылез дворник, ветхий дед, и принялся его утешать, доброжелательно и ворчливо, по-отечески, смешно и вместе с тем мудро. Спеванкевич стоял и смиренно слушал, с безграничной благодарностью, беззвучно всхлипывая, успокаиваясь, как ребенок. В эту минуту дворник-бедняк был для него единственным человеком на свете, ангелом, ниспосланным небесами, вестником лучшего будущего. Спеванкевичу запала в сердце такая доброта, он захотел осчастливить старика и решил даже определить ему небольшое пожизненное пособие, но больше его уже не видел, потому что старательно обходил этот квартал, отчасти из стыда, отчасти опасаясь, и не без оснований, что может чем-то умалить великий смысл той встречи. И в самом деле: если тебя утешил ангел, не следует уповать на повторение столь поразительного чуда. И ангел сумел это оценить.
На этот раз ангел принял облик юноши, который неслышными шагами, на резиновых подошвах, появился откуда-то из-за спины, заглянул ему в глаза и приподнял панаму с алой ленточкой. Кассир перестал рыдать и остановился как вкопанный.
— Пожалуйста, извините…
Открытая благожелательная улыбка, блеск белых зубов проникли в мрачную душу кассира, как луч надежды. Спеванкевич ни о чем не спрашивал и даже не удивлялся. Доверие к юноше росло, как вода в половодье, — Спеванкевич готов был уже открыть ему все тайны, рассказать всю свою жизнь, как тогда дворнику… Но ниспосланный провидением юноша и без того, видно, читал в его душе, к тому же этого юношу он как будто знал…
— Я понимаю ваше положение и, если я колебался из вполне понятной деликатности, то, видя, что с вами творится, я должен был протянуть вам руку…
Этот симпатичный юноша решительно взял Спеванкевича под руку и, не дав ему опомниться, торопливо и взволнованно заговорил. С первых же слов кассир обратился в слух и безропотно пошел туда, куда повел его незнакомец.
— …и это, представьте, еще не все! Но пусть они друг на друга доносят, пусть пыряют друг друга ножом, эти банды обезвредят себя взаимно, предоставим их собственной судьбе. По-настоящему опасна для нашего дела одна только Блайман. Вот, скажу вам, шельма! Не сердитесь, выслушайте меня спокойно… Эта рыжая водит за нос обе банды и пляшет между ними, как на канате, у нее собственный план и свои люди, которых, несмотря на все наши старания, мы так и не выследили. В этой комбинации вам отведена роль жертвы. Вы, разумеется, погибнете, вас прирежут, но и это еще не все. Ваши останки не будут преданы освященной земле, их разбросают по городу и по его предместьям, отдельно руки, ноги, голова… Само же туловище положат в корзину и отправят экстра-почтой… Да, да! Ваше тело не будет закопано в подвале на Смочей, как предполагалось вначале, потому что квартира, попросту сказать, «хата» Блайман, обнаружена одной темной личностью, темней уже не придумаешь — профессиональный бандит, из-под Лодзи… Убийство и расчленение вашей персоны взял на себя некий Янек Житко, находящийся в рабской зависимости от хозяйки «Дармополя», она в курсе всех его делишек, за которые ускоренным судопроизводством можно было бы приговорить его к смертной казни, наверно, не меньше пяти раз. Знаю, неприятно вам слушать, как я изобличаю особу, к которой вы питаете такие чувства, которой доверяете, но лучше узнать правду сегодня вечером, чем завтра утром, когда будет слишком поздно. Впрочем, если враги составили против вас ужасный заговор, то ваши друзья не дремали! Мы с отцом как порядочные люди решили не отпускать на верную гибель столь почтенного человека, протянуть вам руку помощи и вырвать из лап разбойников. Больше того, мы поможем вам осуществить ваш великий план. Мы сделаем это во имя идеи, как блюстители общественной морали, чье призвание — бороться со злом на польской земле. Потом, когда все наилучшим образом устроится — в это мы с отцом вложим всю нашу энергию, — вы лично решите, каким образом и в какой мере угодно вам будет проявить свою признательность, если таковой мы вообще заслуживаем… Но только потом, после всего, глубокоуважаемый!..
Кассир шел и слушал словно в прострации. «Мы с отцом» — это были позавчерашние посетители «Дармополя». Спеванкевич уже понял, что юноша живой и настоящий, смысл его речи был тоже ясен, но сверхъестественным и непостижимым казалось ему одно обстоятельство: его собственное поведение в этом деле. Он ничему не дивился, ничего не страшился и шел, даже не спросив, куда ведет его незнакомец… Его занимало только продолжение этой истории, но о последствиях он не думал. Его доверие к юноше-провожатому лишь возрастало. Спеванкевича обезоружила его предупредительность, свидетельствующая о прекрасном воспитании. Отец, конечно, джентльмен с головы до пят. Да, но разве… Разве не ясно, что они — участники какой-то новой, третьей по счету банды? Ну и что из этого? То есть как «что из этого»? Так ведь они заманивают его в новую западню!
Спеванкевич наблюдал некоторое время за собой как бы со стороны, что случается во сне, пока мы не ощутим, что это сон. Сделав еще шагов тридцать, он бросил и это, лениво и бездумно отдался течению событий. Казалось, он таял в невыразимо приятном тепле… Было это похоже на легкую дремоту, какая предшествует полному забытью. По-видимому, непонятное молчание и апатия обеспокоили молодого человека. Он смолк и остановился.
— Послушайте… — сказал он, чуть понизив бархатный голос.
— Что? — встрепенулся кассир.
— Как вы к этому относитесь?.. Разрешите вам кое-что пояснить… Я понимаю, вы нас не знаете, и потому, разумеется, задумались… Может быть…
— Что вы, что вы!.. Мне очень нужен толковый совет, и я думаю, ваш достойный батюшка…
— Как раз к нему-то мы и идем! Разве б смел я иначе… Ведь я ж понимаю: рядом с вами я щенок… Какую могу я вам дать гарантию. Но папа…
Слова юноши лились без задержки, и голос дрожал от восторга. Они прибавили шагу и совершенно неожиданно для кассира очутились в Лешне, где-то на Кармелитской улице.
— Папа имеет честь просить вас на скромный ужин…
Известие об ужине приятно удивило Спеванкевича. Он был страшно голоден, но почувствовал это только сейчас, на пороге скромного ресторанчика. Вплывая в густую атмосферу вкусных запахов, исходивших от уставленной тарелками стойки, он ощутил слабость в ногах, неутолимую жажду и голод. Его провели через два крохотных зала, где за кружкой пива в сизом дыму коротали досуг второразрядные посетители, и как-то незаметно, через боковую дверь, препроводили в уютный светленький кабинетик. С дивана тотчас поднялся, приветствуя его, знакомый уже толстяк (тот самый, из «Дармополя»), похожий на владельца двух-трех одноконных пролеток, на хозяина угольного склада с окраины, на подрядчика, который мостит улицы и производит земляные работы — во взгляде благородство, независимость и самоуважение. Добродушно, по-старопольски, но без намека на непрошеную фамильярность, через стол, уже накрытый для ужина, он протянул кассиру обе руки.
— Пан кассир был так любезен… — начал молодой человек с прямодушной улыбкой, любуясь, как отец и гость здороваются друг с другом.
— Вот и хорошо! Очень хорошо! Слава богу, что вы решились. А то было похоже, что… Впрочем, неважно, чтоб их всех черти взяли… Мы, пан кассир, всю эту мразь вокруг пальца обведем да еще по рукам-ногам свяжем. Ха-ха-ха… А наше дельце — заранее вам скажу, — оно уже как бы обтяпано. Готово, и все тут. Рад оказанной чести… Договориться мы, конечно, договоримся, поскольку уже познакомились… Но о деле потом… Тадя, шевелись, мальчик, пусть подают! Ах, до чего же трудно порядочным людям встретиться друг с другом… Редко это, очень редко бывает, но зато если случится, человек начинает надеяться и верить! Разве нынче в Польше можно кому-нибудь верить? Всюду накипь, сброд… Ни чести, ни совести у людей, слова не держат, обманывают… У кого власть и сила, те мелкоте пример подают. Взять хотя бы наши банки! Вам это дело знакомо, но и я тоже кое в чем разбираюсь. Вот уж истинно воровской притон, да что я говорю: притон-крепость! В Польше на них управы нет, их закон защищает! Хоть я человек простой и философию не изучал — мой Тадя на втором курсе правоведения, а младший, Леонек, в шестом классе, ксендзом хочет быть, — но я, знаете ли, считаю, что у нас, людей труда и долга, такое же право на эти нечистым путем нажитые деньги, как у всякого порядочного гражданина. Общество имеет право воскликнуть: «Эй, отдавай — это наше!» Но раз оно молчит, разве мы допустим, чтоб зов его был гласом вопиющего в пустыне? Ни за что на свете! И вот, говорю я вам, должен сыскаться кто-то такой, кто об этом, если можно так выразиться, громко крикнет или, иначе сказать, для примера и для науки, не поленится протянуть руку с моральным, позвольте так выразиться, мандатом, а если еще удачно ухватится, да в пору что вытянет, — но во имя общества, я это подчеркиваю — так что из того? На здоровье! Вот вам моя честная философия и никакой другой мне не надо… Вам что, милостивый государь, сливовицы или чистой?
— Чистой, — поспешно отозвался кассир. Это было первое, что он произнес.
После ужина, который затянулся до двенадцати, оба пожелали проводить дорогого гостя до самого дома. Но кассир заметил, что сегодня, в канун великого дня, нужно соблюдать крайнюю осторожность, так как неизвестно, что затевают соперники. Оба согласились; с Мияновским-отцом Спеванкевич даже расцеловался. Кассир вышел из ресторанчика через заднюю дверь и, пройдя двор, очутился на темной пустынной улице. Лишь теперь, в одиночестве, он получил возможность спокойно поразмыслить над происходящим. Состояние нервного напряжения, больше того, какого-то внутреннего разлада, в котором он пребывал в начале встречи, исчезло после двух-трех рюмок. Совладав с собой, деловито и спокойно вошел он в свою трудную роль. В лице этих людей он обрел столь незаурядных и — взвесив хорошенько все обстоятельства общего их предприятия — прямо-таки неоценимых союзников, что едва ли не сразу они и решили все это дело, простое, впрочем, и ясное, когда ведешь разговор с такими людьми. Немного поторговались, что было, однако, неизбежно при всяком серьезном соглашении, но вполне пристойно, как коммерческие партнеры, и сошлись в конце концов на одной четверти от выручки — сумма, которая должна быть выплачена в пути, поскольку Мияновский-отец взял на себя обязательство проводить кассира до самой границы — «как же я пущу дорогого нашего друга прямо в лапы к таможенникам?» — и помочь ему, прибегнув к своим связям на той и на этой стороне — «ах, кем только бывать не приходилось, и агентом торгово-импортной фирмы Моеса и Лакса на границе…». Короче, успех был обеспечен. Сроком определили послезавтрашний день, двадцать четвертое июня, когда в кассу ожидается самый большой приток долларов. Завтра надлежало во что бы то ни стало проведать Аду, чтоб усыпить подозрения, а на случай, если та или другая банда спугнет ее из «Дармополя» или даже — что отнюдь не исключено — прикончит этот громила из Лодзи по кличке «Хип», Тадя хорошенько все наперед разузнает и сообщит ему прямо в банк в служебное время…
Откуда только такие люди берутся?.. Что за удача свела его с ними? Начни он один свое великое предприятие, он пропал бы, сгинул самым жалким образом, его расчленили бы на куски… Спеванкевич содрогнулся и тяжело застонал, увидев на мгновение как бы при вспышке молнии эту жуткую процедуру: производит ее Житко в квартире на Смочей, его окружает торжествующая орда бандитов, они делят над его трупом пачки долларов… Нет, нет, подумал кассир, содрогнувшись от ужасного видения, если б не Мияновские, в жизни бы он не решился. А раз не решился, значит, не расчленили бы, но чтоб тогда его ожидало? Из всего, что только можно придумать, самое страшное: ничего… Безысходность, отчаяние, заполняющие пустоту между банком и комнатушкой на Панской с видом на стену. Его охватила радость, счастье освобождения захлестнуло его, в душе росла благодарность опекунам, которых послало ему само небо, сжалившись над его мучениями. Не накинуть ли им чуть-чуть? Может быть, дать им третью часть, ведь одних только долларов будет больше двухсот тысяч… И тут впервые в нем заговорила жадность состоятельного человека, которой не ведает неимущий. Двадцать пять процентов… А ведь, пожалуй, достаточно? Достаточно, если не слишком…
По пустынной Панской улице промчался автомобиль. Это вывело кассира из задумчивости, он посмотрел вдаль, и куда-то пропала вдруг мрачность этой улицы; ее запустение и нищета больше не ужасали Спеванкевича, и знакомый пейзаж встал перед ним, овеянный странным очарованием… Ах, еще один-единственный день, а потом уже никогда-никогда не суждено ему видеть всего этого… Он забудет…
— Разве так можно?.. Кто ж это заставляет ждать ночью на улице порядочного человека? Где это вы шлялись? Я тут с полдесятого торчу… Мое почтение! Не узнали? Ха-ха-ха-ха…
Не узнать этого голоса! Ни у кого на свете нет такой шеи, таких рук, таких ног… Квазимодо из «Дармополя», этот позабытый начисто «орангутан» раскачивался перед ним на чудовищно коротких лапах. Положив с ужасающей фамильярностью ему на плечо свою ручищу, он гудел басом, чуть потускневшим от хрипотцы. Кассир ощетинился, как волк, почуявший врага. Проснулось мужество отчаяния. Он должен защитить себя, свое великое будущее. Должен держаться, ни за что на свете не позволит он втянуть себя в новую интригу! Любой ценой надо обмануть страшилище, выиграть один-единственный день!..
— Что вам угодно? — спросил кассир официальным тоном, сухо, но отнюдь не так решительно, как намеревался.
— Хорошо сказано. Люблю, когда сразу к делу. Сперва закурим — прошу вас… Американские — тоже от нашей рыжей приятельницы… — Квазимодо самым любезным образом дал ему прикурить. — Где мы теперь раздобудем папирос? Ада поссорилась с родственниками… Пришлось ей внезапно уехать. Точней, взяла ноги в руки и драпанула из «Дармополя», а там сидят другие гости, которых никто, впрочем, не звал. Так что и не пытайтесь случаем проверять эти печальные обстоятельства. Не советую совать туда нос. Аду можете не принимать во внимание, считайте, что ее как бы не бывало. Это для начала, а теперь слушайте внимательно, чтоб не повторять по два раза, ведь мы не бабы, а? И ничего не бойтесь, пока я рядом, волос с головы не упадет. Дело уже вроде решенное: вы берете свою долю, я свою, вы идете в свою сторону, я делаю то же самое, вот и конец истории. Честно и начистоту!
Кассир внутренне весь кипел. Что это значит? Допустить, чтоб первый встречный бандит тобой распоряжался? Да какое он имеет право? Что, собственно, происходит? К сожалению, он позволил себя остановить, он его слушает… Какого дьявола взял он у него папиросу, как последний идиот!.. Как вывернуться теперь? Сделать это трудно. В отчаянии кассир отметил про себя, что они прошли уже его дом и с каждым шагом приближаются к темному пустырю. Силы покидали его, приглушенное рокотание этого чудовища парализовало волю… Ах, где его друзья?! Почему он не позволил, чтоб они его проводили?!
Жег его стыд, мучила собственная слабость. Первый встречный ворюга творит с ним все что хочет… А что, если и те двое?.. Страшное подозрение ударило словно обухом по голове. Папочка и сынок! Ну разумеется! Этот темный мужик, а те двое благожелательные, благовоспитанные… И кассир содрогнулся, вспомнив обходительность Мияновских. Те б его выпотрошили! Развеялась последняя иллюзия. Спеванкевич наконец понял, что он одинок на свете, что окружен людоедами — все они стоят друг друга. Ничто его не спасет — суждена ему гибель! Запутают они его, застращают, и совершит он какую-нибудь ужасную глупость, им на благо, себе во вред, целому свету на посмеяние. Вот и сейчас он поставлен в самое дурацкое положение, ничего подобного нигде никогда не бывало. Что он делает? Идет себе прямо на бойню, как вол — нет, как последняя свинья…
— Ну что? Говорите же, откройте рот, а то ведь не знаешь, чего от вас ждать…
Кассир попробовал было заговорить, но голос ему отказал. Им овладел внезапно такой страх перед этим головорезом, что в голове помутилось. Спеванкевич затрепетал, как глупый беспомощный ребенок, — вот-вот расплачется, раскричится и будет кричать долго-долго, наверное, целый час, — никто его не сможет остановить, будет кричать благим матом, до самого утра… Боже мой… а ведь он правильно поступит, потому что этот негодяй испугается скандала и отвяжется, убежит. Разинув рот, Спеванкевич хватал воздух, но судорога в горле не дала произнести ни звука.
— Учтите, все может кончится толком и по-хорошему, как между порядочными людьми, но может быть и хуже, то есть для вас хуже — смекаете? Найдется управа на дурака… А если кто всех умней захочет быть, и на такого управа найдется. Дело должно быть сделано, слышите?!
«Орангутан» сунул руку Спеванкевичу под мышку и несколько раз его встряхнул. У кассира упала шляпа, а голова замоталась из стороны в сторону, но вот бандит его отпустил. Он позволил ему поднять с земли шляпу и минуту постоял, поджидая.
— Поглядите-ка на меня, — прогудел он с какой-то жуткой издевкой в голосе и снова подступил к кассиру, — поглядите и скажите, стоит ли такого человека, как я, морочить или, упаси Боже, шутки шутить? Ну?!
Ну разумеется, Геркулес, Самсон, великан… Но какие-то неведомые силы выпилили и вынули из туловища одно из самых больших его звеньев, все прочее склеили вместе и больше к нему не прикасались… Неудачная отливка титана, безобразно сплюснутого, вероятно, в силу погрешности в расчетах, из-за чего и нос покорежен и втиснут в правый глаз… Кассир, не в силах глядеть на чудовище, горько понурил голову.
— Значит, к делу. Завтра вы возьмете что полагается, сперва доллары и валюту, потом остальное. На углу Сенной и Зельной я буду ждать вас в автомобиле, я сам его поведу, чтоб вы в другое место не заехали, а перед банком, — чудовище обернулось и по его знаку рядом выросла черная тень, на которую и смотреть-то было страшно, — будет ждать мой товарищ… Покажись, Янтя, чтоб кассир сразу тебя узнал.
Спеванкевич взглянул — это был приличный на вид немолодой уже мужчина, он дружески ему улыбнулся. В лацкане серого летнего пиджака — алая гвоздичка.
— Завтра у меня будет та же шляпа и та же гвоздика. И ничего не бойтесь, это все для вашего же блага. А те здорово бы вас отделали!..
— Почему это завтра? Я совсем еще не готов, — произнес кассир, адресуясь к мужчине с гвоздикой — его он боялся меньше, чем Квазимодо.
— Раз завтра, значит, завтра! И никаких разговоров! — в хриплом голосе Квазимодо прозвучала угроза.
— Но ведь завтра, — со слезами в голосе возразил кассир, — деньги поступят еще не полностью, они будут, наверное, только послезавтра… Я конечно… только зачем брать пятьдесят тысяч, если можно взять полмиллиона?
Он завысил сумму сверх меры, чтоб ошарашить бандитов и выиграть время. Но едва он сказал это, как что-то вроде механизма, какие-то чудовищные тиски, схватили его, подняли и сдавили ребра так, что он ойкнул. Он висел и извивался в воздухе. Тиски, подрагивая, то разжимались слегка, то сжимались снова. Продолжалось это ужасно долго. Очень-очень долго…
Наконец он ощутил под ногами землю, но зашатался и, конечно, упал бы, не поддержи его человек с гвоздикой.
— Не надо спорить — сказано завтра, значит, завтра. Не сердите зря шефа, ему это вредно.
— Хорошо…
— Вот это я люблю, — отозвался Квазимодо, смягчаясь. — Сами увидите, для вашего же блага…
— Хорошо, — отозвался кассир, — хорошо… — Он с надеждой смотрел туда, где на перекрестке мерцал фонарь. Там на углу Твардой-постовой, а ночью даже двое. Он попросится к ним под защиту и обвинит обоих негодяев, Спеванкевич даже прибавил шагу. Но у тех и в мыслях не было идти дальше. Квазимодо грубо схватил его за руку и повернул обратно.
— Пора домой. Выспитесь хорошенько, завтра в это самое время будете богатым человеком.
— Да и мы вместе с вами кое-что заработаем.
— Все наша заслуга, вы б никогда на это не решились до самой… смерти. Человек вы солидный, порядочный, ничего не скажешь, а вот боитесь, надо вас подстегнуть маленько. Медвежатнице с вами просто было, баба — гвоздь, да только перемудрила, запуталась, лахудра, и черти ее слопали.
— А что с ней случилось? — вырвалось у Спеванкевича само собой, из любопытства.
Вместо ответа оба только расхохотались. Кассир съежился и вздохнул. Они были уже возле его дома, но стоило Спеванкевичу потянуться к звонку, «орангутан» так хватил его по руке, что та занемела от удара.
— А теперь, кассир, мое последнее слово, на прощание. Никаких штучек! Бояться можете сколько угодно, в штаны можете наложить, но дело должно быть сделано. Думать ничего не думайте, поступайте, как велят! А если вам блажь какая в голову придет, решите, там, заболеть и не ходить завтра в эту свою контору или пожелаете к лягавым пойти… стукнуть на нас…
— То есть если вы, уважаемый, в полицию на нас донесете, но такого между порядочными людьми не водится…
— Водится — не водится, все должно быть наперед оговорено и учтено, как у нотариуса бывает. Или, говорю, если вам что-то вдруг помешает или, там, покажется, что в кассе деньжонок маловато и вы завтра в полчетвертого из банка с пустыми руками выйдете, то смерть!!! Даже если в участке спрячетесь, даже если по улице не иначе как с десятком полицейских ходить будете, в землю зароетесь, как крот, все равно — от своей судьбы, говорю, не уйти!
Произнесено это было раздельно и торжественно и сопровождалось помахиванием толстого пальца перед самым носом Спеванкевича, словно разговор шел с провинившимся мальчишкой. Затем, обратившись к своему товарищу, уже совсем по-дружески, даже с какой-то теплотой, «шеф» сказал:
— Янтя, покажи кассиру щекотун, чтоб кассир знал, как это бывает…
Янтя чуть наклонился, и в руке у него заиграл темный широкий нож. Спеванкевич отскочил, а Янтя как бы нехотя провел пальцем по лезвию и страшный инструмент исторг тонюсенький звук, затем Янтя плотно обхватил рукоять и сделал короткий выпад, сверху вниз, наискось, помедлил долю секунды, повернул острие — отскочил и мгновенно спрятал нож за спину.
— Это, пан кассир, обычный мой способ — в брюшко. Я, видите ли, никогда не гонюсь за сердцем или там за легкими, потому как дело ненадежное — кости, ребра… Но если я у вас в брюшке пощекочу, никакой окулист вам уже не поможет.
На негнущихся ногах, как лунатик, прошел Спеванкевич ворота и первый двор. Открыл скрипучую дверь на лестницу, и та затворилась за ним сама собой, издав при этом, как обычно, неторопливый и продолжительный стон страдания. И тут кассир ослаб: забраться на пятый этаж показалось ему тем делом, какого ни за что на свете ему сегодня не совершить. Усталость валила с ног, хотелось скорей уснуть, забыться. Что бы ни было завтра — все равно спать, спать, спать… Только… Только кто поднимет его наверх?..
Он застонал, собираясь с силами. Наконец ухватился за перила и занес ногу на ступеньку. Отдохнул. В черной, как подземелье, пустоте лестницы в ответ на его стоны родился звук, похожий на эхо, но столь странный, что кассир, хоть и был не в себе, обратил на него внимание. Он остановился, прислушался — эхо шло откуда-то сверху — размеренное, неторопливое, явственное… Кассир притих и все замолкло, но вот одна из ступенек брякнула под ним, и эхо повторилось опять, как бы более убыстренное и громкое. Стараясь ступать как можно тише, Спеванкевич добрался наконец до второго этажа, остановился и звук послышался рядом — протяжная жалоба страдания…
— Кто здесь?! — храбро спросил Спеванкевич, обшаривая карманы в поисках коробка со спичками, но не успел он его достать, как почувствовал на себе чьи-то руки.
Спеванкевич вырвался; чиркнула спичка и тут же потухла, загашенная налетевшим сверху ветерком. Одно только мгновение Спеванкевичу был виден человек, сидевший скрючившись на лестнице. Это отвлекло его от собственных страданий, от черных мыслей, но понять что-либо, догадаться он еще не успел. И вдруг отвратительная вонь напомнила ему кого-то, что-то… И горькие мысли обрушились на него подобно лавине. Он вскрикнул в отчаянии, но это был уже звук просыпающейся ярости… Она росла, ширилась, упрямая, неистовая, и прежде чем он сам успел понять все до конца, прежде чем предположение обратилось в уверенность, в слепом бешенстве выбросил вперед правую ногу и пнул изо всех сил наугад в пространство.
Визг был такой внезапный, такой пронзительный, что на четвертом этаже проснулся старый пудель пана Стишикалевича, служащего городского магистрата, в которым супруга кассира вот уже несколько лет вел войну за чистоту на лестнице. Пес лаял глухо, с фанатическим упорством, где-то за десятыми дверями.
— Заткнись, не то убью, — сказал Спеванкевич «дядюшке».
Тот сразу умолк. Кассир схватился обеими руками за голову — он был близок к безумию. Росла в нем жажда мести, хотелось рассчитаться с кем-то за свои беды, горести и муки. За кошмарный сегодняшний день и за завтрашний, при мысли о котором он содрогнулся…
Сжав с такой силой кулак, что тот задеревенел, и дико размахнувшись, он ударил в темноту, в то самое место, где, по его расчетам, находилась голова сидевшего. Но удар пришелся в пустоту, и рука, пройдя далеко вперед, с хрустом врезалась в перила. И это удвоило его ярость, он кинулся наверх и между вторым и третьим этажом ощупью настиг противника. Он сплелся с ним, стал его душить, бить об стену, топтать и вдруг вместе с ним рухнул в провал. Упав, они покатились по лестнице, но Спеванкевич молотил кулаками вслепую, попадая то в лоб, то в край ступеньки, то в стену и наконец застучал, как в барабан, в двери доктора Коломонцкера на втором этаже, где они задержались в своем диком падении. Это отрезвило кассира. Он встал: ныл затылок, ломило колено, но сильней всего болела рука, ушибленная о перила. Пудель на четвертом этаже захлебывался лаем, кашляя и хрипя от старости. За дверями Коломонцкера послышался голос, суровый, сонный и вместе с тем испуганный.
— Что такое?!.. Что происходит? Кто там стучит?
Кассир стал спускаться потихоньку с лестницы и очутился наконец во дворе. Уже светало. «Дядюшка» одной рукой поправлял на голове тряпки, повязанные наподобие тюрбана, другой растирал себе бока, прихрамывая, крутился около Спеванкевича и стонал.
— Перестань стонать и говори, чего тебе надо! — Ярость прошла, зато пробудилось любопытство и появилась искорка надежды — вдруг что-нибудь да узнает… Вдруг можно еще за что-то ухватиться…
«Дядюшка» тяжело дышал, но стонать перестал, ню-видимому, он собирался с силами, и это означало, что он намерен сообщить нечто чрезвычайно важное.
— Ну?!
— Я тут с девяти жду… Ай, моя голова, моя голова…
— Черт с ней, с твоей головой! Говори!!!
— Плохо, очень плохо… Ой, гадость! Тьфу! Тьфу…
— Ну?!
— Холявое дело, холявое…
— Что?..
— Холявое!.. Там теперь бандиты, разбойники, медвежатники…
— А где Ада?
— Убежала, как была, с непокрытой головой, а если где поймали, то пристукнули, вот и весь разговор!
— Что ты там плетешь?
— А вы думаете?.. Вы вот ничего не знаете, а меня сегодня Хип целый час головой об стенку бил… Только за то, что в воротах встретил… Голова так болит, ай, так болит, что я скоро сумасшедший буду…
— Чего ж тебя сюда принесло?
— Я одну вещь знаю! Важную вещь! За одну такую вещь, пан кассир, вы мне еще десять тысяч прибавьте, только не дряни этой, злотых, а долларов — валюты, чистоганом…
— Да что ты знаешь?
— Я скажу… Для того и пришел, я тут ждал, такой больной, разбитый… Только дайте сперва залог…
— Залог?!
— Вы мне дадите паспорт, а завтра я получу от вас из ручки в ручку двадцать тысяч, тогда вы получите паспорт обратно и катите куда хотите.
— Паспорта не увидишь. Говори, не то ломаного гроша не дам.
— А вы знаете, сколько мне этот паспорт стоил? Две тысячи злотых, совестью клянусь!
— Будешь говорить или нет?
— Ай… Ай, моя голова… Вот я сейчас лягу и умру. Пан кассир…
— Ну?!
— Тогда дайте мне честное слово! Поклянитесь своей католической верой, святым крестом!
— Я тебе еще клясться буду, сукин сын…
— Тогда я ничего не скажу, пусть все пропадает.
— Ну и не надо… — Кассир повернулся и с деланным безразличием шагнул в ворота. Еврей — за ним.
— Ну что?..
— Вы мне десять тысяч обещали?
— Обещал.
— Это за паспорт. А за новость? За такую новость — даже десяти мало. За новость — пятнадцать. Честное слово! Соглашайтесь! Ну! Почему молчите? Вы не говорите, а мне говорить?
— Как хочешь. Не нужно мне твоей новости.
— Не нужно?! Жену вы свою обижаете, детей своих! Вам что, не надо быть богатым? Врете!
— Тихо, не кричи, пархатый, разбужу дворника, он тебя — в комиссариат.
«Дядюшка» угомонился, стал вздыхать, чесать в затылке, задумался. Спеванкевич посмотрел с гадливостью на этого человека в мятой, до невозможности заношенной одежде, жалкого, подлого, вонючего, посмотрел и отвел взгляд. Черные ярусы окон зловеще громоздились в первых проблесках утра. По двору сновали крысы. В подвале запищал ребенок. Спеванкевич поднял глаза на квадрат посветлевшего неба: там одиноко мерцала, переливалась угасающая звезда… Спеванкевич встрепенулся и быстрым шагом двинулся к лестнице. Еврей ухватил его сзади за полу, зашептал…
— Я скажу, вы ведь кассир, не вор какой-нибудь… Такой барин, такой шляхтич не украдет у бедного больного еврея двадцать пять тысяч? Если скажете, что не украдете, я на свой страх и риск поверю, потому что знаю — Господь Бог покарает вас за мою обиду…
Когда он засыпал, его преследовали одни и те же видения: назойливо и бесконечно, точно наклеенные на вращающуюся ленту, проходили они перед глазами — это был весь минувший день. В самом конце являлся «дядюшка», происходила схватка в темноте, слышался лай пуделя, тревожный голос доктора Коломонцкера и наконец «великая новость». Было это дико и кошмарно, но новость превосходила все. Еврей настаивал на том, чтоб «делать» завтра, завтра и завтра! Только завтра! Потому что завтра вечером, в девять, приезжает из Берлина директор, «тот молодой, которого зовут „Шкура“ — что означало „Згула“», — он забирает немедленно всю наличность, чтоб тут же бежать «через Гданьск» за границу. Потому что сам президент написал «государственную бумагу», и велел все деньги из банка — в казну, обоих директоров — за решетку, а банк опечатать. Но письмо президента главный министр получит не раньше чем послезавтра утром, потому что пап Кучкевич (это означало Кацикевич), главный сенатор по делам банка, дал денег «одному такому полковнику, который развозит по городу пакеты из Бельведера[13] на „модоцикеле“, полковник очень сильно свой „модоцикел“ испортил, ему будут чинить его всю ночь, и „Шкура“ успеет… Ой успеет, потому что полицейские из управления на Даниловичовской улице получили взятку и всем сыщикам тоже дали в лапу. Он успеет, но если мы с вами, пан кассир, будем готовы завтра к двум часам дня, то он никогда не успеет… Завтра, пан кассир, завтра»!!
Эта легенда, эта дурацкая небыль, родившаяся в компании евреев-валютчиков с черного рынка в каком-нибудь баре «Метрополь» на улице Новолипе или же в адском галдеже «Затишья» на Свентоерекой, безжалостно его преследовала, мучила так, что он в нее в конце концов поверил и сказал себе: «Завтра или никогда», тем более, что на завтрашний день у него был категорический приказ Квазимодо, подкрепленный «щекотуном» страшного Янти.
Завтра! Завтра!.. Но ведь завтра — оно уже наступило; это сегодня! Спеванкевич открыл глаза. В комнате, хотя окно выходило в стену, было светло. Кассир натянул на голову одеяло, свернулся калачиком и увидел полковника из Бельведера, который с роковым пакетом мчит на мотоцикле по Уяздовской аллее. Мотоцикл летит по воздуху, мотор трещит, как пулемет. А что — он человек честный, полковник! Он отказался от взятки — он успеет, успеет, успеет? Он его спасет.
IV
Он наблюдает, как в зеркальце, повешенном на шпингалет окна, кривляется и строит рожи его собственная, только что выбритая физиономия. Ничего забавного в этом нет. Рот то растягивается от уха до уха, то сжимается в рыльце. Брови подскакивают вверх, кожа на лбу собирается в толстые складки, на голове ходят взъерошенные волосы. Глаза дико вытаращены, рот — темный провал, усаженный щербатыми зубами. Ничего забавного… Физиономия неврастеника, который не в состоянии совладать с собой, лицо умалишенного. Хуже… это житейские невзгоды отражаются на челе страдальца. Так бывает в половине восьмого утpa, когда пора добираться в банк. Ужасный час! Отчаяние проклятье судьбы… И лицо успокаивается, застывает, делается непроницаемым, холодным — совершенная мумия. Чуточку дрогнуло напоследок…
Вялым взмахом руки, еще не проснувшись, он согнал со щеки назойливых мух. Открыл глаза, но нестерпимо яркий красный свет вынудил его закрыть их снова. Тихий шелест, баюкающий, успокоительный, точно невыразимо легкая пыль, пересыпался в ушах. Спеванкевич замурлыкал в истоме, вот только что-то немилосердно давит в спину…
Он торопливо приподнялся, сел на земле. Зеленая рожь, по которой волнами пробегал ветер, казалась чем-то удивительным. Он смотрел на нее, ничего не понимая. Солнце меж тем шло на запад, и тень от тернового куста сделалась длиннее. Ветер освежал потный лоб кассира точно старался помочь ему вспомнить нечто важное. Равнодушно, в рассеянности Спеванкевич взглянул направо, налево, словно ему стало вдруг чего-то недоставать… Но чего? Он стал озираться по сторонам… Ах, он пытался найти… пальмы!!! Но до пальм было еще далеко…
И это заставило его спуститься с небес на землю. Сны угасли, как свеча, которую задули, и несмотря на сияющее солнце, вокруг стало мрачно и темно.
— Так, так, тааак…
Немного поразмыслив, он понял: видов на будущее у него нет, что делать — неизвестно. Единственный логически обоснованный и надежный план разрушен глупейшими случайностями. Никакой другой этому плану в подметки не годится, значит, ничего путного в голову все равно не придет, — выходит, он погиб? Ни новых замыслов, ни желаний так и не появилось, даже страха он не испытывал — ничего не ощущал. Нелепо, будто шест, поторчал он с минуту среди ромашек, зевнул несколько раз и, как в самые благополучные свои времена, натянулся за папиросой. Сверхъестественная сила и непостижимое вдохновение, подхватившие его и занесшие сюда, на ржаное поле, внезапно исчезли, и он оказался во власти неведомых страшных событий, надвигающихся неотвратимо, подобно далекой грозе, которая отдавалась гулким эхом в пустоте его черепа. Мрачно и сосредоточенно разглядывал он свой портфель, а потом подумал, не лучше ли бросить его в рожь, пусть там полежит. Нет, тут же возразил он самому себе, это уж совсем глупо. Но что же все-таки с ним делать? Он глянул на разостланное на земле пальто и подивился его большим пуговицам — таких он еще не видел… Да и пальто незнакомое, это не его пальто, чье же оно тогда? Такого во всем банке ни у кого не было…
Спеванкевич нагнулся и стал с подозрением его осматривать. Под воротником фирменный знак с красной вышивкой: «Братья Яблковские»… И перед его глазами встало сразу такое количество летних пальто-регланов, что их хватило бы на целую Варшаву. Да, да, он сам его купил!.. Потом ему представился двор того дома, где помещается банк… Он прошел через боковой проход во дворе — на улице его, несомненно, караулил Янтя. Трагический еврей с ребенком на руках торчал уже в окне «Дешевполя» и мгновенно расшифровал его своим безжизненным неподвижным взглядом. Ступая точно по раскаленным углям, затаив дыхание, скользнул он как тень под окнами «Дармополя», не посмел даже украдкой взглянуть… Дальше — в уличной толпе тень «дядюшки», и тотчас появился лимузин, «дядюшку» очевидно только и ждали, его втихую ударили кулаком между глаз и он осел у подножки… Улицы, улицы, улицы… Суматоха, давка, скопище машин и экипажей, полицейские, бюро «Орбиса»; хорошенькая кассирша, первый класс до Кракова, «Братья Яблковские»! Снова хорошенькая девушка в кассе, Хмельная улица, Главный вокзал… Жарко, душно… Проверка билетов. Тут «дядюшка» хватает его за полу нового пальто. Лоб у него в сизых синяках и шишках, он без шапки, в поту, без дыхания, без голоса и — о счастье! — без билета! Его останавливают и не пускают — толпа, страх, бравые контролеры, крики отчаяния — все остается позади, стихает, теряется без следа.
Ладно. Так. И все же… Как до этого дошло? Как все эго могло случиться?! Неправдоподобие, безумие, нелепость того, что совершилось, росли, росли и выросли в некое чудовищное нагромождение событий, заслонили собой весь мир, все, вплоть до этих розовых тучек на небе.
Спеванкевич раскинул тощие руки, задрал голову и, разинув рот, вытаращив глаза, замер в поле, как пугало, как погрузившийся в нирвану факир, готовый простоять без движения целую вечность.
Но внезапно руки опустились, голова поникла. Спеванкевич пришел в себя и попытался своим слабым умом взвесить безмерное бремя событий. Он знал: никто ему не поможет, даже Господь Бог, если он вообще существует и исполняет роль опекуна неудачников. Воистину, не случалось еще на свете более неудачливого человека, но человек этот был в то же время достойным внимания растратчиком и вместе с тем — можно ли выразиться иначе? — крупным вором. Провидение, этот могущественный источник бодрости и поддержки, не проявит ли оно к нему интереса или, наоборот, примется опекать банк «Детполь», кто знает, может, этим оно сейчас уже и занимается. В лучшем случае будет, пожалуй, соблюдать нейтралитет…
Боже, и как он мог забыть?!
К его бесчисленным бедам прибавилось еще и это несчастье, ко всем страхам еще и этот страх, верней, много новых страхов, подступивших к нему со всех сторон… Да, банк и полиция начнут искать его не раньше чем с завтрашнего утра, но те… Те уже знают!
Голова шла кругом, стоило подумать, какие неожиданности подкарауливают его, какие стечения обстоятельств ему угрожают. Услужливое воображение Спеванкевича подсовывало бандитам верные и простые способы выследить его, заманить в ловушку и схватить. Рос и развивался миф о гениальной изощренности, о могуществе тайных воровских союзов. Между ними была вражда, шла кровавая борьба за добычу, но теперь, когда добыча ускользнула, они объединят свои усилия и пустятся в погоню… Если только «дядюшка» не сдох от отчаяния на Главном вокзале, схваченный за барьером контролерами, то беспокойно снующий перед банком Янтя знает уже все. Знает также и неизвестная, пока еще загадочная банда, захватившая «Дармополь». Знает Квазимодо, поджидающий в автомобиле на углу Зельной, он изрыгает ужасные проклятия, грохочет мотор его автомобиля, и он устремляется в погоню. Доходит весть и до Мияновских, отца и сына, джентльмены не на шутку оскорблены, они понимают, что партнер нарушил договор и, превозмогая отвращение, демонстративно вступают в союз с прочей швалью и предоставляют к ее услугам свой интеллект, а также связи в высших сферах. Последней узнает обо всем Ада, не в силах совладать с чувствами, она тут же мирится с Хипом и со всеми остальными своими смертельными врагами, которые захватили ее лавчонку, и € женским коварством руководят операцией. Разумеется, пограничная станция в Снятыне будет взята под контроль прежде, чем он успеет туда добраться… Остается только Германия… Не теряя ни минуты, надо мчаться на Торунь или на Збоншинь, шока бандиты не успели еще перекрыть эти направления. Разумеется, они считают его полным невеждой во всем, что касается деликатных воровских проблем и редким трусом, что, впрочем он нм уже доказал. Все помчатся в Снятынь, ни на минуту не допуская, что он, неопытный фраер, решился действовать по самостоятельному плану.
Спеванкевич собрал впопыхах вещи, перебросил через плечо пальто, взял под мышку портфель, глянул на часы — десять минут шестого — и двинулся по меже, рассчитывая, что вскоре найдет дорогу на Блоне. В Лович он должен успеть еще до девяти, от Блоне до Ловича кто-нибудь подвезет его на машине, а там он дождется скорого Варшава — Берлин. Кассир бодро устремился вперед, спелые колосья, как-бы подгоняя, хлестали его по лицу. Он в полную меру ощущал свою свободу, свое мужество, к тому же рожь надежно скрывала его от посторонних глаз. Но она вскоре кончилась, перед ним простирались ровные оголенные ноля, без деревца, без кустика. Хилая картофельная ботва едва вылезала из потрескавшейся от зноя земли, рожь была лишь подобием ржи и терялась в море маков и васильков, яровые совсем зачахли, кое-где виднелся тощий, припорошенный пылью-люпин, по заросшим травой пашням бродило две-три коровы. Несмотря на погожий солнечный вечер, здесь царила скука и печаль, — это ощущение усиливал еще жаворонок, который носился взад и вперед над пустынными полями. Направо, на линии горизонта, торчали мелкие сосенки небольшой рощицы, километрах в двух темнело несколько хат, затерянных в этом безлюдье. Спеванкевич вздохнул и, не найдя ни дороги, ни тропки, двинулся к хатам, как принято у варшавян, — прямиком, по этим погибающим в оскудении полям. «Блоне, Блоне… Как бы тут не заблудиться… И спросить-то не у кого, а впрочем, лучше не спрашивать…»
Блоне, местечко более чем безвестное, оно не пробуждало в нем добрых чувств, да и в самом названии было нечто неприятное, но как быть, выбора нету. Спеванкевич остановился и задумался над чем-то, что секунду назад промелькнуло в голове, да так стремительно, что он ничего не понял. Что это было? Во всяком случае, что-то чрезвычайно неприятное. А, черт побери… Опять летит издалека, невидимое, мерзкое, ближе, ближе… Вот оно!
Он бросил пальто, портфель, стал неистово рыться в карманах. Искал бестолково, в спешке, наконец развернул мятую бумажонку, жадно, с поспешностью принялся читать. Буквы плясали перед глазами, бумажка подпрыгивала, дрожи в руках было не унять. Забыть про такую вещь! Что ж это с ним происходит? Что, если он забыл о чем-то еще, о чем-то очень важном, неизмеримо более важном?
Может, именно сейчас, в эту минуту, отыскивая дорогу в это проклятое Блоне, он идет, как слепец, на верную гибель? Он стал припоминать по порядку все события дня, даже пересчитывать их по пальцам, но стоило ему дойти до того момента, когда, захлопнув окошечко кассы, он вывесил табличку с надписью «Закрыто», как дальнейшее терялось во мраке. Кто побудил его к действию, ведь в мозгу крепко сидела решение лучше погибнуть под ножом Янти, чем взять из кассы хотя бы доллар? Кто его соблазнил? Кто велел? Кто помог в этом страшном деле?
Он думал и думал над этой жуткой тайной, пока упрямо сомкнувшийся мрак не расступился и оттуда не начали осторожно выползать смутные человеческие фигуры, пока не всплыли обрывки мыслей без начала и конца, бессвязный тревожный говор, странные слова… Спеванкевич стал приходить в себя — это были те самые сны, которые снились ему только что, за какую-нибудь минуту до пробуждения.
«…Еще два совета…»
Страх не позволил читать дальше. Лучше ничего не знать, бросить записку, порвать в клочки, пустить по ветру. Забыть о ней ах, забыть!.. Зачем, в самом деле, он тащится сейчас в Блоне? Почему именно в Блоне? A ну как именно там его ждут Квазимодо с Янтей? Незнакомец в вагоне походил скорее на агента Ады. Почему?.. Ну, просто такой вид… Почему, впрочем, на агента Ады? По какому признаку можно это определить?..
Нет. Это одна из конкурирующих банд послала за ним вдогонку своего соглядатая. Можно ли предположить, что они позволят ему скрыться с деньгами? Но этот тип предал своих товарищей и готов разделить с ним добычу, о чем его и предупреждает. Он направил его по быдгощской линии, сам, конечно, поехал следом. Наконец Спеванкевич стал что-то понимать. В вагоне, само собой разумеется, должен был находиться еще один человек из той же банды, потому что этот тип сунул записку ему украдкой и даже написал ее печатными буквами. Чтоб не оставлять доказательств… «Радионаблюдение» же, в свою очередь, говорит о том, что он просто хочет замести следы… Это было слишком очевидно… Проклятая судьба! Когда только вырвется он из лап бандитов?
«…Еще два совета: дорогу тебе укажет твоя собственная тень, следи за ней, чтоб она все время была рядом с тобой с правой стороны!»
Тень находилась прямо перед ним. Он повернулся к ней правым боком, сориентировался, да, но в таком случае он вновь вернется к венской железной дороге, откуда только что пришел. Что ж это за «совет»?
«…а если не будешь знать, как поступить, если усомнишься в великой цели, если почувствуешь тревогу и одиночество в полях, уйди в себя и повторяй эти три святых слова: „Азазамон! Эрийонас! Бальба!“ (из них „Бальба“ — самое сильное и самое святое)».
Нет… Вовсе это не банда, просто какой-то теософ, мистик, ясновидец… Почувствовал, по-видимому, в вагоне, что от Спеванкевича исходит магнетическая сила… Ощутил вихрь его забот и решил помочь незнакомцу как ближний ближнему, как велит ему его тайный орден. Но честный малый не разобрался, кому он помогает в беде… Тоже мне ясновидец… Не стал бы он помогать растратчику или, попросту говоря, вору. Мистики больше, пожалуй, на стороне банков… Тень… Святые слова… Нет времени, чтоб хорошенько осмыслить все премудрости магии, но даже если всерьез в них поверить, сомнительно, чтоб это принесло его нечистой душе успокоение. И вдруг перед ним встали добрые, до странности красивые глаза этого одухотворенного уродца… Ах, даже ангел — а о человеке и говорить не приходится — не посоветует ему ничего другого, как смиренно и без оговорок отдать шайке похищенное, иначе говоря, вернуть в банк приобретенные путем грязных спекуляций деньги да еще попросить у банкиров-преступников прощение…
Ну нет! Не для того мучился он всю жизнь, чтоб, решившись после внутренней борьбы на великий шаг, преодолев страх и опасность, перехитрив и одурачив свирепых убийц и бандитов, отправиться теперь в Каноссу или, зная нравы своей шайки, попросту говоря, в тюрьму.
Как же, держи карман шире! Уж лучше смерть от собственной руки, лучше яд и петля, чем унизиться перед судьбой, вернуться к прежней жизни!
Наконец-то он ощутил в себе мужество. Впервые в жизни почувствовал к себе уважение. Должна же была наступить эта минута!
Он увидел теперь свое положение со всей ясностью и дал ему оценку разумно, трезво — так, как делал тогда, когда обдумывал свои фантастические фильмы и романы. Что остается герою романа в его положении?
Не терять ясности мысли. Не забивать голову пустыми бреднями. Жизнь до смешного проста. Разве не прорвался он сквозь цепь бандитской облавы? Это ж решительная победа! Он, дилетант, начинающий, так сказать, правонарушитель, одурачил бывалых, матерых преступников. Теперь мир ему открыт, и, если Снятынь под наблюдением, он двинется на запад, на свою великую немецкую родину, где затеряется без следа, где, живя в комфорте и покое, дождется той минуты, когда можно будет делать все, что ему заблагорассудится. Там, в тишине Шварцвальда, в Саксонской Швейцарии, скорее всего где-то в горах юга, на берегу озера, он будет спокойно, без спешки, строить мудрый план жизни. А прежние его мечты, которые плодились, больные и бессчетные, без солнца и воздуха, под облупленной стеной Панской улицы, эти пустые бредни пора отправить на, свалку прошлого. Все начнется сначала. Опираясь на могущество денег, в безбрежности свободы сами собой родятся небывалые помыслы и желания — это будут сущие чудеса! Придет еще та пора, когда исчезнут последние воспоминания, не будет даже следа былой жизни. А теперь отдохни, измученная душа! Возрадуйся великой радостью в час освобождения!
Он замер посреди пустынного поля, и жалкий пейзаж варшавского пригорода начал подрагивать, ходить волнами и переливаться, земля оделась пестрейшим ковром живых красок, на горизонте вырос мощной стеной непроницаемый бор, над головой возникло вспененное облако неизъяснимой формы, все из пламени и из золота, было оно как гимн счастью. И пока он на него смотрел, исчезала скверна старых воспоминаний. Вернулась молодость, и распахнулась перед ним жизнь, безбрежная, как море. Он приветствовал свои новые дни, бесчисленные, неизведанные, непознанные. Снедало его любопытство, что с ним будет теперь, что случится, куда понесет его буйство фантазии. Нет для него предела, нет невозможного! Рассеется неслыханная его жизнь по морям и материкам; в благородных деяниях, в удивительных приключениях обретет он неизвестных друзей, сторонников, поклонников, и не устоит перед ним ни одна женщина…
Увлеченный своим фантастическим вымыслом, он пребывал уже вне времени и пространства. Засмотревшись на свое облако, он поплыл на нем в великолепии триумфа, на головокружительной высоте, прямо к солнцу. В нем тихо звучала какая-то хорошо знакомая симфония, но только сейчас сумел он постичь размах сочинения и уловил отдельные его темы. Крепчал теплый западный ветер, в своем разбеге по полям он нес миру ангельские, дьявольские, дантовские соловьиные мелодии… Хватающие за душу стоны скрипок, пафос виолончелей, страстность кларнетов, призрачность валторн, ужас труб, барабанов и литавр проносились сквозь его душу, точно кипучий поток. Его охватил восторг. Впервые в жизни проник он в тайну музыки, словно это было звучание живых слов. Он видел ее в хаосе светлых картин, раскинутых в лазури небес.
Он ощущал ее в себе как открытие извечной и вместе с тем лишь одному ему предназначенной истины, той, с которой он родился на свет, но которой до этого часа еще не постиг. И лишь подвиг, освободивший его, вызвал к жизни все то, что рабски томилось, будто в подземелье, в жестокой и подлой судьбе кассира Спеванкевича. Симфония приближалась к апогею — он понял это. Дирижер, согбенный, притаившийся за пюпитром, усмиряет инструменты взмахами рук, похищает лукавством взгляда один за другим, выискивает последний, который негромко, но уверенно, не теряя мощи, ведет свою партию — это контрабас, он словно нисходит в темную бездну, все ниже и ниже, все глуше и глуше… И дирижер распластывается на нотах, исчезает под пюпитром и тает, тает…
Затем вдруг вырастает над головами оркестра, огромный, с раскинутыми руками, в экстазе, всемогущий. В небеса ударяет мощный взрыв — фортиссимо всех инструментов, и, словно гром, перекатываются в пространстве аккорды силы, триумфа и славы — гимн новой жизни…
Хилая сухонькая личинка превратилась в хрупкого мотылька, он трепещет переливчатыми крылышками, неумело порхая с травинки на травинку, а ветер поворачивает его, относит… Но мотылек растет! Сильней становятся крылья, ловят ветер, стремятся ввысь. В воздухе реют радужные, огненные, сумрачные краски. Яркие и нежные одновременно, они предстают взгляду, как стоцветный витраж, просвеченный солнцем. Поднимаясь ввысь, видение продолжает расти, заслоняет небесную синеву, солнце и разбрасывает по земле пестрые отблески вперемежку с тенями, оживляет и преображает мир. И вот раскидываются изменчивым облаком в зените крылья и повисает над миром, как откровение, чудо-бабочка — симфония гремит и неистовствует…
Долго стоял он, боясь пошевелиться, не в состоянии охватить умом всей безмерности перемены. Каждому необходимо время, чтобы поверить в чудо, тем более если чудо совершается в тебе самом. Но Спеванкевич и на этот раз перехватил. Давно уже ушли оркестранты, от его бабочки не осталось и следа, а он все еще не мог прийти в себя от восторга. Забылся…
Так засмотрелся в бирюзовую пучину, в которой за бортом его ладьи совершалась мистерия морских глубин, что не мог уже оторваться. В застывшем лесу кораллов покачивались темные водоросли, поблескивали, таинственно отзываясь с далекого дна, рассыпанные там и сям, похожие на затопленные сокровища, раковины, временами, иногда ближе к поверхности, иногда в толще вод, скользила большая рыбина, то лениво извиваясь, то пропадая из глаз, расплывчатая в очертаниях, словно призрак бездны… Когда он наконец поднял голову, черная тень, простираясь от каменных уступов гор, легла на' лагуну. Ушедшее за гребень скал заходящее солнце широкой кистью рисовало в небе свои картины, сумерки опускались на водную гладь и гасили пестрые, словно павлиний хвост, краски, синеву и лазурь, вот потемнели пальмы на подветренной стороне, простор океана стал серым и слился с горизонтом. Там, в отдалении, в трех днях пути, лежит остров Атауту, а в четырех днях за ним — Сото. А еще дальше, после недельного перехода, можно, говорят, сесть на четырехтрубный пароход и отправиться давним путем на северо-запад, чтоб месяца через полтора ступить на ту землю, которая встает из океана, как странная и загадочная легенда о далеком пращуре, как видение детских снов, как олицетворение старины… Там, где лагуна граничит с морем, на узкой прибрежной косе чернеют окна бунгало — это его дом и его мир! В тени веранды белая фигурка: женщина стоит и смотрит в его сторону — о наслажденье… О радость!..
Чудеса, однако, столь быстро не совершаются. Придя внезапно в себя, Спеванкевич менее чем за секунду обыкновенного человеческого времени преодолел неизмеримые пространства океанов и материков и очутился там, где был. Иного не приходилось и ждать, потому что полицейский с карабином мог подойти по зеленой глади лагуны вплотную к его ладье, чего нельзя было допустить. Акробатический прыжок в действительность, трюк, которым Спеванкевич в совершенстве владел, повергал его обычно в крайнюю депрессию, иногда в отчаяние — вот и сейчас со своего таинственного атолла у антиподов он угодил в трясину отчаянного страха. Ну разумеется, полицейский идет сам по себе, он совершает обход, полицейский не имеет о нем ни малейшего представления, даже не видит его, он отнюдь не намерен его задерживать, это ясно… Чего ж опасаться? Но от человека, чей портфель лопается от ворованных долларов, а карманы набиты банкнотами, от человека, удирающего со всем этим богатством, трудно требовать рассудительности, трудно ждать, что он сохранит спокойствие, встретив в поле вооруженного полицейского. Кассиру, собственно, и встреча-то не грозила: полицейский шел наискось, по тропинке, которая вела к станции. Но Спеванкевич даже вспотел от усилия, сдерживая себя, чтоб не обратиться в бегство, глупейшее, чреватое худшими последствиями. Едва он овладел собой, как пришлось побороть в себе новое, столь же глупое желание: подойти к блюстителю порядка, спросить о чем придется, о каком-нибудь пустяке, угостить папиросой — одним словом, показать всем своим видом, что он честный и мирный гражданин, которому нечего таить от властей… Наконец, оторвав с трудом взгляд от полицейского, глядя в землю, ежесекундно меняясь в лице, моля в душе Бога, чтоб тот ниспослал ему сил и позволил удалиться не оборачиваясь, Спеванкевич побрел по рядам молодой картошки. Он с ужасом ждал: вот-вот прозвучит властный окрик: «Стой!»
Какие-нибудь триста шагов его вконец утомили, отняли все силы, он покачнулся, споткнулся на междурядье, запутался в картофельной ботве и остановился. Идти дальше он не мог, не мог больше вынести неизвестности. Он должен обернуться… «Не оборачивайся, — прошептал ему кто-то в самое ухо, — полицейский наблюдает за тобой! Иди, иди, ради всего святого, иди, в эту минуту решается все!..» И он потащился дальше, портфель сам собой выскальзывал из рук, тяжелый, точно наполненный свинцом. Попадись ему полоска, засеянная рожью, он не раздумывая бросил бы там свой страшный груз, скрыл следы преступления — тогда б он пришел в себя, отдохнул, переждал опасность. Как только полицейский уйдет, он вернется за портфелем… Но кругом пусто и голо. Безжалостная равнина обступила его, она сулила ему гибель, отнимала способность мыслить, наполняла сердце неизъяснимой жутью. Он должен бежать, а вместо этого еле тащится. Он закрыл глаза и стало легче, но земля тотчас задвигалась под ним, вздымаясь пологими волнами, которые накатывали медленно, постепенно, одна за другой. Он все выше поднимал ноги, нащупывая дорогу, и шел, шел вперед. Чувствовал, что в любую минуту может упасть, и тогда наступит конец, но он все-таки шел, истерзанный страданием, стараясь во что бы то ни стало устоять на ногах и… совсем забыл про полицейского. Вдруг он куда-то провалился… Все. Спеванкевич открыл глаза: он сидит в канаве, поросшей желтыми цветами, перед ним ровная полевая дорожка. Не успел он прийти в себя, как безошибочный инстинкт остерег его; это было словно укол иглой, кассир даже вздрогнул. Оторопев от страха, он не смел взглянуть ни направо, ни налево. Точней налево, потому что именно оттуда приближался полицейский. Не надо было и глядеть, он ощущал: враг надвигается. Тотчас родилась тысяча замыслов, тысяча хитроумных комедий, одну из них, самую подходящую, следовало ни секунды не медля разыграть. Все зависит от поведения противника, от его слова. Нет! Лучше навязать ему свою тактику, заговорить первым, держать наготове папиросы — это очень существенно! Папироса создаст настроение, папироса породнит и побратает… Он приближается, свернул, да, свернул… О проклятие! Идет, идет…
— Хочу у вас спросить… Ищу, знаете ли, в Брвинуве из знакомых, они отправились на пикничок, сегодня, знаете ли, Ванды… Но я опоздал, а дома дура кухарка ничего толком не объяснила… Вы не видали их в том лесочке?… Может, закурим? Пожалуйста!..
Портфель у него битком набит коробками с шоколадными конфетами, оттого такой тяжелый, а пошатывало его, потому что устал… Этакая жарища… А раз он варшавянин, значит, ходить по полям не привык. Вот и все.
А что, если полицейский, который знает тут всех наперечет, спросит у него, к кому он пожаловал? А что, если он заметит у него в лице что-то необычное? Наверняка заметит, потому что выглядит он теперь ужасно… А что, если он задаст ему какой-нибудь неожиданный вопрос? Может быть, это способный, проницательный полицейский… а если тупой служака, тогда тем более… Такой человек, как Спеванкевич, встреченный посреди поля, наверняка вызовет подозрение… В том-то и состоит должность полицейского, чтоб подозревать всех и вся, за это ему и платят… Шагов своего врага Спеванкевич не слышал — дорога была покрыта толстым слоем пыли, но страшная тень пала па него, и рассудок помутился. В отчаянии он взглянул на портфель, тот лежал на траве, не было даже времени, чтоб накрыть его полой пальто: один из углов портфеля упирался в серую кротовину. «Ах, есть ли большее счастье, чем быть кротом?!» — подумал Спеванкевич чуть не плача: он уже не боролся, он капитулировал — будь, что будет… В последний момент машинальное движение — папиросы… Поспешней, чем было необходимо, выхватил он из кармана пачку «Лаки страйк» и вместе с ней вывалилась скомканная бумажонка — предостережение путешествующего мистика, магические слова. В памяти не сохранилось ничего! Он развернул записку, стал искать — полицейский меж тем поравнялся со Спеванкевичем, и тот, не поднимая глаз, глухим загробным голосом, впрочем, не слишком громко, произнес, согласно ритуалу, страшные слова заклятья:
— Азазамон! Эрийонас! Бальба!..
После чего зажмурился и стал ждать с верой отчаяния — враг безмолвствовал. Тогда, позабыв обо всем на свете, он принялся повторять самое могущественное слово:
— Бальба! Бальба! Бальба! Бальба!..
Полицейский — ни звука. Спеванкевич закрыл лицо руками. Конец… В безмерной пучине несчастья он ощутил нечто вроде облегчения смерти. Готовый ко всему, ни дать ни взять покойник в гробу, приоткрыл набрякшие веки…
Чудо!!!
И тогда он вскочил со смертного одра. Посмотрел направо — никого! Налево — ничего! Магическое слово уничтожило врага — он исчез. Что же с ним случилось?
Ничего. Просто-напросто пошел своей дорогой, не обратив на Спеванкевича внимания, а может, и близкого не подходил… А может… может его вообще не было? Недолго длилось неистовство радости, секунду, пожалуй, меньше. Он понял: ему не справиться… Столько опасностей подстерегает его в пути! Отважится ли он пересечь границу? Как бросит он вызов двум кордонам таможенников — сперва польских, потом немецких, когда и те и другие так падки на доллары? Как это он, весь начиненный, нафаршированный деньгами, не привлечет к себе внимания странной полнотой при худом, как у мумии, лице и тонюсеньких палочках-ножках? Он ощутил на себе хищные испытующие взгляды таможенников и затрясся. Да и что толковать о таможенниках, если первый встречный олух полицейский нагнал на него такого страху под Брвинувым, что он понаделал ошибок, из-за которых теперь запутается и может погибнуть… Хватит иллюзий! Конец великой эпопее кассира Спеванкевича!
Он двинулся по тропинке, туда, где виднелись обсаженные деревьями дома. Это была деревня с усадьбой, опоясанная широким полукругом леса. Ему очень хотелось свернуть в сосновую рощицу, расположенную шагах в трехстах от дороги. Поваляться в тени да отдохнуть. Теперь некуда спешить, время есть. Но с опушки, где мелькали, сходясь группками, белые фигуры, долетало пронзительное девичье пение, смех, а в глубине леса звучала даже труба. Это был праздник в честь местных Ванд. Спеванкевичу хотелось покоя и одиночества, но и пустынная дорога была ему в тягость. Ах, если б кто-то взял его вдруг отсюда… И он принялся мечтать о своей конуре с видом на стену, затосковал по подлинному Спеванкевичу, тому самому, который, развалившись на кушетке, любуется пыльным бюстом Сенеки. Здесь он чужой самому себе, другой, здесь он сам себе страшен, здесь он ни за что не ручается. Кто знает, что он еще натворит?
Поражение стало реальностью. Сегодня же вечером он переступит порог своего жалкого дома, а завтра вернется все его прошлое. Ничто его уже не пугало, он был спокоен. Но и этот покой таил в себе неожиданности: что, если вдруг появятся какие-нибудь нелепые соблазны или обступят его со всех сторон им же самим вызванные призраки? Тогда он увязнет в новых сложностях, и это в его-то теперешнем положении, которое наконец прояснилось… Наперекор всему миру и прежде всего назло самому себе он всегда должен совершить какую-то глупость… Что-то удивительное, несуразное… Да, но зачем? Для чего? А просто так, ни для чего, из чувства противоречия, не может же остаться все так, как есть…
Это было как бы безудержное желание мести. Временами оно доходило до умопомрачения, до неистовства. Великое счастье, что никто не попался ему на дороге: как знать, не выложил ли бы он первому же встречному — мужику, еврею, бабе, железнодорожнику, полицейскому, дачнику — всю правду о себе, о том, кто он таков и что натворил? И не подарил ли бы несколько пачек стодолларовых банкнотов? И не набросился ли бы в конце концов на собеседника в припадке ярости? Спеванкевич поспешил к домам в туманной надежде, что там наконец что-то решится. Бешенство искало выхода, успокоения, росло и увеличивалось с каждым шагом, и все оттого, что не на ком — и даже не на чем — было сорвать злобу. А так хотелось учинить скандал, избить кого-нибудь, растоптать, разбить что-то вдребезги, надругаться… Ах, встретить бы сейчас компанию дачников на прогулке… Барышни, дети, юноши, мамаши и папаши… Содеял бы он перед ними какую-нибудь фантастическую сумасшедшую мерзость — пусть его изругают, пусть прибьют, пусть… Это сулило неизъяснимое облегчение. Было даже необходимостью — пусть бьют, сколько влезет, он и защищаться не станет, он им поддастся, а потом еще поблагодарит от всего сердца. Как иначе отомстить себе? Бить себя кулаком по физиономии или нарвать крапивы и так нажечь щеки, чтоб болело и палило до утра?
Это была наиболее опасная форма безумия, угрожающая губительными последствиями, направленная против него самого. Спеванкевич давно презирал себя и свыкся с этим, но ни разу за свою нелегкую жизнь не испытал он еще такой ненависти к собственной особе. Он готов был раздвоиться, он жаждал, чтоб из него выделилось как бы отдельное существо, на которое можно обрушить самые жестокие удары. Но за что? За что?.. А за все! Но главным образом за то, что он обнаружил в себе только сейчас. Было это столь бесспорно, что он согласился со своим открытием и немедленно, и без уверток. Но если человек способен на такие подлости по отношению к самому себе, то разве можно жить на свете? Если он способен, как последний провокатор, предательски лукавя, столкнуть себя в бездонную пропасть, в болото, в зловонную яму, то… то…
Да, именно так! Когда сегодня в половине четвертого он запихивал в портфель триста семнадцать тысяч долларов, он знал, отлично знал, что сам себе морочит голову и что ничего из этого не получится. Знал, когда метался по городу, знал, когда уезжал из Варшавы, что сегодня же вечером вернется домой, а завтра утром все деньги, все, до последнего гроша, окажутся в кассе. Разыгрывая комедию тысячи переживаний и тысячи ужасов, он делал это так блистательно, что провел самого себя, перворазрядного психолога-наблюдателя и аналитика. Не найти таких бранных слов, насмешек, не сыскать жесткого наказания, чтоб покарать его за то, что случилось. Разве что смех… Смех ужасный, неудержимый, дикий, дьявольский, смертоносный! И Спеванкевич расплакался.
Плакал он тихо, но в нем нарастал крик отчаяния, который силился выбиться наружу. Кассир его сдерживал и подавлял, как только мог. И неожиданно, улучив минуту, крик прорвался: пронзительный, душераздирающий, он расколол тишину, разнесся и наполнил собой окрестности. Это был ужасный, дикий, нечеловеческий рев, настолько передавал в своих переливах он его внутреннюю муку, что Спеванкевич застыл в удивлении и прислушался. Кто это так кричит? Будь у него достаточно сил, дай он себе волю, он бы кричал имение так, не иначе.
С тем он и приблизился к хатам невзрачной деревушки. Девочка, пасшая корову в придорожной канаве, сообщила ему, что он находится в Отрембусах. Название это показалось ему очень странным, пожалуй, даже подозрительным. Пастушка не знала дороги в Блоне и ни о чем таком никогда не слыхала. Впрочем, ни в каком Блоне он уже не нуждался.
— А что это так кричало?
— Чего?..
— Ну вот только что, странный такой визг?.. Тут есть мулы?
— Мулы? Не знаю… Это свинья визжала.
Свинья, а свиней Спеванкевич не видал с самого детства, если вообще видал, была в его представлении скорее синтезом колбас, ветчины, зельца и сарделек, нежели пронзительно визжащей Божьей тварью. Это открытие заинтересовало его и вместе с тем повергло в печаль. Ведь если даже об этом он не догадался, что ж говорить про все прочее… Вот она, моя жизнь…
Перед каменным домиком, красноватым и сумрачным, собрались люди, они обступили телегу, в которую была впряжена огромная вороная лошадь, худущая, с проступающими ребрами и торчащими мослами. И тут Спеванкевич увидел свинью. Она сунула голову под телегу и замерла, уставясь рылом в землю. Свинья часто дышала, подрагивая чудовищным брюхом, над ней стоял, посапывая, старик с кнутом, рядом с лошадью он казался карликом. Тут же пыхтели две дородные девки, а на пороге, растопырив ноги и заполнив собой дверной проем, красовалась толстенная баба в куцей юбке. Она бросила на кассира приветливый взгляд, и он поклонился с варшавской обходительностью. Женщина любезно ему ответила.
— Может, вы ищете комнату на лето? Пожалуйте… Сдаю только со столом. Дешево! Прекрасная комнатка, окно в сад… Все на свежем масле, коровы, слава Богу, есть.
— Да, да, только мне, знаете ли, нужна тишина и покой…
— Пожалуйте посмотреть.
— Если позволите…
— Пожалуйте, пожалуйте… Зоська, Миля, беритесь наконец за дело, будет с меня этого визгу… Свинью только что продала, видите… А вы, Кароль, будете стоять да ждать, когда свинья сама на воз вскочит? Сдвинетесь вы сегодня с места или нет?
Невеличка Кароль полоснул для порядка свинью кнутом, та испустила пронзительный визг, ж Ка роль заявил:
— Надо бы еще кого, а то мне с девками не управиться…
— С девками-то, конечно… Где вам с девками… Ха-ха-ха…
— Ха-ха-ха…
Девушки громко захохотали. Хозяйка тоже оценила двусмысленную шутку и взглянула на кассира, который из вежливости улыбнулся. Кароль поморщился, точно глотнул уксусу, и приготовился изречь что-то в ответ. На том его и оставили. Комнатка была прелестная, чистая, светлая. В окно глядели мальвы, чуть подальше зеленели фруктовые деревца, был виден клочок поля с голубым люпином, золотая полоска пользы и лес. Заходящее солнце наполняло домик очарованием странного покоя. Спеванкевич для отвода глаз повздыхал насчет цены и согласился.
Новая великая идея! Затаиться и переждать первые две недели… Освоиться, овладеть собой. Разве можно переезжать границу, если нервы в таком состоянии? Наверняка засыплешься. А тут никто его не найдет. Кому взбредет в голову искать его в Отрембусах, под самой Варшавой, в двух километрах от станции? Утомленный, измотанный вконец, он почувствовал вдруг истому. Толстуха хозяйка нравилась ему все больше, она строила ему глазки, распутница, и блузка с вырезом, под которой волновалась ее обильная, атласно-гладкая плоть, была, конечно, расстегнута с умыслом. Толстая так толстая, тем лучше…
— Вы один?
— Один-одинешенек!
— И я одна, муж в Торуни, на курсах, раньше чем через три недели не вернется. Что ж, как-нибудь проживем…
И как это она, шельма, сказала… Он тут же дал ей тридцать пять злотых задатка и, вручая деньги, не выдержал, погладил по руке, от кисти до самого рукава — за локоть. Она улыбнулась… Кассир весь затрепыхался и вознамерился было произнести нечто пылкое, как вдруг дико завизжала свинья, она вопила не переставая, выводя фортиссимо на одном дыхании. Временами визг становился невыносимым, проникал в уши, будто когтями раздирая мозг.
Прибыли и помощники: это был вымазанный сажей детина, вероятно кузнец, который схватил свинью за уши, а также оборванец еврей, путешествующий с пустым мешком за спиной, тот ограничился советами. Свинья дернулась, точно в конвульсиях, и вновь свалилась с телеги, придавив всей тяжестью хлипкого Кароля, и затихла, как бы передав ему при этом свой крик. Гомерический хохот покрыл его голос. Девки полегли наземь, хозяйка трясла бюстом, и ее звонкий голосок так и разлился по округе. Только еврей не нашел в этом ничего смешного, и мрачное выражение не исчезло с его лица. Спеванкевич, развеселившись, глянул на него и тут же оцепенел. Мигом спрятался за широкую спину хозяйки и скользнул в сени. В глубине открытого настежь прохода перед ним встал безмятежный пейзаж: люпин, кольза и лес. До этого леса он доберется через пять минут. А там… Никакого «там»! Мрак и пустота!.. В сенях висела на гвозде старая веревка, в нескольких местах надвязанная. Спеванкевич схватил ее, свернул и сунул в карман пальто. Хозяйка едва не застигла его на месте преступления. Ласковым голосом она произнесла:
— Может, перекусить желаете? Пора ужинать…
И только тут Спеванкевич ощутил тяжкое томление, накатывавшее уже издавна и бывшее главной причиной его бесчисленных мук, скверного настроения, приступов отчаяния, подозрений, помрачений, предчувствий и страхов. Услышав об ужине, он тут же почувствовал слабость в ногах, легкую тошноту, пот выступил на лбу.
— И правда… Если вы будете так любезны… В самом деле, я очень голоден…
В одно мгновение он очутился за столом и дрожащими от вожделения руками, действуя ножом и вилкой, попытался разделать тушку жареной курицы. Но оказалось это непросто, слюна так быстро скапливалась во рту, что он едва успевал ее проглатывать, вилка выпала из ослабевшей руки… Еще секунда, и он сам свалится со стула и, как Тантал, умрет голодной смертью над курой. К счастью, свинья завизжала снова, и хозяйка, сотрясая дом, выбежала из комнаты. Тогда кассир схватил курицу, оторвал лапу и стал обгладывать — настоящий людоед. Дикому наслаждению не мешал пронзительный визг свиньи, да и мыслей в голове не было никаких: он позабыл обо всем на свете. Швырнув через какие-нибудь полминуты обглоданную кость на тарелку, оторвал другую лапу и с урчанием хищного зверя вонзил в нее зубы. Давясь, он глотал мясо огромными кусками и все спешил, спешил, словно кто-то мог в любой момент отобрать у него курицу. Свинья орала что есть мочи, сквозь ее отчаянный визг едва пробивались с улицы глуховатые крики людей. Среди этого шума появился первый проблеск мысли, это было пробуждение воли, угнетенной голодом, похожее на возвращение утраченного мужества. Появление еврея вызвало скорей ярость, жажду крови, чем страх. Хотя тело стал трясти озноб, кассир почувствовал в себе безграничную отвагу, способность сокрушить всех врагов до единого. Что там жалкий «дядюшка»! Он оторвал продолговатый кусок белого мяса от куриной грудки и стал его пожирать, помахивая ножом — это сулило гибель каждому, кто осмелится встать у него на пути к великой цели. Он возродился, стал в конце концов самим собой — непреклонным воителем, великим Мстителем своей эпохи. Свинья вдруг смолкла, комнату на мгновение наполнила такая тишина, точно на свете все умерло, но уже секунду спустя послышалась многоголосая перебранка, казалось, мастерски разыгранная, — ни дать ни взять «шум толпы» за кулисами экспериментального театра. Ничтожества… Люди-муравьи… Какая убогая у них жизнь…
Странные и вместе с тем знаменательные обстоятельства… Над этим задумаются будущие психологи, когда (через двадцать пять лет после смерти Спеванкевича) выйдут из печати его дневники. Только сейчас увидел он свое превосходство над толпой. Поразительно… Превосходство не только над этой жалкой чернью, которая и свиньи-то не может погрузить на телегу, но и над миллионами более чтимых своих сограждан. Кто потягается с ним в эту мрачную эпоху упадка Европы и Польши, когда всюду процветают воровство и продажность, порожденные поклонением золотому тельцу? Где сегодняшние герои? Где их идеи, оригинальность? Кто во имя великой цели отважится на самое банальное воровство? Кто, одинокий, окруженный враждебными силами, сумеет выстоять и победить и по прошествии нескольких лет повергнуть к своим стопам мир?
В пророческом порыве, в кратком, как вспышка, прозрении, увидел он на секунду всю свою великую эпопею. Путешествия, встречи, приключения, женщины… Океаны, острова, материки, столицы… Заводы, пароходы, банки, тресты… И сквозь этот круговорот бежит белая лента, а на ней цифры, цифры, цифры. Капитал кипит, пенится и растет, доллары чудовищно плодятся, цифры мелькают, в глазах рябит и вот… вот — из трехсот тысяч — три миллиарда. Стоп! Хватит тебе, голубушка, мачеха-преступница, нищая Польша? Неужели недостоин памятника твой блудный сын?
Он ел, и с каждым куском новая идея вспыхивала в голове, точно ракета. Поставить под контроль производство сахарного тростника на земном шаре, начать с Кубы, где тростник дает по восемнадцать урожаев в год… Учредить в мировом масштабе торговлю жемчугом: агентство на Красном море, на Цейлоне, на Мадайях… А меха?! «Рудольф Понтиус Трест» — Сибирь, Канада, Гренландия, Новая Земля… Сосредоточить в одних руках все мировые перевозки… Его пароходы «Понтиус-Паноушенс-Лайн» на всех трассах земного шара, во всех портах…
А через двадцать лет, когда пробьет час, подчиняясь переданному по радио приказу, все капитаны в одно мгновение меняют курс и на полных парах спешат к таинственному месту встречи. Необозримый простор моря покрыт судами: гигантские белоснежные пассажирские лайнеры, мрачноватые грузовые пароходы с глубокой осадкой, бесчисленные парусники… Великий Понтиус делает смотр с борта яхты «Мистери», своего плавучего дома, где он провел более пятнадцати лет жизни, неоднократно объехав земной шар. С гордостью взирает на дело рук своих великий старец. А над его флотом неотступно кружат английские, немецкие, французские, норвежские, датские, шведские, финские гидропланы, посланные обеспокоенными правительствами, которые теряются в догадках, не понимают, что значит эта невиданная концентрация коммерческого флота… Весь свет строит предположения, газеты распространяют фантастические слухи, днем и ночью поступают настойчивые радиотелеграммы, пароход, на борту которого находятся репортеры ста газет, умоляет, чтоб ответили на его запросы… Всем сообщается одно и то же: Рудольф Понтиус, гражданин мира, устроил смотр своему флоту, так ему захотелось. Один и тот же приказ для всех капитанов: «Курс норд-ост-ост, Скагеррак, Каттегат, далее следом за 'Мистери'!» И на Балтике становится тесновато. Черная туча дыма висит в воздухе, заслоняя собой солнце от немецкого берега до скандинавских фиордов белым-бело от парусов… Послушно движется соединенная армада, какой еще не видывали моря. И трепет, подобный зыби прилива, овладевает сердцем старого морского волка. Дрожат руки, поднесшие к глазам бинокль, — вон на горизонте возникает из равнины вод белая башня — маяк на мысе Розеве. Низко легла темная полоса, похожая на стелющийся по воде туман, — это плоский берег Карвенских голландцев[14]… Ударит вахтенный колокол, выступит вперед толпа офицеров, чиновников, инженеров, советников и представителей всех рас и всех наций мира. Глядят в глаза вождю самые верные, самые близкие его помощники и угадывают тайную волю. Он вызывает единственного в этой толпе поляка и подает ему запечатанный конверт. Поляк читает акт о безвозмездной передаче всего флота Польской Республике. Он оглашает отдельные пункты о передаче ее властям всех капиталов, банков, заводов, трестов, контор, складов, плантаций, всех островов и всех пампасов, каучуконосных лесов вкупе с питомниками слонов, страусов, тюленей, черепах и всего остального имущества. Оцепенев, уставились на него присутствующие.
— Пан Бобе, капитан польского торгового флота!
— Есть!
— Немедленно поднимите польский флаг на «Мистери» и чтоб вслед за вами подняли польский флаг все суда!
— Есть!
Обнажив голову, наблюдает он, как бело-красный флаг взлетает ввысь и расправляется, поймав ветер с родного берега.
— Капитан!
— Есть!
— Приказываю тебе немедленно заключить меня под стражу и выдать властям порта Гдыня…
Упиваясь своим великолепным жестом, великий узник покидает толпу онемевших от изумления слуг, входит вниз и запирается в пустой служебной каюте. Море ревет тысячью гудков и сирен — это флот салютует новому флагу!..
Нет, это все та же проклятая свинья… С несравненным, одному только ему присущим искусством, благодаря долголетней тренировке, кассир в одно мгновенно возвратился из отдаленного будущего обратно. Кура была обглодана окончательно, он насытился, и безудержная энергия побуждала его сорваться с места. Он уже знал, что ему надлежит делать, и готов был на все ради победы, которая, впрочем, обеспечена. Стоит ему встать с этого стула, и он больше не присядет, пока не пересечет границы, сил достанет, он ощущал в себе их безмерность, их избыток. В эту самую минуту в окно заглянула скособоченная мятая шляпа, некогда зеленая и плюшевая, появились прищуренные глаза в сети морщинок, расплющенный нос и косматая рыжая с проседью борода, в которой таилась улыбка, подобострастная и вместе с тем наглая…
Спеванкевич вскочил, схватил портфель, шляпу — голова исчезла. Он дернул дверь и, сопровождаемый визгом, воплем и отголосками суматохи по ту сторону дома, выскочил во двор. Он распугал кур, разбудил собаку, которая с перепугу выскочила из конуры, принялась неистово лаять и рваться с цепи, точно взбесилась. Но «дядюшки» нигде не было. Спеванкевич повел страшным взором и секунду спустя заметил, что в глубине сада кто-то маячит, притаившись за деревьями. В одно мгновение он очутился в саду, стал подкрадываться, пригибаясь под низко нависшими сучьями. Тот стоял и вроде бы ждал… Лишь приблизившись шага на три, Спеванкевич понял, как он оплошал, и, не сдержав досады, пинком опрокинул мнимого врага. Пугало неуклюже грохнулось наземь, раскинулись руки в длинных рукавах, далеко откатилась шляпа, похожая на шляпу «дядюшки», только не такая поношенная. Вдруг неподалеку треснул плетень, что-то мелькнуло со стороны поля, сквозь ветки яблоньки… В два-три прыжка Спеванкевич оказался на месте — ничего. Зато в поле, шагах в двухстах, стоял… «дядюшка». Ни капельки не таясь и поджидая! Кассир не стал раздумывать: он оперся о жердь и, не снимая пальто, с тяжелым портфелем под мышкой, перемахнул как восемнадцатилетний юноша, через плетень. А тот словно сквозь землю провалился, спрятался так искусно, что не осталось следа — и это в чистом поле, где не то что кустика, даже колоска не было, где до самого леса все было засажено одним картофелем. Заполз куда-нибудь в канаву. Кассир направился к нему прямо по картошке, но никакой канавы не обнаружил — что за чертовщина?.. Еврея он увидел уже на опушке, он затаился среди длинных теней вечернего леса. Спеванкевич поспешил туда и вскоре достиг первых деревьев.
— Стой! Не бойся, дурак, я заплачу, что полагается… А там убирайся к черту!..
Но «дядюшка» торопливо и бесшумно, как мышь, перебегал от ствола к стволу, пытаясь укрыться за молодыми сосенками. Не отвечая на просьбы, угрозы, посулы и ругательства, он заводил кассира в глубину рощи, туда, где за деревьями просвечивало другое поле. Вот он вынырнул снова, ярко освещенный солнцем, уже на опушке, и пропал. Кассир призадумался над этой тактикой. Было ясно, что его заманивают в западню, очевидно поблизости караулит кто-то из банды, может, даже несколько человек… Здесь, в безлюдном месте, они легко с ним расправятся… Дрожа от страха, Спеванкевич завертелся на месте, стал озираться. Но ни в роще, ни на ее опушке никого не было. Ничего не значит, все равно они где-то поблизости… Кассиру внушал ужас надвигавшийся вечер и это чувство одиночества, беспомощности… Ах, если б хоть одна живая душа…
Как бы в ответ на его безмолвный призыв из лесочка слева вынырнула лошадь с телегой и неторопливо двинулась по полю. На передке сидел, помахивая огромным кнутом, сгорбленный человечек. Спеванкевич преисполнился самой трогательной благодарности к неизвестному вознице и приободрился. Он бросился прямиком к телеге и ступил на широкую гладкую дорогу.
— Это вы? А вас там ищут не доищутся. Куда вы пропали?
Невеличка Кароль! В соломе на телеге что-то понимающе хрюкнуло. Выходит, свинью все-таки погрузили…
— Не беда, я дал задаток… вернусь завтра, вместе с вещами…
— Хозяйка думала, с вами что случилось, послала девок в сад, по хатам… А вы куда это на ночь глядя?
— А вы куда едете?
— Недалеко, верст с пять, на Покрентицкую усадьбу.
— Сяду-ка я к вам на телегу, мне в ту же сторону… А от усадьбы до станции далеко?
— Чего там далеко… Двух верст не будет.
— Вот и прекрасно.
Спеванкевич вскарабкался на телегу, и лошадь пошла рысцой, а они, покуривая, принялись болтать о том о сем. Кассир был счастлив, что удалось избежать страшной опасности. Он еще не задумывался, куда едет, зачем и что из этого в конце концов получится. Он ощутил сладкую детскую беззаботность, появилось желание вздремнуть. Усталым нервам необходима была разрядка. Нет, нет, он, упаси Господи, ни о чем не позабыл, он псе отложил на более позднее время…
Дороге не было конца, болтовня Кароля нагоняла скуку и усыпляла. Иногда то справа, то слова к телеге робко приближался «дядюшка», но кассир отмахивался от него, как от мухи, и еврей исчезал, понимая, что значит теперь не больше мухи. Не только «дядюшка», но и весь мир уменьшился в размерах, съежился и как-то вдруг поувял. Солнце бросало косые лучи, пробиваясь сквозь толщу темно-красных облаков, и окрестность готова была погрузиться во мрак, близилась гнетущая багровая ночь, Все злило Спеванкевича: и плоская даль полей, и хилые придорожные сосенки, и мослы на крупе вороной лошади, трусящей мерной рысцой, и сама рысца, которая в свою очередь вызывала раздражение своей бессмысленностью. Иногда огромная лошадь отцеплялась и уходила вперед, тая на глазах. Кароль спал, скорчившись, уронив голову на колени, иногда он взмахивал кнутом, и по этому знаку конский зад возвращался на прежнее место… По канаве пробежала черная собака, за ней вторая, третья, четвертая, ни тая… По другую сторону дороги из канавы появились три белые собаки, они бежали гуськом, за ними еще одна и еще… Они обогнали влекущуюся кое-как телегу, и вот уже две бесконечные вереницы собак, белых и черных, уходили вдаль, а сзади набегали и набегали новые. Но даже это не вызвало особого интереса. Лошадь опять отцепилась и, широко расставляя задние ноги, гигантскими, как бы замедленными прыжками удалялась вместе с вереницами собак. Темнело, в пурпурном мраке по полю двигалась тень великана. Это сошедший с почтовой марки сеятель мечет с размаху огромные зерна, и те падают в отдалении с глухим хрустом. Где-то поблизости воткнута, должно быть, в землю его сабля, но сабли не видно, зато над самым ухом, вызывая раздражение, назойливо повторяется все тот же резкий звук. Тьма сгущается, страх растет с каждым движением проклятого точила: фыоть-фьють-фыоть… Это Янтя уселся сзади на свинью и усердно точит нож. Кассир ни за что не хочет его видеть, он берет обеими руками портфель и подает его через голову Янте. Тот перестает точить нож и берет портфель — какое облегчение… Кароль взмахивает кнутом, вороная лошадь растет на глазах, пятится задом к телеге, вместе с ней пятятся все собаки, вот приблизились и… пропали. Где-то во мраке раздается гудок автомобиля. Автомобиль мчится, нагоняет телегу… Снова страх! Кто это настигает его? Квазимодо? Нет, он отдал им свой портфель… Дирекция? Полиция? Ада? Мияновские? Кароль съезжает правыми колесами в канаву, телега накренилась. Мимо пролетает автомобиль за автомобилем, чередой проносятся страшные лица, здесь все… Следом за Адой тянется зеленая вуаль, вот она зацепилась за Спеванкевича, наматывается на голову, на шею, душит его, отравляет знакомым запахом… Едва он распутался и вздохнул — еще машина! За Адой жмет на «форде», пригнувшись к рулю, Квазимодо — пролетел… За ним отец и сын Мияновские, они обнялись и едут стоя в автомобиле… В огромном «австро-даймлере» мчится какой-то жуткий человек в черной маске (Хип?!)… Следом серый лимузин, за рулем солдат в остроконечной каске, на сиденье едет развалясь, тоже в каске и в плаще защитного цвета, сам Рудольф Понтиус… Плащ от движения распахнулся, обнажились белые ребра и суставы, костяная рука салютует, а под широким козырьком каски в черных провалах глазниц и носа, в оскаленных зубах черепа — дьявольская усмешка и торжество… Промчались, облако пыли… Кассир чихнул несколько раз подряд. Потный от страха, он чувствует, как радостно замирает сердце — о счастье? Чудо… Его никто не заметил!
Вновь за спиной проклятый рожок автомобиля. О Боже, кто там еще? Кассир затаился, съежился… В дребезжащем таксомоторе катит его собственная супруга, она держит на коленях чудовищную бутыль, обнимая ее обеими руками и прижимая к себе, словно ребенка; полотнище рецепта развевается следом, как знамя, трепещет с грохотом на ветру, потому что оно жестяное. Неслыханная наглость Леокадии (урожденной Щупло) приводит его в ужасное негодование. Сзади, прицепившись к автомобилю, затаился «дядюшка»… Они исчезают в облаке пыли, и кассир пробуждается.
Телега стоит на дороге, за забором — сад, справа огромный овин, куча прелой соломы. Усадьба. Кароль беседует с мужиком, у того в руке — коса. Кароль чешет в затылке, плюет, швыряет шапку оземь. Мужик с косой смеется, скаля зубы, и начинает скручивать цигарку. Кассир крепко прижимает к груди вновь обретенный портфель и смотрит на них с вопросом.
— Что такое?
— Что такое… Взяла да и околела.
V
Солнце озаряет красным светом пруды, и на их спокойной поверхности, меж отраженных в воде рядами светло-зеленых старых ив, пляшут алые искры. Спеванкевич идет в обход прудов по черной влажной тропинке, которая вьется по луговине. Чуть ли не каждую минуту он останавливается, очарованный красотой этих мест. Он упивается безмятежностью пейзажа — житель города, одичавший в его стенах, выпущенный на волю узник. Сколько лет не видал он распахнутых во всю ширь небес и земли, не вдыхал вечернего пара, исходящего от простора вод… Он наслаждается запахом аира, почвы, вянущей травы на покосах. Любуется на сияние, заливающее с запада небеса, на крылатые облака — те, словно живые, меняют то и дело краски и очертания. В памяти возникло вдруг что-то давнее-давнее, какое-то одно-единственное мгновение, которое могло изменить всю его судьбу спасительная мысль, которую он потерял да так и не нашел за всю свою жизнь. Проснулась жалость к самому себе: что там не говори, а он мог быть и остаться честным и чистым человеком… Несчастный, он и тут поддался самообману: стал убеждать себя, будто он еще ребенок, будто еще только начинает постигать мир, будто в его жизни пока ничего не произошло.
Наконец он забылся, растворился в блаженстве этого вечернего часа, погрузился в счастье. Ничто не манило его, ничто не волновало. Душа была раз и навсегда насыщена абсолютным знанием, отрешенным от всего, самодовлеющим. Он ощутил присутствие чего-то неведомого, пришедшего с© стороны, это был как бы дар, но столь огромный и неожиданный, что даже чуточку в тягость. Мир сразу стал другим, и люди в этом мире, и он сам. Он увидел жизнь без зависти и вожделений, богатую и великолепную, открытую каждому, как животворящий свет солнца, как воздух и вода.
…И он двинулся вперед бодрым юношеским шагом по влажной тропинке, над прудом, вдоль деревьев. Какой-то человек сидел на берегу, склонившись к воде, но стоило Спеванкевичу подойти шагов на двадцать, как он сорвался с места, застигнутый врасплох, и, будто малый ребенок, который думает, что его не заметят, шагнул за иву. Кассир, проходя мимо, невольно на него взглянул, но тот, прижимаясь к толстому кряжистому стволу, спрятался так искусно, что разглядеть его не было возможности. Кассир отправился дальше, однако возле следующей ивы вновь заметил человека, который пытался скрыться от него, когда он приблизился. Незнакомец пустился бегом и, миновав два дерева, затаился за третьим. Это оторвало кассира от созерцания гармонической красоты, застигло на пороге счастья. Смолкли голоса, ведущие в новую жизнь. Заря светлого завтра побледнела и угасла, ее вытеснила повседневность. С мукой взглянул он на глупого пришельца, помешавшего наслаждаться ему этой ни с чем не сравнимой минутой. Кто он такой и почему от него удирает? Это не имеет к нему ни малейшего отношения… Но человек снова выскочил из-за ивы, пробежал немного и спрятался.
Кассир остановился. Отвернулся от пруда и всей силой воли попытался побороть злость, которая внезапно в нем закипела. С усилием, с упорством смотрел он на солнце, наблюдая, как алый шар уменьшается, опускаясь за линию горизонта. Он нуждался в передышке! Еще несколько минут, и он овладеет собой, осмыслит все до конца и возвратится домой другим человеком, спокойный, сильный…
Но солнце тонуло с ужасающей быстротой. Просто непостижимо… Оно исчезало, таяло на глазах, и вот остался лишь тлеющий след, пурпур облаков потемнел, краски стали тусклыми и меланхолическими. Мир изменился, без солнца он стал обыкновенный, плоский и скучный. Пруды были жалкими лужами, мокрые луга внушали отвращение, и на дорожке, под черной грязью, хлюпала вода. Куда ни глянь, всюду перед тобой красные и зеленые пятна. Глаза, ослепленные солнцем, нерешительно, точно в сумраке, перебегают с предмета на предмет. Наконец Спеванкевич пересилил себя и пристально взглянул на ивы. Вверх поплыло темно-красное круглое пятно, а вместе с ним поднялся и странный черный силуэт, но вот все пропало. Тут же, однако, перед глазами выросло новое пятно, и вместе с ним вверх пополз тот же силуэт…
Спеванкевич двинулся дальше, но уже с опаской: досадная неуверенность и подозрения росли. Едва ли не с облегчением приблизился он к последней иве: здесь тропинка, сворачивая в сторону от прудов, вела туда, где темной громадой высились деревья парка. Минуя иву, Спеванкевич взял себя в руки и, отвернувшись, стал упрямо думать о чем-то далеком и постороннем, о чем-то совсем другом. Но в последнюю минуту не выдержал и взглянул. «Дядюшка» стоял притаившись и глядя на него подобострастно, нахально и с опаской. Спеванкевич кинулся к нему, охваченный яростью. Тот отскочил за иву, но не обежал вокруг дерева, как следовало ожидать, и кассир настиг его, втиснувшегося в узкое дупло, почти ушедшего в ствол — так сжался, что, казалось, врос в иву…
Кассир швырнул портфель в траву, схватил «дядюшку» за плечи и дернул что есть силы, но тот держался крепко и сдвинуть его не удалось. От сильнейшего удара кулаком в лоб, он даже не пискнул, зато у Спеванкевича заболела и стала неметь рука… Он пинал его, дергал в ярости, бил, наконец почувствовал, что «дядюшка» отцепляется от дерева… Сделал еще усилие и оторвал совсем. Поднял, дивясь собственной силе, и грохнул оземь, но противник не крикнул, не обмяк, он подпрыгнул, как мячик, и вновь оказался на ногах. Получив еще один удар в лицо, отклонился несгибающимся туловищем вбок, уперся плечом в землю и выпрямился, как ванька-встанька. Кассир с ужасом заметил, что под мышкой у «дядюшки» портфель, который тот каким-то образом успел уже подобрать. Спеванкевич вцепился в портфель, дернул и, не встретив сопротивления, полетел назад и чуть было не шлепнулся в воду. «Дядюшка» закачался мерно из стороны в сторону, словно в удивлении. Кассир вскочил и, высоко подняв противника, бросил с размаху в пруд. Послышался плеск, «дядюшка» мгновенно выпрямился и встал над водой, вновь покачиваясь с боку на бок. Спеванкевичу показалось, что его противник не человек, а резиновое надувное чудище. Он поднял портфель и обратился в бегство, обдавая себя черной грязью. В панике он летел как на крыльях, жуткое видение, казалось, преследовало его, но дорога становилась вязкой, и вскоре под ногами захлюпала вода. Кассир бежал из последних сил, проваливаясь по щиколотку… Вот ручеек, вот хлипкий мостик из подвижных мокрых дощечек… Он благополучно проскакивает его, тропка становится суше. Он бежит дальше, пока есть силы, однако ноги подкашиваются и, запыхавшись, он останавливается, сердце колотится бешено — до боли. Наконец он рискнул обернуться — никого. Он вздохнул с облегчением, не ведая, что все его беды только еще начались.
Незнакомое место навевало страх, впрочем, он боялся не нападения, опасался не за портфель, его пугало другое: он полностью перестал понимать, что совершается в нем самом. Все запуталось: стало так тоскливо, так тошно, что единственным выходом было немедленно проснуться. Но он отлично знал, что это отнюдь не сон. И это было самое страшное. Раз не сон, значит…
Он очутился перед забором старого заброшенного парка. Привалившись к ветхим прогнившим доскам, которые под его тяжестью накренились, Спеванкевич страдальческим взором уставился в чащу, откуда веяло унынием мрака и тяжелой подвальной сыростью. Он всматривался в эту зловещую глубину. Пусть уж оно свершится… Спеванкевич знал — это конец.
Место было странное и знаменательное, удивляло оно прежде всего тем, что казалось знакомым. Бывать здесь ему не приходилось, но он помнил покосившийся падающий забор, густую крапиву, канаву с черной водой, а главное, запах этого места, утонченный и пронзительный, сладковатый, похожий на запах акации, только острее, невыносимый и мучительный. Он был здесь всего несколько минут, но уже чувствовал в висках пульсирующую боль. С каждым вздохом этот воздух точно отравлял его и вместе с тем усыплял, но и это не было новостью, это он тоже предвидел. Однако здесь словно чего-то еще недоставало; он посмотрел по сторонам, помедлил, и наконец двинулся по черной утоптанной тропинке вдоль забора над канавой. Он шел, ни о чем не думая, в предчувствии того момента, когда с ним что-то случится. Он брел до места, где забор повалился и где сквозь его гнилые доски густо росла крапива. Там был проход шагов в пятнадцать, и в глубине его Спеванкевичу открылся кусок стены, жестяная печурка и наклонные окна оранжереи. Внезапно оживившись, он вошел туда без колебаний — здесь-то все и должно выясниться и окончательно решиться… В этот последний момент, который мог оказаться для него или спасением, или гибелью, над страхом возобладало настойчивое любопытство. Он осмотрелся и почувствовал разочарование: кругом пусто и мрачно. Оранжерея с выбитыми стеклами обратилась в руины, изо всех щелей торчали сочные стебли сорняков, огромная куча навоза, догнивая, поросла травой. Знакомые чем-то тачки, брошенные здесь, может быть, много лет назад, ушли в землю в ожидании его, в ожидании этой минуты… Он уселся на одну из них, закурил и выпустил дым, который голубоватым облачком долго стоял во влажном и неподвижном воздухе. Он бросил коробок со спичками, отшвырнул подальше свой старый, видавший виды портсигар как вещи уже ненужные. Затянувшись два-три раза, отбросил и папиросу и только тут заметил, что страшный, душный запах, о котором он позабыл, невыносимо обострился. Усилилась пульсация в висках, голова ужасно болела. Он вскочил с тачки, позабыв на ней портфель, и со страхом озираясь по сторонам прошелся вокруг полуразрушенной оранжереи. Он искал и источник ядовитого запаха, и тот путь, которым можно бежать из этого заклятого места, и одновременно что-то… что-то другое. Он старался, вспоминал, но мысли разбегались и пропадали, как случается за минуту до погружения в сон. Наконец желанная вещь нашлась сама собой, рука вытянула из вместительного кармана пальто надвязанную узлами веревку, которую он тут же размотал и, грозно ею помахивая, победоносно поглядел вокруг. Затем вернулся к тачке под деревом, влез на нее и, наступив на свой желтый портфель, осторожно и почти стыдливо притронулся к ветке над самой своей головой. Она была гладкая, холодная и влажная. Тут он осмелел, ухватился сильнее и потряс ее. Посыпалась желтая пыльца и зеленоватые цветочки, которыми были густо усеяны промежутки между узкими серо-зелеными листьями. Теперь он знал, откуда исходит душный запах, и это открытие увенчало все. Он вздохнул раз, другой, третий в бессознательном упоении; встал на цыпочки и забросил веревку на сук.
В эту самую минуту в сумраке и в тишине послышалась похожая на вздох мелодия, исполненная очарования и невыразимой печали. Голос непонятного инструмента то рассыпался вереницей трепещущих звуков, то дрожал тоской, то жаловался, как скрипка, издавая один прозрачный длительный стон и пронизывая душу сиянием… Инструмент перешел на низкие ноты и запел вдруг, словно человек, — умилительно, трогательно… Еще два-три раза дрогнула одна-единственная струна, которая, точно ключ, отворила что-то, и мелодия упала в таинственную глубь, повторяя все ту же музыкальную фразу, только тише, пока не замерла на неуловимом ропоте.
Спеванкевич, крепко ухватясь за свой сук, оглянулся украдкой. Он точно стряхнул с себя сон, не в силах понять, куда его забросила судьба. Музыка оборвалась, оставив неутолимое желание слушать еще и еще, слушать вечно… Но если уж ей не суждено повториться, значит, должно произойти нечто новое, неведомое, зато вне всяких сомнений вполне реальное… За спиной кассира, близко, послышался звучный мужской голос:
— Это из этюда Паганини… В этой мелодии неодолимая сила. Паганини тоже был одним из великих посвященных.
— Умоляю вас, сыграйте еще. Я в ужасном состоянии, мне необходимо…
— Нельзя! Это слишком сильное средство, в особенности если принять во внимание состояние ваших нервов, о котором вы упоминали.
— Причем тут нервы, душа жаждет…
— Пусть даже душа, если вы придаете значение подобным словам. Но я решительно отказываюсь. Силой заклятья злоупотреблять нельзя!
Кассир слез с тачки. На его лице было написано страдание. Но человек с мандолиной стоял на своем. Это возмутило Спеванкевича, тем более что, застигнутый с веревкой в руках, он ощущал ужасный стыд. Незнакомец, разумеется, все понял:
— В мои правила не входит вмешиваться в личные дела, которые каждый решает по зрелом размышлении, но мне сразу стало ясно, что вы до конца всего не обдумали. Я предотвратил всего лишь трагическое недоразумение, весьма, впрочем, забавное. Если ошибся, в чем, однако, сильно сомневаюсь, то прошу прощения и ухожу с миром.
— Ради всего святого… Не покидайте меня в несчастье!
— Что ж, у меня есть еще с полчаса времени. Чем могу служить?
— Ах, сам не знаю, не знаю… не знаю я ничего!
— Точно так же может сказать о себе всякий рассудительный человек. Вы думаете, знаю что-нибудь я?
— Не знаю, что вы знаете, но мне сейчас так страшно…
— Это пройдет, вы просто боитесь того, что минуту назад могло случиться…
— Нет, нет!..
— Значит, вы боитесь, что если я вас покину, вы попытаетесь снова… Не советую… Хотя бы потому, что с этой веревки вы сразу сорветесь, а это, прошу мне верить, не слишком приятно.
— Вы говорите, сорвусь?! — крикнул кассир громче, чем это было необходимо, и радостно оживился.
Незнакомец взял веревку за оба конца и дернул. С ветки дождем посыпались лепестки. Веревка, подгнившая и во многих местах надвязанная, мгновенно лопнула.
— Ваше предприятие, хоть и подготовленное, обречено на провал, поскольку провидение воспротивилось.
— Провидение… Но ведь если хорошенько подумать, так другого выхода у меня нет. Вот я и боюсь… И еще как боюсь! Попробовал бы кто измерить мой страх…
— Страхи бывают разные. В эллинском мире существовали два понятия: «Деймос», или боязнь, и «Фобос», или ужас. Который из двух вас больше терзает?
— Не знаю! Не знаю — и тот, и этот, и еще сотни других! Мучают меня все страхи, какие существуют!
— Ладно, тогда слушайте…
Тихо, словно пчела, зажужжала мандолина и повела то замирающую, то оживающую мелодию, полную внезапных переходов, взлетов, умолчаний, вздохов и даже как бы улыбок. У Спеванкевича на глаза навернулись слезы, с удивлением он обнаружил, что сумерки светлеют, далекие предметы выступают из мрака. Он увидел опять ивы над прудами, лес, дома в отдалении. В черноте парка разверзлись глубины, он отчетливо различал стволы и сучья деревьев, листья… Точно вдруг вернулся бледный день, и в его прозрачном свете он узнал музы канта… Человек из вагона, длинноногий персонаж из романа Диккенса, ясновидец — автор предостережения, тот самый, который велел ему бежать через Блоне…
— Это вы?
Мелодия оборвалась и тотчас воцарился мрак, еще более густой, чем прежде. Из темноты раздался спокойный голос чародея:
— Так вы только сейчас… А я вас сразу узнал.
— Что же в таком случае значила ваша записка? Я так ломал над ней голову, чуть с ума не сошел…
— И только поэтому не послушались доброго совета?
— Да, но…
— Тогда каким же чудом вы очутились здесь?
— Я заблудился еще в Брвинуве… Надо было перебраться на ту сторону путей и пойти в Блоне, а я пошел сюда… И побоялся спросить дорогу… Впрочем, ничего из этого я так и не понял…
— Значит, вы проиграли!
— Проиграл…
— А могли выиграть…
— Знаю, что мог…
— И потому вы сейчас хотели…
— И потому, и не только потому, а верней, по всем причинам сразу. Если б вы только знали, какая ничтожная и жалкая у меня жизнь…
— Я это знаю. Разумеется, я не о фактах, я вообще. Только чудо могло вырвать вас из прозябания и, насколько я могу судить, именно такое чудо совершилось. Так бывает только раз в жизни, а чаще — никогда. В вагоне я сразу проник в вашу драму. У этого человека, подумал я, в руках его собственное счастье, а он готов умереть от страха перед призраками, которые его обступили.
— Какие призраки? Это была банда отъявленных негодяев!!!
— Никого не было и ничто вам не грозило, вы могли ехать, куда вам вздумается. Вас преследовали призраки, точней сказать, ваше собственное воображение; оно-то вас и погубило. С вами следовало поступить как с ребенком или с умалишенным: стать на вашу точку зрения и вырвать вас из тех пут, которые сплетены вашей собственной фантазией, а потом подтолкнуть вас к цели, но совсем иным путем. Потому-то я и велел вам пересесть на другую линию…
— Послушайте, вы! Что вы натворили! Если б не ваша дурацкая записка, я был бы сейчас уже за Ченстоховым. Кто просил у вас совета — чтоб вам пусто было!
— Слепец… Знай — тебе самым жалким образом суждено было погибнуть еще в Скерневицах… Рухнул бы твой великий план, ты потерял бы все, что имеешь! И не видать тогда тебе своего родного дома!
— Чтоб его черти взяли, пусть он сгорит в грозу, мой родной дом, вместе со всей семьей! От нее-то я и бежал!
— Это еще ничего не значит.
— То есть как «ничего не значит»?!
— Не придирайтесь к словам! До вашей семьи мне дела нет, я хочу сказать, что без моей помощи вы погибли бы, — вот и все!
— А теперь, выходит, я не погиб?
— Во всяком случае, вы живы и на свободе. Ваш сумасшедший план и его провал послужат вам наукой. И если вы вздумаете опять…
— Ни за что на свете!.. Не можете себе представить, чего мне это стоит. Да что вообще вы можете обо мне знать…
— Я, конечно, не ясновидец, но ведь и вы знаете о себе не больше, чем я. Вы знаете факты, но блуждаете, как в потемках.
— Хорошенькие факты… Да известно ли вам, кто я такой?
— Известно. Вы ничтожество, нуль. Ваше достоинство только в том, что вам известно об этом. Вот почему вы пошли на дело, требующее безумной отваги, ну и, разумеется, осрамились. Разве могло быть иначе? Благодарите небо, что уцелели.
— Да уцелел ли? Ах, успокойте меня…
— Фактически вам ничто уже не грозит, но, рассуждая формально, вы обретете покой лишь завтра, около девяти.
— Вы так говорите, точно и в самом деле знаете обо мне все. В таком случае я вам напомню: банда головорезов подстерегает меня в пути. Если они нападут на меня…
— Исключено!
— Ах, если б я мог в это поверить, я был бы самым счастливым человеком на свете.
— Немного ж вам надо для счастья…
— Сами сказали, я ничтожество, нуль. Только страх у меня огромный…
— На страх могу предложить подходящее заклинание.
— Большое спасибо, вы дали их уже три. Не верю я в эту чепуху.
— Круглый дурак! Как вы смеете подобным образом… А что, если я магическом словом, в одно мгновение, сейчас, здесь, обращу вас в бездомную собаку, в крота, в летучую мышь, в клопа!?
— Не стоит трудиться, я и так нечто более жалкое, чем клоп. И хуже клопа от меня смердит…
Душераздирающая тоска, прозвучавшая в этом признании, растрогала, по-видимому, могущественного заклинателя. Ничего не ответив, он тренькнул струной, затем что-то подкрутил, настроил инструмент, и сквозь вечерний туман полилась в тишину капризно-изменчивая, пугливая мелодия. Спеванкевичу показалось, что она кружится над головой и оплетает ее, словно кокон. Им овладела неодолимая дремота, он закрыл глаза и в одно мгновение забыл, где он и что с ним. Но слушал внимательно и шел за мелодией, точно это было единственное, что еще осталось ему на свете. С ней он совершал круги, возносился и падал, дышал ее ритмом… Музыка оборвалась. Спеванкевич очнулся, широко открыл глаза. Незнакомец стоял рядом — так близко, что даже в густеющих сумерках можно было различить его улыбку, до странности красивую и ласковую, которая человека неприятного на вид, опасного, преобразила и сделала лучшим его другом. Эта улыбка толкнула кассира на откровенность.
— Если б вы только знали, с кем говорите, вы отвернулись бы от меня, бежали с омерзеньем прочь…
— Ни в коем случае! А с кем имею честь?..
— Я самый обыкновенный вор. Обокрал банк и удрал с деньгами.
— С какой целью совершили вы эту глупость? — осведомился незнакомец без малейшего удивления в голосе.
— С целью великой, общенациональной. Чтоб в течение нескольких лет нажить в Америке и Австралии капитал и залить Польшу потоком золота. Но украл я также и для себя, желая тем самым возродиться духовно.
— Это вам не удастся, никто еще не возродился благодаря богатству, сами увидите.
— Ах, даже и не увижу, потому что завтра же утром все это богатство переложу обратно в сейф.
— И разумно поступите.
— Что делать… Украсть украл, а бежать с награбленным не могу. Страх отнял у меня силы, я схожу с ума от страха, преследуют меня призраки, всюду полно духов… Каждую минуту я могу выдать себя… Какой фарс!.. Какая мука!
— Этот страх спасает вас от окончательной гибели. Он словно лихорадка во время болезни: это говорит о том, что организм борется со смертью. Для такого дела вы мелки… Хорошо еще, что все можно исправить. Если б вам удалось скрыться с деньгами, это было б для вас большим несчастьем.
— Положим, это вы зря… Мне б только перебраться через границу… Мне нужен простор, океаны и материки… Я создан быть сыном солнца, а прозябал кассиром в банке, где заправляют мошенники… Я задыхаюсь от жажды подвигов, а живу в подземелье, прикованный к жене и четверым детям, которых давно пора отравить мышьяком или топором зарубить… Ах, свобода!!! Дремлют во мне великие силы, гениальные идеи, эпохальные открытия… Я овладел капиталом, который даст мне возможность выйти на мировую арену…
И вдруг он смолк, сорвавшись с вдохновенных вершин, не понимая еще, что случилось. Мандолина затренькала назойливо и нагло, из-под искусных пальцев виртуоза вырвалась пошлая песенка — точно грязью окатил. Это насмешничала «Титина», пустая и глупая, заигранная до омерзения.
— Довольно, довольно! — закричал Спеванкевич, затыкая уши.
Но музыкант с невозмутимой жестокостью дотренькал до конца куплета и повел сначала. Кассир исторг глухой крик ярости, еще аккорд, и он ринется на мучителя — но как раз в это мгновение мандолина смолкла. Кассир тяжело упал на тачку — прямо на портфель.
— Я полагаю, у вас нет теперь иллюзий насчет собственной особы?
— Никаких! Но знайте: я сижу на трехстах семнадцати тысячах долларов!
— Подразумевается, они в портфеле?
— Подразумевается… Но и это еще не все. В карманах тысяч больше ста — злотые, франки, фунты. И все это, выходит, я должен вернуть?
— Деньги ровно ничего не значат.
— Деньги… Но ведь триста семнадцать…
— Чушь! Цифры — фикция. Взгляните, вон Полярная звезда, еще светло, поэтому она едва заметна — вон там… Видите?
— Вижу…
— Так вот… Ученые хотят запугать меня астрономическими выкладками, утверждая, будто путешествие на эту прекрасную звезду продлится сорок семь лет со скоростью трехсот тысяч километров в секунду — попробуйте перемножить эти цифры с карандашом в руке да поразмыслите над тем, что получится. А я вам скажу: стоит мне пожелать, я мгновенно там окажусь да могу вас еще с собой прихватить. Хотите?
— Нет! Нет!!!
— Глупец! Не бойтесь, вот уже две недели, как я бываю там ежедневно и всякий раз возвращаюсь без помех обратно.
— Ах, умоляю, не надо… Сжальтесь!..
— Впрочем, ладно… Какой мерой пользуются люди? Цифрой. Но вы не поразите меня и миллиардом долларов. Подите прочь со своим дурацким портфелем: с ним или без него вы в этом мире жалкий идиот, а я, у которого за душой ни гроша, — владыка космоса, я обладаю тайной земных стихий, читаю сокровенные мысли человека, знаю прошлое и будущее, ведаю секрет жизни и смерти… Хотите знать, когда наступит ваша смерть — год, месяц, день и час?
— Нет! Нет! Ни слова!.. Молчите!
— А что с вами будет завтра в это самое время?
— Не хочу! Хотя, по правде сказать, только это меня еще всерьез интересует… Нет! Ради всего святого, не говорите: лучше ничего не знать. Что будет, то будет.
— И вы с этим портфелем в руках намеревались завоевать мир?! Поздравляю. Можете возвращаться домой.
— Ах, если б мне удалось вернуться…
— Удастся, удастся…
— А далеко отсюда до станции?
— Через пятнадцать минут дойдете.
— До свиданья… Может, вас не затруднит проводить меня немного?.. Становится все темнее… Страшно… Я могу заблудиться, по дороге на меня могут напасть… Если я вернусь без портфеля, то мне, собственно, незачем возвращаться…
— А мне-то какое дело?
— Но… Простите, пожалуйста, вы спасли мне жизнь, хоть я об этом и не просил, следовательно, вы некоторым образом обязаны…
— Какая наглость! Раз пошел такой разговор, можете вешаться снова, не помешаю. Прощайте!
— Сжальтесь! Не покидайте!
— Отвяжитесь! У меня нет времени на глупости, я тороплюсь на Полярную… Проке! Проке! Анаборас! Артамон!..
— Смилуйтесь надо мной… Господи!..
Маг запрокинул голову и раскинул руки. Он мерно дышал и, тихо постанывая, бормотал заклинания. Затем быстро-быстро замахал руками. Умолк и замер. Его силуэт рисовался на фоне мерцающей июльской ночи, длинный и тонкий, похожий на черный крест. Над его головой кружились две летучие мыши, пропадая и появляясь опять. Через некоторое время они призвали к себе третью, и образовалось черное подвижное кольцо, которое смыкалось и размыкалось, вращаясь в тишине с тревожным шелестом. Кассир наблюдал, готовясь внутренне пережить нечто чудовищное, кошмарное. Голова кружилась. Этот жуткий человек, который при столь странных обстоятельствах возник на его пути, этот ясновидец, к которому после стольких часов безумств и блужданий судьба привела его снова, внушал ужас. Он чувствовал его власть над собой. Он знал: только в нем его спасение, но не мог понять, как надо с ним говорить, как его задобрить. Он боялся сказать лишнее слово, чтоб опять не возбудить гнев, не вызвать каких-нибудь страшных проклятий, в чью силу теперь уже не мог не верить. Да, он верил! Властелин, возвратясь с Полярной звезды наделит его каким-нибудь могущественным и добрым словом, отчего на бандитов, подкарауливающих его всюду: на Главном вокзале, на улице, под воротами и на лестнице, найдет затмение, а ему самому удастся без приключений добраться до дому. В то же время этот маг может напустить на него порчу и заставить ночь напролет блуждать по округе, подвергаясь всевозможным бедам, а утром он опоздает в банк, и тогда, даже если он отдаст все до гроша, не избежать ему тюрьмы… В приступе безмолвного отчаяния Спеванкевич закрыл лицо руками и стал ждать неведомо чего, все надежды были уже потеряны. Внезапно он ощутил страшную боль в голове, точнее вспомнил о ней: душный приторный запах этого проклятого места обострил боль до невыносимости. Он застонал, сделав это, впрочем, как можно тише, схватился за голову руками — и боль каким-то чудом пропала…
Ибо над головой колдуна, чье астральное тело пребывало в это мгновение в квадриллионной пропасти вселенной, мыши вились уже черным роем. Бледное, чуть подернутое отблеском зари небо потемнело. От зигзагов и поворотов, которые выделывали летучие мыши, чтоб разминуться друг с другом, у Спеванкевича закружилась голова. Иногда этот рой сливался в огромный подвижный шар, перекатывавшийся по небу, иногда две-три отделялись от остальных и как бы под действием центробежной силы проносились перед самым носом кассира, и тогда он отскакивал с дрожью отвращения, стукаясь всякий раз затылком о ствол дерева. Наконец одна из них в неистовом своем кружении все-таки задела его — кассир громко вскрикнул, и в ту же секунду маг ожил, опустил руки и заговорил быстро-быстро, прерывающимся голосом.
— Божественное упоение… Сегодня я улетел гораздо дальше… Я был так близко от Млечного Пути — двадцать тысяч лет со скоростью света, триста тысяч километров в секунду — я сосчитал бы все звезды, если б существовало число, соответствующее их множеству… Я был богом… Единым и одиноким, царствующим над океаном миров… Был богом, значит, им и остался! Двадцать тысяч лет туда и столько же обратно — бездна времени, которую один только я могу преодолеть — а на глупой земле, как я вижу, ничего не изменилось, даже ночь еще не наступила. И этот олух сидит, как сидел…
Кассир оскорбился, он имеет право презирать самого себя сколько влезет, но посторонний — не смей! Этот субъект объявил себя богом, летает на Млечный Путь и возвращается в десять минут обратно. Так-то и я сумею…
— Знаю, что ты сейчас подумал, ублюдок, подлец! — Властелин пространства подскочил к нему с кулаками. Кассир в ужасе поднялся с тачки.
— Я?! Я ничего… Я, правда, ничего!..
— Не лги, от меня ничего не скроешь! Я читаю каждую твою дурацкую мысль, недостойную даже называться мыслью, завистническую, трусливую, злую, смрадную, пресмыкающуюся, словно глиста в помете…
— Нет, нет! Вы обижаете меня… Я ничего не думал…
— То есть как ничего?
— Абсолютно ничего, я просто испугался этих мышей, вот и все, я думал только о мышах…
— Это о каких мышах?
— Правда их больше нету, но они только что летали над вами целой тучей…
— Целой тучей… Сколько их было?
— Очень много…
— Что значит «много»?
— Да, наверно, с тысячу…
— Тысяча летучих мышей?! Тысяча?! Тысяча?!.. Получай!
Кассир зашатался, отскочил в сторону, споткнулся и упал. От страшного удара кулаком у него занемела челюсть, но он поспешил встать, потому что противник был рядом. Его белое лицо, казалось, светится в темноте, точно натертое фосфором. Жуткие провалы глаз напоминали глазницы черепа. Спеванкевич не выдержал, рванулся в сторону и бросился опрометью прочь. Сделав шагов десять, он запутался в проволоке, валявшейся на земле, и растянулся во весь рост. Он лежал, постанывая и ощупывая ногу, разодранную в лодыжке. Под пальцами была кровь… Маг приближался, тихо тренькая на мандолине.
— Где вы тут?
Кассир притаился, но белый луч фонарика, вспыхнув, стал перескакивать с предмета на предмет, пока Спеванкевич не был обнаружен и свет не брызнул ему в глаза.
— Так и знал, что запутаетесь, эта проволока лежит тут с четырнадцатого года, надеюсь, не поцарапались? Было б очень жаль…
— Нет, нет, — поспешил заявить кассир, хотя боль в ноге не унималась. Невозможно было понять, откуда взялась эта неожиданная предупредительность.
— Простите за бестактность… Но вы напрасно заговорили о летучих мышах, которые вам привиделись, к тому же в большом количестве… Ведь я содрогаюсь при мысли даже об одной-единственной мыши… вот уже более десяти лет она преследует меня во сне… Впрочем, первое время после возвращения на землю я всегда немного нервничаю…
— Вполне понятно, — миролюбиво отозвался кассир, решив прибегнуть на всякий случай к лести, — Каждый разволнуется после такого путешествия.
— Что значит «каждый»? Вы что, смеете предположить, что кроме меня, одного-единственного, кто-то еще отважился бы на такое путешествие?
— Что вы… Вы меня обижаете, считая таким профаном…
— Впрочем… Я парю между Господом Богом и тайнами мирозданья… Знайте об этом…
— Да ведь об этом знают все!
— Неправда! Об этом не знает никто! И если вы хоть словом обмолвитесь о тайне, недостойным свидетелем которой вам выпала честь явиться, то горе вам! Забудь об этом! Молчи!
— Я уже забыл и буду молчать — клянусь!
— Тысячи хитроумнейших людей пытаются выведать мои тайны. Все усилия государства направлены на то, чтоб проникнуть в мои открытия, по сравнению с которыми все труды Коперника, Лапласа, Ньютона — игры ребятишек в детском саду. Министр финансов, желая удержаться на посту, решил во что бы то ни стало узнать рецепт изготовления золота и потому держит меня в тюрьме, в окружении сотен провокаторов и экспертов-металлургов, одни прикидываются сумасшедшими, другие — врачами. Этот фарс обходится государству в миллионы, но не дает ничего, хоть и длится вот уже два года. Редко, очень редко, как, например, сегодня утром, мне позволяют удрать тайком на несколько часов в Варшаву, якобы по недосмотру сторожей, которых потом увольняют за это. Жалкие людишки! Сегодня около одиннадцати, когда я проходил по Шпитальной улице, вокруг меня скопилось столько шпиков из всех министерств, из всех банков и газет, из всех партий сейма, что движение на улице остановилось, и полиции пришлось их разгонять, некоторых даже задержали за сопротивление властям — ах, как я смеялся! Вагон, где я ехал, был битком набит тайными агентами — сами видели, какая была давка… В столице мне даже не удалось повидать одного моего приятеля, который ведет мое дело. Чаще я общаюсь с ним путем передачи мысли на расстояние, но он, бедняга, хоть мало-мальски меня понимает, совершенно не умеет отвечать, впрочем, в нашей местности несколько недель назад была открыта центральная радиостанция, которую спешно строили с зимы для перехвата моих распоряжений и приказов, и это ужасно меня нервирует. Вы сразу внушили мне доверие, впрочем, я читаю ваши мысли так же легко, как мысли всякого другого человека… Не согласитесь ли вручить по адресу мой конверт? Я приготовил его несколько дней назад, на тот случай, если повстречаю порядочного человека…
— Спасибо за доверие, я с удовольствием…
— За эту услугу вы будете вознаграждены. Вам будет сопутствовать успех и счастье.
— Мне бы только без происшествий добраться сегодня до дому…
— Слово «Мерукс», написанное на конверте, отведет от вас любую беду. Оно предохранит вас от железнодорожной катастрофы, от экипажей в городе, от кражи, грабежа, от огня и наводнения, от грозы, от любви, от полиции и от всякой болезни… Я, впрочем, тоже буду наблюдать издалека…
— Спасибо, спасибо, я непременно завтра отнесу. В четыре я буду там, непременно и обязательно… Не разрешите ли и впредь пользоваться этим святым словом в случае необходимости?..
— Не имею ничего против, но предупреждаю: если вы откроете кому-либо это слово, вы заболеете проказой и сгниете заживо в страшных мучениях…
— Об этом не может быть и речи!
Примерно полчаса назад кассир наконец догадался, с кем он имеет дело. Итак, он рядом с Творками[15] следовательно, недалеко от станции Прушкув. Теперь задача состоит в том, чтоб отделаться от полоумного чародея и отправиться в путь. Он сунул в карман толстый конверт, улыбнулся как можно любезней и хотел было самым вежливым образом откланяться, как вдруг маг схватил его за плечи и тряхнул с такой силой, что у Спеванкевича щелкнули вставные челюсти.
— Знаю, что ты сейчас про меня подумал… Я все знаю, негодяй, провокатор, предатель… Комедиант, болван…
Изрыгая Спеванкевичу в лицо страшные проклятия, сумасшедший то встряхивал его, то толкал. Кассир пятился шаг за шагом, стараясь не растянуться на камнях, на которые то и дело натыкался.
— Дорогой мой, вы ошибаетесь…
— Я никогда не ошибаюсь, никогда, — мерзавец, подлец…
— Отпустите меня…
— Не отпущу… Не отпущу, я загоню тебя в яму, откуда тебе не выбраться, брошу в бездонную клоаку, где корчится от мук столько предателей… Будешь висеть вниз головой в зловонной жиже и не сможешь ни вылезти, ни утонуть… Я обрекаю тебя на семьсот лет, три месяца и одиннадцать дней…
В этот момент кассир почувствовал вблизи густое омерзительное зловоние и в страхе, что угрозы сумасшедшего вовсе не метафора, рванулся с мужеством отчаяния, освободился и вновь пустился наутек.
— Стой! Стой! Стрелять буду!
Перед кассиром металось по траве светлое пятно от электрического фонарика, за спиной слышался топот, но в ногах у него играла юношеская резвость, и он бы, конечно, удрал, если бы не заборчик, на который он налетел с размаху. Сумасшедший уже держал его за воротник.
— Я вас прощаю, вижу, вы слишком глупы, чтоб знать, что надлежит думать и что делать. Отпускаю тебя с миром и даже прошу принять мои извинения. Я знаю, такого, как я, не поймет первый встречный кретин. Надо поберечь нервы… Плевать я хотел, что про меня думают…
Даруя Спеванкевичу таким образом прощение, сумасшедший тем не менее его не отпустил: вцепившись в воротник, он приблизил к нему свое лицо, и они почти коснулись носами. Кассир рванулся, увидев жуткие черные глазницы, окруженные фосфорическим свечением.
— Дайте ухо… — прошептал маг, с беспокойством озираясь. Из черной глубины парка донеслось лошадиное фырканье. — Скорей, скорей, я хочу открыть вам великую тайну.
Прижатый к забору, кассир изворачивался как мог: очень уж страшно было… Но сумасшедший с ним совладал и, навалясь всем телом, зашептал, касаясь губами уха:
— До поры до времени мне приходится прикидываться сумасшедшим… Но осенью пробьет час… Коварная Польша покорится… ей суждено цвести у моих ног… Я осыплю тебя золотом… Сделаю министром, генералом, архиепископом… Но сейчас я сам в критическом положении… Одолжите десять злотых…
Кассир начал рыться в кармане пальто, стараясь вытащить из скомканной пачки купюр какую-нибудь бумажку. Левой рукой при этом он пытался оттолкнуть от себя сумасшедшего, полный опасений, готовый к тому, что в любой момент может приключиться что-то еще. Наконец он надорвал пачку и вытянул банкнот, кажется, в пятьдесят злотых. Холодные гибкие пальцы тотчас схватили деньги. Таинственная лошадь фыркнула неподалеку. Из-за деревьев показалось нечто похожее на приземистую человеческую фигуру. Перемещалась эта фигура довольно странным образом, с большой медлительностью. На голове — огромная шляпа, кажется, белая, под шляпой, судя по всему, — плащ, длинный, стелющийся по земле. С усилием вглядываясь в чудовище, предчувствуя покушение, Спеванкевич хотел было податься назад, но ему не позволил забор, не отпускал кассира и маг, обхвативший его за пояс… Вот, значит, как… Он у них во власти, ему суждено погибнуть в этом безлюдье… Спеванкевич рванулся снова, но мнимый сумасшедший его не выпустил… Внезапно кто-то снова фыркнул, бодро, зычно, как настоящая лошадь, и кассир закрыл глаза…
— Не бойтесь, — прошептал маг. — Вы увидите любопытный симбиоз двух человеческих существ… Оба похожи на душевнобольных, впрочем, кто знает…
— Отпустите…
— Сейчас. Только будьте осторожны, не вздумайте их дразнить, один из них силач, он и в самом деле как лошадь, а иногда… Здравствуйте, ваше величество! Осмелюсь спросить, куда держите путь?
— Я выступил в Калушин отвоевать свой трон и покарать предателей.
— Да ведет тебя Господь, король наш, да ниспошлет он тебе победу! Освободи поскорей всех нас, изнывающих в ярме рабства! Как удалось тебе обмануть бдительных стражей крепости?
— Всех стражей я обратил в камень.
— И поделом! А как поживает твой верный королевский скакун?
В ответ скакун громко фыркнул, и ездок любовно потрепал его по шее…
— Смотрите… — прошептал маг. Кассир не выдержал и открыл глаза. Ударил яркий луч электрического фонарика, и Спеванкевичу предстала нелепая и дикая картина. Две пары человеческих глаз смотрели на него в упор два страшных лица. Снизу была заросшая черными космами физиономия одного, а выше, из-под бумажной шляпы, выглядывало маленькое старческое личико другого, морщинистое и подернутое пухом седых волос. На плечах короля красовались эполеты с бахромой, тщедушная грудь была увешана множеством разноцветных бумажных орденов. В одной руке он держал красный флажок на палочке, в другой — выструганный из дощечки меч. «Скакун», на которого он взгромоздился, был, по-видимому, изрядного роста детиной. Кассира ужаснули злые испытующие глазки, которыми тот не мигая уставился на него. Вот «скакун» фыркнул и, сжав в кулак огромную черную руку, принялся рыть ею землю, совсем как лошадь копытом. Фыркнул еще раз и приблизился.
— Сердится, — шепнул маг. — Это знаменитый когда-то конокрад Шолтыс, мужики в конце концов поймали его и выбили из него ум — лупили кольями двадцать четыре часа подряд. С тех пор он стал лошадью. Ничего не берет руками, не произносит ни слова и передвигается только на четвереньках. Король, портной из Калушина, заботится о нем, кормит, иногда даже моет. У, как злится… Увидел чужака и требует папиросу — дайте ему закурить…
Кассир вынул из кармана пачку американских папирос, достал одну, зажег и осторожно сунул «коню» в рот. Тот затянулся и радостно заржал. Король с любезной улыбкой отсалютовал по-военному… Внезапно «конь» стал на дыбы — что за верзила! — и, недолго думая, сбросил с себя короля, и оба они кинулись в чащу. Фонарик погас… Длинноногий маг поспешно перемахнул через забор и тоже исчез в темноте. Кассир ничего не понял, но и его охватила паника. Между деревьями вспыхнул слабенький огонек — будто спичка — и пропал. Кассир пустился бегом, держась вдоль забора. Шагов через двадцать он присел и, притаившись, прислушался. За забором, в той стороне, куда убежал маг, послышались мужские голоса, они кричали и бранились, через минуту раздался звучный голос мага, с насмешкой им что-то возразивший, затем внезапно и коротко брякнула мандолина, точно кого-то огрели по голове. Спеванкевич, который тем временем обжег о крапиву руку, помедлил и вдруг вскочил, точно прошитый острием… Земля прогибалась и ходила у него под ногами — он хватался за забор, но онемевшие пальцы никак не могли удержать жердь и срывались… Ряды освещенных окон далекого здания плясали в глазах, словно корабль на расходившихся волнах… В растерянности он посмотрел по сторонам. В его измученной голове росла твердая глыба льда, она разрывала череп…
— Нет-нет-нет… Это невозможно, это сон, страшный сон… А если не сон… Если…
Он делал все, чтобы проснуться. Попробовал кричать — но не мог издать ни звука. Тер лоб, бил кулаками по голове, взбрыкивал ногами. Освещенннй дом прыгал, как одержимый, взмывал в темноту, становился дыбом.
— Нет! Нет!
Спеванкевич все же не поддавался, боролся, но уже из последних сил. Он знал, что, если поверит, убедится, что это не сон, он тут же падет замертво. Потому что, потому что…
Портфель с тремястами семнадцатью тысячами долларов, портфель, заключающий в себе жизнь и смерть…
Он не имел понятия и о том, где находится. В голову лезла разная чушь, но память уже отказала. Мелькнуло и пропало… И еще веревка… Тачка под деревом…
И Спеванкевич схватился обеими руками за голову, та меж тем отделилась от туловища, готовясь, словно воздушный шарик, взмыть в пространство. Он покачнулся и рухнул в крапиву.
VI
Спеванкевича одолевал сон, но стоило закрыть глаза, как стая призраков, неистовствуя и насмехаясь, проносилась перед ним. Призраки были каждый раз иные, все грознее и грознее, но в конце концов появлялось самое страшное видение и так его терзало, что он вдруг просыпался; именно это мгновение и было всего мучительнее. Он не знал, где находится, спит или бодрствует, ничего не понимал, не верил тому, что видел. Он торопился закрыть глаза и, проваливаясь в темную бездну, уносился в неверном зыбком полете, как пущенный по ветру листок бумаги. Опуститься на землю он не мог, но в то же время чувствовал, что никуда не долетит, что это будет длиться вечность. В пути его одолевали безжалостные Призраки, увертливые, точно змеи. Вокруг него в хаотическом беспорядке совершались бессчетные события, и каждое влекло в свою сторону. Остались от него под конец одни лоскутья да клочья, он сам себя растерял, рассыпал по частице в разных далеких местах и вынужден был наблюдать одновременно тысячи чудовищных и нелепых происшествий; борясь с опасностями и бедами, он слушал и слушал рассказы о себе самом, любой из них был совершенно невероятен и в то же время правдив. Его беззастенчиво пичкали заведомой ложью, обольщали словами утешения и доброты, но стоило ему поверить, как его поражали точно громом сообщением о чем-то столь скверном и страшном, что он, раздавленный и уничтоженный, втоптанный в грязь, исчезал из вида и — о диво! — минуту словно бы отдыхал. Но его тотчас откапывали, отрывали: безжалостная огромная лопата извергала его на свет, как червя, посеченного на кусочки, и все повторялось сначала…
Наконец оно прекратилось, грозное, разрывающее череп кипение мозга — видимо, кто-то милосердный открыл туго завернутый клапан. Кипящий мозг рванулся паром и в одну секунду рассеялся. Облегчение, провал, пустота…
Теперь сон был уже крепкий. Что-то маячило временами, но уже спокойно, ненавязчиво. Большая Медведица, пылающая семью своими солнцами в черном небе… Блуждание в темноте, в незнакомом месте, поиски чего-то ночью… Вещь неслыханная — чудо, которое не удивляет и не радует… Зал ожидания на станции, в толпе двое подозрительных… Четверо подозрительных, семеро подозрительных, множество подозрительных, они увеличиваются в числе… подозрительные — это все…
…В окошечке железнодорожной кассы сидит он сам и самому себе продает билет, станция превращается в банк… Паника выбрасывает его на перрон вместе с убегающей толпой… Ада зазывает его квакающим голосом из окна вагона третьего класса — еще чего не хватало… Директор Згула из первого класса протягивает за портфелем длинные, словно жерди, руки — нашел дурака… В купе второго класса сидит Рудольф Понтиус и читает газету — простите… Некуда деться. Толпа подозрительных оттеснила его на площадку вагона, сталкивает на ступеньки, поезд мчится… Множество рук пытается вырвать у него из-под мышки портфель, но он держит его крепко, те, однако, тянут еще сильнее… Над самым его ухом кто-то со свистом затачивает нож — Спеванкевич выскочил на полном ходу и с разгону мчится семимильными шагами по свету, опережает поезд, вот он одним прыжком перемахнул Варшаву, минует Модлин, Плоцк, Гданьск, перескакивает море и намеревается заночевать в Стокгольме… Оказывается, в Стокгольме есть точно такая же Панская улица, только там ничто ему не грозит. В воротах пусто, на лестнице — никого… Он валится на кушетку и собственным телом накрывает портфель…
Когда он проснулся, было уже светло. Он вскочил и сел на кушетке. Расцарапанная нога опухла и ныла, на костюм нацепилось множество колючек от лопуха, крохотных семян липучки, полуботинки еще мокрые. Это усилило смутное предположение, что вчерашние события были все же реальностью. Но вспомнить что-либо так и не удалось. Правда мешалась с вымыслом. Поиски портфеля, путь к станции, дальнейшая дорога домой стерлись из памяти начисто. Кто думал за него? Кто его направлял? Он пребывал, вероятно, в гипнотическом трансе, под чьим-то внушением… Как это провидение сохранило его сокровище? Каким чудом брошенный на произвол судьбы портфель не был похищен ворами, не стал добычей грабителей, не исчез неведомо куда, а уцелел и остался в его руках? Болью и страхом наполнила Спеванкевича мысль, что любая из тысячи роковых случайностей — не слишком ли много их последнее время? — была не только возможна, но даже неизбежна. Он схватил обеими руками портфель и уставился на один из его латунных замочков. Потом перевел взгляд на другой. Потом опять на первый. Глаза стали перебегать от замка к замку, все быстрее, быстрее… Он ощутил, как его подхватывает и несет вихрь восторга. Беспредельное облегчение, чувство благодарности судьбе переплелись с отчаянием, со страхом перед тюрьмой, позором и казнью — эти призраки составляли как бы фон счастья, увеличивали его силу…
И вдруг портфель выскользнул на ковер. Спеванкевич сорвался с кушетки и отскочил в страхе на другой конец комнаты, к самым дверям. Он смотрел на портфель безумными глазами. По лицу прошла судорога, одна дикая гримаса сменяла другую, руки двигались сами по себе, производя нелепые жесты. Вот он шагнул и затаился… Вот припал к полу и подкрадывается на четвереньках, как хищный зверь, охваченный яростью… вот ползет, точно последний бедняк, который, пресмыкаясь у ног жестокого тирана, умоляет даровать ему жизнь. Долгим, мучительным путешествием были эти несколько метров, наконец трепещущая рука отважилась прикоснуться к желтому портфелю, таящему в себе загадку. Может быть, все еще в порядке… Ах, может… Может… Дай-то Бог… Никто в него не заглядывал, он закрыт, как был закрыт, на оба замочка, нетронутый, целый…
Но вчера, когда юн находился во власти безумия… Когда, словно мертвец, лежал под забором, поверженный ужасом… В темноте неведомого пустынного парка… Или когда, подобно лунатику, бродил близ станции… Когда в невероятной давке ехал в поезде, возвращаясь домой. Несколько часов в состоянии гипнотического транса!..
И каждый мог, да еще как мог, сто раз мог! Выходит, все погибло… Что. проще, чем отобрать у невменяемого портфель, открыть, забрать доллары, набить его затем книгами, бумагой, чем попало и сунуть снова хозяину под мышку!..
А деньги в карманах?
Он вскочил и стал выбрасывать на ковер из всех карманов пальто, которого так еще и не снял, пачки банкнотов… Полетели злотые, франки, фунты… Он сел и схватил портфель. Долго, неумело, ежесекундно теряя ключ, не в силах попасть в отверстие, открывал он латунные замочки… Осанна! Осанна! Урра…
Радость не убивает, но кассир долго не мог успокоиться. Ему нужен был простор, размах и полет, чтоб извергнуть из себя бурю восторга. Он метался из угла в угол, бегал рысцой по каморке, садился, вставал, танцевал, проделывая нелепые, но исполненные тайного смысла движения, разыграл целую пантомиму. Наконец, будучи не в состоянии вынести счастье в одиночку, он бросился, раскрыв объятия, к единственному в комнате подобию человека: обнял за шею Сенеку, стоявшего на полке с книгами, и многократно облобызал его пыльный лоб. Мудрец, оторопев от неожиданности, потерял равновесие, упал на пол и, брякнув, как горшок, разлетелся на осколки.
Этого было достаточно. Спеванкевич пришел в себя, подобрал деньги и занялся туалетом. В квартире все ожило. Минуту спустя постучала ненавистная Текла и внесла поднос с завтраком. Через четверть часа кассир вышел на улицу. Больше для порядка, чем по необходимости, огляделся по сторонам. Он был исцелен — никаких подозрений, никаких призраков. Возле ворот он задержался, посмотрел на часы — до открытия банка еще три четверти часа. Кассир терпеливо подождал, пока лицо со следами трагических потрясений не застынет, приняв выражение классической мумии. Наконец небрежным жестом остановил мчащееся мимо такси и поехал.
Хотя он ехал по улицам, знакомым ему до тошноты, хотя у него не было сегодня ни склонности, ни охоты производить наблюдения, повсюду, однако, бросалась в глаза странная перемена в людях и вещах. Не время было задумываться над этим явлением, тем более изучать его. Но день был все же светлее, солнечнее и все рисовалось взору ярче, выпуклей. То здесь, то там, а точнее сказать, всюду что-то улыбалось ему. Спеванкевич, которому в жизни еще никогда ничто не улыбалось, поддался новому настроению и стал с жадностью озираться, словно очутился вдруг в чужом для него мире.
Боже, как хорошо!!.. Какое облегчение! Какое счастье…
Ему довелось открыть великую тайну, что наивысшее благо человека — жизнь. Не жизнь с ее добрыми и злыми событиями, не ее величие или убожество, а сам по себе голый факт существования, независимо от того, являешься ли ты президентом Речи Посполитой, или слепым стариком-нищим на паперти костела, или кассиром Спеванкевичем. Жить — главное, а остальное обманчиво, опасно, чревато неприятностями и, конечно, конечно же, не играет большой роли. Благодаря уродствам цивилизации, благодаря неумолимой неустанной борьбе за существование, человек утратил эту простую радость жизни. Сохранил ее воробей, просыпающийся с рассветом, сохранил даже листок на дереве и даже — это странно, но вполне понятно — даже мертвый камень.
Спеванкевич с шиком подкатил к банку. Вот входные двери, где за зеркальным стеклом, на удивление всему свету, исполняет с торжественностью архиепископа в присутственные часы свои обязанности монументальный, облеченный в ливрею, скопированную с униформы привратника нью-йоркского «Бой энд Разбой банка», седовласый патриарх, швейцар Дионизий Щубец. Но вместо него в дверях торчит ничем не примечательный полицейский, с традиционным ремешком на подбородке. Уже в дверях…
Он был непроницаем, как стена. Непримиримая, холодная и бесчувственная проза жизни… Его не соблазнит возвышенная человеческая мечта, не обманет ничье коварство. С логикой жизни не играют, кассир Спеванкевич! Бог мировых банков, золотой телец, не потерпит никакой насмешки, он видит все насквозь и спокойно, бесстрастно, как неживая самодвижущаяся машина, одной только своей тяжестью сокрушит святотатца. Да и кто отважится посягнуть?..
Первым побуждением Спеванкевича было сказать шоферу, чтоб гнал дальше, но полицейский испытующе, не мигая, уставился на него. Кучка зевак, человек пятнадцать, дежурившая у банка, любопытствуя, обступила автомобиль. Нимало не спеша, Спеванкевич заплатил шоферу и даже рука у него не дрогнула, когда он искал мелочь. Как солдат, закаленный в многодневной битве, испытавший превратности судьбы, познавший и ужас смерти, и радость победы, теперь, когда грянуло все-таки поражение, он, истощив свои силы, сдался и был спокоен. Ни на секунду не впал он в отчаяние, не строил пустых догадок, не доискивался в волнении, как же это случилось? Это его нисколько не интересовало. Дело было простое, а единственное спасение — проявление доброй воли, искреннее раскаяние и лояльность — короче, смягчающие вину обстоятельства. Он сожалеет о своем подлом поступке, он опомнился и явился сам, не званый, не пойманный, не приведенный под конвоем. Вот вся сумма наличными, а вот ведомость вчерашнего дня — все до гроша возвращено.
Но полицейский за стеклом только покачал головой. Говорит что-то, но слов не разобрать. Спеванкевич громко и решительно объясняет, кто он такой, однако через стекло ничего не слышно. Наконец полицейский поворачивается к нему спиной. Толпа зевак советует в один голос попытаться пройти через боковую дверь под аркой ворот.
— Во всем банке обыск.
— Правительственный комиссар все опечатал…
— Вся касса конфискована в пользу казны!
— Так им и надо! Ворье!..
— Директоров сегодня ночью арестовали…
— Ничего им не будет, откупятся.
— Кто-то из них бежал с деньгами за границу.
— Оба бежали! Как же, ищи ветра в поле!
— Что случилось?! Что случилось?! А мой вклад, мой текущий счет в банке…
— Хо-хо…
— Подумаешь, ограбили, и все. Вы что, не знали, зачем у нас банки?
— Боже милостивый… Сбережения всей моей жизни… Боже милостивый!
— Если правда, что банк отходит к государству, то государство вернет вам капитал целиком.
— Банк Польский выплатит.
— Нет, Дирекция сберегательных касс.
— Никто ломаного гроша не даст, говорю вам: оба директора вместе с вашими денежками за границу удрали.
— Восемнадцать тысяч злотых. Боже, Боже…
— Славный капиталец…
Вместе с причитающей дамой Спеванкевич в окружении толпы завернул за угол и очутился у закрытых ворот бокового проезда. Двое полицейских пытались разогнать любопытных. Спеванкевич протиснулся к одному из них, но стоило ему открыть рот, как полицейский на него накричал.
— Я служу в этом банке…
— Расходитесь!!! Сейчас прибудет помощник комиссара!.. Расходитесь!!! Говорите с помощником комиссара, а мне не велено никого пускать. Расходитесь!!!
— Пан полицейский, что случилось?
— Ничего не случилось — расходитесь!
— Пустите меня немедленно! Мои деньги, мои деньги — восемнадцать тысяч злотых!
— Расходитесь!!!
— Всюду обыск, бандиты расползлись по дому, как вши…
— Один даже через крышу бежал…
— Этого поймали аж на Желязной…
— Вы что, с ума сошли? Отсюда… И на Желязной поймали?
— На Сосновой! На Сосновой!
— А через Велькую так он даже с крыши на крышу перескочил, вот удалец, ха-ха-ха…
— Какие глупости вы говорите… Это Грабский доллары конфискует, дай Бог ему здоровья, хватит воровства!
— Во всех банках сегодня доллары забирают… За мошенничество, за дороговизну!.. Довольно на злотом поиграли.
— Как же, дождетесь вы этого в Польше! Держи карман шире!
— Скажите, пожалуйста, что здесь происходит?!
— Кассир ограбил банк…
— Три миллиона злотых и полмиллиона долларов!
— Так им и надо! Браво, кассир!
— Ведь вы же против порядка говорите… Имейте в виду, вас дети слушают… А вроде интеллигентом себя считаете…
— Правильно говорит! Правильно! Я такому кассир еще помог бы в трудную минуту.
— Вору?! Ну поздравляю…
— Да, да! По крайней мере протест против мерзостей всех этих господ. Браво, кассир!
— Браво!
— А у меня в прошлом году вклад девальвировали: за тысячу долларов — шесть злотых девятнадцать грошей! Не жди справедливости ниоткуда — так им и надо! Этого кассира я бы расцеловала.
Сомнения Спеванкевича рассеялись. Был момент, когда, вслушиваясь в разговоры, он было уже предположил… В сущности, все возможно, удивляло только стечение обстоятельств… Но, поглядев на коротконогую полную даму без шеи, которая так жаждала его расцеловать, он простился со всеми иллюзиями. Ничего другого и быть не может. Тем не менее он выбрался из толпы и побрел по боковой улочке. В голову пришла новая идея…
Единственно справедливая и спасительная! К черту смягчающие вину обстоятельства!.. Он не намерен унижаться, клянчить о снисхождении, ползать перед Сабиловичем и Згулой, изворачиваться перед полицией. Нет, он не будет выжимать из себя слезы раскаяния, не станет беспокоиться о жене и детях… Было б это отвратительно, жалко, воистину достойно Спеванкевича и все равно привело б за решетку.
Нет! Он вступит в банк с гордо поднятой головой, растолкает зевак, полицейских, сослуживцев. Велит доложить о себе как о мистере Эдвине Харв Мак-Клинтоке, знаменитом миллиардере из Ойл-Сити (штат Пенсильвания)… Он прибыл помочь Польше, вот его первый незначительный авансик в пользу скудной польской казны вместе с гарантией займа в двести пятьдесят миллионов долларов — yes! Он никого не узнаёт, держит себя большим барином, говорит только по-английски. Он стоит на своем, и с толку его не собьешь. Наслаждается всеобщим изумлением, наблюдает за физиономиями директоров, сенатора Айвачинского, депутата Кацикевича, служащих, комиссаров — надо только взять себя в руки, чтоб в этот момент не расхохотаться… Он открывает портфель и высыпает все прямо на пол, выворачивает карманы — люди стоят истуканами над кучей денег. А он засовывает руки по локоть в карманы брюк, как это делают американцы, и произносит большую речь, состоящую из невнятного бормотанья, носовых и горловых звуков, с некоторой долей знакомых английских слов и выражений… Четверо членов шайки стали на колени у груды денег, точней сказать, у его ног, они не верят своим глазам. Наконец они срываются с места и принимаются плясать от радости как одержимые.
Тут он не выдержал и вслух рассмеялся. Помедлил. Повернулся и посмотрел на банк. Да, да, бедняга Спеванкевич рехнулся. Кто б мог подумать?.. Впрочем, он всегда был чудаком, нелюдимом. Но что за характер! Какой служащий! Он и с ума-то сошел весьма приличным и рассудительным образом, а главное, оказался лоялен в отношении банка. Всякий иной безумец на его месте скрылся бы и растранжирил деньги, разбросал по улице, раздал людям, сжег, уничтожил, или спрятал, да так, что никто никогда не найдет. Но кассир Спеванкевич не мог сойти с ума столь пошлым образом.
Сослуживцы под наблюдением шайки торопливо пересчитывают деньги, проверяют согласно приложенному реестру, и директор Згула объявляет громогласно толпе служащих, репортеров, комиссаров и полицейских: «Касса банка „Детполь“ в полном порядке! Господа служащие — по местам!» Шайка окружает Спеванкевича: его гладят по щекам, ласкают, целуют — на все это он отвечает: «Yes, yes, indeed»[16]. Двое явившихся по специальному вызову врачей забирают его и везут не в какие-нибудь Творки, а в первоклассный, самый что ни на есть дорогой санаторий за счет банка, который не знает, каким образом проявить теперь свою благодарность. Там, в белоснежных стенах, среди цветов, окруженный трогательным вниманием, он в течение долгих месяцев выздоравливает в обществе вырождающихся, но все же очаровательных графинь и княжон, а также министров и депутатов, повредившихся в уме после недавнего столь долгого и тяжелого правительственного кризиса, и прочих сливок общества. Он входит в высший свет, возбуждая всеобщее уважение и интерес…
Впрочем, Боже ты мой — в самом ли деле нужна симуляция? Разве он не по-настоящему лишился рассудка? Разве не одержим он манией вот уже несколько лет подряд? Зачем мучить себя, держать в узде, зачем приспосабливаться к гаденькому образу жизни нормальных людей и прикидываться, будто ты такой же, как все? Зачем скрывать и прятать свои тайные мечты, желания, зачем стыдиться самого себя? Довольно! Пора обнажиться перед всем миром — вот он я, вот подлинный Иероним Спеванкевич!
Карьера сумасшедшего привлекала его свободой и независимостью. Она открывала перед ним глубины непознанного мира, захватывающие и страшные. Вот когда расцветет, словно заколдованный цветок, все то, что было угнетено и подавлено, растоптано и осквернено, вот когда воскреснет его поруганная мечта. Оживут и станут явью мысли, видения, повести, драмы, фильмы, галлюцинации, среди которых он существовал столько лет, сознавая, даже в минуты забытья, что это все фикция и бред, призванный всего-навсего скрасить убожество жалкой его жизни да так и не скрасивший, ни разу, никогда. Уйти с головой в хаос безудержной фантасмагории, признать ее единственным видом действительности, жить и выжить с непоколебимой логикой сумасшедшего… Совершить грандиозный переворот — опрокинуть мир вместе со всем тем, что в нем существует, поставить его вверх дном, запутать, переиначить и заставить служить себе и только себе, единственному хозяину и владыке, сотворившему все сущее и ежесекундно творящему то, что ему заблагорассудится…
К этому толкала, принуждала его идиотская ситуация, в которой он очутился, но едва ли не больше был соблазн погрузиться в пучину безумия, познать его тайны… Уйти навсегда из опротивевшего ему мира, устраниться — пусть люди кричат вслед сколько влезет: «Сумасшедший! Сумасшедший!» Перенестись в страну своей собственной правды, выше которой нет ничего на свете! Такой, например, «маг» летает себе вечерами на Полярную звезду и никто не выбьет этой дури у него из головы. «Магу» доступны экстазы, о которых никто, кроме него, понятия не имеет. Он колоссальная фигура своей эпохи, с ним борется и не может его одолеть всесильная государственная машина. Желая во Что бы то ни стало вырвать у него тайну производства золота, правительство засылает в Творки тысячи шпионов, где те прикидываются больными, мало этого, не считаясь с миллионными затратами, специально для него строят радиостанцию. «Маг» велик, недосягаем и наперекор всем преследованиям счастлив!
Нет ничего проще, чем сойти с ума, имея к тому некоторую склонность и дар воображения. Делается это весьма простым способом — надо только решиться и совершить первый шаг, по настоящему безумный, надо устроить демонстрацию, иначе говоря, сжечь за собой мосты, а остальное придет само собой. Это все равно как через волшебную дверцу проскользнуть из одного мира в другой. На границе между нормой и безумием нет нейтральной полосы, эта линия математическая, иначе говоря, доля секунды. Необходимо лишь краткое усилие воли, а дальше включится автоматическое устройство великого преображения, оно подхватит и понесет безумца. Прочь унизительную симуляцию! По собственному желанию, не придавая значения дурацкому происшествию, которое заставило его… какое там заставило, — просто предоставило возможность осуществить давно задуманное дело — переступить порог иного мира, он станет и в самом деле миллиардером, Мак-Клинтоком из Ойл-Сити, другом покойного президента Вильсона, восприемником и глашатаем его четырнадцати пунктов и многих прочих идеалов. В этой благородной роли, подкрепленной займом в двести пятьдесят миллионов, он прибывает на родину Костюшко как благотворитель и апостол, и весь мир взирает на него.
Ни минуты не колеблясь, он остановил первого встречного, да, именно Первого, какой подвернулся, — это был тщедушный студентик в форменной шапочке помидорного цвета — и залепетал что-то на некоем фантастическом наречии. Студент как назло ответил довольно бойко по-английски и с готовностью осведомился, чего ему, собственно, надо? Спеванкевич ужасно смутился, стал говорить еще бессвязней прежнего и обратился в бегство. После неудачного дебюта он круто изменил курс и поспешно направился к банку. Его несло вдохновение. Он воплощался в Мак-Клинтока, лицо — маска спокойствия и самоуверенного превосходства, он даже пожалел, что не купил американских очков в черной оправе, тогда и вид был бы куда внушительнее.
Издалека он заметил, что толпа у банка порядком выросла, он узнавал товарищей по работе. Ближе всех, в кругу разбушевавшихся сослуживцев, стоял Колебчинский, те размахивали руками у него перед носом. Спеванкевич шел прямо на них, приняв окончательное решение, но шагах в десяти заколебался. Страх впился в него и что есть сил поворачивал вспять… Кассир чувствовал: не возьми он сейчас себя в руки, все пропало — он обратится в бегство, помчится во весь дух да еще заверещит от ужаса… Он знал, что тогда он и в самом деле рехнется, по-настоящему, раз и навсегда… Еще шаг… он медлил, борясь с самим собой. Ни вперед, ни назад. Сила вдруг иссякла, голова стала пустая-пустая, в ней все время что-то, треща, подпрыгивало, как горошина в надутом бычьем пузыре… Он стоял, глядел и ждал какого-то слова, знака, потому что собственных желаний у него не было.
Время будто остановилось, кассиру казалось, что он стоит уже больше часа, а меж тем ничего так и не произошло, толпа не сдвинулась с места, сослуживцы вокруг Колебчинского все еще кричат и размахивают руками. Наконец непередаваемое облегчение: он ощутил, что кто-то берет его под руку. Даже глаза зажмурил от блаженства — что будет, то будет…
— Господь покарал нас за чужие грехи… на то его святая воля… Но я взываю к его неистощимому милосердию… Несчастье, великое несчастье, пан Иероним…
Выведенный из оцепенения, Спеванкевич так и пошел с закрытыми глазами. Смысл речи был ему неясен, но он узнал голос директора Сабиловича. Делая мелкие шажки и тяжело опираясь о его руку, старик с сопением говорил:
— Преступников схватили, но денег пока ни гроша… В таких случаях стоит применять, я не говорю «пытки», но определенные методы, вынуждающие грабителя признаться… Иначе ни один не скажет… отсидит свой срок и через парочку лет заживет припеваючи… Наш сенатор должен быть сегодня по этому делу у министра юстиции… Приветствую вас, господа! Добрый день! Добрый день! Ах, какой страшный день…
— Пан директор, говорят, часть денег нашли…
— Где? Кто сказал?!
— Репортер из «Польской прессы»! Только что тут был…
— Полчаса назад арестовали на Гданьском вокзале еврейку, ту, рыжую, которая во дворе папиросами торговала.
— Эту? Эту?!
— Что значит «эту»? Какую ж еще?! Ведь это из ее лавчонки пролезли в банк. Ее самую, мы все ее знаем.
— Аду?
— Ну-ну.
— Нашли что-нибудь при ней?
— Говорят, сто тысяч долларов…
— Шельма! Вот шельма! Кто б мог подумать…
— Сидела тут стенка в стенку с кассой и два месяца ждала случая… Сообщал ей кто-то из наших, ой сообщал…
— А что?
— Как это «что»? Почему ж вломились как раз в ту самую ночь, когда в кассе одних только долларов было около полумиллиона?
Кассир открыл глаза и повел диким взглядом вокруг — с одного лица на другое. Директор увлек его в ворота. Там, прислонясь к стене, стоял, похожий на окоченевший труп, чахоточный хозяин «Дешевполя», рядом — двое полицейских. В глубине двора перед «Дешевполем» и «Дармополем» красовался двойной караул с винтовками. Вблизи боковой двери директора молниеносно обступили репортеры.
— Назовите точную сумму, которая находилась в кассе в трагическую ночь…
— Скажите, нет ли у вас каких-либо серьезных оснований полагать, что кто-либо из столь многочисленного персонала банка мог принять в этом участие?..
— Установлено, что сегодня утром некий Дайский, бывший служащий банка, исчез загадочным образом из своей квартиры на Качей улице…
— От имени редакции «Пыли» прошу краткое интервью… Во-первых, чем объясните вы столь знаменательное стечение обстоятельств, что…
— Здравствуйте… Продолжая наш вчерашний разговор…
— Правда ли, что вмешательство британского генерального консульства…
— Разве состояние здоровья сенатора Айвачинского так пошатнулось, что…
— Являются ли слухи о вчерашнем решении экономического комитета кабинета министров по вопросу…
— На чем основывается правительственный комиссар в своем письме, требуя…
— Пан директор, агентство «Поль-Цит» разослало сегодня ночью по всем редакциям…
Не говоря ни слова, Сабилович пробивался сквозь толпу репортеров. Только охал да покряхтывал все сильнее. Затем, опираясь на руку кассира, помчался по анфиладе огромных пустых комнат в сторону главной кассы. Репортеры не сдавались и шли гурьбой следом, некоторые забегали вперед и нагло щелкали фотоаппаратами перед носом директора. Этот сброд самым явным, самым откровенным образом издевался над бедным финансистом и, радуясь наперед скандалу, сочинял уже, верно, про себя всякие враки, готовил небылицы и грязные инсинуации. Сабилович держался, сколько мог, но когда какая-то тощая, небритая личность в мятом костюме стала, не спросясь, зачитывать бессовестное и подлое сообщение «Поль-Цита», которое директор хорошо знал, он недопустимым образом забылся, и это повлекло за собой целый ряд роковых последствий еще в тот же самый день.
— Прочь отсюда! Лгуны, клеветники, негодяи! Пан комиссар, прошу вас немедленно водворить отсюда эту свору шантажистов!
— Аааа!.. Аааа!.. — завопила хором пресса. — Аааа! Оооо…
— Господа… господа… господа… господа… господа! Господа!!! — голосил комиссар, раскинув руки и заняв позицию между атакующими и директором. — Господа… господа… господа… Разрешите!!! Попрррошу назад… Пан директор, попрррошу успокоиться… Доступ в кассу закрыт! Идет научная экспертиза: измерения, дактилоскопические пробы…
— Пан комиссар, пресса имеет доступ всюду!
— В Европе, пан комиссар!..
— Пресса…
— Господа… господа… господа… пресса не поместится, комната очень маленькая.
— Пан комиссар, я требую, чтоб банк был очищен от посторонних, эти люди самым бессовестным образом… Слава Богу, пока что я здесь хозяин…
— Пока что, пока что, уважаемый, но через какой-нибудь часик…
— Через часик — в ратуше!
— Арестуйте немедленно этого негодяя! Вот этого, этого, с красным носом…
— Ха-ха-ха!!!
— Великолепно! Браво, «Детполь»!
— Колоссально! Фантастика!
— Ха-ха-ха…
— Господа… господа… господа… господа!!!
Надсадно хрипя и дрожа всем телом, директор под руку с верным кассиром, миновал кордон полицейских, которые с угрюмым уважением расступились. В каморке, где помещалась касса, орудовали три фотографа, таинственно-черные, похожие на чертей, они метались в лучах нестерпимо ярких ламп и рефлекторов; эти специалисты фотографировали взломанный сейф, стены, пол, бумаги и все, что попадалось под руку. Спеванкевич, оцепенев от ужаса, уставился на отверстия, зияющие в стенках сейфа, проеденные ацетиленовым пламенем и выбитые ломиком. Директор дрожал и плакал, как ребенок. Властитель доллара, король биржи, старейший финансовый магнат Америки, обновитель польской коммерции, патриот высокой пробы, почетный председатель и член бесчисленных национальных обществ, добрый гений нации, перед которым трепетал каждый очередной министр финансов, — был окончательно сломлен. Тихо всхлипывая, он тряс огромным, обвислым, дряблым, как студень, животом. Полицейский комиссар безмолвно замер над ним, трагически сосредоточенный, словно над катафалком. Внезапно директор повернулся к комиссару с загадочным вопросом в глазах, губы на бритом лице выгнулись скорбной подковкой… Кто знает, может, через минуту этот самый комиссар… Боже, лучше уж смерть!.. Комиссар как бы в ответ так вздернул свои черные, прочерченные вразлет брови, что те исчезли под кованым околышем фуражки, и полузакрыл глаза — страшная маска бесчувственного закона.
— Пан директор, кому нужна такая работа?…
Директор очнулся точно от глубокого сна и безумными глазами глянул на говорившего. Старшего рассыльного трясло от возмущения.
— Крохмальский, чего вам надо?..
— Да ведь я первый пришел сюда, пан директор, семи еще не было… Вижу, что творится, я — к телефону… Прибежали как нашпаренные эти из округа, все затоптали, все, что только можно было, перещупали, а теперь, извольте радоваться, эти дурацкие фотографии… Какой от всего этого прок, пусть кто-нибудь мне объяснит…
— Попрррошу вести себя спокойно и не препятствовать следственным работникам исполнять обязанности!!!
— Я, пан комиссар, не препятствую, я только хочу, видите ли, знать, какой в этом смысл!..
— Это не ваше дело!
Немую стену полицейских пробуравил тощий молодой субъект в соломенной шляпе — высокопоставленное лицо. Комиссар подтянулся и козырнул. Лицо, ухватившись за металлическую решетку кассы, смотрело некоторое время на специалистов, те при виде соломенной шляпы заметались, как одержимые.
— Отлично! Отлично! Господа, все как можно тщательней! Как можно больше снимков! Вещественные доказательства?.. Волосы? Нитки?.. Клочки одежды?.. Мелкие предметы?.. Собирать все как можно осторожней и откладывать в сторону. Боже сохрани, прикоснуться… Отлично… Отлично… Пан директор Сабилович? Можете быть абсолютно спокойны! Абсолютно! Все взломщики-профессионалы, которые значатся в картотеке следственного бюро, взяты уже под стражу, остальных мы, не жалея сил, разыскиваем. Бригада по борьбе со взломщиками поднята на ноги! Все вокзалы под наблюдением. Есть и результаты: это успешный арест некой Блайман, важная птица… Кажется, из здешнего «Дармополя»…
— А деньги?!
— Это ничего не значит! У нее при себе не могло быть денег, даже нельзя этого от нее требовать, в их профессии это строго-настрого запрещено. Добыча укрывается и перевозится кем-либо другим, но мы скоро до всех доберемся.
— А она что?..
— Разумеется, полностью отрицает, у нее есть даже верное алиби… Ее свидетелей я только что велел арестовать.
— Нужно всех, всех арестованных подвергнуть пытке, иначе…
— Ваша горечь понятна, но мысль достойна сожаления… Разве так можно!.. Мы с легкостью обойдемся нашими новейшими научными методами, основанными на экспериментальной психологии…
— Пусть экспериментальная, главное, изъять у них все до гроша!
— Нет… Нет! Мы ничего не добиваемся принуждением. Арестованного- незаметно, но последовательно подводят к полному признанию, метод Футлера и Шмауса… Не было еще преступника, который, проведя ночь с нашими следователями в серьезном деловом разговоре…
— Пан комиссар, — появился откуда-то из недр банка сотрудник полиции, — там во дворе….
— Спокойно и тихо! В чем дело?
Они принялись тихо беседовать в углу. Вспотевший агент, нашептывая что-то комиссару на ухо, не спускал меж тем со Спеванкевича вытаращенных рачьих глаз. Под сверлящим взглядом сыщика Спеванкевич согнулся вдвое. Это страшное всеведущее око так на него подействовало, что левая рука, в которой он держал портфель, задрожала и одновременно пачки долларов в портфеле переплавились, казалось, в огромный слиток свинца. К счастью, комиссар с агентом поспешили в сторону вестибюля, и директор затрусил следом, потянув за собой и кассира. Они догнали их в коридорчике, комиссар лежал, припав к стене, и был… без головы! Спеванкевич шарахнулся, как испуганная лошадь, но комиссар вынул из пролома голову и с удовлетворением рассмеялся.
— Тут потрудились специалисты — техника высшего класса! Мы имеем дело с мастерами! Вынимали по кирпичику, деликатно, тихо. На такую работу и посмотреть приятно…
Воспользовавшись тем, что директор, желая отереть слезы, на минуту его отпустил, кассир, подхваченный внезапным порывом любопытства, наклонился и сунул голову в квадратную дыру пролома. Его взгляду представился знакомый плакат с японкой, прибитый с обратной стороны шкафа, памятный ему диван, а в проходе между шкафами окно лавчонки, за окном он увидел двор и во дворе солдат неизвестного ему рода войск, с саблями, в темно-зеленых мундирах и в зеленых же конфедератках с золотым галуном. При виде этой комнатки, где, казалось, блуждал еще запах рыжей Ады, его охватило изумление. Он знал, ни на минуту не забывал о том, что «Дармополь» находится в одном доме с банком, но эта непосредственная близость внезапно его ошеломила, она была чем-то фантастическим, непостижимым. Как же так? Когда он заходил сюда в последний раз? Наверно, год назад… Нет, это было позавчера, только это неправда, это сон. То есть как сон?.. Ведь он таскался сюда каждый день… Сон ли его любовные безумства?.. Сон ли, что собирался бежать с ней в Калифорнию?.. Может быть, сон скорее то, что он видит сейчас сквозь пролом в стене?…
На Спеванкевича нашло вдруг помрачение. Последние дни пронеслись перед ним клубящимся хаосом: события, картины, люди опережали в гонке друг друга, одно видение перескакивало в панике через другое и в неистовой спешке убегало прочь. Все исчезло, осталось только то, что стояло перед глазами: диван, застланный «восточными» подушками, плакат с японкой, а на полу лежит, сжавшись в комок, привалившись к шкафу, весь мятый-перемятый и гадкий, как замаранная тряпка, «дядюшка». На лице у него все та же улыбка — раболепная и наглая.
— Это неправда! Неправда! — закричал Спеванкевич глухо, с усилием, как, задыхаясь, кричат во сне. Сзади кто-то его тронул, он дернулся, как ошпаренный вскочил, стукнулся с размаху головой о стену и, к неописуемому своему изумлению, очутился нос к носу с директором Згулой, которому в это время надлежало быть в Берлине, а то и где-нибудь подальше. Молодой директор был бледен, под глазами круги, но держался высокомерней и заносчивей обычного.
— Дайте вчерашнюю кассовую ведомость.
Кассир, застигнутый врасплох, подал директору портфель. Згула машинально взял его, но тотчас хватил портфелем об пол, взметнув тучу пыли — паркет в этом месте был усеян осколками кирпича.
— Ведомость, говорю я, черт побери! Вчерашнюю ведомость!! Вы что, тоже спятили?
Спеванкевич стал лихорадочно рыться в карманах. Згула стоял, похлопывая себя от нетерпения тросточкой по правой ноге. Кассир спешил как только мог; он поглядывал на директора с выражением страха и муки. А что, если ему придется сейчас отведать этой самой тросточки? Наконец он вытащил ворох мятых бумаг: записку с предостережением от мага, его же конверт со словом-заклятием «Меркус», еще что-то, еще что-то и… ведомость. Директор схватил ее, едва взглянув, разорвал в клочки и стал в ярости ругаться по-английски. Хватил тросточкой об пол так, что она разлетелась в куски, запустил рукоятью слоновой кости в стену и затем, изрыгая без устали проклятия, побежал по коридору. Спеванкевич, постояв немного, осмелился подобрать портфель.
Он боялся портфеля. Боялся так, словно внутри сидело какое-то живое существо, страшный предатель: стоит его тронуть, он заорет жутким голосом и выдаст кассира с головой. Он даже представлялся ему в образе не то Вашингтона, не то Линкольна, не то еще какого-то государственного деятеля, изображенного на бесчисленных банкнотах. А ну заорут все разом? А ну…
Портфель сам вываливался из рук. Зато злотые и — что совсем странно — фунты в карманах сидели тихо, только потому, разумеется, что были словно бы в стороне, не на виду… Он накрыл портфель полой пальто, стал держать ручку через карман — доллары тотчас угомонились — то-то!.. Но радость была преждевременной, длилась не более секунды: пробегающий по коридору Спых как-то странно посмотрел на Спеванкевича, заколебался, но, посланный, видимо, с важным поручением, пробежал все-таки мимо. Спеванкевич извлек портфель из-под пальто и, озираясь украдкой, стал в спешке искать укромный уголок, куда можно было бы его подбросить. Напрасно крутился он в пустом коридоре, подходящего места не оказалось и, хотя голоса в портфеле пока приумолкли, зато желтая его кожа стала жечь огнем руку. Вот-вот не выдержит, бросит портфель прямо на пол… И вдруг дыра в стене разверзлась перед ним как спасение. Недолго думая, Спеванкевич сунул портфель в отверстие, но тотчас рядом появился хмурый рослый полицейский, с ремешком на подбородке.
— В чем дело?
— Ни в чем… — ответил Спеванкевич, поспешно вынимая портфель.
— Пан Иероним… Дорогой мой… Выведите меня на улицу. Мне плохо…
Вышли. Спеванкевич изо всех сил вцепился в директора — единственный человек, на которого можно еще рассчитывать. В вестибюле — полицейские. Двери «Дармополя» — нараспашку. Во дворе, из наглухо закрытого, охраняемого полицейскими «Дешевполя», под аккомпанемент воплей шестерых ребятишек пробивались глухие безумные причитания женщины, что напоминало массовую сцену из оперы «Жидовка», воспроизводимую стареньким граммофоном на заезженной пластинке.
Посреди двора отряд из восьми зеленых бойцов, похожих на иностранных солдат в мундирах с золотым шитьем, при саблях и револьверах, в шеренге по двое, замер в грозной готовности. Их начальник затеял жаркий спор с квартальным, чей зычный бас перекрывал скрипучий голос зеленого офицерика.
— Пан Иероним, расстегните мне воротничок… Хочу глотнуть свежего воздуха…
— Пан директор, вот вода…
Директор пил стакан за стаканом из большого голубого сифона, чмокал, охал, постанывал и пил снова. Крохмальский шипел сифоном, не отходя ни на шаг, точно решил перелить в директора все до последней капли. Наконец директор крякнул из глубины огромного брюха — так натужно, что двор ответил эхом, а квартальный с офицером прекратили на мгновение спор.
— Наконец-то я прихожу в себя… Зря раздразнил я эту свору газетчиков… Без малейшей надобности, пан Иероним… Таких осложнений, такого стечения самых роковых обстоятельств не знает история. Пресса… И вдобавок, как гром с ясного неба, — медвежатники… Каждый час, каждая минута дорога, а они забираются сюда и все уносят… Неплохая шуточка, ха-ха-ха-ха-ха… Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха!..
Зашипел сифон, директор послушно потянулся к стакану. Зеленый начальник бросил орлиный взор на подчиненных и гаркнул: «За мной, марш!» Готовый к подвигам отрядик ринулся в атаку, полицейские сгрудились у дверей «Дармополя». И тут во двор выскочил инспектор в соломенной шляпе, сопровождаемый комиссаром, и, став между враждующими сторонами, предотвратил братоубийственное столкновение. Под градом категорических приказов, иронических вопросов и тяжких оскорблений вождь зеленых смолк, онемел, съежился, повернулся спиной к неприятелю и крикнул:
— Смирно!!! За мной… мааарш!!!
Зеленый отрядик, подражая во всем настоящему войску, зашагал к воротам, грозный даже в отступлении. Полицейские схватились за бока.
— Посмотрите-ка, пан директор, на что все это похоже?..
— А что? Что?!
Потрясенный событиями дня, согбенный под бременем несчастий финансовый магнат подумал, теряя рассудок при виде зеленых, что это тюремная стража явилась его арестовать.
— Видите ли, в лавочке тоже должны всё по очереди измерять, фотографировать и нюхать, а эти из табачной монополии лезут со своим обыском, их агенты сообщили, что тут склад американских контрабандных папирос. Ужасно быстро делается все у нас в Польше! Вот уже три месяца, как эта рыжая швабра открыла тут большую торговлю и вся Варшава таскается к ней за папиросами, а они, изволите видеть…
— Ага… Ага… — протянул, успокаиваясь, директор. Он все еще держал под руку кассира, а тот меж тем поглядывал украдкой в угол двора, где помещалась одна из уборных. Вот куда он подбросит портфель… Спеванкевич чувствовал: это надо сделать немедленно, иначе он не выдержит и громогласно при всех признается. Он робко шевельнул рукой, молясь в душе, чтоб директор его отпустил, но тот еще крепче оперся на него и тяжелой шаркающей походкой направился вместе с кассиром к порогу лавочки. На прилавке и на полу валялись баллоны с кислородом, сверла, ломы, ломики, две-три сардельки, парочка булочек, бутылка из-под коньяка, окурки, бумажки. За самым порогом, нарочно запачканный в чем-то вроде машинной смазки, на виду у всех был расстелен большой носовой платок с красной монограммой «I.S.» Кассир засмотрелся на платок и больше ничего уже не видел. Призрак неминуемой гибели, неотступно витающий над ним, в этот момент обозначился еще резче. Подбросить портфель — теперь не поможет. Из-за проклятого платка он, невинный, вовлечен в аферу взломщиков… На него, Спеванкевича, которому и не снилось, что Ада только выжидала момента, чтоб пробить дыру в стене и ринуться на овладение сейфом, падет теперь подозрение… Мало того, что подозрение… Он будет осужден… Вещественное доказательство…
Взрыв ненависти к жене… Эта мерзкая баба, она испортила ему жизнь, она погубила его… Ну зачем, зачем, на кой черт вышивала она эти буквы, да еще такие огромные… Дрянь, ах какая дрянь!!!
И вдруг мир подернулся туманом — слезы облегчения и растроганности… Кретинка, кикимора, это верно, однако… На секунду он даже, кажется, ее полюбил… Она вышила эту монограмму без всякой надобности, она поступила опрометчиво, она едва его не погубила, и однако… однако она его спасла! Позабыла, честная, славная, добрая, а может просто поленилась. Во всяком случае, над «S» нет черточки![17] Нет ее! Нет! На «S» миллионы фамилий, а на «S» с черточкой — лишь немногие исключения. Одно было бы неопровержимым доказательством, другое — ровным счетом ничего не значит. О Боже, какое стечение обстоятельств! Сквозь карман брюк он ощущал другой точно такой же платок, но с монограммой «I.S.», где черточка была обозначена! Этот платок рос у него в кармане, увеличивался, распухал, точно под гидравлическим прессом предварительно сжали в комок пятьдесят дюжин платков и всунули всю эту массу ему в карман, и теперь она набухает с неодолимостью стихийной силы, вот-вот прорвет одежду и вывалится на мостовую…
Спеванкевич опомнился. Сейчас главное — избавиться от денег, выгрести их где-нибудь в укромном месте из карманов и из портфеля. Портфель… он тоже может выдать. С тоской, с отчаянием он посмотрел в угол двора — двое полицейских рылись в помойке…
Прикинуться Мак-Клинтоком! Начать немедленно, потому что это последняя возможность! И вдруг кассир содрогнулся, даже директор бросил на него рассеянный взгляд — новая ужасная опасность… Во дворе появился полицейский, ведущий на поводке великолепную немецкую овчарку. Пес, гарцуя, натягивал поводок, точно рвался к работе.
— Господа! — крикнул комиссар, — прошу отойти и соблюдать спокойствие!
Директор оттащил кассира в сторону. Оказалось, что у них за спиной собралась уже толпа репортеров, которые каким-то образом сумели проникнуть во двор. Пес, понимавший, что его сейчас спустят с поводка, окинул собравшихся быстрым веселым взглядом и затанцевал на месте с хитрющей усмешкой. Кассир тем временем уже приметил, что собака обратила на него особое внимание и не сводит глаз. Наставила свои остроконечные уши и замерла, оцепенела, почти так же, как он сам. Одну секунду — но это была вечность — мерились они взглядом, после чего овчарка, спущенная с поводка, легко перескочила через порог, заодно и через платок, и принялась хозяйничать в лавчонке. Обнюхав всю проблему в самом общем виде, она исчезла затем в проходе между шкафами, залаяла трижды и явилась опять, следом за ней в проходе между шкафами показался рослый полицейский.
— Что вы там делаете, черт вас побери?!
— Пан комиссар, старший сержант Куляс велел охранять мне дыру.
— Дыру?.. Дыру?!.. Где Куляс?! — загремел комиссар.
— Старший сержант Куляс производит обыск в квартире сорок один, где проживают две проститутки.
— Выйти!.. Немедленно!
— Осторожно, не наступите на платок!.. Ну и порядки… Пан комиссар, если ваши люди намерены так помогать, прошу немедленно очистить помещение банка, а заодно и дом.
— Пан, инспектор, позволю себе заметить, что государственная полиция существует не для того, чтоб «очищать» помещение по приказу следственных органов!
— Пан комиссар, я категорически возражаю против какой бы то ни было игры слов в неподобающую минуту!
— Пан инспектор, позволю себе заметить: значение слов в языке установлено наукой и подкреплено каждодневным их употреблением. Сообщаю, что на старшего сержанта Куляса будет наложено взыскание!
— Ах, какой идиот!..
— Пан инспектор, напоминаю: оценка качеств личного состава полицейских сил подлежит исключительно моей компетенции.
Пока высокие чины спорили, ищейка присела и высоко задрала лапу, принявшись искать блох, желая, видимо, тем самым доказать, что в таких условиях низшему чину исполнять свои обязанности невозможно.
— Это Баттистини, наша лучшая ищейка, — информировал меж тем прессу старший сержант Пудель, профессор высшей собачьей школы. — Баттистини — сын знаменитого Гулливера и полицейской суки Мельдуи, лауреат многочисленных конкурсов. В его послужном списке обнаружение всех трех убийц семьи Пеховичей в Збуйках, разоблачение изготовителей фальшивых тысячемарочных банкнотов в Нендзинке под Варшавой, а также ликвидация известной банды Фестняковского, по паспорту Цуцилович, он же Цивиль. Кроме того, многочисленные дела со взломщиками, это основная его специальность…
Баттистини стал над платком, осторожно и опасливо его обнюхивая и кривя при этом нос с явным неодобрением. Вот он фыркнул раз, другой, задумался и поводя носом по полу устремился к порогу…
Все следили за собакой, затаив дыхание! Спеванкевич обратился в камень. Он ощущал себя во власти непостижимой мистической силы, которая вдруг указала на него перстом… Настойчиво придерживаясь зигзагообразного маршрута, чуткий пес вынюхивал что-то на полу, вот он передними лапами уже за порогом. Еще несколько шагов и…
«Признайся! Признайся сам, добровольно! Вот деньги… Вот все до гроша… Смягчающие вину обстоятельства… Милосердия! Пощады!»
Но, несмотря на невероятные усилия, из пересохшего, сведенного судорогой горла — ни звука. Пока еще можно, передай портфель директору!.. Сделай какое-нибудь движение, жест… Вырази что-нибудь глазами! Но рука вместе с портфелем точно приросла к боку, глаза смотрят на собаку, неподвижные и безжизненные, как глаза статуи. Вместе с тем какое-то тяжкое бездумье, каменное бесчувствие безраздельно овладело Спеванкевичем. «Собака меня загипнотизировала… Я погиб…»
— Господа, пожалуйста, в сторонку… — решительно произнес инспектор. — Прошу соблюдать тишину…
Статисты во дворе стали широким полукругом, ищейка работала носом, не пропуская ни одного сантиметра асфальтированной поверхности. Она уходила вбок, заворачивала, возвращалась и шла тем же путем сначала.
— Чудесное животное, — прошептал в восхищении профессор Пудель.
— Я лично не верю во всю эту затею с собаками, — сухо отозвался директор Згула.
Тогда Баттистини, вынюхивающий что-то у самых его ног, занялся его ботинками в безукоризненно, белых гетрах. Поднял морду к коленям. Обнюхал левую штанину. Коснулся свисающей вниз руки. Директор отдернул руку. Баттистини рявкнул. Профессор Пудель высоко поднял брови и затаил дыхание. Собака оглянулась как бы в изумлении на профессора, тот тихонько свистнул и указал на платок. Баттистини послушно вернулся и долго обследовал указанный ему предмет, после чего опять миновал порог и минуту спустя вновь стал принюхиваться к гетрам директора. Теряя терпение, Згула оттолкнул его ногой, но пес, зловеще заворчав, снова полез с неистовством к рукам. Руки поползли вверх, и тогда Баттистини принялся с упорством лаять на директора, глядя ему в глаза и беспрестанно оборачиваясь на своего шефа. Он ощетинился, готовясь к нападению, и лаял, лаял… Положение стало настолько двусмысленным, что профессору пришлось чмокнуть на таинственном полицейском языке, в ответ на что собака заскулила, и в ее голосе послышалось едва ли не человеческое изумление.
— Прекратите, пожалуйста, эти шутки и отзовите собаку!
Баттистини понял и зарычал, обнажив страшные зубы.
— Странно. Поразительно… Баттистини никогда не ошибается, — удивился профессор и взял собаку за ошейник.
— Знаю, что никогда, только держите крепче эту тварь…
Кто-то из репортеров фыркнул за спиной директора. Згула обернулся — и тогда вся пресса затряслась от хохота. Смеялись комиссары. Смеялись старшие и младшие сержанты, смеялись простые полицейские, насколько им позволял закрепленный на подбородке ремень, смеялся профессор Пудель, смеялась, оскалив пасть, его собака.
— Господа журналисты, — заговорил комиссар, — сами видите, собака нервничает, прошу очистить двор…
— Пан комиссар, скажите, неужели это подходящая работа для журналистов — очищать двор? — осведомился репортер «Сумерок».
— Только, пожалуйста, без острот, милостивые государи! Попрошу удалиться, наша лучшая собака дезориентирована и совершает явные ошибки.
— Скажите, а это доказано?
— Кто его знает…
— Ха-ха-ха…
— Ха-ха-ха…
— Имею честь просить представителей печати на конфиденциальную беседу! — провозгласил Згула, сизый. от бессильного бешенства. Стоило ему, однако, двинуться с места, как ищейка вырвалась, прыгнула на него сзади, вцепилась в великолепно сшитые брюки и выдрала большой клок английского сукна. Журналисты в панике разбежались по двору. Згула, держась за брюки, ринулся в вестибюль, полицейские приманивали и ловили собаку, но та позабыла о послушании и носилась по двору, зажав в зубах клочок светлой материи и с триумфом мотая головой.
— Взять его! Давайте следующего! — скомандовал комиссар, которому было уже не до смеха.
Журналисты после небольшого переполоха собрались снова вблизи «Дармополя». Мундиры окружили Баттистини в углу у помойки. В воротах появился низкорослый полицейский, ведя на поводке красавца-добермана.
— Назад! Назад! — крикнул профессор, бросившись опрометью к воротам. — Возьмите Шаляпина! Живо!!! Давайте Офелию!
Но было уже поздно. Доберман вздыбился едва ли не выше полицейского, дернул поводок и вырвался.
Гигантскими прыжками помчался он по двору, направляясь в тот угол, где у помойки метался отрезанный загонщиками Баттистини.
— Беда, беда!.. Три дня гауптвахты!!! — крикнул инспектор профессору Пуделю.
— Явиться с рапортом! Неделя ареста!!! — завопил профессор Пудель, обращаясь к коротышке-полицейскому, выпустившему добермана.
Собаки тем временем сцепились в страшной схватке не на жизнь, а на смерть. Баттистини шел в лобовую атаку, в то время как Шаляпин коварно хватал противника за чувствительные места. Рыча и щелкая зубами, они вставали на дыбы и старались повалить друг друга лапами — совсем как партнеры во французской борьбе. Они катались, ползали, они скулили и яростно хрипели. Потом вдруг вскакивали и через мгновение были уже в другом конце двора. Профессор и оба сержанта лупили их нещадно хлыстами, все полицейские по очереди пинали их и растаскивали. Профессора Пуделя одна из собак в сумотохе укусила за руку, но Шаляпин, по-видимому, одолевал, потому что Баттистини взвизгивал все громче и брал тоном все выше. Это длилось до бесконечности и уже грозило соперникам смертью, но внезапно появилась дворничиха с полным ушатом воды.
— Лейте!
Собак окатили. Баттистини, скуля и отряхиваясь, заковылял в направлении «Дармополя». Шаляпин, приволакивая заднюю лапу, направился к воротам.
— Ужасный антагонизм между двумя нашими лучшими ищейками, — воскликнул в горести профессор Пудель.
— Что ж, это случается между коллегами по профессии, и даже на высоких должностях, — утешил его представитель «Дыма».
— Не кажется ли вам, что это является нездоровым проявлением честолюбия — борьба во имя карьеры?может быть, тут играют роль чисто человеческие, я хочу сказать, чисто собачьи побуждения?
— Может, тут просто-напросто замешана женщина, то есть сука?..
— Вы что, господа, серьезно или вы, может, в такую минуту шутить решили?
— Но профессор…
— Нет, мы совершенно серьезно!
— Так вот… Два года тому назад Шаляпин впервые подрался с Баттистини…
— На какой-нибудь опере, профессор?
— Пан Иероним, нам здесь нечего больше делать… Проводите меня в мой кабинет… Крохмальский, еще сифон виши… И льду, льду побольше!
На лестнице, которая вела в кабинет, толпа служащих обступила Колебчинского. Сыпались оскорбления.
Колебчинский, правда, кричал что-то в ответ, но его заглушали возгласы ярости и возмущения. Огрызаясь, он норовил подняться выше, однако толпа упорно двигалась за ним…
— Мои триста злотых!
— Идиот!..
— Чучело, галицийское чучело!
— Послушайте, господа, а сам-то он хоть что-нибудь потерял?
— Ни о чем не желаю знать, отдавайте мне мои сто пятьдесят злотых, не то, честное слово, я прямо в комиссию по борьбе с ростовщичеством… Я не потерплю тут черной биржи!
Гений, знаток всех тайн черной и белой биржи, схватывающий на лету финансовые парадоксы и легко ведущий верную игру, провалил на этот раз самым постыдным образом всю кампанию и увлек вместе с собой в трясину пустившихся в спекуляцию сослуживцев, а заодно великое множество их братьев, сестер, родных и двоюродных, их шурьев, зятьев, тещ, теток, бабушек и внучек. Даже появление директора не охладило страстей. Старому обессилевшему Сабиловичу пришлось протискиваться сквозь неистовствующую на лестнице ораву — в банке «Детполь» исчезло всякое представление о порядке и дисциплине…
Директор, весь обмякший, с багровым лицом, с помутневшими глазами, с отвислой нижней челюстью, утонул в огромном клубном кресле и захрипел, испуская громкие и все более редкие вздохи…
«Сейчас околеет… Суну-ка я портфель ему под кресло… Деньги из карманов покидаю в ящик письменного стола… Уже, уже кончается… Пусть потом ломают голову… Кажется, можно… Пан директор?.. Пан директор?.. Уже все. Еще минута, и я свободен… О Боже, только б никто не вошел…»
Вбежал Згула, и за его спиной показался дородный маклер Шрон. Молодой директор ерошил свои тщательно зачесанные на пробор волосы, голос у него был неуверенный и срывающийся. Он уже не корчил из себя англичанина.
— Сабилович, что с вами?! Сейчас не до шуток! Что со стариком?!
— Умер… — замогильным голосом возгласил высящийся над креслом Спеванкевич.
— Боже милостивый! — воскликнул Шрон.
— Ничего с ним не случится. Слушайте, Шрон, я подсчитал с карандашом в руке! Слушайте, сто семьдесят пять тысяч долларов чи-стень-ки-ми! А? Колоссальная победа! А?.. Такого еще в этой вашей Польше не бывало!.. Это же операция в масштабах Уолл-стрита… Ха… Ха… Что?.. И все собаке под хвост! Страна нищих — без лада и порядка, без полиции… Теперь все бросятся на меня…
— Каждому из следственного отдела я обещал по тысяче долларов…
— Это еще ничего не значит! Этим из бригады надо пообещать десять тысяч премии, и с сегодняшнего дня каждому в лапу задаток — сто долларов. И через два дня еще по сто!
— Где ж их всех отыскать?
— Я могу это сделать.
— Чудесно! Суйте каждому по сто!
— Лечу!
— Летите! Летите!
— А деньги?…
— Пустяки, дайте из своих.
— Нету!
— И у меня нет. Черт побери всю эту лавочку!
И Згула огромными шагами принялся мерить из конца в конец свой великолепный кабинет, помахивая хвостом драного белья, вылезшего из брюк.
— На что мы можем надеяться? Сегодня Катовицы, сегодня Гданьск, потом еще лодзинский филиал. Я сам принесу к двенадцати последние пять тысяч…
— Да, а правительственный комиссар может меж тем каждую минуту…, — фу! фу! Выплюньте, пан директор, свои слова…
— Министр финансов…
— Казначейство вынуждено вас поддержать! Вы были уже у министра иностранных дел? Он должен нажать на министерство финансов, чтоб заткнуть англичанам глотку… И вы туда не поехали?!
— Как я мог успеть?! Приехал всего час назад и вот, пожалуйста, влопался…
— Вот именно! Именно! Ведь это же vis major[18]. Какой там майор, это вис полковник. Это генерал. Это высшая сила: пожар, землетрясение! Мораторий обеспечен.
В кабинете появился сенатор Айвачинский, надутый и важный, с большим конвертом в руке — глаза смотрят в пол, седые брови вздернуты под самый чубчик; торчащий островком среди обширной как море лысины.
— А вот и вы! Постойте, что это за гримасы?..
— Да, это я. И я с величайшим возмущением протестую: вы злоупотребили моим доверием, мое доброе имя используется для прикрытия грязных махинаций. Я принес заявление, это аргументированный отказ от поста члена наблюдательного совета вашего банка, который…
— Который… Который… Старый шут! Вовремя подоспел! И думать не смей!
— А я смею… Копию настоящего документа я посылаю в редакции всех газет… Этого требует мое достоинство сенатора Речи Посполитой… Моя партия, на чьем незапятнанном знамени начертан девиз «Бог и Отчизна»…
При этих словах Сабилович зашевелился и воскрес из мертвых. Он приподнялся на ручках кресла и прохрипел, словно из бездны:
— Ах ты, подлая тварь… уголовник…
— Добрый вечер, пан директор, как здоровье? — подал голос маклер Шрон.
— Благодарю вас, Шрон… Я умираю… Но не умру, пока не засажу в тюрьму этого негодяя… Иуду без чести и совести… Вместе с этой гнусной скотиной, депутатом Кацикевичем, который незаконно задержал вчера поступления из лодзинского филиала… Якобы для покрытия моих векселей, которые я и выписал-то из чистой вежливости… Оба бандиты и воры, пусть суд решит, который хуже…
— Сегодня в вечернем выпуске «Дым» печатает наше интервью, где мы вместе с моим коллегой Кацикевичем разоблачаем ту подлую интригу, в которую нас втянули, и умываем руки… Мы оба одного и того же мнения: наш молодой парламентаризм должен быть незапятнанно чистым! Это единственная опора нации…
— Послушайте, сенатор, — прервал его Згула.
— Нет! Нет! Я решил окончательно, вы меня знаете…
— Давайте хорошенько рассудим…
— От этого ничто не изменится…
— Но все-таки…
— Что можете вы мне сказать?!
— Послушай, сенатор, я мог бы плюнуть тебе в рожу и спустить с лестницы… Но не теряю надежды, что мы договоримся.
— Ай… Ай! Отпустите меня! Помогите! Полиция!..
Згула, верзила и атлет, крепко держал сенатора за руки. Напрасно дергался и вырывался Айвачинский, приседая чуть ли не до земли, будто капризный ребенок, который сопротивляется насилию взрослого. Маклер Шрон предусмотрительно запер дверь на ключ и сам стал на страже.
— Одним ударом кулака я мог бы выбить все твои вставные зубы вместе с теми настоящими, какие там у тебя еще остались… Но предпочитаю напомнить тебе об акциях «Польского мыла», а также о поставках санитарно-гигиенических материалов. А теперь… Позволь я на ухо…
— Не надо! Не надо! Отпустите меня! Караул!
— Сказать вслух при этих господах?
— Нет! Нет!!!
Згула, не отпуская сенатора, зашептал ему что-то на ухо. Со стороны это выглядело, как если бы он поверял тайны своему лучшему другу. Директор Сабилович снова умер в кресле. Кассир застыл над ним, неподвижный, как надгробное изваяние. Так прошло, наверное, полминуты, и Шрон решил, что этого вполне достаточно. Он раскинул руки и приятным басом, со слащавой улыбкой, разлившейся по его жирной бритой физиономии, провозгласил:
— Мир, шляхтичи, мир! Мы, евреи, никогда не ссоримся в беде. Тут надо похлопотать. Тут надо побегать! Тут надо очень спешить! Мир! Ну!..
Беспрестанно, словно нянька, повторяя ласковые слова и поглаживая сенатора по белому как бумага лицу, Шрон заботливо и нежно усадил его в кресло, в котором тот утонул, — не человек, а тряпичная кукла со свисающими руками, с упавшей на грудь головой.
— Сенатор, дорогой! Отдохнем минуточку. Одну минуточку с часиками в руке! Отдыхайте скорее, как это делал наш великий Наполеон во время своих сражений, потому что через минуточку вы уже звоните в министерство иностранных дел секретарю Стренчинскому…
— Не буду!.. Он и говорить не станет!..
— Тихо! Ша! Отдыхайте!
Маклер сел за письменный стол и снял телефонную трубку. Згула метался по комнате, размахивая руками. Сабилович простерся мертвый. Кассир пребывал по-прежнему в оцепенении, мысль у него была только одна: убедить самого себя, что это не он присутствует в кабинете. Иначе и быть не может, иначе его давно выставили бы за дверь. Весь этот эпизод, казалось, был создан одним только воображением, настолько соответствовал он той сцене, которая при подобных обстоятельствах должна была разыграться за кулисами банка. Временами кассир таращил глаза, потом закрывал их снова, желая убедиться, что зрение, слух и прочие чувства его не обманывают. Перед его носом торчал лысый череп директора Сабиловича, обильно орошенный потом. Ну и череп — истый край долин и плоскогорий… Вот шишка финансового таланта, вот бородавка изворотливости, а вот эта шишечка над ухом — ярко выраженная склонность пакостить ближнему. Спеванкевич не мог сдержаться, прикоснулся пальцем к потной лысине и, напуганный своей смелостью, тотчас его отдернул. И тут же понял: бояться нечего, сейчас дозволено все. Вот так сон…
— Пан советник Лаузиг? Мое почтение, пан советник, добрый вечер, говорит Шрон… Вы уже знаете, в какую беду мы попали из-за этих уголовников… Что? Что?! Пан советник, это грязные сплетни, это клевета!.. Что? Все равно, ваш министр должен нас спасти! Должен! Должен!!! Да нет же!.. Нет!.. Министерство иностранных дел тоже очень и очень вмешается, оно страшно будет нажимать, потому что Англия возмущена, вся Англия — вы понимаете?! За нас парламентский клуб депутата Кацикевича и клуб сенатора Айвачинского, я думаю, ваш министр не захочет ссориться с третьей частью сейма, как раз сегодня, сегодня, пан Лаузиг!.. Еще раз вас, пан Лаузиг, предупреждаю, не подрывайте кредита Польской республики!.. Значит, во сколько директору Згуле приехать?.. В час? Невозможно! Мы спешим, но вам надо спешить еще больше, потому что Польша… Она не может ждать, пан Лаузиг!.. В одиннадцать? Но вместе с министром?.. Мое почтение, пан советник! Добрый вечер, пан Лаузиг!
— Что он там болтал?
— Много болтал… Неважно! Будьте у него вместе с сенатором ровно в одиннадцать. И возьмите их в оборот. Все складывается прекрасно: как раз сегодня сейм голосует за дрожжевой налог. Положение у кабинета непрочное, значит, Банк Польский за нас поручится. Шрон гарантирует, что поручится! Пан сенатор, к телефону! Алло! Дайте коммутатор министерства иностранных дел!.. Что?.. Вы, барышня, вату из ушей выньте — коммутатор министерства иностранных дел! Сенатор — прошу!
Сенатор застонал в отчаянии, но выкарабкался из кресла и стал на дрожащих ногах, сломленный, полуживой.
— Пан секретарь Стренчинский?. Говорит Шрон. Добрый вечер. С вами тут хочет сенатор Айвачинский… Вы уже знаете, что на закрытом заседании фракции все ужасно рассердились из-за испанского протокола и адриатической ноты? Могут быть большие неприятности. Сейчас он скажет вам все подробно — добрый вечер!
Сенатор окончательно отделился от кресла и, как лунатик, на негнущихся ногах, шагнул к телефону.
Спеванкевич очнулся от видений. В голове мигнуло нечто похожее на многократно вспыхнувшую зарницу, руки и ноги невольно дрогнули. Руки крепче прижали к телу портфель, ноги пожелали вынести его из кабинета. Глаза уставились на дверь, которая отодвинулась вдруг куда-то в глубину. Гладкая поверхность скользкого как лед паркета наполнила сердце робостью. Но он все-таки попытался пересилить себя — таинственный голос побуждал его настоятельно к действию, нашептывал что-то в оба уха. Топчась и переступая с ноги на ногу, Спеванкевич сдвинулся с места, но бронзовая ручка в далеких дверях повернулась и часто застучала, — кто-то в нетерпении тряс ее снаружи. Маклер Шрон, перегнувшись вперед, скользя, словно на коньках, на подошвах своих плоских остроносых ботинок, подъехал к двери и повернул ключ. Кассир понял — наконец наступило то, что должно было наступить… Трезвые, неумолимые факты, железная логика событий — конец! Страх был огромен, но в измученном мозгу что-то прояснилось, сверкнула новая истина. Уничтоженный и выброшенный из жизни, наконец-то он познает покой.
Появился инспектор, начальник следственного отдела, и, точно подталкиваемый кем-то сзади, заскользил, придерживаясь геометрической прямой, по льду замерзшего пруда. За ним несколько штатских, пущенных в ход все той же невидимой силой, скользили, рассыпанные врозь, а в хвосте вынырнула ничего не значащая бесцветная личность — тип в высшей степени подозрительный.
Спеванкевич определил это с первого взгляда. Инспектор со своими помощниками пришел его арестовать — он сразу отдаст им портфель. Но появление таинственной личности, которая уже с порога уставилась на него, нагнало на кассира такого страху, что если б он мог оторвать ноги от паркета, он обратился бы в бегство, а поскольку бежать было некуда, выскочил бы в окно…
Инспектор поговорил для начала со Згулой. Подозрительный тип вынул платок и отер со лба пот. Сейчас, наверное, перейдет к действию. Кассир ловил каждое его движение, этот человек врезался ему в память со всеми подробностями: у него была крохотная головка, ужасно толстая шея, голубой галстук, носок на правой ноге спустился.
Инспектор улыбнулся, благожелательно и небрежно. Згула упорно его о чем-то расспрашивает, вот оба приближаются к креслу Сабиловича. Все затянулось до невыносимости, это уже издевательство. Как бы то ни было, сейчас он главная персона, как можно пренебрегать им в такой момент! Он открывает рот, но челюсти сами по себе смыкаются вновь. Он хочет обойти кресло и подать портфель инспектору, но тот стал и ни с места.
— Отойдите же на минутку, — буркнул Згула.
Спеванкевич отошел. Страшный человек, поодаль, не спускает с него глаз. Кассир поспешил к открытому окну. Говором и привольем пахнула на него буйная и беззаботная жизнь улицы. Кипение человеческого муравейника, такое знакомое, обыденное предстало вдруг как некая мистерия, во всем могуществе своей красоты и тайны. В этом и только в этом суть бытия. Сама стихия жизни, такая враждебная до сих пор, такая безжалостная, открылась ему внезапно во всем богатстве и обилии.
Не сумел он утвердиться как личность достойная и сильная, не мог слиться с человеческим потоком, как серая пылинка… Провел свои годы вне мира, вне людей — жалкий отщепенец, отравленный завистью и бунтом, одержимый бредовой мечтой… Не познал он радости, не достиг совершенства, и никогда ничего в этом мире не было у него собственного… Да, он урод, воплощенное ничтожество, глупая ошибка судьбы… Но в последнюю минуту, когда суждено ему уйти и исчезнуть, — слава тебе… Слава тебе… Слава тебе, сфера прекрасная, недоступная — жизнь истинная, глубокая и страшная!..
Это была последняя секунда — дрожь упоения. Под влиянием нахлынувших чувств он прощал все и всем — даже себе. Сейчас он рухнет на мостовую…
Он смотрел на улицу, полную говора и движения и ощущал в себе холод, безмолвие и мрак смерти, конец, покой, неизъяснимое блаженство. Мешал ему только чей-то хриплый скрипучий голос, требовательный и вместе с тем просительный. Он оглянулся. Кабинет внезапно уменьшился в размерах. За его спиной, у стола, сенатор Айвачинский говорил что-то в трубку, дурача и соблазняя министра, угрожая и умоляя. Кресло Сабиловича было окружено сотрудниками следственного отдела, подозрительное лицо что-то вполголоса докладывало. Згула слушал его самым внимательным образом, склонясь над креслом.
И тут кассир почувствовал отвращение. Родилось желание отомстить. Нет, то что случилось — это справедливая кара! Неужели деньги снова должны стать собственностью шайки?.. Никогда! Прежде чем он сам выскочит в окно, он швырнет все это богатство на улицу, прямо в толпу — пусть забирает кто хочет! Вот откроет портфель и высыпет — в минуту все похватают, разберут до последнего доллара. Ну и на здоровье!
Спеванкевичем овладела безумная слепая жажда осуществить свое намерение, точно за минуту до этого он не прощался с жизнью, с ее радостями и муками. Второпях он принялся неловко искать в карманах ключ от портфеля и в лихорадочном нетерпении оглянулся самым неосторожным образом раз, другой, третий… И все искал, искал…
Совершенно неожиданно рядом появился подозрительный тип и хладнокровно, не спеша, принялся закрывать окно. Все-то он знал, этот ясновидец-полицейский! Что ж, не теперь, так в тюрьме он покончит с собой, только ужасно жаль денег… Вот разъярилась бы шайка! А сколько людей благословило бы его память — в этом прощальном жесте уцелела бы хоть крохотная частица колоссальной идеи Спеванкевича-Мстителя…
На него нашла вдруг апатия. Стало скучно. Он зевнул раз, другой и замер, бездумно глядя в окно. Почувствовал нетерпение. Окно было закрыто, и уличный шум не заглушал слов. Он стал прислушиваться, что же все-таки о нем говорят… Но разговор происходил почти шепотом. Идиоты… Советуются, как к нему подступиться, чтоб сказал, где спрятаны деньги… Инспектор перебирает методы экспериментальной психологии. Сабилович предлагает пытку… Ха-ха-ха… Подозрительный субъект вместе с остальными приближается к нему…
— Что, здорово он вас измучил?
— Камень, не человек, говорю вам, скала…
— Неприступный такой?
— Чего там неприступный!.. Орет, беснуется, а сам слова путного не скажет, все свое да свое — нет и нет, алиби и алиби.
— А алиби есть?
— Алиби есть, но есть и здешний дворник, он его без малого раз сто у этой Блайман видел.
— Очная ставка была?
— Была. Врут оба, пыль в глаза пускают — загляденье. Она говорит, родственники ее из квартиры за день до этого выгнали…
— А где родственники?
— В том-то и дело. Единственный родственник — этот самый пройдоха, ну и Житко, которого мы вместе с ним арестовали. Того обрабатывает Лагодзинский из четвертой бригады по борьбе с бандитизмом, там его знают — Лагодзинскому уж он выложил, что ему известно, но этот мой, чтоб его черти взяли… Чуть из наручников не выскочил, измучил меня, едва на ногах стою. Проклятая служба…
— Банки надо бы поставить…
— Банки… Вот уже два часа, как ставлю, уморился, а он — ничего.
— На свирельке сыграть — все скажет.
— Седельце предложить, пусть посидит…
— На все будет время — банк дает по сто долларов на брата. Через два дня опять по сто. Зачем мне спешить?
Это был хитроумный способ, сильнейший прием… Видимо, данных им не хватает. Хотят, чтоб сам себя выдал… Болтают вроде бы невзначай друг с другом, а сами следят. Мучают ни в чем не повинного Квазимодо. Разве ж им неизвестно, что это сделал Хип из Лодзи? Какой-то страшный Лагодзинский обрабатывает Житко… Так им и надо, бандитам! Так им и надо!
Нет, это разговор с целью подловить его на любовных интрижках… Что ж, он признается: да, он ходил к этой рыжей за папиросами, флиртовал с ней… Ах, если б не деньги в карманах, можно было б еще о чем-то говорить… Впрочем, кому придет в голову дикая мысль, что он притащился сюда с деньгами? Отпустят его и будут следить… Боже, дай ясность мысли… Укажи, как я могу искупить грех…
— Спеванкевич!!!
— Здесь!
— Что вы тут делаете? Ищут вас по всему банку, а вы тут прохлаждаетесь… — набросился со злостью на Спеванкевича прокурист.
— Это я его сюда привел, мне самому было не подняться, — заступился добряк Сабилович за своего кассира. — Идите, пан Иероним, идите, мы сейчас открываем.
Прокурист повел Спеванкевича за перегородку с окошечком номер семнадцать и высыпал перед ним на стол груду пачек с деньгами. В банке навели уже порядок, служащие сидели на местах. Полиция покидала здание, вылезая из всех щелей. Величественно прошествовал через зал в своей ливрее швейцар Дионизий Шубец, он направился к монументальной входной двери.
VII
В три часа дня, когда банк закрыли, Спеванкевич вышел из дверей и очутился в новом, незнакомом ему городе. Он видел и знал, что это Маршалковская улица, но банальная и скучная Маршалковская, лишенная характера и стиля, улица магазинов и трамваев, исчезла без следа. Вместо нее сияло, кипело красками, гремело радостью нечто новое и великолепное. Все звуки города: говор, шарканье бесчисленных ног, крики газетчиков, сйующих с вечерним выпуском, грохот и звонки трамваев, гудки автомобилей слились как бы в одну мелодию — в безоблачный гимн счастью. Спеванкевич смотрел с изумлением по сторонам, не понимая перемены. Все лица дышали скульптурной красотой и в то же время, несмотря на бесконечность человеческого потока, были своеобразны, неповторимы. Взгляды бесчисленных глаз ласково овевали его на ходу, проникали в самое сердце, точно говорили: «Мы живем, и ты живи, мы братья!..» Каждый был изящен в каждом своем движении и шел словно танцуя, каждый в этой толпе был незауряден и красив, а главное — добр. Не было здесь посторонних людей, холодных, замкнутых в себе, — безжалостных эгоистов, которые проходят мимо чужой беды, отчаяния и одиночества. Да, это Маршалковская, но такая, какой она будет, когда сменится не меньше пятидесяти поколений, Маршалковская через две тысячи лет, после неисчислимых превращений, улица, которую заполнят далекие от нас, не появившиеся еще на свет человеческие существа из иного, более совершенного мира — мираж, возникший из бездны будущего и отраженный в сегодняшнем дне.
Спеванкевич знал: он смело может заговорить с любым, его поймут с первого слова. Незнакомый человек приласкает его, введет в свой дом, признает в нем брата. Каждая женщина улыбалась ему, как сестра, а может, возлюбленная, и все они принадлежат ему.
Долго шел он, ошеломленный, опьяненный непостижимым счастьем, и вдруг понял что-то… Его охватил покой до сих пор неведомый, ощущение присутствия на земле, общности с людьми и жизнью. Впервые за долгие годы почувствовал он тепло доброты и достоинство человека… А тот, его двойник — выродок, злой дух, куда-то бесследно исчез, сгорел в катаклизме только что промчавшихся часов, мучительных, неправдоподобных, как ночной кошмар. Он обособился, отделился от него, как отделяется от тела грязное, ветхое рубище. Да будет он проклят и забыт! Нет, это не мимолетное настроение, не радость зверя, с какой тот вырывается на свободу из смертельной западни. В адской муке, в бесславии позора, затравленный и униженный, загнанный в угол, он познал в самом себе чудо.
Его несло вдохновение, и не препятствовала тому никакая мысль. Не пробудилось еще любопытство, что будет потом, чем займется он в этом новом мире, который ему открылся. Безмерные возможности будущего, воплощённые в хаосе видений, возникали и маячили где-то далеко-далеко… Настоящая минута была исполнена божественной гармонии. Потрясенная и возрожденная душа уносилась, словно на крыльях, в беспредельность забвенья…
И вдруг он явственно увидел в себе самом и в том, что его окружало, значение совершившегося — того, что было и будет бесспорной, ощутимой реальностью.
…Самые тяжелые минуты он пережил в конце, сидя в окошечке номер семнадцать, куда временно перенесли кассу. Машинально, подчиняясь многолетней привычке, исполнял он свои обязанности, то вовлеченный в спор с клиентами, то вынужденный звонить в дирекцию, когда запас наличных денег был на исходе и приходилось ждать новых пачек с банкнотами, которые агенты, занятые беготней по банкам и финансовым ведомствам, подносили ему каждую минуту.
И тогда впервые появилось дикое предположение… Где-то внутри заерзала, стала сверлить сумасшедшая идея. Навязчивый абсурд, невероятное…
Как ни прикидывай, получается, что ему ничто не грозило и не грозит, что никто его не подозревал и не подозревает, а украденные доллары и фунты, все до единого, остаются при нем как трофеи выигранного сражения. И эта истина, такая простая, была трудна для понимания. Она мучила его, манила, исчезая. И появлялся хаос, кошмар, страх. Она возвращалась и била тараном в его несчастную голову. Он верил и тут же терял веру. Хватал ее, ловил — она летала вокруг, жужжа, как назойливая муха. Он то засыпал, то просыпался.
Все это время он считал деньги, принимал их, производил выплату и ни на грош не ошибся. Звонил по телефону, разговаривал с сослуживцами, записывал, пересчитывал — и был это, собственно, не он, а некто другой, это был давний кассир Спеванкевич, теперь ему уже совершенно чуждый. Человек новый, еще незнакомый проник в него неведомо когда и как и устроился бок о бок с кассиром, который был занят своим делом. Тот, другой, знал великую тайну, но их разделяла стена, которая мешала им увидеться друг с другом и договориться. Работая из последних сил, он с трудом дотянул до трех, то и дело поглядывая из окошечка на большие банковские часы, стрелки которых не знали сегодня снисхождения. Спеванкевич чувствовал, что под страхом чего-то ужасного, чего-то худшего, чем сама смерть, ему нельзя забыться ни на секунду. В отчаянии, точно погибая, снова и снова хватался он за работу и трудился без всякого перерыва, с усердием, не обращая внимания на страшного чужака, который сидел в нем самом — пока, впрочем, довольно спокойно…
Когда было десять минут четвертого и оставалось лишь, взяв пальто и портфель, отправиться домой, этот захватчик перевернул внезапно в его душе все вверх дном, и в хаосе исчез без следа образцовый служащий Спеванкевич и не подавал больше признаков жизни. За порогом банка новый, никому не ведомый человек вступил в неведомый мир.
Примечания
1
Утрата — станция под Варшавой. — Здесь и далее примеч. переводчика.
(обратно)2
Фрузинский и Ведель — фамилии хозяев кондитерских фирм.
(обратно)3
Сочетание букв «sz» читается в польском языке как «ш».
(обратно)4
«Парижская жизнь» (фр.).
(обратно)5
Только бы этот мерзавец (фр.).
(обратно)6
Мокотув — район Варшавы, где помещалась тюрьма.
(обратно)7
Попель — легендарный вельский король, съеденный, но преданию мышами.
(обратно)8
К молящей Свой лик скорбящий Склони в неизреченной доброте. С кручиной Смотри на сына, простертого в мученьях на кресте… (нем.).— Гете. «Фауст», часть 1. (Здесь и далее пер. Б. Пастернака.)
(обратно)9
Где шумно, людно, Дышать мне трудно, Поднять глаза на посторонних срам… (нем.) (обратно)10
Спаси меня от мук позора, Лицо ко мне склоня! Единая моя опора, Услышь, услышь меня! (нем.) (обратно)11
Да, да… Теперь я немец… Герр Рудольф Понтнус из Кенигсберга… (нем.)
(обратно)12
Понятовский Юзеф (1763–1813) — племянник последнего польского короля Станислава Августа, наполеоновский генерал.
(обратно)13
Бельведер — резиденция президента.
(обратно)14
Побережье вблизи Гданьска.
(обратно)15
Творки — местность под Варшавой, где на протяжении многих лет помещается больница для душевнобольных.
(обратно)16
Да, да, конечно (англ.).
(обратно)17
В польском языке два рода «s» — с черточкой и без черточки.
(обратно)18
Ненреодолимая сила (лат.).
(обратно)
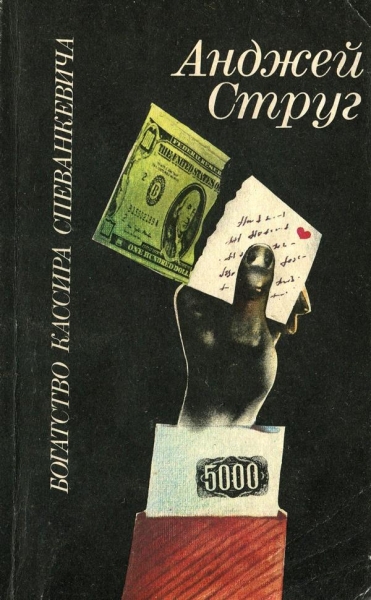
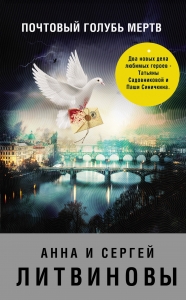



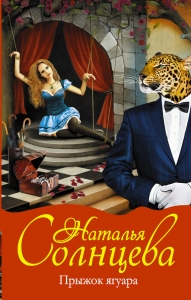





Комментарии к книге «Богатство кассира Спеванкевича», Анджей Струг
Всего 0 комментариев