Михаил ГЕРЧИК ОРУЖИЕ ДЛЯ УБИЙЦЫ Журнальный вариант
Глава 1
Шевчук ожидал Колосёнка, то и дело нетерпеливо поглядывая на часы. Олег опаздывал, пока, правда, всего на двенадцать минут, но Шевчуку это показалось дурным знаком: обычно он бывал точен. Неужели все сорвалось?
Как и договаривались, Шевчук стоял возле рекламной тумбы на улице Солнечной, там, где она начинала свой крутой и стремительный спуск к стадиону. Было время, которое поляки называют «час шэры»: короткий зимний день уже истаял, а вечер еще не наступил. Даже уличные фонари еще не зажглись, и все вокруг казалось унылым, зыбким и серым: небо над головой, по которому ветер гнал клочья набухших влагой туч, слежавшийся ноздреватый снег вдоль тротуаров, усталые и словно размытые лица прохожих, обшарпанные стены домов, лента обледенелого шоссе с редкими машинами. Серо, безрадостно было и на душе у Шевчука. Он ждал встречи, которой предстояло изменить его жизнь, осуществить все, о чем он мечтал в последние годы, и боялся ее, а особенно того, что за нею неумолимо должно последовать, и чувствовал, что не огорчится, если Колосёнок вообще не приедет.
Утром оттаяло, на асфальте появились черные проплешины, снег превратился в грязное месиво, хлюпавшее под ногами, но к полудню снова ударил мороз, и все вокруг окоченело. Дорогу подернула тускло поблескивавшая ледяная корка, тротуары стали скользкими, как каток, и люди шли, покачиваясь и осторожно переставляя ноги, чтобы не упасть. Замерзшие деревья звенели в сквере у Шевчука за спиной стеклянными ветками; этот хрустальный перезвон тупо отдавался в висках. «Еще пять минут, — подумал он, подняв воротник дубленки и засунув руки в карманы, — пять — и ни секунды больше».
И тут послышался скрежет плохо отрегулированных тормозов.
Голубенький «москвичок» Колосенка прополз метра на три дальше того места, где стоял Шевчук, и наконец остановился. Олег вылез из машины в расстегнутой куртке и махнул Шевчуку рукой.
— Привет. Заждался?
— 0 паздываешь.
— К старикам в деревню ездил, кабанчика с батей завалили. Свежины домой прихватил, яблок, картошки… Подохли бы без стариков на нашу зарплату. А погодка сегодня — сам видишь: гололед, а у меня резина лысая и тормоза барахлят. Надо бы прокачать, да все времени не выберу. Я зимой почти не езжу, только иногда в деревню, а так стоит под окном. Бабки принес?
— Как договорились. А ты?
— Само собой. Пошли в машину, там теплее. Холодрыга, черт бы ее…
Сгорбившись, Шевчук втиснулся в старенькую, побитую пятнами ржавчины машину. Привыкшему к просторному салону «БМВ», ему было тесно и неудобно. Зато худенький, шустрый Колосенок чувствовал себя вполне комфортно.
— Давай.
Шевчук достал из кармана плотный конверт.
— Можешь не пересчитывать. Точно, как в аптеке.
Колосенок открыл конверт, зашуршал купюрами.
— Не сомневаюсь. — Краем глаза Шевчук заметил, что у него вздрагивают пальцы. — Хочется в руках подержать, никогда столько не держал. Помнишь анекдот о карлике и баскетболистке? Как он прыгал по ней и кричал: «Господи, неужели это все мое?!»
— Твое, твое, — Шевчук достал пачку «Мальборо», закурил, протянул Колосенку. — Через неделю получишь остальное. Можете оформлять документы. Ты тоже поедешь? Или только жена с сыном?
— Они. Втроем дорого. Им ведь в Ганновере с месяц, наверное, прокантоваться придется, а может, и больше. — Колосенок сунул конверт в карман куртки, обернулся, взял с заднего сидения спортивную сумку. — Держи.
— Тяжело, — охнул Шевчук, едва не выронив сумку.
— Защитный контейнер. — Колосенок в две затяжки докурил сигарету и выбросил тлеющий фильтр в приоткрытую форточку. — «Это ж, братцы, радиация, а не то что купорос…» — помнишь такую песенку? Дай еще одну.
— Возьми всю пачку, у меня еще есть. Ну что, разбегаемся?
— Погоди, — Колосенок закашлялся и навалился грудью на руль. — Послушай, Володя, мне нет никакого дела, зачем тебе понадобилась эта хреновина, только не вешай мне лапшу на уши насчет каких–то мифических опытов, ладно? Я ведь не идиот, все–таки незаконченное высшее… И с этой фигней не первый год вожусь. Так вот, учти: она убивает. Надежнее и точнее, чем автомат Калашникова. Из автомата можно промазать, можно лишь ранить — и человек выживет. Эта штука бьет без промаха и без осечек. От нее умирают не мгновенно, а медленно, постепенно, за пару недель, за месяц, и такой смерти я не пожелал бы даже своему злейшему врагу. — Заметив, что Шевчук нетерпеливо дернул ручку дверцы, удержал его за локоть. — Постой, я еще не кончил. Послушай ради своей же собственной безопасности. Развинтив контейнер, ты увидишь металлическую капсулу, размером с таблетку от головной боли. Большая половина ее мощности уже израсходована в кобальтовой пушке, поэтому ее списали, но того, что осталось, хватит, чтобы убить или искалечить кучу людей. Пятнадцать–двадцать часов, и весь остаток жизни человек проваляется в больнице, несколько дней — и ни одна больница в мире уже не поможет. — Колосенок перевел дыхание и облизнул пересохшие губы. — Надеюсь, теперь ты понимаешь, какую жуть держишь в руках, как осторожно нужно с ней обращаться. Настоящий ящик Пандоры… Не нервничай, в контейнере она безопасна, хотя долго носить с собой я бы ее не стал. — Достал еще одну сигарету, вытер рукавом вспотевший лоб. — Ты же знаешь: мне просто позарез нужны деньги на операцию Митьке. Надо спасать мальца. Не могу смотреть, как он умирает. Если бы не он, я никогда… А впрочем, зачем я об этом…
— Вот именно, зачем? — хрипло проворчал Шевчук. Уткнув подбородок в пушистый мохеровый шарф, он закрыл глаза.
Колосенок с хрустом потянулся.
— Все тело замлело. Ладно, значит так: через неделю в четыре на этом же месте. Вернешь контейнер и остальные деньги. Я положу его назад в хранилище, и никто в мире не узнает, что какое–то время его там не было. И все, разбежимся, как в море корабли. Только не вздумай меня надуть. Мне терять нечего, учти. Если я не получу обещанного, такая таблеточка вполне может однажды оказаться в твоей машине. Или дома. Или на даче. Сам понимаешь: подбросить ее — как два пальца об асфальт… И тогда тебе каюк. И всем твоим тоже. Поверь, это не пустая угроза. Ради Митьки я пойду на все, даже на нары. Усек?
— Усек, — ответил Шевчук. У него вдруг село в горле, а язык словно приклеился к небу. — Послушай, Олег, я не собираюсь тебя обманывать, мне это ни к чему. Но ты слишком много болтаешь, а это может плохо кончиться для нас обоих. Помнишь: болтун — находка для врага.
— Не боись, — криво усмехнулся Колосенок, — отныне я буду молчать, как партизан на допросе. Это сейчас меня развезло. Ты ведь, к счастью, понятия не имеешь, что это такое — видеть, как умирает твой единственный сын, а ты ничем… абсолютно ничем не в состоянии ему помочь. Если бы я мог продать свою почку… Поверь, я продал бы ее куда охотнее, чем связываться с радиоактивным кобальтом, не нравится мне все это, честно. Но у меня нет выхода. Вот я и дергаюсь, как окунь на крючке. — Колосенок достал конверт с деньгами, открыл, словно проверяя, не исчезли ли они, сунул обратно. — Слушай, Володя, посиди пару минут, а… Сбегаю куплю бутылку и конфет Митьке.
Шевчук кивнул: спешить некуда. Олег вылез из машины, торопливо прошел вдоль ограды сквера и нырнул в переулок.
Когда Олег исчез, Шевчук опустил боковое стекло. Улица была пустынной, ветер гнал по тротуару ледяную крупу. Вот и свершилось… Назад хода нет. Судьба Андрея решена. Не зря когда–то в университете его прозвали «железной задницей», он и сегодня просиживает за своим столом с утра до ночи. За три дня наберется часов двадцать пять облучения. Что ж, как говорится, за что боролись, на то и напоролись. У меня тоже нет иного выхода, не только у Колосенка. Наверное, в этом все дело — нет выхода. Два медведя в одной берлоге не уживутся. Один должен уйти.
Шевчук достал новую пачку сигарет, закурил, пряча в ладонях зажигалку от ветра, тянувшего в приоткрытую форточку. Почувствовал, как к горлу подкатывает тошнота, выбросил сигарету. Прочертив огненную дугу, она полетела вниз по косогору.
Появился Колосенок. Он шел, словно пританцовывая на скользком тротуаре, держал в отставленной руке сумку, в которой позвякивали бутылки.
— Чуть не грохнулся, вот было бы смеху! — Колосенок сел в машину, захлопнул дверцу. — Может, замочим это дело?
— Как–нибудь в другой раз. Мне вечером ехать, и тебе за рулем пить не стоит.
— Да я так… Ну что, до встречи?
— Будь здоров, — ответил Шевчук. — Привет Асе и Митьке.
Колосенок кивнул. Далеко внизу, там, где Солнечная пересекалась с Подгорной, на светофоре зажегся зеленый свет. Затарахтел мотор. «Москвич» лихо отвернул от тротуара, лизнул фарами ледяную корочку на дороге и, набирая скорость, покатил к перекрестку.
Документы для выезда Аси и Митьки в Германию на операцию были готовы уже давно. Оставалось получить визы и заказать билеты на самолет. Колосенок подумал: как объяснить Асе, откуда взялись деньги? Одолжил Шевчук? А что, так и скажет — одолжил. Есть же на свете добрые люди! За год, за два соберем — отдадим.
Пухлый конверт с долларами приятно согревал душу. Через неделю он вернет капсулу в хранилище — и все. Ищи — свищи! Это ж надо, чтобы так повезло!
Впереди на светофоре замигал зеленый. Не успею, подумал Олег, надо тормозить. Плавно нажал на тормоз, но педаль вдруг провалилась под ногой и с глухим стуком уперлась в пол.
Последнее, что он увидел, был красный, как налившийся кровью бычий глаз, сигнал светофора, приближавшийся к нему с невероятной скоростью, и вылетевший слева, с Подгорной, на перекресток бензовоз. Колосенок еще лихорадочно переключал рычаг передач, чтобы хоть как–то притормозить взбесившуюся машину, когда она с грохотом врезалась в бензовоз.
Больше он ничего не видел и не слышал.
Глава 2
Проводив взглядом отъехавшего Колосенка, Шевчук через сквер отправился на работу. Дорожку посыпали песком, шагать по ней было куда легче, чем по обледеневшему тротуару, сумка тяжело оттягивала руку.
Это будет идеальное убийство, думал он. Идеально спланированное и осуществленное. Ни один сыщик в мире не сможет его раскрыть, даже знаменитый лейтенант Коломбо, который распутывает самые невероятные и загадочные дела. Что такое пистолет, снайперская винтовка или там магнитная мина по сравнению с этой пилюлькой?! Шум, гром, невольные свидетели, следствие, страх… Лютый страх быть схваченным и гнить в тюрьме до конца своих дней. А тут… Ни цвета, ни запаха, тишина, как на кладбище. Ну, умрет человек от лучевой болезни, так ведь от нее умирают сотни людей. Кому придет в голову исследовать, откуда у Пашкевича болезнь, где он ее подцепил, да и как это установить?!
Когда Шевчук вернулся в издательство, рабочий день уже закончился. Большинство кабинетов опустело, люди разошлись. Только в компьютерской и наверху у Пашкевича все еще горел свет. Компьютерская работала в три смены, до полуночи, ну а Андрей, как правило, засиживался на работе допоздна.
Шевчук отомкнул свой кабинет, разделся. Сел, уперся локтями в стол, сцепил пальцы, положил на них голову и оцепенел. Пусто было на душе, и в голове пусто, все, что следовало обдумать и решить, он уже обдумал и решил. Оставалось лишь одно — довести задуманное до конца. Но именно теперь он почувствовал, что решительность оставляет его. Предстояло убить человека. Друга, ставшего врагом. В мыслях это было легко и просто: подложил таблетку и — прости, прощай. Сейчас его охватило смятение. Ну да, никто не узнает. Никто, кроме Колосенка и меня. Колосенок не в счет, он и впрямь будет молчать, но куда деваться от этого знания мне? Конечно, Андрей сам виноват, что все так получилось. Это он, сволочь, сделал меня убийцей, он! Он загнал меня в угол, а ведь известно, что даже крыса, загнанная в угол, становится опасной. Крыса…
В конце коридора, возле винтовой лестницы на второй этаж, послышались голоса Пашкевича и его шофера и телохранителя Виктора Стрижака. Шевчук поднял голову. Он знал, что шеф обязательно заглянет, и не хотел, чтобы тот застал его в нелепой позе роденовского мыслителя. И Андрей, конечно же, зашел. Поджарый, спортивный, ничуть не располневший в свои сорок восемь, в модном черном кашемировом пальто с легкомысленным белым шарфиком, без шапки. Редкие белесые волосы расчесаны на косой пробор, чтобы прикрыть уже обозначившуюся на макушке плешь, лицо узкое, острое, как у хорька, голубые, словно замороженные, глаза. Было в его облике что–то жесткое, хищное, какая–то постоянная бульдожья готовность вцепиться собеседнику в горло. Перебивая застоявшийся кислый запах табака, кабинет наполнил аромат дорогого французского одеколона.
— Ты еще здесь? — удивился Пашкевич. — Я недавно звонил, никто не ответил.
— Ходил в магазин за сигаретами. Присядь на минутку, есть разговор.
Пашкевич положил свой портфельчик на стол.
— Только покороче, меня дома ждут. Слушай, а может, ты все–таки подскочишь к нам? С зятем своим встретишься, с Вероникой. И Лариса будет рада.
Шевчук побледнел. Пашкевич прекрасно знал, что он ненавидит своего зятя, банкира Некрашевича, и не поддерживает с ним никаких отношений, это приглашение было еще одной попыткой унизить его. Хотел ответить резкостью, но сдержался: теперь это уже неважно.
— Извини, не могу. Рита и так целые дни одна. А Ларису я поздравил по телефону, она на меня не обидится.
— Кстати, как Рита?
— Неважно.
— Два года прошло… Подлая это штука — инсульт.
— Да уж… — Шевчук придвинул к себе толстую папку, продолжать разговор о Ритиной болезни ему не хотелось. — Я тебе как–то говорил… Прислали книгу, перевод с английского, автор американец. Кто такой, неизвестно. На обложке вместо фамилии — Аноним. Какой–то псих держит у себя в подвале на цепи семь женщин и развлекается с ними. Жуткая порнуха, садизм, садомазохизм. Покруче «Эммануэли». Ума не приложу, что с этим делать. И съесть гадко, и выбросить жалко.
— Каким тиражом это можно было бы издать?
— При небольших затратах на рекламу — фантастическим. Любителей подобного чтива у нас хватает. Думаю, за пару месяцев тысяч пятьсот — семьсот размели бы.
— И никаких авторских прав, — мечтательно вздохнул Пашкевич — литературные агентства по защите авторских прав в последнее время здорово попортили ему печень. — Какие права у анонима? А?
— Да шут с ними, с правами, я не об этом. Понимаешь, год–другой назад я бы даже не задумывался. Редакционные расходы мизерные, прибыль сумасшедшая…
— Тогда чего ж мудрить?
— Ну, во–первых, ты сам запретил нам принимать без тебя решения по спорным книгам. А эта книга — спорная. Россия приняла закон о порнографии, ты же знаешь. Да и наши вой поднимут. А у нас уже одно предупреждение есть. Как бы лицензию не забрали.
— Лицензия — не проблема, будет другая. А вот если подведут под закон… — Пашкевич побарабанил пальцами по столу. Ногти у него были ухоженные, покрытые бесцветным лаком; видно, над ними совсем недавно потрудилась маникюрша. — Если подведут под закон, тогда всю прибыль сожрут налоги. М–да–а…
В приоткрытой двери показалась голова Стрижака в норковой ушанке. На коричневом меху ярко поблескивали снежинки.
— Андрей Иванович, кончайте базарить, а! Второй раз машину грею. Цветы замерзнут. Лариса Владимировна нам обоим головы оторвет.
Пашкевич встал.
— Ладно, занеси распечатку мне, как–нибудь полистаю, тогда и поговорим. Запасной ключ от кабинета в приемной, в нижнем ящике Людиного стола.
— Как–нибудь — не получится, это надо решить в ближайшие день–два, иначе переводчик заберет ее и передаст в другое издательство. Кстати, у тебя уже давно без движения лежит оригинал–макет романа Энни Уокер «Утренняя звезда». Конечно, ты почти месяц пробыл в Америке, но мог же посмотреть до отъезда. Мы подобрали семь ее книг, все долицензионные, а работу начать не можем. Завтра кто–нибудь нас обставит — и ты же первый сдерешь с нас шкуру. Ты нам не доверяешь, Андрей, вот в чем беда, своей домработнице ты доверяешь больше, чем мне и Грише. Это твое дело, но в таком случае заставь ее, черт возьми, шевелиться.
Пашкевич зло прищурился: ядовитые шуточки о том, что в «Афродите» ни одна книга не выходит без одобрения его домработницы Клавдии, приводили генерального директора в ярость.
— Ты это брось! — жестко, с угрозой в голосе проговорил он. — Мы работаем для таких, как Клава, это они раскупают наши тиражи. Не высоколобые интеллигенты, на которых все время косишься ты с Гришей Злотником, а простые, не шибко грамотные люди. Вспомни, как вы насиловали меня, чтобы издать библиотеку лауреатов нобелевской премии?! Я попросил Клаву почитать «Будденброков», она на третьей странице заснула. Знаешь, что она сказала? «Я лучше уволюсь, чем буду эту муру читать!» Вот так. И не надо меня убеждать, что «Будденброки» — не мура, я это знаю не хуже вас. Но «Луч» выпустил десять томов — и разорился. Все осели на складе, не могут продать даже за полцены. Потому что у интеллектуалов эти книги уже есть, а миллионам наших покупателей Халлдор Лакснесс, Томас Манн или Рабиндранат Тагор сегодня нужны, как зайцу стоп–сигнал. Что издавать, нам диктует рынок, а Клавдия знает рынок лучше, чем вы. К глубокому моему сожалению. Так что не следует возмущаться, что ее мнение для меня иногда дороже вашего.
— В таком случае кто тебе мешает назначить ее главным редактором? — Шевчук почувствовал, что у него кровь прилила к лицу.
— А знаешь, это идея, — криво усмехнувшись, Пашкевич застегнул пальто и вышел, громко хлопнув дверью.
Достав из–под стола сумку с контейнером, Шевчук сунул в нее папку с распечаткой анонимного романа и вышел в коридор. Там было тихо и пусто, лишь в уголке под лестницей возилась уборщица, собирая пылесос. Шевчук поздоровался и поднялся на второй этаж. Включил в приемной свет, достал ключ.
Пашкевич оборудовал себе кабинет в двухкомнатной квартире, приобретенной «Афродитой» у пожилой четы, эмигрировавшей к сыну в Америку. Эта квартира располагалась над одной из трех, уже принадлежащих издательству. После капитального ремонта и перепланировки, при которой первый этаж был соединен со вторым винтовой лестницей, из всего этого получился роскошный офис. В нем с комфортом разместились генеральный директор, два его зама — по производству и экономике, бухгалтерия, торговый отдел, компьютерская, редакция и другие службы. Редакции отвели две комнаты, одну занимал Шевчук, главный редактор, в другой сидели заведующий редакции Григорий Злотник, редакторы Веремейчик и Гуринович и корректор Таиса Хадкевич.
Кабинет Пашкевичу отгрохали на загляденье. В нем не стыдно было принимать самых именитых издателей, финансистов, начальников любого ранга. Именно на это и нажимал Пашкевич, когда на совете учредителей утверждали смету расходов на ремонт, перепланировку и оборудование: фантастическая стоимость могла повергнуть в шок кого угодно.
— Вы что думаете, это мне одному нужно? — говорил Андрей Иванович, окидывая собравшихся жестким взглядом. — Да плевать я на эту роскошь хотел. Вспомните: первые книги мы делали на кухне, на чужих компьютерах. Нет, это не мне, это всем нам нужно, и прекрасно, что сегодня мы можем позволить себе такие расходы. Это наше лицо, лицо издательства. Сразу видно: люди серьезные, платежеспособные, шарлатаны себе такого не позволят. А в нашем деле доверие банкиров и деловых партнеров — самое важное.
Шевчук слушал эту вдохновенную речь и в душе посмеивался: пой, пташка, пой! И он, и остальные члены совета прекрасно понимали, что Пашкевич вешает им лапшу на уши. Не для банкиров и не для партнеров затевался весь этот шик, для них все можно было обустроить куда скромнее и дешевле. Генеральный директор вкладывал огромные деньги в недвижимость, те самые деньги, которые в противном случае пришлось бы отдать на дивиденды учредителям и повышение зарплаты штату. В богатейшем коммерческом издательстве зарплаты у сотрудников были маленькие, меньше даже, чем в государственных издательствах, дышавших на ладан. Но Пашкевича это не волновало. Он прекрасно понимал, что деньги, выплаченные людям, уже не вернутся, а роскошный офис при всех обстоятельствах останется его собственностью и с каждым годом будет лишь прибавлять в цене. Вот что стояло за цветастой речью генерального директора «Афродиты» — грубый и точный расчет. Он грабил своих же ближайших помощников, соучредителей издательства, так сказать, сохозяев, и хотя все понимали, что их нагло грабят, не нашлось никого, кто отважился бы сказать об этом вслух. Потому что все знали: любой, кто посмеет возразить Андрею Ивановичу, через месяц–другой вылетит на улицу. Сохозяевами «Афродиты» учредители уже давно были лишь теоретически, на самом деле хозяином был он один. Шевчук вообще не понимал, зачем Пашкевич собрал их, зачем ему понадобилось одобрение совета; подписал смету, и дело с концом.
Шевчук ненавидел этот кабинет, этот офис, ремонт и перестройка украли у него лично кучу денег, которых не хватало на лечение жены. Но сейчас он этой ненависти не чувствовал. Скоро Пашкевича не станет. Он исчезнет, а все останется. И круглый стол с малахитовой столешницей для совещаний и приемов, и кожаная мебель, и картины на стенах. И огромный шерстяной ковер на полу, и бар, заставленный бутылками с разноцветными наклейками. Все останется. И послужит другому хозяину. Ему, Шевчуку, послужит.
Он положил на стол сумку, достал папку с распечаткой и внимательно осмотрел кресло Пашкевича. Просунул пальцы в узкую щель между сиденьем и спинкой. Очень хорошо, лучшего места не придумаешь. Незаметно и не выпадет. И ударит в самое уязвимое место — в поясницу. Позвоночник, печень, почки…
Надев перчатки, осторожно вынул из сумки массивный металлический цилиндр. Белый, тусклый, тяжелый. На крышке три красные лепестка на желтом фоне в кругу — знак радиоактивности. Где–то там, в его чреве, спрятана нейтронная бомба. Крохотная бомбочка, от которой нет спасения. Она лежит там, в свинцовой глубине, как хищный зверь в клетке, и ждет своего часа. Дождалась…
Тоненькая полоска в центре показывала, что цилиндр состоит из двух частей. Шевчук попробовал повернуть верхнюю по часовой стрелке, и она неожиданно легко подалась. Он замер, чтобы унять мерзкую дрожь в руках. Остановись! — что–то пронзительно закричало в нем. — Еще не поздно, остановись, и пусть все идет как идет. Ну не сдохнешь же ты, даже если он выгонит тебя, где–нибудь да устроишься, проживешь… Но воспоминание о том, как унизил его Андрей, как подло посмеялся над его мечтой, наконец угроза, прозвучавшая в его словах сегодня… Нет, сказал он сам себе, я не хочу где–нибудь. Я отдал «Афродите» всю свою жизнь, я связал с нею все свои надежды. Я хочу получить свое — и получу!
Времени на размышления не оставалось. Внизу уже завывал пылесос, уборщица могла вот–вот подняться сюда. Шевчук быстро развинтил контейнер, осторожно снял и поставил на стол верхнюю половинку. В нижней, в углублении, как птичье яйцо в гнездышке, лежала маленькая, и впрямь не больше таблетки пирамидона, круглая штуковина, совсем не страшная на вид. Шевчуку казалось, что едва он развинтит цилиндр, она, эта штуковина, дохнет на него испепеляющим жаром радиации, и он ощутит этот жар, но он ничего не ощутил. И хотя знал, что так и должно быть, его лицо исказила гримаса разочарования. Ему вдруг показалось, что Колосенок надул его, что таблетка, которую он ему подсунул, ничего не стоит и ничего не может. Ну что ж, подумал он, через несколько дней станет ясно, что это такое.
Затаив дыхание, Шевчук достал таблетку, засунул, поставив на ребро, чтобы увеличить площадь излучения, в намеченное место, бросил в сумку обе половинки контейнера и быстро вышел из кабинета. Замкнул, положил на место ключ. Спустился к себе. Вздрагивающими руками свинтил цилиндр, положил в сумку. Сунул туда же несколько рукописей. Вышел, сел в промерзшую машину, стоявшую во дворе, завел двигатель и поехал домой.
Глава 3
Пашкевич со Стрижаком медленно ехали по городу, заваленному снегом. За несколько часов намело больше, чем за весь месяц, — метель разыгралась не на шутку. Вдоль проспекта Скорины, сопровождаемые колоннами самосвалов, ползли снегоуборочные машины, сгребали, перемешивали снег железными лапами, быстро наполняли кузова. За стеклами машины, подсвеченное уличными фонарями, металось белое месиво.
Разговор с Шевчуком выбил Пашкевича из благодушного настроения, владевшего им весь нынешний день. Все ясно — Володя окончательно зарвался, от него надо избавляться. И чем скорее, тем лучше, пока он всех не перетянул на свою сторону. Уволить? Слишком много шума, ненужных разговоров. Не очень хочется, но, пожалуй, решение придется принимать радикальное.
— Давно не было такого сумасшедшего ноября, — сказал Стрижак, вытянув шею и вглядываясь в рубиновые фонари идущих впереди машин. — Если к субботе не растает, хорошо бы выбраться за город, походить на лыжах.
— Поедем на дачу, там и походим, — согласился Пашкевич. — А заодно и в баньке попаримся. — Выключил что–то бормотавший приемник. — Слушай, Виктор, у меня возникли проблемы с Шевчуком. Не поможешь их решить?
От неожиданности Стрижак резко нажал на тормоз.
— Что значит — решить? Замочить, что ли?
— Можно сказать и так, — поморщился Пашкевич, не любивший этого словечка.
— Но ведь вы… Вы же как родные братья.
— Брат мой — враг мой. Так сложилось. Он сам виноват.
Стрижак сбил на затылок ушанку, вытер рукавом вспотевший лоб.
— Нет, Андрей Иванович, тут я вам не помощник.
— Почему?
Стрижак плавно затормозил у красного светофора.
— Есть такой анекдот. У верблюда спросили: почему ты колючки жрешь, а вату нет? Ведь она такая мягкая, пушистая… Знаете, что он ответил?
— Интересно.
— Не хочу, — ответил верблюд.
— Пятьдесят штук зелени.
— А хоть сто — ответ отрицательный.
— Но почему? — настаивал Пашкевич, удивленный такой несговорчивостью.
— Длинная история… Я был совсем пацаненком, года три–четыре, когда он приехал к нам в Озерище, в районную газету. Моя мать работала там машинисткой. Шалава была, земля ей пухом, та еще! Я понимаю — наверное, грех так о матери, особенно когда ее уже давно на свете нету, но… Я отца не знаю, с каким приблудой она меня нагуляла, так никогда и не призналась. Мужики у нас дома сменялись, как часовые на посту, и все, как на заказ — пьянь и рвань… Такая уж она была везучая. Пили, жрали, лупили ее смертным боем. И мне доставалось. Со всех сторон. Я ведь всем был помеха, только под ногами путался. — Виктор переключил рычаг передач. — Когда Шевчук приехал, она ему комнату сдала. Он один и к ней, и ко мне относился по–человечески. Больше года я ему, можно сказать, вместо сына был. Потом он на Рите женился — она у нас зубным врачом работала, и в Минск переехал. Он мне костюм спортивный купил, и ботинки, и пожарную машинку — первую в моей жизни игрушку, и книжки с картинками. На рыбалку с собой брал, в кино, в баню. Раньше мать в женскую таскала. Я ведь уже все понимал, стыдно до ужаса. А тут мужики — со своими пацанятами, и я с Владимиром Васильевичем…
— А Шевчук тебя узнал?
— Что вы, — усмехнулся Виктор. — Больше двадцати лет прошло. У меня и фамилия другая, после смерти матери тетка усыновила, свою дала. Правда, когда я у вас появился, он вроде что–то вспомнил. Глаза мои разноцветные, наверное, есть у меня такая особая примета. Все допытывался, не из Озерища ли я, редакцию вспоминал, мамашу мою. Я сказал, что вообще о таком городке не слышал. И вы не проболтайтесь. Не надо это ни ему, ни мне. Ну, а что касается остального… Вы его можете выгнать, если не сработались, дело ваше. Но учтите: пока я жив, с его головы и волос не упадет.
Машина свернула во двор.
— Что ж, — произнес Пашкевич, — считай, что этого разговора не было. Ставь тачку и поднимайся. Лариса там уже, наверное, и впрямь нервничает. Заночуешь у нас, куда в такую непогодь…
Пашкевич жил в добротном кирпичном доме, построенном вскоре после войны для высшего командования Белорусского военного округа возле Ботанического сада. В народе этот дом так и называли — «генеральский». Был он пятиэтажный, но с лифтами, на каждую лестничную площадку выходили лишь две квартиры. Высоченные потолки, большие окна, огромные, по нынешним меркам прихожие и кухни, удобная планировка, прекрасное расположение — все это делало дом лакомым кусочком для новоявленных богачей. Большая часть квартир уже была скуплена крупными бизнесменами, банкирами, промышленными воротилами и бандитами, оставшиеся хозяева сдавали в аренду зарубежным дипломатам.
Пашкевич свою квартиру получил задолго до нынешнего бума, женившись на Ларисе. Она принадлежала ее отцу, генерал–лейтенанту Бахметьеву. Бахметьев умер, когда Лариса еще была школьницей; ее старший брат Максим жил и служил в Москве.
Отомкнув дверь, Пашкевич вошел в прихожую. Барс, здоровенный, как теленок, доберман–пинчер, смолисто–черный, с рыжими подпалинами на груди, лапах и острой морде, с кургузым обрубком–хвостом и хищно торчащими ушами, радостно бросился ему на грудь, едва не сбив с ног, и лизнул в лицо теплым шершавым языком.
— Ну–ну, приятель… — Пашкевич добродушно потрепал пса по загривку и оттолкнул. — Марш на место. Ишь обрадовался, дурачок!
Барс обиженно зарычал, обнажив мощные изогнутые клыки, и послушно растянулся на подстилке в углу, преданно глядя на хозяина желтыми проницательными глазами.
«А ведь это, пожалуй, единственная тварь на свете, которая любит меня искренне и бескорыстно, — с неожиданной тоской подумал Пашкевич, раздеваясь возле стенного шкафа, заполненного женскими шубками и мужскими дубленками. — А впрочем, тоже не бескорыстно. Не давай я ему каждый день его куска мяса, много ли осталось бы от этой любви?.. Нет, только мать и любила меня за то, что я — это я, Андрюша Пашкевич, и ее уже нет…»
В прихожую впорхнула Лариса. Она была в бежевом брючном костюме, напоминавшем покроем рабочий комбинезон, а ценой — космический скафандр, и золотистых туфельках; румяная, возбужденная. Лариса прижалась к нему всем телом, обдав горьковатым ароматом своих духов, коснулась губами щеки и воскликнула:
— Наконец–то! Мы уже заждались, право слово! А где Виктор? Ставит машину? Вот и хорошо. Ну, пошли же, люди ждут.
Андрей Иванович подал ей розы. Лариса благодарно обняла его, зарылась лицом в цветы.
— С праздником, милая. С завершением большой работы. Перевести пять томов за год — не шутка, а?! Честно говоря, я даже не верил, что ты с этим справишься.
— Ну его к бесу, Андрюша, я чуть не ослепла за компьютером, — улыбнулась Лариса. — Знала бы, что будет такая спешка, ни за что не взялась бы. Ты настоящий эксплуататор, милый, кровопийца и мироед.
— Это точно. Однако ничего не поделаешь, в нашем деле выигрывает только первый. Кстати, в ближайшее время мы переиздадим пятитомник по подписке, как собрание сочинений. Так что можешь приглядеть себе новую шубку.
Переговариваясь, они вошли в ярко освещенную столовую. Компания собралась привычная: главбух «Афродиты» Лидия Николаевна Тихоня, заместитель Пашкевича Александр Александрович Аксючиц, а также председатель совета директоров коммерческого банка «Омега» Павел Валентинович Некрашевич, адвокат Вацлав Францевич Тарлецкий и Григорий Злотник с женами. Когда–то непременно бывали Шевчук с Ритой, но в последнее время Володя дипломатично отклонял все их приглашения. Кстати, даже хорошо, что сегодня его нет, подумал Пашкевич, пожимая руки гостям, еще неизвестно, как бы к этому отнеслись Некрашевич и Вероника — шальная доченька Шевчуков; спокойная семейная вечеринка вполне могла закончиться громким скандалом.
Как обычно, в ожидании ужина гости играли в карты. За купленными Андреем Ивановичем по случаю в антикварном магазине ломберными столиками, обтянутыми зеленым сукном, Некрашевич, Вероника, Аксючиц и Тихоня играли в покер, Тарлецкий и Злотник с женами дулись в подкидного дурака — Вацлав Францевич и Григорий принципиально не играли на деньги. Домработница Клавдия в кокетливом кокошнике и переднике с оборками разносила напитки, держа поднос на толстых растопыренных пальцах. Пашкевич взял высокий бокал с джином и тоникой, в котором позвякивали кусочки льда, отпил глоток и стал наблюдать за игрой.
Сдавал Некрашевич. Играли по маленькой. Ему шла карта, и Павел радовался выигрышу, словно выгодной многомиллионной сделке. Он несколько обрюзг в последние годы, но не потерял ни статности, ни представительности. Холеное крупное лицо с тяжеловатой челюстью несколько портила крупная бородавка на щеке, из нее торчали завитые в тугие спиральки волосинки. Тасуя и раздавая карты, он открыто любовался своим последним «приобретением» — девятнадцатилетней Вероникой, при этом складки у него на лице разглаживались, а мутные глазки за толстыми стеклами очков сияли, как у ребенка, который наконец–то заполучил долгожданную игрушку.
Вероника была красива юной сияющей красотой. Несмотря на внутреннюю неприязнь, Пашкевич и сам чувствовал, что не может оторвать от нее восхищенного взгляда. Она сидела в кресле, поджав под себя стройные и длинные ноги балерины, тесно обтянутые кожаными брючками; блестящие, цвета ржаной соломы волосы свободно спадали на узкие плечи; когда Вероника встряхивала головой, весь этот водопад захлестывал ей лицо. Из–под нависавшей над лбом челки в карты глядели большие васильковые глаза, искусно подведенные и отороченные длинными загнутыми ресницами, нежными, как крылья бабочки. На ней был черный тонкий свитер с глубоким треугольным вырезом; в узкой ложбинке между небольшими, дерзко оттопыренными грудями переливался алмазными гранями крестик на платиновой цепочке, стоивший Некрашевичу, наверное, целого состояния.
Глаза Вероники излучали какую–то детскую наивность, беззащитность и простодушие. Наверное, этот–то незамутненный наивный взгляд и заколдовал многоопытного банкира. Андрей Иванович знал, что это — искусный камуфляж, что за кажущимся простодушием и доверчивостью Вероники скрываются железная хватка и холодный расчет, странные для такого юного существа, и поражался тому, что этого не видит Некрашевич. А может, не желает видеть?..
Когда–то, часто бывая у Шевчуков, Пашкевич ее не замечал — девчонка и девчонка, а потом вдруг увидел в танцевальной группе в «Вулкане». Тогда еще у них с Шевчуком были нормальные отношения, и Володя, морщась, словно от зубной боли, рассказал ему, что Вероника бросила хореографическое училище и пустилась в заработки. Именно это и довело Риту до инсульта.
Два года Вероника танцевала в «Вулкане», сводя с ума подвыпивших мужиков своим гибким, как лоза, телом, лишь слегка прикрытым блестящими тряпочками, обещающим неземное блаженство взглядом колдовских васильковых глаз, кажущейся доступностью ресторанной шлюхи. Она была бесспорно талантливая танцовщица, страстная, порывистая, вихревая, первая среди девчонок, выступавших вместе с нею. Девочки слыли дорогими валютными проститутками; в глубине души Пашкевич не верил, что Вероника отличается от них — нельзя жить в грязи и не замараться, — пока не услышал от людей, которые пользовались его доверием, как высокомерно отвергала эта пигалица драгоценности, которые ей пытались дарить ошалевшие от вожделения кавалеры, деньги, квартиры, круизы на теплоходах по Средиземноморью… Если бы не охрана — крутые ребята с пушками, которые по приказу Некрашевича — негласного хозяина ресторанного комплекса, не отходили от Вероники ни на шаг, ее уже давно разорвали бы в клочья, изнасиловали и посадили на иглу. Павел сразу же взял ее под свою опеку. В азартной игре, именуемой жизнью, она сорвала главный куш: вынудила Некрашевича бросить жену и двоих взрослых сыновей и жениться на ней; сам по натуре игрок, Пашкевич не мог не испытывать к ней невольного уважения. Победители всегда вызывают уважение, какой бы ценой ни далась им победа, только унылые моралисты все еще не верят, что цель оправдывает средства, но в современной жизни моралисты не ужинают в дорогих кабаках, а копаются на помойках. Володе и Рите следовало бы гордиться дочерью: не потаскуха, не содержанка — сегодня у одного, завтра у другого, — а законная жена одного из виднейших людей в современном деловом мире Беларуси.
Аксючиц рассказывал что–то забавное, что — Пашкевич не улавливал. Он потягивал маленькими глоточками свой коктейль и обдумывал разговор с Некрашевичем о валютном кредите. Хриплое петушиное пение отвлекло его. Оказывается, Тарлецкие проиграли Грише Злотнику и Татьяне Михаленко (после замужества она оставила девичью фамилию) пять партий подряд, и теперь Вацлав Францевич, стоя на четвереньках и, побагровев от натуги, просунул голову между ножками — грузная фигура не позволяла ему, как положено, забраться под стол — и самозабвенно кукарекал, хлопая себя руками по бокам. Получалось это у него уморительно смешно. Широкая прядь волос, которой Тарлецкий прикрывал свою лысину, сбилась и обвисла серой паклей, он безуспешно пытался приладить ее одной рукой на место и хохотал громче всех.
Тарлецкий обладал замечательной особенностью — умением смеяться не только над другими, но и над собой. Этим качеством Пашкевич не отличался, он всегда относился к себе слишком серьезно. Хотя адвокат был лет на восемь старше его, так радоваться жизни Андрей Иванович не умел и в душе завидовал ему.
Наконец Тарлецкий вылез из–под стола, теперь он жаждал реванша. «Похоже, он отыграется», — подумал Пашкевич, заметив, что Григорий украдкой позевывает, прикрывая картами рот. Вообще–то Злотник, как говорится, попал с корабля на бал: он всего несколько часов назад вернулся из командировки в Москву. Другой бы завалился отсыпаться, но только не он. Пашкевич знал, что для Гриши это приглашение — знак доверия; он прекрасно понимает, что Шевчук на вылете, и хочет уцелеть сам. Они с Володей — не разлей вода, но Гриша никогда не решится в открытую стать на сторону Шевчука. Такой характер. Иначе не пришел бы. А все–таки вскоре и от него придется избавляться. Сначала от Шевчука, затем от Григория. Слишком они спелись за эти годы, один без другого — ноль без палочки. А жена его, Татьяна, — ничего баба, ее вроде и годы не берут. И пьет, как лошадь. Григорий, кроме минералки, ничего не пьет, а она уже за четвертой «кровавой Мэри» тянется. Интересное кино — если мужик трезвенник, значит, жена у него выпивоха. Закон сохранения… чего? А кто его знает.
Злотник поймал на себе сочувствующий взгляд Пашкевича и поежился. Он и впрямь вымотался за эту поездку и устал как собака и охотнее всего принял бы душ и завалился спать или еще на денек задержался в Москве, только бы не участвовать в этом сборище, но, увы, обстоятельства вынуждали. В разраставшемся, как раковая опухоль, разладе между Пашкевичем и Шевчуком он оказался зерном в жерновах, разменной монетой, каждый старался перетянуть его на свою сторону, а это в любом случае грозило ему неприятностями.
Но сегодня куда больше, чем распри генерального директора и главного редактора, его тревожила Татьяна: в первую очередь из–за нее им не следовало сюда приходить. Григорий давно убедился, что посиделки у Пашкевичей всякий раз заканчивались для него тяжелым скандалом, благо, если уже дома, а то еще на улице, в такси, а он ненавидел эти скандалы и пьяную истерику жены, и ее бесконечные упреки. Уж она–то вполне могла остаться дома: педсовет, совещание, дочка заболела — мало ли причин; он посидел бы немножко для приличия и спокойно отправился домой. Но Татьяна рвалась к Пашкевичам, как мотылек на огонь, хотя, в отличие от мотылька, знала, что больно обожжет себе крылышки. Она постоянно обжигалась и так же постоянно забывала об этом. А дело–то было в том, что она остро, болезненно завидовала Ларисе. Ее молодости, роскошной квартире, итальянской мебели, немецким сервизам, чешскому хрусталю и антикварному столовому серебру. Нарядам, драгоценностям, шубам. Ее любовникам, наконец, и независимости от богатого мужа — только на переводе пятитомника Жаклин Сьюзен Лариса заработала больше, чем Татьяна в своей школе за пять лет каторжного учительского труда. Завидовала платиновым, с синеватым отливом волосам, стройной фигурке, на которой так ладно сидел комбинезончик от Версаче, знанию иностранных языков, бесконечным поездкам за границу…
Когда Лариса по телефону рассказала ей, что купила комбинезончик, Татьяна тоже вырядилась в брючный костюм, хотя не могла не понимать, что идет он ей, как корове седло. У нее были коротковатые ноги и непомерный зад; упакованный в тесные брюки, он выпирал, словно Татьяна засунула туда подушку. Темное платье смотрелось бы на ней куда лучше, скрывало недостатки фигуры, но Татьяна и думать о платье не хотела, зная, что Лариса будет в брючках.
Зависть тлела в ней долгие годы, отравляя ее ядовитым дымом, и вспыхивала всякий раз, когда она переступала порог квартиры Пашкевичей. Татьяна старалась залить ее водкой с томатным соком — своим любимым коктейлем. Но чем больше она пила, тем острее ощущала свою второсортность. Иногда Григорий называл ее Эллочкой–людоедкой. Татьяна читала Ильфа и Петрова, хохотала над бедной Эллочкой, но ничего не могла с собой поделать. А между тем у них была пусть не такая шикарная, но все–таки хорошая трехкомнатная квартира, и не такая уж плохая мебель, и посуда, и все прочее. Просто труба пониже и дым пожиже, только и того. И не всякая чужая красота, молодость и богатство вызывали у нее приступы отчаяния: на Веронику, которая была моложе и куда эффектнее Ларисы, Татьяна смотрела с нескрываемым презрением: шлюха, продалась за деньги этому старому борову Некрашевичу! И только Лариса, с которой, несмотря на разницу в возрасте, она дружила уже многие годы, едва ли не с тех пор, как та вышла замуж за Пашкевича, вызывала у нее приступы злого отчаяния, заставляла напиваться до неприличия.
Наконец Лариса пригласила гостей к столу. Аксючиц сел с Лидией Николаевной — они дружили. На все вечера Александр Александрович ходил без жены, Тихоня вообще никогда не была замужем, так что им, как говорится, сам Бог велел сидеть рядышком.
Заместитель Пашкевича в недалеком прошлом был крупным партийным чиновником. Когда улеглась сумятица, вызванная крушением коммунистической системы, оказалось, что все старые партийные кадры, заклейменные и осмеянные в разом осмелевших газетах и на телевидении за коррумпированность, своевластие и невежество, остались у власти. Сверху и донизу. Правда, они попрятали свои партбилеты, но суть от этого не изменилась. Немножко поволновавшись, они занялись тем, чем занимались всегда, — управлением. Мир, конечно, рухнул, но и разрухой нужно было управлять. А где взять новых опытных людей, не погрязших в коррупции и воровстве, — из Америки выписать? Так что новая власть стала называться не коммунистической, а демократической, но осуществляли ее те, кто умел и привык это делать, хотя само слово «демократия» еще долго вызывало у них изжогу. Изжога прошла, когда ему наконец нашли замену: «дерьмократия».
В этом мире, мире управленцев, у Аксючица были огромные связи. Во все времена система управления была пронизана личными связями, как кровеносными сосудами, и держалась на них. Любой самый сложный вопрос проще всего решался не в высоких кабинетах, а в саунах, загородных ресторанах или в уютной домашней обстановке. Продавалось и покупалось все — от научных званий до генеральских звезд, надо было лишь знать, кому и сколько дать. Именно поэтому Пашкевич и пригласил временно оказавшегося не у дел в связи с перестройкой Аксючица в «Афродиту». Его работа заключалась в том, чтобы выбивать, доставать, оформлять все, что было необходимо молодому издательству для успешной работы, — помещения под офисы и телефоны, квартиры и машины, землю под строительство складов и гаражей, стройматериалы, мебель — иначе говоря, превращать стремительно обесценивающиеся деньги в материальные ценности.
Надо сказать, что Александр Александрович весьма преуспел в этом деле, и Пашкевич высоко ценил его заслуги, хотя никогда не упускал случая прилюдно вытереть о своего заместителя ноги. Просто так, для порядка, чтобы старый служака не забывал, кто в доме хозяин.
Скучала, хотя старалась не подавать вида, только Тихоня. Вечер не сулил ей никаких сюрпризов. Старомодные ухаживания Александра Александровича ее раздражали. Вырядился, как чучело гороховое, в модный клетчатый пиджак, нацепил галстук–бабочку, а у самого на шее плохо выбритые волосы торчат и кадык с кулак величиной. Молодится, козел, а самому уже под шестьдесят, видно, старше Тарлецкого. Попрыгунчик… Хотя хватка у него железная, ссориться — себе дороже.
Что Лидии Николаевне было интересно, так это исподтишка наблюдать за Ларисой и Виктором. Они сидели далеко друг от друга, на противоположных концах длинного стола, но казалось, что их притягивают невидимые — впрочем, вполне заметные искушенному взгляду — нити. Все пространство между ними было заполнено не тарелками, блюдами и бокалами, а любовью, легкой, счастливой, взаимной. Оживленно болтая с мужем и Тарлецким, Лариса то и дело вскидывала глаза на Виктора, и их туманили восторг и обожание. Лидия Николаевна даже ощутила легкий холодок зависти: надо же! «Вот сучка, — подумала она, — ничего не боится! Неужели Пашкевич ни о чем не догадывается? Да нет, не такой он дурак, улыбается, а скулы под кожей так и ходят. Это ему–то с его самомнением терпеть такое! Мне бы эту куклу на вечерок, я бы ей показала, что такое настоящая любовь!»
Вот такая компания собралась у Пашкевичей в честь завершения Ларисой работы над переводом произведений известной американской писательницы и выхода последнего, пятого тома.
За столом, как обычно, говорили обо всем и ни о чем: об эстрадных звездах и их любовниках и любовницах, об Оскаре, полученном Михалковым, о том, чья мода моднее — Зайцева или Юдашкина, о победе Кафельникова на открытом чемпионате Франции по теннису… Татьяна громко, чтобы привлечь всеобщее внимание, рассказывала Елене Львовне, какая она замечательная учительница, как ее любят ученики и родители — к празднику преподнесли великолепную вазу богемского стекла с позолотой; Григорий пытался осадить ее, но безуспешно. Аксючиц развлекал застолье анекдотами. Знал он их невероятное множество, даже книжку для «Афродиты» готовил: армянское радио, чукчи, евреи, Вовочка, Чапаев и Петька, Штирлиц и Брежнев… Некрашевич усадил Веронику к себе на колени и кормил блинами с мочанкой, специально для него приготовленными Клавдией, пышными, в дырочках, еще горячими; Вероника шутливо отбивалась, она не хотела есть и хрустела соленым огурцом, запивая его клюквенным морсом на меду — фирменным напитком домработницы Пашкевичей. Лишь Андрей Иванович почти не принимал участия в общем разговоре; вызывающе дерзкое поведение жены, которая и не думала скрывать свои отношения с Виктором, испортило ему настроение. Некрашевич заметил это; отпустив Веронику, он вытер рот салфеткой и сказал:
— Андрей, это правда, что вы собираетесь печатать книги за рубежом?
— А что делать? — оживился Пашкевич. — Понимаешь, Павлуша, наши полиграфисты с энтузиазмом пилят сук, на котором сидят. Цены взвинтили — выше мировых, а качество… Вот и получается, что книгу дешевле напечатать в Словакии или Финляндии, чем в Минске или Смоленске.
— А расходы на транспортировку, растаможку?
— Мы все прикинули, Павел Валентинович, — вмешалась в разговор Тихоня. — Я ездила в Словакию, подписала договор о намерениях. Завтра можем передать вам все расчеты.
— Насколько я понимаю, без кредита вам не обойтись?
— За что я тебя люблю, дружище, — засмеялся Пашкевич, — так за то, что ты все всегда понимаешь.
— И много надо на первый случай?
— Мизер… Пятьсот тысяч дойчмарок.
— И правда мизер… Типун тебе на язык, Андрюшенька, — Некрашевич снял и протер запотевшие очки. — Обидно. Эти бы деньги в нашу полиграфию вложить, глядишь, и качество появилось бы. А мы отдадим дядям, а сами так и будем на брюхе ползать.
— Мне о подъеме отечественной полиграфии думать некогда, — Пашкевич отодвинул тарелку с телячьей отбивной, к которой так и не притронулся. — Пусть о ней голова болит у тех, кто за это зарплату получает. Мне нужно выпускать книги, снижать себестоимость и цену, иначе их уже скоро никто покупать не будет. А вообще–то инвестиции в полиграфию во всем мире считаются делом выгодным.
— Надо все обмозговать, — кивнул Некрашевич. — Ладно, присылайте ваши расчеты, посидим, подумаем.
— Мужики, хватит болтать! — взорвалась захмелевшая Татьяна. — Лариса, я танцевать хочу. Вруби свою музыку! — И потащила Григория, не знавшего, куда глаза девать от смущения, танцевать.
— Угомонись, — попросил он. — Уже поздно, пора домой. Пока доберемся…
— Ничего, Виктор нас подбросит. Свою машину просрал, так что не чирикай, идиот. Ты ведь нас подбросишь, Витенька?
— Разумеется, — ответил Виктор. — Скажете минут за десять до ухода.
Прощаясь, Некрашевич обнял Пашкевича и, жарко дыша ему в ухо, прошептал:
— Старик, она беременна! Слышишь?! Видал, как она огурчики хрумкала?! — Он счастливо рассмеялся. — У нас будет малыш, Андрюха! Не могу поверить своему счастью, хожу, как обалделый. Уже шесть недель, понимаешь?! Господи, еще столько ждать… Сдохну я от этого ожидания! Только пока молчок, пусть это будет для всех сюрпризом. Тебе одному сказал, просто распирает меня от радости.
Павел нежно обнял Веронику, которая зябко куталась в коричневую норковую шубку, и подмигнул Пашкевичу, как опытный заговорщик. Они жили в том же доме, в соседнем подъезде. Андрей и Лариса проводили их до лифта и вернулись. Тарлецкие уехали на своей машине, остальных увез Виктор. В квартире стало тихо, лишь на кухне жужжала посудомоечная машина — Клавдия занималась своим делом.
Так вот откуда алмазный крестик на платиновой цепочке, догадался Пашкевич. Ну что ж, Павла можно понять. На шестом десятке стать отцом… Почувствовать, что вновь жизнь только начинается, что все еще впереди. Счастливчик! Много ли таких в наше время? Богатых много, а вот счастливых… Большой вопрос, — как говаривал когда–то их сосед дед Левон после второго стакана самогонки, — наука его еще не превзошла. Он и сам не пожалел бы денег на такой подарок, если бы Лариса… Увы, об этом не приходится даже мечтать. Говоря библейским языком, она бесплодна, как сухая смоковница. Она умеет только трахаться; зачать, выносить, родить ребенка — не для нее, и в свое время она честно предупредила его об этом. Конечно, это не вина ее, а беда, но все же…
Пашкевич вспомнил свою дочь от первого брака, Олю, и у него защемило сердце. Когда они с Наташей расстались, Оля была совсем крохой. В последний раз он видел ее вскоре после того, как получил премию за пьесу. Видел издали, прячась, долго шел следом, — она не захотела с ним встретиться, поговорить. Наташа постаралась, чтобы Оля возненавидела его на всю жизнь, и добилась своего. Высокая красивая девочка в беличьей шубке и красном шерстяном берете. Она шла на каток, через плечо были перекинуты ботинки с коньками. Он дошел за ней до самого парка Горького, а потом отправился в ресторан и напился до полусмерти. Сейчас Оле двадцать три, совсем взрослая. Может, уже замуж вышла, детьми обзавелась — его внуками; он ничего о ней не знал. Слишком уж они были несправедливы к нему, и Наташа, и Оля, и у него запеклось сердце от злобы — ах, вы так… Ну и я не лучше. Он годами не вспоминал о них, вычеркнул их из своей жизни, и сегодня не вспомнил бы, если бы не восторженный шепот Некрашевича, не его расплывшаяся от счастья физиономия. Почему так больно ранит чужое счастье? Если бы хоть Лариса не снюхалась с этим кобелем, не выставляла напоказ свою любовь…
Лариса не догадывалась о том, какие мысли терзают его душу, и радовалась: вечер удался, никто не перессорился, даже эта стерва Танька не перепилась, нагрузилась, конечно, под самую завязку, но вела себя более–менее прилично.
— А Вероника — прелесть, — сказала она, вынимая перед зеркалом шпильки из волос. — Что и впрямь любит Павла — не верю, но притворяется — высший класс.
— А я верю, — лениво возразил Пашкевич. — Он славный, Паша, отчего ж его не полюбить. Старше нее? Я ведь тоже старше тебя, а ты–то меня любишь, не так ли?
Вместо ответа Лариса улыбнулась и обвила его шею руками. Ее волосы рассыпались, и Пашкевич потерся о них лицом. Почувствовав головокружение, он подхватил жену на руки и понес в спальню, с горькой иронией подумав о том, что не выключил видеокамеру слежения, и сейчас она запишет на пленку не Виктора, а его — во всех подробностях, отвратительных, когда за этим наблюдаешь со стороны. От всего этого у него тут же пропало желание.
Глава 4
Набросив на себя халат, Лариса прошла к мужу в кабинет. Андрей тихонько похрапывал на диване. Она заботливо поправила на нем сбившееся одеяло, пригладила влажноватые волосы. Что–то рановато он начал сдавать. На четыре года моложе Некрашевича, поджарый и мускулистый, как Барс, неужели это Женечка, сучка, его так выматывает? Павел, несмотря на всю свою физкультуру, сауну и массажисток, уже наел брюхо и два подбородка, но при всем при этом Вероника как–то по секрету рассказала Ларисе, что таких сильных и неутомимых в постели мужиков она еще не видывала, а ей, несмотря на ее молодость, можно верить. Наверное, подкармливает его какими–нибудь таблетками, вроде знаменитой кремлевской, не отсюда ли его богатырская мощь? Но ведь эти таблетки, говорят, быстро доводят мужчин до инфаркта или инсульта. Хотя какая Веронике до этого забота? Она уже своего добилась, сколько Павел проживет, ее не колышет. А впрочем, кто знает? Андрей на это не пойдет. Только заикнись о каких–то там таблетках… Ему бы отдохнуть немного, хоть недельку, слишком он выматывается на работе, ни на что другое не остается ни сил, ни времени, ни здоровья. Трудоголик — все равно что алкоголик. Когда–то он был прекрасным любовником, нежным, ласковым, умелым. До «Афродиты». «Афродита» стала единственной его любовью, а не я. И я, и эта юная дурочка Женя, которую он завел в пику мне, ровно ничего для него не значим; это всего лишь ритуальная примета богатства и положения: роскошная жена, роскошная любовница, квартира, дача, машина, собака… А ведь все это — одна видимость, мишура, позолота… Ночью она сползает, как измятая простыня, — и что там в осадке? Тягучая боль неудовлетворенного желания, раздражение и обида.
«А все–таки зря я его сегодня дразнила, — подумала Лариса, — не следовало этого делать. Он ведь и так обо всем догадывается, зачем же было демонстрировать? Вожжа под хвост попала, крестик Вероники заел. Неужели я и впрямь такая мещанка, что взбесилась из–за этого крестика? Он ведь мне чудное жемчужное ожерелье недавно подарил, чего же больше! Я всегда считала себя выше этого, а оказывается, зря. Обыкновенная стерва… А впрочем, при чем тут крестик?..»
Лариса вспомнила, с какой жадностью Вероника ела соленый огурец. Вот что ее достало! Если бы у них с Андреем был ребенок! Может, и ее жизнь наполнилась бы каким–то смыслом, а не бесконечным поиском удовольствия. Что ей Виктор, этот мальчишка. И другие… Что у нее было до Андрея? Два брака, два развода, несколько любовников. Страшный день в Ратомке, когда она, беременная, упала с лошади и корчилась от боли на земле в луже крови. Аборт. По молодости она тогда ни капельки не огорчилась словам мясника, который потрошил ее в деревенской больничке, что больше не сможет иметь детей. Главное — выжить. Выжила, пожила, что говорить… Ну, а дальше, дальше?.. Тридцать первый год, впереди целая жизнь, чем ее заполнить? Работой от утра до ночи, как Андрей? А зачем, Господи, во имя чего? Того, что он уже заработал, они не потратят, даже если проживут сто лет, хватило бы и детям, и внукам. Кому все это достанется, когда их обоих не станет? У Андрея есть дочка от первого брака, когда–то обмолвился. Кажется, он ненавидит ее не меньше, чем ее мать. За что можно возненавидеть собственного ребенка? Бред какой–то. А ведь мы могли бы подружиться, я старше ее всего лет на восемь–девять, это совсем немного, у нас нашлась бы масса общих интересов. Она могла бы приходить к нам, может, однажды и у нас появились бы внук или внучка. Мало ли мужчин разводятся, а для детей они все равно остаются отцами. Жизнь есть жизнь. Что–то у них там произошло тяжелое, страшное, Андрей об этом не говорит. Он вообще очень скупо рассказывал мне о своем прошлом. А ведь оно у него было — прошлое. Не только работа, а и жена, и дочь, и приятельницы… Но в душу к нему не залезешь, она замкнута, как министерский сейф.
«И все–таки мне придется этот сейф вскрыть, — подумала Лариса… — Я должна найти его дочь, поговорить с нею, как–то попытаться их помирить. Иначе очень скоро мы станем не нужны друг другу. Надо насесть на Павла. Ему одному известна вся подноготная Андрея, только разговорить его будет нелегко. Но я с этим справлюсь. — И совсем некстати мелькнуло: — А бедный Виктор, наверное, уже заждался?»
Вообще Ларисе ничего не хотелось. Неутоленное желание, лишь разбуженное, растревоженное мужем, прошло, оставив ощущение пустоты и усталости. Хорошо, если бы Виктор уже заснул.
Осторожно, чтобы не разбудить Андрея, она прошла в спальню, поправила разрытую постель. Дверь в ванную была приоткрыта. Когда–то, ремонтируя квартиру, Пашкевич перепланировал ее так, что ванная оказалась между спальней и комнатой для гостей, в обе вели отдельные двери. Преимущества такой планировки Лариса особенно оценила после того, как стала любовницей Виктора. Андрей уже давно переселился в кабинет, лишь изредка наведываясь к ней. Когда Виктор оставался ночевать, а в последнее время это случалось довольно часто, ей достаточно было выйти из спальни в ванную, закрыть за собой дверь на задвижку и открыть в соседнюю комнату. При любом постороннем звуке Лариса могла тут же вернуться в ванную.
Приняв душ, она закуталась в пушистую простыню и осторожно приоткрыла дверь в гостевую комнату. Виктор не спал.
Глава 5
Шевчук поставил машину на площадке возле дома, выключил двигатель. В груди жгло так, что впору позвать на помощь, но во дворе никого не было. Он достал патрончик с нитроглицерином. Две маленькие таблетки тут же растаяли во рту, вернулось дыхание. Посидел еще немного, вылез, взял сумку и побрел к подъезду. Когда он ввалился в квартиру и рухнул на стул, Рита, не слушая его возражений, тут же вызвала «скорую помощь».
Кардиологическая бригада провозилась с ним несколько часов. Делали уколы, снимали кардиограмму.
— К‑как он, д-доктор? — спросила Рита, кутаясь в пуховый платок — в квартире было тепло, но ее знобило. После инсульта Рита говорила медленно, с трудом, запинаясь едва не на каждом слове, словно ей требовалось сделать усилие, чтобы вытолкнуть их из горла.
— Стенокардия… — ответил врач с серым, как неподошедшее тесто, усталым лицом, держа в обеих руках большую чашку горячего кофе. — Приступ мы купировали, сейчас никаких опасений работа сердца не вызывает. Сильный стресс или длительное переутомление. А может, и то, и другое вместе. — Он повернулся к Шевчуку, укутанному до подбородка одеялом. — Много работаете?
— Приходится, — ответил Шевчук. — Такое время…
— Он к-курит, как паровоз, — сказала Рита.
— Это плохо. Курить следует бросить или хотя бы резко сократиться. Две–три сигареты в сутки. Никотин угнетает сердце, забивает сосуды. Вообще–то вас следовало бы отвезти в больницу. Полежите недельку под капельницей, окрепнете.
Шевчук отрицательно покачал головой.
— Если нет ничего страшного, я предпочел бы остаться дома.
— Дело хозяйское. — Врач допил кофе, поставил на журнальный столик чашку. — Спасибо, хозяюшка, взбодрили. Ну, а вы распишитесь вот здесь: от госпитализации отказался. Таковы правила. Пару дней полежите в постели, завтра придет врач из поликлиники, сделает назначения. Никакой работы, никаких волнений. Принимайте лекарства, берегите сердце, очень трудно обзавестись новым.
Опираясь на костыль, Рита проводила ночных гостей, вернулась в бывшую дочкину комнату, где он лежал. Выключила верхний свет, резавший глаза, зажгла торшер, села в кресло,
— Принести что–нибудь поесть? Или хоть чаю?
— Нет, — ответил Шевчук. — Спасибо. — Иди отдыхай, ничего со мной не случится, я двужильный. Крестьянский сын, сама знаешь.
— Лежи уж, к-крестьянский сын. Успею, высплюсь.
К тахте подошел Алеша. Все время, пока врачи возились с отцом, он молча просидел в уголке, испуганный и взъерошенный.
— Как ты?
— Все нормально, сынок, — через силу улыбнулся Шевчук. — Как у тебя дела?
— За сочинение четвертак получил. Книгу для вас набирать начал. Мура жуткая. Этот принц Малько…
— Не обращай внимания. Детективы Жерара де Вилье — нарасхват, а что он не Лев Толстой… Ступай спать, завтра в школу опоздаешь.
Алеша наклонился над отцом, тронул губами колючую щеку.
— Держись, старик. Не пугай нас с мамой так больше. Доброй ночи.
Старик… Так они называли друг друга, когда были студентами. Въедливое словцо. Волна нежности к долговязому неуклюжему подростку, даже прыщами на лице похожему на него, когда ему было столько, сколько сейчас Алеше, охватила Шевчука. Сын… Умный, послушный, работящий. Есть для кого жить, работать, мучиться. У Андрея нет сына. Дочь была, и ту он умудрился потерять. В сущности, он одинок, как собака. Злобный, жестокий и бессердечный пес. Такой же, как его Барс. А Нику я упустил. Господи, как тускло, уныло и безрадостно без нее в доме!
— Ника звонила?
— Утром заезжала. В-Володя, она бе… бе…
— Беременна? — догадался он. Рита кивнула. — Значит, этот старый козел сделал ей ребенка?
У Риты страдальчески дернулись губы.
— Она счастлива с ним, к‑как ты это не… Смири себя, не рви нам обеим сердца. И себе т-тоже. Хватит вражды…
— Никогда! — ответил он и отвернулся к стене.
«Афродиту» придумал не Пашкевич, у него на это фантазии не хватило бы, «Афродиту» придумал он, Шевчук. У Андрея с фантазией всегда была напряженка. Трудолюбия, расчетливости, напористости хватало, а вот воображения… Но у Шевчука не было ни денег, ни связей, чтобы выбить кредит и претворить свою задумку в жизнь, а у Пашкевича было и то, и другое. В то время Некрашевич, его ближайший друг, был заместителем управляющего госбанком; Андрей, что называется, открывал его дверь ногой. А кто платит, тот заказывает музыку. Деньги рождают власть. Поэтому Андрей стал первым, а он, Шевчук, вторым, хотя по справедливости все должно было быть наоборот.
Кажется, какая разница? Первый, второй… Рядышком ведь, рядом. Общее дело делают, живут им и дышат, а поди ж ты… За неполных пять лет Пашкевич стал миллионером, а Шевчук… Нет, не бедствует, чего зря… И зарплата приличная, и дивиденды каждый квартал. Набегает… За эти годы матери новый дом построил, корову купил. Обменял с приличной доплатой свою двухкомнатную хрущобу на хорошую большую квартиру, обзавелся мебелью. А сколько Ритина болезнь забрала, санаторий в Саках, куда он без всякой пользы уже дважды возил ее, дорогие лекарства, массажистки, сиделки… Мог бы и машину купить, просто пока смысла нет. Издательский «БМВ», на котором он ездит, — то же самое, что собственный. А вообще то же — да не то. Завтра взбредет Пашкевичу в голову продать машину или передать, например, тому же Боре Ситникову, а Шевчука пересадить на добитый до ручки «москвичок», еще похуже, чем был у Колосенка, — и кто помешает ему это сделать? А никто. После того как Андрей вышвырнул из издательства художника Сашу Трояновского, вздумавшего заявить авторские права на дизайн своих обложек, которые и сделали книги «Афродиты» приманкой для покупателей, а затем Тамару Мельник, на которой лежала вся книжная торговля, люди даже пикнуть боялись. Сейчас Пашкевич жаждал расправиться с ним, и Шевчук знал, что его сдадут так же послушно и безропотно, как тех, ушедших, сдавал он сам.
Они никогда не были близкими друзьями, хотя почти четыре года прожили в общежитии в одной комнате. Так… приятели, однокашники. В университете у Пашкевича друзей вообще не было, и позже, в газете, где он начал работать, — тоже. И все–таки именно Андрей вытащил его и Риту из глухомани и помог с жильем, с пропиской и работой. На какое–то время их сблизила «Афродита», Шевчуку даже показалось, что они и впрямь стали друзьями. Но, как говорится, дружба дружбой, а табачок врозь. Когда Володя понял, что Андрей нагло и беззастенчиво обманывает, грабит их, и воспротивился этому, его судьба была решена.
У Пашкевича был талант выживать людей. Бесконечными мелочными придирками и унизительными, вскользь оброненными репликами, штрафами и жестокими разносами он доводил тех, кто чем–то не угодил ему, до того, что они сами приносили заявления об увольнении. Сопротивляться, качать права смешно: не государственное предприятие, хозяин — барин. Учредители вообще сидели как мыши под веником: каждый в случае, если его выживут, рассчитывал получить хоть кусочек от роскошного пирога, выпеченного «Афродитой». Но Пашкевич подумал и об этом. С подсказки адвоката Тарлецкого он внес в устав общества с ограниченной ответственностью «Афродита» пункт, по которому расчет с уволившимся или уволенным соучредителем производился в течение трех лет, начиная с будущего финансового года. Они, как бараны, проголосовали за этот устав, даже не задумавшись над тем, какую удавку накинули на собственные шеи. Никто никуда не собирался уходить, ни один дурак не режет курицу, несущую золотые яйца. Они даже представить не могли, что однажды их начнут выгонять; пример Саши Трояновского и Тамары Мельник заставил оставшихся, и в первую очередь Шевчука, задуматься над своей судьбой. И получалось, что за три с лишним года инфляция оставляла от огромных денег, которые вроде бы полагались каждому из соучредителей в соответствии с его долей в имуществе и активах «Афродиты», рожки да ножки. Шевчук прикинул: того, что он может получить, не хватит, чтобы основать новое издательство и выпустить даже одну–единственную книгу. Иначе говоря, выгони его Пашкевич, он останется практически таким же нищим, каким был, пока не уговорил Андрея создать «Афродиту».
Одна книга, выпущенная массовым тиражом… Шевчук знал, что для начала этого вполне достаточно. Важно только, чтобы она пошла. У него дома уже была такая книга. Набранная, сверстанная, переснятая на пленку, прекрасно оформленная — сдавай в типографию и печатай. Не осточертевшие всем кровавые триллеры и слезливый дамские романчики — нечто новенькое, притягательное, необычное. «Как стать миллионером. Книга начинающего бизнесмена». Кто в этой стране не мечтает стать миллионером не при помощи горба и мозолей, изобретательности и готовности рисковать, а прочитав десяток–другой толковых советов! Люди будут стоять в очереди за этой книгой, как в далекие семидесятые — за подпиской на Джека Лондона или Чехова. Шевчук думал открыть ею в «Афродите» новую серию: «Ты и бизнес», но поняв, что Пашкевич выживает его, решил не суетиться. Подготовил и припрятал, а расходы разбросал на другие книги.
Это тоже было, конечно, воровство, но оно и в сравнение не шло с тем, что позволял себе Андрей. Шевчук знал: подготовленное отступление — совсем не то что паническое бегство. Если бы у него была хоть слабая надежда, что Пашкевич рассчитается с ним по–человечески… Что ж, не сработались — бывает, надо уходить. Открывать свое дело, вступать в конкуренцию. Он сколотил бы отличную команду: Саша, Тамара, Гриша Злотник… На первых порах больше не надо. С такой командой можно горы своротить. Только жить надо честно, делиться, а не хапать. Но Шевчук не сомневался — никаких исключений для него Андрей делать не станет. А через три года о своем издательстве думать поздно, рынок и так уже перенасыщен, щелочки не найдешь. Книга, на которую он рассчитывал, не будет стоить ломаного гроша — дорога ложка к обеду.
«Что ж, — подумал Шевчук, — ты мне за это заплатишь. А дальше… Чему быть, того не миновать!»
Глава 6
Метель, посвистывавшая за окном всю ночь, кончилась, утром даже на часок выглянуло солнце. Блеклое, вымороженное, на него можно было смотреть не щурясь. Толстая снежная подушка на подоконнике заискрилась в невидимых лучах, словно засахаренная. На нее спикировали откуда–то сверху два сизых голубя. Они уминали рыхлый снег красными озябшими лапками и ворковали. Шевчук открыл форточку и сыпанул им хлебных крошек. Голуби жадно набросились на угощение. К ним тут же присоединился воробышек. Голуби отгоняли его, сердито ворча, но воробышек отчаянно хватал крошки у них из–под клювов.
Сквозь щели в окне остро тянуло холодом. Шевчук поежился и снова забрался в теплую постель. У него уже побывала участковая врачиха, выписала бюллетень на три дня, кучу рецептов, велела лежать. Раньше любое недомогание он переносил на ногах, если крепко поджимало, отлеживался в выходные. Глупо. Пашкевич не из тех, кто способен оценить преданность работе, он ценит только личную преданность.
Несколько лет перед «Афродитой» Шевчук работал в БелТА — белорусском телеграфном агентстве. Именно там в конце восьмидесятых — с опозданием на целую эпоху — появились первые компьютеры, струйные и лазерные принтеры, сканеры — техника, которой предстояло совершить подлинную революцию в издательском деле. На первых порах компьютеры использовались как удобные пишущие машинки, их настоящих возможностей никто не знал.
Шевчук первым сообразил, какое огромное будущее у этих «машинок». Он легко добился, что его назначили заведующим компьютерской — на эту должность никто не рвался. После краткосрочных курсов в Москве засел за книги, уговорил начальство выделить денег на закупку программного обеспечения.
Когда в стране стали возникать первые коммерческие издательства, Шевчук понял, что пора действовать. Своими мыслями он поделился с Пашкевичем. Тот как раз метался в поисках подходящего дела. Пьесы, очень даже неплохо кормившие его добрый десяток лет, одна за другой сходили со сцен театров, новыми никто не интересовался. Все рушилось на глазах. Надо было успеть ухватить свой кусок. Книжный рынок был пуст, как Сахара, по доходности издание художественной литературы уступало разве лишь производству водки. Собрали команду. Грише Злотнику предстояло отобрать и составить несколько первых книг; Шевчуку — набрать и сверстать их, подготовить оригинал–макеты, Саше Трояновскому — сделать обложки и оформление, Пашкевичу — достать денег и договориться с типографией, Тарлецкому — разработать необходимые документы. Когда Андрей получил миллионный кредит и дело стало принимать реальные очертания, Злотник тут же подобрал в своей библиотеке парочку давно не переиздававшихся детективных повестей американских авторов. Чтобы придать книге видимость новинки, выудил в польском журнале еще одну, более свежую, и перевел на русский. На титульном листе написали: перевод с английского, поди проверь.
В шесть вечера компьютерскую сдавали под охрану — включалась сигнализация. До самого утра, до прихода своей заместительницы Селезневой, отключавшей сигнализацию, Шевчук оставался в тюрьме, не менее надежной, чем Бутырка. Что бы с ним ни случилось, выйти из компьютерской он не мог — тут же нагрянула бы милиция. Самое большое, что он мог себе позволить, чтобы размять немеющее тело — походить вдоль столов с машинами.
Две недели Шевчук работал, как одержимый. Кофе уже не помогал, он засыпал за письменным столом. Запали воспаленные от недосыпания глаза, втянулись щеки. Сотрудницы встревожились — не заболел ли? Но уже через две недели он отдал Грише на вычитку рукопись. Затем быстро выправил ошибки и опечатки, сверстал весь том и распечатал оригинал–макет. В сущности, это была уже готовая книга, только в одном экземпляре. Саша Трояновский украсил ее броским переплетом: полуобнаженная красотка с пистолетом в руке склонилась над трупом мужчины с красным пятном крови на груди.
Купить бумагу, картон, пленку и все остальное, чтобы превратить единственный экземпляр «Обнаженной с пистолетом» в триста тысяч экземпляров, было практически невозможно. Уже никто ничего не продавал. Признавался только бартер: товар — товар, обесценивающиеся деньги никого не интересовали. Использовав старые связи, Борис Ситников всучил кому надо солидную взятку и добыл несколько десятков холодильников и морозильников, загрузил их в железнодорожные контейнеры и отправился в Карелию, на бумажный комбинат. Вскоре он пригнал в Минск три вагона бумаги и обложечного картона. И по популярному выражению того времени «процесс пошел».
В государственных издательствах книгу делали год, а то и полтора. Они выпустили свой первый бестселлер за пять недель. Позже, когда Шевчук создал собственную компьютерскую, где книги набирались и верстались в три смены и в типографию сдавались уже не оригинал–макеты, а готовые пленки, они стали выпускать до десяти томов в месяц.
Но выпустить книгу — даже не полдела, а четверть; ее еще нужно было продать. Книготорг требовал за реализацию двадцать пять процентов стоимости тиража; это были безумные деньги, жертвовать которыми при огромном неутоленном спросе на литературу Пашкевич не собирался. Он переманил в «Афродиту» Тамару Мельник — ведущего товароведа книготорга, и она организовала в издательстве торговый отдел. Тамара обзвонила знакомых директоров книжных магазинов, написала сотню писем, поместили несколько рекламных объявлений в газетах, и к моменту, когда «Обнаженная с пистолетом» увидела свет, весь тираж был фактически распродан. Люди приезжали на машинах, привозили деньги чемоданами, забирали книги по доверенностям прямо с типографского склада, отправляли контейнерами.
Денежный поток был таким мощным, что все оторопели — «Обнаженная с пистолетом» принесла несколько миллионов рублей чистой прибыли.
Шевчук вздохнул. Это было золотое время. Он и Злотник неделями не вылезали из московских и ленинградских библиотек, рылись в журналах, искали и ксерокопировали книги. В каждую, как приманку для покупателя, следовало включать хоть одну новинку, остальное составляло старье, в котором меняли названия. Все, что он с Григорием привозил, тут же рвалось на куски по десять–пятнадцать страниц и относилось в институт иностранных языков. Переводчиков, не считая Ларисы, не было, немногие профессионалы и преподаватели английского, готовые взяться за эту работу, требовали времени: кто три месяца, а кто и полгода. Такого времени ни у кого не было — куй железо, пока горячо. Куски текста отдавали студентам–старшекурсникам, платили им гроши, но и переводили они, как Бог на душу положит. Гриша и Таиса Хадкевич — к тому времени им пришлось обзавестись корректором и стиль–редактором, по пять раз перечитывали тексты, чтобы как–то свести эти куски воедино, чтобы хоть географические названия и имена основных героев писались одинаково. И все равно в первых книгах случалось, что на пятой странице героя именовали Пол, на двадцать третьей — Поль, а на сто семьдесят второй — Пауль.
Об авторских правах никто не думал. Рукописи бесцеремонно сокращались, кромсались — читателя следовало огорошить уже на первой странице, придумывались сногсшибательные заголовки, зачастую не имевшие никакого отношения к тексту. У Шевчука открылся настоящий талант к подобным переименованиям. Это он стал «крестным отцом» «Кровавого узла», «Ночного маньяка», «Ангела смерти» и других бестселлеров «Афродиты».
Начали они с детективов. Но воистину золотой жилой для издательства стали эротические романы Эммануэли, Ксавьеры Холландер, Сильвии Бурдон, Роджерс и других сексуально озабоченных дамочек, а также произведения маркиза де Сада, Мазоха — то, что вообще раньше никогда не издавалось в стране. Казалось, с отменой цензуры отменили нравственность: все дозволено, деньги не пахнут.
Именно тогда, в угаре всеобщего беззакония в разрушающейся стране, Пашкевич заложил основу своего состояния. Все это делалось руками Шевчука и Злотника, но им доставались только объедки.
Несколько книжных магазинов, которые Пашкевич и Тамара Мельник открыли в Минске, Москве, Калининграде и Ростове, а так же два десятка киосков, разбросанных по всей Белоруссии, давали издательству огромные наличные деньги, проконтролировать которые было невозможно. Тихоня конвертировала их, часть оседала в «Омеге» Некрашевича, часть по липовым контрактам перегонялась в офшорный банк на Багамах на счета Пашкевича и его жены. Но основной доход приносили параллельные издания. В редакции одновременно готовились четыре–пять комплектов одной и той же книги, но с разными переплетами и названиями. Один издавался под грифом «Афродиты», с тиража платились налоги и прочие отчисления, для других в крупных городах России, Украины, Молдавии, Казахстана, где имелась своя полиграфическая база, Аксючиц регистрировал на подставных людей, иногда с ворованными паспортами, фирмы–однодневки. Денег на взятки чиновникам, выдававшим лицензии, и руководителям типографий не жалели: овчинка стоила выделки. Заказы большей частью оплачивали за счет все того же «черного нала». На титульных листах проставлялись названия новых фирм, выходные данные, и книги быстренько выходили в свет. С такой же скоростью их продавали крупным оптовикам на местах, и фирма тут же прекращала свое существование, растворяясь «на просторах родины чудесной».
Выручка от продажи «левых» книг на счета «Афродиты» не возвращалась. Наличные увозили в чемоданах, безналичные, попутешествовав из банка в банк, из республики в республику, словно растворялись в воздухе. Тихоня была гениальным дирижером, она так ловко запутывала денежные потоки, что их не удалось бы распутать самому хитроумному налоговому инспектору, — гигантские расстояния, появляющиеся границы и несовершенство законов стали для Пашкевича и Лидии Николаевны воистину золотым рудником.
Оплачивая выпуск этих книг, «Афродита» терпела серьезные убытки, они сказывались на дивидендах и Шевчука, и Злотника, и других учредителей. Но когда Володя заикнулся, что не мешало бы хоть часть выручки от параллельных изданий возвращать в «Афродиту», Пашкевич, ставший к тому времени с их общего согласия именоваться генеральным директором, резко посоветовал ему не вмешиваться.
— Твое дело — искать и готовить книги, с финансами мы как–нибудь разберемся. Или тебе мало того, что ты получаешь?
Так между ними пролегла первая трещина. Но до разрыва еще было далеко.
Глава 7
Рита возилась на кухне, готовила обед. Сквозь приоткрытую дверь доносился вкусный запах жареных котлет. Шевчук сглотнул слюну, ему захотелось есть, Это был верный знак, что приступ прошел. Потом там что–то с грохотом упало на пол — то ли кастрюлька, то ли сковорода, и Рита жалобно вскрикнула. Хоть бы не ошпарилась, такое с ней уже случалось.
После возвращения Риты из больницы прошло два года. Врачи обещали улучшение, но оно так и не наступило. Еще молодая, совсем недавно полная сил и энергии женщина на глазах превращалась в развалину, жалкую и беспомощную, и видеть это было невыносимо. У нее отнималась правая часть тела, пальцы на руке и ноге еще шевелились, но теряли чувствительность. Речь оставалась замедленной, слова плохо связывались в предложения, иногда Шевчук скорее догадывался, чем понимал, о чем она говорит. Она располнела нездоровой рыхлой полнотой, обрюзгла, перестала следить за собой. Дни напролет лежала в постели или слонялась по квартире, постукивая костылем, в грязном мятом халате, из–под которого виднелся подол ночной сорочки; нечесаная и немытая, с погасшими глазами, погруженная, как в колодец, в свою болезнь и свое отчаяние.
После того как Вероника ушла из дому, Шевчук не раз предлагал Рите подыскать домработницу, хорошо бы приходящую, хоть на несколько часов в день. В магазин сходить, на кухне помочь, квартиру убрать…
— Зачем тебе надрываться? — уговаривал он. — Мы же можем себе это позволить. Да и веселее, будет с кем словом перекинуться. Целые дни одна…
Рита отрицательно качала головой.
— С-спасибо за заботу, но я… Зачем тогда я? Я ведь уже д-давно тебе не жена. Возьмешь д-дом… — она махнула рукой, — а мне куда? На к-кладбище? По–потерпи уж, помру — тогда…
— Не говори глупости, — злился он — Не смей сдаваться. Мы еще повоюем.
— Я уже отвоевалась, В-Володенька, — сдержанно отвечала Рита, и такая безнадежная горечь звучала в ее голосе, что Шевчук угрюмо замолкал.
Постепенно он все больше отдалялся от жены. Ему уже не хотелось, как когда–то, ласкать и целовать ее, носить на руках по комнате, нашептывая всякие глупые слова, от которых у Риты вспыхивали щеки и становилось прерывистым дыхание. Больная женщина, тяжело и неизлечимо больная. Еще вроде бы своя, родная, близкая, знакомая до каждой морщинки в уголках губ, но уже и чужая, посторонняя, ненужная. Поскорей бы она умерла, — все чаще закрадывалась в голову крамольная мысль и уже не пугала своей жестокостью, — сколько же можно мучиться и ей, и нам?! И мысль эта казалась тем более отвратительной и несправедливой, потому что он чувствовал себя виновным в ее болезни. Себя и Веронику.
Шевчук обожал Веронику. Это была не любовь, а именно обожание, слепое и эгоистичное. Если бы это зависело от него, Ника всегда оставалась бы маленькой проказливой девчушкой, капризной и взбалмошенной, и безраздельно принадлежащей ему, отцу. Только он никогда не обижал ее, беспрекословно исполнял все ее желания, терпеливо возился с ней, не спал ночами, сходя с ума от страха, если ей случалось заболеть, — больше никто не был на это способен.
До девятого класса Ника ничем не отличалась от соседских девчушек: обычный длинноногий кузнечик с тонкой шейкой и косой челочкой. Разница заключалась, может быть, лишь в том, что занималась она не в обычной школе, а в хореографическом училище и уже танцевала в нескольких балетных и оперных спектаклях. Когда Шевчук видел ее среди других детей в «Баядерке» или в «Дон Кихоте», у него от счастья и гордости обмирало сердце.
В девятом классе кузнечик–попрыгунчик вдруг превратился в очаровательную девушку с осиной талией, стройной фигуркой и большими, как у матери, искусно подведенными васильковыми глазами. Облегающий свитер дерзко подчеркивал маленькую грудь, а юбочки Ника носила такие коротенькие, что они приводили Шевчука в ужас. Его робкие попытки вмешаться и заставить дочь одеваться поприличнее, закончились полным провалом. Даже Рита его не поддержала: все они теперь такие, ты же не хочешь, чтобы она выглядела огородным пугалом!
Вскоре он понял, что стало причиной этого стремительного расцвета. Однажды, вернувшись, как обычно, домой поздно вечером, Шевчук застал Риту в истерике. Она лежала на кровати, обвязав голову полотенцем и уткнувшись лицом в подушку, и ее плечи вздрагивали от рыдания. В комнате явственно пахло валерьянкой.
Шевчук долго успокаивал жену, пока смог добиться от нее внятного ответа, и этот ответ потряс его:
— Вероника в положении.
— В каком положении? — не понял он. — Что за глупая шутка?
— Это не шутка, Володя. Она беременна.
У него потемнело в глазах. В груди что–то взорвалось и острыми иголками побежало по телу.
— Как это — беременна? Она же еще совсем ребенок!
— Это для нас с тобой она ребенок, — всхлипнула Рита. — А она уже женщина, Володя, понимаешь? Женщина… И она в положении. Восемь недель. Еще чуть–чуть, и уже нельзя будет сделать аборт.
— Но ей же еще нет шестнадцати! — Шевчук схватился за голову, все еще не в силах поверить в услышанное. — Может, это какая–то идиотская ошибка?
— Если бы ошибка… — Рита вытерла заплаканные опухшие глаза. — Если бы это была ошибка… Я утром водила ее к гинекологу, все подтвердилось.
Ломая спички, Шевчук закурил. Дым ожег легкие, сухой кашель перехватил дыхание. Он побагровел, на глазах выступили слезы. Хотелось повалиться на пол и завыть от смертельной тоски. Кто, кто этот подонок, эта мразь… кто сотворил такое с маленькой и глупенькой девочкой?! Найти, схватить за горло и сжимать, сжимать пальцы, пока у него глаза не вылезут из орбит и не вывалится изо рта язык.
Он сел на край кровати и в три затяжки докурил сигарету до фильтра. Вот и случилось! Всю жизнь боялся даже думать об этом, при одной мысли холодел. При мысли о том, что все будет по–людски: замужество, свадьба, цветы, приличный парень из приличной семьи… Конечно, в конце концов он смирился бы с этим, так устроен мир, и не ему, Шевчуку, его переделывать. Но чтобы вот так… по–собачьи… в неполных шестнадцать… Соплячка, в которой он не чаял души, которая была для него воплощением чистоты и невинности… Нет, это было выше его сил.
Из комнаты Вероники доносилось завывание магнитофона. Шевчук рванул ручку. Задвижка с треском отлетела. Вероника сидела перед зеркалом, подкрашивала длинные ресницы. Шевчук выключил орущий магнитофон. Она встала, включила снова.
— Привет, па! Тебе не нравятся «Роллинг Стоунз»?
— К черту «Роллинг Стоунз»! — рявкнул Шевчук. — Это правда? То, что мне рассказала мама?! — Слова «беременна», «беременность» применительно к Нике он просто не мог произнести, они костью застряли у него в горле.
— О чем ты? А-а, понимаю. — Ника лениво потянулась, Шевчуку показалось, что свитер вот–вот лопнет на ее груди. — Па, знаешь, как это называется? С ней пошутили, а она надулась. Смешно, правда? — Вероника погладила свой плоский живот. — Но я ведь еще не надулась? Пока ничего не заметно, правда?
— Сядь! — приказал Шевчук, и было, наверное, в его голосе что–то такое, что Вероника перестала крутиться перед зеркалом и села на краешек кресла. Рожица у нее была невинная, как у младенца, в васильковых глазах сквозили недоумение и обида — сроду на нее отец не кричал, какая муха его укусила?! Но Шевчука больше не могли провести эти невинные лживые глаза, он с трудом сдерживался, чтобы не влепить ей пощечину. — Вот так. А теперь рассказывай.
— О чем рассказывать, па? — улыбнулась Вероника и взмахнула ресницами. — Ты что — уже забыл, как это делается?
Шевчук смешался. Так дерзко она еще никогда с ним не говорила. Наверное, правильно было бы стереть эту наглую, вызывающую улыбку с ее лица кулаком, но он никогда даже не шлепнул ее. Алешу, случалось, награждал затрещиной, а Нику — никогда. Поднять руку на девочку, на женщину — сама мысль об этом ему казалась отвратительной. А ее не бить — ее убить следовало, стерву!
— Не дерзи, хуже будет.
Улыбка медленно сползла с ее лица.
— А что — побьешь? Только попробуй! Я из дому уйду, больше вы меня не увидите. И не рассказывай мне о девичьей чести и прочей бодяге, надоело. Это несчастный случай, понимаешь? Как автомобильная авария. Едешь себе, едешь, а потом раз — и ты в кювете.
— Нельзя ли поконкретней?
— Можно. Если хочешь знать, я стала жертвой отечественной промышленности. — У Шевчука от изумления отвисла челюсть. — Да, да, это вы создали такую идиотскую промышленность, что они ничего толком не умеют сделать — ни приличного магнитофона, ни телевизора, ни даже презервативов. Представляешь, этот тип… он экономил на презервативах. Импортные стоят дороже, ну и… Ну я и залетела.
Потрясенный до глубины души, Шевчук онемел. Его дочь, которая и сейчас еще иногда играла с куклами — вон их сколько на полках, произнесла слово «презервативы» таким же равнодушным тоном, как слова «хлеб», «мама», «молоко»… Он даже представить себе не мог, что скоро оно зазвучит с экранов телевизоров, с газетных полос и рекламных щитов, что его начнут произносить на уроках в начальных классах. Для него оно было запретным, как матерная брань, слышать это слово от девочки было невыносимо. Он схватил Веронику за хрупкие плечи, увидел, как она побледнела и зажмурилась от страха, и разжал руки.
— Кто этот негодяй?
— А вот этого я тебе не скажу. — Вероника одернула рукава свитера. — Хоть на куски режь… Для меня он — никто. Я с ним порвала. Навсегда.
Шевчук бессильно опустился в кресло.
— Что ты думаешь делать? Рожать?
— Па, не дури. Я что — чокнутая? Мама обещала все устроить. Правда, я поздновато спохватилась, мне эта фигня и в голову не приходила, но за деньги можно все сделать. Не бойся, никто ничего не узнает.
— Разве я об этом? — с горечью произнес Шевчук. — Узнают — не узнают… Аборт — это не так просто, как тебе кажется. А вдруг у тебя потом, когда ты вырастешь и выйдешь замуж, больше не будет детей? Об этом ты подумала?
— А на кой они нужны, па? Это вы со мной и Алешкой возитесь, как курица с яйцом, а я … Мою жизнь за меня не проживет никто, ни ты, ни мама, я хочу жить для себя. Много ты видел балерин с детишками? У Галины Улановой они были? Или у Майи Плисецкой? У них вся жизнь — сцена, работа, и у меня будет так. У танцовщиц век короткий: тридцать пять, тридцать семь, и все — аут. Мне еще до этого, конечно, далеко, но все равно… Так что внуков вы с мамой от меня не дождетесь, даже если все пройдет благополучно. И больше со мной такого не случится, обещаю.
— Глупая ты, — вздохнул Шевчук, — и слова твои глупые. Поговорила бы ты сейчас, если бы мы с мамой так думали. Без детей жизнь пуста, как ржище осенью. Ты еще сама не понимаешь, как ты доверчива и беззащитна; любая скотина обидеть может…
Вероника подошла, осторожно провела пальцами по его бородке.
— Плохо ты меня знаешь, папка.
Тогда за большие деньги ей сделали аборт. А уже через три дня Вероника надела дубленку, меховой берет и длинные, выше колен, сапоги, взяла сумку с книгами и тетрадками, с балетными туфельками и спортивным трико, и пошла в свое училище. Милая, длинноногая, с колдовскими васильковыми глазами, ярко накрашенными губами и золотистой челочкой. Такая же, как все ее подружки.
Начался последний учебный год. Уроки, репетиции — Вероника приходила домой к полуночи. Сначала Рита не придавала этому значения: класс выпускной, работы много. Но однажды, уже в октябре ей позвонила Гаевская, репетитор и классный руководитель, и сказала, что Вероника бросила училище.
Рита пришла в ужас. Дочь жила балетом, мечтала о сцене, связывала с нею все свои планы и надежды. Что случилось?
На все расспросы Вероника угрюмо отмалчивалась Струхнула лишь когда Рита пригрозила, что расскажет отцу. Оказывается, она поступила в шоу–балет. Группу организовал ночной клуб ресторана «Вулкан», в ней десять девочек, шестеро из их училища. Конкурс был огромный, отобрали самых лучших. С каждой заключили контракт — зарплата, охрана, транспорт. Как с настоящими артистами.
— Ника, милая, все это хорошо, — выдавила из себя Рита. — Но как же сцена? Неужели нельзя обождать всего один год? Окончить училище, получить диплом, а уже потом решать…
— А зачем он мне — на стенку повесить? А сцена… Видишь ли, мне один человек сказал… Очень важный человек, без него в театре… Он мне прямо сказал: или к нему в постель, или всю жизнь в кордебалете ногами дрыгать. А в постель я не хочу. Старый он, противный… Но его слово — закон. Я уже думала после училища уехать. В Москву, в Питер, в Новосибирск, наконец. Но там таких, как я, пруд пруди. Мамочка, к сожалению, я не Уланова и не Плисецкая, я это давно поняла. Обычная девочка, может, чуть лучше других. Но в искусстве «чуть» — не считается. Я не хочу всю жизнь ждать, пока вы с папой новое платье мне купите или сапоги. Мне сказали про шоу–балет, во втором и третьем турах я даже не участвовала, сразу зачислили.
Вероника замолчала, в глазах у нее стояли злые слезы.
— Не огорчайся, это хорошая работа. Ничего не изменилось. Сейчас в ресторанах больше людей, чем в театрах, и платят куда больше. Если вам с отцом неприятно, я уйду на квартиру. Две наши девочки из–за этого с предками расплевались и ушли на частную, снимают в складчину. И я к ним присоединюсь.
Рита потерла виски, у нее разболелась голова.
— Не знаю, как отец это перенесет. Страшно мне за него. И за тебя страшно.
— А ты не бойся. Я взрослый человек, мама, и могу за себя постоять Я не хочу ни от кого зависеть, даже от вас с папой. Мне представился хороший шанс, и я его не упущу. А еще мне предлагают стать фотомоделью, так, между делом. Там такие бабки платят — с ума сойдешь.
Вечером, за поздним ужином, осторожно подбирая слова, Рита рассказала Шевчуку о новом повороте в жизни дочери. Он угрюмо выслушал ее, отодвинул тарелку.
— Кого мы с тобой вырастили, мать? Шлюху подзаборную, а?
— Неправда, Володя, — резко возразила Рита. — Ты что, ничего не понял? Она и ушла из училища, потому что не захотела становиться шлюхой.
— Разговорчики… Нет, мать. Сейчас такие девочки — ходкий товар. Шоу–балет — одно название. На самом деле это проституция, понимаешь? Я ей все кости переломаю, она у меня потанцует…
— Володя, ради Бога… — взмолилась Рита. — Держи себя в руках, прошу тебя. Она наша дочь, сейчас ей трудно. Мы можем потерять ее, Володя!
— Я уже давно ее потерял, — вздохнул он. — Мы слишком много занимались своими делишками, а она росла на лес глядя. В пятнадцать с половиной — аборт, в шестнадцать с половиной — стриптиз… Лучше бы она умерла маленькой, лучше бы ее дифтерит задушил, чем дожить до такого позора.
— Что ты говоришь! — простонала Рита. — Опомнись, Володя! Разве можно такое о своем ребенке?!
— Это ты во всем виновата, — жестко произнес Шевчук. — Нужно ей было это училище, как рыбе зонтик. Я же говорил: пусть идет в обычную школу. Так ты — нет, загубим талант! Вот и вырастили шлюху. Талантливую…
Пришел Алеша. Открыл дверь на кухню, испуганно спросил:
— Предки, что с вами? Базарите — на первом этаже слышно.
Шевчук не ответил, встал из–за стола, молча прошел в комнату Вероники. Метался там, как зверь в клетке, натыкаясь на стулья. В глаза лезли игрушки, которые он еще вчера, кажется, покупал дочери. Плюшевый медвежонок с оторванным ухом пялился с тахты. Шевчук не выдержал мертвого взгляда стеклянных глаз, схватил медвежонка и зашвырнул за книжные полки.
Как на беду, именно в тот вечер у Вероники была премьера. До одиннадцати девочки танцевали в ресторане, затем перешли в ночной клуб. Им сшили эффектные костюмы, скорее обнажавшие, чем прикрывавшие юные гибкие тела, подвыпившая публика встречала группу одобрительным гоготом и аплодисментами. В четыре утра танцовщиц на машинах развезли по домам.
За это время Шевчук успел довести себя до белого каления, остыть и снова закипеть. Рита с трудом уговорила его принять валокордин и валидол. У нее самой ужасно болела голова, звенело в ушах. Звук был такой, словно топят печь сырыми осиновыми дровами; казалось, что в мозг ввинчиваются маленькие острые сверла. Она туго обвязала голову платком и сразу словно постарела на десяток лет.
Поникшая, осунувшаяся, с набрякшими под глазами мешками, она сидела в кресле, поджав под себя ноги, такая несчастная, что у Шевчука заныло в груди.
Опьяненная шумным успехом, Вероника только в машине вспомнила, что так и не позвонила домой, не предупредила мать о премьере. Мысль о том, что ей придется сейчас выслушать, отравила радостное возбуждение. Она открыла дверь своим ключом и остановилась на пороге — с резко подведенными глазами, пунцовым ртом и серебряными блестками в волосах — не успела снять макияж. В прихожей горел свет. Вероника увидела багровое от ярости лицо отца, за его спиной жалась испуганная, растерянная мать.
— Я не успела предупредить, — пробормотала Вероника, — у нас сегодня была премьера. Я понимаю, вы волновались…
— Волновались?! — Шевчук взмахнул рукой, Рита всей своей тяжестью повисла на ней. Он оттолкнул жену и рванул ворот рубашки. — Это ты называешь «волновались», грязная потаскуха!
Вероника помогла матери встать и спокойно посмотрела ему в лицо.
— Я не потаскуха, — сказала она. — Не смей так говорить, ты… Мама тебе все объяснила, чего ты бесишься?! Я работаю. Эта работа ничуть не хуже твоей или любой другой. Смотри, — она достала из сумочки несколько стодолларовых бумажек, — это моя зарплата.
— Всего–то? Дешево же ты себя ценишь, доченька! Там есть проститутки, которые зарабатывают такие деньги не за месяц — за ночь.
— Я тоже могла бы, — с вызовом ответила Вероника. — Запросто. Мне предлагали, и не раз. Но я не хочу, понимаешь? Мне пока достаточно. Это в три раза больше, чем получают солистки в оперном. Я люблю свою работу и не брошу ее, даже если ты лопнешь от злости. Так что хватит базарить. Завтра я уйду к девочкам на частную квартиру. А сейчас дай пройти, я устала и хочу спать.
Вероника пошла прямо на него, и тогда Шевчук наотмашь, так, что у нее голова дернулась, ударил дочь по щеке.
— Воло… — пронзительно вскрикнула Рита, схватилась за голову и, как подкошенная, рухнула на пол.
Вероника наклонилась над ней, щека у нее пылала.
— Воды! — приказала она. — Чего ты стоишь, как истукан?! Быстрее!
Шевчук, расплескивая, принес чашку воды. Вероника смочила Рите виски, но та не подавала признаков жизни. Она лежала на полу, неловко подвернув под себя правую ногу, и лицо ее медленно белело, словно на нем выступал иней.
— Вызови «скорую». Алеша, помоги! — позвала Вероника брата, который проснулся от шума и, щурясь на свет, ошеломленный, стоял в двери своей комнаты.
К счастью, «скорая» и впрямь приехала скоро. Врач сделал Рите укол, послал санитаров за носилками.
— В больницу. Немедленно.
Глава 8
Шевчук не был бабником. В его бродячей журналистской жизни иногда случались мимолетные романы, но рождало их не чувство, а скука, одиночество гостиничных вечеров; обычно, заканчивались они быстро, не оставляя в его душе никакого следа. «Мужицкая натура, — посмеивался он над собой, — не могу равнодушно пройти мимо того, что плохо лежит.» Однако ни с одной женщиной ему не было так хорошо и легко, как с женой.
Первая любовница и связанное с ней ощущение подлинного чувства, потеснившего его любовь к Рите, появилась у Шевчука незадолго до неприятностей, связанных с Вероникой. Ею оказалась Тамара Мельник. Шевчук положил на нее глаз едва ли не в первый же день, когда Тамара появилась в издательстве. Было ей явно за тридцать, не девочка, широкая в кости, крепко сбитая женщина. Внешность у Тамары была вполне заурядная, красили ее круглое лицо лишь широкие черные брови вразлет, унаследованные, наверное, от матери–хохлушки, и открытая добродушная улыбка. Когда она улыбалась, были видны ее зубы, крупные, красивые, но с желтоватым налетом от никотина — Тамара курила.
Как бы не был занят Шевчук, он всегда выкраивал тридцать–сорок минут, чтобы заскочить к Тамаре, полистать новинки других издательств, поговорить о том, чем сегодня живет книжный рынок, какие складываются цены. Все это можно было узнать из всевозможных бюллетеней и газет, вроде «Книжного бизнеса», но разговоры с ней давали Шевчуку куда больше. Тамара не только знала, что пользуется спросом сейчас, сегодня, она могла подсказать, что будут покупать завтра, а что осядет на складах, помочь установить тираж.
Они стали друзьями; девчонки в отделе встречали Шевчука как родного. Угощали кофе с бутербродами, приглашали на дни рождения, праздники, вечеринки, на которых «обмывались» нечастые премии. Их непременными участниками, кроме Шевчука, стали Гриша Злотник, Саша Трояновский и Борис Ситников, если, конечно, он не рыскал в это время в поисках бумаги и типографских материалов. Вскоре все стали считать Шевчука и Тамару любовниками, а они даже попытки сблизиться не делали.
У Тамары была дочь–первоклассница и муж — учитель химии и биологии. Мужа звали Вадимом Александровичем, иногда по вечерам он приходил в торговый отдел, чтобы вытащить Тамару домой. Вскоре Шевчук с ним познакомился. Вадим был крепким лобастым мужичком, широкоскулым, лысым и тщательно выбритым. Шевчук же носил бородку и усы. Правда, отпустил он их не из пижонства, а по необходимости — каждый день бриться было для него сущей мукой. Угри и прыщи, отравившие ему жизнь в юности, оставили по всему лицу свои отметины: красные пятна, выболевшие, словно от оспы, лунки. Бородка у Шевчука была так себе, жидковатая, ржавая с сединой, зато усы славные — рыжие и прокуренные.
Они понравились друг другу. Вадим достал карманные шахматы. Сыграли две партии, в обоих Шевчука постиг быстрый разгром. Лишь через месяц ему удалось сделать первую ничью, радовался он ей больше, чем Вадим своим победам; шахматист он был сильный, но радости на его лице Шевчук вообще не замечал — спокойная, несколько угрюмая сосредоточенность.
Глава 9
Тамара давно заметила, что Шевчук неравнодушен к ней. Ей нравились его застенчивость, сдержанность; она ненавидела мужчин, которые, едва успев познакомиться, тут же норовили забраться к тебе под юбку, лезли объясняться в любви. Чувство должно было созреть, как созревает яблоко в саду, только тогда оно могло подарить ощущение счастья.
Чего ни она, ни Шевчук даже предположить не могли, так это того, что у Володи был соперник. Вернее соперница. Лидия Николаевна Тихоня. Лидия Николаевна уже давно и куда более страстно, чем Шевчук, была влюблена в Тамару, и только наивность и простодушие Тамары не позволяли ей догадаться об этом.
Лидия Николаевна больше походила на хорошо тренированного мужчину, чем на молодую тридцатилетнюю женщину. У нее было худощавое волевое лицо, почти не тронутое косметикой, невыразительные темные глаза, широкие плечи метательницы диска и узкие бедра, короткая мощная шея и плоская, без намека на какие–то округлости, грудь. Сходство ее с мужчиной дополняли размашистая походка, короткая стрижка, потертые джинсы, строгого покроя пиджаки и свитера, из которых она не вылезала, туфли без каблуков.
Свой трудовой путь юная выпускница финансово–кредитного техникума, уже тогда рослая и мускулистая, как закаленный перетаскиванием тяжестей грузчик, начала в бухгалтерии крупной торговой базы, среди матерых жуликов. Ни друзей, ни подруг у нее не было — Лида стеснялась своей мужеподобной фигуры и совсем не женской силы и избегала сверстников, а особенно сверстниц, так непохожих на нее. Иногда она думала о том, что природа жестоко подшутила над ней, ей явно следовало родиться не девочкой, а мальчиком. Наивная, доверчивая и неопытная, постоянно замкнутая в себе, Лида и оглянуться не успела, как на нее свалили крупную растрату и подлог. Дело было шито белыми нитками, адвокат Тарлецкий, защищавший ее в суде, понимал, что девушка ни в чем не виновата и упорно доказывал это, но и следователя, и прокурора, и судью подкупили, огромную растрату нужно было на кого–то списать, и Лида пять лет отсидела в женской колонии строгого режима ни за понюшку табака. Именно это навсегда изломало, исковеркало ее жизнь.
В колонии свирепствовала лесбийская любовь. Лиде понравилась роль мужчины, властного и жестокого, словно предназначенная ей самой природой; наконец–то она смогла обрести свою истинную сущность. За пять лет несостоявшаяся дискоболка или метательница молота превратилась в свирепую коблу, державшую в страхе и повиновении весь лагерь. Даже начальство старалось с ней ладить. Лиду не посылали на общие работы, все пять лет она просидела в бухгалтерии колонии, доведя свое умение обходить закон до совершенства.
На воле она долго не могла устроиться на работу по специальности — судимость отпугивала кадровиков. Пашкевичу Лиду сосватал Тарлецкий; вспомнив, как яростно он защищал ее в суде, Лида обратилась к адвокату за помощью.
Лидия Николаевна терпеть не могла мужчин, даже самых симпатичных и привлекательных. В «Афродите» она создала себе маленький гарем, развлекаясь по очереди, а порой и одновременно с двумя молоденькими бухгалтершами и кладовщицей. Кладовщицу Нину она поймала на воровстве — та потихоньку таскала со склада и продавала книги. У Нины была больная мать, муж–пьяница и двое детишек, семья отчаянно нуждалась. Лидия Николаевна стала щедро приплачивать ей из своего кармана, так что Нина была готова безропотно выполнять любые ее желания, хотя поначалу сгорала со стыда. Валя и Наташа появились в результате длительного отбора: Тихоня пропустила через бухгалтерию добрый десяток девушек и молодых женщин, пока не подобрала нужных. Она дарила им белье, модную одежду и обувь, косметику, дорогие украшения. А еще — наркотики.
Она не была наркоманкой и девочек своих оберегала от привыкания. Прекрасно понимала, что при ее работе необходимо иметь ясную, не задурманенную голову. Раз в неделю пара сигарет с травкой, щепотка кокаина, таблетка «фэнтази» — и мир расцветал всеми цветами радуги. Исчезало все, что могло вызвать стыд, робость, застенчивость. Абсолютная свобода. И никакой ломки назавтра. Так, легкое головокружение и вялость, которые быстро проходят.
Но худенькие, щуплые девчонки уже надоели Тихоне. Она мечтала о Тамаре. Однако все ее попытки для начала хотя бы подружиться, натыкались на глухую стену — главбух Тамаре не нравилась. Не нравился ее мужиковатый вид, ее джинсы и свитера, ее манера прижиматься всем телом, пригласив потанцевать на издательской вечеринке, поглаживать руку, бедро, грудь, нашептывать какие–то странные сюсюкающие слова, раздевать взглядом. Ее тусклые невыразительные глазки излучали похоть, Тамара не понимала этого, это пугало и отталкивало ее. Лидия Николаевна не раз приглашала ее домой — на праздники, на вечеринки, Тамара под любым предлогом отказывалась. Что–то удерживало ее от сближения с Тихоней, хотя Тамара знала, насколько зависит ее работа, работа всего торгового отдела от бухгалтерии.
Тамаре предстояла командировка на очередную книжную ярмарку в Москву. Как обычно, ее должен был сопровождать Шевчук. В конце дня она зашла в бухгалтерию за документами и деньгами. Лида встретила ее с распростертыми объятьями.
— Сейчас все подготовим, Томочка, не беспокойся, Кстати, звонил Владимир Васильевич, просил, чтобы ты получила и его командировку. И еще одна новость: я перевела твои дивиденды за первый квартал в валюту. — Тихоня подала Тамаре толстый конверт. — Распишись в ведомости. Довольна?
— Еще бы, — улыбнулась Тамара. — При нынешней инфляции… Большое спасибо, Лидочка.
— Как говорит Боря Ситников, спасибо на хлеб не намажешь и в стакан не нальешь, — засмеялась главбух. — У меня сегодня девичник. Приходи в семь, а? Посидим, потреплемся, побалдеем… И не сочиняй, что у Вадима педсовет, а у Катеньки грипп. Пожалуйста…
— А что за повод? — Тамара заколебалась, она так часто отказывалась от Лидиных приглашений, что почувствовала себя неловко.
— Повод серьезный: день рождения моей кошки Дуськи. Можешь подарить ей ленту для банта. Она у меня беленькая, ей голубой бант подойдет. Или розовый.
— Так и быть, подарю твоей Дуське бант, — улыбнулась Тамара.
— Адрес не забыла?
— Помню. К семи приду. Только ненадолго, извини.
Глава 10
В спальном вагоне Шевчуку и Тамаре досталось купе на двоих. Едва отошел поезд, переоделись, умылись и сели ужинать: дел перед отъездом было столько, что оба не успели поесть.
— Что у тебя с губами? — спросил Шевчук, разливая по стаканам коньяк. — Перецеловалась?
— Было дело… — Тамара вымученно улыбнулась и придержала его руку. — Мне чуть–чуть, я еще со вчерашнего не отошла. Отмечали день рождения Дуськи.
— Это еще кто такая?
— Кошечка. Беленькая, ангорка.
— Совсем оборзели. — Шевчук толстыми кружочками порезал лимон. — Это чья же? У вас вроде серая.
— Тихони. Я вчера в таком странном месте побывала, вспомнить тошно.
— Она к тебе приставала? — догадался Шевчук.
— Мягко сказано. Извини, но она меня чуть не изнасиловала. Ты у нее после новоселья бывал?
— Нет. Она нашего брата не жалует. А вообще–то мне ее и на работе — выше крыши. Кстати, я давно подозревал, что она лесбиянка.
— Что ж ты мне не сказал? Может, я не вляпалась бы в это дерьмо.
— А как сказать? Это ведь только предположения. Мало что покажется… Есть в ней что–то… не женское, мужицкое, неужели не замечала?
— Замечала, конечно, но мне и в голову не приходило…
— А мне приходило. Молодая, одинокая, а мужчин сторонится. Вывихнутые у человека мозги, что с этим поделаешь.
— Но я‑то тут при чем? — Тамара выпила глоток коньяка, взяла лимон. — У меня мозги нормальные, для меня это — сумасшедший дом. Она девочек приучила: Нину, Валю, Наташу. Я раньше все удивлялась — чего это у нас не бухгалтерия, а какой–то проходной двор: то и дело новенькие. Оказывается, она непослушных выживала, кадры для себя подбирала. Удивительно, неужели никто не пожаловался Пашкевичу?
— Я слышал, племянница Аксючица жаловалась. Ну и что? Он Лиду и на десяток девочек не променяет. Она у нас неприкасаемая. Все его деньги в ее руках, шутка ли.
— А все–таки противно это, — вздохнула Тамара. — Она из них наркоманок сделает, всю жизнь поломает. И вообще… Зачем двоих, троих? Завела бы себе одну подружку, если уж иначе не может, и развлекалась.
— Наверное, в этом весь кайф, когда несколько. Вспомни книги Сильвии Бурдон.
— Книги–книжечки… Знаешь, кто мы на самом деле, Володя? Отравители.
— Не преувеличивай. Нормальный человек, прочитав книгу о лесбиянках или голубых, ни тем, ни другим не станет, как и не пойдет резать людей, прочитав самый кровавый триллер.
— Нормальный — возможно, но в мире полно ненормальных А дети, подростки с неустойчивой психикой и неуемным любопытством?. И вообще… Я ее по щекам отхлестала, еле вырвалась. Как нам теперь вместе работать, ума не приложу.
— Не думай об этом. Ты ей не подчиняешься, проглотит. Делай вид, что ничего не было, уверен, она поступит так же. У нее нет иного выхода. — Шевчук отломал куриную ножку. — Как Вадим? Давненько я его не видел.
— Нормально. Утром уходит в свою школу, вечером возвращается.
— Хороший он мужик. Повезло тебе…
— Да уж — повезло…
Какая–то горчинка в ее голосе насторожила Шевчука.
— Не понял.
— Откуда тебе понять? Что люди знают друг о друге? В душу никого не пускают, даже друзей. — Тамара поболтала ложечкой в стакане с остывшим чаем. — Никакой Вадим не учитель, а ученый, биофизик, доктор биологических наук. Его монографию о влиянии радиации на экосистему Припяти переиздали в Америке и Германии, статьи печатали в крупнейших научных журналах мира. А сейчас он с детишками разводит аквариумных рыбок, дуется с приятелями в шахматы…
— Ничего себе! Что же он делает в школе? Экспериментирует?
— Какой к черту эксперимент! — Тамара отодвинула занавеску. За окном лежала ночь, иногда ее прошивали трассирующими очередями цепочки фонарей, высвечивая недалекие деревушки и пустынные полустанки. — Вадим с первых дней после аварии работал в Чернобыльской зоне. Это для людей Чернобыль — несчастье, а для таких шизиков, как он — материал для изучения. Ну и доизучался… Почти год пролежал в больнице, сначала в Минске, потом в Москве. Три сложнейшие операции… Выкарабкался. А двое парней, которые с ним работали, умерли.
— Повезло…
— Еще как! Даже врачи удивлялись, не ожидали. Но только в душе у него что–то сломалось. Уволился из института, хотя к нам домой несколько раз директор приезжал, уговаривал одуматься, и я просила. «Нет, больше эти проблемы меня не интересуют!» И точка. Он ведь упрямый, если что решил — никто не переубедит. С тех пор каждый год два месяца в больнице, остальное время на даче и в школе. Детишки в нем души не чают, и он их любит. А еще птички, рыбки, дача, грибы, шахматы… Балагурит, хохочет, а несчастнее человека, наверное, в целом мире нет. У него глаза — как у больной собаки. Ты когда–нибудь смотрел в глаза больной собаке?
— Не довелось.
— И не смотри, горькое это зрелище. У нас Лайма болела, я знаю.
— А что ж ты от него хочешь? — помолчав, произнес Шевчук. — Он в такую бездну заглянул, что нам и не снилась.
— Видимо, да. Но мне–то от этого не легче. Я его другим помню: целеустремленным, настойчивым, знающим себе цену. У него такое будущее было…
— Будущее… — усмехнулся Шевчук. — Все мы привыкли жить будущим. Сегодня плохо, ну и шут с ним, зато когда–нибудь будет хорошо. «Если долго мучиться, что–нибудь получится». А вдруг у него нет будущего — об этом ты подумала? Ты уверена, что Вадим тебе рассказывает все, о чем ему говорят и не говорят врачи? Может, для него каждый прожитый день — это и есть и настоящее, и будущее. И он наполняет его тем, что ему интересно. Поверь мне, это заслуживает уважения.
— Уважением сыт не будешь. Нет, я не говорю о деньгах, не в этом дело, нам хватает. Я женщина, понимаешь?! Обычная нормальная баба. Мне уже тридцать шестой, жизнь проходит. А у меня муж есть — и нету, мы уже вон сколько лет спим в разных постелях. Конечно, это не смертельно, что говорить, но радости от этого мало. А какая это жизнь — без радости… Так–то, друг мой ситный.
Шевчук достал сигареты, Тамара с жадностью затянулась.
— Вадим говорит: заведи любовника, я не возражаю. Я ведь понимаю: против природы не попрешь. Только постарайся, чтобы я об этом ничего не знал, иначе мы не сможем вместе жить. А мне об этом даже подумать тошно. Наверное, поэтому я так взбесилась у Лиды. Получилась отвратительная пародия на мои мысли, чувства.
— Ну, идея насчет любовника не так и плоха. — Шевчук почувствовал, как нестерпимо пошло прозвучали его слова, и внутренне поежился от стыда.
— Неужели?! — Тамара насмешливо улыбнулась и, тряхнув головой, отбросила на плечи волосы. — Милый мой, об этом легче говорить, чем… Я ведь чуть не круглые сутки на работе, ни выходных, ни проходных, сам знаешь. Боря Ситников не в моем вкусе. Кто же остается? Уж не ты ли?
— Да ну тебя! — вспыхнул Шевчук и вышел из купе. Прошел в тамбур. Там было прохладно, сигаретный дым плавал под тусклым плафоном на потолке, в углу валялись окурки. Он курил и думал о том, что неизбежно должно между ними произойти. Не сегодня, так завтра. Тамара не зря начала этот разговор. И еще он думал о Вадиме. Что–то в Тамарином рассказе о нем не вязалось с его наблюдениями. Азартный, увлеченный, Вадим совсем не походил на сломленного жизнью, разочаровавшегося во всем человека. Шевчук видел его и угрюмым, и погруженным в себя, но это ни о чем не говорило. За что бы Вадим ни брался, он все делал с удовольствием — копался в земле, пересаживал цветы и деревья, гонял с Алешей и Катей мяч на поляне, строгал дощечки для нового скворечника… Шевчук вспомнил, как плотоядно раздувались его ноздри, когда Вадим колдовал над мангалом, спрыскивая скворчащие шашлыки сухим вином с уксусом, как смачно крякал, выпив рюмку водки и подцепив вилкой маринованный боровичок, и у него заломило в висках. Это не могло быть игрой, притворством; просто человек нашел для себя другие ценности, научился радоваться иным радостям, не думать о карьере, известности, заработках, о постигшей его беде, а — о солнце, птицах, цветах, о неповторимости каждого мгновения собственной, такой короткой даже без чернобыльской радиации, жизни. Похоже, что Тамара любила в нем ученого с громким именем и блестящими перспективами куда больше, чем просто человека, мужчину, который и сейчас еще не чаял в ней души. А когда перспективы лопнули, как мыльный пузырь, каждое лыко стало в строку. Постель как поле боя между мужчиной и женщиной… И этот бой Вадим проиграл, а с ним, похоже, и жизнь. Конечно, он прав — против природы не попрешь, в общем–то им обоим можно посочувствовать. А с другой стороны ерунда это все, разговорчики в строю, как говаривал когда–то его старшина, попытка оправдаться перед собственной совестью. Пришла беда — держись, будь человеком. Радуйся тому, что он выжил, удержался на самом краешке, что ты не одна, что у дочери есть отец, иначе какая ты жена! Обыкновенная сука, которой нужен кобель. И, похоже, на роль этого кобеля Тамара приглядела его. Худо лишь то, что Шевчука так и подмывало сыграть эту роль, какой бы унизительной она ни выглядела. Легко быть моралистом, когда смотришь на такие вещи со стороны, а когда томится душа, когда женщина притягивает, как магнит, и вовсе не хочется думать о Вадиме и его странной судьбе… Когда ты готов с легкостью предать его, только бы припасть губами к Тамариным опухшим губам, коснуться ее жаркого тела…
Шевчук курил сигарету за сигаретой, покачиваясь в такт движению поезда, и тень его, словно большая птица, металась по тесному тамбуру. Затем он вернулся в купе, защелкнул задвижку. Тамара лежала с книгой на нижней полке, в изголовье горел ночник. На столике стоял недопитый коньяк, еду она убрала в сумку. Шевчук налил себе полстакана янтарной жидкости, залпом выпил, почувствовал, как ударило в голову, и хрипло попросил:
— Подвинься.
Она послушно подвинулась к стене.
Глава 11
Несмотря на занятость, Шевчук по–прежнему каждый вечер, хоть ненадолго, заглядывал в торговый отдел. Рылся в новых книгах, искоса влюбленно поглядывал на Тамару, перебиравшую свои бумаги или названивающую по телефону, и такой же влюбленный взгляд ловил в ответ. Но вместе они бывали не часто. Иногда находили пристанище в квартире одинокой Тамариной подруги; иногда выезжали за город, к Шевчуку на дачу.
О Рите он старался не думать, она как–то враз опостылела ему и стала безразлична. Постепенно Шевчук приучил себя к мысли, что запросто разведется с нею, если Тамара согласится расстаться с Вадимом и выйти за него замуж. Ему претила необходимость скрывать их отношения, лгать, изворачиваться, при каждой встрече поглядывать на часы, озираться в ресторанах и театрах, нет ли знакомых. А что?! Дети выросли, он оставит Рите квартиру, у нее хорошая работа — не пропадет. Не она первая, не она последняя. Он любил ее, а теперь полюбил другую, что с этим сделаешь… Сердцу не прикажешь. В конце концов он имеет право на свой кусочек счастья!
После долгих и трудных раздумий он рассказал о своих мыслях Тамаре. Она выслушала и только головой покачала.
— Ты слишком серьезно ко всему этому относишься, Шевчук. У тебя двое детей, и у меня… семья. Какая уж есть, а все же… Бросить Вадима — убить его, понимаешь? Конечно, я не самая верная жена на свете, но мне вовсе не улыбается ощущать себя убийцей. И вообще… Сегодня нам вместе хорошо, а завтра… Бог его знает, что будет завтра. Не надо больше об этом. Пожалуйста…
Ну, что ж, не надо, так не надо. Ему и впрямь было хорошо. Он вдруг стал замечать то, на что давно перестал обращать внимание: сочную зелень листвы, щебет птиц, пестрое луговое разнотравье, басовитое гудение шмелей… Единственное, что его терзало, не давало покоя — это необходимость время от времени встречаться с Вадимом. Каждая такая встреча превращалась для него в пытку. Шевчук не мог смотреть ему в глаза, словно ничего не произошло, передвигать фигуры по шахматной доске или болтать о дачных делах; ему казалось, что Вадим обо всем догадывается и в глубине души презирает его. И отказаться от этих встреч он не мог.
Душевная смута подтачивала радость от близости с Тамарой, как медведка — корешки клубники. А потом, словно гром с ясного неба, грянула беременность Вероники, аборт, ее уход из хореографического училища в кабак, Ритина болезнь. И все рухнуло, словно снежная лавина в горах.
Вскоре Тихоня начала наступление на торговый отдел. На планерках она твердила, что отдел стал работать плохо, выручка упала, цены на книги занижаются, отчего «Афродита» терпит большие убытки, за оптовиками скопилась огромная задолженность, ничего не делается, чтобы деньги были возвращены. Напрасно Тамара показывала пачки факсов, отправленных должникам, сообщения о своевременных расчетах. Напрасно объясняла, что цены необходимо снижать, потому что рынок уже перенасыщен литературой, а у людей зачастую не хватает денег на хлеб, так что им не до книг; — Пашкевич был в ярости. Шевчук попытался вступиться за несправедливо обиженных, но Лидия Николаевна что–то ядовито обронила насчет кукушки, которая хвалит петуха, и Аксючиц весело заржал, а следом захихикали остальные.
— Уйду я из этого гадюшника, Шевчук, — сказала Тамара. — Пашкевич у Тихони под каблуком, против нее он никогда не пойдет. Меня давно «Книжный мир» переманивает, не хотелось своих бросать. Привыкла… Однако плетью обуха не перебьешь.
Тамара не ушла — ее «ушли». Как ни горько было в этом признаться Шевчуку, ее уход обрадовал его: каждый день встречаться, разговаривать уже стало для него настоящей мукой.
Глава 12
Томясь от безделья, Шевчук уныло ходил из угла в угол своей комнаты. Он больше не ощущал недавней злобы к Веронике, лишь тоску и недоумение. Почему, ну, почему все так глупо и гадко вышло? Ее внезапное замужество лишь усилило эту тоску. Сказочный принц, о котором в глубине души мечтал Шевчук, был старше тестя и толст, как откормленный хряк. Шевчук не знал, что и подумать, — слишком уж было противно. Одно дело — купить любовь на час, на сутки, а другое — на всю жизнь. Рита твердит, что дочь счастлива. Вопреки всем его опасениям, она не пошла по рукам, добилась своего — богатства и независимости. Некрашевич сделал из нее примадонну, скоро премьера «Жизели», где она будет танцевать главную партию. Могущество старого барбоса, похоже, не знает границ. А вдобавок — у них будет ребенок. Вероника говорила Рите: пять–шесть спектаклей — и все. Затем он отвезет ее в Швейцарию и положит в клинику. на сохранение. С ума сойти. А почему, собственно? Рита права — радоваться надо. Только привкус у этой радости горький, противный. Как могло случиться, что тоненькая, как былинка, девочка, на которую он дышать боялся, оказалась такой деловой, расчетливой и целеустремленной стервой?
Шевчук подумал о крохотной капсуле радиоактивного кобальта, которая сейчас убивала Пашкевича, о раздражении, которое все чаще охватывает его при виде больной жены, и сжал руками виски. Да все оттуда же, откуда еще…
Смеркалось. Шевчук работал в своей комнате, когда приехала Вероника. Наверное, Рита сказала ей по телефону, что он заболел. Шевчук услышал звонкий голос дочери в прихожей, и у него обмерло сердце. Он не видел дочь с августа, с тех пор, как она ушла к Некрашевичу. Правда, Вероника сделала несколько попыток помириться, но он решительно отклонил их. После этого Вероника заезжала. домой и перезванивалась с матерью только когда он был на работе.
Он вскочил с тахты и замер за дверью, ощущая солоноватый привкус крови, — губу прикусил, что ли? Господи, как ему хотелось распахнуть эту дверь, обнять свою девочку, свою единственную, прижать ее к груди, провести ладонью по шелковистым волосам… Но когда Вероника постучала, он заорал, срываясь на визг, вопреки всему тому, что чувствовал, что переполняло его:
— Вон! Убирайся отсюда! Я не хочу тебя видеть!
— Что ж, как хочешь, — ответила Вероника из–за двери, голос ее дрожал от обиды. — Я думала, ты добрее. Пока, мамочка, я тебе завтра позвоню.
Он слышал, как Рита прочиликала на костыле через прихожую, наверное, провожала Веронику, как глухо хлопнула входная дверь. В закладывавшей уши тишине вернулся и рухнул на тахту, лицом в подушку, задыхаясь от слез, не понимая, что с ним случилось, почему он снова сорвался.
Снова застучал костыль: тук, тук…
— Шевчук, — сказала за дверью Рита, — ты чу–чудовище. Лучше бы я умерла…
— Да! — полный отчаяния, крикнул он. — Лучше бы ты умерла! И я тоже!
Глава 13
Пашкевич знал: как начнешь день, так он и пройдет.
День начался скверно.
Пока Виктор раскапывал от снега и разогревал машину, он пил кофе в своем кабинете. Лариса еще спала. За окном стояла темень. Без десяти восемь Клава зашла убрать поднос. Пашкевич вспомнил недавний разговор с Шевчуком.
— Я тебе оставлял роман «Утренняя звезда», прочитала?
— Не прочитала, Андрей Иванович, — отмучила.
— Вот как? Чем же он тебе не понравился?
— А там все как у нас. Шахтерский городок, работяги, грязь, нищета… Я как–то к брату в Горловку ездила, ну будто оттуда списано. Шахты закрываются, людей выбрасывают на улицу, мужики пьют по–черному… И любовь там какая–то… я целую ночь проплакала. Представляете, туда приехала молодая учительница. В нее один офицерик втрескался. И такой гад — в первый же вечер под юбку полез. А она не дала. Так он до чего, сволочь, додумался! Сказал своим солдатам, что она — проститутка, и адрес дал. Они в увольнительную поддали в этом… в пабе, ну, в кабаке, по–нашему, и завалились к ней — человек десять. Учительница — в крик, а они решили: цену набивает. Изнасиловали ее, скоты, всем стадом, а она от этого умом повредилась и повесилась. — Клавдия вытерла журнальный столик, за которым он завтракал, и этой же тряпочкой мазнула по глазам. — Ну подумайте сами, кому охота про такие ужасы читать? У нас своего горя — хоть веревочкой завей, мне лично чужое без надобности.
— Принеси.
Закипая злостью, Пашкевич сунул папку с оригинал–макетом в портфель, погладил Барса, вскочившего при его появлении со своего коврика в прихожей, и вышел.
Что ж, так он и думал. «У нас своего горя — хоть веревочкой завей…» Идиоты, неужели они этого не понимают — ни Злотник, ни Шевчук? У нас если про горе, то надо как–то по–бразильски или там по–мексикански. Одним словом, «Богатые тоже плачут». Это — пожалуйста. Как плачут бедные, мы сами знаем. Получше многих.
В восемь Пашкевич уже был на работе. Ни одно окно в издательском офисе еще не светилось; все работали «от» и «до», как при социализме. А хотели бы зарабатывать столько же, сколько он. Нет, братцы, так в наше время не бывает.
Пашкевич открыл кодовый замок и поднялся к себе на второй этаж. Он любил это тихое время, когда не звонил телефон, не входили сотрудники с неотложными делами, когда ничего не нужно решать наспех, а можно посидеть в тишине, все тщательно обдумать и взвесить, прежде чем с головой окунуться в текучку. Разделся, сел за стол и набросал на листке проект приказа: работу над книгой «Утренняя звезда» прекратить, все расходы на перевод и подготовку оригинал–макета возложить на Злотника и Шевчука. За некачественный отбор литературы лишить обоих премиальных за ноябрь на сто процентов.
Выпустив пар, придвинул пачку газет и журналов, которые не успел просмотреть вчера днем. «Книжное обозрение», «Книжный бизнес», «Книга и жизнь»… Все они печатали на своих первых страницах списки бестселлеров — чемпионов продаж последней недели, двух, трех недель и месяца. До недавнего времени в этих списках постоянно мелькали три — пять названий «Афродиты». Это был как бы показатель температуры: есть хоть одно название — организм здоров и работает нормально, нет — что–то разладилось, произошел сбой. Ищи и исправляй, пока болезнь не зашла слишком далеко, иначе будет поздно.
За шесть недель книги «Афродиты» в списках бестселлеров не появилась ни разу. Не было их и сейчас. Он с раздражением отодвинул газеты. Значит, двенадцать последних вышедших книг — двенадцать выстрелов в «молоко». Они не вызвали интереса у покупателей и будут расходиться долго и трудно, часть тиражей придется уценивать. Вместо дохода — убытки. Нет, до убытков, конечно, дело не дойдет, но и запланированной прибыли не будет. Во всем виновата редакция, которая отобрала эти книги, перевела, подготовила к печати. Не слишком ли часто они стали мазать?
Пашкевич взял листок с наброском приказа. Через две минуты премиальных была лишена вся редакция, а Шевчук и Злотник — еще и половины дивидендов по итогам года. «Посмотрим, как вы проглотите эту пилюлю!» — злорадно подумал он.
Шевчук, Шевчук… Совсем недавно он был и смел, и рисков, пробивал книги, от которых все морщились, особенно этот чистоплюй Гриша Злотник. Но Володя умел настоять на своем. Достаточно вспомнить «Русские народные сказки» Афанасьева, «Счастливую проститутку» и «Секс — мое ремесло», наделавшие столько шума и разлетевшиеся миллионными тиражами. А теперь он предлагает такую муру, как «Утренняя звезда». Погас азартный блеск в глазах, прекратились бесконечные командировки — погоня за ходовыми новинками, в ответ на все упреки — холодное равнодушие. Нет, даже не так. Саботаж, тихий, молчаливый саботаж. Как ты ко мне, так и я. Забыл, дурак, кто я и кто он. То, что уже два месяца ни одной нашей книги нет в списках бестселлеров, лишь подтверждает, что я прав — обоих пора на свалку. Слишком они уверились в своей неприкасаемости, значимости, в том, что без них все здесь рухнет. Глупость, господа хорошие, «Афродита» рухнет без меня, без вас она выстоит. В городе полно безработных редакторов и журналистов. Из шкуры станут лезть, чтобы удержаться, каждый за пятерых будет вкалывать. Конечно, друзья, однокашники, начинали вместе и вместе не один пуд соли съели, но одной солью сыт не будешь. Кто это сказал, что у Британии нет постоянных друзей и постоянных врагов, есть лишь постоянные интересы? В бизнесе — тоже. Интересы «Афродиты» перестали быть личными интересами Шевчука. В сущности, я сам в этом виноват. Но уже ничего не переделаешь.
Первые годы существования «Афродиты» был для Пашкевича, как он это сам окрестил, годами сопливого идеализма, попыткой построить в отдельно взятой фирме капитализм с коммунистической физиономией. Огромные, словно с неба свалившиеся деньги вскружили головы. Не только Шевчуку и Злотнику, но и ему. Правда, уже тогда Пашкевич начал отводить от волшебного потока, который, казалось, никогда не кончится, ручейки на собственные счета, но, не остановись он вовремя, эти ручейки давно пересохли бы.
Что с ним тогда случилось? Почему он так легко пошел на поводу у Володи и Гриши, он, человек трезвый и расчетливый? Славы захотелось, популярности, одних денег показалось мало. Захотелось, чтобы о нем на каждом углу судачили. Как будто мало было славы, которую когда–то принесли пьесы, как будто он не обожрался известностью… Опьяненный первым успехом, он решил стать вровень с Фордом и другими создателями так называемого народного капитализма, забыв святое правило: что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку. Он, сопляк, еще не заложивший основ для долговременного процветания фирмы, возомнил себя Юпитером, хотя был даже не быком, а теленком. Под настойчивое жужжание Шевчука и Злотника часть денег бросили не на дело, а на показуху. Пусть не такая уж это была значительная часть, но показуха развратила всех, халява всегда развращает. Затеяли кормить сотрудников в соседнем кафе бесплатными обедами. То есть для тех, кто обедал, они были бесплатными, издательству же влетали в хорошую копейку. Каждому ко дню рождения — оклад, к отпуску — пять. Ошалеть можно! Быстренько накупили легковых машин, на них раскатывали все — жук и жаба, бензин и ремонт за счет издательства. Миллионы ушли на попойки — коллективные поездки на природу, встречи и проводы праздников. На два–три дня брали в аренду спортивные базы, дома отдыха, автобусы. Выезжали с женами, с мужьями, с любовницами, кутили, как ошалевшие купчики. Шевчук устраивал всевозможные лотереи и розыгрыши. За пять копеек по копейке — все уже давно забыли, как они выглядят, — можно было выиграть цветной телевизор, двухкамерный холодильник или японский видеомагнитофон. Не беда, что призы доставались одним и тем же — ему, Аксючицу, Тихоне, Ситникову, Злотнику и самому Шевчуку, все издательство пребывало в телячьем восторге. Каждый надеялся выиграть, не теперь, так в четверг. А еще три квартиры для сотрудников купили. Ладно бы — в собственность издательства, как советовал Тарлецкий, так же нет, не послушался, дурак, умного совета, очень хотелось самому торжественно вручить ордера.
Сколько дополнительных книг можно было выпустить за эти деньги именно тогда, когда рынок еще не был так переполнен, как сейчас, и заглатывал все, словно пылесос мусор, сколько прибыли получить дополнительно! И все это называлось — сплачивать коллектив. Дурацкая догма, которую они впитали на лекциях по политэкономии социализма. Но ведь само появление «Афродиты» уже свидетельствовало о том, что социализм приказал долго жить, почему же он засиделся на развалинах? Почему сразу не понял, что играть в народный капитализм с распределением части прибыли среди работников могут лишь фирмы с вековой историей, с миллиардными оборотами, с устойчивым рынком, а главное — со сложившейся государственной системой, установившей для всех единые правила игры. У нас же, где все так зыбко, непредсказуемо, где сегодня не знаешь, куда повернут руль завтра, где никак не утихомирят инфляцию и бешеный рост цен, играют совсем в иные игры — хватай, что можешь, припрятывай понадежнее и снова хватай. Все, что нахапал и припрятал — твое. Пашкевич понял это раньше, чем Шевчук и Злотник, но все–таки поздно; уйма времени и возможностей была упущена. Коллектив следовало не объединять, а разобщать, чтобы все глядели друг на друга с опаской, чтобы каждый боялся, что его подсидят, займут его место, донесут да еще и присочинят при этом. Человек человеку — не друг и брат, а волк. Страх остаться без куска хлеба, понимание, что издательские двери подпирает толпа безработных, готовых заменить тебя и пахать за меньшую зарплату, — куда более надежное и дешевое средство держать людей в узде, чем сопливые рассуждения о преданности фирме, заинтересованности в конечном результате и прочей японской муре, которой так увлекаются его главные помощники и компаньоны, а теперь едва ли не главные противники Шевчук и Злотник.
Старый принцип: разделяй и властвуй. Прежде чем осознать это, Пашкевич сделал еще один ляп, решающий, и вот его последствия вылезли наружу.
Два года назад, все на той же волне восторженного идиотизма, Пашкевич предложил на совете учредителей часть прибыли пустить на строительство коттеджей для лучших сотрудников издательства. Он понимал: в людях зреет раздражение, каждому хочется урвать долю от общего пирога, а пирог уже потихоньку начал уменьшаться. Аппетит приходит во время еды, все большую часть доходов Тихоня перегоняла на его и свои счета, инфляция обесценивала деньги раньше, чем их успевали заработать, да и штат в издательстве рос, как он ни противился этому, — только на зарплату каждый месяц уходил мешок денег. Правда, редакторы, корректоры, верстальщицы Пашкевича не интересовали: уйдут одни, придут другие, а вот для учредителей следовало придумать что–то, что заставило бы их поверить, будто он решил начать делиться всерьез. Такой приманкой могло стать строительство — кто не мечтает о собственном загородном доме! Не о дачке–скворечнике, а о настоящем особняке, где можно жить круглый год, как уже живут многие богатые люди. Тем более что опыт с покупкой квартир кое–чему Пашкевича научил. Тарлецкий составит такой договор, что построенные коттеджи вроде бы будут принадлежать хозяевам, а на самом деле еще долгие годы оставаться собственностью фирмы. Иначе говоря, его собственностью. Ведь большую часть стоимости строительства придется отрабатывать. Вот пусть и работают, и верят, что не на него, а на себя. Недвижимость во все времена — отличное вложение капитала. Да и зависти поубавится, озлобления.
Предложение, что называется, подняло издательство на дыбы. Общее собрание — а он, идиот, еще проводил общие собрания! — пришло в восторг. Утвердили первую очередь — десять коттеджей. Учредителям персонально, остальные — резерв. Сражайтесь, работайте, лезьте из шкуры во имя процветания «Афродиты», лучшие из лучших попадут в первую десятку. Ну, а все прочие… Каждый может считать себя одиннадцатым.
Больше всех ликовал Шевчук. Куда девались его косые взгляды и ворчливый недовольный тон, постоянные споры о штатах и зарплатах. Оказывается, это была его хрустальная мечта — просторный дом с гаражом, плавательным бассейном, садом. Четыре дачные сотки и невзрачный садовый домик в Крыжовке были тесны ему. Душа жаждала простора, основательности; Пашкевич, что называется, попал в десятку.
Уже через день после собрания Шевчук притащил в издательство кучу проектов. Каких только коттеджей там не было! Одно– и двухэтажных, с мансардами, гаражами и теплицами, банями и сараями, с выложенными плиткой дорожками… Даже те, кому ничего не светило в ближайшие десятилетия, с жаром обсуждали их достоинства и недостатки. Шума было столько, что Пашкевичу пришлось охладить пыл.
— Володя, каждый особняк обойдется примерно в двести тысяч долларов. Надеюсь, ты понимаешь, что нам их никто не подарит, их надо заработать.
Шевчук понял. Он перестал клянчить деньги для редакторов и переводчиков. По его предложению покончили с бесплатными обедами и премиями ко дню рождения, с доплатой к отпускам. С вечеринками и розыгрышем дорогих призов. Снизили ежемесячные премиальные, ввели штрафы за малейший просчет. Тем, кто пользовался легковыми машинами, за бензин и ремонт предложили платить из своего кармана.
Пашкевич был доволен: больше никто в издательстве не говорил о его жадности; в низких зарплатах и гонорарах, в увеличении норм винили Шевчука. Андрей Иванович с брезгливым любопытством наблюдал за тем, как призрачная мечта о роскошном особняке с башней — обязательно с башней; Володя заплатил двести долларов архитектору, который присобачил ему эту башню к выбранному проекту! — превращала еще совсем недавно доброжелательного и покладистого главного редактора, смело отстаивавшего перед ним интересы сотрудников редакции, в цепного пса «Афродиты», более свирепого, чем Барс.
Осень и зима ушла на поиски подходящего участка. Наконец облисполком выделил издательству два с половиной гектара земли для индивидуальной застройки с условием, что освоение начнется в течение года. Иначе землю заберут.
Участок в районе Кургана славы был замечательный, он явно стоил тех сравнительно небольших денег, которые Аксючиц потратил на взятки чиновникам. Рядом лес, озеро, до Минска рукой подать, перевозка стройматериалов и рабочих обойдется недорого. Заказали проект планировки, Тарлецкий приступил к составлению договора с будущими владельцами. И только тогда, наконец, Пашкевич осознал, в какую безумную авантюру ввязался. Безумную и разорительную. Дело было даже не в том, что ему предложил купить свою дачу зять бывшего партийного сановника, и она полностью устраивала Андрея Ивановича, хотя и это сыграло свою роль. И не в том, что огромным деньгам, которые он намеревался, что называется, закопать в землю, можно было найти более интересное и перспективное применение. Этим строительством он привязывал к себе людей, хотя уже понял, что делать этого не следует. Какой бы хитроумный договор ни сочинил Тарлецкий, вселившись в новый коттедж, тот же Шевчук плевать на тебя хотел. Ты потеряешь над ним власть; даже выгнав его с работы, из дома не выгонишь. Он будет выплачивать долг сто лет, и ты ничего с этим не сделаешь. Это тебе не Америка: не внес очередной взнос — выметайся! А что будет, если кто–то отдаст концы? Покрыть из учредительских? Не у каждого хватит. И зачем тебе вообще совет учредителей? Да, устав общества с ограниченной ответственностью, каким формально является «Афродита», предусматривает создание совета. Но там не оговорено количество членов, не сказано, что они должны занимать свои места пожизненно, как члены Конституционного суда в некоторых странах. Достаточно три человека, к тому же одного можно каждый год менять. Никто не должен чувствовать себя неприкасаемым, даже Тихоня. Почему эта простая, очевидная мысль не пришла ему в голову до того, как он разворошил осиное гнездо?
Разговоры о поисках строительной фирмы заглохли. Пашкевич уехал в Америку покупать книжный магазин на Брайтон–бич, из «Афродиты» за океан отправили первые контейнеры с книгами. Аксючиц лишь плечами пожимал, когда Шевчук наседал на него, выпытывая, когда начнется строительство, — без генерального такие дела не делаются. Он был занят по горло — перед отъездом шеф поручил ему выбить участок под строительство складов. Как можно было одновременно строить коттеджи и склады, Шевчук не понимал, даже у «Афродиты» не хватило бы на это денег. В его душу закралось подозрение, что Пашкевич снова одурачит их. И лишь одна мысль утешала: Андрей тоже мечтает о загородном доме, выбрал проект, говорил, что Ларисе понравился. Не построит же он на таком огромном участке коттедж только для себя, никто этого не допустит.
Когда Пашкевич, наконец, вернулся домой, Шевчук в упор спросил у него, что будет со строительством особняков.
— Придется повременить, — ответил Пашкевич. — Зимой начинать планировку и закладку фундаментов дорого, сам понимаешь.
— А весной у нас заберут участок, — перебил его Шевчук.
— Не заберут, Аксючиц что–нибудь придумает.
Аксючиц, разумеется, не без подсказки Пашкевича, придумал. На совете учредителей он выступил с предложением строительство коттеджей отложить, все средства бросить на сооружение складов и гаражей. Издательство задыхается без складов, часть из них можно будет сдавать в аренду, это сулит большие доходы. Вздохнув, Андрей Иванович был вынужден с ним согласиться. Злотник, Ситников, Тихоня согласно поддакнули — ничего не поделаешь, все одновременно не поднять. И лишь Шевчук встал, яростно отшвырнув стул, и молча вышел из директорского кабинета. А через день он узнал от Бориса Ситникова, что Пашкевич купил себе дачу на Ислочи, чистой лесной речушке, в которой водилась форель. И понял, что этого предательства никогда Андрею не простит. И Пашкевич это понял. Оставалось лишь выждать удобного момента, чтобы выжить Шевчука из издательства. Теперь этот момент наступил. Ничего личного. Отсутствие книг «Афродиты» в списках бестселлеров — лучшее доказательство, что главный редактор перестал справляться со своими обязанностями.
Его размышления прервал телефонный звонок: Звонили из Москвы, из книжного магазина, просили завезти новые книги. Пашкевич пообещал: сейчас же распоряжусь. Набрал номер редакции. Злотник уже был на месте.
— Григорий, привет. Поднимись ко мне.
— Привет, Андрей Иванович. Сейчас буду.
Глава 14
Злотник шел к Пашкевичу с тяжелым чувством. Слово «Григорий» вместо привычного «Гриша» означало разнос, с каждым разом все более жестокий и грубый. То, что он с Татьяной лишь вчера был у них в гостях, ничего не означало — Андрей никогда не путал личные отношения со служебными.
Ох уж эти гости…
Как Григорий и предполагал, вечер закончился скандалом. Слава Богу, что хоть начался он не в машине, не в подъезде, как уже случалось, а дома. Поднявшись в квартиру, Татьяна тут же стала яростно срывать с себя и разбрасывать одежду. Набросив халат, она принялась торопливо высказывать Григорию все, что о нем думает. Из ее истерических выкриков следовало, что он типичный неудачник, бесхребетная и бесхарактерная тряпка, кичащаяся своей интеллигентностью. Что он не умеет ни жить, ни зарабатывать, ни ценить свою жену, которая, не в пример этой стерве Ларисе, еще ни разу не наставила ему рога, хотя возможностей сделать это у нее было предостаточно. Что он тратит деньги на своего сумасшедшего братца, вместо того чтобы купить ей паршивое колечко с брильянтом или сережки — о жемчугах, какие Пашкевич подарил Ларисе, она и не мечтает; такой недотепа не заработает на них и за сто лет. Что это он заел ее молодость, из–за него она раньше времени превратилась в старуху. Не зря покойный папочка был когда–то против их брака, говорил ей, дурище: бойся коровы спереди, коня сзади, а жида со всех сторон, — не послушалась! Вот и получила…
На слове «жид» концерт обычно заканчивался: Татьяна, сообразив, что в пьяном угаре сболтнула лишнее, замолкала, словно ей в горло забили кляп, а Григорий хватал пальто и шапку и уходил из дому, яростно шарахнув дверью. Как бы ни было поздно, какая бы собачья погода ни стояла на дворе, после таких стычек он отправлялся в соседний сквер и бродил по аллеям, задыхаясь от бешенства, а минут через сорок, протрезвевшая Татьяна выбегала из подъезда и громко, не стесняясь случайных прохожих, среди которых могли быть и ее ученики, звала и искала его, а найдя, вымаливала прощение. И Григорий прощал, хотя десятки раз зарекался развестись с этой дрянью, покончить с ней раз и навсегда, и они возвращались домой — ему приходилось поддерживать шатающуюся, обессиленную и зареванную жену. И все это — безобразное, отвратительное — заканчивалось на тахте в его комнате, и Татьяна в такие ночи бывала особенно нежна и ласкова с ним, как в далекой молодости, и Григорий однажды с ужасом понял, что ждет этих скандалов и примирений, которые за ними следуют. Вот если бы еще не запах водочного перегара из ее рта…
В этот раз он не пошел в сквер — на дворе бушевала метель, а простоял около часа у теплой батареи на лестничной площадке между этажами, думая о своей незадачливой жизни. В подъезде было тихо, дом спал, не гремел отключенный лифт — все как в ту злополучную ночь, когда у него угнали машину. Он и впрямь просрал свою белоснежную красавицу «Ауди‑100» — грубое, хамское словцо, которым то и дело допекала его жена, больно ранило душу Гриши Злотника, ни разу за всю свою жизнь не выругавшегося матом, но он понимал, что никакое другое тут не годится. Он всадил в эту роскошную машину дивиденды за целый год каторги в «Афродите», и счастливый оттого, что сбылась его заветная мечта, пригнал с авторынка домой, даже не успев зарегистрировать и поменять транзитные номера. На платной стоянке около дома не было мест, охранник, которому он дал десяток лучших детективов, изданных «Афродитой», клятвенно пообещал, что завтра место будет, и не временное, а постоянное, надо как–то перебиться одну ночь. На радостях Григорий весь вечер катал Татьяну и Аленку по городу, а заночевать решил в машине — хотя там имелось противоугонное устройство, и сирена ревела, как сумасшедшая, стоило лишь прикоснуться к крылу или багажнику, и одновременно блокировался двигатель, рисковать он не собирался.
Вернувшись с прогулки, Григорий поставил машину у подъезда, откинул переднее кресло, включил стереомагнитофон. Уже была осень, ночи стояли прохладные, но Татьяна принесла ему шерстяной плед и термос с горячим чаем. У нее сияли глаза — давно уже Григорий не видел свою жену такой счастливой.
Меняя в магнитофоне кассеты и время от времени прихлебывая чай, он просидел в машине до трех ночи, а потом у него так заурчало в животе, хоть ты криком кричи. Ну и присел бы здесь же, за кустиками, кретин несчастный, ни в одном окне свет уже не горел и во дворе — ни души, только цепочка припаркованных на ночь машин вдоль дорожки. Так нет, неудобно.
Поняв, что до утра ему не выдержать, Григорий вышел из машины, захлопнул дверцу, включил противоугонную систему и быстренько шмыгнул в подъезд. Лифт, как обычно по ночам, не работал, и пока он взобрался на девятый этаж, справил свои дела, вымыл руки и спустился вниз, машины возле подъезда уже не было. И центральный замок не помог, и противоугонная система даже не вякнула, и двигатель не заблокировался. Григорий заметил, что нет и синего «форда», стоявшего неподалеку, и понял, что, похоже, умыкнули машину те самые лихие ребята, у которых он ее купил. Видимо, был у них и запасной ключ, и пульт сигнализации, они выследили его и дождались своего часа. Он вспомнил, что и синий «форд» не раз замечал в зеркале заднего вида, но не придал этому значения — мало ли колымаг бегает по городу. Теперь ищи–свищи, тем более что в бардачке остались все документы.
Потрясенный случившимся, он, конечно, позвонил в милицию. Но прошло больше двух месяцев, и никакой надежды на то, что машину найдут, у Григория не осталось.
…Где–то через час Татьяна, протрезвевшая, зареванная и полная раскаяния, как обычно, выбежала из квартиры искать его, и они снова помирились и, вернувшись домой, до утра выясняли отношения. Холодное: «Григорий, привет! Поднимись ко мне!» — было для него сейчас как удар ногой в пах, даже в животе заныло от боли.
Григорий уже давно перестал думать об Андрее как об университетском приятеле. Он видел: чем богаче становится Пашкевич, тем скупее и жестче, тем больше презирает тех, кто, в сущности, создает его богатство. Кажется, авантюра с коттеджами убедила в этом и Володю, который вдруг поверил в него, хотя уже давно знал, видел, что Андрей бесцеремонно обманывает их. А ведь сколько гадостей во имя этой веры наделал Шевчук, сколько людей — редакторов, переводчиков, библиотекарей, подбиравших для них книги, он оскорбил и унизил, оттолкнул от «Афродиты», втихомолку переписывая уже подписанные договора, срезая и без того мизерные ставки, с пеной у рта торгуясь за каждую копейку. Зачем? Для чего? Чтобы получить заветные ключи от загородных хором с рыцарской башней? Получил… Пашкевич сломал Шевчука своей ложью, из него будто стержень вынули, он поник и на все махнул рукой, а ведь был мотором редакции — чего же хотеть от машины, если мотор работает с перебоями, нехотя, через силу?..
Через приемную, в которой уже хлопотала секретарь Людмила, он вошел в кабинет. Пашкевич кивнул на кресло у стола: садись, подал листок с наброском приказа.
— Ознакомься.
Григорий прочел и обмер.
— Андрей, — растерянно сказал он, — что ты делаешь? Ну, не понравилась тебе «Утренняя звезда», хотя о качестве этой книги можно спорить, — твое право остановить издание. Ни одно производство не обходится без издержек, почему же ты все взваливаешь на нас с Шевчуком? Неужели издательство разорится, если мы просто спишем ее в убытки? И потом — какое отношение к этому имеют дивиденды? Дважды за один проступок не наказывают, ты же знаешь.
— За один? Да у вас их целый букет! Пока меня не было, вы с Шевчуком завалили редакцию.
— Андрей, я не хочу с тобой спорить. Я так рассчитывал на эти деньги… Ты же знаешь — у меня угнали машину, дочку надо отправлять на практику в Америку, брат лежит в психушке в Новинках… Я в долгах, как в шелках, этим приказом ты режешь меня без ножа. Не делай этого, Андрей, прошу тебя.
— Машина, дочка, долги — это твои проблемы, к издательству они не имеют никакого отношения, — жестко сказал Пашкевич. — «Афродита» — не богадельня, твои личные дела меня не касаются и не интересуют. Я и так слишком часто закрывал глаза на вашу лень, равнодушие, безынициативность.
— Это неправда. Мы с Володей отдали «Афродите» пять лет жизни. Мы вкалываем, как рабы на плантации, без выходных и отпусков. Почти триста книг за такой короткий срок — шутка ли! Ни одно издательство не может похвастаться таким результатом. Пока ты был в Америке, у нас вышло двенадцать томов и еще восемь сдано в типографии — это ты называешь ленью, равнодушием и безынициативностью?
Пашкевич через стол швырнул ему стопку газет и журналов.
— Можете повесить все двенадцать на крючок в туалете. Ты это уже читал?
— Вчерашние? — Григорий просмотрел заголовки. — Когда же? Ты ведь знаешь, я лишь вчера вернулся из Москвы, из командировки, вечер пробыл у вас, а сегодня мне надо отправить в типографию две книги. Аннотации, индексы, реклама — куча работы. Завтра просмотрю. Или вечером возьму с собой.
— Надо меньше спать. — Пашкевич с хрустом сломал карандаш и бросил в мусорную корзину. — Пришел бы на работу к восьми, как я, успел бы.
— Это несерьезно. — Григорий снял очки, у него слезились глаза. — Когда нужно, я прихожу, случается, даже не в восемь, а в семь. Просто сейчас я не вижу в этом необходимости. И вообще — что стряслось? Нас критикуют?
— Плевать бы я хотел на критику, критика — это всего лишь бесплатная реклама. Все куда хуже. Нас снова нет в списках бестселлеров. Ни одного названия. Уже два месяца. Так что ваши двенадцать книг — макулатура. И вы мне за это заплатите.
— Ах, вот ты о чем? — Григорий отодвинул газеты, у него несколько отлегло на душе. — Это я знаю и без газет. Мы давно к этому шли, и не делай вида, что для тебя это сюрприз. Мы тебя предупреждали десятки раз — и я, и Володя, и даже, насколько я знаю, Тарлецкий. Но ты не хотел нас слушать.
Пашкевич пропустил его слова мимо ушей, он умел слышать лишь то, что его интересовало.
— То есть как это — знал? Знал и ни черта не делал, чтобы переломить ситуацию? Это что — саботаж?
Григорий протер очки и снова нацепил их на переносицу.
— Ну вот, — вздохнул он, — уже и саботаж. Скоро ты нас объявишь врагами «Афродиты» со всеми, так сказать, вытекающими последствиями. Брось, Андрей, не валяй дурака. Мы уже давно твердим тебе, что поле нашей деятельности быстро сужается. Все долицензионные книги, которые пользовались хоть каким–то спросом, мы и другие издательства уже перемололи. Покупатель требует новинок, популярно то, что вышло в Америке или в Англии два–три месяца назад и там завоевало рынок; посмотри списки бестселлеров повнимательней. Времена пиратства, когда мы без всякого спроса хватали и переводили любую книгу, закончились. Впрочем, зачем я тебе об этом говорю? Мы завалены исками и жалобами, ты же все это прекрасно знаешь.
— Но я давно с вами согласился. Кто не дает тебе и Шевчуку закупать права на новые книги? — Он нервно подвинул к себе газеты. — На ту же Барбару Картленд.
— Кто не дает? — переспросил Григорий. — Наше прошлое. Почти пять лет нашей более чем успешной работы.
— Слушай, не говори загадками. — Пашкевич почувствовал себя уязвленным. — Я не понимаю, как успешная работа в прошлом может помешать так же хорошо работать сегодня. Просто вы с Володей потеряли нюх, заплыли жиром.
— Увы, это не так. К сожалению… Судьбу издательства определяли не мы, а ты. Единолично. А ответственность хочешь переложить на нас. Мы же если и виноваты, то лишь в том, что слишком послушно выполняли твои указания. Понимаешь, Андрей, очень трудно проявлять принципиальность, когда директор по характеру диктатор, а все твои предложения так или иначе связаны со снижением прибыли.
— И много ты знаешь идиотов, которые добровольно согласятся на уменьшение прибыли? Это только при социализме были планово–убыточные предприятия, сегодня таких уродов не существует. Мы — коммерческая фирма, нам на дотации от государства рассчитывать не приходится. Что потопаем, то и полопаем.
— Да, конечно. Но «Новости», «Планета», «Золотой шар», «Виктория» — издательства, чьи книги месяц за месяцем возглавляют списки бестселлеров, они что — не коммерческие?
Пашкевич исподлобья посмотрел на Григория, взгляд был злой и нетерпеливый. Он уже все понял, но сдаваться не хотел.
— Тогда в чем же дело?
— Да в том, что пока мы с таким увлечением зарабатывали деньги и они уплывали неизвестно куда, люди закупали авторские права. И не только на отдельные книги, а целиком на перспективных авторов. Мы что, не знали, что Барбара Картленд с ее пятьюстами или шестьюстами романами включена в книгу рекордов Гиннеса как одна из самых популярных писательниц на Западе, и соответственно, будет популярна у нас? Мы ведь издали две ее книжки и неплохо заработали на них. Но дальше — стоп, владельцы прав на ее произведения взяли нас на мушку и потребовали платить. А мы их, согласно твоему приказу, послали на три буквы: в Беларуси закон еще не принят. Они прислали нам десяток писем и заткнулись — как с нами судиться, если для нас закон не писан? Себе дороже. Но выводы сделали. Ты ведь знаешь — наши книги в основном продаются не в Беларуси, а в России, для нас белорусский рынок — мелочь, на нем даже пятидесятитысячный тираж заляжет. Людям не до книг… А у них теперь свои стукачи на каждом полиграфкомбинате, на крупных оптовых базах, на книжных ярмарках. Попробуй мы, не договорившись о переуступке авторских прав, запустить любую книгу, как на нее тут же будет наложен арест. Дальше все просто: суд, конфискация тиража. Ты этого хочешь?
Пашкевич потер тщательно выбритую щеку. Гриша прав: этот разговор возникал у них не однажды. Но так жалко было выбрасывать псу под хвост живые деньги во время всеобщей неразберихи, когда о таких пустяках, как авторское право, никто и не думал. Жадность фраера губит. Значит, пока не поздно, надо перестраиваться.
— Так почему бы нам не перекупить эти права? Все подсчитать, прикинуть… Все равно выгоднее, чем выпускать заведомо неходовой товар.
— А потому что с нами никто не хочет иметь дела, — печально произнес Григорий. — Я пробыл в Москве пять дней, ноги отбил, шатаясь по издательствам и литературным агентствам, и — впустую. Кое–где меня даже на порог не пустили. «А-а, из «Афродиты»? Гоните в шею!». Мы заработали не только деньги, Андрей, но и стойкую репутацию людей без чести и совести, и ее не так–то просто будет изменить.
— Ладно, ладно… Что они предлагают? Самые сговорчивые?
— Рассчитаться по старым долгам. За все книги, вышедшие с девяносто первого года и подпадающие под закон об охране авторского права. А это — почти сотня названий. — Григорий открыл свою папку. — Вот смотри, я все выписал и посчитал. Приблизительно, конечно, Лидия Николаевна сделает это точнее. Получается около миллиона долларов без потиражных. А ты ведь помнишь, какие сумасшедшие у нас были тиражи! На круг — миллионов пять, а то и побольше. Лишь после того как мы выложим эти денежки, они готовы разговаривать с нами, как с цивилизованными людьми. И мы тоже сможем начать охоту за бестселлерами. А до этого Энни Уокер, которая тебе не понравилась, — для нас отличная книга, она может принести пятьдесят–шестьдесят тысяч долларов прибыли, даже если не попадет в списки бестселлеров. За такие деньги западные издатели удавились бы, а мы носом крутим, нам подавай тиражи в сто, двести тысяч. Но время таких тиражей уже кончилось; если бы у нас в магазинах и на рынке было столько мяса и колбасы, сколько книг, мы могли бы считать себя процветающей страной.
Пашкевич угрюмо рассматривал список.
— Хороший у них аппетит, — проворчал он. — Такую дыру сейчас даже новыми книгами не заткнешь.
Несколько минут они сидели молча. Пашкевич тяжело переваривал услышанное. Он понимал: без новых книг «Афродиту» ждет умирание — рынок слабых не любит.
— Ладно, — Пашкевич собрал газеты, он не терпел беспорядка на столе. — Раз ты попал в такой переплет, я, возможно, пересмотрю приказ. Но и ты… Недели через две соберем совет учредителей, послушаем отчет Шевчука. Согласись, что он стал работать из рук вон плохо, больше я этого терпеть не намерен. Думаю, судьба «Афродиты» и твоя собственная подскажут тебе, что надо говорить и как голосовать.
— Подскажут… — пробормотал Григорий. — Можно, я пойду к себе, а? Очень много работы.
Глава 15
Глубоко задумавшись, Пашкевич сидел за столом, овеваемый радиоактивным потоком, который излучала маленькая таблетка, заложенная Шевчуком между спинкой и сиденьем его кресла. Смертоносные лучи уже впивались в его позвоночник, уничтожая красные и белые кровяные тельца — саму основу существования человеческой жизни, но Пашкевич ничего об этом не знал. Он сидел и думал, как вырваться из мышеловки, куда залез по собственной воле. Выложить огромные деньги за книги, которые уже стали отработанным паром, из которых больше ничего не выжмешь, — безумие. Издательство останется без оборотных средств, а бумажники и печатники в долг не работают, все требуют предоплаты. Закрыть лавочку, все распродать и разделить между учредителями? Конечно, куш он сорвет большой, очень большой. С тем, что уже есть, можно уехать во Флориду, например, купить дом на берегу океана и жить в свое удовольствие. Но что это будет за удовольствие, вот вопрос?! Что он будет делать в свои сорок восемь с дрянным знанием английского? Жариться на пляже, как какой–нибудь отставник–пенсионер? Играть по маленькой в казино? С толпами богатых бездельников томиться в круизах на фешенебельных пароходах? Заводить романы с дорогими проститутками? Бред собачий! Да он от такой жизни через месяц спятит. Может, снова начать писать? Когда–то его пьесы обошли все театры страны, имели шумный успех. Времени будет вдоволь, условия прекрасные… Но Пашкевич больше не чувствовал в себе ни таланта, ни желания заниматься писаниной. Он прекрасно понимал, что драматургом стал не по призванию, а случайно. Да, его пьесы попали в струю, но когда над страной повеяли совсем иные ветры, струя быстро иссякла, и их забыли. Новое время требует новых пьес, а здесь ему ничего не светит — не так устроены мозги. Нет, закрывать лавочку рано. Нужно поискать другие направления. Поработать там, где еще не наследили, не замарались, где поле безбрежно. Например, переключиться с художественной на познавательную литературу. На Западе и в Америке сотни издательств выпускают научно–популярную литературу и процветают. Сколько всевозможных справочников, детских и взрослых энциклопедий, книг для домашних мастеров, садоводов и огородников видел он на всевозможных выставках–ярмарках, и никогда не обращал на них внимания. А кто и что мешает издать справочник, скажем, по ремонту импортных автомобилей? Вся страна уже забита железным хламом, с которым мучается армия автомобилистов. Целая страна покупателей! А книги для женщин? Косметика, кулинария, воспитание детей… С руками оторвут. Покопаться, пошевелить мозгами. И далеко не на каждую такую книгу нужно покупать права, часть за бесценок составят свои же обнищавшие литераторы, ученые. Надергают из разных книг, перемешают, подпудрят и поперчат, чтобы не обвинили в плагиате, — и готово. А права на лучшие зарубежные книги можно покупать, они себя оправдают. Отличная идея! Но начинать осуществлять ее нужно с другой командой. Вот еще один повод убрать Шевчука, Злотника и всю редакцию. Оставить Веремейчик, она там — мои глаза и уши, а остальных — вон. Набрать молодых, шустрых, готовых носом землю рыть. Рано мне еще в отставку, успеется.
Он придвинул к себе папку с бухгалтерскими документами и попытался углубиться в работу. Но сосредоточиться не мог. Саднило в горле, сохло во рту, болела голова. Простыл, что ли? Посмотрел на часы. Господи, уже час дня. И куда это время уходит? Как песок сквозь пальцы. Кажется, только приехал, еще ничего толком не сделал, а пролетело пять часов.
Он потянулся к телефону, позвонить Ларисе, но не успел — вошел Виктор.
— Обедать домой поедете или сказать Люде, чтобы сюда что–нибудь принесла?
— Ничего не надо. Нет, пусть принесет стакан молока. Горячего… — Пашкевич потер ладонью повлажневший лоб. — Что–то ломает меня сегодня, боюсь, не простыл ли. Поеду на дачу, попарюсь, как следует, может, отпустит. Сейчас болеть никак не получается. Позвони Михалычу, пусть баньку часам к семи протопит. Женю захвачу.
— Может, отвезти вас, а утром приехать? Дорога тяжелая.
— Витя, — улыбнулся Пашкевич, — я водил машину, когда ты еще пешком под стол ходил. Оставь ключи от «альфы» и ступай по своим делам. Увидимся завтра.
Людмила принесла горячее молоко. Он выпил маленькими глотками, чувствуя, как скованное многочасовым сидением в кресле тело расслабляется, согревается изнутри; вроде даже боль в горле и ломота прошли. Позвонил Жене.
— Приходи в шесть пятнадцать, поедем на дачу. В баньке попаримся, поужинаем.
— С удовольствием, папуля, — прощебетала в трубку Женя. — Только извини, я немного опоздаю. У меня на пять тридцать назначена консультация.
— В институте?
— В институте, — засмеялась Женя. — В научно–исследовательском. Ладно, я тебе потом расскажу. Дождись меня. Целую, папуля.
— Жду до половины седьмого, — с раздражением бросил Пашкевич — он ненавидел, когда Женя называла его «папулей» не раз говорил ей об этом, но глупая телка обожала глупые словечки.
Он отключил телефон и откинулся на спинку кресла. Следовало бы полистать распечатку, которую принес Шевчук, но не было сил. Никогда еще в полдень он не чувствовал себя таким вымотанным. Лучше всего было бы замкнуть дверь и завалиться на диван. Хоть на часок. Пошло оно к свиньям, всю работу не переделаешь. Как это шутит Некрашевич? Работа не хрен, может и постоять. Но Пашкевич не мог позволить себе расслабиться. Вечером в баньке — да, но только не на работе.
Глава 16
Днем Лариса позвонила Некрашевичу.
— Павлуша, не выкроишь ли ты для меня часок? Нужно поговорить.
Она услышала, как Павел зашелестел бумагами.
— В два годится? Тогда приезжай в «Вулкан», пообедаем, а заодно и поговорим. Извини, другого времени нет.
— Очень хорошо, спасибо, — сказала Лариса и положила трубку.
В отдельном кабинете ресторана «Вулкан» огромный овальный стол был накрыт для двоих. Когда Лариса поднялась на второй этаж, Некрашевич, заложив пухлые руки за спину, стоял у окна, за которым тускло поблескивал снег.
— Садись, — радушно предложил он. — Рюмку водки выпьешь?
— Нет, спасибо, я за рулем.
— Тогда ешь и рассказывай.
Павел налил из хрустального графинчика водки, заткнул за ворот накрахмаленную салфетку, выпил, смачно крякнув, стал накладывать себе закуски.
— Рекомендую заливную осетринку с хреном. Хороша-а, мерзавка…
— Старый хрен и холодная рыба, — засмеялась Лариса. — Не обращай на меня внимания, я не голодна. — Лариса отодвинула тарелку. — Павлик, мне нужна твоя помощь Что–то у нас с Андреем в последнее время…
— Сама виновата. Прости, милая, но вчера ты вела себя… м-м… не совсем корректно. Он ведь не слепой.
— Согласна, вчера меня немного занесло. Но виновата в этом не я, а ты. Да, да, ты и Вероника.
— Глупее ничего не могла придумать? — промычал Некрашевич с набитым ртом.
— Думаешь, я не видела, как она на соленые огурцы налегала?
— Так ты догадалась? — Некрашевич отложил вилку, его толстое круглое лицо сияло. — Ну разве она не чудо, Лариса?! Господи, я все еще не могу поверить!
— Чудо, Павлик, конечно, чудо. Я очень рада за тебя… за вас обоих. Просто в моей жизни этого никогда не будет, вот беда.
— Беда, Лариса, что говорить. Но Андрей в этом неповинен, зачем же на нем вымещать?
— Нет, конечно, однако… Не понимаю, что на меня нашло. Ты ведь знаешь: человек — такая скотина… Если ему плохо, значит, никому рядом не должно быть хорошо. А Андрей выглядел таким благодушным, таким самодовольным… Вот я и сорвалась.
— Ребеночка вам надо завести, — сказал Некрашевич, приканчивая огромную порцию осетрины. — Работа, деньги — все это хорошо. Но однажды начинаешь ощущать, что этого мало, что счастье не в деньгах и даже не в их количестве. Живешь, как зашоренный конь в упряжке, — без сердцебиения. Иногда даже не знаешь, есть у тебя сердце или нет. А жизнь проходит. Взяли бы пацаненка из детдома, и не надо было бы тебе перед своим хахалем выдрючиваться, гусей дразнить, да и у Андрея что–то в жизни появилось бы, кроме «Афродиты».
— Мы об этом много говорили, только я никак решиться не могу. Видно, тот ратомский мясник вместе с маткой вырезал у меня и материнский инстинкт. Как ни горько признаться, мне это не надо, понимаешь? А вот ему — необходимо. Но у него есть дочь. Она уже взрослая, может, даже замужем, и дети есть… Я о ней ничего не знаю, пыталась как–то расспросить, он на меня так вызверился… «Не твое дело!» А получается — мое.
— Что ты задумала?
— Мне не хочется ломать свою жизнь. Он, конечно, догадывается о Викторе, но и я знаю о Жене и о других его интрижках. Все это чепуха, ты же понимаешь. Андрей — мой мужчина, а я — его женщина, вот что важно. Ты прав: если бы у нас был ребенок… Но его не будет, и точка. Я хочу познакомиться с его дочерью. Помирить их, вернуть друг другу. Наполнить его да и свою жизнь заботой не только о собственных персонах и делишках. Может, тогда… Но для этого я должна знать, что между ними произошло. Не верю, чтобы это нельзя было поправить.
Некрашевич налил себе еще рюмку водки, выпил и принялся за сборную солянку, которую принес тенью промелькнувший и тут же исчезнувший официант.
— Ты ставишь меня в сложное положение, — он выудил из тарелки крупную черную маслину и отправил ее в рот. — А в общем когда–то об этом судачил весь Минск. Ну, ладно. Андрей еще в университете женился на своей однокурснице Наташе Лазаревой. Я хорошо знал ее отца, Евгения Викторовича, он был заместителем министра финансов, я у него до самого ухода в банк работал. Наташа была красавица писаная, любил ее Андрей без памяти. Он после университета сделал блестящую карьеру, за пять лет из рядового журналиста стал заместителем главного редактора республиканской газеты. Получил хорошую квартиру, дочка у них родилась, Наташа защитила кандидатскую диссертацию, преподавала на филфаке. Я часто бывал у них, они, вроде бы, хорошо жили. Весело, дружно… — Некрашевич вытер салфеткой жирные губы. — Да ты хоть жаркого возьми, а то мне неловко, ей богу!
— Возьму, возьму, — Лариса положила себе на тарелку кусок телятины, попробовала. — Очень вкусно. Продолжай.
— Слышала такой старый пошлый анекдот: «Муж вернулся из командировки…»? Все у него получилось, как в том анекдоте. Вернулся на день раньше, и застукал свою Наташу с любовником. Некто Чугуев Иван Петрович, профессор, заведующий кафедрой органической химии. Лет на пять старше Андрея. Симпатичный мужик. Ну… Для Андрея это было такое потрясение… Выбежал из дому, как полоумный, сел в машину. В бардачке была бутылка коньяка, он выхлестал ее и попер, куда глаза глядят. И задавил какую–то старуху. Насмерть. Если захочешь, при случае Тарлецкого расспроси, он его на суде защищал. — Некрашевич налил себе в рюмку из графинчика. — Вся жизнь — коту под хвост. Тарлецкий хотел построить защиту на том, что он невменяемый был, в состоянии аффекта, все–таки учли бы, но Андрей запретил даже упоминать о Наташе и Чугуеве. Вдобавок пьяный… Тогда как раз началась очередная кампания по борьбе с алкоголизмом, вот его и раскрутили на всю катушку. Пять лет «химии». В лагеря таких бедолаг не сажали, посылали пахать на стройки коммунизма — дармовая рабсила. Общежитие, комендатура, утром и вечером перекличка. Андрей в Новополоцке работал. Каменщиком, бетонщиком, плотником. Передовик производства, общественник — стенгазету выпускал, что–то вроде «Солнце всходит и заходит». Я несколько раз приезжал к нему, деньги привозил, продукты, одежду. Он хорошо держался — не скулил, не хныкал. Наташа после суда развелась, вышла замуж за своего Чугуева. Дома Андрея никто не ждал, на журналистике он давно поставил крест. Уехал на Дальний Восток. Писал мне иногда с Чукотки, Камчатки, Курил — где его только не носило! Хлебнул романтики выше горла.
— Об этом он мне кое–что рассказывал.
— Отлично. — Некрашевич отодвинул тарелку и вытер салфеткой губы. — Значит, подробности можно опустить. А потом его потянуло домой, в Минск. Вернулся, написал пьесу, получил на Всесоюзном конкурсе премию, стал именитым драматургом. Появились деньги. Положил на Олино имя солидную сумму, сберкнижку послал Наташе. Попросил разрешить хоть изредка видеться с дочерью. Книжку Наташа приняла, а встречаться с Олей запретила: ты для нее давно умер! Наверное, боялась, чтобы не рассказал, из–за чего все произошло. Тогда он перехватил Олю возле школы. Подробностей разговора не знаю, но с девочкой случился настоящий припадок. Видимо, Наташа убедила ее, что он — алкоголик, убийца, вот она и испугалась.
— Наташа не любила Андрея, — задумчиво сказала Лариса. — Зачем же было выходить за него замуж?
— Не знаю, — ответил Некрашевич. — Я сам два раза разводился, а дети так и остались моими детьми. Даже теперь, когда они уже взрослые. Просто такой у нее сволочной характер. Но и Оля виновата. Когда Андрей вернулся, ей уже лет четырнадцать было. Не ребенок несмышленый — девица. Кажется, чего проще: поговори с отцом, выслушай. Ему ведь от тебя ничего не надо. Ну, видеть иногда, говорить… С другой стороны понятно — она своим отцом Чугуева считала, он ее вырастил, что ей было до какого–то чужого дядьки! Вот, собственно, и все, не знаю, почему Андрей от тебя это скрыл. Кажется, он еще раз или два попытался с ней встретиться, но из этого ничего не вышло. Увы, насильно мил не будешь. Не знаю, нужна ли она ему сейчас, захотят ли оба примирения через столько лет.
— Она по–прежнему живет с матерью?
— Возможно, квартира у них большая. В девяносто втором умер Лазарев, Наташин отец. На его похоронах я с ними встретился в последний раз. Потом мне рассказывали, что на сороковины они поехали на кладбище, и в их машину врезался грузовик. Чугуев погиб, Наташу тяжело искалечило. Что–то с позвоночником, отнялись ноги. Оля вроде бы отделалась легким испугом.
— Андрей об этом знает?
— Понятия не имею. Он не только с тобой избегал говорить об этом, со мной тоже. — Некрашевич посмотрел на часы и встал. Достал записную книжку, перелистал. — Если тебе интересно, Наташа живет на Парковой. У меня случайно сохранились адрес и телефон.
Глава 17
Виктор Стрижак вошел в Ларисину жизнь случайно. По совету Некрашевича Пашкевич взял его к себе около года назад как специалиста по выбиванию долгов. В то время долги оптовиков уже стали для «Афродиты» серьезной проблемой. Вперед больше никто не платил — предложение на книжном рынке стало явно превышать спрос. Возникали крупные книготорговые фирмы, которые закупали у издательств книги для целых регионов. Обычно на реализацию давалось три месяца, в конце каждого должна была поступать треть платежей. Но оптовики не спешили рассчитываться. Свирепствовала инфляция, прежде чем рассчитаться, должники старались прокрутить деньги в коммерческих банках. Им это давало приличный навар, но больно било по издательствам. Надо было что–то делать. Так появились вышибалы, которые за определенный процент заставляли должников раскошеливаться.
Виктор Стрижак слыл среди них особым умельцем, жестоким и удачливым, не оставлявшим следов. После того, как один из злостных неплательщиков был застрелен, а у нескольких других ни с того, ни с сего взлетели на воздух у кого дом, у кого дача, у кого новенький «мерседес», и виновных, как водится, не нашли, его стали бояться, как огня.
Ему было двадцать шесть лет. Высокий красивый парень с умным выпуклым лбом, который пересекала острая косая морщинка, с жестким скуластым лицом и разноцветными глазами — левый карий, с радужными точками вокруг зрачка, а правый зеленый. Пристальный холодный взгляд этих разноцветных глаз заставлял невольно ежиться даже далеко не трусливых людей.
Два года у Виктора забрал Афган, куда он уехал добровольцем с четвертого курса института физкультуры. Позвали его в далекие края не поиски романтики и не интернациональный долг, как тогда об этом писали в газетах, а стремление любыми путями избежать тюрьмы. В сущности, дело не стоило выеденного яйца: в пьяной ресторанной драке Виктор нечаянно заехал в физиономию не тому, кому следовало. Заехал основательно — сломал нос, рассек бровь, выбил несколько зубов. На его беду этим «не тем» оказался городской прокурор. Прокурора на «скорой помощи» отправили в больницу, а Виктора уже назавтра утром вызвал ректор и, пожурив за несдержанность, посоветовал немедленно исчезнуть, потому что ему уже звонили из милиции и интересовались, куда прислать патрульную машину за хулиганом–студентом.
Исчезнуть так, чтобы тебя не достали длинные прокурорские руки, можно было только в рядах Советской армии, за рубежом любимой родины. Прикинув, что два года в Афганистане стоят пяти в лагерях, Виктор тут же поспешил в военкомат. Там он честно, как на духу, рассказал свою историю, военком проникся сочувствием к мастеру спорта по стендовой стрельбе, переговорил по телефону с ректором института, и спустя два дня Виктор уже вылетел в Ташкент, а оттуда — в Кабул.
В Афгане он научился стрелять не по тарелочкам или там «бегущему кабану», а по живым мишеням. Разницы, в сущности, не было никакой, по людям стрелять оказалось гораздо легче. Девяносто семь раз за два года нажал он на спусковой крючок своего снайперского карабина, и девяносто семь раз в афганских семьях оплакали своих близких: отцов, мужей, братьев. Незадолго до дембеля достала и его пуля моджахеда. Стрелок тоже был неплохой — пуля застряла в нескольких сантиметрах от сердца. Ничего, обошлось. На вертолете вывезли в госпиталь, в Ташкент, пулю выковыряли, дырку заштопали и через два месяца выписали домой.
В Минск он вернулся продубленный азиатским солнцем и ветром, с орденом и двумя медалями. Восстановившись в институте, окончил его и стал работать учителем физкультуры в школе — все более интересные места уже были заняты. Мизерная зарплата, частный угол — домой, в маленький городок возвращаться не хотелось, что его там ждало, то же учительство? — все это угнетало его. Хотелось другой жизни, яркой, интересной, рисковой — к какой успел за два года привыкнуть. Но ему ничего не светило. Однако вскоре началось то, что кто–то метко назвал «временем большого хапка». И чем больше хапуны хапали, тем больше им хотелось. Появилась потребность устранять конкурентов, делить зоны влияния. И тут о нем вспомнили.
Первый выстрел из пистолета Макарова с глушителем, который Виктор получил от заказчика вместе с авансом, принес ему однокомнатную квартиру и приличную сумму в долларах, второй — новенький джип. Оба убийства наделали много шума, и в третий раз Виктор не стал искушать судьбу. У него уже было все, чтобы безбедно прожить несколько лет и подыскать более спокойную работу. Какое–то время служил охранником в банке Некрашевича, но служба ему не понравилась: зависеть и подчиняться — это было не для него. Вскоре он занялся выбиванием долгов. Это была хорошая и денежная работа, без лишнего шума и риска. Обычно одного вида пистолета с глушителем, приставленного к виску, хватало, чтобы должник взялся за ум и вспомнил о своих обязательствах. Особенно почему–то пугал людей не столько пистолет, сколько глушитель. Понимали — приехал профессионал. Лишь однажды ему пришлось нажать на курок: уж больно упрямый попался клиент, из бывших уголовников, в ответ он тоже выхватил ствол, но Виктор оказался проворнее.
У «Афродиты» обострились отношения с крупной книготорговой фирмой, которая задолжала несколько сот миллионов рублей, Пашкевич встретился с Виктором и обговорил условия сделки. Вся «операция» заняла восемь дней. Для ее завершения Андрей Иванович пригласил его к себе домой. Обычно он встречался с такими людьми либо в машине, либо в отдельном кабинете в «Вулкане», но на этого парня у него были виды, и он решил познакомиться с ним поближе. Виктор приехал, увидел Ларису и понял, что пропал. Хочет он того или нет, отныне эта женщина станет главной в его жизни, и он сделает все, чтобы добиться ее. Когда Пашкевич предложил ему стать своим телохранителем, он с радостью согласился.
Виктор не был наивным, сексуально озабоченным юнцом, он уже в семнадцать спал с женщинами и забывал о них, едва расставшись. Тут было что–то другое, чему он не знал ни названия, ни объяснения. Верующий верует, не задумываясь, не задумывался и он. У него появилось божество, вызывавшее восторг и умиление, — хрупкая длинноногая женщина с платиновыми волосами и красиво изогнутыми чувственными губами, и он стал служить этому божеству истово и верно.
Сначала Ларису забавляло его откровенное восхищение ею. Виктор казался ей выходцем из галантного века, когда еще существовало рыцарское поклонение женщине. Между тем Андрей рассказывал ей, что он — не книжный романтик, начитавшийся стихов о прекрасной даме, а хладнокровный киллер, который убивает не из ненависти и не от отчаяния, а за деньги. Для него смерть — ремесло, опасное, но доходное, как ее ремесло — переводить с английского, а Пашкевича — издавать книги. Это внушало Ларисе ужас, но и вызывало обостренное, до дрожи, любопытство.
Обычно Виктор отвозил хозяина на работу к восьми, затем возвращался, чтобы выгулять Барса: ни Лариса, ни Клавдия не могли удержать этого зверя на поводке. Лариса уезжала на работу к десяти. Встречаясь по утрам, они говорили о погоде, об автомобилях — обычные, ничего не значащие разговоры. Он для нее значил не больше, чем домработница. Но постепенно она заметила, что при встречах ею овладевает непривычное напряжение. Взгляд его разноцветных глаз уже не казался ей наивным и восторженным, он был завораживающе пронзительным и властным. Виктор словно по–хозяйски раздевал ее и ощупывал взглядом, темнея лицом, и Лариса чувствовала, что это не отталкивает ее, как обычно, когда она встречалась с волокитами, а притягивает.
— Виктор, извините меня, — как–то сказала она, подсев к кухонному столику, за которым он пил кофе, — может, я чего–то не понимаю, но вы мне нравитесь, честное слово, и я хотела бы понять… Если вам это неприятно, можете не отвечать, я уйду и больше никогда не буду этого касаться, но…
Он встал, достал из шкафчика чистую чашку, налил кофе и подвинул ей. Над чашкой курился парок, запах кофе приятно щекотал ноздри.
— Говорите.
— Сейчас. — Лариса положила в чашку ложечку сахара. — Так вот, Андрей Иванович мне кое–что о вас рассказал. Не хмурьтесь, я умею хранить секреты. Знаете, как он вас называет? Одинокий волк. И я чувствую, что это не избитый литературный штамп — в этих словах ваш характер, ваше отношение к жизни. Но тогда объясните мне, ради Бога, почему вы ведете себя не как волк, а скорее как трусливый щенок? — Она достала сигареты, протянула пачку Виктору, он чиркнул зажигалкой, оба жадно затянулись. — Видите ли, мне кажется, настоящий волк никогда, ни за какие деньги на свете не стал бы прислуживать даже самому щедрому хозяину, а Андрей Иванович, насколько я знаю, особой щедростью не отличается. Волк не стал бы целыми днями торчать в приемной у босса, валяя дурака, чтобы как–то убить время. Не стал бы выгуливать чужую собаку и чаевничать на кухне с прислугой. Одно из двух: либо вы не тот, за кого себя выдаете, либо я ничего не понимаю в людях.
Она сидела перед ним, вздернув подбородок, маленькая и хрупкая, чем–то похожая на куклу Барби — точеным изяществом, платиновыми волосами, уложенными в красивую прическу, большими глазами цвета гречишного меда, требовательно смотревшими на него. Виктор смешался.
— Можете добавить, что волк никогда не стал бы выслушивать все это, — отвернувшись, негромко произнес он. — Наверное, ваш муж ошибся, наделив меня такой романтической кличкой. Никакой я не волк, милейшая Лариса Владимировна, думаю, ваше определение куда точнее. Я — обыкновенный лопоухий щенок. Лопушок…
— Но почему? — растерялась она, не ожидавшая такого ответа.
— А вы не догадываетесь? — Виктор увидел, как у Ларисы на щеках вспыхнули яркие пятна, и понял: догадалась! — Да, да, из–за вас. Это вы, Лариса Владимировна, превратили серого волка в лопоухого щенка, готового лизать хозяйскую руку. Можете гордиться — этого еще никому не удавалось.
— Но это же глупо! — смущенно воскликнула Лариса. — Нельзя так унижаться даже из–за женщины. Особенно из–за женщины.
— Помните, я впервые пришел в ваш дом… — Виктор сделал вид, что не расслышал. — Тогда я выполнил для Андрея Ивановича одно пустяковое дельце. Не знаю, зачем он меня пригласил, мы вполне могли встретиться где угодно. Наверное, это судьба. Вот тогда я понял, что не смогу без вас жить. Конечно, это звучит смешно и несовременно, я понимаю, но ничего не могу с собой поделать, хотя порой ненавижу себя за это. Я должен видеть вас каждый день, слышать ваш голос… Ради этого я готов не только вашу собаку выгуливать и с Клавой чаи гонять, но числиться в холуях у вашего мужа. И мне плевать, кто и что об этом подумает.
— Так не бывает… — ощущая странную слабость во всем теле, Лариса поднесла к губам чашку с остывшим кофе. — Это из книг, из кино… в жизни так не бывает.
— Значит, бывает, — глухо произнес он. — А что вы вообще знаете о жизни, чтобы так говорить? Вы валялись, скорчившись в три погибели, на голом каменистом склоне под минометным огнем? Видели своих друзей, с которыми вчера вечером пили водку, с отрезанными головами и выколотыми глазами? Слышали, как кричат люди, с которых заживо сдирают кожу, как с баранов? Стреляли в двенадцатилетних пацанов с гранатометами и снайперскими винтовками? — Глаза у него налились кровью, на лице под кожей вспухли желваки, непроизвольно сжимались и разжимались руки. — Я очень хотел выбросить вас из головы, поверьте. Я знал, сколько дерьма мне придется проглотить, только чтобы иметь право вас видеть…
— Не многовато ли?
— Все на свете имеет свою цену. Не я ее назначил, я — плачу. А что мне еще остается делать? Сказать вам: разведитесь с Пашкевичем и выходите за меня замуж? Да вы бы засмеяли меня. Кто я для вас? Обыкновенный бандит, преступник. А он? О–го–го! Бизнесмен, деляга, богач…
— На что же вы надеетесь? Что я стану вашей любовницей?
— Ни на что я не надеюсь, — нахмурился Виктор. — Пока мне достаточно видеть вас. Любовниц у меня хватало, были и помоложе, и покрасивее, уж не обессудьте. Но еще ни на кого мне не хотелось просто смотреть. И слышать голос. И аромат духов. И стук каблучков. И чувствовать себя счастливым, Может, впервые в жизни.
— Это что же — любовь с первого взгляда? — Ей мучительно хотелось оборвать, закончить этот разговор, но он засасывал, втягивал ее в свою бездонную глубину.
— Вам хочется всему дать название, — скупо усмехнулся Виктор. — Может, и любовь, не знаю. Но все женщины, кроме вас, для меня словно вымерли. — Он прикурил новую сигарету. — Не рассказывайте о нашем разговоре Пашкевичу. Он выгонит меня, а я вдруг возьму да и вспомню, что не всегда был лопоухим щенком.
У Ларисы мороз пробежал по телу, таким усталым, равнодушным тоном это было произнесено.
— Ради Бога, о чем вы… — испугалась она.
— Не бойтесь, я его не трону. Пока он вам нужен, пусть живет.
— Виктор, — взмолилась Лариса, — забудьте обо мне. Это блажь, наваждение. Заведите себе хорошенькую девочку, и все как рукой снимет.
— Значит, вы ничего не поняли, — печально ответил он. — Я ведь сказал: от меня это не зависит. Рад бы в рай — грехи не пускают.
— Зря я затеяла этот разговор.
— А я рад. У меня будто камень с души свалился. Теперь вы знаете: я люблю вас. И буду любить всю жизнь. Я еще никого так не любил и уже не полюблю. Не улыбайтесь, пожалуйста, это правда. Я умею ждать — год, два, сколько понадобится. Но запомните: я дождусь. — Он встал, поставил свою чашку в раковину, холодный и отрешенный, только потемневшие разноцветные глаза его выдавали тщательно скрываемое волнение, непонятную ему самому душевную муку. — Когда я понадоблюсь, свистните. Прибегу, как собака. — Потрепал Барса по загривку и вышел.
Лариса медленно допила свой кофе. Подошла в коридоре к зеркалу и долго рассматривала себя. Что он во мне нашел, этот свирепый волк, которого любовь превратила в добродушного щенка, но который в душе так и остался хищником? Неужели я и впрямь еще могу на кого–то подействовать, как удар молнии? Бред какой–то. Вон уже и морщинки в уголках глаз, тоненькие, будто иголкой процарапали. Симпатяжка, не без того, и все, как говорится, при мне, но мало ли сейчас симпатяжек по сто баксов штука?! А ведь это добром не кончится. Парень явно не способен на легкую интрижку. Мало ты пережила, дуреха, еще хочется?
— Хочется, — беззвучно сказала она своему отражению в зеркале и звонко, на всю квартиру, рассмеялась. — Ну просто ужасно хочется. Никогда еще не спала с волками. С баранами спала, и с козлами, а с волком… — Глянула на часики. — О Господи, я ведь уже на работу опаздываю. — Схватила сумочку, ключи от машины и, не дожидаясь лифта, легко, как в юности, побежала на стоянку.
Глава 18
Не дождавшись от Ларисы платы за молчание, Клавдия тонко намекнула Пашкевичу, что хозяйка завела себе хахаля. Сто долларов, которые он сунул ей в карман, свидетельствовали о том, что намек Андрей Иванович понял.
Пашкевич все еще любил Ларису, хотя они прожили вместе уже восемь лет. В отличие от многих женщин, которых он знал и с которыми был близок, она не надоела, не приелась. С ней было не только хорошо спать, но, как сказал поэт, хорошо просыпаться. Она была умна и ненавязчива, не склочна и не мелочна, не тянула душу, когда ему хотелось помолчать, прислушивалась к нему и не стремилась его подчинить. Привыкнув во всем полагаться на себя и никому не доверять, только с ней он обсуждал свои самые рисковые дела и не переставал удивляться ее трезвости и обстоятельности. Красивая, элегантная, Лариса была душой любой компании, будь то книгоиздатели, финансисты, промышленники или государственные чиновники; Пашкевич часто ловил на себе их завистливые взгляды.
Уязвило его даже не то, что Лариса спуталась с его телохранителем, похоже, изменяла она ему и раньше. Пашкевич догадывался о ее очередном увлечении по неожиданно острым вспышкам любви к себе; иногда ему казалось, что так она старается загладить свой грех. Не без греха был и он, и это да еще невозможность представить без нее собственную жизнь, заставляло терпеть. Обидело и оскорбило то, что она занялась этим дома, такого еще не случалось. Это был прямой вызов ему, и сути этого вызова он не понимал. А все непонятное вызывало в нем чувство тревоги.
Спустя несколько дней после разговора с Клавдией, он привез домой специалиста по видеосистемам. В правом углу спальни висели голландские искусственные цветы — целый водопад вьющихся лиан с большими глянцевыми листьями и россыпью ярких крупных цветков. Среди них мастер установил крохотную видеокамеру, работавшую в автоматическом режиме. Через вентиляционный лючок провел в кабинет Пашкевича кабель, установил записывающую аппаратуру. А уже назавтра, замкнувшись у себя в кабинете, Пашкевич включил фильм, главными и единственными героями которого были Лариса и Виктор.
То, что возникло на экране телевизора, потрясло его. Он ожидал увидеть необузданную страсть, искаженные судорогой лица, блестящие от пота тела — что–то такое, чего он сам уже не мог дать Ларисе. Но ничего подобного не происходило. Просто мужчина и женщина ласкали друг друга. Долго, нежно и… целомудренно, что ли, он так и не смог подобрать иного слова. Сам Пашкевич бывал куда грубее с нею, его постоянно сжигал огонь нетерпения, и ему казалось, что Ларисе это нравится. Но, пожалуй, Виктор нравился ей куда больше. Пашкевич догадывался об этом по ее сияющим глазам, по нетерпеливому ожиданию, которое рвалось из них.
Он понимал, что смотреть эту кассету гадко, но ничего не мог с собой поделать. С жадным любопытством, словно ему было не сорок восемь, а раза в три меньше или вдвое больше, испытывая стеснение и боль в груди, он следил за тем, как его жена извивается в сильных, мускулистых руках любовника, как стремительно нарастает в ней возбуждение, слышал сдавленное дыхание, смешные и глупые слова, которые сам не раз нашептывал ей в такие мгновения, вскрики и стоны, которые сменял вопль облегчения, освобождения из томительного плена страсти, и глотал закипавшие в нем слезы от бессильной ярости и отчаяния.
Вжавшись в кресло, он снова и снова прокручивал уже знакомые до мельчайших подробностей кадры. Затем яростно запустил пультом в стену. Пластмассовая коробочка разлетелась вдребезги. Пашкевич почувствовал себя вывалявшимся в навозе. Все было грязным, липким, противным: руки, одежда, мысли. Он продолжал менять кассеты в видеомагнитофоне, но больше их не смотрел, складывал в сейф. Там они лежали, как мины, чтобы однажды взорваться и разнести все в клочья.
Глава 19
Короткий декабрьский день давно угас, хотя больше не мело. Пашкевич как включил утром свет, так и не выключал. Звонил телефон, в кабинет входили и выходили люди. Он отвечал на звонки, подписывал какие–то бумаги, утверждал и отвергал обложки новых книг, спорил с художниками и фотографами — работал.
Наконец выдалась свободная минута, и он подошел к окну. Раздвинул жалюзи. Да, дорога, похоже, скользкая. А впрочем, неважно. Тридцать минут — и ты в раю. Быстренько раздеться, достать из бадьи распаренный веник. Плеснуть на раскаленные камни из ковшика водички, настоянной на мяте, чтобы обдало, окутало нежным, как лепестки цветов, духом, чтобы все тело покрылось капельками пота. Растянуться на липовом полке, расслабиться, и пусть Женечка старается, отрабатывает деньги, которые он на нее тратит. Она это умеет.
Пашкевич представил Женю на полке в бане — налитые, дерзко торчащие груди с маленькими коричневыми сосками, которые он так любил ласкать, крутые бедра и длинные стройные ноги с красными ноготками, плоский упругий живот, — но привычного возбуждения не почувствовал. Тупая апатия навалилась на него, как медведь, и он понял, что выдохся. Надо бы полистать эти распечатки, но пусть остаются назавтра. Все равно толку от такого чтения не будет. Лучше что–нибудь перекусить. Совершенно не хочется есть, но нельзя же целый день — на чашке кофе утром и стакане молока в обед. Может, из–за этого такая слабость?
В стенной нише стоял большой холодильник, там было все, чтобы без суеты принять нужных людей. Пашкевич открыл, отрезал тоненький ломтик ветчины, пожевал и выплюнул — никакого вкуса. Как трава. А ветчина была свежая, сочная, в другое время умял бы кусок за милую душу. Заболел?
Наконец на лестнице послышался дробный стук каблучков — Женя. Посмотрел на часы, с досадой поморщился. Снова безвылазно просидел в кабинете больше десяти часов. Дурь собачья, и кому это надо? Так ведь и загнуться недолго.
Женя ворвалась в кабинет, как ветер. Раскрасневшаяся с мороза, с инеем на мохнатых ресницах и выбившейся из–под меховой шапочки прядке огненно–рыжих волос, была она чудо как хороша. Любуясь ею, Пашкевич даже о своем недомогании забыл. Женя бросилась ему на шею, чуть не сбив с ног, и закружила по комнате. От нее вкусно пахло снегом и духами «Черная магия», а радостное возбуждение казалось таким искренним, что у Пашкевича потеплело на душе.
— Хватит, достаточно, — добродушно проворчал он, отвечая на быстрые обжигающие поцелуи. — Ты сегодня красивая.
— Я всегда красивая, папуля, — засмеялась Женя, и на румяных щеках ее появились нежные ямочки. — За это ты меня и любишь.
— Ты опоздала на двадцать минут. Где тебя носило?
— Я же говорила — на консультации. Папочка, у меня потрясная новость. Сядь в кресло, а то упадешь, а мне не хочется, чтобы ты разбился. Особенно сейчас.
— Ну, ну… — он сел в свое кресло. — Выкладывай. Новые сапоги приглядела?
— Какие сапоги, о чем ты? Папуля, не пройдет и полгода, как у тебя появится сын. Мальчик. Уже в середине мая. Маленький Андрюшка Пашкевич. Ну как, здорово?
Что–то случилось с ним — он и сам не мог понять, что. Он засмеялся. Нет, захохотал. Во все горло, как не смеялся, наверное, уже тысячу лет. Он корчился в кресле от хохота, пока на глазах не выступили слезы. Вот это цирк! Вчера Некрашевич, сегодня — эта идиотка. Да они что, сговорились, что ли? Обалдеть можно!
Женя обиженно надулась. Она ожидала чего угодно — бурного восторга или грубой ругани, но только не смеха. Злого, издевательского. Резко повернувшись, она пошла к двери. Пашкевич догнал, схватил за руку.
— Ты куда? Постой, не валяй дурака. Сядь. Вот так. Ты же предохранялась.
— Пока не поняла, как ты мне дорог. И как одинок. И как мечтаешь о сыне.
— Откуда ты это взяла?
— Взяла… Я знаю, у тебя есть дочь от первой жены, но вы давно расплевались, так что ее как будто и нету. А твоя коза драная… Она никогда ничего не принесет тебе, кроме рогов. Не обижайся, это правда. А все мужчины мечтают о сыне. Мой папаша мать из больницы забирать не хотел, когда ему сказали, что у него девочка. Поэтому я так долго ничего тебе не говорила. Хотела узнать, кто у нас родится. А это определяют на двенадцатой неделе. Вот так, Андрей свет Иванович. Сегодня пришли результаты исследования. С сыночком тебя! Ну, а если тебе это смешно, я уйду.
— Никуда ты не уйдешь. — Пашкевич придержал ее за плечо. — Ты уверена, что ребенок от меня?
— Я ведь не дура, папуля. Это ты считаешь меня дурой, красивой телкой, а я совсем не дура, честно. Теперь ничего не стоит проверить, твой это ребенок или нет, достаточно одной капельки крови. Не твой — ну и вышвырнешь нас обоих из своей жизни. Но он — твой, Андрюшенька. Твоя кровинка, твоя крохотуля. Захочешь ты его признать или нет — дело твое, как–нибудь проживем. Но учти, аборт я уже не сделаю, поздно. Да и в любом случае не сделала бы. Я тебя люблю и его — погладила себя по животу — люблю; в конце концов это будет память о тебе, о нашей любви.
— Постой, не говори чепухи. Тебе же не завтра рожать, что–нибудь придумаем.
— Жестокий ты человек. — Женя прикусила губу. — Хоть бы обнял, поцеловал, спасибо сказал… Я к тебе из института как на крыльях летела, думала, ты от радости с ума сойдешь, а ты — «что–нибудь придумаем…»
Пашкевич почувствовал себя неловко. В его голове все еще не укладывалось, что он станет отцом, все это казалось дурацкой шуткой, розыгрышем, но глядя в потемневшие Женины глаза, он понял, что это правда, и что–то шевельнулось в его душе, робкое, задавленное, еще вчера казавшееся невозможным, несбыточным, и он почувствовал, что задыхается.
— Не в этом дело, Женечка. Ты не поймешь, слишком долго объяснять. Я такой, какой есть, и уже другим не стану. Просто я не ожидал этого и немного растерялся. Но это действительно прекрасная новость. Правда, я не сойду от нее с ума, мне еще надо к ней привыкнуть, но награды она заслуживает. Вот что… Я завтра же прикажу Аксючицу переоформить квартиру на твое имя. Дам денег — тебе теперь нужно хорошо питаться и следить за собой. Ты же знаешь, достаточно поскользнуться, грохнуться — и всякое может быть… И давай договоримся: с сегодняшнего дня — ни одной сигареты, ни грамма спиртного. Малышу это вредно. Узнаю — прибью.
— Я уже давно не курю. И не пью. Ты даже не заметил…
— Очень хорошо. А сейчас поехали на дачу. Нужно это событие отметить. Тебе нельзя, но мне–то рюмочку можно. С утра маковой росинки во рту не было.
Пашкевич оделся, замкнул кабинет, кивнул в коридоре уборщице, которая возилась с пылесосом, и они вышли на улицу. Он глубоко вдохнул свежий морозный воздух и невольно схватил Женю за руку, чтобы не упасть.
— Что с тобой, папуля? — испугалась она.
— Ничего, все в порядке. — Он потер виски, обретая устойчивость, но улица все еще раскачивалась перед его глазами, с прохожими, фонарями вдоль тротуара и автомобилями. Наконец все стало на свои места.
— Ты очень много работаешь, Андрюша, так нельзя. Уж я позабочусь, чтобы ты так не надрывался.
Пашкевич улыбнулся — она уже готова о нем позаботиться. Вот сучья порода! Дай палец, откусит руку. Но одернуть ее почему–то не захотелось.
— Ты все сказала? Тогда поехали.
Нет, Женя сказала ему далеко не все, о главном умолчала. А главное заключалось в том, что врачи, исследовавшие ее, посоветовали Жене немедленно избавиться от этого ребенка. Они обнаружили, что у него что–то там неладное с хромосомами, что он родится с болезнью Дауна. Ей рассказали и даже показали маленький фильм о том, какая это страшная, неизлечимая болезнь. Этот фильм привел бы любую будущую мать в ужас; она сто раз подумала бы, стоит ли обрекать и его, и себя на такие муки. Женя не колебалась и секунды. Она тут же сообразила: больного сына Пашкевич никогда не бросит. Несчастный ублюдок куда быстрее, чем здоровый малыш, заставит его развестись с Ларисой и жениться на ней. Кто знает, от кого он унаследовал эти поломанные хромосомы, в ее роду не было ни паралитиков, ни слабоумных дебилов, может, от Андрея Ивановича эта ниточка тянется? А чувство вины — штука страшная. За больным ребенком найдется кому ухаживать, а потом его можно определить в какой–нибудь санаторий, где за хорошие деньги за такими детьми присматривают пожизненно. Во всяком случае он не помешает ей жить в свое удовольствие. Нужно только притворяться, а притворяться она умеет.
Нет, не так глупа была Женя — Женечка, как это Пашкевичу казалось.
Глава 20
Женя рассказывала что–то веселое, то и дело взрываясь заливистым смехом; она вообще была хохотушка, и Пашкевичу это нравилось; но теперь он ее не слышал — внимательно следил за дорогой. «Господи помилуй, — думал он, — неужели у меня и вправду будет сын? Мне сорок восемь, через двадцать лет я еще буду вполне нормальным мужиком. А мальчишка станет взрослым, самостоятельным человеком. Похожим на меня не только лицом или там глазами, но и характером, волей, трудолюбием. Я дам ему блестящее образование, научу всему, что знаю и умею сам, и он продолжит мое дело. Что ждет «Афродиту» после моей смерти? Крах, распродажа. Мне ведь даже оставить то, что я нажил, некому. Ларисе, чтобы она промотала со своим хахалем? Когда–то я расшвыривал деньги, чтобы потешить гордыню, что было, то было, но на себя я всегда тратил копейки. Меня никогда не привлекали роскошные отели и рестораны, Багамские или еще какие–то там острова; пять раз побывав в Америке, я ни разу не съездил во Флориду или в Лас — Вегас, не заглянул ни в один музей. Я ездил туда не отдыхать и развлекаться — работать, а отдыхал на Нарочи или в Озерище — с удочкой и спиннингом, с кошелкой для грибов, с банькой и крынкой парного молока. Моя жизнь, моя работа давно потеряли смысл, я этого не осознавал, но чувствовал — шкурой, подсознанием. Именно потому, что остался один. На тот свет с собой ничего не унесешь, как пришел в жизнь голеньким, так и уйдешь, разве что шикарный гроб купят и шикарные поминки закатят, но что тебе до этого?! Вместе со мной ушел бы весь мой мир — все, что я любил, создавал, пестовал, из–за чего рвал жилы — свои и чужие. А так он останется. И продлится в моем сыне. И неважно, кто будет его матерью — Лариса или эта кукла. Женя, похоже, и впрямь не так глупа, как кажется. Если я решу на ней жениться, всем придется с этим смириться, как смирились с женитьбой Некрашевича».
Дача и подъезд к ней были ярко освещены — сторож Михалыч ждал хозяина.
Жадно хватая пересохшими, потрескавшимися от внутреннего жара губами сладкий морозный воздух, Пашкевич остановился на высоком крыльце. Вдоль дорожки громоздились высокие сугробы, в безжизненном свете фонарей снег казался не белым, а синеватым, черные тени от берез, сосен и елей вычерчивали на нем сложные геометрические узоры. Небо было чистым и звездным, среди звезд медленно плыла утлая лодочка молодого месяца. Слабый ветерок осыпал с елей снег, обледеневшие ветки берез тихонько позванивали. Похоже, к утру мороз усилится.
Пашкевич запрокинул голову, нашел на привычном месте ковш Большой Медведицы, в который цедился слабый лунный свет, и долго вглядывался в мерцающие звезды, ощущая странную слабость во всем теле. Не хотелось ни бани с ее духмяным паром, ни Жени с ее юными прелестями, ни пить, ни есть. Стоять, задрав голову, погружаясь, как в обморочный сон, в тишину, смотреть на мерцающие в темно–фиолетовом небе звезды и ни о чем не думать. Какая–то жилка напряженно дрожала в нем, словно озноб, но это не было ознобом, наоборот, ему было жарко, душно, хотя он так и не застегнул пальто и не надел шапку.
Наконец Пашкевич прошел в баню. В комнате отдыха горел камин, на столе тихонько сипел электрический самовар, стояли тарелки с тонко нарезанной розоватой семгой, ветчиной и копченой колбасой, свежими помидорами и огурцами. Среди бутылок с чешским пивом серебрилась горка воблы.
— Может, сначала перекусим? — предложила Женя. — Хоть чуть–чуть. Я страсть какая прожорливая стала в последнее время.
— Давай, — согласился Пашкевич, хотя при виде расставленной на столе еды его снова замутило. — Только помни уговор: не пить ничего, кроме чая.
— А пиво можно? — жалобно спросила Женя.
— Забудь, — жестко ответил он. — Открой колу или минеральную.
Он плеснул себе в бокал коньяка, налил Жене шипящей кока–колы.
— Будь здорова! Теперь это самое главное. Будешь здорова ты, будет здоров и малыш.
Женя с жадностью набросилась на еду. А Пашкевич взял свой бокал и сел в качалку перед камином, в котором угорались толстые поленья. Березовый жар обдал его. Он отпил из бокала глоток, почувствовал, как коньяк ожег пустой желудок, покалывающим теплом разлился по телу. До родов пять месяцев. За это время нужно будет принять решение. Может, самое важное в жизни. Ну, что ж, он никогда не боялся принимать решения. В сущности, это будет просто. Показать Ларисе пленку из сейфа. Она достаточно умна и горда, чтобы все понять.
Он скосил глаза на Женю, с аппетитом уплетавшую все подряд, и впервые подумал о ней как о возможной жене. А вообще–то ничего страшного. Юная, красивая, правда, немного вульгарная, но это пройдет. Он выдрессирует ее. Никакой светской жизни, никаких приемов, никаких хахалей… Ребенок, семья, безусловное подчинение. Каждому его слову, взгляду, жесту. То, чего он даже не пытался добиться от Ларисы: понимал — не выйдет, не тот характер. И все–таки мысль о том, что с Ларисой, вероятно, придется расстаться, что Женя, эта хитрая стерва, подловила–таки его на крючок, заставляла Пашкевича страдальчески морщиться, щурясь на огонь.
— А ты почему ничего не ешь? — Женя с куском холодной курицы забралась к нему на колени. — Тебе сегодня надо быть сильным. Знаешь, как я по тебе соскучилась! Ну–ка открой рот.
Она запихнула ему в рот кусок белого мяса. Пашкевич пожевал, с усилием проглотил. И тут у него из носа хлынула кровь.
Женя сдавленно вскрикнула и соскочила с его колен.
— Что с тобой, папуля?!
— Полотенце! — прохрипел он, запрокинув голову и зажимая нос окровавленными пальцами. — Быстрее!
Побледневшая от страха Женя принесла полотенце.
Кровь пошла в горло, Пашкевич чувствовал ее солоноватый привкус.
— Намочи в холодной воде, дура! Не стой, как истукан. Михалыча позови, Агафью. Пусть снега, льда…
Женя пулей вылетела в коридор. Набросив шубку на плечи, помчалась за сторожем. Пашкевич прижал мокрое полотенце к лицу.
Прибежали встревоженные Михалыч и Агафья, принесли в тазике куски льда. Агафья набила им круглый резиновый пузырь с широким горлом. Сняли с Пашкевича запачканные кровью пиджак и рубашку, осторожно уложили на топчан, укрыли до подбородка пушистым пледом. Агафья влажным полотенцем вытерла ему лицо и руки, приложила к переносице холодный пузырь.
Кровь тоненькими ручейками стекала с уголков рта. Женя забилась в кресло и плакала, жалобно всхлипывая. Агафья бросила ей чистое мокрое полотенце, она вытерлась, принялась оттирать пятна на платье. Платье было безнадежно испорчено. Женя вышла и все сбросила с себя, вернулась в банном халате. В ее больших синих глазах бился страх. А вдруг он откинет коньки, вот будет фокус! Придется просить, чтобы устроили преждевременные роды, без Пашкевича ей беременность и на фиг не нужна. Хоть бы успел квартиру на нее переписать! Давно просила, так ведь нет, жадоба несчастная… Пока за горло не взяла, все шуточками отделывался. «Завтра дам команду Аксючицу…» Господи, дай ему дожить хотя бы до завтра, иначе снова общежитие, да и то если повезет, если есть места, а иначе — частная комнатенка, пока не подкатится еще какой–нибудь старый боров. Сколько кровищи натекло — ужас! А если бы все это случилось попозже, в постели?..
Пашкевич видел Женю краем глаза и отчетливо понимал, о чем она думает — все отражалось на ее испуганном, опухшем от слез лице. А ты чего ждал, угрюмо усмехнулся он. Конечно, она прежде всего думает о себе, боится за себя. Аборт уже делать поздно, веселенькая перспектива — остаться с байстрюком на руках без копейки. Не дай Бог, со мной что–то случится прямо сейчас, в эту ночь, Аксючиц ее завтра же вышвырнет из квартиры. Да нет, глупости, ничего со мной не случится. Просто лопнул какой–то сосудик от перенапряжения — слишком много работаю. Но это — хороший урок. Надо завтра же связаться с Тарлецким и сделать необходимые распоряжения. Плевать на Женечку, но она носит моего ребенка. А я не могу допустить, чтобы мой сын рос нищим и заброшенным. Если что — Тарлецкий станет его опекуном. Бред, конечно, но все нужно предусмотреть. И все–таки откуда столько крови? Бывало, в детстве расквасишь нос, через минуту–другую все проходит. Что это — первый звоночек? Сорок восемь… Как говорят врачи, опасный возраст.
От холода лицо словно одеревенело, больно было пошевелить губами, но кровь вроде остановилась. Пашкевич осторожно повернул голову, сплюнул сгустки.
— Слава Богу, унялась, — подтвердила и Агафья, приподняв его голову. Вылила из пузыря воду, добавила льда. — Подержите еще чуток на всякий случай. Париться вам сегодня — ни–ни. Полежите часок, а потом мы вас в спальню перенесем.
— Мне и здесь хорошо, — ответил он. — Отведите Женю в спальню, ей отдохнуть надо. А мне принесите еще одно одеяло, что–то меня познабливает.
— Никуда я не пойду! — вскинулась Женя. — Я буду с тобой и сама все сделаю.
Она принесла из спальни шерстяное одеяло, набросила его поверх пледа и заботливо подоткнула края.
— Тогда мы пойдем. Но в случае чего, — повернулась к Жене, — зови нас.
— Спасибо, — сказал Пашкевич. — Не беспокойтесь, все нормально. Отлежусь, к утру буду как огурчик.
Глава 21
После работы Григорий поехал проведать Шевчука. Днем он рассказал ему по телефону о разносе, который устроил редакции Пашкевич, но разговор был коротким; за соседним столом, делая вид, что поглощена работой, Екатерина Прокопьевна Веремейчик внимательно прислушивалась к каждому его слову. Григорий знал, что уже завтра об этом разговоре будет доложено наверх.
Открыл ему Алеша, рыжий и долговязый, как отец. Григорию нравился не по годам серьезный и любознательный паренек. Он знал, как переживает Шевчук за Веронику, радовался, что хоть с сыном у друга все в порядке, и немножко завидовал: родив Аленку, Татьяна больше и думать о детях не хотела. Аленка уже училась на четвертом курсе института иностранных языков; скандалы, которые пьяная жена закатывала ему, не стесняясь дочери, сделали ее раздражительной и грубой; Григорий был уверен, что в душе она презирает их обоих. Он любил свою дочь, это была одна из немногих ниточек, привязывавших его к Татьяне, и страдал, видя как Аленка все больше отдаляется от него.
Шевчук не выглядел больным. Он сидел за столом и читал оригинал–макет книги Троцкого о Сталине — в прошлом году они затеяли серию «Тираны», уже выпустили книги о Гитлере, Муссолини, Ленине, Мао Дзэдуне, Пол Поте, все они пользовались большой популярностью.
Григорий подробно рассказал о своей командировке в Москву, об утреннем разговоре с Пашкевичем.
— Давно я себя так мерзко не чувствовал, как в эту поездку. Никто не хочет разговаривать, смотрят, как на вора. Пираты, хапуги… Мы же его предупреждали: время меняется, надо что–то делать. В ответ одно: давай, давай! А теперь мы с тобой оказались козлами отпущения.
— А ты думал, что он признается в своей вине? Как бы не так! — Шевчук побарабанил пальцами по столу. — И когда же заклание?
— Через две недели. Он хочет собрать совет учредителей.
— Поближе к новому году. Любит устраивать людям подарки.
— Любит. Он… Он предложил мне продать тебя, Володя. Открытым текстом.
— Ничего удивительного, Андрей всегда действовал напролом. И сколько же по нынешнему курсу стоят тридцать сребренников?
— Тысяч пять с хвостиком, — пожал плечами Григорий. — Прогрессивка за ноябрь и дивиденды за четвертый квартал и по итогам года.
— Прилично… — задумчиво произнес Шевчук. — Ну, что ж, Гриша, раз он задумал меня выгнать — выгонит, большинство ему обеспечено. С тобой или без тебя. Ты нужен лишь для того, чтобы больнее унизить меня. Вот, мол, даже лучший друг тебя продал. Ну что ж, пойдем ему навстречу. Вали на меня все: Уокер, авторские права, бестселлеры… Но не сомневайся: следующий на вылет — ты. Для него это стратегическая линия — избавиться от учредителей. От тех, кто слишком хорошо знает его и его делишки и к тому же осмеливается иметь собственное мнение. Недавно мне позвонил Борис Ситников — он заставил его подать заявление. Бориса, который порвал сердце на этой проклятой работе, который, может, сделал для «Афродиты» больше, чем мы все вместе. Ничего святого — вот как это называется. Кстати, Андрей в курсе, что мы заказали переводы еще нескольких романов Энни Уокер? Люди ведь не виноваты, что его домработница…
— Я всех обзвонил и дал отбой. А что я следующий на вылет — не сомневаюсь. — Григорий снял очки, без них большие близорукие глаза его казались нагими и беззащитными. — Володя, я не Аника–воин. Я маленький человек. Приспособленец и трус. Да, да, не спорь, жалкий приспособленец и трус. Я всю жизнь приспосабливался к этому подлому строю, который не считал меня за человека только потому, что я еврей. Говядина второго сорта… Но я никогда не предавал своих друзей. Так что через две недели мы уйдем из «Афродиты» вместе. Да, да, вместе, не спорь. Не пропадем, сейчас каждый день открываются новые газеты, журналы, издательства. Где–нибудь да приткнемся. Правда, таких заработков уже не будет, но, как сказал классик, не в деньгах счастье.
Григорий замолчал, тяжело осунувшись в кресле. Наконец–то он почувствовал, как свалился с его души камень, и душа начала потихоньку расправляться, оживать. Он заложил руки за спину, чтобы Шевчук не увидел, как вздрагивают пальцы — давно обдуманное решение далось Григорию нелегко. Он понимал, что Татьяну оно приведет в бешенство, она уже привыкла к большим деньгам, даже их ей постоянно не хватало, что уж говорить о скромном окладе литсотрудника. Да и то, если удастся устроиться. Ему уже за пятьдесят, не самый подходящий возраст, чтобы искать новую работу. Всюду требуются молодые, энергичные, а он за пять лет в «Афродите» так вымотался, словно провел их в каменоломнях или на лесоповале. Семья, конечно, развалится, а впрочем, что это за семья?!. Больной брат — его семья, а вовсе не жена и не дочь.
Шевчук вышел и вскоре вернулся с бутылкой водки и тарелкой крупно нарезанной колбасы. Сдвинул со стола бумаги, расстелил газету, как когда–то в общежитии, поставил хлеб, банку шпротов, остывшие котлеты.
— Извини, Рита совсем плоха, не будем ее тревожить, пусть лежит. Она бы убила меня за такой прием, но мы как–нибудь обойдемся без китайских церемоний, правда?
— Я хочу зайти к ней, Володя.
— Конечно, зайдешь, поболтаешь, она будет рада. И не косись на бутылку, я ведь знаю, какой ты выпивоха. Но рюмку осилишь, ничего с тобой не случится. А мне просто необходимо выпить.
— Наливай, — согласился Григорий. — А знаешь, мне тоже хочется надраться. Никогда не хотелось, а сейчас хочется.
Они молча чокнулись, выпили, пожевали. Шевчук закурил.
— Я разочарую тебя, дружище, — сказал он, пуская к потолку сизые кольца дыма. — Я понимаю, как ты упиваешься своим благородством, но все это ни к чему. Во–первых, эти две недели… до совета учредителей… их еще надо прожить. Жизнь — штука странная, всякое может случиться. А во–вторых, если уж придется, уйду я один, ты пока останешься.
— Я тебя не понимаю, Володя. — У Григория снова запотели очки, он снял их и потряс головой; вид у него был растерянный и обиженный. — Что за игру ты затеял? Или ты на самом деле считаешь меня подонком? Тогда нам не о чем говорить.
— Сиди! — резко бросил Шевчук, заметив, что он встает. — Я знаю, что говорю и что делаю… Если он и впрямь выгонит меня, я создам собственное издательство, чего бы мне это не стоило. Даже если придется заложить квартиру и дачу. Вот тогда ты и уйдешь. Мы соберем свою команду и утрем ему нос. Но до этого… Какой смысл в том, что без дела будешь болтаться и ты? Понимаешь, мне очень важно, чтобы он не подписал этот идиотский приказ, не обобрал всех под праздник. Пусть отыграется на мне, но зато не пострадают люди. И ты в том числе. А он так и сделает, если поймет, что ты сломался. На моей совести и без того много гадостей, не хочу, чтобы говорили, что из–за меня еще раз пострадала вся редакция. Потерпи ради меня.
Григорий налил себе водки, выпил и закашлялся.
— Фу, какая гадость! Значит, вот какую роль ты уготовил мне? Громоотвода?
— Называй как хочешь. Громоотвод — это не так и плохо, он человеческие жизни спасает. А вообще–то Андрей с нами не церемонится, не понимаю, почему мы…
— Потому что мы — другие.
— Возможно. Но знаешь, когда началась эта история с коттеджами, я почувствовал себя такой же сволочью, как и он. Продажной и подлой, готовой на все ради жирного куска.
Прикончив бутылку, они пошли к Рите. В спальне было темно, сквозь стеклянную дверь не просвечивал ночник, который она обычно не выключала.
— Спит, — с облегчением сказал Шевчук, довольный, что можно оттянуть неприятный разговор. — Не будем ее тревожить, она очень тяжело засыпает.
Где–то после одиннадцати, когда была допита вторая бутылка, Григорий позвонил Татьяне, сказал заплетающимся языком, что заночует у Шевчуков, бросил трубку, чтобы не выслушивать ее причитаний, и вскоре, кое–как раздевшись, уснул на тахте.
Глава 22
К тому времени, когда Шевчук и Злотник подошли к спальне, и, потоптавшись возле закрытой двери, вернулись назад, Рита уже была там, где нет ни горя, ни печали. Нет, она еще не умерла, она еще жила, но рубеж, отделявший ее от небытия, был тоненьким и зыбким, как первый октябрьский ледок на закраинах озера. Жизнь вытекала из нее медленно, по каплям, как вытекает вода из неисправного крана, и никто на свете не знал, когда упадет, оборвется последняя капелька.
Слова Шевчука ударили ее в сердце с такой страшной силой, что она едва добрела до спальни. Отбросив костыль, рухнула на постель и беззвучно зарыдала, уткнувшись лицом в подушку и захлебываясь от слез. Все, что так долго копилось в ее истерзанной душе, прорвалось наружу с этими слезами, но облегчения они не принесли. Рита понимала, что слова эти вызваны отчаянием; конечно же, Володя горько сожалеет, что не сдержался, но он не смел, не должен был этого говорить. Ни при каких обстоятельствах. Слишком уж это жестоко, не по–человечески. И в то же время она ощущала, не могла не ощущать, что вырвались они не случайно, что в них заключена страшная правда, которая медленно, как злокачественная опухоль, вызревала в нем все два года ее болезни. За эти два года она стала противна и ненавистна сама себе, стоило ли удивляться его прорвавшейся ненависти?!
В голове уже не шумело и не попискивало, в голове гремели церковные колокола, и их протяжный глухой звон сводил с ума. Рита понимала: они предвещают приближение второго удара, которого больше всего опасались врачи. Вот так же мучительно у нее болел затылок и гремело в голове перед первым. Второй удар мог убить ее быстро и безжалостно, а мог превратить в живой труп, в мумию, полностью отнять речь и навсегда приковать к постели. Навсегда — на сколько? На месяц, на год, на пять лет? Рита знала: при хорошем сердце — возможно, и больше, кое у кого это затягивается на целую вечность, а у нее было хорошее сердце. И если Володя уже сейчас ждет ее смерти, что же будет, когда она начнет ходить под себя, заживо разлагаться, гнить в своей постели, беспомощная, как грудной младенец?.. Когда сама станет в душе молить Бога о смерти, как об избавлении, а смерть, словно в насмешку, будет забирать молодых и здоровых, тщательно обходя их дом?
В ней уже давно пропала уверенность в себе, в своих силах, все стало безразличным и ненужным. Заставляла жить, цепляться за жизнь только надежда, что однажды Володя помирится с Никой. Сегодня эта надежда умерла, а с нею умерло все, ради чего она мучилась и страдала.
Вплоть до нелепой беременности Ники, с которой начались все их неприятности, Рита считала себя счастливой. Хороший муж, хорошие дети, хорошая работа… Постепенно в семью пришел достаток, особенно когда Шевчук стал работать в «Афродите». Что еще нужно? Ника задала им жару, Ника… Как и Володя, Рита больше всего переживала за нее — не свихнулась бы, не пошла по рукам… Господи, десятки ее подружек, прекрасных девочек из хороших семей стали за эти годы расхожим товаром! Не свихнулась… Как и многие, Рита не понимала, каким образом Нике удалось женить на себе Некрашевича, но когда это свершилось, и особенно когда Ника сказала, что ждет ребенка, — а она все годы боялась, будут ли у Ники после аборта дети, — поверила: все у нее будет в порядке. Она успокоилась, а Володя — нет. Сколько же зла скопилось в его сердце, как он будет с этим злом жить?!
В голове, разрывая ее, кроша кости черепа, звонили колокола. Рита подумала о будущем внуке или внучке. Как ей хотелось дождаться, увидеть маленького! Конечно, бабушка она никакая, ложку в руках не удержит, кто бы это доверил ей младенца, но прикоснуться к нему губами, заглянуть в пуговки–глазки — какое счастье!
Не дано. Ушел поезд, ушел…
Внезапно Рита почувствовала, что у нее деревенеют ноги. Попыталась пошевелить пальцами и не поняла, шевелятся они или нет. Сунула руку под одеяло, ущипнула себя за икру, но ничего не ощутила. С ужасом поняла — пора. Иначе можно опоздать. Превозмогая боль во всем теле, свесилась, чтобы достать из прикроватной тумбочки флакон, куда чуть ли не год ссыпала снотворные таблетки — горсть таблеток должна была помочь ей тихо и незаметно уйти из жизни, и в это мгновение словно граната взорвалась у нее в голове. Рой слепящих огней закружился перед глазами, всасывая ее в бездонную воронку, затем какая–то страшная сила изогнула, приподняла ее и отбросила назад, на кровать. Падая, Рита задела рукой провод ночника. Лампа упала на пол и разбилась, погрузив спальню в темноту.
Глава 23
Спал Пашкевич недолго, но проснулся с ощущением, что выспался, как уже давно не удавалось. Сильное тренированное тело было снова послушно ему, нигде ничего не ломило, не болело, не саднило. Это было так хорошо, что он засмеялся от неожиданной радости.
За окном тускло серел снег. Дрова в камине уже прогорели, но из жерла его все еще сочилось тепло. Женя так и не ушла в спальню, сладко спала в кресле, закутавшись в одеяло. Лицо у нее было розовое и нежное, как у младенца, над верхней губой чуть приметно золотился легкий пушок. Пашкевич почувствовал, что у него туманятся глаза и перехватывает горло. Никогда она не вызывала в нем такого умиления — шлюха и шлюха, иначе он о ней и не думал, но сейчас почему–то привычное словечко показалось гадким. Как зерно, брошенное в прогретую солнцем почву и готовое пробиться зеленым ростком, в нем набухало, рвалось наружу иное чувство, удивлявшее его самого своей необычностью и остротой. Неужели и впрямь скоро эта девчонка станет матерью его сына, наполнит его жизнь смыслом, сделает его по–настоящему счастливым? Пашкевич все еще никак не мог в это поверить.
Он умылся, нашел в комоде свежую рубашку, галстук. Разбудил Женю.
— Как ты, папочка? — сладко потянувшись, спросила она. — Ох и напугал ты меня вчера! Подай, пожалуйста, платье, я оденусь.
Пока они собирались, рассвело. Михалыч уже прогрел машину, она сыто урчала у крыльца. Из–за леса выкатилось редкое для конца ноября блеклое солнце. По вымороженному небу плыли клочья белых облаков. Ели под снегом стояли словно засахаренные. Пашкевич попрощался со стариками и сел за руль.
Он уже подъезжал к кольцевой, когда запищал сотовый телефон. Звонил Виктор.
— Андрей Иванович, — поздоровавшись, сказал он, — у меня новость. К сожалению, плохая.
— Говори, не тяни душу, — Пашкевич на всякий случай сбросил скорость.
— На старом складе прорвало батарею парового отопления. Хлестало, видимо, всю ночь, воды было по колено. Погибли тысячи книг.
— А сторож? Где черти носили сторожа?
— Спал пьяный в подсобке. Я уже привез сантехников, отопление отключили, батарею ремонтируют. Аксючиц собрал людей, там сейчас половина издательства. Разбираются. Были бы стеллажи, а то все на полу. А пол бетонный, куда воде и пару деваться… Даже если высушить и прогладить, это ничего не даст. Пленка на обложках отслоилась, листы набухли. Только на макулатуру.
— Дела… — сквозь зубы процедил Пашкевич. — Ты его на гору, а черт тебя за ногу. Тихоня там?
— Да, подсчитывает убытки.
— Она мне этого алкаша сосватала. Я с нее шкуру спущу. — Виктор дипломатично промолчал. — Ладно, я заскочу домой переодеться и поеду в издательство. Надо срочно подписать банковские документы. Если что, звони.
— Договорились, — ответил Виктор и отключился.
Время, когда Пашкевич чуть ли не молился на своего главбуха, давно прошло. Она слишком много знала о нем и его делах, и это раздражало и беспокоило. В издательстве она незаметно забирала все большую власть, без ее участия и согласия не решался ни один мало–мальски серьезный вопрос. Пашкевич давно заметил, что слишком часто последнее слово остается не за ним, а за ней. Исподволь, постепенно она словно опутывала его по рукам и ногам липкой паутиной; вначале невесомые, невидимые, путы эти стали действовать ему на нервы. Он не терпел соперничества: в бизнесе, как и в доме не должно быть двух хозяев, а Лидия Николаевна явно ощущала себя в «Афродите» хозяйкой. На людях она не показывала этого, была с ним сдержанна и почтительна, как и подобает человеку подчиненному, но на самом деле поступала так, как считала нужным, даже для приличия не интересуясь его мнением.
Он понимал, что большей частью своих денег обязан ее ловкости и находчивости, умению держать язык за зубами. Не дай Бог, случись серьезный прокол, не продаст, хотя лишнего на себя, конечно, не возьмет. Однако она становилась неуправляемой, а примириться с этим Пашкевич не мог. Это по ее настоянию зарплату в издательстве платили не два, как везде, а раз в месяц, постоянно задерживая едва ли не до конца следующего месяца, хотя никакой надобности в этом не было. Люди жаловались, возмущались, ему приходилось оправдываться, а она прокручивала огромные суммы в коммерческих банках, оставляя изрядную часть прибыли себе. Она выставила его на посмешище, не дав Тамаре Мельник денег на эти проклятые новогодние заказы, потому что имела на нее зуб, и вот Тамары нет, а дела в торговом отделе после ее ухода идут из рук вон плохо. Тамара не допустила бы, чтобы два тиража загнали на склад, при ней оптовики вывозили большую часть книг прямо из полиграфкомбината.
Пашкевич осторожно вел машину по обледеневшей, еще не разбитой грузовиками дороге. Хорошее настроение, с которым он проснулся, пропало. Запершило в горле, снова подступила тошнота. Надо вечером прозвонить профессору Эскиной, пусть посмотрит, что ли? Вот уж правду говорят: беда одна не ходит.
Он подвез Женю, дал денег, велел к концу дня позвонить Аксючицу, продиктовать паспортные данные, чтобы тот подготовил купчую на квартиру. Затем заскочил домой. Лариса уже уехала на работу. Клавдия что–то стряпала на кухне. Услыхав радостный лай Барса, выглянула в прихожую, поздоровалась. Он кивнул, сказал, чтобы отнесла в химчистку костюм, на котором темнели так и не отмытые Агафьей пятна. Принял душ, переоделся. Прошел в кабинет, перемотал отснятую кассету, включил видеомагнитофон. Угрюмо просмотрел знакомый по прежним пленкам сюжет — ничего нового. С удивлением поймал себя на мысли, что не испытывает прежней жгучей боли. Сердце билось ровно и спокойно, словно на экране занимались любовью не жена, в которой он еще совсем недавно не чаял души, и ее хахаль, а чужие люди. Даже любопытства не вызвало, нагляделся. Выключил видеомагнитофон, убрал кассету в сейф. Новую не поставил. Зачем, если отснятые уже некуда девать.
Едва Пашкевич приехал в издательство, как со склада вернулся Аксючиц. Александр Александрович выглядел усталым и расстроенным.
— Много погибло?
— Много, — вздохнул Аксючиц, но не сожаление, а плохо скрываемое злорадство светилось в его глазах. — Но дело не в этом. Я воробей стреляный, Андрей Иванович, боюсь, что потоп произошел не случайно. Конечно, на глазок утверждать трудно, но я не сомневаюсь, что при ревизии там вскроется крупная недостача. Чтобы покрыть ее, все это и устроено. Там вода так хлестала, покойник проснулся бы. Воровство это, Андрей Иванович, а прорванная батарея — старый фокус. Как говорится, все концы в воду. Думаю, замешаны в этом деле не только сторож, но и милейшая наша Лидия Николаевна. Не зря она так торопится испорченные книги сегодня же вывезти в макулатуру. Припишет пару–тройку тысяч — кто ее проверит?!
Пашкевич набрал номер сотового телефона Тихони.
— Как вы там?
— Перебираем, проветриваем, сушим. Подсчитываем убытки. Жалко, конечно, но как–то переживем, что ж поделаешь. Бывает… Надо поскорее строить собственные склады; если бы Аксючиц не спал в шапку, а крутился, мы бы уже давно из этого подвала переехали.
— Вот что, — сказал Пашкевич, — подмокшие книги в макулатуру не сдавать. Ни в коем случае. Сложите все в отдельный штабель, я сегодня же назначу ревизию склада. Сторожа уволим, зарплату и прогрессивку удержим в счет погашения убытков. Если обнаружится недостача, обратимся в милицию, пусть разбираются.
— Дело хозяйское, — ответила Тихоня, — Вы у себя? Я скоро приеду.
Он захлопнул крышечку телефона, посмотрел на Аксючица. Уловил в его напряженном взгляде одобрение. Спокойный голос Лидии Николаевны не обманул Пашкевича. У Аксючица глаз — алмаз, он явно следил за этим складом, чтобы уесть Тихоню, рассчитаться с ней за племянницу, напраслину возводить не стал бы. Какое все–таки сладкое чувство — месть. Старик вроде бы даже помолодел от удовольствия.
— Поезжай в Дражню, пошевели этих обормотов–строителей, — сказал Пашкевич. — Тихоня права: надо поскорее заканчивать новый склад и убираться из чужих подвалов. Вернешься оттуда, подберешь два–три человека, возьмешь в бухгалтерии документы и приступай к ревизии. Пересчитайте все книги до единого экземпляра. Если обнаружится недостача… — он сжал кулаки. — Ладно, потом посмотрим. Сторожа выгони, попроси временно подежурить кладовщицу, кого–нибудь найдем. Да, кстати, — остановил он уже вставшего Аксючица, — вот еще какое дело, Александр Александрович. Нашу квартиру в Садовом переулке… Переоформи ее на Евгению Николаевну Белявскую. Ну, на Женю, ты же знаешь. Сделай, пожалуйста, побыстрее, деньги в бухгалтерию я внесу.
Аксючиц ушел. Пашкевич отодвинул папку с документами и откинулся в кресле. Вернулась вчерашняя слабость, вялость. Ломило суставы, сохло во рту. Язык распух и стал словно деревянный Он принес из холодильника бутылку минеральной воды, с жадностью выпил целый стакан. Вроде отпустило. Почему–то все стало безразлично, — да ну вас всех к бесу! Единственное, что не давало покоя, — Тихоня. Лучшего повода расстаться с нею не придумаешь, особенно если Аксючиц прав и она замешана в воровстве. Вряд ли сторож делился с ней, хватает у нее денег, но то, что она покрывала его, что они сговорились устроить этот потоп, — очевидно.
Через какое–то время первого этажа донесся резкий голос — похоже, Лидия Николаевна распекала кого–то из сотрудников. Затем на лестнице послышались ее шаги — тяжелые, уверенные, громкий стук в дверь.
— Входите, — сказал Пашкевич.
Лидия Николаевна размашисто пересекла кабинет, не дожидаясь приглашения, села в кресло напротив. Вид у нее был воинственный, губы поджаты в тонкую ниточку, на скулах горели красные пятна.
— Значит так, Андрей Иванович, произошел несчастный случай, и нам всем придется с этим примириться. Хотите вы или нет, а испорченные книги в ближайшие дни вывезут в макулатуру, держать их на складе нечего, там и так не повернуться. Никакой ревизии не будет, и уж тем более — никакой милиции. И скажите этому старому кретину Аксючицу, чтобы не лез не в свои дела, иначе я ему шею сверну.
Пашкевич смотрел на нее с немым изумлением, чувствуя, как его переполняет глухая ярость.
— Ты что, спятила? — наконец, с трудом сдерживаясь, произнес он. — Ты как со мной разговариваешь, дрянь этакая!? Забыла, кто ты, а кто я? Ну так я тебе это быстро напомню. Можешь убираться вместе со своим ворюгой сторожем на все четыре стороны, дурища несчастная!
Тихоня встала, перегнулась, опершись растопыренными пальцами на столешницу, через стол и впилась своими глазами ему в глаза. Взгляд у нее был острый и холодный, как у змеи, у Пашкевича мурашки по спине пробежали от этого тяжелого ненавидящего взгляда.
— Это ты забыл, кто я, ты, вонючий козел! — негромко, чеканя каждое слово, произнесла она. — Если ты еще хоть раз откроешь на меня пасть, я тебя с дерьмом смешаю и по стене разотру. Понял? Деловой… И никакие телохранители тебе не помогут, хоть десяток найми. Это я… я тебя сделала богатым и независимым. Я пять лет по лезвию бритвы ходила, чтобы набить твои карманы и твои счета, надежно запрятать их, ты для этого даже пальцем не пошевелил. Да, я пригрела этого придурка сторожа, да, он загнал налево пару тысяч книг, скотина, а потом, не посоветовавшись со мной, устроил наводнение, хотя, скажи он мне, я этого никогда не допустила бы. Я ему обязана жизнью, понимаешь? Жизнью… А такое не забывается. То, что он украл, я покрою, остальное спишем, не разоримся. Воровать больше не будет, не сомневайся, я уже с ним поговорила. Деваться ему пока некуда, так что на работе он останется. Объявишь выговор, удержим зарплату…
— Ах ты, дрянь! — взорвался Пашкевич. — Не зря Аксючиц сказал, что ты в этом замешана! Так ты мне еще и угрожать осмеливаешься?!
— Не угрожаю — предупреждаю. — Лидия Николаевна опустилась в кресло, сложила на коленях руки. — Я уже нахлебалась лагерной баланды от пуза, мне ничего не страшно. А вот ты поваляешься возле параши, покормишь вшей — враз поумнеешь. И не вздумай поручить Виктору или еще какому–нибудь отморозку замочить меня, у меня все наши делишки на дискете записаны, и дискетка у надежных людей спрятана. Если с моей головы хоть волос упадет, тебе крышка. Ты меня любить должен, пылинки с меня сдувать, а не всякие дурацкие ревизии назначать. Хватает у меня проверяльщиков и без Аксючица. Усек?
Пашкевич закрыл глаза. Откуда–то из небытия выплыла набитая потными от духоты людьми, как бочка селедкой, камера следственного изолятора, в которой он дожидался суда, и тошнотворная вонь параши, и чугунная жесткость трехъярусных нар, и отвратительный вкус баланды из квашеной капусты, и белые жирные вши, которых его сосед с треском давил ногтями, и чувство отчаяния — все кончилось! Хорошо, что эта гадина ничего не знает о его прошлом. Ему–то казалось, что оно навсегда ушло из его жизни, как дурной сон, но, оказывается, ничто не уходит бесследно, все таится в каких–то неведомых уголках души, чтобы однажды воскреснуть и крутым кипятком плеснуть в лицо.
Пашкевич почувствовал, что его так и подмывает вскочить и ударить Тихоню. Но усилием воли он заставил себя остаться в кресле. В погоне за деньгами он сам дал этой сволочи неограниченную власть, и она была бы последней дурой, если бы не воспользовалась ею в собственных интересах. Но ведь он никогда не считал Тихоню дурой. Ясно, она готова на все, лишь бы прикрыть своего дружка: долг платежом красен. Нужно отступить. С Тихоней и ее дискетой в ближайшее время придется что–то сделать, нельзя жить на минном поле, но что и как — следует обдумать спокойно и тщательно, любой поспешный, неверный шаг может обернуться бедой. Судя по всему, эта падаль действительно ни перед чем не остановится.
Скрепя сердце, Пашкевич попытался все обратить в шутку.
— Чего ты развоевалась, как пьяная баба на базаре! Ну, случилось и случилось, могла объяснить все по–человечески, без угроз и оскорблений. — Он встал из–за стола, с трудом пересиливая отвращение, взял ее за руку. — Не надо, Лида. Я не сахар, но и ты не мед. Да, ты работала на меня, но и о себе, уверен, не забывала. Между нами только одна разница: ты мои счета знаешь, а я твои нет. Но что они есть и осело на них немало — не сомневаюсь. Начнут копаться в моих, доберутся и до твоих. Ладно, давай не будем становиться друг другу на горло. Мы с тобой в одной лодке, не надо ее раскачивать, тонуть никому не хочется, ни мне, ни тебе.
— Вы правы, Андрей Иванович, — Лидия Николаевна наклонила голову, чтобы не смотреть ему в глаза. — Не беспокойтесь, больше такое не повторится. С вашего разрешения я вернусь туда и все улажу.
Когда за Тихоней закрылась дверь, Пашкевич яростно ударил кулаком по столу и злобно выматерился. «Сука, — давясь слюной, шептал он, — паршивая грязная сука… Ты у меня еще попляшешь…»
Глава 24
В подвале было парно и душно, как в бане. Вытяжки не работали, дверь не откроешь — холодный морозный воздух погубит то, что пощадила вода. Сантехники заменяли неисправную батарею. Женщины тряпками собирали с пола воду в ведра. Вскоре привезли и включили вентиляторы, стало легче. В проходах между стеллажами настелили доски. На них укладывали уцелевшие пачки книг из верхних рядов; книги намокшие, разбухшие, с отслоившимся, сморщенным целлофаном на обложках раскладывали на просушку. Весь этот разор людей, работавших на складе, не волновал — ни доходы, ни убытки издательства на зарплате сотрудников уже давно никак не сказывались. А чужое — не свое.
От сырого затхлого воздуха Григория замутило. Он зашел в подсобку, жадно попил ледяной воды. До конца дня он перебирал со всеми намокшие книги. Устал, как собака, по дороге домой задремал в автобусе. Чуть не проспал свою остановку.
Дома стоял дым коромыслом. Отмечали день рождения Аленкиного жениха, капитана–ракетчика Саши Новосельцева — Григорий умудрился начисто забыть об этом событии, хорошо хоть, заранее подарок купил. Саша привел двух своих друзей–военных, Аленка пригласила институтских подружек. Было весело и шумно.
Григорий для приличия посидел с часок за столом и ушел к себе работать. Татьяна, как это все чаще случалось с ней в последнее время, быстро упилась; сквозь закрытую дверь Григорий слышал ее резкий пронзительный голос, неестественно громкий смех. Молодежь пела, танцевала под магнитофон, к одиннадцати все разошлись.
Аленка пошла провожать гостей. Татьяна подергала ручку его двери, которую он предусмотрительно закрыл на ключ.
— Открой!
— Ступай спать, — попросил Григорий. — У меня очень много работы и нет никакого желания выяснять наши отношения.
— А у меня есть! — крикнула она и забарабанила в дверь. — Сейчас же открой, иначе я выбью твою проклятую дверь!
Он не ответил.
Минут двадцать она бесновалась за замкнутой дверью, потом стало тихо. Почему–то остро запахло бензином. Григорий оторвал голову от рукописи и увидел, как из–под двери по полу растекается темная лужица. Через мгновение она вспыхнула белым пламенем.
— Теперь ты откроешь, сволочь, или сгоришь заживо в своей конуре! — с ликованием крикнула Татьяна.
Он схватил одеяло и, обжигая руки, сбил огонь. Высадил обгоревшую дверь. Татьяна швырнула в него пустую бутылку из–под бензина. Григорий увернулся. Зазвенело разбитое стекло — бутылка угодила в книжную полку. Татьяна истерически смеялась, глаза у нее были пустые, как у Зямы, когда ему всюду мерещились крысы.
«Допилась до белой горячки, дура!» — подумал он, схватил жену на руки, затащил в комнату и бросил на тахту. Навалился на нее всем телом, зажал рукой рот, чтобы соседи не сбежались на ее вопли, дождался, пока она перестала трепыхаться и уснула. Вытер кровь с расцарапанного ее ногтями лица. Царапины были глубокие, то–то бабы в издательстве почешут языки. Смазал волдыри от ожога на руках постным маслом. Скомкал обгоревшее одеяло, собрал осколки стекла от книжной полки, выбросил в мусоропровод.
Вернулась Аленка. С ужасом посмотрела на обгоревшую разбитую дверь, на черные пятна на полу, на его окровавленное лицо. Закашлялась от запаха еще не выветрившейся гари. Татьяна, как пьяный мужик, храпела на тахте, укрытая простыней.
— Господи, — сказала Аленка, заломив тонкие руки, — какое счастье, что скоро я от вас уйду! Хоть на край света, только бы вас не видеть.
Григорий угрюмо молчал. Он любил дочь и многое вытерпел из–за нее. Для чего? Чтобы услышать эти полные ненависти и презрения слова?
Она была красива, его девочка, от него она унаследовала смуглую кожу, жгучие черные глаза, пышные, цвета вороньего крыла, кудри, и невероятные для девчонки трудолюбие и усидчивость, от матери — стройную фигуру, высокую грудь и осиную талию; растолстела Татьяна после сорока, раньше была тоненькой, как хворостинка. Дочь никогда не вмешивалась в их скандалы, тут же молча уходила к себе, но Григорий видел, как тяжело ей все это дается. Чем старше она становилась, тем раздражительнее и нетерпимее, равнодушнее и холоднее. Но он даже не предполагал, как опротивел ей родительский дом, опостылела родительская любовь.
— Как ты живешь с этой стервой? — сказала Аленка. — Ты — умный интеллигентный человек, а она вздорная базарная баба. Как ты прожил с ней целую жизнь, папа? Ведь она не уважает тебя и не любит. Она спивается, неужели ты этого не видишь?
— Между прочим, эта стерва — твоя мать, — ответил он, прижимая к щеке окровавленный платок. — Она несчастная женщина, у нее в семье пили все: и дед, и бабка, и отец с матерью. Боюсь, что это наследственное. Конечно, с этим надо что–то делать, но что? В больницу она не пойдет, сама уже остановиться не сможет. А почему я с ней живу? Я сам себе задавал этот вопрос тысячу раз, но у меня нет однозначного ответа. Наверное, люблю. И она меня любит. Правда, от ее любви меня частенько поташнивает, но… И еще потому, наверное, что не хотел, чтобы ты росла сиротой, ты же знаешь — я люблю тебя.
— Ты мастак говорить, однако… Извини меня, папа, но ты — тряпка. Мягкая и бесхарактерная. О такую тряпку очень удобно вытирать ноги. Вот она и вытирает.
— К сожалению, и ты тоже, — с обидой ответил он, — хотя у тебя я этого уж точно не заслужил. Извини, Аленка, мне не хочется продолжать этот разговор. Я завтра вызову мастеров, к вечеру все отремонтируют и приведут в порядок. Не переживай, Саша ничего не заметит.
— Да при чем тут Саша? — она с горечью махнула рукой. — Мне за тебя больно.
Ничего не ответив, он ушел на кухню. Сварил чашку крепкого кофе, сел к подоконнику, уставленному горшками с геранью, ушел в себя, как улитка в раковину.
Глава 25
Несколько дней Пашкевич разбирал бумаги, накопившиеся за время его поездки в Америку. Договоры с переводчиками, художниками, внештатными редакторами и корректорами, поставщиками бумаги и переплетных материалов, счета из типографий, графики прохождения книг, отчеты о работе дочерних фирм, книжных магазинов и киосков, бухгалтерские отчеты о поступлении и расходовании денег, о всевозможных платежах — всюду нужен глаз да глаз. Он вдруг обнаружил, как выросли в последнее время счета за телефонные разговоры. Конечно, мелочь, но курочка по зернышку клюет… Надо с этим кончать. Никакой личной болтовни, пусть пользуются автоматами. Затребовать распечатку междугородних разговоров, наверняка найдутся любители пообщаться за счет фирмы с друзьями и родственниками в других городах, а то и за бугром. То–то будет сюрприз, когда Тихоня выставит этим говорунам счета. Вдобавок лишить премиальных, чтобы впредь неповадно было.
Он уже давно забыл о своем решении не сидеть целыми днями за столом, в обед ходить гулять в парк, в шесть возвращаться домой. Так можно работать только тогда, когда у тебя надежные помощники, а Пашкевич не доверял никому. Вот ведь ни Тихоня, ни Аксючиц не обратили внимания на телефонные счета, доверься им…
Разобравшись наконец с бумагами, он откинулся на спинку кресла. Вновь, как несколько дней назад, перед поездкой на дачу, навалилась странная слабость, сердце билось глухо, с перебоями. Постарел, что ли? Хотя, какая это старость… Скоро отцом станет. Смешно все–таки, в его возрасте люди становятся дедами. А может, и у него уже есть внук или внучка, кто знает. Если есть внук, он окажется старше сына.
Он рассеянно придвинул распечатку Анонима. Шевчук прав, сегодня публиковать эту гадость нельзя. Еще вчера было можно, а сегодня нельзя, какую бы прибыль это ни сулило. Газеты поднимут такой вой — не отмоешься. Раньше он смотрел на «Афродиту» лишь как на средство разбогатеть. Теперь, когда у него будет сын, наследник, относиться к фирме только как к насосу для выкачивания денег Пашкевич уже не мог. Издательство должно поменять и профиль, и облик, имидж, как сейчас говорят, стать солидной уважаемой фирмой. Прошлое с дрянными книжонками постепенно забудется, все знают, что в белых перчатках первоначальный капитал не накопить. Нет, сыну нужно оставить не только деньги, но и дело, настоящее дело, чтобы не рос богатым дебилом, прожигающим нажитое отцом, а стал продолжателем того, во что он вложил всю душу. Тогда, наверное, не так страшно будет умирать.
Спасаясь от внутреннего жара, он приоткрыл фрамугу. Остро потянуло холодком, ветер зашевелил волосы, дышать стало легче. Понемногу отпускала боль. Глядя на поток машин, медленно ползущих по узкой улице, Пашкевич думал о Шевчуке. Он уже знал, что у Риты случился второй инсульт и ее отвезли в больницу, может, именно поэтому Володя больше не вызывал в нем ни злобы, ни раздражения. Несчастный, в сущности, человек. «Может, пусть пока поработает? — подумал Пашкевич, чувствуя, как окунается в дрему. — Выгнать его я всегда успею. Жизнь поубавит в нем фанаберии, мечты о замке с рыцарской башней забудутся, нужен ему теперь этот замок, как рыбе зонтик. Конечно, незаменимых людей нет, но, если честно, без него «Афродита» как яйцо без соли. Просто надо не забывать время от времени накручивать им хвосты, и ему, и Грише, чтобы не слишком–то воображали о себе».
Слова расплывались, путались, за окном темнело, молчал телефон. Пашкевич вдруг почувствовал такое лютое одиночество, что ему захотелось заплакать. Но слез не было, только странная слабость и сонливость. Захотелось домой.
В машине он почувствовал себя совсем плохо. Мутилось сознание, перед светофором чуть не врезался в затормозивший впереди панелевоз. Бросил машину у подъезда, попросил охранника загнать на стоянку. Пошатываясь, словно пьяный, добрел до лифта, поднялся на свою площадку. Позвонил, чтобы не доставать ключи, и, как подкошенный, рухнул на коврик у двери.
Очнулся уже у себя в кабинете, на диване. Свежее накрахмаленное белье приятно холодило тело. Мягкий рассеянный свет торшера не слепил. Прямо над собой Пашкевич увидел бледное встревоженное лицо Ларисы.
— Слава Богу, — сказала она. — Я уже хотела вызвать «скорую». Что с тобой?
— Понятия не имею, — неуверенно пробормотал он. — Какая–то дурацкая слабость, тело словно ватное. Во вторник на даче кровь из носу хлынула, еле остановили, мутило последние дни. Сегодня знобит, понос, как будто чем–то отравился.
— А что, вполне мог и отравиться. Ты хоть раз за последнюю неделю пообедал по–человечески? Даже на час боишься свой проклятый кабинет оставить.
— А что делать, если мои помощнички за месяц, пока меня не было, все завалили. Вон батарею прорвало, тысячи книг погибли.
— Андрюша, милый, о чем ты говоришь?! У тебя на левой руке страшный кровоподтек и на бедре. Ты сорок минут без сознания пролежал, я чуть с ума не сошла от страха, что тебе эти книги?! Где ты так разбился?
— Не знаю, — он потрогал левую руку и почувствовал боль. — Наверное, когда на площадке грохнулся. Сроду со мной такого не бывало. Ерунда какая–то.
— Ничего себе ерунда! Я разыскала по телефону Эскину. Она в Борисове, на медицинской конференции. Я уже послала за ней Виктора, часам к десяти он ее привезет. Посмотрим, что она обо всем этом скажет. Ты играешь с огнем, я тебе не раз говорила. Просто ты привык слушать только самого себя, вот в чем беда. Если это переутомление, немедленно возьмешь отпуск. Если, не дай Бог, что–то серьезнее, полетим в Германию. Или в Америку. В хорошую клинику, там тебя быстро приведут в порядок. А потом — отдыхать. Долго…
— Завтра приедут полиграфисты из Словакии, — пробормотал он, с трудом сглатывая слюну, — снова стало саднить горло. — Неудобно…
— Неудобно брюки через голову надевать, — отрезала Лариса. — Я позвоню Аксючицу, Шевчуку и Тихоне, они проведут переговоры без тебя. Сейчас мы с Клавой тебя покормим и — спать, пока не приедет Рахиль Самуиловна. Я побуду с тобой.
«Господи, как трогательно она обо мне заботится… — Пашкевич вспомнил об отснятых кассетах в сейфе и почувствовал, что его затрясло от ненависти. — Подлая двуличная тварь!»
В кабинет с подносом вошла Клава. Лариса взяла тарелку с жидкой овсянкой.
— Я сам, — сказал Пашкевич. — Не делайте из меня инвалида.
— Сам так сам, — примирительно улыбнулась Лариса, подложила повыше подушку и подала ложку. — И не морщись, пожалуйста, для тебя это сейчас самая лучшая еда.
Каша и впрямь оказалась вкусной, а главное, ее было легко глотать. Он поел, чувствуя, что пьянеет от сытости, и заснул.
Виктор задерживался. Наконец в прихожей звонко залаял Барс. Через несколько минут костлявая горбоносая старуха с неизменной папиросой в ярко накрашенных губах, сопровождаемая Ларисой и Виктором, растирая руки, стремительно вошла в кабинет. Тут же выставила обоих, погасила в пепельнице свою папиросу, откинула одеяло. Помогла Пашкевичу снять пижаму, усадила, ощупала, простукала и выслушала. Особенно внимательно осматривала его синяки и ссадины. Лицо, как всегда, невозмутимое и замкнутое, седые сросшиеся брови сердито насуплены.
— Где это вас так угораздило, голубчик? — скрипучим голосом спросила она.
— Упал.
— Хорошо упали. Сейчас я позвоню в клинику, в экспресс–лабораторию. Пошлем шофера за сестричкой, пусть возьмет кровь. Когда анализ будет готов, мне сообщат. Тогда и будем думать, что делать дальше. А пока полежите, я побуду с Лорочкой.
Эскина вышла, объяснила Виктору, где найти лаборантскую. Он тут же уехал. Лариса налила ей стакан крепкого чая, — от предложения подкрепиться чем–нибудь посущественней Эскина отказалась.
Лариса нежно любила старуху. Когда–то после войны Рахиль Самуиловна лечила ее отца, у него был хронический бронхит. Иногда Лариса думала, что Эскина была тайно и безответно влюблена в отца; она так и не вышла замуж, хотя в молодости была очень симпатичной женщиной. Вовсе не такой старой каргой, как сейчас.
Вернулся Виктор, привез медсестру. Робея под строгим взглядом профессорши, сестра тщательно вымыла руки и вместе с Эскиной прошла к Пашкевичу. Взяла кровь для анализа из пальца, из вены и, записав телефон, уехала.
Потянулись томительные минуты ожидания. Время от времени Лариса на цыпочках заходила в кабинет. Пашкевич ворочался на диване, негромко стонал во сне. Лицо у него стало красное, распаренное, похоже, поднялась температура.
Предчувствие беды, охватившее Ларису, когда она увидела Андрея на лестничной площадке, весь вечер разрасталось в ней. Он казался ей олицетворением жизненной силы, никогда не болел, она ни разу не видела его таким слабым и беспомощным. Только сейчас, слушая, как он стонет и бормочет какие–то бессвязные слова, Лариса с пугающей отчетливостью поняла, как он ей дорог. Наконец позвонила лаборантка. Рахиль Самуиловна внимательно слушала ее, прижав трубку к уху, и ее седые широкие брови шевелились, как мохнатые гусеницы.
— Этого не может быть! — наконец резко бросила она. — Вы ошиблись, милая. Что? Параллельно? И что же, у обоих одинаковые результаты? Кто еще с вами в лаборатории? Наталья Николаевна? Дайте ей трубку. Наташенька, вы уверены, что ничего не напутали? М-да, мне бы вашу уверенность. — Эскина закрыла глаза, словно обдумывая услышанное. — Ладно, передайте дежурному врачу, чтобы немедленно подготовили шестую палату, сейчас мы привезем больного. Закажите побольше крови для переливания. Пусть кто–нибудь дождется меня в приемном покое.
Лариса слушала и чувствовала, как ее обволакивает леденящий страх. При чем тут кровь? О какой ошибке в анализе говорила Рахиль Самуиловна? Какая надобность заполночь везти Андрея в больницу, неужели нельзя обождать до утра? Он просто вымотался, устал, вот и сорвался, а старуха запаниковала.
— Что с ним?
— Не знаю, Лорочка, — Эскина запыхтела папиросой. — Пока не знаю. Нужно сделать биохимический анализ крови, другие анализы. Наталья Николаевна опытный специалист, я привыкла ей верить, но то, что я услышала… Похоже на опустошение спинного мозга. Белые и красные кровяные тельца на низком пределе, это опасно для жизни. Создается впечатление, будто Андрей подвергся мощному радиоактивному облучению. Все нужно тщательно исследовать, только потом можно будет сделать какие–то выводы. Пока ясно одно: Андрея надо немедленно госпитализировать. Необходимы срочное переливание крови, плазма, антибиотики. тщательный уход. Так что не будем терять времени. Помогите ему одеться и спуститься в машину.
Глава 26
Через трое суток Риту перевели из реанимации в палату. Кроме нее, там было еще пять женщин. Кровати стояли вдоль стен, отделенные друг от друга тумбочками. Укрытая одеялом до подбородка, Рита лежала у двери справа. Сознание к ней вернулось, но глаза так и не стали живыми, а взгляд осмысленным. Шевчук с трудом узнал жену, такой старой, изможденной она выглядела. Лицо, изрытое морщинами, словно усохло, голову будто присыпало снегом.
Он вернулся в опустевший, словно вымерший дом. Следовало бы съездить в издательство, но не было ни сил, ни желания. Похоже, Колосенок надул его со своей капсулой, если бы то, что он говорил, было правдой, Пашкевичу уже следовало свалиться. А он каждый день торчит на работе и в ус не дует. Ну что ж, с Олега теперь взятки гладки. Надо как–нибудь выковырять таблетку из кресла и выбросить. На мечтах о собственном издательстве придется поставить крест. Даже если Рита выживет, ему будет не до этого.
Рано утром. ожил телефон. Шевчук скатился с тахты и схватил трубку.
— Здравствуй, Володя, — сказала Лариса. — Андрюша заболел.
— Что с ним? — спросил Шевчук, а кровь уже забурлила в нем, прилила к лицу, застучала в висках; его словно студеным ветром обдало, сдув остатки вялости, сонливости. Он мгновенно все понял, и это наполнило его истомившуюся душу злобным торжеством: нет, не обманул Колосенок, достала Андрея таблеточка, и теперь уже не выпустит из своих смертельных коготков! — Надеюсь, ничего серьезного?
— Пока не представляю, — голос у Ларисы был тусклый, усталый. — Вечером он еле доехал с работы домой, на площадке потерял сознание. Ночью его посмотрела профессор Эскина и тут же забрала в больницу. Ты же ее знаешь, зря паниковать не будет. У Андрея что–то с кровью… лейкоциты, эритроциты, я в этом ничего не понимаю. Во всяком случае я очень встревожена, Володя. Эта «Афродита»… Что там у вас не клеится? Все дни после приезда из Америки он так психовал…
— Ничего особенного, мог бы и не психовать. Через тридцать минут я приеду.
— Не надо, к нему никого не пускают. Только меня и Виктора, и то ненадолго. Пусть хоть немного отлежится, на нем лица нет. Кстати, Андрей мне говорил, что ты гриппуешь. Уже поправился? Тогда съезди на работу, ему будет спокойнее.
— Ты не поняла, я так и так собирался в больницу. У Риты второй приступ, она трое суток пролежала в реанимации, вчера еле вывели из комы. Андрей в терапии?
— В терапии, второй этаж, шестая палата. Та самая, в которой когда–то лежала Рита. О Господи! — всхлипнула Лариса. — Что же это творится, Володенька… Почему ты не позвонил, не сказал?!
— Прости, но, честно говоря, мне было не до звонков. Ладно, я выезжаю.
К Пашкевичу Эскина его не пустила.
— Вас к больнице на пушечный выстрел подпускать нельзя, не то что к Андрею. У него сейчас ослабленный иммунитет, только инфекции не хватало! Кстати, я уже смотрела вашу жену. К сожалению, обрадовать ничем не могу. Ближайшие дни покажут, чем это закончится, но приготовьтесь к самому худшему.
Вернувшись в издательство, Шевчук замкнулся в своем кабинете. Достал с полки том энциклопедии, нашел статью о лучевой болезни. Все, о чем там писалось, слово в слово совпадало с рассказом Ларисы. Что ж, дело сделано, осталось уничтожить капсулу и ждать. Наконец–то он станет хозяином «Афродиты». Вот ведь как все повернулось! Еще в понедельник Андрей собирался вышвырнуть его на улицу, а сегодня… Сегодня надо спасать издательство. Ему, Шевчуку, больше некому.
Взяв сумку с контейнером, он поднялся на второй этаж. Людмила уже была в приемной, что–то печатала на компьютере.
— Поправились, Владимир Васильевич? — поздоровавшись, улыбнулась она.
— Я‑то поправился, а вот Андрей Иванович заболел.
— Грипп, наверное. Ужас, как в этом году грипп свирепствует. Вам бы тоже следовало вылежать. Говорят, такие осложнения…
— Обойдется, — перебил словоохотливую девушку Шевчук. — У меня к тебе просьба: съезди в книжную палату, получи новые авторские таблицы и индексы.
— С удовольствием! — Людмила выключила компьютер. — Кстати, Владимир Васильевич, мне в университет забежать надо. Я после обеда вернусь, не возражаете?
Людмила схватила пальто, шапочку и выпорхнула из приемной. Шевчук открыл кабинет, достал из сумки загодя развинченный контейнер. Нащупал кончиками пальцев в щели между спинкой и сиденьем кресла Пашкевича капсулу с радиоактивным кобальтом, осторожно достал и положил в гнездышко–углубление. Туго завинтил цилиндр, спрятал в сумку. Подошел к окну, приоткрыл фрамугу: пусть проветривается. Взял со стола папки с сочинениями Анонима, которые, Андрей, похоже, так и не успел просмотреть, и вышел. Положил ключ на место, спустился к себе. Все это заняло минуту, от силы, полторы, ничего страшного с ним за это время произойти не могло.
Посидев за столом, пока не унялась внутренняя дрожь, Шевчук оделся, взял сумку с контейнером и пошел в парк Горького. До парка было недалеко, два коротеньких квартала, он и Григорий любили там бродить в обеденный перерыв, обсуждая неотложные дела. По дороге заглянул в хлебный магазин, купил батон. В последние годы на Свислочи, в городской черте оставалась зимовать стая диких уток. Когда река начинала замерзать, все они собирались в парке у запруды. Там вода, подпертая бетонной стеной, набирала такую скорость и силу, что с нею не могли совладать даже самые суровые морозы. Огромная полынья спасала уток от верной гибели. Над водопадом построили ажурный мостик, зимой на нем постоянно толпились дети и взрослые, подкармливая оголодавших птиц. Туда он и направился. Заслышав скрип снега под его ногами, утки дружно потянулись к мостику. Шевчук достал сигареты, закурил, огляделся. Ни души. Опустил сумку на снег, достал контейнер. Просунул между прутьями ограды и носком сапога столкнул в воду. Всплеск поглотил шум водопада. Он стал крошить уткам батон. Стая загалдела и дружно кинулась подбирать угощение.
Глава 27
Пашкевич позвонил в начале первого.
— Володя, не знаю, сколько мне тут придется проваляться, неделю или больше, во всяком случае когда выпишут, возьму отпуск за два последних года. Вымотался, как собака, надо отдохнуть. В «Афродите» останетесь ты и Аксючиц. На нем хозяйственные дела, на тебе издательские. Гриша рассказывал тебе о поездке в Москву?
— Да, конечно.
— Что ты об этом думаешь?
— Может, поторговаться? Если они поймут, что мы готовы платить, пойдут на уступки. Отвертеться бы от выплаты потиражных, с остальным, думаю, справимся.
— Это остальное — десятки тысяч долларов, — раздраженно буркнул Андрей. — Сколько у вас в запасе подготовленных книг? Учитывая эту чертову Уокер.
— Примерно на два месяца.
— Очень хорошо. За эти два месяца нужно полностью перестроить работу издательства. Оставим серию детективов, их еще можно издавать несколько лет, ни у кого ничего не покупая, остальное прикроем. В последнее время я над этим долго ломал голову и, кажется, кое–что придумал.
Пашкевич обстоятельно рассказал Шевчуку о своем решении переключиться на выпуск научно–популярных книг.
— Отправь Гришу в Польшу, там их издают сотнями, самые разные, с разных языков, сериями и вразброс. В красочных мягких обложках, с иллюстрациями. Пусть отберет несколько десятков, договорится о приобретении авторских прав на лучшие, некоторые можно делать самостоятельно. Но надо спешить. Что скажешь?
Шевчук молчал, лихорадочно обдумывая услышанное. Пашкевич словно прочитал его мысли и теперь выдавал их за свои — именно такие книги Шевчук собирался выпускать, создав собственное издательство. Интерес к макулатурным романам и кровавым триллерам падает, наелись.
— Ты что, заснул?
— Думаю, — ответил Шевчук. — Ну что ж, идея, по–моему, интересная.
— Тогда послушай. Для тебя не секрет, что в последнее время я был очень недоволен вашей работой. Твоей и Гришиной. Обсуждать ничего не хочу, но… Считай, что это ваш последний шанс. Сделаете к моему возвращению пять–шесть книг, прощупаете рынок, разработаете перспективный план с конкретными темами, авторами, названиями, договоренностями — забудем старое, начнем как когда–то, в девяносто первом. Завалите — выгоню обоих. Ты меня знаешь, это не пустая угроза. Покрутитесь, ребята, покажите, что вы еще на что–то способны. Все, Володя, ко мне пришел врач. Будь!
— Будь! — ответил Шевчук и положил трубку. «Не выгонишь, — спокойно подумал он, — скоро тебе будет не до нас и не до «Афродиты». А за идею спасибо, хорошо, что ты подтвердил мои собственные мысли.» Позвонил Григорию.
— Загляни, есть новости.
Григорий выглядел подавленным, его щеки были заклеены полосками пластыря.
— Что случилось?
— Андрей заболел. Диагноз еще не установили. Меня к нему не пустили, побоялись, что занесу инфекцию, поговорили по телефону. Профессор Эскина забрала его в больницу среди ночи, значит, что–то серьезное. Наверное, он и сам это понимает. Кроме нас, «Афродиту» ему оставить не на кого, козе понятно, за несколько месяцев Аксючиц все развалит. Ты ведь знаешь Андрея — когда надо, он умеет отступать. Но, чтобы уцелеть, нам придется крепенько покрутиться.
Шевчук подробно рассказал о перестройке, задуманной Пашкевичем. Как он и предполагал, идея Григорию понравилась.
— Слушай, а ведь здорово! — зажегся он. — Господи, как надоела вся эта мерзость! Начать с чистого листа! Можно столько великолепных книг и перевести, и сделать! Нет, что ни говори, а он — умница.
— Сукин он сын, хотя, конечно, не дурак. Короче говоря, собирайся в Варшаву, приказ о командировке Аксючиц подпишет сегодня же. Возьми у Тихони под отчет побольше денег, скупи все, что нас может интересовать. Переговори в издательствах, в литературных агентствах, подпиши договора о намерениях. Торгуйся, такой прибыли, как женские романы, эти книги не принесут, тиражи будут небольшие. Кстати, до отъезда сдай в типографию Уокер, принесешь сопроводиловку, я подпишу. И позвони переводчикам: через месяц пять ее романов должны лежать в редакции. Добавь по десять долларов за лист, но предупреди — со всеми, кто не уложится в срок, договора будут немедленно расторгнуты.
У Григория от изумления очки поползли на лоб.
— Володя, — произнес он, — ты с ума сошел. Пашкевич тебе голову оторвет.
— Бог не выдаст, свинья не съест. У нас всего два месяца на подготовку и запуск новых серий. За это время мы должны сдать в печать десять книг. Искать и оценивать другие просто некогда. Это ведь все приличные романы, правда?
— Очень приличные. — Григорий слабо улыбнулся. — Знаешь, кого ты мне сейчас напоминаешь? Того Шевчука, который по ночам набирал нашу первую книгу. Давненько я тебя таким не видел.
Глава 28
Не дозвонившись до Андрея Ивановича, Женя набрала телефон Аксючица. Спросила, готовы ли документы на квартиру. Аксючиц ответил, что готовы, но без подписи генерального все затормозилось. А генеральный в больнице, придется обождать, пока выпишут. Ждать в Женины планы не входило.
— Александр Александрович, сейчас я к вам зайду, возьму эти бумаги и подъеду в больницу. Навещу Андрея Ивановича, а заодно он все подпишет.
— Женечка, потерпи, — осторожно возразил Аксючиц. — В городе эпидемия гриппа, к нему никого не пускают.
— Меня пустят, можете не сомневаться, — самоуверенно засмеялась Женя.
— Как знаешь, — вздохнул Аксючиц.
То, что Пашкевич решил сделать своей любовнице такой царский подарок, Аксючица не волновало; за долгую жизнь нагляделся на самоуправство начальства. Он подумал, что в больнице Женя почти наверняка встретится с Ларисой. Александр Александрович в душе Ларису не уважал, но держал свои чувства при себе. Еще недавно он ни за что не допустил бы, чтобы она и Женя встретились нос к носу, но сейчас… Пашкевич дважды ни за что, ни про что унизил его перед Тихоней, пусть сам почувствует, что это такое, когда тобой вытирают пол.
Ближе к полудню, Женя забрала документы и отправилась в больницу. Сунула старушке–гардеробщице шоколадку, и та молча забрала у нее шубу и выдала халат. Накинув его на плечи, Женя поднялась на второй этаж, в отделение терапии. Она не знала номера палаты и пошла по длинному коридору, заглядывая во все подряд. И увидела Виктора. Он сидел в кресле у окна и листал журнал.
— Витенька, — обрадовалась Женя, — привет. Вот уж не думала, что ты будешь охранять своего шефа даже в больнице. Где он тут лежит?
Лариса была у Эскиной. Она могла выйти оттуда в любую минуту, и тогда скандал был бы неминуем. Виктор взял Женю под руку и повел к выходу.
— Что ты здесь делаешь?
— Мне надо подписать у Андрея Ивановича документы на квартиру. Погоди, куда ты меня тащишь? Я там уже все осмотрела, его нет.
— Дай мне твои документы, идиотка, я их сам у него подпишу. Тут его жена, понимаешь?! Ты что, хочешь нарваться на неприятности?
— А мне плевать на его жену, — уперлась Женя. — Я должна его увидеть.
Из кабинета Эскиной, едва не столкнувшись с ними, вышла Лариса.
— Виктор, кто это?
— Да так, медсестра, — ответил он, загораживая собою Женю.
— Пусти, — оттолкнула она его. — Еще чего придумал! Никакая я не медсестра.
Лариса подошла, вгляделась прищурившись.
— Я вас знаю, — сказала она. — Вы Белявская, любовница моего мужа. Как вы осмелились придти сюда, вы, дрянь!
— Я не дрянь! — Женя вздернула голову, и ее рыжие волосы рассыпались по плечам. — Мне нужно к Андрею Ивановичу.
— Ни в коем случае. Проходить к нему посетителям запрещено. Категорически.
— Я не посетительница, — упрямо сказала Женя. — Я…
— Кто же вы? Жена, сестра, дочь? — У Ларисы глаза потемнели от гнева. — Вы грязная дешевая сучка, а я его жена. Убирайтесь отсюда, и чтобы я больше никогда вас не видела.
Рослая, широкая в плечах Женя окинула ее насмешливым взглядом.
— И вы думаете, ваш грозный тон меня остановит? Послушайте, вы, жена… Я жду от него ребенка. Сына, которого он от вас никогда не дождется. Он разведется с вами, как только выйдет из больницы, и мы поженимся. Я его жена, а не вы, понимаете? А сейчас посторонитесь, иначе я вас нечаянно уроню на пол.
Лариса почувствовала, что задыхается от ярости.
— Виктор, — прошипела она, — вышвырни эту грязную потаскуху. Немедленно!
Виктор решительно обхватил Женю за плечи.
— Пошли. И не заставляй меня применять силу.
Придерживая Женю за локоть, Виктор заставил ее спуститься в вестибюль.
— Ладно, черт с вами, — сдалась Женя. — Только передай ему мои бумаги и попроси, чтобы подписал. Ну пожалуйста, Витя, я тебя умоляю! Это очень важно.
— Давай их сюда, горе луковое. Ума, как у курицы. Слушай, ты и правда беременна? Или сочинила, чтобы Ларису Владимировну позлить?
— Очень надо! Уже четвертый месяц. У нас мальчик будет, мне врачи точно сказали. Мы его решили Андрюшей назвать.
— Дела-а… Ах, Женя, Женя, зря ты ей это сказала.
— Ничего, проглотит — не подавится. Пусть привыкает. Скажи лучше, что с ним? Знаешь, на даче у него кровь из носу хлынула. Я до смерти испугалась.
— Пока никто не знает. — Виктор подал Жене шубу и вывел на крыльцо. — Кому передать бумаги? Аксючицу? Не беспокойся, сделаю.
Глава 29
В то утро был профессорский обход. Когда он окончился, Рахиль Самуиловна позвала Ларису к себе.
— Плохо, милая. У Сережи типичная лучевая болезнь. Картина такая, будто он схватил рентген триста или даже больше. Нарушена репродуктивная способность костного мозга. Падает красная кровь, погибают тромбоциты, разрушаются белые кровяные тельца. Серьезно нарушена свертываемость, возможны самые неожиданные кровоизлияния. Очень похоже, что начинается мелкоочаговое воспаление легких. Организм беззащитен перед любой инфекцией. Именно поэтому я бы советовала тебе сейчас не везти его ни в Германию, ни в Америку. Можешь не довезти.
— Что же делать, Рахиль Самуиловна? Смотреть, сложив руки, как он умирает?!
— Мы делаем все возможное: переливаем кровь, плазму, вводим антибиотики. Завтра начнем курс химиотерапии. Но все это, к сожалению, паллиатив, свежая кровь очень быстро начинает разрушаться. Есть только один радикальный способ лечения — пересадка костного мозга. Чтобы организм сам начал вырабатывать то, что ему необходимо для нормальной жизнедеятельности.
— У нас такие пересадки делают?
— Да, и довольно удачно. Чернобыль заставил. — Эскина погасила в пепельнице окурок. — Этим занимается профессор Жигунов, Георгий Иванович, великолепный специалист. Я уже с ним беседовала, завтра он просмотрит Сережу, сделает необходимые исследования, чтобы подобрать донора. Это тоже проблема, нужна полная совместимость. Тут вам придется потратиться.
— Меня не пугают никакие расходы.
— Очень хорошо. Кстати, Георгий Иванович сказал, что на следующей неделе из Мюнстера по чернобыльской программе приезжает профессор Вальтер Крисман, мировая величина в области пересадки костного мозга. Если нам удастся продержать Сережу еще дней десять–двенадцать, они сделают эту операцию вместе. Это был бы самый лучший вариант.
— А если… Возможно и такое?
Эскина кивнула.
— К сожалению, он может умереть от чего угодно. От кровоизлияния в мозг, от банального гриппа или воспаления легких, которое мы пытаемся остановить.
— Господи, что же это такое! — всхлипнула Лариса. — Я думала, мы через неделю домой… Он ведь чувствует себя гораздо лучше. Или я ошибаюсь?
— Нет, не ошибаешься, второй период всегда характеризуется улучшением состояния. Не зря его называют скрытым. Но, увы, болезнь прогрессирует. Сейчас главное — не допустить кровоизлияний. С сегодняшнего дня установим в палате круглосуточный пост. Тебе совершенно ни к чему торчать тут днем и ночью. Час в сутки, не больше. Халат, шапочка и плотная повязка — обязательны. — Эскина погладила Ларису по руке. — Не падай духом, девочка. Ничего не поделаешь, надо жить надеждой.
— Слабовато у меня стало с надеждой после ваших слов.
— Понимаю. Но я должна была сказать тебе правду.
Глава 30
Виктор привез Ларису на Парковую магистраль, к дому где жили Ольга с матерью. Он остался в машине, а она, полная решимости, вошла в подъезд. Поднялась на лифте на третий этаж, остановилась перед обитой черной кожей дверью, на которой выделялась потускневшая — давно не натирали! — латунная табличка. На табличке витиеватыми буквами было выгравировано: «Доктор филологических наук профессор Н. Е. Лазарева».
«А доктор–то дама с претензиями», — с насмешкой подумала Лариса. Напряжение, владевшее ею всю дорогу, отпустило, профессор Лазарева и ее дочь больше не вызывали ни смущения, ни неуверенности, только любопытство.
Позвонила. Дверь открыла молодая растрепанная женщина. Лицо потное, на красных распаренных руках радужные мыльные пузыри. Едва увидев ее, Лариса тут же поняла, что это Ольга — уж очень похожа на отца. Светлые волосы, голубые Андрюшины глаза с таким же, как у него, жестким прищуром, его же тонкие поджатые губы, широкие скулы, удлиненный овал лица со срезанным подбородком. О таких говорят: все капельки собрала. Наверное, она разглядывала Ольгу чуть дольше, чем следовало, потому что та, запахнув на груди ситцевый халат, недовольно спросила:
— Кто вы и что вам угодно?
— Простите, — смутилась Лариса. — Вы Ольга?
— Да, Ольга. А в чем дело?
— Извините, ради Бога. Меня зовут Лариса Владимировна. Я жена Андрея Ивановича Пашкевича. Вам ничего не говорит это имя?
— Говорит — не говорит… вам–то что до этого? — грубо отрезала Ольга, с неприязнью глядя на красивую незнакомую женщину в роскошной норковой шубке.
— Андрей Иванович — ваш отец.
— У меня был один отец — Иван Петрович Чугуев. К сожалению, он погиб в автокатастрофе. Другими обзаводиться поздновато.
— И все–таки я хотела бы поговорить с вами. Может, вы разрешите мне войти?
— О чем нам говорить?
— О жизни и смерти человека, который, уверена, в глубине души вам не безразличен. Вы уже знаете, что это такое — терять близких, значит, сможете меня понять. Даже если Андрей Иванович был плохим отцом и не заслуживает вашей любви, то в сострадании вы не должны ему отказать. Я отниму у вас не более десяти минут. Уж десять–то минут вы можете пожертвовать тому, кого любили, когда были маленькой.
Откуда–то из глубины квартиры послышался заливистый детский плач и громкий раздраженный голос:
— Оля, кто там?
— Газовщики, мама, они скоро уйдут. — ответила Ольга и посторонилась, пропуская Ларису. — Пройдите на кухню, я сейчас…
Она захлопнула входную дверь и ушла через прихожую в комнату. Ребенок тут же перестал плакать. Лариса, не раздеваясь, прошла по коридору на кухню. «Ну вот, подумала она, — все у нас есть: и дочь, и внук или внучка. Нормальная человеческая семья. Дура я дура, и почему я не приехала к ней хотя бы год назад? Не было бы никакой Жени, и не чувствовала бы я себя оплеванной с головы до ног. Резкая девочка, но ничего, я с ней полажу».
Вернулась Ольга. Села, поставила на стол острые локти. На груди, на халате у нее виднелись темные влажные пятна.
— Много молока, — перехватив Ларисин взгляд, пояснила она. — А Мишка у меня ленивый, чуток пососет и отваливается. Так что случилось с Андреем Ивановичем Пашкевичем, если он вдруг вспомнил о моем существовании?
— Не надо, Оля, он о вас никогда не забывал. Понимаю, вам от этого было не холодно и не жарко, но… У Андрея Ивановича обнаружили лучевую болезнь, врачи опасаются за его жизнь.
— Лучевая болезнь… И где же он облучился? В Чернобыле?
— Он там близко не был. Понятия не имею. Все теряются в догадках. Во всяком случае спасти его может только пересадка костного мозга.
— Ага, все ясно. И вы хотите, чтобы этот мозг ему дала я? Здорово придумано!
— Мне и в голову не приходила эта мысль, клянусь вам, — ответила Лариса, пораженная ее беспощадной логикой. Конечно, сообразила она, это был бы идеальный вариант. Отец и дочь, полная совместимость, почему я сама до этого не додумалась? — Наверное, Андрей Иванович очень виноват перед вами, но и вы перед ним — тоже. По крайней мере так мне рассказывали люди, хорошо знавшие всех вас. — Лариса сняла шубку, ей стало жарко. — Что же касается операции… я приехала к вам совсем не для того, чтобы говорить о ней, у меня это вырвалось случайно. Понимаете, я сейчас только об этом и думаю. Ему подбирают донора. Я предложила сто тысяч долларов вознаграждения, надеюсь, что такой человек найдется.
— Сколько, сколько? — от изумления у Ольги округлились глаза. — Сто тысяч долларов? Господи помилуй! Вы что, сумасшедшая миллионерша?
— Я — нет, но ваш отец… Скажем так: он очень состоятельный человек. И отнюдь не сумасшедший.
— Только не рассказывайте мне байки, что он заработал такие деньжищи своими пьесами.
— Конечно, нет. Но в начале девяностых Андрей Иванович создал одно из первых в стране коммерческих издательств, а этот бизнес приносит огромные доходы. Впрочем, повторяю: дело не в этом.
— У вас с ним есть дети?
— К сожалению, нет. Вы его единственная дочь, а ваш Мишка, — улыбнулась Лариса, — единственный внук. Сколько ему уже? Восемь месяцев? Замечательно! Оля, вы прекрасно понимаете, что в жизни бывает всякое. Я не хотела бы обсуждать то, что случилось между Андреем Ивановичем и вашей мамой, но у мамы своя судьба, а у вас своя. Я приехала сказать вам, что вы очень нужны ему, и он нужен вам. И вашему сыну. По–моему, самое время простить друг другу старые обиды.
— Я в этом не уверена, — задумчиво сказала Ольга. — Вы правы, теперь, наверное, не стоит разбираться, кто прав, кто виноват, но, если бы вы знали, сколько мне пришлось из–за него пережить! Господи, как я его ненавидела! Убийца, алкоголик, бабник — что мне только мама о нем не наговорила, когда он вдруг объявился…
— И вы всему этому поверили? Почему вы не захотели выслушать его, ведь он несколько раз пытался объясниться?
— Не знаю. Наверное, потому, что мне очень хорошо жилось. У меня был отец, понимаете?! Замечательный отец, лучший в мире! А тут появился чужой человек… Человек, который глубоко унизил и оскорбил мою маму…
— Вы знаете, почему они развелись?
— Конечно. Мама застала его с любовницей. Вы бы такое простили?
Ее ответ ошеломил Ларису. Вон как Наталья Евгеньевна все перевернула?! Теперь понятно. Она не разрешала Оле встретиться с Андреем, чтобы не всплыла правда. Но ведь Андрей не позволил Тарлецкому перетряхивать их грязное белье на суде, хотя это могло облегчить его участь, стоило ли быть такой жестокой?!
— Наверное, тут все зависит от чувства. Если по–настоящему любишь, простишь.
— Что теперь об этом говорить, — вздохнула Ольга. — Но у меня есть другой вариант, чисто деловой. За такие деньги… Если это, конечно, серьезно… За такие деньги я охотно поделилась бы своим костным мозгом с кем угодно. Да, да! — вспыхнула она, сжав кулачки. — И не смотрите на меня, как на чудовище. В конце концов я не видела его сто лет. Чего вы от меня хотите? Чтобы я бросилась ему на шею: ах, папочка, прости! Так не бывает! — Ольга вскочила, сцепила за спиной руки. — Послушайте, Лариса Владимировна, хотите начистоту? У меня парализованная мать, маленький ребенок, я безработная. Нам тяжело живется, но я скорее сдохну, чем за здорово живешь возьму у него хоть копейку, потому что понимаю — это низко. Другое дело — заработать. На это я согласна. Я пройду все необходимые исследования, и если мой костный мозг подойдет, вы заплатите мне сто тысяч. Годится?
— Оля, — послышался все тот же недовольный голос, — скоро ты?
— Скоро, мама, скоро. Потерпи минутку. — Она повернулась к Ларисе. — Что скажете?
— Скажу, что это замечательно. Я уже говорила: мне такая мысль и в голову не приходила, но это просто замечательно! Поверьте, я даже не думаю вас осуждать. Деловитость — не худшее человеческое качество, мы с вашим отцом высоко ценим деловых людей. Давайте сделаем так: завтра утром я открою на ваше имя валютный счет в банке «Омега» и переведу деньги. Вы сможете в любое время зайти туда и удостовериться. А к двум пришлю за вами машину. Встретитесь с Андреем Ивановичем, поговорите. У вас есть снимки малыша? Захватите несколько. Пожалуйста. Он будет счастлив. Затем познакомлю вас с профессором Эскиной, с ней вы обсудите, что предстоит сделать.
— А если я по каким–либо причинам не подойду?
— Подойдете, уверена. Ну, а если нет… Оставите деньги себе. Только я вас очень прошу ничего об этой сделке отцу не говорить, пусть это будет нашим маленьким секретом. Андрей Иванович — человек старомодный; если он узнает, боюсь, он предпочтет умереть, чем покупать жизнь у собственной дочери.
— Значит, я и впрямь его совсем не знаю. Ну что ж, присылайте машину. Но предупреждаю: вначале мы заедем в банк. Если все, о чем вы говорили, липа, я тут же вернусь домой. Потому что ненавижу лгунов. Извините, не смогу проводить.
— Не надо. До встречи в больнице.
Глава 31
На Пашкевича снова навалилась бессонница. Всю ночь он лежал, ворочаясь с боку на бок, вслушивался в торопливый, взахлеб, стук сердца, иногда тихонько вставал, подолгу стоял у темного окна, за которым ветер раскачивал обледеневшие ветки деревьев. Заснул лишь к утру и проснулся совершенно разбитый. Вернулись недавняя слабость, вялость, головная боль. Овсянка, которую сестра принесла на завтрак, царапала горло, он с трудом проглотил одну ложку, и его вырвало.
Нащупав под подушкой сотовый телефон и дождавшись, пока сестра куда–то вышла и он остался в палате один, Пашкевич позвонил Тарлецкому.
— Вацлав, дружище, ты в курсе моих дел?
— Да, Андрюша, в курсе. Я хотел тебя проведать, но Лариса сказала, что к тебе никого не пускают, боятся инфекции.
— Надо срочно увидеться. Хочу, чтобы ты подготовил завещание.
— Господи помилуй, Андрюша, о чем ты?! Я постоянно справляюсь о твоем здоровье у Рахили Самуиловны, она полна оптимизма. Все не так плохо, не паникуй.
— Я не паникую. Но у меня есть куча обязательств перед разными людьми, и я хочу все предусмотреть. Когда тебя ждать?
— Видишь ли, сейчас я в аэропорту. Через сорок минут вылетаю в Москву. Послезавтра в арбитражном суде слушается дело моего клиента, а мне еще нужно изучить кое–какие материалы. Вернусь дня через четыре–пять, сразу же заеду к тебе.
— Пять дней, — пробормотал Пашкевич. — Это долго.
— Не валяй дурака. Ты вот что… Если уж ты так решил, напиши все, что считаешь необходимым. Или наговори на диктофон. Я приеду, заберу твои записи или пленку, посижу пару часов с нотариусом, мы все оформим и привезем тебе на подпись. Сэкономим массу времени. Андрюша, извини, милый, мой рейс уже зовут на посадку.
— Ладно, — ответил Пашкевич, — я так и сделаю. Будь здоров!
Раздосадованный неудачей, передохнув, Пашкевич связался с Виктором.
— Витя, привези мою электронную записную книжку, она в столе в кабинете, диктофон, пару кассет, бумагу и шариковую ручку.
— Будет сделано, — ответил Виктор.
— Ты передал Аксючицу Женины бумаги?
— Да, конечно. Он ими занимается.
Воспоминание о Жене взбодрило его. Пашкевич несколько раз ей звонил, но никак не мог поймать: домашний телефон не отвечал, а сотового у Жени не было, такая роскошь ей ни к чему. И где шатается? На этот раз ему повезло: не успел набрать номер, как тут же услышал в трубке знакомый щебечущий голосок.
— Папочка, родной, милый, как ты? Подписал мои бумаги?
— Подписал. Через пару дней переведут деньги, заберешь у Аксючица ордер. Как ты себя чувствуешь? Где бегаешь? Я не мог до тебя дозвониться.
— Так ведь зачеты начались. В библиотеке пропадаю. Сам знаешь, когда мне было заниматься? А заваливать сессию не хочется. Вообще–то мы с Андрюшкой–маленьким в порядке, только с деньгами плоховато. Не знаю, как дотяну, пока ты выпишешься.
— Не ной, на днях Виктор передаст тебе денег, я распорядился.
— Спасибо, милый, спасибо, дорогой! Я люблю тебя!
— Ну–ну, — насмешливо хмыкнул Пашкевич, — знаю я твою любовь.
К обеду приехали Виктор и Лариса.
— У меня прекрасная новость, — сказала она. — После обеда приедет Ольга.
— Какая Ольга? — удивился Андрей Иванович.
— Та самая, — улыбнулась Лариса. — Твоя дочь.
Пашкевич дернулся, словно его пронзила судорога.
— Это ты… ты…
— Я. Она славная, Андрюша. Вчера мы познакомились и всласть поболтали. Между прочим, у нее есть сын, Мишка. Твой внук. Серьезный мужчина, ему уже восемь месяцев. Голосистый, как звоночек.
У него в висках молоточками стучала кровь: тук — тук, тук — тук… Кровать раскачивалась, как материнская люлька, как качели, и Пашкевич забросил руки за голову и вцепился в спинку, чтобы не свалиться на пол.
— Зачем ты это сделала?
— Затем, что все войны когда–нибудь заканчиваются миром. Вы нужны друг другу, милый. И мне она нужна. И малыш. Хватит бессмысленной вражды. Ты ведь любишь ее, всю жизнь любишь и тоскуешь, я же не слепая. Просто гордыня не позволяла тебе еще разок попытаться поговорить с нею, а гордыня — не лучшее человеческое качество. И она сожалеет о том, что произошло, я это почувствовала. Мы неправильно жили в последние годы, теперь все у нас будет иначе.
«Интересно, что бы ты запела, если бы узнала, что у меня будет сын? — закрыв глаза, чтобы как–то остановить невыносимое раскачивание, подумал Пашкевич. — Родной, плоть от плоти… Моей, не твоей. «Мы неправильно жили в последние годы…» — наконец–то и ты это поняла. — Он приоткрыл глаза, посмотрел на Ларису, склонившуюся над ним, и теплая волна окатила его. — Господи, я ведь люблю тебя, сукина ты дочь! Несмотря ни на что — люблю, и буду любить, пока не подохну. И если, как ты говоришь, теперь все у нас будет иначе… Без Виктора и Жени, без всей этой грязи, в которой мы оба чуть не захлебнулись… В конце концов я выкуплю у Жени моего сына, пусть только выносит и родит. Ей не нужен ребенок, и я не нужен, ей ничего не нужно, кроме денег, не такой я дурак, чтобы не понимать этого. Ну что ж, я дам ей столько денег, сколько влезет, или, если заупрямится, уберу, а малыша усыновлю. Теперь, когда вернется Оля со своим Мишкой и появится маленький Андрюшка… какая же это будет замечательная жизнь! Господи, не сплю ли я, не грезится ли мне все это?»
Словно проникнув в мысли Андрея, Лариса осторожно провела рукой по его щеке. Он схватил ее и благодарно прижался потрескавшимися от жара губами.
Глава 32
Лариса ждала Ольгу в приемном покое. Ольга оставила в гардеробе старенькую дубленку и поднялась за ней на второй этаж. В комнатке у сестры–хозяйки надела белый хрустящий халат и шапочку, белые матерчатые тапочки вместо сапог, плотную повязку, закрывшую половину лица, и, цепенея от охватившего ее волнения, прошла вслед за Ларисой в шестую палату.
Пашкевич дремал после капельницы, укрытый до подбородка одеялом.
— Она пришла, — негромко произнесла Лариса и, увидев, что он открыл глаза, сделала знак медсестре, и они вместе вышли.
Ольга застыла у двери, напряженно вглядываясь в отца и не узнавая его. На кровати лежал лысый незнакомый старик с серым изможденным лицом и лихорадочно блестевшими налитыми кровью глазами. Куда девалась их прозрачная голубизна — то немногое, что она запомнила.
— Это ты, Оленька? — негромко спросил Пашкевич. — Подойди, я не вижу тебя.
Она подошла, села на стул у кровати.
— Сними эту чертову повязку.
— Мне запретили, — чужим, незнакомым голосом ответила она.
— Никаких запретов. Сними. И шапочку.
Она сняла. Несколько минут Пашкевич, приподнявшись на подушке, жадно вглядывался в ее лицо.
— Ну, здравствуй, доченька. Спасибо, что пришла. Совсем взрослая… Боюсь, на улице я не узнал бы тебя.
— Столько лет прошло…
— Целая жизнь.
Пашкевич взял ее руку, погладил вздрагивающие пальцы.
— А помнишь, как мы в Ботанический сад ходили? И в зоопарк…
— Бегемот, бегемот, открой рот…
— Не забыла?!
— Забыла, — вздохнула Ольга. — Я сегодня всю ночь не спала — пыталась хоть что–то вспомнить. Сколько мне было… Годика четыре. Потом вспомнила Ботанический сад, и стрекоз над прудом, и букетик гиацинтов, который ты мне купил. И бегемота в зоопарке; дети орали: «Бегемот, бегемот, открой рот!» — и он открывал огромную пасть. Вот и все мои воспоминания.
— Лариса мне рассказывала, у тебя есть сын. Ты принесла карточку?
Оля достала из сумки несколько снимков. Чувствуя стеснение в груди, Пашкевич долго рассматривал их. Крепенький бутуз, светлые волосики, легкие, как пух, чистые голубые глаза–пуговки. Что–то родное и трогательное было в нем, в этом человечке; Пашкевич почувствовал, как в горле у него закипают бессильные слезы. Он положил снимки на тумбочку.
— Оставишь мне. А как мать? Небось уже в академики выбилась?
Ольга недоверчиво посмотрела на отца.
— Ты… Ты что, притворяешься или на самом деле ничего не знаешь? — Ей неожиданно легко далось это «ты», она даже не ожидала такого и все утро промучилась, не зная, как к нему обращаться — на «ты» или на «вы».
— Знаю, что умер Евгений Викторович, вычитал в газетах. Думал позвонить вам, выразить соболезнования, но не решился. Больше ничего.
— Вон оно что, — задумчиво сказала Ольга, теребя свою повязку, и Пашкевичу показалось, что льдинки, стывшие в ее голубых глазах, стали таять. — Тогда все понятно. Так вот, на сороковой день после смерти дедушки, мы поехали на кладбище. Недалеко от Новинок на встречную полосу вылетел военный грузовик и врезался в нашу «волгу» — лоб в лоб. Иван Петрович Чугуев, мамин муж — он был за рулем, погиб на месте, меня с мамой отвезли в больницу. Я отделалась тремя сломанными ребрами, сотрясением мозга и дюжиной синяков, а мама… Ей повредило позвоночник, отнялись ноги. — Ольга отвернулась. — Академия… Я думала, ты насмехаешься. Инвалидная коляска — вот ее академия. Пока был Костя, мы ее хоть иногда на двор вывозили, воздухом подышать, а теперь… Проклятые ступеньки, мне одной с коляской не справиться, а просить никого не хочется.
У повязки с треском оторвались тесемки.
— Ну вот, — сказала Ольга. — Что теперь будет…
— Ничего не будет. — Пашкевич натянул одеяло, его бил озноб. — Почему ты не позвонила мне? Неужели так трудно было найти мой телефон?
— Я хотела, — разгладив пальцами острую складку на лбу, ответила Ольга. — Честное слово, хотела. Особенно когда ушел Костя. Мне тогда очень плохо было, просто ужасно. Но так и не решилась. Стыдно стало. Я ведь уже понимала, что все между вами было не так просто, как твердила мама, и что я сама вела себя, мягко говоря, не очень красиво. Надо было звонить раньше. Да и мама… Когда я сказала, что хочу тебе позвонить… ты даже не представляешь, что с ней было. Пришлось «скорую» вызывать.
— Узнаю Наташу, — пробормотал Пашкевич. — Ничто не остудило ее злобы — ни годы, ни горе…
— Это не злоба. Я даже не знаю, что это. Психологи в таких случаях говорят: комплекс вины. Возможно. Она хорошо жила с Иваном Петровичем, ты не думай, но какой–то червяк всю жизнь точил ее…
— Червяк… — Пашкевич отпил из стакана глоток апельсинового сока, чтобы залить горький вкус желчи во рту. — Она всю мою жизнь исковеркала.
— Конечно, это жестоко, — вздохнула Ольга. — Но ведь и ты ей в душу наплевал, согласись. Она женщина независимая, гордая, если бы ты честно развелся и женился на той своей лахудре, она с этим, наверное, как–то примирилась бы. Но ты унизил и оскорбил ее. Что, обязательно надо было приводить любовницу домой? Другого места не нашлось? Тогда — не судите, и не судимы будете.
У Пашкевича от изумления захватило дух.
— Это тебе мать сказала… ну, что я привел домой?
— А кто же еще!
— Значит, так тому и быть, — желчно усмехнулся он. — Впрочем, что сейчас об этом… А что ты не поделила со своим Костей? Если это, конечно не секрет.
— Какие там секреты, — пожала плечами Ольга. — Мы развелись еще до рождения Мишки. Костя хороший парень, ты не думай, веселый, добродушный, покладистый. Просто захотел, чтобы мы разменяли квартиру и жили отдельно. С одной стороны его можно понять — с матерью тяжело. Иван Петрович был человек мягкий, уступчивый, она привыкла командовать. То не так, это не так… Кому хочется терпеть?! А с другой… На кого я могла ее оставить? Мать все–таки, да еще в таком положении… Вот мы и грызлись, как две собаки, пока не разошлись. Но к Мишке он приходит, хотя уже на другой женился. Мишка узнает его, тянется. Так что все нормально.
— Нормально… — вздохнул Пашкевич, ощущая, как старая боль рвет душу. — А чем ты занимаешься?
— Сейчас ничем. Домохозяйка. Мишка, мама… А вообще после университета работала в риэлтерской фирме секретарем–референтом. Торговля недвижимостью. Я училась в хорошей школе, языком владею, знаю компьютер. Интересная была работа, и платили прилично. А когда у меня пузо на нос полезло, выгнали. Это ведь не при советской власти — декретные отпуска оплачивать, бюллетени.
Пашкевич вспомнил, как нынешним летом уволил корректора Светлану Ладутько. Ее единственная вина заключалась в том, что Светлана забеременела и поделилась этой радостной для себя новостью с Веремейчик, а та тут же шепнула ему. После этого он поручил Аксючицу предупреждать всех молодых женщин, которых принимали на работу: забеременеешь — подавай заявление, не жди, пока выгонят. «Господи, — с тоской подумал он, — если ты есть, прости меня. Какими мерзкими, жадными скотами мы становимся, обретя безграничную власть над людьми! Неужели нужно оказаться на больничной койке, ощутить за спиной дыхание смерти, окунуться в боль собственной дочери, чтобы осознать собственное скотство?!»
— Как же вы живете?
— Живем… Мама пенсию получает, Костик алименты платит. Терпимо. Мишка чуток подрастет, чтобы смелей на маму оставлять, где–нибудь устроюсь.
— Нагнись, — попросил он и потерся колючей щекой о ее щеку. — Доченька моя дорогая… Только бы мне выкарабкаться… На днях приедет знаменитый профессор из Германии, сделает пересадку костного мозга, а там я быстро поправлюсь. Только бы донора подобрать успели.
— Уже подобрали, — сказала Ольга. — Самого лучшего.
— Ты говоришь так, будто знаешь его.
— Конечно, знаю. Это я. Помнишь, ты мне читал «Маугли»? «Мы с тобой одной крови, ты и я!» Одной крови… Сегодня это главное, правда?
Пашкевич закрыл глаза.
— Спасибо, родная, но я этого не допущу, это может быть опасно для тебя.
— Это я буду обсуждать не с тобой, а с врачами. — Ольга посмотрела на часы. — Кстати, меня уже ждет профессор Эскина. Что ж, папка, вот мы и встретились. Мы так долго шли друг к другу… Так что ты, пожалуйста, держись, слышишь?
Она встала, поцеловала его и пошла к двери. Остановилась, обернулась.
— А твоя Лариса Владимировна мне понравилась. Поправляйся.
Ольга вышла, унося с собой запах своих духов и ощущение свежести и чистоты. Пашкевич прикоснулся к щеке, еще хранящей прикосновение ее упругих губ, взял с тумбочки снимки белобрысого голубоглазого мальчишки и застонал от боли.
Глава 33
Из палаты вышла Ольга. Обессиленно прислонилась к косяку. Лариса обняла ее за плечи. Ольга уткнулась лицом ей в грудь, ее бил озноб.
— Успокойтесь, — Лариса ласково погладила ее по голове. — Он здорово сдал за эти две недели, но все образуется.
— Почему все так глупо получилось? — кусая губы, сказала Ольга. — Как обидно… если бы вы только знали!
— Виктор сказал мне, что вы не заехали в банк. Мы ведь договорились…
— Я не возьму эти деньги. Простите меня, вчера я просто спятила. И не будем больше об этом. Вы хотели отвести меня к профессору.
Представив Ольгу Рахили Самуиловне, Лариса вернулась в палату. Андрей, ссутулившись, стоял у окна.
— Зачем ты встал? — всполошилась она. — Сейчас же в постель!
Он послушно присел на край кровати.
— Слушай, она прелесть. Умница. У меня будто камень с души… Столько бездарно потерянных лет!..
— Не терзайся, это не только твоя вина. А дочь у тебя хорошая, я это сразу поняла. С первого взгляда.
— Они бедствуют! — Пашкевич скрипнул зубами. — Подумай только, Лариса, моя единственная дочь и внук живут на какую–то жалкую пенсию и алименты. С ума сойти!. Так она не возьмет, я знаю, характер у нее мой. Надо что–то придумать. А что?
— Не беспокойся, я уже все придумала, — улыбнулась Лариса. — Вечером переговорю с Некрашевичем, он откроет счет на имя твоего бывшего тестя. Ну как будто тот перед смертью положил у него в банке деньги и завещал их дочери и внучке.
— Наташе? Мне это не нравится.
— Еще бы! Но если ты хочешь помочь Ольге и Мишке… Не жадничай, Андрей, и не злобствуй, жизнь с твоей бывшей женой разочлась сполна. Старик не мог завещать свои деньги одной, обделив другую, это неправдоподобно. Кончится тем, что обе от них откажутся, гордости им не занимать. Да и вообще… Неужели ты думаешь, что Ольга сможет отделиться от матери? Она ведь даже ради того, чтобы сохранить семью, ее не бросила.
— Ты права, — задумчиво произнес Пашкевич. — Ну что ж, поговори с Павлушей, он знает, как это сделать, чтобы комар носа не подточил. А вообще ты чудо! — помолчав, воскликнул он, схватил и больно сжал ее руку. — Спасибо тебе за все! За дочь, и за внука, и за доброту твою и понимание. — Господи, — Андрей отвернулся, и Ларисе показалось, что из его груди вырвалось задушенное рыдание, — а ведь я мог потерять тебя. Я точно потерял бы тебя, если бы не эта болезнь. Проклятая или благословенная? Даже не знаю… Уж очень горько мне было в последнее время.
— А мне, думаешь, сладко? — Лариса прикусила губу и отвернулась. — Я ведь все знаю, милый. И о Жене, и о ее беременности, и о том, что ты обещал на ней жениться. Сейчас не время об этом… Главное, чтобы ты хорошо перенес операцию. Поправишься, сядем друг против друга, как раньше, и все спокойно обсудим. Мы ведь не самые глупые люди на свете, правда? До чего–то договоримся. Знай только одно — мне не хотелось бы тебя терять. Несмотря ни на что. А там… как получится.
Пашкевич съежился. Ее голос, в котором не было ни раздражения, ни обиды, кнутом хлестал его по взвинченным нервам. Она права: сейчас не время об этом.
Едва за Ларисой закрылась дверь, пришла медсестра с капельницей. Пашкевич лежал на кровати и смотрел, как из бутылки, закрепленной на высоком штативе, равномерно падают и падают капли, догоняя друг друга и разбиваясь о пластмассовый стерженек, чтобы через длинную трубку попасть к нему в вену, смешаться с больной кровью, помочь ей бороться с хворью. Легко и спокойно было у него на душе. Лариса все знает… Что ж, это даже хорошо. В душе он все–таки боялся скандала, истерики, слез и упреков, а она оказалась выше этого. Потому что знает свою силу? Наверное. Во всяком случае смешно сравнивать ее с Женей. Она вернула ему Олю и внука — какая еще женщина на такое способна? Только Лариса! Это безумие — развестись с нею ради какой–то потаскушки. Сын — да… Но он ведь уже думал об этом. Они с Ларисой вырастят его, Лариса станет ему настоящей матерью. И все наладится: семья, работа… Именно так, сначала семья, а уже потом работа. Книги «Афродиты» снова войдут в списки бестселлеров, но это будут другие книги. И никакого завещания он сочинять не будет! Ведь это словно признать, что обречен, подписать себе смертный приговор, а он с этим никогда не согласится. Он поправится, обязательно поправится! Смешно умирать, когда жизнь наконец–то обрела смысл, когда есть для кого и жить, и работать.
Кап–кап–кап — падали из бутылки в пластмассовую колбочку бесцветные капли. Глядя на них, Пашкевич не мог даже представить, что жить ему осталось всего ничего — семь часов и двадцать восемь минут.
Глава 34
Тягомотина с болезнью хозяина уже надоела Виктору до зубной боли. Прошло больше восьми месяцев, как Лариса стала его любовницей. За это время они не наскучили друг другу. До недавнего времени она все так же нетерпеливо ждала каждого его прихода, все так же пылко и ненасытно, до обмороков, занималась с ним любовью, но Виктор с отчаянием чувствовал, что душа ее ему не принадлежала. Душа ее принадлежала старому, облысевшему от химиотерапии Пашкевичу, и это стало особенно заметно теперь. Лариса сутками не выходила из больницы, пока Эскина не установила в палате у Андрея Ивановича круглосуточный пост. Она нянчилась с ним, как с ребенком: кормила с ложечки, умывала, меняла белье, уговаривала принять лекарство, и в глазах ее Виктор видел неприкрытое страдание. Лариса как–то враз отдалилась от него, больше она не хотела близости, хотя он проводил рядом с нею все дни и ночи. Ссылаясь на усталость, она закрывалась в спальне, и Виктор не осмеливался ее тревожить, чтобы все не стало еще хуже.
Это обижало и возмущало его. Он любил Ларису все так же слепо и одержимо, как в первый день, когда увидел, напрочь забыв о других женщинах, и мысль о том, что она никогда не будет целиком принадлежать ему, сводила Виктора с ума. Несколько раз он был готов убить Пашкевича — ничего нет легче, чем убить изнуренного и ослабленного болезнью человека: улучил момент, когда сестра вышла из палаты, прижал на несколько минут подушку к лицу и — привет от старых штиблет! Сиди в коридоре, где все уже привыкли тебя видеть, с журналом или с книжкой и поплевывай в потолок. Даже Лариса не заподозрит, что это твоя работа; не зря Эскина сказала, что Андрей Иванович может умереть в любой момент и от чего угодно. Удерживало Виктора то, что он чувствовал: это ничего не изменит. Даже мертвый, Пашкевич еще долго будет владеть ее душой. Мертвый, может быть, даже крепче, чем живой.
Робкая надежда вспыхнула в нем после стычки Ларисы с Женей. Очень уж вовремя Лариса вышла из кабинета профессорши, он сам, дурак, глупой своей преданностью чуть все не испортил, стремясь не допустить их встречи и неизбежного скандала. Виктор видел, что Ларису и впрямь потрясли слова Жени о том, что она беременна, что у нее родится сын — куда больше, чем угроза, что Пашкевич, едва выйдя из больницы, разведется и женится на этой дурочке. Лариса тогда просто почернела от ярости, казалось, еще мгновение, и она с визгом вцепится Жене в волосы, как пьяная базарная баба, и пойдет потеха. Но она сдержалась. Видимо, она решила любым путем удержать своего богатенького Буратино, иначе зачем стала бы мирить его с дочерью, затевать всю эту бодягу с деньгами? Не с его ли, Виктора, помощью она рассчитывает попозже избавиться от соперницы и ее будущего ребенка?
За поступками Ларисы стояло что–то большее, чем страх потерять каменную стену, за которой можно укрыться от всех житейских невзгод, и это «что–то» лишало Виктора всякой надежды. Он понимал: как только Пашкевич поправится, их любви придет конец.
Усталый, мрачный, погруженный в невеселые мысли, Виктор сидел в кабинете Андрея Ивановича, за его массивным письменным столом, а взгляд его скользил по картинам на стенах, по книжным стеллажам. Лариса плескалась в душе, а может, уже и легла, он не знал. Вдруг Виктор заметил тонкий черный кабель на стене. Кабель тянулся от подставки с аппаратурой и исчезал в вентиляционном лючке между кабинетом и спальней, прикрытом узорчатой решеткой. Сначала он подумал, что это телевизионная антенна, но затем разглядел, что антенна идет по плинтусу. Что–то дрогнуло в нем, как в охотничьей собаке, учуявшей дичь. Смутная догадка, от которой похолодели кончики пальцев, заставила встать и подойти к подставке. Кабель был подключен к видеомагнитофону. Виктор мгновенно понял, что скрывается за решеткой, — видеокамера слежения. А раз есть видеокамера, должны быть и кассеты.
К нему вернулись спокойствие и сосредоточенность — состояние, которое всегда овладевало им перед опасной работой. Как опытный сыщик, он шаг за шагом обыскал весь кабинет Пашкевича, вскрыл ящики письменного стола и стеллажей, проверил пустые пространства за картинами и книгами. Кассет не было. Куча видеокассет с боевиками и всякой мутью лежала на телевизионной подставке в зале, но Виктор прекрасно понимал, что такие кассеты Пашкевич там хранить не будет. Оставался только сейф, который он без труда обнаружил за картиной. Голландский, со сложным электронным замком. Повозившись с ним минут десять, Виктор понял, что без кода не откроет. У него был знакомый, специалист по таким сейфам, но привлекать посторонних не хотелось. Разве что в крайнем случае. Может, код знает Лариса?
Виктор взял в кладовой стремянку и зашел в спальню. Лариса читала в кровати, голова у нее была обмотана полотенцем. Виктор поставил стремянку в угол, где вились цветы. Лариса приподнялась на локте и с удивлением посмотрела на него.
— Что ты делаешь?
— Сейчас увидишь.
Он поднялся на три ступеньки и раздвинул цветы. И нашел то, что предполагал.
Лариса тоже увидела какой–то приборчик с поблескивавшим объективом.
— Что это? — с любопытством спросила она.
Виктор оборвал кабель, снял камеру и бросил на кровать.
— Видеокамера. Твой ненаглядный муженек шпионил за нами. Снимал на пленку, как мы с тобой занимаемся любовью, а потом смотрел по телевизору.
— С ума сошел! — Лариса соскочила с кровати. — Он не мог так поступить.
— Значит, мог, — сдержанно ответил Виктор. — Нужно найти кассеты. Я у него в кабинете все перевернул, остался только сейф. Ты случайно не знаешь кода?
— У него есть сейф?
— Крепко же он тебя любит, если ты даже об этом не знаешь, — вздохнул Виктор. — Что ж, придется звонить Часовщику, он и не такие сейфы вскрывал.
— Погоди, — сказала Лариса, схватив халат. — Погоди, дай мне придти в себя, меня всю трясет. Сейчас я покопаюсь в его компьютере, может, найду. Господи, неужели это правда, и он все время подглядывал за нами?
— Ты еще сомневаешься?
Они прошли в кабинет Пашкевича. Лариса с недоумением и страхом посмотрела на снятую со стены картину, на дверцу вмурованного сейфа с крохотной красной лампочкой, горевшей на электронном табло, и включила компьютер. Нашла файл «Документы. Строго конфиденциально», попыталась открыть. На экране зажглись слова «Введите пароль». Виктор, стоявший за ее спиной, тихо присвистнул. В собственном доме за бронированной дверью, от собственной жены… Ну и ну!
Лариса растерянно глядела на экран. Пароль… Какой Пашкевич выбрал пароль? Да какой угодно, любое слово или набор цифр. Свой день и год рождения, например. Или ее. Имя матери, свое имя… Попробуй угадай!
Поколебавшись, она набрала на клавиатуре: «Афродита». В конце концов издательство — главное дело его жизни. Экран погас, затем снова вспыхнул и на нем появилась надпись: «Доступ разрешен».
— Молодец! — восхищенно произнес Виктор. — Быстро ты его раскусила.
Не ответив, Лариса открыла файл. Записей было много — какие–то документы, названия банков, номера счетов. Наконец она наткнулась на странную запись: «S: В день Победы родился Карл Маркс.» Полный бред…
— Обожди, сейчас я покопаюсь в энциклопедии.
Через несколько минут она выписала на листок колонку цифр: 951945 — 551818.
— Набери.
Виктор взял листок, набрал. Сейф не открылся.
— Попробуем иначе: 9051945–5051818.
Он попробовал. Лампочка над дверцей погасла, сейф открылся. На дне лежала стопка кассет, шесть штук.
— А что я тебе говорил?! Обожди, сейчас полюбуемся. — Виктор включил телевизор, видеомагнитофон, поставил нижнюю в стопке кассету, и кабинет огласил вопль Ларисы. Вернее, два вопля, слившиеся в один. Первый, хриплый, ликующий, задыхающийся: «Да! Да! Ах, Витенька, родненький, еще!» — донесся из динамиков и второй, полный ужаса и отвращения: «Выключи!» — вырвался из груди Ларисы. Она вскочила и бросилась к подставке с аппаратурой, но Виктор перехватил ее.
— Смотри! — жестко сказал он. — Ты же любишь этого вонючего козла, ты готова за него жизнь отдать! Он смотрел это десятки раз, истекая слюной зависти и ненависти, теперь ты смотри!
Лариса переломилась пополам, ее вырвало прямо на ковер. Виктор достал кассету, поставил вторую, третью, четвертую… Десять секунд, пятнадцать… Начало, середина, конец. Везде одно и то же — бесконечный порнографический фильм. Шесть кассет, двадцать четыре часа — такого, наверное, ни одна компания, специализирующаяся на подобных картинах, не сняла. Какая там замочная скважина! Маленькая пластмассовая коробочка с мощным объективом, которую, не зная, хоть умри, не разглядишь среди густой сочной зелени, фиксировала каждый день, час, минуту и секунду их встреч, каждое движение, каждый вздох, самый тихий и нежный лепет. Их любовь, их нежность, их чистоту, которые по самой природе своей боятся чужих глаз и чужих ушей, она опошлила и оболгала, превратила в обыкновенное скотство, которое производится на потребу зеленым юнцам, дряхлым старикам и импотентам.
Виктору стало так больно, как не болело, когда пуля афганского моджахеда, ударив под сердце, свалила с брони на каменистую дорогу. Тогда было совсем иначе — его вырубило, и он очнулся лишь в госпитале, а там умели глушить боль промедолом. Сейчас же он был беззащитен перед болью. Выключил телевизор, подошел, обнял.
— Успокойся, родная, успокойся, милая. Сейчас я сожгу эти подлые пленки в камине, и от них останется только горстка пепла. Думаю, что горстка пепла останется и от твоей любви к Пашкевичу. Он не достоин ее.
Лариса вырвалась, оттолкнула его. В ее глазах билась искра безумия, лицо перекосила ярость, в уголках губ запеклась пена. Виктор не успел даже глазом моргнуть, как она, словно ураган, пронеслась по кабинету. На пол с грохотом рухнули телевизор и видеомагнитофон, картины, книги, фотографии, безделушки, стулья… Наконец он схватил ее, чтобы остановить этот разгром, и она забилась в его руках.
— Сволочь! — задыхаясь, кричала она. — Грязный подлый подонок! Как он до такого додумался?! Нет, этого я ему никогда не прощу! Умирать буду, не прощу. Все! Пусти меня, Витя, я в порядке. С этим покончено. Навсегда. Эта квартира принадлежит мне. Выпишется из больницы — и пусть убирается к своей шлюхе и своему будущему щенку, я тут же разведусь с ним. Захочешь, мы с тобой уедем куда — нибудь, пока не улягутся пересуды, нет — уеду сама. Тебе решать.
— Ты же знаешь — я уже давно все решил. Я всегда буду с тобой — хоть на краю света.
Старинные напольные часы в углу кабинета — единственный трофей, который вывез из Германии Ларисин отец, гулко и торжественно пробили две четверти. Половина двенадцатого ночи. Виктор посмотрел на свой швейцарский хронометр — часы отставали на две минуты.
Едва погас последний звук, как в прихожей завыл Барс. Сначала тихо, растерянно, словно пробуя голос, затем громче, протяжнее, тоскливей, переходя с низких тонов на все более высокие. Так в декабре воют волки, справляя свадьбы; так выли по своим убитым хозяевам лохматые афганские псы.
— Успокой его, — крикнула Лариса. — Успокой его, я с ума сойду от этого воя!
Виктор вышел в прихожую. Барс рвал входную дверь своими мощными лапами, бился о нее всем телом, словно хотел открыть. Виктор погладил его по голове и почувствовал, что пес дрожит мелкой дрожью от возбуждения.
— Что с тобой, дурашка? — ласково сказал он, почесывая Барса за ушами. — Сон плохой приснился? Успокойся, за дверью нет чужих, все хорошо.
Барс поднял голову, потерся о его руку и снова завыл, запрокинув верх морду.
— Я выведу его минут на десять на двор, — Виктор надел куртку и взял поводок, — иначе он весь дом поднимет. Бес его знает, что на него нашло.
Едва на ошейнике защелкнулся поводок, собака успокоилась. Они сбежали по лестнице, и Виктор открыл дверь. В лицо дохнуло холодом. Он хотел застегнуть куртку и отпустил поводок. И тут Барс черной молнией слетел с крыльца и исчез в темноте.
Минут сорок Виктор бегал по окружающим улицам и звал собаку — Барс словно сквозь землю провалился. Наконец, устав и замерзнув, он пошел домой. Захочет жрать, вернется. Не маленький. Попросив консьержку впустить пса, если тот залает под дверью, поднялся в квартиру. Лариса стояла в прихожей, прижав к груди руки.
— Мне только что позвонила Рахиль Самуиловна, — тусклым бесцветным голосом сказала она. — Андрей умер.
Глава 35
Получив от Виктора увесистую пачку денег, Женя решила напоследок оттянуться по полной программе. Впереди ее ждала хоть и богатая, но постная и нудная жизнь со старым слабосильным козлом, полная всевозможных идиотских запретов: не пить, не курить, не ширяться, не шляться по вечеринкам… Вынашивать его ублюдка, чтобы, не дай Бог, не причинить ему вреда. Словно она не человек, которому и того хочется, и этого, а инкубатор, где круглые сутки надо поддерживать одну и ту же температуру. Он ведь не знает, какой родится сыночек!
Женя понимала, что на какое–то время ей придется примириться с монастырской жизнью. Пашкевич крут, с ним не разбалуешься. Нет, физиономию не разукрасит, интеллигент, но посадит на голодный паек, попрыгаешь. Ничего, она свое наверстает, когда женит его на себе.
Она позвонила подружке, та — двум приятелям–боксерам, и через несколько часов, набив сумки выпивкой и съестным, они уже катили на шикарном зеленом «мерсе» в Городище, где у предков подружки была дача. Включили отопление, пока разгребали снег, дача прогрелась, и пошло–поехало.
Пятеро суток Женя прожила как в сказочном сне. Они гуляли по заснеженному лесу, пили, ели, курили травку, балдели от «колес», трахались вповалку, меняясь партнерами, снова пили, ели, ширялись… Парни оказались хоть куда, впервые с тех пор, как она стала любовницей Пашкевича, Женя ощущала, что вполне довольна жизнью. А потом деньги кончились, они съездили в сельмаг, сдали пустые бутылки, похмелились пивком и отправились домой, в Минск.
Ребята подбросили Женю к дому и уехали; она, стараясь держаться прямо, чтобы не позориться перед соседями, которые могли увидеть ее, зашла в подъезд и поднялась на свой этаж. Она умирала от жажды. В холодильнике стояло несколько баночек чешского пива, и Женя предвкушала, с каким удовольствием откроет одну, прежде чем принять душ и завалиться спать. Выспится, если Пашкевич не разбудит дурацким звонком, а потом пойдет к Аксючицу за документами на квартиру. Женя уже придумала, как объяснить Андрею Ивановичу свое отсутствие — тяжело заболела мать, пришлось срочно выехать в Брест. Если бы он не был таким скрягой и подарил ей мобильник, она позвонила бы ему и все объяснила, а так….Сам виноват!
Едва Женя успела снять шубу, как затрезвонил телефон. «Ну вот, — с досадой подумала она и погладила себя по животу. — Цело твое сокровище, цело, ни черта с ним не случилось.» Но прозвучавший в трубке голос мгновенно выбил из ее головы остатки хмеля. Звонила Лариса, Женя мгновенно узнала ее голос.
— Слушай меня внимательно и не перебивай, — сказала она. — Андрей Иванович умер три дня назад. Не визжи, и не падай в обморок, мне глубоко плевать на твои чувства. Очень хорошо, что тебя не было в городе, это избавило тебя от многих неприятностей. Но далеко не от всех: Твои документы на квартиру находятся у меня. Ты можешь получить их, но при одном непременном условии.
— Каком? — прошелестела оторопевшая, оглушенная Женя.
— Завтра к двенадцати поедешь в частную лечебницу на Плеханова, 38. Адрес запомнила? Тебя будут ждать, все уже договорено. Избавишься от своего выб…ка.
— Ах, вот что! — воскликнула Женя. — Мой сын вам поперек горла!
— Угадала.
— А если я откажусь?
— Тогда в ближайшие день–два тебя выпишут и вышвырнут из твоего гнездышка на улицу. Учти, оно стоит восемнадцать тысяч долларов, ты таких денег не заработаешь за всю свою жизнь, шлюха. По–моему, это более чем хорошая плата за пустяковую операцию. Впрочем, тебе решать.
Женя помолчала, лихорадочно обдумывая услышанное.
— Это же убийство, Лариса Владимировна. А может, мы сделаем иначе? Вы оставите мне квартиру и дадите пару тысяч зеленых на жизнь, а я рожу ребенка и отдам вам. У вас ведь нет детей и никогда не будет, а это сын Андрея Ивановича. Так сказать, последний его подарок. — Женя подумала, какой удар она нанесет Ларисе, когда та поймет, как тяжело болен этот еще не родившийся «подарочек» — за все рассчитается! — но та холодно отклонила ее предложение.
— Мне это не нужно. Или — или. Решай, у меня нет времени. Через минуту твоя купчая полетит в камин.
— Погодите! — испуганно закричала Женя. — Не делайте этого, мы договоримся., Вы меня не обманете? Мне нужны какие–то гарантии.
— Бумаги будут у врача. Перед операцией он их тебе покажет, после — отдаст.
— Хорошо, — покорно вздохнула Женя. — Лариса Владимировна, передайте мне хоть немного денег, у меня даже на хлеб нету.
— Бог подаст! — жестко ответила Лариса и бросила трубку.
У Жени подкосились ноги. Она опустилась на пол и заплакала, размазывая по лицу макияж. Потом вспомнила Сашу, чемпиона республики по боксу среди юношей, который обхаживал ее на даче, и успокоилась. Главное, заполучить квартиру, а остальное… Была бы шея, хомут найдется.
Глава 36
В середине января в «Афродите», в бывшем кабинете Пашкевича собрался совет учредителей, вернее то, что от него осталось: Шевчук, Злотник, Аксючиц и Тихоня. И еще три человека: Лариса, дочь Пашкевича Ольга и адвокат Тарлецкий. В кабинете ничего не изменилось, только заменили кресло бывшего шефа. Его отвезли на новый склад к радости сторожа — уж очень удобно было в нем дремать по ночам.
За все минувшее время Шевчук зашел в этот кабинет во второй раз. Рано утром он проверил его на радиоактивность бытовым дозиметром. Фон был такой же, как на улице. Колосенок не соврал, все получилось как он и предсказывал.
Почтили память Пашкевича минутой молчания. Затем выступил Тарлецкий.
— К глубокому сожалению, Андрей Иванович не оставил завещания, — сказал Вацлав Францевич. — В этом есть и моя вина. Он словно предчувствовал, что дело плохо, и попросил меня приехать с нотариусом в больницу, но я улетал в Москву, а когда вернулся, уже было поздно. Однако Лариса Владимировна и Ольга решили все вопросы, связанные с наследством, полюбовно, как и подобает людям, любившим и почитавшим его. Конечно, все договоренности еще должны пройти через суд, но это, как говорится, вопрос технический. Отныне права на долю Андрея Ивановича в имуществе и активах «Афродиты» принадлежат его дочери. Предлагаю принять ее в члены совета учредителей, тогда мы сможем двигаться дальше.
«Высокое собрание» проголосовало единогласно. Тарлецкий дождался, пока секретарь Людмила внесла решение в протокол.
— После консультаций с членами совета Ольга Ивановна решила рекомендовать генеральным директором «Афродиты» Владимира Васильевича Шевчука как ближайшего друга и соратника Андрея Ивановича, опытного и хорошо знающего издательское дело профессионала. В свою очередь мы с Ларисой Владимировной предлагаем назначить ее заместителем генерального директора по маркетингу. Возражений нет? Принимается.
Через десять минут Шевчук подписал свой первый приказ. Там было еще два пункта: о назначении Григория Семеновича Злотника главным редактором и об увольнении Виктора Дмитриевича Стрижака согласно поданному заявлению.
На этом заседание совета закончилось. Людмила принесла поднос с шампанским. Шевчук пригубил свой бокал и, попрощавшись, уехал в больницу забирать Риту.
О том, что ее выпишут, врачи предупредили Шевчука за неделю, чтобы он мог как следует подготовиться. Они не скрывали, что совершили маленькое чудо — вытянули Риту с того света. Дальше держать ее в больнице не имело смысла: медсестра и массажистка будут приходить домой, ну, а уход — дело родственников.
Заплатив за год вперед, Шевчук уговорил санитарку, ухаживавшую за женой в больнице, оставить работу. Вчера она уже переехала к ним. Нина Савельевна была женщиной опытной, еще крепкой и добросердечной, в больнице за Ритой присматривала, как за родной дочерью; то, что она согласилась уволиться и заниматься только ею, было для Шевчука большой удачей. Он уже давно не дергался, не переживал за жену — привык. Такая судьба…Не думал он и о Пашкевиче — ушел и ушел, тоже судьба. И не важно, что Ритиной распорядился Господь, а судьбой Андрея он сам. Не он затеял эту войну — Андрей, а на войне, как известно, убивают.
Шевчук медленно ехал по заснеженному городу. Затормозил у тумбы с театральными афишами, возле которой совсем недавно встретился с Олегом Колосенком. Почти всю ее занимала огромная, в человеческий рост афиша с фотографией его дочери. Вероника была снята в высоком прыжке, казалось, она парила в воздухе с венком из белых цветов на гордо вздернутой головке. Огромные буквы на афише кричали: «Жизель. Главная премьера сезона! Партию Жизели танцует восходящая звезда мирового балета Вероника Некрашевич!». Премьера с триумфом прошла в канун Нового года. Все газеты были переполнены восторженными рецензиями.
До этого Шевчук несколько раз встречался с дочерью в больнице. Вероника холодно кивала ему, односложно отвечала на вопросы. Жаловалась, что устает, что совсем нет времени — идут последние прогоны спектакля. Жалела, что мать не побывает на премьере. Его не пригласила, наверное, не могла забыть, как он выгнал ее из дому. Но Шевчук купил билет в кассе, не в партер, а на галерку, чтобы не нарваться на кого–нибудь из знакомых, и просидел там, на верхотуре, весь спектакль, отослав Веронике в антракте с женщиной, продававшей программки, букет белых роз. Она так и не узнала, от кого розы, да это и неважно — цветами была завалена вся сцена. Танцевала она действительно прекрасно, легко и вдохновенно, у Шевчука слезы на глаза наворачивались, когда он любовался ею в театральный бинокль.
«Ну вот, доченька, ты и добилась своего, — подумал Шевчук, сметая перчаткой с афиши налипший снег. — И я добился. Первый, наконец–то первый, а не вечно второй. Только почему так пусто, так безрадостно на душе? И ничего не хочется. Дождаться красного светофора, вылететь на перекресток, где погиб Олег Колосенок, и гори оно все ясным огнем…»
Над городом, набирая силу, кружила метель.
Конец

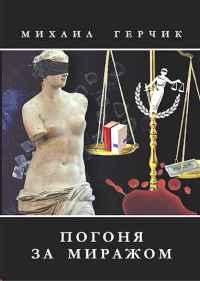


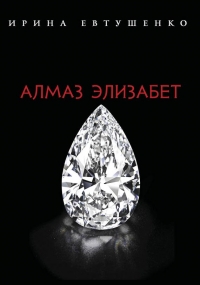


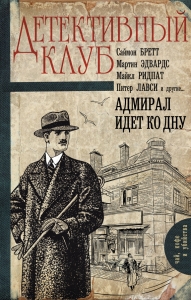



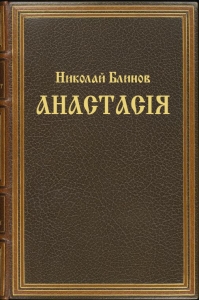
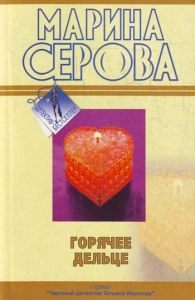
Комментарии к книге «Оружие для убийцы», Михаил Наумович Герчик
Всего 0 комментариев