ИСКАТЕЛЬ 2014 Выпуск № 12
Александр Филиппов ВСЕ ПО-ЧЕСТНОМУ
1
Клифт бежал по гулкому, заполненному народом залу ожидания Казанского вокзала, перепрыгивая через чемоданы и сумки, увертываясь ловко от дребезжащих тележек с багажом, успевая следить краем глаза за тем, чтобы носильщики — верные помощники ментов — не подставили ему предательскую подножку.
В тюрьму ему никак нельзя. Только вчера откинулся от хозяина, можно сказать, не нагулялся еще на воле — и вдруг такой, как у малолетки, ремесло щипача осваивающего, облом.
Влип, как фрайер! Ну кто, скажите пожалуйста, из нормальных москвичей и приезжих в столицу носит сейчас набитые деньгами бумажники в задних карманах брюк? Нет нынче таких лохов, не осталось в природе, в принципе. А ему, карманнику с четвертьвековым трудовым стажем, вдруг такой и попался.
Стоит эдакий респектабельный мужчина в белой рубашке, чуть за тридцать в хвосте очереди к железнодорожной кассе и беззаботно, коротая время, сложенную вчетверо газетку почитывает. А из заднего кармана его серых, тщательно отглаженных брюк такой лопатник торчит! Тисненой кожи, пухлый, как сдобный пирожок свежей выпечки, набитый, надо полагать, аккуратно сложенными в пачечки по отделениям купюрами разных достоинств. И не исключено, что благородно-зелеными баксами или разноцветными евриками…
Клифт аж едва не загулил, словно увидевший долгожданную маму младенец, еще чуть-чуть, и пузыри слюней от вожделения пускать бы начал. Расскажи пацанам — помрут со смеху от такой дешевой подставы! А у него от жадности рамсы попутались. И то! Москва — город богатый. Может, они здесь, в Москве, совсем зажрались, в потном кулачке каждую сотенную, как в провинции, не сжимают, для них деньги — тьфу, и даже такой вот бумажник можно вполне без присмотра оставить. А он, Клифт, совсем по нулям. Только что из зоны. Понятно, кенты на воле встретили как полагается, подогрели, на хату определили. Но любой долг платежом красен. А в воровском мире — тем более. А то попадешь в непонятные! И кончишь жизнь в петушатнике…
Он, Клифт, жулик авторитетный. Хоть и не в законе, но живет по понятиям и в воровском мире человек известный. Ему впадло нахлебником у кого бы то ни-было состоять. Тем более что руки-то вот они. Золотые, прямо скажем, ручки, даже в годы отсидок четками тренированные.
Спецы из чужих карманов денежки тырить — они тоже по мастям, как игральные карты, подразделяются. Есть ширмачи, которые через руку, в чужом кармане или сумочке шарящую, плащ или курточку перекидывают и тем от посторонних глаз прикрываются. Есть трясуны — те одним точным, неощутимым почти для владельца ударом, бумажник из любого, даже самого укромного кармана выбить могут. Писари режут сумочки или одежду бритвой или монеткой заточенной. Рыболовы — крючками вытягивают. Хирурги — пинцетами. Щипачи чаще группами работают. Один отвлекает жертву, другой карманы чистит. Есть еще колесники — в общественном транспорте трудятся, и, соответственно, магазинщики, рыночники. В метро народ кроты шерстят. Дубилы — черти полуопущенные, на жратве специализируются. Стащат батон хлеба из авоськи, палку колбасы или банку консервов — тем и счастливы. Самые козырные из карманников — марвихеры, которые только солидными клиентами с толстыми бумажниками интересуются. И хотя Клифт владел виртуозно всеми способами краж, к марвихерам себя относил. Вор-одиночка. Пальчики — как у музыканта, причем слепого. Чуткие. Не только выпуклые буквы Брайля могут легко различить, но и бумажник сквозь толстое шерстяное пальто или кожу дамской сумочки нащупать. А дальше — дело техники, десятилетиями отточенной. Никаких бритв, пинцетов — с ними спалишься, потом не открестишься. Только пальцы — юркие, как рыбки в воде, нежные, как у любовницы. Чик — пуговичку легким касанием расстегнули, вжик — замочек-молнию. И — нырк в щелочку, в нутро теплое, цап-царап бумажничек, кошелечек — и как не бывало его. Высший шик — еще и пуговку, замочек-молнию опять застегнуть. Чтоб не сразу хватились. На все про все секунда уходит. Быстро, точно, красиво…
А на этот раз лажанулся. Приметил тот аппетитный бу-мажничек, состроил морду интеллигентно-заполошную и попер сквозь очередь: «Простите… извините ради бога… Мне только время отправления уточнить…» Ломанулся, как дурак в буфет с одной копейкой. И, протискиваясь, вежливо так, бережно, очередников в кассу левой ручкой отодвигал. А правой, походя, прихватил бумажничек за верхний краешек у лоха из заднего кармана брюк. И… стоп! Лох беззаботный с газеткой вдруг хвать Клифта за руку. Ту самую, что с бумажником. По-ментовски так, намертво крепко — хвать! И — стоять! УТРО! Вы задержаны!
Тут же еще архаровцы подскочили — с видеокамерой портативной, на Клифта объективом, как пистолетом, нацеленной. Видать, скрытно все моменты кражи фиксировали. Понятное дело — профессионалы, опера из отдела по борьбе с карманными кражами. Умеют, суки, щипачей с поличным брать. А он-то, Клифт! Ну не фрайер ли?! На живца, как голодного щучонка, словили!
А тот, что с лопатником в кармане рисовался, уже распоряжается:
— Та-ак, па-апрошу вас, граждане… В вашем присутствии задержан вор-карманник. Мы должны оформить вас как свидетелей…
Ага, щас! Опять за колючую проволоку, срок мотать? Не дождетесь. И-эх, была не была! Чать, не подстрелят в переполненном-то народом зале!
Клифт извернулся, саданул держащего его за руку оперативника коленом в пах, боднул головой в лицо и, когда тот, ошалев на мгновенье от боли, ослабил хватку чуток, крутанулся юлой, вырвался и помчался сквозь людскую толпу.
— Держи! Держи вора! — орали опера у него за спиной, но Клифт, парень не промах, скача по проходу между диванами с дремлющими на них пассажирами, тоже заорал истошно, тыча указательным пальцем куда-то перед собой:
— Держи вора! Вон он, вон он гад, побежал!
И все встречные крутили испуганно головами, смотрели послушно, ориентируясь на указующий перст Клифта, но поди разберись в такой суматохе, кто вор, если даже опера мало отличимы от жуликов по гражданке!
Тут вдруг подвернулся на пути цыганенок подросткового возраста, заметался, то ли испугавшись переполоха, толи по причине нечистой совести, — тоже, должно быть, промышлял тем, что плохо лежит, и Клифт заревел с восторгом, науськивая на него толпу:
— Вот он! Хватай! Вяжи! Где полиция?! — а сам шмыгнул шустро в противоположную сторону.
И теперь он мчался, запаленно дыша, по перрону, мимо зеленых, покрытых белесой пылью нездешних мест, пассажирских железнодорожных составов, а позади, он чуял это, как зверь, не оглядываясь даже, молотили за ним, резво перебирая ногами, опера, не поддавшиеся на его уловку, словно хорошо натасканные гончие псы, взявшие горячий и верный след. Молодые опера, ч-черт, легкие у них не прокуренные, сердца чифиром лагерным не подсаженные, быстрые опера, стремительные, как пули, и Клифт, задыхаясь, отчетливо понимал, что на этот раз ему от них не уйти.
Озираясь затравленно по сторонам, он приметил, что в состав, тот, что был справа от него, началась посадка. У открытых дверей вагонов толпились пассажиры и провожающие, а строгие проводницы придирчиво рассматривали посадочные билеты.
Миновав одну такую группу людей, Клифт подбежал к следующему вагону. Здесь у подножки замешкалась молодая мамаша с чемоданом и ребенком в руках.
— Позвольте, я вам помогу, — мигом нашелся Клифт.
Женщина, прижав к себе ребенка, доверчиво позволила взять из рук чемодан.
Проводница, ни слова не говоря, отступила в сторону, и Клифт оказался в вагоне. По причине того, что посадка только что началась, здесь было пустынно и тихо.
Мамаша указала на свое купе, Клифт распахнул дверь, внес чемодан.
— Располагайтесь, — предложил он радушно и, кивнув женщине в ответ на благодарность, бросил туманно: — Пойду своих поищу…
Пользуясь тем, что вошедшие следом пассажиры сгрудились в начале вагона, сверяясь с билетами и отыскивая свои места, Клифт решительно взялся за ручку ближайшего купе, отодвинул беззвучно скользнувшую на хорошо смазанных роликах дверь и шагнул внутрь.
2
Только сейчас Клифт сообразил, что нелегкая занесла его в мягкий вагон СВ и купе было двухместным. Он соображал судорожно. Сейчас, сию минуту, сюда могут войти законные, обилеченные пассажиры. Дать деру? Но на перроне наверняка маячат, озабоченно вертя головами, давешние оперативники. Спрятаться здесь? На первый взгляд, негде. Нырнуть под диван? Но его наверняка поднимут, чтобы уложить чемоданы и сумки. И — нате вам с кисточкой. Поднимется крик, прибежит проводница, а потом и полиция…
Клифт задрал голову вверх. А вот, кажется, и то, что нужно. Над входной дверью в купе располагалась ниша. В ней — два рулоном скатанных полосатых матраца, коричневые шерстяные одеяла.
Поставив ногу на приступочку, он подтянулся. Ба-а! Да здесь и для него местечко найдется!
Клифт юркнул в нишу, старательно закамуфлировав себя постельными принадлежностями. Если специально не шарить, снизу его наверняка не видно. Затаиться, выждать. Вряд ли пассажиры сразу стелиться кинуться. Пока освоятся, если повезет, покурить или в вагон-ресторан выйдут. Ему и надо-то всего проехать до ближайшей станции, подальше от оперов. А там — ищи ветра в поле… В крайнем случае, на глазах у изумленных пассажиров на первой же остановке поезда спустится с верхотуры, припугнет, если вякнут, уж это-то он умеет, понты колотить, на вольных с нахрапом зоновским наезжать, и — вон из купе, из вагона. Никто ничего не поймет, да и скорее всего не предпримет — вещички-то на месте, так чего лишний шум поднимать? Ущерба-то нет!
Вовремя за матрац Клифт затарился. Щелкнул дверной замок, и в купе кто-то вошел.
— Проходите, проходите, будьте как дома, — ворковал женский голос. — Российские железные дороги приветствуют вас и желают счастливого путешествия!
— Ладно, ладно, — пробурчал мужской голос в ответ. — Вы, главное, до пункта назначения довезите. Вечно у вас — то самолеты падают, то поезда с рельсов сходят… Бардак!
— Да что вы… Доставим в лучшем виде, — оправдывалась проводница.
— И глядите у меня — в купе никого не подсаживать!
— Конечно, конечно, — лебезила проводница. — У вас же оба места оплачены…
— Знаю я вас! — рокотал мужской бас. — Калымить будете — так не за мой счет. На-ка тебе за труды, и не беспокой меня понапрасну.
— Ой, спасибочки… Я завсегда, «в любое время… Только на кнопочку надавите вот эту — мигом примчусь.
— Не надо. Устал. Спать хочу.
— Постельку вам застелить? Одеялко, матрасик…
Клифт похолодел в своем закутке.
— Не надо. Сам разберусь. Свободны.
— У меня специальная табличка есть. С надписью «Не беспокоить». Хотите, я вам ее на ручку двери снаружи повешу?
— Валяй!
Дверной замок щелкнул, и пассажир остался в купе один.
Клифт, стараясь дышать бесшумно, вытянул по-гуси-ному шею и прильнул к щелочке между матрацем и одеялом, разглядывая попутчика поневоле.
Примерно одного с карманником возраста, ближе к сорока. Чернявый, с проседью. Семидневная щетина, короткая стрижка по нынешней моде — будто только с зоны откинулся, хотя сейчас и на зонах не стригут налысо. Чем-то неуловимо похож на Клифта. Вот только костюмов таких цвета «металлик» по пять тысяч долларов карманник отродясь не носил, как и рубашек с монограммами и туфель, из крокодиловой кожи небось.
Клифт сразу же почувствовал к незнакомцу что-то вроде классовой неприязни. Видал он таких. И лопатников из их импортных лепешков повытаскивал несчитано. Да вот не разбогател. Хотя денежки, бывало, после удачного скока у него водились. Да все как-то… между пальцев и утекали. А он и не жалеет. Видать, не судьба. Видать, у этих, богатеньких, ген какой-то особый в организме присутствует, благодаря которому деньги к ним липнут. А Клифт, как ни крути, пролетарий криминалитета. Даже паханом, который других на дела посылает и при этом не-замаранным остается, никогда не был. Все сам, своим горбом добывал. И по карманам собственноручно шарил, и срока немалые за то постоянно мотал. Все, как говорится, по-честному. Он ведь жулик не абы какой, отмороженный на всю голову, а с понятиями. Работягу, например, или старушку-пенсионерку ни в жизнь не тронет. Зато юзера вот такого, в крокодиловых туфлях, или дамочку, с губками ботексными, на весь свет презрительно оттопыренными, сам Бог велел заставить делиться с ближним. То есть с ним, Клифтом. Только вот подобраться к этой публике все труднее становится. Они для себя словно государство в государстве выстроили. В общественном транспорте, в метро не ездят практически. Живут тоже наособицу, за шлагбаумами, в разных там элитных поселках да кондоминиумах. И аэропорты, вокзалы, театры, концертные залы столичные остались теми немногими местами, где эти хозяева жизни бывают пока на равных с остальным людом. И там для Клифта — раздолье! И раз уж он так удачно попал, то этого фрайерка в дорогом костюме он обязательно бомбанет. Не знает пока как, но бомбанет за милую душу! Может, дождется, пока тот задремлет, а может, и шандарахнет чем-нибудь по башке, хоть такой гоп-стоп и не по его специальности. Но бабки у этого, все купе для себя откупившего, должны быть, и немалые… Торопиться-то некуда. Выждет момент, и вперед!
А тем временем вальяжный попутчик расстегнул объемистый портфель, достал оттуда литровую, не иначе, бутылку — коньяка ли, виски, хрен их разберет, не по-русски на этикетке написано, — налил в стакан, прихлебывать начал. Без закуски. И то! Это от водяры всего наизнанку выворачивает, если не заесть или хотя бы не занюхать, хоть рукавом, стопарик, а хороший алкоголь можно и не закусывать. Ишь, сидит развалясь, наслаждается. А вот дать бы тебе этой пузатой бутылкой литого стекла по башке, сразу бы понял, что не поймал еще Бога за бороду!
Впрочем, то, что потенциальный клиент принялся накачиваться спиртным, Клифта вполне устраивало. С пьяным-то справиться в любом случае проще. Может, наклюкается сейчас да заснет. А после того можно и бумажничек его приватизировать, и портфель толстенький прихватить. Наверняка в нем еще чего-нибудь ценного, кроме выпивки, найдется. Надо только не торопиться, набраться терпения, выждать момент…
Клифт прикрыл глаза. По опыту своего ремесла знал, что нельзя долго пялиться на человека, даже в спину смотреть нельзя, обязательно почувствует взгляд, насторожится, начнет озираться тревожно, и прощай тогда удачная кража. Однако этот безмятежен пока. Опять забулькало из бутылки. Жизнь удалась! А что, сволочь-в ботинках из крокодила, ты в жизни той видел? Тебя, что ли, после восьмого класса мамаша непутевая сперва в детский дом сдала, а потом, одумавшись вроде, домой вернула, да через год в ПТУ строительное, или, как тогда говорили, «каблуху», на казенные харчи отправила? У тебя старшие пацаны все отбирали — шмотки, стипуху жалкую? А на стройке, на практике, над тобой, что ли, мужики измывались, а потом хохотали под визг кладовщицы, указывая пальцем на Клифта? Впрочем, он и не Клифтом был тогда, а Валеркой Пузанёвым, безотцовщиной-недоучкой. Клифтом он после первой отсадки, по малолетке еще стал, когда срок получил за то, что у продавщицы газированной воды на улице тарелку с мелочью стырил. Жрать хотелось, не милостыню же просить! Год чалился, вышел, а мать на какую-то ударную стойку подалась, реку в Сибири плотиной перекрывала, к себе звала. А чего он там не видал? В зоне прочно усвоил: от работы кони дохнут. Да и работать — где? Опять на стройку, в подсобники? Он ведь даже ПТУ не окончил. Хорошо, Писарь, старый карманник, пригрел. К делу приставил. Сперва на подхвате — кошельки из карманов, сумочек, бритвой-писанкой взрезанных, в толпе передавал, чтоб с поличным самому не спалиться. Потом ремеслу обучил. Клифт хорошим карманником стал, высшей квалификации. Но и менты не дремали. В итоге пять сроков по пять лет, или пять Петров, по-зоновски, можно сказать, в квадрате, из своих сорока от роду, отсидел. Искупил хоть в какой-то степени, стало быть, перед Богом и обществом свои воровские грехи.
Этот, на диване, в третий раз булькнул пузатой бутылкой. Жахнул полстакана, зачавкал припасенным лимоном так, что у Клифта от оскомины зубы свело и слюна потекла, как у голодной собаки. Если и дальше этот фрайерок будет в том же темпе спиртным наливаться, то у Клифта с выходом из вагонного заточения проблем не будет.
Поезд тронулся мягко, качнулся вагон, звякнули сцепки.
И в этот момент в купе постучали.
— Я же просил не беспокоить! — подал голос попутчик, но дверь уже отъехала в сторону.
— Проверка документов! — строго произнес вошедший.
Клифт глянул из своего закутка вниз — и задохнулся обморочно. В купе стоял полицейский майор.
3
— Вы один в купе? — деловито осведомился блюститель порядка.
Карманник закостенел, понимая обреченно, что это — конец. Деваться ему некуда, и стоит менту обернуться, осмотреться хотя бы бегло, он непременно обнаружит Клифта. Тепленького, как на подносе…
— Нет, я тут с бабой кувыркаюсь, — с хмельной дурашливостью заявил пассажир. — У проводницы не мог спросить, кто я? Нет, лезет в купе, беспокоит по пустякам. Тебе что, погоны на плечи давят? Могу, ха-ха, помочь, облегчить, так сказать, ношу. На одну ступень звания! Будешь, блин, капитаном железнодорожного плаванья!
— Прошу прощения, служба, — ответил сухо майор. — Осматриваем весь состав. Проверяем наличие незаконных мигрантов, криминальных элементов. Обычная процедура. В соседнем вагоне депутат Государственной Думы едет, и ничего. Отнесся с пониманием, предъявил документы…
— Ну, на тебе документы. Вот паспорт, вот командировочное удостоверение. Билет, сам знаешь, у проводницы.
Полицейский пошелестел бумагами.
— Жабин Юрий Степанович?
— А кто ж еще, твою мать! В паспорте ясно написано.
— Куда следуете?
— В Южноуральск. Назначен на должность генерального директора нефтяной компании «Южуральскнефть». Слыхал про такую?
— Слыхал. Извините, просто я должен лично удостовериться, что вы именно Жабин Юрий… э-э… Степанович, — примирительно ответил майор. — В нашем деле ошибиться нельзя…
— Ну, удостоверился? — раздраженно прервал его нефтяник. — Теперь у тебя ко мне все?
— Не совсем…
Полицейский сделал шаг назад, потом, сунув руку под лацкан кителя, вытянул из-за пазухи пистолет — длинный, с глушителем.
И — пф-ф, пф-ф, — дважды выстрелил в грудь удивленного пассажира.
Клифт едва не обделался со страха. Если его заметят сейчас — арест ему не грозит. Отправят отбывать вечный срок на том свете…
Между тем киллер в майорском мундире склонился над убитым, хладнокровно пощупал у него пульс на запястье, оттянул верхнее веко и, убедившись, что перед ним труп, отвинтил глушитель от ствола пистолета, положил в боковой карман кителя, а оружие опять сунул за пазуху. И вышел, бесшумно прикрыв за собой дверь купе.
Клифт лежал на багажной полке ни жив ни мертв. Только что у него на глазах был убит человек. Застрелен хладнокровно, профессионально. И он, Клифт, теперь один на один с трупаком. Если кто-то войдет сюда, обнаружит убитого, а рядом с ним уголовника, неоднократно судимого, то вряд ли компетентные органы поверят в рассказ о неком третьем лице в полицейской форме. Догадайтесь с первого раза, на кого реально падут подозрения?
Впрочем, Клифт не был бы фартовым вором, кое-какой авторитет среди братвы имеющим, если бы рассопливился, а не сосредоточился сейчас, трезво оценивая ситуацию.
Он шустренько спустился с полки, мягко ступая, прильнул ухом к двери. Вроде все тихо. Осторожно нажав на ручку, чуть приоткрыл. Посмотрел, на месте ли табличка «Не беспокоить». Киллера она, конечно, не остановила, а вот проводница, случайный пассажир из любителей преферанса, в поисках партнера в купе, хочется верить, носа не сунут. Запер дверь изнутри, присел, ладонью смахнув со лба пот. Внимательно оглядел тело, оплывшее на диване напротив.
Две пули вошли прямо в сердце. Оно остановилось мгновенно, оттого и крови было немного. На распахнутом импортном пиджаке — ни следа. Только на белоснежной, не иначе как на заказ пошитой рубашке расплылось небольшое, с чайное блюдце, пятно.
Взяв труп за плечи, потянул на себя, взглянул на спину. Ранение не сквозное.
Клифт еще не понимал, зачем ему этот осмотр, он же не эксперт-криминалист, не патологоанатом, но то, что сраженный пулями попутчик выглядел, в принципе, если прикрыть кровавое пятно, как живой, успокоило отчего-то.
А поезд, уже набрав крейсерскую скорость, мчал, покачиваясь умиротворенно, погромыхивая колесами на стыках рельсов, и за окном пробегал, отставая, унылый пейзаж ближнего Подмосковья с чередой обшарпанных гаражей, заброшенных заводиков с прокопченными трубами, бесконечными бетонными заборами, разукрашенными граффити, безымянными деревеньками с избами-развалюшками, стожками сена у кособоких сараев, перемежающихся роскошными, нелепо выглядящими среди этой убогости виллами в несколько этажей.
Клифт перевел взгляд на мертвого попутчика, поинтересовался шепотом:
— Что, влип по-крупному, парень? Недолго музыка играла, недолго фрайер танцевал? За все, братан, платить приходится. И за жизнь кучерявую в том числе. Чего ж ты наворотил такого, что тебя к вышке приговорили? Я, например, вор-рецидивист, а больше пяти лет срока наказания ни разу не давали… Молчишь? Тебе, конечно, теперь все по фигу, а мне-то что делать? Ну ладно, не впервой. Как-нибудь и без твоей помощи выкручусь…
Сказал так, и язык прикусил озаренно. А почему, собственно, не прибегнуть к помощи мертвого фрайерка?
Клифт взял со стола бутылку, разобрал из любопытства на этикетке латинскую надпись — «бренди», набулькал себе половину фужера — не удовольствия ради, а чтобы мысли в порядок привести, выпил. Крепкая, но приятная на вкус штука, и впрямь не закусывать можно. Потом, опустив окно, достал примятую пачку «Явы», закурил, сосредоточенно затягиваясь сигаретой и напряженно обдумывая план предстоящих действий.
4
Оставшись наедине с жертвой киллера, Клифт осторожно, чтобы не запачкаться о кровавое пятно на груди убитого, извлек из внутреннего кармана не пострадавшего от пуль пиджака туго набитый бумажник. В нем — несколько пятитысячных купюр, еще бумажки — помельче достоинством, несколько банковских карточек. Их, к слову, Клифт терпеть не мог. Ну что за моду взяли — эти карточки вместо живых денег таскать! Охотишься, бывало, за таким вот лопатником, хапнешь удачно — а там пластиковое дерьмо это вместо денег. Куда с ним? С банкомата не снимешь. Есть, конечно, спецы, но Клифт не по этой части. Милое дело — наличка!.. А вот и паспорт. Вглядевшись в фотографию, Клифт неожиданно обнаружил сходство между собой и попутчиком. Не теперешним, естественно, осунувшимся и мертвенно-бледным покойником, а тем, каким выглядел гражданин Жабин лет пять назад, когда на паспорт фотографировался. С нагловатыми, чуть навыкате глазами, коротко стриженный, с чубчиком. И год рождения подходящий, 1975-й, ровесник, можно сказать. И если сличить фотографию на этой ксиве с физиономией Клифта, чего обычно никто, кроме полицейских не делает, то выйдет будто одно лицо. Не красивое, но и не безобразное, не броское, не слишком запоминающееся. Такая внешность характерна для тех, кто не любит привлекать к своей персоне внимание, — секретных агентов или, например, воров-карманников…
Фамилия, правда, подкачала, не очень-то благозвучная — Жабин. Но и Пузанёв нисколько не лучше. У Клифта даже в детстве кликуха была — Пузо. Но как-то не прижилась. Какое пузо может быть сперва у шустрячка-шкета, а потом у поджарого, вечно голодного зека? Когда овладел ремеслом карманника — уважаемой в воровском мире профессией, — то и кличку себе выбрал под стать, солидную. «Клифт» на блатном жаргоне означает «куртка», «пиджак». В которых «лопатник», то есть бумажник, обычно хранится.
Обнаружив сходство с убитым, Клифт мгновенно сообразил, что судьба, едва не отправив его за решетку, вдруг смилостивилась и преподнесла ему шикарный подарок.
Про то, что гражданина Жабина грохнули в купе скорого поезда, никто, кроме киллера и его возможных заказчиков не знает пока. И когда на крупной узловой станции менты обнаружат некое тело с двумя пулями в сердце и справкой об освобождении из мест лишения свободы на имя Пузанева Валерия Павловича, юра-рецидивиста, то мудрить шибко не будут и спишут все на криминальные разборки. Особых примет у Клифта нет — от татуировок, всех этих крестов да куполов, умные люди уберегли, еще по малолетке отсоветовали — зачем, дескать, клеймо судимого на всю жизнь, да еще на видном месте? От шрамов Бог миловал. Никто карманника не пожалеет, по нему не заплачет. Родных не осталось. Так что опера, специализирующиеся по борьбе с карманными кражами, не без облегчения спишут одного из своих постоянных клиентов, удалят жулика по кличке Клифт из всех картотек и баз данных.
Рассудив так, Клифт стянул с не окоченевшего пока жмурика дорогой костюм, ботинки, оставив простреленную и окровавленную рубашку, и облачил в собственные шмотки — водолазку, ширпотребовский пиджачок, поношенные изрядно кроссовки. Затем обследовал подробно портфель. Вытащил из него кожаную папку с документами в пластиковых файлах, кучу глянцевых проспектов — мутотень, сплошные буровые вышки, трактора, железяки какие-то, и — о-о-о! — пачку пятитысячных купюр. Там же обнаружил смену белья, что-то по мелочи, вроде косметички, одеколона, набора авторучек. Портфель окажется кстати — негоже такому солидному пассажиру, в которого превратился отныне Клифт, без багажа, с пустыми руками ездить.
Дождавшись, когда с наступлением сумерек поезд миновал Самару — крупную узловую станцию с извечной беготней, суетой и неразберихой на перроне, — Клифт подхватил труп и, поднатужившись, отправил его в последний полет — в окно. Не без некоторых душевных терзаний, естественно. А успокаивало хоть немного совесть то, что, если судить по документам, он вроде бы как сам себя из вагона выкинул. К слову, Клифту на полном ходу из состава живьем сигать приходилось. Правда, в молодости еще, от ментов спасаясь. Ощущение, конечно, не из приятных, но обошлось. Похромал пару месяцев, а потом зажило все, как на собаке…
И вот теперь он лежит на мягком диване в персональном купе, покачивается умиротворенно в такт с движением поезда — и едет, едет… Черт, а куда он, собственно, едет? До конечной станции, до Южноуральска? Ни разу там не был. Почему бы и не осмотреть городишко?
Воры-карманники, как правило, неплохие актеры. Только роль им приходится играть чаще всего одну и ту же. Неуклюжего прохожего, то и дело в толпе на людей натыкающегося, или неловкого пассажира общественного транспорта, который, вместо того чтобы за поручень крепко держаться, болтается в салоне, как сосиска в кипящей кастрюле. То на одного пассажира навалится, то к другому прижмется. Ну и, опять же, манеры должны быть обходительными. Дескать, хоть и недотепа, а человек интеллигентный. Чтобы каждый, глядя на него, думал: небось, и в метро о высших материях размышляет. Может, даже открытие мирового уровня готовит, оттого и рассеянный. Но вежливый. Простите да ради Бога, извините! И никакой, естественно, фени, распальцовки блатной…
Так что для Клифта богатенького коммерсанта изобразить или нефтяного магната какого-нибудь задрипанного — раз плюнуть. Тем более что денег у него, благодаря покойному попутчику, сейчас — как у дурака махорки. Доедет до Южноуральска, заодно и отдохнет, отоспится в дороге. Все-таки ремесло карманника нервное, сплошные стрессы, когда на дело идешь. А там — в аэропорт, с такой-то железной ксивой, и куда-нибудь подальше — в Новосибирск, Иркутск… Страна большая, и везде для Клифта с его золотыми руками работа найдется.
5
Однако в Южноуральске, куда поезд подкатил в девять утра, Клифта ждал неприятный сюрприз. Его встречали.
Едва карманник сошел с подножки, повесив по причине летней жары на одну руку пиджак, а в другой сжимая пузатый портфель, проводница указала на него кому-то пальцем:
— Вот он, товарищ из шестого купе!
У Клифта чуть ноги не подкосились. Приехал, фрайер самонадеянный. Менты уже ждут, на стреме стоят. Сейчас подхватят, в наручники закоцают — и наше вам с кисточкой!
Но навстречу ему бросились из толпы вовсе не менты, а два толстых, лысых гражданина, взопревших, судя по потным физиономиям, в своих черных погребальных костюмах.
— Юрий Степанович! Уважаемый! Мы рады приветствовать вас на гостеприимной южноуральской земле!
Клифт шарахнулся было в сторону, но вовремя спохватился, растянул губы в улыбке, промямлив невнятно:
— Э-э… я тоже… К сожалению, не имею чести…
— Я ваш заместитель по общим вопросам, Борщев Николай Сергеевич, — представился один из толстяков, угодливо подхватывая из рук Клифта портфель. — А это, — указал он на своего напарника, — заместитель генерального директора по связям с общественностью. Лисицын Алексей Николаевич. Прошу, как говорится, любить и жаловать. Вещички прикажете из купе принести?
— Я, знаете ли, люблю налегке путешествовать, — нашелся Клифт. — В наше время шмотье за собой таскать ни к чему. Все, что нужно, можно купить. Были бы деньги…
— Хи-хи… — подтвердил новоявленный зам и предложил: — Пройдемте на привокзальную площадь. Нас там автомобиль ждет.
Напряженно соображая, как бы вырваться из навязчиво-цепких объятий встречающих и слинять только в одному ему ведомом направлении, Клифт шагал обреченно, как под конвоем.
На привокзальной площади троицу поджидал черный и торжественно-мрачный, как катафалк, «Мерседес» последней модели.
— Сейчас, Юрий Степанович, прямо в гостиницу. Нашу, ведомственную. Отдохнете, покушаете, а потом в офис. Мы вам, хе-хе, личный состав компании представим. Не весь, конечно, а управленческий аппарат, — гулил в ухо Клифту, усевшись рядом на заднее сиденье, зам по общим вопросам.
Машина тем временем катила по широкому проспекту, застроенному современными высотками. Клифт с любопытством крутил головой. Город как город. Ничего особенного. Разве что наряду с золотыми куполами церквей тянутся к небу то здесь то там увенчанные полумесяцем мечети — чувствуется дыхание Азии.
«Из гостиницы свинчу, — решил про себя карманник. — Отправлю этих толстомордых конвоиров с глаз долой, и деру».
Он отчего-то представлял гостиницу, в которой его пообещали разместить, в виде многоэтажки с длинными коридорами, множеством номеров, из которой ускользнуть незаметно — раз плюнуть. Однако ошибся.
«Мерседес» все мчал и мчал, вырвавшись из автомобильной толчеи на загородное шоссе. Потом свернул на узкую, но тоже хорошо заасфальтированную дорогу и покатил прямо к стоящему плотной стеной лесу.
«Ч-черт, — забеспокоился Клифт. — Сейчас завезут в чащу и кокнут, раз первый киллер не справился! Этому Жабину, судя по всему, Серьезные пацаны приговор подписали. А я, как лох последний, подставился…»
Но тут впереди показался красно-белый полосатый шлагбаум, и расторопный охранник в черной униформе, выскочив из будочки, предупредительно поднял его, видимо, узнав машину.
При ближайшем рассмотрении гостиница оказалась просторным, рубленным из толстенных бревен загородным домом с верандой и широким, покрытым коричневой ковровой дорожкой крыльцом. Территория, обильно засаженная благоухающими розами, тенистыми голубыми елями, была окружена высоченным забором, на вершине которого вращались с легким жужжанием видеокамеры наружного наблюдения.
«Хрен отсюда уйдешь незамеченным, — грустно констатировал Клифт. — Придется другого случая дожидаться…»
— Вот сюда, наверх, по ступенечкам, — объяснял ему, как слабоумному, зам по общим вопросам.
Поднявшись на крыльцо, вошли в апартаменты. Просторный холл, застеленный толстым, словно газон, ковром, располагающие к безделью и неге диваны, низкие столики с витиеватыми ножками — не для еды или канцелярской работы, на такие разве что бутылки со спиртным да бокалы ставить… На каждом шагу, низко кланяясь, Клифта встречала обслуга — смазливые девицы в белоснежных передниках, юноши в лакейских ливреях и круглых, на манер тюбетеек, шапочках.
Наконец пришли в номер, занимающий целое крыло чудо-дома. Разбитная бабенка, похоже, местная домоправительница, стареющая блондинка со следами былой красоты, продемонстрировала Клифту гостиную, в которой царил огромный, словно пещера Али-Бабы, камин с вязанкой чистых, будто наждачной шкуркой отполированных, дров. Здесь же стоял телевизор с экраном величиной с автомобиль «Ока», столь же внушительных размеров музыкальный центр. Провела в спальную с широченной, скрытой за — подумать только — балдахином, что ли, кроватью, в рабочий кабинет, в ванную.
— Располагайтесь, — радушно предложила домоправительница и, подмигнув игриво, добавила: — Мы все в вашем распоряжении. И готовы исполнить любое, самое изысканное желание руководства…
Зам по общим вопросам тоже подсуетился:
— Отдохните с дороги, Юрий Степанович. Как только понадоблюсь — позвоните, пулей примчусь. Вот моя визиточка с номером мобильного телефона… — Он сунул руку в один внутренний карман пиджака, в другой. Потом похлопал себя по боковым карманам растерянно. — Бумажник куда-то запропастился, а там визитки…
— Да ладно, — великодушно махнул рукой Клифт, — найду, в случае чего, как с вами связаться…
Кивая, словно китайские болванчики, заместители и домоправительница удалились из номера, пятясь. Видимо, не рискнули повернуться задом к такой важной персоне, как Клифт.
6
Оставшись один, Клифт оглядел еще раз роскошные апартаменты и очумело встряхнул головой. Воровская жизнь иногда оборачивалась к нему праздничной стороной, когда удавалось сдернуть особенно жирный, набитый «фанерой» (деньгами) лопатник.
Так случилось еще в советское время, когда он «снял» с заезжего армянина бумажник с сорока тысячами рублей — по тем временам деньги огромные, на них квартиру кооперативную в Москве купить можно было. Или уже недавно, перед самой отсидкой, — на сто тысяч баксов одного лоха умыл. Ух и гульнула тогда нищая Россия! И номера роскошные, не такие, конечно, как этот, у нефтяников, в гостиницах столичных снимал, и банкеты для братвы в лучших кабаках московских закатывал. А что? Деньги — мусор, настоящий вор никогда по ним не ведется. Как пришли на дурняк, так и ушли. Это нынешняя блатота на бумажки драные западает. А Клифту, по большому счету, все равно. Он и на шконке в тюрёмной хате, и в таком вот фильдеперсовом гостиничном номере себя одинаково комфортно чувствует. Главное — душевное равновесие и понимание того, что все преходяще. Сегодня ты весь в шоколаде, а завтра — в дерьме по самые уши. Надо быть всегда готовым к любому повороту событий. И фарт, и непруху принимать как должное, как две стороны одной медали, без отчаяния и истерик. Об этом же, между прочим, и священник на проповеди в зоне говорил. Батюшка это христианским смирением называл. Те, кто только на фарт рассчитывает, на то, что жизнь его непременно кучерявой должна быть, — гордыней страдает. А Бог — так понял Клифт — не фрайер, он всех насквозь видит. Его на кривой не объедешь, не схватишь за бороду. И если сегодня жизнь катит, насунул, например, два толстенных бумажника (последний у зама по общим вопросам снял), в апартаменты вселился роскошные на халяву, то завтра непременно жди неприятностей. Того же, например, киллера.
К слову, этот парень в ментовской форме беспокоил все-таки Клифта. Ведь кто-то ему гражданина Жабина заказал! А заказ, если подходить к делу чисто формально, не выполнен. Жабин-то жив-здоров и приступил к исполнению своих нефтеносных обязанностей. А то, что под его личиной скрывается авторитетный в воровском мире вор-карманник, пока никому не известно.
Впрочем, надолго задерживаться в роли нефтяного магната Валерка Пузанёв не планирует. Отдохнет чуток, бог даст, бабла срубит — и ищи ветра в поле. А паспорт покойного фрайерка Жабина уничтожит. Долго ли другой ксивой разжиться? Всего и делов — сунуть руку в карман затрапезного лепешка селянина какого-нибудь подходящих лет, за которым уж точно ни полиция, ни киллеры не гоняются…
Клифт потянулся, сбросил с себя пиджак, позаимствованный у почившего в бозе Жабина, с удовольствием взвесил в руках две толстенькие пачки купюр, извлеченных из стыренных только за последние сутки кошельков, хмыкнул удовлетворенно. О деньгах пару-тройку ближайших месяцев можно не думать… А может, рвануть из этой блат-хаты прямо сейчас? Жадность, как известно, фрайера губит…
«Ладно, не дергайся, — окоротил он себя. — Пользуйся, пока жизнь кучерявая катит…»
Сунул пачки денег во внутренний карман пиджака — самое ненадежное, кстати, место, любой начинающий щипач оттуда их мигом вытянет, но если ты сам вор-кар-манник, то беспокоиться не о чем. Ворон ворону глаз, как известно, не выклюет…
Клифт принялся разоблачаться дальше. Нужно принять ванну, побриться, морду одеколоном намазать — чтоб, так сказать, соответствовать. Не мешало бы и бельишко нижнее поменять — хотя бы носки дырявые. В подобных гостиницах, если в шкафах порыться, наверняка чистенькие да новенькие трусы-майки припрятаны. Если уж понтоваться, то до конца!
Он прошел в ванную комнату, посоображав минуту, разобрался в кранах и набуровил полную ванну, в какой не то что лежать в позе скифского покойника с согнутыми ногами, а даже побултыхаться можно, добавил из стоящих здесь же на полочках тюбиков и баночек шампуня, солей ароматических. Пена — шапкой, аромат — как в парикмахерской. Скинул трусы и плюхнулся, от удовольствия заурчав. Эх, всегда бы так жить!
Помывшись, вытерся огромным, как простыня, банным полотенцем, набросил на плечи приготовленный здесь же махровый халат и пошлепал босиком в гостиную.
В этот момент в дверь постучали — тихо, деликатно.
— Войдите! — опускаясь в податливое кресло гундосо-барственным голосом, как представлялось ему, должны разговаривать большие начальники, разрешил Клифт.
В комнату, толкая перед собой никелированный столик на бесшумных колесиках, тесно уставленный тарелочками с закусками, бутылками и вазой с фруктами, вошла горничная.
Была она молодая, смазливенькая, а блуждающая на полноватых чувственных губах шкодливая улыбка вселяла надежду, что она не только перекус может предложить. А эта молочно-белая, налитая, едва ли не до сосков обнажившаяся из-под передничка грудь…
Господи, ну можно ли посылать такие испытания мужику, полжизни проведшему в зоне, на безбабье?!
Клифт громко сглотнул, едва не поперхнувшись слюной, оторвался от созерцания женской груди. И, возведя ханжески взгляд к потолку, выдавил из себя приторно-сладко, кастратно даже, иначе не назовешь:
— Ах, оставьте, дорогуша. Я сам разберусь…
Но как только горничная, или черт знает, как она здесь называется, вышла, виляя бедрами, прикрыв за собой двустворчатую, с узорами золочеными дверь, цапнул прямо руками с тарелки кусок чего-то мясного, пряно-сладкого, жамкнул, слегка прикусив язык — блин, вку-уснотища-а!
Торопливо, плеснув мимо фужера, налил красного вина, выпил, поперхнувшись, большими глотками: ульк-ульк-ульк… Дребедень, кислятина. А что, интересно, водки здесь совсем уж не подают?
Поднял крышку с глубокой тарелки — а это что? Суп не суп, хренотень какая-то с устрицами и креветками. Зачерпнул ложкой — сойдет. Вроде ухи. Эх, к ней бы водочки!
Насытившись, вытянул из поданной на этом же столике пачки диковинную, зеленого цвета, сигарету, чиркнул позолоченной (а может, и золотой?!), зажигалкой, пыхнул ароматным дымком, зажмурился блаженно — живут же буржуи!
Покайфовав так, встал, обследовав номер. В шифоньере, как и предполагал, стопки новеньких трусов, белоснежных маек, носков, платочков. Все ненадеванное, в целлофановых упаковках. На вешалках — рубашки, костюмы, и парадно-черные, как на похороны, и празднично-светлые. Туфли в коробках — они что, мать их, и размер Жабина знали? Или это у них на все случаи жизни, для любого постояльца затарено?
Прошел во вторую комнату — спальня. Кровать-аэродром с балдахином — Клифт такие только в кино видел, тумбочки, еще какие-то мебеля… Все ясно. Дальше — гостиная с камином, по стенам — полки с разными финтифлюшками, статуэточками. Потом присмотреться надо. Может, если такую статуэточку барыге толкнуть, неделю прожить хватит? А вот кухня, должно быть. Стол, буфетная с посудой — сплошь хрусталь да фарфор, серебро с мельхиором, впрочем, Клифт в таких делах ни хрена и не смыслил — он же щипач, не домушник! Холодильник размером с гараж. Ух ты! Чего только здесь нет! Одних колбас и нарезанных, и палками, сортов двадцать. Да сыров столько же. А еще баночки разные жестяные, стеклянные, какая-то жратва в вакуумных упаковках — штабелями…
Он вдруг вспомнил пересыльную тюрьму в Соликамске, где ждал этапа месяца два еще в восьмидесятые годы, хату на сорок человек, а из деликатесов, кроме «хозяйской» хавки — кусок сала соленого с полкило возле решки, кулек слипшихся ландориков да сухари из черного хлеба… Вот бы этот холодильник туда! Братва бы вконец охренела…
В дверь опять аккуратненько постучали… Явно не мусора, которые «брать» приходят, — успокоил себя, дернувшись было привычно, Клифт.
На пороге возникла все та же пышногрудая горничная в белом, чуть ниже пупка, передничке:
— Юрий Степанович, звонили из офиса компании. Они за вами машину выслали. Там весь коллектив собрался — для представления…
— Через пять минут буду готов.
А про себя подумал: «Вот будет представление, если какая-нибудь сволочь в лицо настоящего Жабина знает!»
А потом решил: «Да хрен с ним! Раз такая масть привалила — надо рискнуть. На худой конец, за мной пока ничего криминального нет. Ну, в крайнем случае, морду набьют, как аферисту. В первый раз, что ли?»
7
Компания «Южуралнефть» располагалась в многоэтажном здании, выстроенном по современным архитектурным вкусам из бетона и зеленоватого стекла, а потому напоминала высоченную пивную бутылку, на горлышке которой штопором торчали раскидистые усы гигантских радиоантенн.
На входе Клифта встречали два толстомордых зама и вышколенная охрана в черной униформе, которая дружно вытянулась по швам и взяла под козырек.
Мягко шамкнув металлическими челюстями дверей, бесшумный лифт вознес стремительно троицу в офисное поднебесье — на шестнадцатый этаж.
Здесь Клифта, вернее изображенного им Жабина, тоже ждала выстроенная по ранжиру должностей компанейская челядь — мужчины и женщины, молодые и старые, спортивно-поджарые и раскормленно-брюхатые, но все с одинаковыми выражениями на лицах — восторженными и подобострастными. Они помахивали ему ладошками, как будто бы он был космонавт, вернувшийся после долгой вахты на околоземной орбите, и Клифт, глядя на их дорогие костюмы, прикинул с привычным восторгом, сколько в них покоится до поры лопатников, набитых плотно купюрами и кредитными картами!
А потому он с искренней радостью помахивал им ручкой в ответ, действительно чувствуя себя космическим первопроходцем на неизведанной, но богатой планете. Только стартовавшим в межзвездное пространство не с земли, а гораздо ниже, из выгребной, можно сказать, ямы.
Его провели в просторную приемную. На строгой табличке черным по белому было написано: «Юрий Степанович Жабин. Генеральный директор».
Секретарша Клифту сразу не глянулась. Он полагал, что у начальника такого уровня встречать посетителей должна была красавица вроде Анжелины Джоли, на худой конец Милы Йовович, а здесь — мегера преклонных лет, с поджатыми губами и сухая, как вобла.
Замы представили ее как профессионала высочайшего класса. Имя тоже было под стать — Елена Львовна.
«Гиена Львовна, — тут же поправил их мысленно Клифт и пообещал себе беспощадно: — Выгоню к чертовой матери!»
С тем и шагнул за порог собственного кабинета — огромного, как зал ожидания на столь любимом, удобном для работы щипача Казанском вокзале.
Здесь, напротив, все соответствовало представлениям Клифта о подобных конторах, почерпнутых из видеофильмов. Огромное, во всю стену, окно с видом города с высоты птичьего полета, подернутого зеленой пеной парков и скверов. Широкий, вроде теннисного, стол с письменным прибором — миниатюрный московский Кремль из розовой яшмы. Напольные часы в рост человека с тяжелым, словно кувалда, маятником и кандальными позолоченными цепями. По стенам — портреты Путина, Медведева и еще неизвестного Клифту лысого хрена в очках. Наверняка какого-нибудь главшпана.
За отдельно стоящим столом для совещаний восседало человек десять. Они дружно повернули головы в сторону вошедших и разом встали, отодвинув тяжелые кресла с высокими спинками и дружно зааплодировав, будто выхода любимого артиста дождались.
Один из толстоморденьких заместителей Клифта, Борщев, вспомнилась кстати его фамилия, шагнул вперед и представил, как заправский конферансье:
— Наш новый генеральный директор Жабин Юрий Степанович! — И, выдвинув мягкое кресло на колесиках в торце, во главе стола, указал на него Клифту: — Прошу садиться!
Во многих кабинетах приходилось в свое время сиживать Валерке Пузанёву. Елозил задницей, бывало, на жестких, обитых дерматином стульях в тесных комнатенках следаков и оперов из утро, мостился на привинченных к полу табуретах в комнатах для допросов в следственных и штрафных изоляторах, бывало и так, что со скованными за спиной стальными браслетами руками кубарем с таких тубарей на пол слетал… Но ни разу в жизни не доводилось ему сидеть в таком удобном, будто по фигуре сработанном, кресле, да еще во главе стола — словно самый авторитетный пахан на воровском сходняке. Сейчас бы, до начала терок, еще чифирчику хапнуть из эмалированной кружки, да чтоб края губы обжигали так, будто утюг целуешь!
Как вести себя с ментовскими следаками да зоновскими «кумовьями» Клифт знал отлично. Веди базар на любые темы, а что касается конкретного уголовного дела — полная несознанка. А вот о чем говорить с этими, сверлящими его преданными взглядами бандерлогами, он решительно не представлял.
Пауза грозила затянуться. Клифт откашлялся, а потом, вспомнив зоновского отрядного — старого, косноязычного майора-молдаванина, под чьим попечением он находился во время последней отсидки, — нырнул, словно в ледяную прорубь:
— Добрый день, дорогие граждане… э-э, вернее, друзья, — начал он. — Я счастлив тем, что мне представилась возможность влиться в ваш… э-э… коллектив… мнэ-э… нефтяников! — Он замолчал, соображая судорожно, вспоминая все, что слышал о нефти. Но, кроме того, что ее качают, просверливая землю эдакими большими штуками — буровыми вышками, кажется, а потом делают из нее бензин, — не вспомнилось ничего. Но Клифт не отчаивался. — Уверен, что нашими совместными усилиями мы сможем давать больше бензина… то есть нефти, стране!
«Эк, я загнул!» — откинулся он на спинку вальяжного кресла, а сидящие за столом опять дружно захлопали.
Воодушевленный, Клифт шпарил уже как по писанному:
— Ведь в чем, по большому счету, заключается смысл нашего существования? Смысл нашего существования, граждане э-э… нефтяники, заключается в честном труде на благо общества! А что такое честный труд? Это, прежде всего, выполнение нормы выработки! То есть производственного задания…
— Плана! — подсказал ему заместитель Борщев.
— Нуда, плана. Выполнение нормы выработки — главный показатель того, что мы твердо встали на путь исправления… э-э… экономической ситуации и сможем выйти на свободу с чистой совестью! («Что я несу?» — мелькнуло у Клифта в голове.) И он тут же исправился: — На свободные… э-э… мировые рынки! Вот! — не без удовлетворения тем, как удалось вывернуться, заключил он.
Ему опять захлопали — дружно, с воодушевлением.
— Ну хорошо, — пришел на выручку Борщев, — Юрий Степанович к нам прямо с дороги, с корабля, так сказать, на бал… На сегодня, думаю, достаточно. У нас еще будет возможность подробно обсудить производственные вопросы с новым генеральным директором. Все свободны. Вы не возражаете, Юрий Петрович?
Клифт благосклонно кивнул.
Сотрудники с явным облегчением оттого, что совещание не затянулось, а новая метла не принялась с ходу мести по-новому, дружно задвигали креслами, поднялись и, создав на секунду легкий водоворот у двери, мигом покинули директорский кабинет.
Остались два толстеньких зама — Борщев и второй, имя и фамилию которого Клифт напрочь забыл.
— Что ж, Юрий Степанович, смею заметить, что первое знакомство прошло успешно, — слегка кланяясь, подытожил Борщев. — Думаю, вам и впрямь следует отдохнуть с дороги, перекусить… Может быть, в ресторан заедем поужинать? Точнее, — глянул он на часы, — пообедать?
«А бочата-то у него крутые. Тысяч десять баксов, не меньше. Если вон за ту защелочку на браслете дернуть, то снять можно в секунду, и хрен он чего почувствует!» — отметил про себя Клифт и, решив не рисоваться пока в людных местах, отказался:
— Я и впрямь притомился что-то. Давайте в гостиницу!
Уже направляясь к выходу из кабинета, они услышали в приемной какой-то приглушенный шум, «охи» и «ахи».
Чувствуя себя пусть временным, но все же паханом в этой конторе, Клифт решительно распахнул дверь.
Взору его представилась та же вышедшая только что из кабинета публика, только застывшая, похожая на группу мраморных статуй с заломленными руками, — такую Клифт видел в Санкт-Петербурге, гуляя в Зимнем саду.
Все они смотрели на нечто, бывшее в руках у мужика в синей спецовке.
— А я чо?! — оправдывался тот. — Мне велено доставить, вот я и доставил. Все же уплочено!
Только сейчас Клифт наконец понял, что за предмет нянчил посыльный в руках. Это был траурный венок — дорогой, должно быть, пахнущий остро белыми розами и еще чем-то — то ли масляной краской, то ли церковным ладаном: Надпись на черной ленте крупными золотыми буквами читалась отчетливо: «Незабвенному Юре от безутешных родных».
— Эт… это что такое! — вскричал грозно Борщев и накинулся на посыльного: — Сейчас же уходите отсюда! — И, повернувшись к Клифту, покачал головой. — Наверняка происки конкурентов, Юрий Степанович! Я сейчас же дам команду нашей службе безопасности — пусть разберется!
— Ну-ну, — хмуро кивнул Клифт.
А про себя подумал: «Ни хрена это не происки! Настоящего-то Жабина и в самом деле грохнули! И тот, кто послал венок, об этом отлично знал».
8
На следующий день Клифт раньше других сотрудников прибыл в офис компании, вознесся в свой кабинет и до прихода секретарши решил осмотреть владения.
Стенка с полками, заставленными огромными, как фибровый чемодан, папками-скоросшивателями, на корешках которых красовались надписи вроде «Производственные показатели за 1 квартал 2014 года» или «Анализ налоговых отчислений в 2013 году», оставила его равнодушным. Рабочее место, уставленное огромным количеством телефонов разных моделей, мониторами и еще какими-то хитроумными электронными штучками, не заинтересовало особо. Он выдвинул несколько ящиков стола — ничего интересного. Авторучки в футлярах, прочая канцелярская дребедень.
А вот комната отдыха привлекла внимание. Здесь все располагало к неге и отдыху. Тигриная шкура на просторном диване, медвежья — на полу, низкий стеклянный столик с глянцевыми журналами. В укромном закутке — что-то вроде кухоньки с буфетной, газовой плитой, чайными и кофейными причиндалами. Здесь же — холодильник, не такой, конечно, как в гостиничном номере, но тоже весьма вместительный, набитый снедью. В том числе и разнокалиберными бутылками со спиртным.
Клифт только-только нацелился налить себе из початой бутылки фужер дорогущего, должно быть, коньяка, как за спиной его деликатно кашлянули.
Он обернулся. Перед ним стоял тщедушный еврей весьма преклонных годов.
— Здравствуйте, Юрий Степанович. Я ваш заместитель по производственной части, Горовой Абрам Самуилович, — вежливо отрекомендовался он. — Извините, что без доклада. Вчера пообщаться не пришлось, вас быстренько… х-хм, увезли. Так я сегодня, с утра пораньше, чтобы никто не мешал…
— Да что вы! — радушно пожал сухую ладошку, а потом по- свойски приобнял его за плечи Клиф. — Какие между нами, производственниками, могут быть сантименты? Пойдемте, поговорим, — и повлек визитера к дивану. — Пообщаемся, так сказать, в неформальной обстановке…
Присели.
— Ну и сколько этих, как их там… баррелей нефти мы накачали? — с места в карьер взял карманник. — В достаточном ли количестве обеспечили народное хозяйство нефтепродуктами?
Абрам Самуилович проницательно посмотрел ему в глаза, сказал со вздохом:
— Нефтепродукты — это переработка. А у нас сырье… Послушайте, молодой человек. То, что вы в нашем деле, простите за резкость, ни бум-бум, очевидно любому. Ничего-ничего, — успокаивающе похлопал он по коленке дернувшегося было Клифта, — я привык. Давно привык к тому, что электроэнергетикой у нас рулят бывшие цветочные спекулянты, металлургией — фарцовщики, а нефтянкой — военные или бандиты. Пусть так. Раз в стране капитализм — я согласен. Я даже не спрашиваю, каким бизнесом вы занимались, прежде чем попасть к нам…
— Я? Э-э… финансовым! — нашелся Клифт.
Абрам Самуилович покивал скорбно, прозорливо представив, должно быть, успехи собеседника на этом непростом поприще.
— Ну, пусть будет финансовый, — согласился он. — А потому я предлагаю вам такой уговор. Вы представляете, скажем так, официальное лицо компании. Встречаетесь с разными уважаемыми людьми, представителями власти, прессой. Сидите в президиумах на совещаниях, ездите на бизнес-форумы, симпозиумы и конгрессы, отдыхаете, развлекаетесь. Только в производственные вопросы не лезьте. Не морочьте голову себе и людям. А я, если потребуется, любую справочку вам представлю, любой проект приказа или распоряжения, подготовлю — за вашей подписью. Договорились?
— Да без проблем! — легко согласился Клифт и польстил в свою очередь: — На вас, ветеранов, надежда особая. Вы, старая гвардия, еще повоюете!
Абрам Самуилович удалился, а Клифт усевшись за начальственный стол, начал первый рабочий день.
Следующей посетительницей оказалась главный бухгалтер фирмы — дама солидная, лет пятидесяти, с Вавилоном смоляно-черных волос над полным, холеным лицом.
Клифт хорошо знал этот типаж. Сколько таких дамочек он «пощипал» в свое время — не счесть. В общественном транспорте они для карманника, как правило, самое то. Войдут в салон — и на окружающих ноль внимания. Головку вскинут гордо, подожмут губки презрительно, стоят, по сторонам не глядя, о своем думают — о работе, семье, да черт их знает о чем, а ридикюль — вот он. Замочек — щелк, кошелечек — цап. А в кошелечке — денежки, да немалые. Купюры аккуратненькие, по отделениям бережно разложенные, — тут соточки да пятисоточки, здесь пятидесяточки, а дальше тысячные да пятитысячные… Благодать!
А потому главбухше улыбнулся вполне искренне, как давней знакомой:
— Здрассьте, здрассьте, Дарья Сергеевна… Мечтал поближе с вами познакомится. Присаживайтесь, — и даже выскочил из-за стола, креслице пододвинул.
Главбухша, женщина, судя по всему, жизнью тертая да битая, знавшая определенно, что каждый новый руководитель норовит, как правило, своего главбуха поставить, доверенного, а старого — в шею, держалась настороженно.
Положила перед собой гроссбух, раскрыла и, нацелившись в него толстым коротким пальчиком с наманикюренным ярко-красным коготком, приступила официально:
— Я бы хотела, Юрий Степанович, для начала ознакомить вас с общим финансовым состоянием нашей компании…
У Клифта аж зубы мудрости заныли.
— Дарья Сергеевна, мне характеризовали вас как специалиста высочайшей квалификации. Там, — возвел он глаза к потолку, — вами довольны. Поэтому я знаю, что финансы компании — в надежных руках… Если нужно подписать какие-то бумаги, я с удовольствием это сделаю.
Главбухша успокоилась, приосанилась:
— Не хотелось бы в первый день загружать вас текучкой… Но один документик вам подписать придется, — промурлыкала она вкрадчиво.
И пододвинула ближе к начальнику несколько листочков, скрепленных степлером.
— Что это? — притворно озабоченно, хотя плевать ему было На содержание, поинтересовался Клифт, беря в руки бумаги.
— Приказ о том, что вы приступили к исполнению обязанностей, и в связи с этим — выплаты вам подъемного пособия и зарплаты за первый месяц. Подпишите вот здесь и здесь, там, где галочки.
— И сколько мне полагается? — с деланным равнодушием поинтересовался он.
— Ну, поскольку нефтью мы торгуем в основном в долларовом эквиваленте, то и зарплату вам считаем в этой валюте. Ваша заработная плата составляет пятьдесят тысяч долларов в месяц, подъемные в размере двух месячных окладов — сто тысяч. Таким образом, вам причитается сто пятьдесят тысяч долларов. С надбавками — уральским коэффициентом, и прочими — около пяти миллионов рублей.
Если бы не подлокотники, Клифт мог бы свалиться с кресла.
— И… их-р-р… — сдавленно просипел он, не находя слов.
— Будут еще и премиальные. За квартал и по концу года, — неправильно истолковав его реакцию, поспешила успокоить главбухша.
Клифт аж затрясся:
— Премиальные — их же еще заработать нужно… — А потом наконец решился: — И… что? Когда я эти деньги смогу получить?
— Да хоть завтра. Сообщите мне, какая у вас карта, код, и мы сразу же перечислим всю сумму. В рублевом эквиваленте. Можем какую-то часть и в долларах, евро — как прикажете.
— А… наличными можно? — выдохнул решительно Клифт.
— Всю сумму? — удивленно подняла брови главный бухгалтер.
— Ну-у… Мне предстоят кое-какие расходы… — закрутился, словно карась на раскаленной сковородке, Клифт. — Может, не всю, но… э-э… большую часть…
— С этим чуть посложнее. Но к завтрашнему дню я все подготовлю, — заверила главбухша. — В какой валюте прикажете?
— Да в рублях можно. В рублях, родненьких, — с трудом скрывая ликование, уточнил Клифт.
А про себя подумал: «Хрен я без этих бабок отсюда слиняю!»
9
Всю оставшуюся часть дня Клифт изображал бурную деятельность. В основном по телефону.
Секретаршу он увольнять раздумал — та действительно оказалась хорошим помощником. Всякий раз, прежде чем соединить его с очередным абонентом, она четко докладывала, кто и по какому поводу звонит. С некоторыми управлялась сама.
— Юрий Сергеевич, из налоговой звонили. Я им посоветовала по этому вопросу переговорить с Дарьей Сергеевной. Тренер детской хоккейной команды на прием к вам хотел попасть. Я его к Лисицину, к заму по связям с общественностью, направила…
Но кое с кем и соединяла.
Всякий раз, не без трепета берясь за телефонную трубку, Клифт выдыхал осторожно:
— Да?
Выслушав терпеливо собеседника и не поняв ни слова из разговора, вопрошал одинаково:
— Ну, а вы-то сами как считаете? Во-от, в правильном направлении мыслите. Так и действуйте, я не возражаю…
К исходу дня он понял, что таким нехитрым образом мог, пожалуй, руководить не только любой компанией, но и страной.
Несколько раз он удалялся в комнату отдыха, прикладывался к коньяку — ароматному, крепкому и, присев на диване, покуривал, пуская дым в потолок.
В конце интенсивного дня ожил селектор на его столе, и объявил голосом секретарши Елены Львовны:
— К вам заместитель по связям с общественностью Ли-сицин Алексей Никанорович.
— Введите! — бабахнул расслабившийся было Клифт, но тут же поправился: — В смысле, пусть войдет…
Тот вошел — улыбчивый, угодливо-вкрадчивый. Чувствовалось, что улыбаться он начал еще загодя, по ту сторону двери начальственного кабинета. Небось, когда хватился пропавшего бумажника, морду-то скособочил… А сейчас ничего, свыкся с потерей… А может, и новый кошелек в карман положил?
— Как там наша общественность поживает? — уже освоившись вполне с ролью руководителя, покровительственно осведомился Клифт.
— Да по-разному, — уклончиво начал заместитель. — Вы же понимаете, что экономическая ситуация в стране и в регионе складывается не просто. Многие промышленные предприятия в области встали. Люди потеряли работу. На этом фоне социсследования — наши, закрытые, естественно, — фиксируют э-э… некоторые негативные тенденции отношения общественности к нашей компании. Дескать, многим, и в агропромышленном комплексе особенно, приходится затягивать пояса, а нефтяники жируют. При этом сырье — источник своего обогащения — качают из здешней земли-матушки, на которой еще деды-прадеды местных аборигенов жили…
— Резон в таких мнениях есть, — согласился Клифт.
Лисицин утерся платком.
— Уф-ф, запарился, такая жарища на улице… Если б не кондиционер… Тут ведь смотря как, Юрий Степанович, к этому вопросу подойти. Без нас, нефтяников, эти деревенские лапотники еще тысячу лет бы по земле родимой ходили, пахали да сеяли, перебивались бы с хлеба на квас. И не догадывались бы, какое добро в здешних недрах сокрыто. А как начали мы бурить да качать — сразу столько завистников появилось! Мы же налоги в бюджеты всех уровней сполна платим. Наша компания — один из главных налогоплательщиков области, бюджетообразующая, можно сказать! А понимание этого факта среди населения, я бы сказал, недостаточное. Опять же, газетки некоторые народ баламутят, общественность против нас, нефтяников, настраивают.
— И… что? — вяло поддержал мало интересующий его разговор Клифт.
— Следует усилить меры контрпропаганды! — вдруг по-военному четко, даже пристав с кресла, отрапортовал Лисицин. — У меня тут планчик составлен, позвольте доложить?
— Это надолго? — без энтузиазма осведомился Клифт.
— Да нет, весь я не буду зачитывать, — правильно понял настроение шефа Лисицин. — Туг много специальных пунктов для нашей пиар-службы… Вам в них вникать ни к чему. Пусть они сами на свой кусок хлеба с маслом, да еще с черной икрой, зарабатывают. Я вас только проинформирую в общих чертах. Понадобился немного увеличить расходы, а Дарья Сергеевна, естественно, против…
— Валяйте, — обреченно разрешил Клифт.
Лисицин с готовностью раскрыл перед собой папочку, зачастил, шелестя страницами:
— Мы, Юрий Степанович, работу по укреплению имиджа компании давно ведем. Так, в газете областного правительства, в районных газетах на территориях, где базируются наши производственные мощности, постоянно публикуются материалы 0 достижениях нашей компании, о помощи учреждениям социальной сферы, о передовиках, ветеранах нефтяной отрасли. На трех телеканалах, вещающих на всю территорию области, постоянно идут циклы передач того же содержания. Но все это, скажем так, плановая работа. А нужны… мн-э-э… прорывные акции, способные вызвать широкий общественный резонанс. В позитивном ключе, естественно. Такие мероприятия нами разработаны. Смета дополнительных расходов прилагается. Планируется и ваше непосредственное участие…
— Это, пожалуй, лишнее! — отрезал Клифт. Не хватало еще в видеохронику попасть!
— Простите, Юрий Степанович, но с такой позицией я категорически не согласен! — продемонстрировал неожиданную настырность Лисицин. — Дело в том, что генеральный директор Южноуральской нефтяной компании в нашем крае — традиционно фигура публичная. Можно сказать, наш гендиректор — один из творцов реальной политики в регионе. Компания имеет решающее слово на выборах депутатов различных уровней, да что там депутатов, в принципе, и самого губернатора! А сколько политических партий из наших рук кормится?! Сегодня в Законодательном собрании области, например, мы имеем мощнейшее нефтяное лобби, которое позволяет нам проводить выгодные компании законы, особенно связанные с разработкой недр, экологией. Когда мы принесем вам закрытые ведомости по расходам на поддержку общественно-политических организаций, все сами увидите. К нам едва ли не вся местная оппозиция, все эти пламенные обличители режима на брюхе раз в месяц за жалованием приползают…
«Линять надо отсюда…» — тоскливо подумал Клифт, не желавший вникать во всю эту муть, а потом вздохнул, словно крайне занятой человек, вынужденный заниматься пустяками:
— Давайте конкретные предложения. Где мое присутствие крайне необходимо?
Заместитель приободрился:
— На одном мероприятии из представленного плана ваше присутствие обязательно. Оно обещает привлечь повышенное внимание общественности, а главное, средств массовой информации.
— Артистов каких-нибудь пригласите с концертами? — догадался Клифт. — Пугачеву, Галкина? Мне вот еще группа «Лесоповал» нравится…
— Артисты тоже будут, — пообещал заместитель. — Мы их на празднование дня города через две недели подрядили. Но то мероприятие, о котором я говорю, должно подчеркнуть особо, что мы — социально-ответственная компания.
— О чем речь, не тяни, — окоротил заместителя Клифт. А сам думал с раздражением: интересно, ему, как руководителю, обязательно до шести вечера в кабинете париться? Или можно слинять пораньше? И что бы насчет жратвы сообразить — в гостинице поужинать, там-то наверняка челядь подсуетится, или в ресторан какой-нибудь местный зарулить?
— Это мероприятие уже сегодня, — огорошил его Лисицин. — Поездка в детский дом с вручением подарков. Согласны?
Клифт, подумав для вида, кивнул благосклонно:
— Это дело хорошее… Кстати, насчет ужина…
— Через полчаса выезжаем. — Предупредительно пояснил заместитель. — Там и поужинаем.
— В детском доме? — изумился Клифт.
— Да что вы! — всплеснул руками Лисицин. — Места там чудесные. Лес. Речка. На природе и перекусим…
10
К детскому дому, расположенному на окраине утопавшего в июльской зелени села, на бережке особенно широко раскинувшейся здесь глади степной реки, подъехали с помпой.
Вереницу автомобилей возглавлял торжественно-черный, огромный, как грузовик, джип — «Лендкрузер». В нем, овеваемые прохладной струей воздуха из кондиционера, восседали Клифт и Лисицин. На переднем сиденье бронещитом застыл молчаливый охранник. Следом, пыля по проселку, подкатила колонна разномастных иномарок и микроавтобус «Пежо» — с подарками детям и снедью для шефов по случаю предстоящего по поводу благотворительной акции банкета. На «Газели» подъехали бригады телевизионщиков.
Лисицин споро выскочил из машины и поспешил к журналистам, торопливо вспарывающим замки-«молнии» кофров с аппаратурой и расставляющим на траве боевые треножники видеокамер.
Клифт, выбравшись из джипа, крутил головой, обозревая окрестности:
— Эх, Юрий Степанович, красота-то какая! — услышал он за спиной.
Оглянувшись, увидел второго зама, Борщева.
— Нас, Юрий Степанович, встречают, — предупредил тот.
Клифт с интересом рассматривал находившийся в полусотне метров детский дом. Явно постройки прошлого века, но крепкое еще двухэтажное здание, рубленное из широченных, в два обхвата, бревен вековых лиственниц, с затейливой резьбой по наличникам окон, крашенных в веселенький голубенький цвет, с крышей, крытой бурым от ржавчины кровельным железом. На широком крыльце с деревянными столбами-колоннами застыла стайка детей и взрослых: две девочки в сарафанах до пят, в кокошниках, с хлебом-солью, и несколько мужчин и женщин в строгих деловых костюмах и платьях. В сторонке, несколько наособицу, — баянист залихватского вида с инструментом на груди.
Трусцой, гремя разгрузкой, как солдаты, занимающие боевые позиции, деловито пробежали мимо телеоператоры, заняли господствующие на подступах к крыльцу позиции.
— Пойдемте потихонечку, — предложил Борщев.
С приближением гостей баянист рванул меха и выдал переливчато мелодию, в которой Клифт не без удивления угадал «Свадебный марш» Мендельсона.
— Та, что впереди, — заведующая детским домом Горячева Елизавета Ивановна, — нашептывал между тем Борщев. — Рядом — глава района, Антон Федорович Поршнев. Ну и мелочевка разная — завотделом районного образования, учителя, воспитатели…
Заведующая детдомом, — на удивление молоденькая, худенькая, стройная, сама не слишком отличавшаяся от старших воспитанниц, рдея щеками, шагнула навстречу гостям. По кивку Борщева угадав, кто в этой процессии главный, обратилась к Клифту:
— Дорогой Юрий Степанович! — запнулась, смутившись, поправила воздушно-белый шарфик на плечах, продолжила срывающимся голосом, как пионерка: — Мы все, в особенности наши дети, счастливы видеть вас на пороге нашего общего дома. Спасибо вам за внимание к нашим деткам, за подарки… — Она окончательно сбилась, смутилась под пристальным взглядом неморгающих телекамер.
На выручку подоспел глава района — высокий, дородный, с тремя подбородками, уложенными один на другой и незаметно переходящими в жирную грудь, распирающую темный костюм-тройку:
— Глубокоуважаемый Юрий Степанович! Волнение заведующей детским домом понятно. Несмотря на значительную поддержку со стороны государства, органов местного самоуправления, которую мы оказываем этому учреждению, помощь нефтяников оказывается всегда кстати и воспринимается с благодарностью. — Он искоса глянул на телекамеры, приосанился и выдал как по писаному, обращаясь к невидимой телевизионной аудитории: — Компания «Южуралнефть» является традиционным спонсором для всей социальной сферы района. Мы искренне благодарим руководство компании, — он жестом указал в сторону Клифта, — в лице ее руководителя, Юрия Степановича Жабина, за бескорыстную и неустанную заботу о детях, оставшихся без попечения родителей. Вы обратили внимание, — на этот раз глава без утайки, честно и открыто смотрел в объективы телекамер, — что мы не называем содержащихся здесь детишек сиротами. Они не сироты. Они имеют заботливых и ответственных родителей, в роли которых выступают государство, муниципальные власти, а также постоянные социально-ответственные спонсоры вроде компании «Южуралнефть».
Репортеры, словно по команде, дружно сорвались с места, шустро выкатили рядком свои камеры, нацелились на Клифта.
Тот, благодарно кивнув, принял из рук Лисицина папочку с заранее заготовленным текстом и, посматривая то в нее, то прямо в объективы — видел по телеку не раз, как это делали выступающие политики, — выдал без запинки речевку:
— Представители нефтяной компании «Южуралнефть» не временщики на этой земле. Наша компания является самым крупным налогоплательщиком в областной и районный бюджеты, что способствует росту благосостояния населения, создает новые рабочие места. Но, кроме этого, мы постоянно изыскиваем внутренние резервы, экономя порой на самом необходимом, чтобы еще чем-то помочь нашим гражданам — малоимущим, пенсионерам, детям и инвалидам. — Клифт оторвался от бумажки, просветленно огляделся вокруг, представляя одновременно, как поможет ментам эта запись в изобличении его как мошенника. Но собрался с духом и продолжил: — Вместе со всеми жителями этого благодатного, богатого недрами края, наша компания устремлена в будущее. А будущее, как известно, заключается в детях. Дети, у которых мы сегодня в гостях, нуждаются в особой, я бы сказал, отеческой заботе. Поэтому мы приехали не с пустыми руками. — Клифт обернулся к своей многочисленной свите: — Что же вы медлите? Несите подарки!
Баянист, четко уловив момент, опять врезал свадебный марш, вспугнув грачей, с гвалтом слетевших разом с высоченных, как небоскребы, тополей во дворе, заметавшихся черными точками по белесому небу и осыпавших гостей едкими, как известь, каплями помета.
Глава района, брезгливо смахнув белоснежным платком серую кляксу с лацкана пиджака, обернулся к заведующей, растянув губы в улыбке:
— Ну что ж, Елизавета, приглашай дорогих гостей в дом!
11
Внутри здания бросалась в глаза чистенькая, примазанная свежей масляной краской, осветленная побелкой, но все-таки неистребимая до конца сиротская бедность. Она проглядывала предательски — то в стоптанных вкривь и вкось детских ботиночках в раздевалке, в латках на простынях застеленных ровно кроваток, в затертых, истрепанных до бумажной бахромы по-краям, сшитых заново толстыми суровыми нитками, подклеенных книжках на полках библиотеки, слышалась в скрипнувшей некстати подгнившей половице под истертым линолеумом.
Детишки — человек тридцать, чинно сидели на низких скамеечках в «игровой комнате», отличающейся, как пояснила заведующая, от прочих обилием игрушек, акварельных рисунков по стенам и толстым, с белесыми проплешинами ковром на полу.
Увидев взрослых, ввалившихся гурьбой в «игровую», занявших собой едва ли не все пространство, дети сжались на своих скамеечках, тараща глазенки — нет, не испуганные, скорее смущенные от обилия незнакомых лиц. А потом, вспомнив наставления, или повинуясь неприметному знаку воспитателя, протянули вразнобой:
— Здра-авствуй-те-е…
У Клифта, отродясь не считавшего себя сентиментальным, сердце вдруг болезненно сжалось. Полыхнули ярко, как фотовспышка, собственные воспоминания. Детский дом, похожий на этот, нет, не архитектурой, тот был городской, каменный, и оттого еще более холодный, а пронзительной, сиротской бесприютностью и тоской, будто намертво въевшейся в стены подобных богоугодных заведений. А еще чувством неприкаянности, которую не могли вытравить ни ласковые нянечки, ни добрые воспитатели, хотя их, добрых да ласковых, на всех сирот все равно не хватало. И эта сиротская тоска и неприкаянность сопровождали Клифта всю жизнь…
Ему вдруг потребовалось промокнуть украдкой повлажневшие уголки глаз, и, чтобы пресечь воспоминания, он произнес громко, дрогнувшим-таки предательски голосом:
— Здравствуйте, ребятишки!
Полудурошный гармонист опять растянул меха с переливом, окончательно отсекая Клифта от прошлого, и он продолжил деловито и бодро:
— Я хотя и не Дед Мороз, а подарки вам принес…
И тут же засуетилась свита, открывая пакеты, коробки:
— А вот кому зайчика? Куклу Барби? Есть машинки и паровозики… Вот ранцы для школьников…
Дети вскочили, бережно принимали подарки, прижимали к груди.
И все это — под объективами телекамер.
Потом визитерам пришлось, поменявшись местами с ребятней, высидеть на неудобных низеньких скамеечках еще полчаса, в течение которых дети сбивчиво декламировали стишки, пели нестройно, танцевали, спотыкаясь и заплетаясь ногами.
У Клифта эта трогательная самодеятельность вызвала противоречивые чувства. С одной стороны, он понимал, как непросто этих «особых» детей, страдавших задержками психического развития, олигофренией, обучить всем этим простеньким текстам и нехитрым танцевальным движениям. С другой, вспомнил опять, как когда-то непостижимо давно и его со сверстниками натаскивали так-то, заставляя петь да плясать, разучивать стихи к праздникам, разного рода «смотрам» и проверкам детдома комиссиями. А он тогда уже был вольнолюбивым и своенравным, не терпел малейшего принуждения, что и привело его, не желавшего подчиняться общепризнанным правилам, по кривой дорожке в тюрьму. А то, что за всякую вольность приходится в конце концов расплачиваться подневольностью, он сообразил тогда, когда уже поздно было…
А вот заведующая детским домом ему явно понравилась. И внешностью миловидной, беззащитностью хрупкой, и тем, что угадывался в ней все-таки титановой прочности стерженек, без которого невозможно, наверное, руководить подобным учреждением. Будь у него в подростковом возрасте такая заведующая в детском доме, он бы в нее непременно влюбился. Хотя… если можно под-ростку-недорослю, то почему нельзя солидному, знающему жизнь сорокалетнему мужику? К тому же возглавляющему крупную нефтяную компанию?
«Ты не солидный мужик. И не богатей-нефтяник. Ты — вор-рецидивист с пятью ходками на зону…» — окоротил себя Клифт, но на пламенеющую щеками заведующую, к которой жались, хватая ручонками за подол праздничного платья самые маленькие воспитанники, смотрел исподтишка с все возрастающей симпатией и интересом.
Прощались на крыльце детдома как бы уже по-свойски, теплее.
— Приезжайте к нам еще! С подарками! — кричала нестройно детвора, а Елизавета Ивановна, заведующая, пожала руку Клифту и пояснила шепотком: — Не сочтите наших детишек нескромными… Они… такие непосредственные… Сегодня с вашими зайками да медвежатами спать лягут…
— И вы ко мне, если какие проблемы появятся, без стеснения заходите. Чем смогу — помогу, — предложил Клифт.
И ему отчего-то захотелось, чтобы эти неотложные проблемы возникли как можно скорее.
12
Покинув двор детского дома, вереница джипов не свернула к шоссе, а потянулась по грунтовой дороге к пойменному лесочку неподалеку.
Переваливаясь на ухабах, задевая за ветви, автомобили через четверть часа выкатились на залитый предзакатным солнцем лужок. Чуть дальше блестела, отливая багровым, гладь затаившейся к ночи реки. Пахло тиной и рыбой. Квакали с переливами лягушки.
На сытой, темной от избытка влаги траве дымил костерок. Здесь же стояли накрытые щедро столы, на которых царили огромные, ведерные, не иначе, сияющие бронзовыми боками самовары, и официанты, нелепо смотрящиеся среди пойменного кустарника в своей отутюженной белой униформе, с черными галстуками-бабочками, раскладывали приборы.
— Это место называется Лебяжий плес, — пояснил Клифту освободившийся от журналистов зам по связям с общественностью Лисицин. — В усадьбе, где сейчас детский дом расположен, раньше, до революции, помещик жил. А здесь, на берегу, его любимое место отдыха было. Беседки стояли, купальни. Лебеди здесь гнездились. Даже экзотические, черные. Вся окрестная знать летом сюда, на плес, съезжалась. Потом помещика, естественно, в шею. Советская власть объявила: все лучшее — детям. И отдала эти чудные места под детский дом. А мы планируем в будущем году базу отдыха здесь построить. Восстановить, так сказать, историческую справедливость…
Клифта усадили в центре стола. По правую руку от него разместились оба заместителя. По левую — глава района и еще двое в форме, с полковничьими погонами. Их представили как начальников райотдела полиции и местного отделения МЧС.
Такое соседство слегка напрягло Клифта, но он и бровью не повел. Поднял на правах старшего хрустальную рюмку с водкой, качнул головой. Лисицин, как опытный тамада, встрепенулся мгновенно, вскочил, провозгласил с пафосом:
— Друзья! Не часто выпадают нам в напряженных трудовых буднях минуты отдыха. И такого вот единения с природой. Но, как говорится, кто хорошо работает, тот хорошо и заслуженно отдыхает. Правильно? Слово генеральному директору нашей компании, дорогому Юрию Степановичу Жабину!
Клифт, уже поднаторев в речах, коих за последние сутки произнес больше, чем за всю предыдущую жизнь, оттарабанил нечто дежурно-приподнятое, ввернув, кстати, вычитанное из корпоративного журнала что-то про нефть — кровь, несущую жизнь всей мировой экономике. Звякнул краешком рюмки со всеми протянутыми к нему хрустальными бокалами, выпил и закусил соленым грибочком. Ткнулся вилкой во что-то изысканное, безумно-вкусное, лежащее горкой перед ним на тарелке, потом нацелился на морепродукты — осклизлые, с щупальцами, но тоже ничего. А после, с короткими перерывами на очередной тост, с непременными славословиями в свой адрес, которые произносили все, даже начальник полиции, уплетал за обе щеки порезанного кольцами осетра, шумно хлебал, утирая вспотевший лоб, уху из стерляди, заправленную вместо пшенки черной икрой, закусывал зажаренным до негроидно-коричневой корочки молочным поросенком, кусками шашлыка — прямо с шампура, с зеленью, резанным тонко репчатым луком и кислым ткемалевым соусом.
Передыхая от обжираловки, Клифт откинулся на спинку пластикового кресла, расслабил на шее галстук, закурил, оглядывая сыто стол, и вспомнил вдруг другие столы, за которыми чаще всего доводилось сидеть ему в жизни. Длинные, обитые оцинкованным железом в колонийских столовых, с алюминиевым бачком харча на десятерых, пайкой серого, спецвыпечки, хлеба — четвертушкой буханки, да эмалированной кружкой мутной бурды, именуемой у «хозяина» чаем.
Лисицин, поднявшись из-за стола — распаренный, красномордый, — махнул рукой куда-то в сторону леса, и тут же в сгустившихся сумерках из чащи выкатились музыканты — да не какие-нибудь балалаечники-гармонисты, а во фраках, со скрипками да виолончелями, подставками для нот… каких… пюпитрами, что ли? Расселись быстренько на раскладных стульчиках, взмахнули смычками, и…
Как упоительны в России вечера… Любовь, шампанское, закаты, переулки… Балы, красавицы, лакеи, юнкера, И вальсы Шуберта, и хруст французской булки… Как упоительны в России вечера…Это уже певец выводил — статный, рослый, с мощной, непрокуренной грудью.
И Клифт поддался всеобщему настроению, соглашаясь легко, что действительно, черт возьми, упоительны вечера в России, когда жрешь жареных поросят с заморскими каракатицами, а не хлебаешь баланду из алюминиевой миски. И если уж кто достоин из всей этой гоп-компании насладиться заслуженно сегодняшним вечером, так это он, столько переживший и натерпевшийся уголовник…
— Симфонический квартет. Академический, — хвастливо, будто сам с музыкантами на скрипках пиликал, шепнул Лисицин. — Им Бетховена или, к примеру, Шопена какого-нибудь сбацать — раз плюнуть. На их концерты билеты народ за полгода вперед раскупает. Из тех, кто в такой музыке шурупит, естественно. А мы только свистнули — вмиг прибежали.
Клифт, обратив на музыкантов хмельной взор, гаркнул, перекрывая мелодию:
— А «Мурку» смогёте?!
— Смогем! — не моргнув глазом, склонился в полупоклоне певец и кивнул музыкантам. Те — две барышни, в длинных, до пят, черных концертных платьях, и два мужика того же благородного вида, во фраках, белых манишках, с гривами седых, в артистическом беспорядке всклокоченных волос, — разом резанули по струнам смычками:
Или тебе, Мурка, Плохо было с нами, Или не хва-а-атало барахла?Уже совсем стемнело, когда Клифт выбрался из-за стола и вышел, ступая по росистой траве, на бережок.
Туманясь, катила в кудрявой лесистой пойме река; подзадоренные неслыханными раньше здесь скрипками, завели свои песни лягушки, квакая особенно страстно, будто доказывая, кто в этом доме настоящий хозяин. Стремительно бросались с окрашенных багровыми отблесками заката небес на темную воду припозднившиеся чайки, а потом взмывали, выходя из крутого пике, с добычей — мелкой рыбешкой.
— Эх, хорошо-то как, Господи, — вздохнул, расправляя жирную грудь, Борщев. — Хоть офис переноси сюда! Будущим летом, — обернулся он к Клифту, — мы здесь основательно обоснуемся. Построим турбазу, лодочную пристань, баньку. А ваш персональный коттедж на месте детского дома поставим. Старое здание с фасада подновим, чтобы колорит усадьбы помещичьей сохранить, а внутри наполним, так сказать, современным содержанием. От города здесь недалеко, дорогу проложим, заасфальтируем. Полчаса — и вы в тишине, на свежем воздухе.
Клифт недоуменно воззрился на заместителя по общим вопросам:
— А сирот куда? Новый дом им построим?
— На кой?! — возмутился Борщев. — Мы никому ничего строить не обязаны. Наша компания, как социально-ответственное предприятие, налоги в бюджеты всех уровней исправно платит, спонсорскую помощь учреждениям социальной сферы оказывает. Например, вот эта благотворительная акция нам в двадцать три тысячи долларов обошлась…
— Дороговато нынче плюшевые мишки стоят… — заметил мимоходом Клифт.
— У меня все подсчитано, — с хмельной обидой взвился заместитель. — Тысяча долларов — на подарки сиротам, две тысячи — журналюгам, да двадцать тыщ баксов — на банкет. На лоне природы. А что? Заслужили!
— Ну-ну, — пораженный такой арифметикой, кивнул хмуро Клифт. — Игрушек сиротам на тысячу долларов подарили, а пропили по этому поводу — двадцать… А детдом-то куда все-таки денете?
Борщев, отвернувшись к реке, расстегнул ширинку, помочился шумно, с бульканьем, в воду. С визгом застегнул молнию.
— Да нам-то с вами до этого что за дело, Юрий Степанович! Ну, перебросят здешнюю ребятню в другие приюты. Я, дело прошлое, когда год назад впервые сюда приехал, на это место сразу глаз положил. Природа первозданная, и город под боком. С главой района провентилировал этот вопрос. Ему, между прочим, детский дом на его территории муниципалитета на хрен не нужен. Голов-ной боли, мороки много, и никакого навара. Потом мы с ним эмчеэсников подключили. Ну, заплатили кое-кому, естественно. У каждого в таком деле свой личный интерес должен быть. Они и давай землю рыть, предписания строчить. Дескать, детский дом расположен в пожароопасном здании, ветхом, деревянном, позапрошлого века постройки. Ну, там еще много чего — проводка, противопожарная сигнализация, отделочные материалы. Короче, о детях мы позаботились. Теперь проще новое здание построить, чем в этом все недостатки устранить. В итоге добились постановления о закрытии этого богоугодного заведения. Надеюсь, что уже к осени участок освободится, будет выставлен на торги, ну а приобрести его нашей компанией — дело техники. Эта система у нас хорошо отработана.
Клифт слушал, курил духмяную сигаретку, затягиваясь глубоко, до треска, и радовался, что в темноте собеседник не может видеть его лица.
А оркестр все надрывался в кустах:
Вино, шампанское, лакеи, юнкера… Как упоительны в России вечера…Банкет продолжался.
13
На следующий день случилось наконец то, ради чего Клифт столько времени терпел этот цирк со своим превращением в нефтяного магната. В кабинет к нему вошли главбухша с кассиром и не без усилия водрузили на приставной столик черную спортивную сумку.
Дарья Сергеевна широким жестом, словно фокусник, расстегнула металлический замок-молнию и указала наманикюренным пальчиком на толстенькие пачки купюр, заполнивших до отказа объемистое нутро:
— Подъемные, зарплата, квартальная премия… Как вы распорядились, наличными. Пришлось вчера всю выручку «Нефтепромбанка» выгрести. Поэтому купюры в пачках разного достоинства. Всего пять миллионов отечественных рублей. Будете пересчитывать? — улыбнулась она.
— Да что вы, — осклабился, в свою очередь, Клифт. — Спасибо, выручили. Деньги мне, скажу откровенно, понадобились для одной конфиденциальной сделки… не хотелось бы оставлять следов перечислениями со счета на счет… ну, вы меня понимаете…
— Конечно, — заговорщически подмигнула главбухша. Кому же, как не ей, в конце концов, в таких махинациях знать толк!
Клифт с деланным равнодушием подхватил сумку и небрежно пихнул под стол — подальше от любопытных глаз.
«Вот и все, — подумал он буднично. — Сейчас покручусь здесь для виду с полчасика — и на вокзал. Только меня и видели!»
Отсидев это время как на иголках, он секунда в секунду надавил на кнопочку селектора и скомандовал Гиене Львовне:
— Машину мне. Я тут отъеду по делам ненадолго…
Подхватил сумку и, кренясь слегка набок под тяжестью денег, покинул свой кабинет.
На выходе из здания его уже ждал черный джип-катафалк, и персональный водитель Серега (имя он узнал давеча) предупредительно попытался подхватить саквояж.
— Ничего, своя ноша не тянет, — отмел его попытку Клифт и поставил сумку под передним сиденьем, себе под ноги.
— Куда едем? — со свойственной всем шоферам фамильярностью полюбопытствовал водитель.
— Давай в аэропорт! — решительно распорядился Клифт.
Возвращаться в гостиницу он вовсе не собирался. Все, как говорится, было при нем — даже «сдернутые» у Лисицина с Борщевым бумажники. Вернее, деньги, бывшие в них. Бумажники-то он, не будь дураком, давно выкинул…
«Голому собраться — только подпоясаться! — веселился в душе Клифт. — Сейчас отошлю водилу, куплю билет на первый попавшийся рейс, лишь бы отсюда подальше, — и наше вам с кисточкой!»
Свирепая машина быстро промчалась по улицам, нарушая все мыслимые правила дорожного движения, легко рассекла автомобильный поток и вскоре оказалась на загородной автотрассе. По сторонам потянулись лесопосадки, за которыми скрывались дачные массивы и новые элитные поселки.
— Мы вчера в детский дом по этой дороге ехали? — полюбопытствовал у водителя Клифт.
— Так точно! — охотно отозвался тот. — Сейчас впереди поворот направо, а там километров пять — и Лебяжий плес. Говорят, наша компания там турбазу собирается строить…
Клифт вспомнил вчерашний пир «на лоне природы» и бросил, даже для себя неожиданно:
— А ну-ка сверни!
Через четверть часа джип въехал во двор детского дома. Там как раз играла младшая ребятня. Несколько детей постарше осваивали на узком заасфальтированном пятачке подаренные нефтяниками роликовые коньки.
Заведующую Клифт углядел сразу. Она живо руководила обучением, подхватывая то одного, то другого «конькобежца» под руку и следя, чтобы он не расквасил нос. Клифт подумал, что Елизавета Ивановна похожа на березку — стройная, худенькая в этом белом, с какими-то легкомысленными цветочками платьице.
Завидя «крутую тачку», заведующая шагнула навстречу незваным гостям.
Клифт вышел из машины-и, улыбаясь глуповато, пожал протянутую руку.
— Здрас-с-сьте, Елизавета Ивановна… — И, предвосхищая возможный вопрос, добавил: — Мы с вами вчера так толком и не поговорили…
— А о чем разговаривать? — заведующая держалась подчеркнуто сухо, официально. — Мне сегодня уже предписание вручили о закрытии детского дома. А здесь, говорят, какой-то богатый нефтяник усадьбу помещичью восстановит. Уж не вы ли?
— Да никогда в жизни! — зарделся вдруг, как пацан, Клифт. — Я вообще не при делах!
— А кто тогда при делах? — язвительно заметила Елизавета Ивановна. — Восемьдесят лет детский дом здесь стоял, и никаких особых нареканий не было. А сейчас разом все навалились: и пожарники, и разные обр-сан-черт знает какие надзоры… Да вы поймите, — вспыхнула она, — это же особые дети! Шансы, что их усыновят, — минимальные. Все хотят умненьких да красивеньких, в крайнем случае — работящих. А эти ребята — инвалиды с детства. Им, скорее всего, до конца жизни по специнтернатам для умственно неполноценных жить предстоит. А тут еще вы детство у них отнимаете…
— Их, говорят, в другие учреждения переведут… — будто оправдываясь, вставил несмело Клифт.
— Да нельзя их никуда переводить! Это для них такой стресс, такая трагедия! Они здесь адаптированы по максимуму… Когда их по достижении восемнадцати лет забирают, у меня сердце кровью обливается. А эти… Они ж несмышленыши совсем!
Клифт пошарил в кармане пиджака, достал сигареты.
— На территории детского дома курить запрещается! — отчеканила Елизавета Ивановна.
Клифт указал на тропинку, ныряющую через калитку в заборе из сетки-рабицы в пойменный лес:
— Прогуляемся?
Вековые дубы, смыкаясь над головами, создавали здесь тень и прохладу. Из-за близости реки тропинка влажно пружинила под ногой. Стрекотала скандально потревоженная кем-то сорока.
— Сколько денег нужно, чтобы исправить все выявленные этими проверяльщиками нарушения? — деловым тоном осведомился Клифт.
— Три миллиона рублей. Минимум. Но таких денег никто нам не даст, — понурясь, призналась Елизавета Ивановна.
Клифт в три затяжки высосал сигарету, старательно раздавил каблуком окурок, легонько тронул заведующую за плечико:
— Пойдемте…
Вернувшись во двор, он свистнул водителю, старательно елозившему тряпкой по лобовому стеклу:
— Серега! Тащи сюда мою сумку.
Когда тот подошел, с заметным напрягом волоча саквояж, передумал:
— Поставь ее вон там, на крылечке.
И, когда шофер отошел, шепнул Елизавете Ивановне:.
— Там пять миллионов рублей. Наличкой. Берите и тратьте на все, что нужно.
Та потеряла на мгновенье дар речи, а потом залепетала сбивчиво:
— Ой, а как же… Спасибо… Я прямо не знаю…
А потом порывисто обняла Клифта и звучно чмокнула его в щеку.
— Да ладно… Ничего… Не обеднеем… — конфузливо пробормотал тот и рванул дверцу джипа, скомандовав вернувшемуся шоферу:
— Поехали!
— В аэропорт? — живо осведомился тот.
— Нет. Не в этот раз. Давай назад, в контору.
Хмыкнув каким-то своим мыслям, отвернулся и всю дорогу смотрел в боковое окно.
14
Пришлось Клифту задержаться в компании еще на какое-то время. Жил он здесь как при коммунизме, на полном бесплатном обеспечении. В гостинице его кормили, переодевали каждый день в чистое белье и рубашку и денег не спрашивали. Костюмы, туфли — как в магазине, рядами висят да стоят, подходи, выбирай. Куда торопиться? Глядишь, еще деньжат подгонят, тогда и рванет…
Удивительно, но только здесь, мотаясь по буровым, он впервые осознал по-настоящему значение слова «воля».
У зеков оно означало все, что находилось по внешнюю сторону забора, опутанного колючей проволокой и спиралями «егозы», с вышками по углам периметра.
Но оказалось, что воля — это когда горизонт перед тобой — на сотни километров вокруг; но и там, где рыжая, выжженная палящим зноем степь сливается с белесым, безоблачным небом, пространство вовсе не сворачивается, не кончается, а тянется на юг, как объяснили здешние старожилы, через Казахстан до Монголии и Китая. И ты, в принципе, можешь, если появится такое желание, отправиться в путь по этой огромной, воистину бескрайней степи, где редки людские поселения и гуляет лишь тугой, жаркий полуденный ветер, шевеля реликтовый ковыль и спелые колосья налитой солнцем пшеницы.
Будучи по происхождению горожанином, Клифт, конечно, знал, что не на деревьях булки растут, что хлеб растят крестьяне, но представлялись они ему разве что по фильмам Шукшина да редким теперь кадрам телевизионной хроники — и казались если не простодушными недоумками, то уж недотепами-неудачниками точно. И то — станет ли современный «продвинутый» человек ломить всю жизнь, без роздыха, выходных и праздничных дней, по колено в навозе, по локти в грязи, получая за свой труд столько, чтобы только не сдохнуть с голоду, и опять — из года в год, пахать, сеять, убирать, выгребать да таскать…
Здесь, в целинных краях, степь, насколько хватало глаз, была словно позолотой покрыта — то сияла под солнцем поспевающая пшеница. Однако то там то сям на этом переливающемся под ветром янтарном, светом напоенном море грязными пятнами выделялись делянки с буровыми качалками-вышками. К ним, взрезая поля, тянулись грунтовые, убитые в распутицу дороги с глубокими, как раны, разъезженными колеями, оставшимися от тяжелых «КамАЗов»-бойлеров. Земля вокруг буровых была мертвой, пропитанной маслянистой нефтью, с содранным безжалостно до самой глины черноземным слоем, где ничто живое не сможет произрастать на века.
— Жалко, — подъехав к буровой и выбравшись из джипа, покачал головой Клифт, ступая лакированными штиблетами по остро пахнущей нефтью грязи.
— Да, тут впору сапоги резиновые надевать, — поддакнул пыхтевший рядом одышкой Борщев.
— Да я не о ботинках. О природе, — поморщился Клифт.
— Природа, Юрий Степанович, на благо человека должна работать, — убежденно возразил заместитель. — Вся наша цивилизация на нефти держится. А это, — обвел он рукой пространство вокруг, — пейзаж, одна видимость. Растительность, считаю, вроде плесени на поверхности нашей планеты. А все самое ценное — в недрах…
Клифт, брезгливо ступая по останкам убитой нефтью травы, хмыкнул угрюмо:
— Я вон по телевизору передачу видел. Оказывается, человечеству не сорок тысяч лет от роду, как раньше считали, а сотни тысяч, если не миллионы. И всю эту прорву времени человек прекрасно обходился без нефти. А вот без еды, без мяса, хлеба, растительности этой, которую вы плесенью называете, без воды и нескольких дней не протянет — копыта откинет от голода и жажды. И что в итоге важнее: поля вот эти с пшеницей, реки чистые — или нефть, которая черные кляксы на всем оставляет, травит и убивает?
Заместитель покосился неодобрительно на шефа, вздумавшего произносить вдруг такие крамольные для любого нефтяника речи, а потом, сообразив мудро, что начальство имеет право и на такие вот чудачества, хохотнул примирительно:
— На наш век рек, полей и продовольствия хватит. Не мы же сами, в конце концов, эту нефть сжигаем. Гляньте, что в городах делается. У каждого — машина под задницей. От автомобилей уже ни по улицам не проехать, ни по дворам не пройти. Уже все деревья повырубили к чертовой матери под автостоянки. Так что мы лишь потребности общества в энергоресурсах удовлетворяем. А потомки пусть выкручиваются, как хотят. Изобретут что-нибудь с голодухи. Белки синтетические. Или, я вон недавно вычитал, червячков разводить и жрать станут. Питательная, говорят, пища! В любом случае, то не наша с вами забота.
Равнодушно осмотрев вблизи вышку и поздоровавшись за руку с замурзанными, перепачканными с ног до головы нефтью буровиками, Клифт, придав лицу сосредоточенное, понимающее выражение, выслушал их, кивая согласно, а Борщев, достав блокнот, записал какие-то данные, непонятные для Клифта, — о дебете скважины, давлении, еще какой-то технической хрени.
Через четверть часа, забираясь в чистое и прохладное, овеянное кондиционером нутро джипа, Борщев предложил вдруг:
— А давайте, Юрий Степанович, новое месторождение осмотрим. Недалеко, километров двадцать отсюда. Наши разведчики недр определили: нефтеносные слои там богатейшие. Но земли пока не наши. И о том, что там нефть залегает, знает лишь ограниченный круг лиц. И нам предстоит, пока конкуренты не расчухались, это черное золото к рукам прибрать.
Джип мчался, оставляя за собой лисий хвост рыжей пыли, по проселочной дороге, вдоль которой расстилались до горизонта поля пшеницы, подсолнечника. Вскоре впереди показалось по степному вольготно раскинувшееся село, застроенное заметно обветшавшими домиками с тенистыми палисадниками, огородами да баньками на задах.
— Давай к правлению! — приказал шоферу Борщев.
По разбитому, рассохшемуся будто асфальту, переваливаясь мягко на колдобинах, распугивая кур и гусей, автомобиль подкатил к двухэтажному зданию с белеными кирпичными стенами и крупной, издалека читаемой табличкой у входной двери: «Закрытое акционерное общество «Колхоз Рассвет». Здесь же стоял на приколе заляпанный по самую крышу «уазик».
— Вот и хорошо. Директор на месте, — кивнул на видавший виды вездеход Борщев.
Пройдя через безлюдный вестибюль правления, с многочисленными дипломами, грамотами в рамочках по стенам, непременной доской объявлений и толстыми снопами пшеницы (а может, и ржи, Клифт в злаках не разбирался), поднялись по обшарпанной лестнице на второй этаж. По распахнутой настежь двери безошибочно угадали приемную.
Место секретарши пустовало. Гости беспрепятственно прошли в кабинет директора.
Навстречу им шагнул высокий, с копной плохо расчесанных кудрей, голубоглазый человек в белой рубашке с короткими рукавами и джинсах.
— Привет колхозникам! — поприветствовал его Борщев и. представил: — Генеральный директор нашей компании Юрий Степанович Жабин.
— Виктор Николаевич Колесов, — протянул руку хозяин и указал радушно на приставной столик: — Располагайтесь!
Клифт, не имея ни малейшего понятия, о чем следует вести разговор, сел, приосанившись, и выжидательно глянул на зама. Тот поинтересовался солидно:
— Как, Виктор Николаевич, без хлеба в нынешнем году не останемся? Мы тут помотались по полям — вижу, посевы жара подсушила.
— Есть маленько, — согласился Колесов, — но в основном у тех, кто хозяйствовать на земле не умеет. — И принялся объяснять увлеченно: — Надо же с умом сеять, сорта пшеницы подбирать. У нас из каждых пяти лет, как правило, три года засушливых. Азия! Зимой снег с полей в овраги сдувает, промерзает все — озимые не родятся. Летом дождя не дождешься. Одним словом, зона рискованного земледелия. Так я большую часть полей «Варягом» засеял. А «Варяг» знаете что за сорт? Он путем скрещивания с афганской пшеницей получен. Что за климат в Афганистане — понятно. Та же жара, суховеи, нехватка влаги. Но растет! И я даже в самый засушливый год с «Варягом» пятнадцать центнеров с гектара возьму!
— Научное земледелие — это, брат, сила, — с важным видом согласился Борщев.
— А то! — азартно подхватил Колесов. — И все же подобрать засухоустойчивые сорта — еще поддела. — Он поднялся порывисто, подошел к столу, стоявшему отдельно в углу кабинета. — Вот, полюбуйтесь!
Гости подошли, посмотрели. Клифт непонимающе воззрился на привядшие, с комочками присохшей к корням грязи, стебли с зелеными, не вызревшими еще колосками, разложенные аккуратно, рядком, на белом ватмане.
— Видите? — победно указал Колесов пальцем на корешки. — Вот этот — тонкий, ломкий, как спичка. Колос — в зачаточном состоянии. На этом поле и убирать нечего будет. Считай, сгорело все к шутам. А почему?
— Почему? — чтоб не молчать, выдавил из себя Клифт.
— Да потому, что этот фермер, на чьем поле я этот колосок вырвал, заделал семена в почву всего на глубину два-три сантиметра. А температура поверхности земли при нашей жаре — под шестьдесят градусов! Вот всходы и поджарились, как на сковородке!
— Надо же, — сочувственно чмокнул губами Клифт.
— А теперь вот сюда посмотрите, — предложил Колесов, указывая на другое растение. — Корешок разветвленный, кустистый. Стебель мощный, колос развитый, налитой, полновесный. В нем… раз, два… — принялся считать он, — шестнадцать зерен. Значит, урожайность — шестнадцать центнеров с гектара.
— А это с чьего поля? — неожиданно для себя заинтересовался Клифт.
— С моего, естественно, — не без гордости хмыкнул хозяин кабинета. — И учтите, что ни на этом поле, — пренебрежительно ткнул пальцем на худосочный стебель, — ни на этом, — огладил он нежно налитой колос, — за лето ни капли дождя не выпало! А знаете, в чем разница? В том, что я семена на пять — семь сантиметров заглубил при посеве! Вот они от жары и не пострадали!
— Да уж, — уважительно кивнул Клифт, — дело мастера боится…
— Земледелие — это искусство, — чувствовалось, оседлал любимого конька Колесов. — Ну, скажем, как живопись… или способность музыку сочинять. Не каждому дано. — И покровительственно похлопал Борщева по плечу. — Это вам не нефть качать. Пробурил дырку в земле — и черпай!
— Ну-ну, — нахмурился Борщев. — Нефть добывать — это тебе не лаптем щи хлебать! Тут тоже, знаешь ли, умение нужно.
— Да только нам за наши таланты копейки платят, — подосадовал Колесов, — так, что хозяйство едва концы с концами сводит. А вы, нефтяники, в шоколаде. Знаете, солярка нынче почем? А, ладно, — махнул он рукой. — Пойдемте пообедаем.
— Отчего ж не пообедать? — охотно согласился Борщев. — У нас в багажнике водочка заначена…
— Из нефти? — подколол Колесов.
— Да что ты! — всплеснул руками Борщев, — Из самой что ни на есть настоящей пшеницы! Может быть, даже из твоего «Варяга» хваленого…
— А мне этот Колесов понравился! — заявил Клифт, когда спустя час, захмелевшие слегка и отяжелевшие от еды, они с замом отъехали от правления. — Есть в нем что-то этакое… первозданное. На таких мужиках Россия испокон веков держится!
— На нас она держится, Юрий Степанович, — кивнул головой Борщев. — Если бы не наши нефтяные да газовые деньги, посыпалась бы давно страна к чертовой матери! К тому же ставлю вас в известность, господин генеральный директор, что на территории колхоза «Рассвет», где мы только что с вами побывали, нефтеносные слои богатейшие. И мы их в ближайшее время застолбить должны. Отжать у Колесова землишку.
— Это как, интересно? — полюбопытствовал Клифт.
— Да проще простого! «Рассвет» одному банку по кредитам десять миллионов рублей задолжал. С урожая планировал рассчитаться. Но это не раньше чем месяца через три-четыре. Пока хлеб уберут, пока продадут да деньги за него выручат… А мы ждать не будем. Наша компания долги «Рассвета» у того банка давно перекупила. И мы в ближайшие дни инициируем в отношении не рассчитавшегося по кредитам хозяйства процедуру банкротства. И земли его, а главное, недра, к нам в собственность отойдут!
15
Клифт не любил и побаивался того, что у братвы в криминальном мире называлось «везухой». Жизнь, как известно, складывается из полос, и вслед за светлой непременно черная наступает. Причем чем дольше «везуха» прет, тем шире, продолжительнее затем черная полоса. А потому, считал он, лучше уж серенькая жизнь, этакая, серединка на половинку, чтоб без оглушительных удач, но и без глубоких провалов. Так-то оно надежней, спокойнее.
Весь личный опыт его о том же свидетельствовал.
Помнится, как-то бомбанул на пол-лимона отечественных рублей одного лоха в автосалоне, а через день глупо спалился. Приметил в метро пассажирку с приоткрытой сумочкой, недолго думая, рефлекторно больше, чем из нужды в деньгах, клешню туда свою запустил — и бац! На опергруппу по борьбе с карманными кражами нарвался. Дамочка эта, капитанша полиции, как оказалось, намертво руку его прихватила, тут же друганы ее — опера — подоспели. В итоге — трешку строгача схлопотал, и пол-лимона на хазе пропали. Кенты божились, что деньги в общак, для согреву Клифта на зоне, передали. Может, и так, а только он бабками теми не попользовался. Он ведь по той, зоновской жизни, слава те Господи, в авторитете, с ворами чаи гоняет. Уж чего-чего, а чаек на замутку или косячок раскумариться ему с любой дачки перепадает. И чифирнуть — последний глоток непременно за ним. А как известно, не каждому фрайеру «пяточка» достается!
Вот и сейчас, вляпавшись неожиданно в масляную, покатившую вдруг, словно «Ламборджини» по немецкому автобану, жизнь, Клифт не расслаблялся ни на минуту. Предвидя отчетливо, что кончится эта кучерявая пора либо командировкой очередной на длительный срок, либо вообще деревянным прикидом под железной табличкой с номером в безымянной могиле, в каких неопознанные, невостребованные трупы за государственный счет хоронят.
А потому держал Клифт навостренные уши на стороже, а хвост — пистолетом.
И все-таки неожиданным для него оказалось то, каким будничным тоном доложила ему на следующий день в офисе секретарша по селекторной связи:
— Юрий Степанович! К вам супруга приехала.
— К-какая супруга? Чья супруга? — ошеломленно воззрился он на красный огонек, пламеневший над микрофоном аппарата.
— Да ваша, чья же еще! — не без ехидства, как показалось Клифту, пояснила Гиена Львовна.
«Приплыл», — успел тоскливо подумать Клифт и начал было оглядываться по сторонам затравленно — куда бы сейчас сквозануть, но тут дверь в его кабинет отворилась.
Блондинка среднего возраста, чуть полноватая, со следами былой красоты, благоухающая тонкими духами.
Клифт сразу понял, что принадлежит она другому, недоступному ему в обычных условиях миру. Обитающему в огороженных заборами виллах Рублевки, куда и домушникам-то соваться не след, а уж карманникам где и вовсе нечего делать — слишком бдительно стережет своих работодателей вымуштрованная охрана, да и к карманам да к сумочкам домовладельцев ни в жизнь не подступишься.
Клифт, намеревавшийся до того просто пройти мимо визитерши с каменным выражением лица и, пока начнутся разборки — что да как, спуститься в лифте, рвануть от этой нефтяной конторы подальше, вдруг обмяк за столом.
А дамочка глянула на него васильковыми, с поволокой глазами и, кажется, не удивившись ничуть, произнесла прищурившись:
— Ну, здравствуй, дорогой муженек!
А потом, глядя на столбом застывшего Клифта, выговорила сердито:
— Что ж ты не удосужился позвонить или хотя бы эсэ-мэску прислать, как доехал, как на новом месте обосновался?
«Что она несет? — лихорадочно соображал Клифт. — Почему не орет дурным голосом, мол, куда супостаты ее настоящего мужа дели? А может, она близорукая или вообще слепая, и подмену не разглядела пока ни хрена?»
— Э-э… занят был… — проблеял он, заметив через проем открытой двери, что столпились там набежавшие девчонки из секретариата и пялятся с жадным любопытством, хихикая в кулак, — шутка ли: жена босса приехала!
Однако супруга Жабина явно слепой не была. Она шагнула с распростертыми объятиями навстречу Клифту:
— Я так рада тебя видеть, дорогой!
«Дорогому» не оставалось ничего другого, как выйти из-за стола на ватных ногах и осторожно, словно авиабомбу с необезвреженным детонатором, приобнять визитершу. А та, щекотнув ему платиновым локоном ушко, шепнула чуть слышно:
— Расслабься, идиот! Морду радостную сострой. После все объяснишь…
Четверть часа спустя они ехали рядышком на заднем сиденье джипа. Клифт молчал, косясь на новоявленную жену, а та щебетала так, будто и впрямь была слепа и считала сидевшего рядом незнакомого мужика своим законным супругом:
— Я без предупреждения решила нагрянуть. Вдруг ты здесь… хи-хи… какую-нибудь молоденькую нашел! Знаю я вас, мужиков. За вами глаз да глаз нужен. А городок этот, Южноуральск, ничего. Цветов много на улицах, зелени. Я думала, грешным делом, тут одни трубы комбинатов разных дымят да нефтяные вышки на каждом шагу…
Клифт поддакивал замороченно, бормотал в ответ что-то невразумительное.
— Ладно, — указывая глазами на водителя, пресекла его потуги лже-жена, — дома поговорим.
Осмотрев гостиничные апартаменты, заключила снисходительно:
— Неплохо устроился.
А когда хлопотливая хозобслуга, всполошенная приездом супруги шефа, наконец оставила их одних, произнесла со вздохом:
— Ну, колись, муженек, куда ты моего засранца дел?
— К-кого? — непонимающе переспросил Клифт. Он стоял посреди гостиной, соображая судорожно: «Эта баба что, тоже самозванка? Аферистка-шантажистка? Но откуда она, стерва, то, что настоящего Жабина кокнули, пронюхала и чего теперь хочет? Сколько за молчание свое запросит?»
А дама между тем опустилась устало в мягкое кресло у низкого столика, отщипнула крупную виноградину от увесистой кисти в хрустальной вазе, положила в напомаженный ротик, передразнила сварливо:
— Кого-кого… Муженька моего настоящего. И за каким чертом ты его тут изображаешь?
— Мужа? Вашего? — тянул, медля с ответом, Клифт.
— Да моего, не твоего же, — усмехнулась гостья.
— Не понимаю, гражданка, о чем вы толкуете, — пошел в несознанку, будто на допросе у следователя, не имеющего железных улик, Клифт. — Я, если хотите знать, вообще холост. А вас в первый раз в жизни вижу!
— А я тебя, хрена моржового, тем более! — с недобрым прищуром заявила дама. — Я вот сейчас свистну челядь и прикажу ментов пригласить. И паспорт им покажу. А в нем, между прочим, штампик имеется. Удостоверяющий, что я, Ольга Игоревна, сочеталась с гражданином Жабиным законным браком… э-э… страшно подумать, пятнадцать лет назад! И учтите, господа полицейские, — обернулась она к воображаемым стражам закона, коих, слава Богу, пока в комнате не наблюдалось, — этот гражданин вовсе не мой муж. А стало быть, не Жабин Юрий Степанович, за которого его здесь все принимают!
Клифт, сообразив, что ломать комедию дальше бессмысленно, присел рядом на соседнем кресле, взял со стола сигареты, щелкнул зажигалкой, пустил дым в потолок. А потом поинтересовался с кривой улыбкой:
— Что ж ты сразу меня не сдала?
Дама похрустела очередной виноградиной на белоснежных зубах, ответила уклончиво:
— Да-а… Разобраться надо сперва… Хотя бы познакомиться для начала. Ты вообще, мать твою, кто?
— Я-а? — мусоля сигарету, пожал плечами Клифт. — Так, случайный пассажир на этом нефтяном танкере.
— А зовут тебя по-настоящему как?
— Арчибальд. Арчибальд Пантелеймонович Тараканов, — выдал без запинки первое пришедшее в голову карманник.
Дама хмыкнула понимающе:
— Ну и черт с тобой, Арчибальд. Ты мне, Пантелеймоныч, только честно скажи: муж-то мой благоверный где?
Клифт понял, что придется колоться. Придав лицу подобающее моменту печальное выражение, он произнес торжественно-скорбно:
— Крепитесь, мадам. Вашего супруга больше нет. — И торопливо добавил: — Но я к этому отношения не имею. Просто… оказался случайным свидетелем того, как некий злоумышленник всадил ему в сердце две пули. Ну, и вот… не преминул воспользоваться… Взял грех на душу… Решил, раз такая везуха, немного бабла срубить. Под его, как говорится, личиной.
Гостья встала, широко, с размахом перекрестилась:
— Ну, слава те, Господи. Свершилось, значит. А то я уж венок послала. Потом прослышала, что муженек мой жив и невредим, к руководству компанией приступил. И засомневалась было: неужто обманул меня, стервец? И за что я ему такие крутые бабки отвалила?
— Кому отвалила? — не мог взять в толк Клифт.
— Да киллеру. Который моего благоверного грохнул!
16
Повидавший на своем веку всякого, Клифт все-таки был слегка ошарашен признанием гостьи. Понятно, что мир нынешний жесток, прагматичен и пуля становится последним аргументом не только в криминальных разборках, но и, как принято выражаться, в спорах хозяйствующих субъектов. Но чтоб жена… мужа…
Словно прочитавшую его мысли дамочку прорвало:
— А что бы любой на моем месте сделал?! — И указала на початую бутылку «Хеннеси» на столе: — Налей! — Глотнула из бокала, продолжила со слезами на глазах: — Выходишь девчонкой замуж за смазливого голодранца, родители у которого — никто, мазутные хари. Отмываешь его от барачной грязи, покупаешь ему высшее образование, в приличное общество вводишь. Пятнадцать лет на это, всю молодость тратишь. А он? Вместо благодарности за каждой юбкой бегать начинает. Да хрен бы с ним, если бы где-то в саунах со шмарами кувыркался. Так нет, развод затеял. Нашел себе какую-то шлюшку модельной внешности. Дескать, мне теперь по статусу жена молодая, красивая положена. Хрен тебе что положено! Ста-а-тус! Да если бы не папа мой, министр экономического развития при Ельцине, теплотрасса тебе была бы положена и жратва с помойки!
Клифт кивал сочувственно, утешал, как мог:
— Ну, вы тоже ничего еще… очень даже вполне симпатичная.
Гостья приложилась к бокалу, непроизвольным движением поправила белокурую прядь.
— Спасибо. Был бы папа жив, он бы это быдло неблагодарное, муженька моего, быстро на место поставил. А теперь вот самой… все вопросы решать пришлось. Он ведь, гад такой, все имущество хотел у меня отсудить. Не им, говнюком, нажитое. И коттедж на Рублевке, и виллу в Италии, другую недвижимость. Ну не скотина, а? И как прикажете поступить с этой скотиной?
Клифт скорбно кивал, соглашаясь.
А дамочка, промокнув платочком уголки глаз, вдруг поинтересовалась совсем другим, деловым тоном:
— И как же мы с тобой, мелким жульманом, из этой ситуации выходить будем? Одно дело я — вдова безутешная, убиенного безвинно мужа единственная наследница. И совсем другое дело, когда супруг драгоценнейший, оказывается, жив, только он не муж мой на самом деле, а хрен знает кто?! Или мне и в самом деле в полицию обратиться?
— Ну, в полицию-то не стоит, — резонно заметил Клифт. — Я ведь им тоже вашу жалостливую историю рассказать могу. Про киллера, в частности…
— Да ничего ты не докажешь, жульман, — пренебрежительно махнула рукой гостья. — Я же все отрицать, естественно, буду. А вот на тебя убийство повесят. Ты, небось, и документы Жабина прихватил, и денежки? Сидишь тут на его месте, щеки надуваешь. Твой корыстный мотив налицо. А я что? Несчастная вдова, потерявшая единственного кормильца!
Клифт примирительно подлил ей в бокал:
— Думаю, мы это дело как-нибудь без полиции… утрясем. Я ведь ненадолго здесь. Завтра исчезну — только меня и видели. Я же на имущество ваше не претендую. Так, перекантовался здесь чуток, деньжат по-малой срубил. Должность-то все равно… вакантной была!
— Нет, похоже, ты тупой и не понимаешь, что натворил! — ощетинилась дамочка. — Нет тела — нет и преступления. И никакая я не вдова, а жена здравствующего гражданина Жабина. Где труп?
— Я его на лавочке на вокзале в Самаре оставил. С моими документами. Так что он теперь наверняка похоронен как Валерий Павлович Пузанев, то есть я. Родственниками не востребованный по причине отсутствия таковых.
— Ты ж, мать твою, Арчибальдом назвался!
— Это я так… нравилось в детстве мне это имя… — сконфузился Клифт.
— Короче, Арчибальд-хрен-тебя-знает-по-настоя-щему-как! Даю тебе сроку — один день. Прыгай в свой джип и лети в Самару. Чтобы завтра справка о смерти Юрия Петровича Жабина у меня на руках была. Не какого-то, на хрен, Пузанёва, а Жабина! Можешь тело его эксгумировать и сюда на опознание притащить.
— Ладно, попробую… — согласился Клифт. — Только, боюсь, одного дня мало будет…
— Правильно боишься, — отрезала гостья. — Потому что иначе мне придется ментам за отсутствием настоящего мужа твой труп предъявить.
17
В ночь Клифт помчался в Самару и утром уже въезжал в город. У него хватило ума не торкаться в полицию, где наверняка бы начали задавать неприятные вопросы. Посмертную судьбу Жабина он решил выяснить в месте, которое убиенный, а казенным языком выражаясь, криминальный труп никак не мог миновать, — в морге бюро судебно-медицинской экспертизы.
Проще простого было бы выправить справку о смерти, но выпишут-то ее на Валерия Пузанёва! А жене Жабина подавай! Впрочем, и здесь Клифт придумал выход из положения. Найдет на кладбище могилу нефтяного магната, объяснит, что хочет тело погибшего в чужих краях перезахоронить на родине, поближе к родным могилам, и доставит эксгумированный труп в Южноуральск в лучшем виде. А там вдова пусть сама крутится, опознает да справки собирает. Он, Клифт, к тому времени уже далеко будет. С новыми документами.
Язык, как говорится, до Киева доведет, и вскоре с помощью шофера Сергея, поспрашивавшего всезнающих местных таксистов, подъехали к скорбному заведению. Располагалось оно в глубине двора, на задах многоэтажной городской больницы. Низкий домик из белого силикатного кирпича стыдливо прятался за кронами карагача и кустиками акации.
Напустив печаль на чело, Клифт неторопливо прошествовал к моргу. Ни дать ни взять — безутешный родственник, согбенный свалившимся горем.
На низком крылечке обители мертвых, сидя прямо на деревянных ступеньках, покуривал крепкий, худощавый мужик, облаченный в несвежий, заляпанный бурыми пятнами медицинский халат. Оглядев с ног до головы Клифта, вырядившегося по траурному поводу в дорогу-щий черный костюм, мужик сделал соответствующий вывод, поднялся и шагнул навстречу.
— Здравствуйте… Чем могу быть полезен?
Опасаясь пожимать руку, неизвестно чего касавшуюся в таком заведении, держа дистанцию, Клифт поинтересовался с достоинством:
— Вы доктор?
— Санитар здешний. — И пояснил торопливо: — Но если вам покойника обрядить, марафет навести — это ко мне. Я, блин, из любого трупака конфетку сделаю. В прошлый раз одного после ДТП привезли — жуть, как из мясорубки. А у меня он потом как живой в гробу лежал!
Клифт поморщился и, не без трепета заглядывая через плечо санитара в таинственное нутро мертвецкой, сказал осторожно:
— Мне бы… э-э… справочку навести. Узнать судьбу одного… мнэ-э… тела, где оно захоронено…
Мужик изобразил на лице глубокую озабоченность:
— Узнать-то, конечно, можно… Только дело это хлопотное. Журналы учета нужно поднять, опять же, в компьютер залезть… Да и вообще, посторонним знать про то не положено…
Клифт правильно оценил заминку и протянул мужику тысячерублевую купюру.
— Я не посторонний, я родственник. Ищу двоюродного брата.
— И где же это он у вас потерялся? — прищурился хитро мужик.
— Да здесь где-то. В Самаре. — Клифт доверительно склонился к санитару. — Я тебе честно скажу. Он у нас, брательник, то есть непутевым был. Пил, бомжевал. А теперь слух прошел — вроде помер.
— Фамилия-то брательника — как?
— Пузанёв. Валерий Павлович, — испытывая мистический трепет от того, что приходилось объявлять умершим себя, молвил Клифт.
— А когда крякнул?
Клифта покоробило такое неуважение к собственной персоне.
— Умер, — с нажимом произнес он, — мой брат где-то числа двадцатого июля. Неделю назад.
— Щас посмотрю, — пряча купюру в нагрудном кармашке халата, пообещал санитар и скрылся в глубине морга.
Судя по тому, что вновь он возник на крылечке через пару минут, задача по просмотру журналов оказалась не столь грандиозной, как представлялось санитару вначале.
— Вот, — протянул он клочок мятой бумажки, — нашел я концы твоего братана. Поступил… — заглянул он в обрывок листочка, — труп гражданина Пузанёва двадцать первого июля. Диагноз: огнестрельные пулевые ранения сердца. Вскрытие проводил врач-судмедэксперт Цирлинсон…
— Тело, тело где? — нетерпеливо перебил Клифт. — Где… э-э… мой братан похоронен?
— А его и не хоронили вовсе, — обескуражил в ответ санитар.
— То есть… где же он? — не мог уразуметь Клифт.
— В медакадемии. Мы туда безродные, невостребованные трупы сдаем.
— Зачем? — догадываясь уже, допытывался Клифт.
— Студентам для практики. Чтоб, значит, они на этих трупах анатомию изучали, оперировать учились. Так что дуй, парень, в медакадемию. Может быть, они брата твоего на запчасти, препараты то есть, еще не распотрошили…
18
По причине летних каникул во дворе старинного, засаженного вековыми дубами и кленами здания медицинской академии было тенисто и тихо. У парадного входа лениво покуривал вахтер, облаченный в зеленую униформу.
Клифт обратился к нему, дыша запаленно — время-то поджимало!
— Слышь, командир! Куда тут у вас жмурики… ну, эти, которые для опытов, поступают?
Служивый — по внешнему виду отставник в майорском, не ниже, чине, строго поправил незваного визитера:
— Не для опытов, а для занятий студентов — будущих докторов. Для выработки у них практических навыков. А вам зачем о том знать?
— Да, слышь, командир, тут такое дело… Я в отъезде был, а братана моего двоюродного после смерти сюда, говорят, сдали…
— Пил? — вопросил строго вахтер.
— Кто? Я-а? — изумился Клифт.
— Да нет, брат твой.
— A-а… Ну да, было дело. Бомжевал, опустился совсем…
— Вот! — назидательно поднял палец отставник. — Типичный случай! Вымираем по миллиону в год. Споили народ, сволочи!
— Кто? — замороченно уставился на собеседника Клифт.
— Понятно, кто. Мировая закулиса. Жиды!
— A-а… нуда, — согласился Клифт. — Прямо разжимали зубы и насильно водку в горло вливали!
Охранник неприязненно глянул на собеседника, оценил дорогой костюм, поджал губы:
— А вы, значит, тоже из этих…
— Из жидов? — подсказал Клифт.
— Из представителей компрадорской буржуазии. — И напустил на себя официальный вид. — Все сведения — в администрации академии. Обращайтесь туда. — И добавил мстительно: — Только у них сейчас обеденный перерыв!
Уже поняв, с кем имеет дело, Клифт достал бумажник, протянул охраннику тысячную:
— Ладно, отец, не кипятись… Мы ж не на митинге.
Отставник взял деньги, с отвращением посмотрел на купюру, спрятал в карман, пояснил сухо:
— Пройдешь на первый этаж. Там кафедра анатомии. Туда все трупы привозят. Спросишь старшего препаратора Свиридова. Он тебе все объяснит.
Клифт шагнул в прохладный вестибюль, огляделся по сторонам. Гардеробная с пустыми вешалками, номерками на крючках. Справа, слева — длинные коридоры, уходящие в глубь здания, ряды выкрашенных белым дверей. Над тем, что слева, выпиленными из пенопласта буквами выложено: «Кафедра топографической анатомии». Над правым — просто «Кафедра анатомии».
Поразмыслив секунду, Клифт отверг «топографическую», ассоциировавшуюся у него с географическими картами, и прошел в коридор, где располагалась нормальная анатомия.
Здесь стоял крепкий, до першения в горле, запах формалина. По стенам висели портреты каких-то докторов, которые смотрели на непрошеного визитера строго и осуждающе, а также многочисленные плакаты, изображавшие людей с содранной кожей, обнаженными мышцами и пучками кровеносных сосудов.
Неожиданно одна из многочисленных дверей распахнулась, и в коридор вышел старичок — низенький, согбенный в плечах, обряженный в чистый медицинский халат и крахмальный поварской колпак на седенькой голове.
— Чем обязан? — обратился он к Клифту.
— Да ничем, собственно… Я Свиридова ищу, старшего препаратора.
— К вашим услугам, — со старомодной вежливостью отрекомендовался старик.
Клифт замялся, не зная, как изложить суть дела.
— Жутковато тут у вас, — начал он, указав рукой на плакаты. — Не для слабонервных!
— А слабонервным делать нечего в медицине! — строго изрек препаратор. — Вот, читайте, — в свою очередь, указал он на надпись большими буквами на стене: — «Hic docere mortuis viventes». Что означает: «Здесь мертвые учат живых».
Клифт склонил голову уважительно. Потом предложил:
— Где бы нам с вами присесть и переговорить по важному для меня делу?
Старик распахнул ближайшую дверь:
— Прошу!
Перешагнув порог, Клифт замер в растерянности. Он ожидал увидеть кабинет с привычной атрибутикой — офисной мебелью, оргтехникой. Здесь же посреди комнаты стоял массивный стол из оцинкованного железа. И то, что лежало на этом столе, при ближайшем рассмотрении ввергало в трепет. Это было человеческое туловище, вернее, торс, без головы и без рук, с зияющей грудной клеткой. Там, будто во чреве робота, тянулись, переплетаясь причудливо, провода синего и красного цветов.
— Что это? — уставился на расчлененные останки Клифт.
— А, это… — небрежно махнул рукой старичок. — Демонстрационный препарат.
— A-а… почему там провода?!
— Да не провода это, — досадливо поморщился хозяин кабинета. — Кровеносные сосуды. Мы красим их для наглядности. Методика очень простая. В бедренную артерию трупа заливается жидкий латекс красного цвета, в вену — синего. Затем латекс застывает. Я препарирую, отсекая все лишние ткани, выделяю кровеносную систему. Студенты смотрят, запоминают. Могут любую веточку артерии или вены руками потрогать. Позже, когда начнут оперировать, им эти знания очень пригодятся.
Клифт уже с уважением посмотрел на то, что некогда было живым человеком.
— А я к вам, собственно, по такому же поводу, — приступил он к делу, после чего изложил все ту же историю о непутевом двоюродном брате.
Препаратор, нахмурившись, выслушал.
— Надо по накладным посмотреть, — сообщил он. — К нам таких часто привозят. Бомжей, психбольных, уголовников из тюрьмы. И, скажу я вам откровенно, — доверительно склонился старик к собеседнику, — нередко такое посмертное служение науке — единственный благородный поступок этих людей за всю предыдущую непутевую жизнь!
— Вот и мой брат был… скажем так, не самых честных правил, — грустно подтвердил Клифт, отчетливо представляя, что и его собственным бренным останкам, возможно вполне, предстоит возлежать со временем на таком же вот цинковом столе, как безродному. — Мамаша ко мне его обратилась. Найди, дескать, родную кровинушку. Я, грит, его по-человечески похороню, на могилку его приходить стану… Как бы нам с вами, любезный, договориться и родственничка моего отсюда к мамаше отправить?
— Что вы, что вы! — замахал руками старик. — Это совершенно невозможно! Труп, попавший сюда, уже не тело, а учебное пособие. За него, к вашему сведению, уже и деньги из бюджета медакадемии уплачены. Это же подсудное дело!
— Все расходы я компенсирую! — достал Клифт бумажник, в котором оставалось еще достаточно сдернутых в свое время у заместителей денег. И продемонстрировал препаратору толстую пачку купюр.
Тот с интересом на нее посмотрел.
— Разве что так, — протянул нерешительно. А потом встрепенулся: — Когда, говорите, родственник ваш к нам поступил?
Клифт протянул ему клочок бумажки, выданной в морге.
Старик взглянул на дату, подошел к компьютеру, потыкал в клавиатуру пальцем, пошарил мышкой по вспыхнувшему монитору. И обернулся к гостю, покачав головой с сожалением.
— Вы уже опоздали, милейший. Тела, как такового, уже нет.
Клифт заволновался:
— Как это нет? — А потом, уставившись на жуткий препарат на столе, догадался. — Вы его что, уже… на запчасти разобрали? — И указал дрожащим пальцем: — А это — не он?
— Ну, не то чтобы разобрали, — пожал плечами старичок. — Скорее, наоборот. Я его только вчера собирать закончил. Но, увы, не в том виде, в каком его можно предъявить близким родственникам…
— Покажите! — решительно потребовал Клифт.
Препаратор достал из ящика стола связку ключей и кивнул гостю:
— Пойдемте.
Проведя визитера все тем же длинным полутемным коридором, он в самом конце его отпер обитую железом дверь. Первым шагнул за порог, включил свет. И указал на что-то в глубине комнаты.
— Вот он!
Клифт глянул из-за плеча старичка. На него, скаля обнаженные зубы, смотрел пустыми провалами глазниц сияющий выбеленными, будто отполированными костями, укрепленный на подставке скелет.
19
— Идиот! — орала следующим утром вдова нефтяного магната, указывая на скелет мужа пальцем. — И что я теперь должна с ЭТИМ делать? Милиции предъявить?!
— Полиции, — поправил ее машинально Клифт. Он стоял, растерянно теребя в руках чехол для перевозки костюма, в коем, к немалому изумлению и ужасу шофера Сереги, доставил бренные останки Жабина в багажнике джипа.
А потом перешел в наступление:
— Вы, дамочка, на меня так рот разеваете, будто это я вашего муженька кокнул. К тому же вся… э-э… арматура гражданина Жабина в целости и сохранности. Я по телевизору видел: ученые по одной косточке способны весь внешний вид животного воссоздать. Ну, там динозавра какого-нибудь, мастодонта или австралопитека. А тут у них — целый скелет! Восстановят внешность гражданина Жабина, вы его полиции и предъявите.
— Сам ты австралопитек безмозглый! — ярилась вдова. — Если бы ты, козел, труп моего мужа с чужими документами на вокзале не бросил, мы бы его давно похоронили честь по чести, а убийство на коммерческие разборки списали. А теперь?
Клифт вдруг хлопнул себя озаренно по лбу.
— Слушайте! А зачем нам вообще весь этот огород с предъявлением трупаков городить? Я ведь в настоящий момент кем де-факто являюсь? Вашим законным мужем. Вот и давайте все документы, связанные с разводом и передачей имущества, подпишу. Мне чужого не надо…
— А ты и подписи умеешь подделывать? — скептически глянула на него вдова. — В банках да нотариальных конторах образцы подписи моего мужа имеются. Там не такие, как в этой нефтяной компании, придурки сидят. Они тебя, мелкого афериста, вмиг раскусят!
— Ладно, придумаем что-нибудь, — пообещал Клифт и глянул на часы с облегчением. — Мне на работу пора. Дождись меня, дорогая. — И попытался примирительно, по-семейному, чмокнуть в щечку.
Та шарахнулась от него, как от чумного.
Покинув гостиницу, Клифт не знал, что, оставшись в одиночестве, «дорогая» сделала телефонный звонок. И прошептала в мобильник:
— Ал-ле… тут такое дело… Накладочка вышла. В общем, мне придется заказ повторить… Оплату, как всегда, гарантирую. По повышенной ставке — за срочность.
20
В приемной офиса, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу, Клифта поджидал заместитель Борщев.
— Нам с вами, Юрий Степанович, надо прямо сейчас в арбитражный суд подъехать. Там очень важное для нашей компании дело рассматривается. И ваше присутствие, как гендиректора, просто необходимо.
Намеревавшийся в ближайший час рвануть в аэропорт и вылететь первым попавшимся рейсом куда-нибудь подальше от Южноуральска, Клифт скривился с досадой:
— Ч-черт… у меня важные дела запланированы. Ну что ж, раз надо — поехали!
С учетом предыдущего опыта Клифта, весьма специфического, суд он представлял себе как место малоприятное — с вооруженным конвоем, железной клеткой для подсудимого, строгой командой «Встать! Суд идет!».
Однако на этот раз все выглядело иначе.
Клетки в зале не было, конвоя тоже. Клифта с Борщевым усадили за длинный стол темной полировки, рядом расположился вышколенный шнырь, в очочках и с кипой документов — как оказалось, адвокат компании.
А вот давешний знакомый, директор колхоза «Рассвет» Виктор Николаевич Колесов, и впрямь походил на подсудимого. Вошел понурясь, не глядя по сторонам, никак не отреагировав на чистосердечное «здрассьте» Клифта.
Само заседание оказалось тягомотным и до зевоты скучным. Сперва судья, миловидная женщина в черной мантии, долго зачитывала какие-то маловразумительные для Клифта документы. Потом адвокат нефтяников, тасуя стопку бумаг, словно колоду карт, вещал что-то проникновенное о долгах и покупке активов.
Дали слово и Колесову.
Он поднялся, попытался пригладить непослушные вихры на затылке и заговорил вдруг страстно, с болью, выбиваясь из сонной тональности заседания:
— Это что ж получается, товарищи дорогие! С одной стороны, мы говорим, что хлеб — всему голова. С другой — он государству нашему вроде как и не нужен. Уж сколько нас, аграриев, душили, душили, а мы все живем. На ладан дышим, а сеем да пашем. Получается, что один с сошкой, а семеро с ложкой. И все вьются вокруг хозяйства. Энергетики, газовики, ростехнадзор, сельхознадзор, Госпожнадзор, налоговая… все надзирают! Нет чтобы помочь. Наоборот. Энергетики за малейший долг норовят рубильник отключить, провода отрезать. Газовики — вентиль перекрыть. И всем — дай, дай, дай! Штраф заплати, взятку сунь. Хоть деньгами, хоть поросенком… А хлеб закупают у нас по бросовым ценам. Я элитное семенное зерно за бесценок, как товарное, продаю. А что делать? С долгами надо рассчитываться! Теперь вот нефтяники. Дошло уже до того, что за тонну солярки пять тонн пшеницы надо отдать! Ну и черт с вами. Банкротьте. Будете потом пшеницу из Канады и Аргентины возить. Да только хлеб тот по цене золотой окажется. Вам никакой нефти, чтоб за него рассчитаться, не хватит.
Колесов сел и опять уставился в пустой стол прямо перед собой.
— Суд удаляется на совещание, — объявила девушка-секретарь.
— Эй, постойте-ка, — поднялся решительно Клифт. — Можно мне?
Судья благосклонно кивнула.
— Я, дело прошлое, сам-то не деревенский, — начал подрагивающим от волнения голосом Клифт. — А сейчас вот послушал представителя колхозного крестьянства и подумал: а ведь он прав!.. Да пошел ты! — отмахнулся он от Борщева, потянувшего его за рукав пиджака, и продолжил: — Короче, так. Банкротить колхоз «Рассвет» не надо.
— То есть вы хотите сказать, что нефтяная компания «Южуралнефть» отказывается от иска на отчуждение земель ЗАО «Колхоз «Рассвет»? — удивленно выгнула подбритые бровки судья.
— Точно, — подтвердил Клифт. — Че мы, в натуре, нелюди какие-то? Иск отзываем, а долги спишем. Не обеднеем. На одних банкетах сэкономим столько, что и колхозам, и детским домам хватит!
— Тогда вам нужно подписать отказ от претензий, — заключила судья.
Клифт, следуя указаниям секретаря («здесь и вот здесь!»), расписался в каких-то бумагах.
А потом вышел из зала суда, даже не оглянувшись.
На улице прыгнул в джип и скомандовал Сергею:
— В аэропорт. Быстро.
21
То, что за ним следят, Клифт засек уже в Домодедово. Из Южноуральска он вылетел без проблем. Правда, почти без денег. Но это, как говорится, дело наживное. Пальчики-то ловкие всегда при нем!
Двух мордоворотов, облаченных в строгие черные костюмы, пристально вглядывавшихся в лица выходящих из терминала и на мгновение встретившихся с ним взглядами, Клифт сразу вычислил. Это у него профессиональное — ментов примечать. Иначе из зон бы не вылезал, срок за сроком мотая. Хотя, если честно, и отсидел в свое время немало…
Впрочем, сейчас его пасли совсем не менты, а, вероятнее всего, быки из службы безопасности нефтяной корпорации. Шутка ли — он им важную сделку сорвал. Да и на волне поднявшегося скандала наверняка докопались, что никакой он не Жабин. Расскажи кому — не поверят. Богатейшую нефтяную компанию заурядный жульман кинул! Неделю этими керосинщиками руководил, а они не допетрили. Скандал! Такое наверняка не прощается…
Мордовороты Клифта тоже мгновенно сфотографировали и опознали, рванулись за ним сквозь толпу.
Интересно, какой приказ они получили? Повязать, передать полиции? Вряд ли. Побоятся огласки, позора на весь белый свет. Тогда… тогда плохо дело. Сцапают, увезут и закопают в подмосковном лесочке. А то прямо на улице грохнут…
Клифт, выскочив на запруженную автотранспортом площадь перед аэровокзалом, оглянулся быстренько — нет ли хвоста? Есть, вот они, соколики, как ледоколы, людскую толчею рассекают. Один руку за пазухой держит. Там у него наверняка шпалер в кобуре под мышкой. Значит, прямо здесь, при всем честном народе, будут валить!
Клифт начал осматриваться в надежде подхватить такси или «левака». Надо же! То толпой набегают: «Командир, куда едем?» — а тут будто вымерли.
— Блямс!
На капоте ближайшего лимузина розочкой расцвела пулевая пробоина. Выстрела не услышал — значит, шмаляют из пистолета с глушителем. Вот отморозки! Здесь же кругом женщины, дети… Смазали, черти, потому что торопятся… И куда только полиция смотрит?!
Полиция! — осенило вдруг Клифта. Он круто развернулся и опять вбежал в зал ожидания. Здесь стрелять не должны — они же не самоубийцы!
Украдкой в ближайшую урну он выбросил паспорт Жабина. Теперь уже не понадобится. А потом стал прогуливаться, скользя профессиональным взглядом из-под опущенных век по толпе пассажиров. Мордовороты тоже здесь. Один на выходе мнется, перекрывая, другой следом волочится, глаз с Клифта не сводит.
Особенно густо кучковался народ у стоек регистрации. Клифт направил свои стопы туда. Так, теперь надо лоха найти. Из тех, что бумажники в задних карманах брюк держат. Человек этот должен не старым быть, служивого возраста. А поблизости — еще пара-тройка таких. Аккуратно подстриженных, со спортивной выправкой.
Вскоре он углядел то, что искал. Правда, то не парень был, а девица. С расстегнутой призывно сумочкой через плечо, к спине передвинутой. Прямо мечта карманника! Запускай руку, тащи бумажник!
Клифт, не раздумывая особо, так и сделал. Подошел, потоптался для виду, а потом — цап!
Его скрутили мгновенно. И когда парни спортивного вида, заломив жулику руки за спину, защелкнули на них стальные браслеты, тот, вопреки всему, лыбился вполне счастливо. И даже пробормотал с благодарностью:
— Чисто сработали, орлы! Прихватили с поличным. От души поздравляю!
Опера из отдела по борьбе с карманными кражами, естественно, по запарке не обратили никакого внимания на двух застывших в растерянности поодаль мордоворотов в строгих черных костюмах.
22
Несколько дней спустя Клифт чифирил с братвой, сидя за длинным столом в камере следственного изолятора. Передавая кружку по кругу, разглядывал с улыбкой сокамерников, со многими из которых кентовался еще в прежние ходки. Леша-домушник, Расул-майданщик, Мотя Вайнштейн — катала, Ваха-барсеточник. Вот здоровяк Дима Иркутский — этот наверняка опять за гоп-стоп подсел.
И, не выдержав, сказал умиленно:
— Братцы! Как хорошо тут у вас, если б вы знали! И главное, все по-людски, все по-честному…
Павел Амнуэль ПОВОДЫРЬ
Он сидел в последнем ряду, и его почти не было видно за грузным широкоплечим мужчиной — Флоресом, с кафедры политологии, заглянувшим случайно, так он сам сказал, когда мы столкнулись в дверях. «Название у вашей лекции странное, доктор Голдберг, невычислимые функции. Я думал, что математика — это когда вычисляют».
Молодой человек, время от времени выглядывавший из-за плеча Флореса, смотрел на меня так, будто я был его врагом. Однажды — в середине лекции — обратив на него внимание, я не мог оторвать взгляда, и, когда он исчезал за спиной Флореса, мне казалось, что я продолжал его видеть. Странное ощущение, не из приятных, и отвлекало к тому же.
— Теперь вопросы, пожалуйста, — произнес я традиционную фразу, уверенный почему-то, что первым поднимет руку молодой человек в последнем ряду. И спросит, конечно, о том, как относятся к моим идеям коллеги, не считают ли они эти идеи несколько… гм… вздорными, хотя и не противоречащими современной квантовой физике.
Однако молодой человек не проявлял активности, и я скорее механически, чем с ощущением интересной дискуссии, ответил на вопросы студентов.
— Больше вопросов нет? Спасибо за внимание.
Тогда-то, как на аукционе перед третьим ударом молотка аукциониста, поднялась из последнего ряда одинокая рука, и выглянувший из-за плеча Флореса мужчина сумел огорошить меня вопросом, не имевшим никакого отношения ни к невычислимым функциям, ни к инфинитному анализу, ни вообще к математике или физике. Никто вопроса не понял, а многие и не расслышали, поскольку спешили к выходу.
— Скажите, доктор Голдберг, что вы думаете о случае в заливе Морского змея?
Флорес поднялся, на мгновение загородив от меня вопрошавшего, помахал мне рукой и направился к выходу.
Я мог и не отвечать: отведенное мне время закончилось. Но несколько студентов остановились в проходе, обернулись и навострили уши.
Я выключил и закрыл лэптоп, отсоединил кабель проектора, спрятал компьютер в чехол, перебросил через плечо ремень и только после этого поднял взгляд, надеясь, что, не получив ответа, молодой человек покинул аудиторию. Студентом он не был — мне, во всяком случае, в коридорах или аудиториях не попадался, я бы запомнил.
Он стоял в последнем раду, сложив на груди руки, и ждал ответа.
— Простите, — сказал я, — не знаю, о чем вы спрашиваете.
Мне издалека было видно, как он смутился.
— Я иногда путаю… — Говорил он будто сам с собой, но смотрел мне в глаза, и я поймал себя на том, что иду к нему, хотя нужно было мне в другую сторону: к двери, выходившей в южный, а не восточный коридор.
У молодого человека были прямые светлые волосы, расчесанные на косой пробор, чуть удлиненное лицо, нос коротковатый и будто нарисованный. Лет ему я бы дал тридцать два — тридцать пять. Наверно, он много путешествовал (загар, крепкие мышцы, выправка). Может, служил в армии — в общем, принадлежал совсем не к моему кругу людей, физически обычно расслабленных и уделявших внешнему виду не больше времени, чем требовалось, чтобы бодрым шагом пройтись утром от дома до кабинета в одном из зданий Йельского университета.
— …На самом деле, — закончил он фразу, — когда я приблизился на такое расстояние, чтобы можно было говорить, не повышая голоса и не опасаясь, что услышат посторонние, — я имел в виду не Морского змея, а…
Он запнулся.
— Черепаху, — закончил я механически, не подумав, что совершаю самую большую ошибку в жизни. Название это я третий год старался не вспоминать, и то, что сейчас произнес его вслух, означало… Не знаю, что оно означало — слово вырвалось непроизвольно, а точнее, вытянул его из меня взгляд стоявшего напротив человека, удовлетворенно кивнувшего, когда я прикусил себе язык.
— Залив Черепахи, точно. В гавани Брэндфорда. — Он еще раз кивнул и протянул руку, рассматривая меня настороженно-недоверчиво-подозрительным взглядом. — Меня зовут Лев Поляков. Не Полякофф, как здесь принято, с двумя «ф», а с твердым «в». Вы родом из России, доктор? То есть ваши родители?
Что он знал о заливе Черепахи? Почему спрашивал?
— Вы здесь учитесь или работаете? — Я не мог задать более глупого вопроса, но, когда хочешь перевести разговор, вопросы обычно такими и получаются.
Он покачал головой: ни то, мол, ни другое. Он специально приехал на мою лекцию, чтобы задать вопрос, которого я не ждал?
— Я прочитал пару ваших работ, доктор Голдберг, и прошу прощения, почти ничего не понял. — Теперь он смотрел на меня взглядом скорее смущенным, чем недоверчивым.
— Если вы не специалист, — пробормотал я, думая о другом. Что он знал? Почему спросил?
— Не специалист, — согласился он. — Я был бы очень благодарен, доктор Голдберг, если бы вы разъяснили некоторые положения вашей теории, я имею в виду инфинитный анализ квантовой запутанности, а я взамен сообщил бы то, что помню о происшествии в заливе Черепахи. Помню я немного, но все же…
— Может, лучше по-русски? — предложил я.
— Нет-нет. По-английски доверчивее.
Слово показалось мне не очень уместным, но поправлять я Полякова не стал, просто не успел, потому что последовавшее предложение заставило меня подумать о далеко не очевидных, но возможных последствиях нашего знакомства.
— Мы можем поговорить у вас дома, доктор Голдберг. Там нам никто не помешает, поскольку живете вы один.
Этот человек поражал меня все больше! Верно, я жил один, но откуда Поляков мог знать об этом?
Я подумал, что мы слишком долго топчемся на месте — в буквальном и переносном смыслах.
— Вы на машине? — спросил я, и мой визави поднял глаза горе, будто предположение о том, что у него может быть машина, есть преступление против логики и здравого смысла.
— Хорошо, — сказал я, — поговорим у меня.
Он повернулся ко мне спиной и направился к выходу, не беспокоясь о том, что я мог, вообще-то, не последовать за ним, а выйти в другую дверь.
Меня неприятно удивило, что, выйдя из здания, он пошел прямо к моей машине, которую я сегодня пристроил не на парковке, как обычно, а в тени раскидистого вяза у пожарной лестницы.
Похоже, этот человек не случайно оказался на моей лекции. Похоже, он следил за мной. Возможно, не первый день.
Я сел за руль, он молча уселся рядом, пристегнулся и сложил руки на груди.
— Кто вы? — вырвалось у меня, потому что мне на миг показалось, что рядом сидит не молодой мужчина в спортивном костюме, а нематериальная сущность, платоновская идея, тень на стене пещеры.
— Мое имя Лев Поляков. — Он тоже повернулся в кресле и посмотрел мне в глаза. — Обычно называют Лоцманом, такая у меня профессия, но я предпочитаю более правильное русское слово: поводырь.
Он произнес эту фразу по-русски без малейшего акцента, и я тоже перешел на русский — не потому, что так мне было легче, наоборот, по-русски мне тоже приходилось сначала составлять фразу в уме и только потом обращать обдуманное в звуки — слово, действительно, не воробей.
— Поводырь? — повторил я. — Это прозвище?
Он не был похож на лоцмана, какими я их представлял по фильмам и книгам: Мысленно я примерил на него морскую фуражку и отбросил в сторону: не сочеталось. Он был сухопутным человеком, я мог дать голову на отсечение: если и выходил когда-нибудь в море, то на прогулочном катере в гавани Брэндфорда.
— Профессия, — сказал он, — хотя правильнее было бы назвать это образом жизни.
Не люблю ложной многозначительности, а в том, что и — главное — как он говорил, многозначительность переливалась через край, как манная каша, которую мне в детстве варила моя русская бабушка, постоянно забывая выключить газ и спохватываясь, когда каша выползала из кастрюльки и шипением докладывала о том, что уже готова.
* * *
От факультета до моего коттеджа семь минут езды. Машина свернула на Лорел-стрит и остановилась у ворот, открывшихся в ответ на сигнал прибытия. Выключив двигатель, я обнаружил, что мистер Поляков уже стоит у двери и собирается нажать на кнопку звонка — проку от этого не было бы никакого, звонок не работал еще с тех пор, как дверь снабдили идентификатором.
— Не стоит, — сказал я. — Вам она даже не ответит.
— Конечно, — пробормотал он. — Всегда забываю…
Мы вошли в холл, я провел Полякова в гостиную, усадил в кресло, тяжело вздохнувшее от необходимости принять непривычную форму, и сказал:
— Я принесу напитки и легкую закуску, а вы тем временем подумайте над вопросом — собственно, единственным, который меня занимает: почему вы упомянули залив Черепахи?
Поляков промолчал, и я вышел на кухню, где приготовил пару бутербродов с окороком, налил вино (мое любимое «шардонне») едва высоких бокала, раздумывая о том, что в жизни не попадал в более нелепую ситуацию. Почему я пригласил к себе человека, которого никогда, прежде не видел? Почему там же, в аудитории, не потребовал ответа на вопрос о заливе Черепахи? И еще: мне казалось, что Полякова я где-то видел. Или кого-то похожего. Где мы могли встречаться? Точно не в университете. В городе? В полиции? Гадать было бессмысленно — память не выдавала своих секретов сразу.
Когда я вернулся в гостиную, Поляков сидел в той же позе, в какой я его оставил, и даже взгляд, как мне показалось, был направлен в ту же точку. Я поставил на стол поднос и спросил:
— Залив Черепахи — что вы знаете об этом?
Поляков ответил, продолжая разглядывать едва заметное серое пятно на стене:
— Я возвращался после обследования фарватера. Интуитивно… Я вам говорил, что в моей профессии нечего делать без интуиции? Она меня и вывела на мелководье. То, что этот остров назывался заливом Черепахи, я понял потом. Точнее, вспомнил.
Фарватер? На суше? Остров, который называется заливом?
— Простите, — пробормотал он, переведя на меня взгляд. — Я что-то не то сказал?
— Вы не ответили на вопрос.
— Ну как же… Хотя… да. Я не могу ответить точно. В памяти, конечно, все сохранилось, но у памяти поводырей свои особенности, вот почему я хочу, чтобы вы преподали мне основы теории квантовой запутанности и идентичных ветвей, иначе мы не разберемся в том, что важно для нас обоих.
Нанизыванием слова на слово он, кажется, пытался скрыть то ли неуверенность, то ли нежелание отвечать на вопрос.
— Что вы знаете о заливе Черепахи?
— Я же сказал! В тот день я обследовал новый для меня фарватер. Возвращаясь, вышел на мелководье. Это тоже земля, конечно. Идея в том, что явление должно описываться вашими уравнениями и теорией невычислимых функций. Вы мне должны объяснить, что к чему, а не я — вам.
— Залив Черепахи! — вернул я его в русло разговора.
— Да… — Он помедлил. — То, что помню… Я подумал, что могу позволить себе небольшой отдых, прежде чем вернуться домой через Ардейл.
— Ардейл? — Поблизости от Нью-Хейвена не было населенного пункта с таким названием. — Вы можете сказать наконец, что видели? — Я больше не мог сдерживаться.
Он поднял на меня виноватый взгляд.
— Со стороны домиков, похожих на склады, появились двое: мужчина и женщина. Вошли в воду по щиколотку, мужчина подвернул брюки, а женщина была в короткой юбке, она сняла туфли и несла в руке. Мужчина был на голову выше спутницы, рубашка светло-зеленая навыпуск, волосы темные, гладко зачесанные назад, нос немного великоват для его лица…
— Спасибо, — сухо сказал я. — Мне приходилось смотреть на себя в зеркало.
— Ну да… Женщину вы тоже знаете.
Я промолчал.
— Они ссорились и не обращали на меня внимания, — продолжал Поляков.
Ссорились, да. Я впервые вышел из себя, накричал, и она…
— Женщина пошла навстречу волне.
А я стоял, смотрел и еще ничего не понимал. Как и она.
— Я сразу представил, что произойдет. — Поляков отвернулся от меня и смотрел в пустой проем стены, будто видел там, как на белом экране, кадры из старинного немого фильма. — Нужно было уходить, но у меня возникло ощущение, что я на капитанском мостике, корабль несет на камни, а за борт упал человек, его можно спасти, дав полный назад, но тогда корабль почти наверняка выбросит на берег…
О чем он говорил?
— Женщина входила все дальше в воду, волна прямо перед ней поднялась на высоту двухэтажного дома и опрокинула, как куклу… Всё, — виновато произнес он. — Больше не помню.
Сенту так и не нашли. Искали, как мне потом сказали в полиции, весь вечер, а потом с утра и целый день. Ничего. Был шторм, тело унесло в бухту, а оттуда, скорее всего, в океан. Я ничего этого не помнил. Только то, что мы начали ссориться еще по дороге к заливу. Дальше — провал.
— Значит, вы там были.
Он кивнул.
— Куда ж вы делись? — враждебно спросил я.
— Домой, конечно, — глухо проговорил он, и неожиданно его речь опять стала сбивчивой. — Но не уверен, что… Я и Ардейл не помню, потому что перенервничал на берегу. Я ж говорю: память у поводырей профессиональная и на мелководье сбивается. Я потому и хотел, чтобы вы… Собственно, это все.
— Полиция искала свидетелей. Хотя бы одного. Мне сказали, что службу спасения вызвал я, звонок был с моего мобильного, и голос мой, мне дали прослушать. Но я не помню! Вы там были? Не понимаю.
— Я тоже, — буркнул он. — Потому и пришел на лекцию: думал, вы сможете объяснить. Вы занимаетесь инфинитным анализом, невычислимыми процессами…
— Функциями, — поправил я.
— Что? Да… А также квантовой запутанностью, и по классификации многомирий у вас есть работа. Без всего этого, я уже говорил, лоционирование представляет собой не науку, а набор интуитивных практик.
Я никогда не слышал о лоционировании и не знал никого, кроме математиков-модернистов, кого инфинитный анализ интересовал бы в профессиональном смысле, а не как направление, никому, в принципе, не нужное, но чрезвычайно интересное и непонятно-волнующее. На мои лекции ходили не для того, чтобы приобщиться, а чтобы размять мозги — как на представления Войцеховича, извлекавшего корни восьмой степени из пятнадцатизначных чисел и запоминавшего с одного взгляда до семи страниц текста любой сложности и на любом языке.
— Послушайте… Лев, да? Послушайте, Лев, так мы не поймем друг друга. Я не знаю, кто вы, как оказались на берегу залива в тот вечер, не знаю, что такое лоционирование…
— Я к вам и пришел, чтобы вы объяснили — не на пальцах, а математически. Это только вы сможете. На одной интуиции не получится… В общем, тупик, — неожиданно закончил он и посмотрел на часы, висевшие над дверью в кухню.
— Вы торопитесь?
— На мелководье времени всегда больше, чем на островах, это же земля, — сказал он непонятно.
Я пожал плечами.
— Хорошо, — вздохнул Поляков. — Вы не знаете, кто я? Знаете, но не можете вспомнить. Все та же проблема.
Я не стал говорить о своем ощущении. Может, мы действительно встречались?
— Родился я в России, — начал он, глядя поверх моей головы, — в тысяча девятьсот девяносто пятом году.
— О, — заметил я. — Вы на одиннадцать лет старше меня, а выглядите моложе.
Пропустив замечание мимо ушей, он продолжал:
— Жили мы в Москве, и все мои предки до пятого колена — дальше я не заглядывал — коренные москвичи. Учился я в остужевской школе, это марка, верно? Мои способности к лоционированию проявились рано, я еще в школу не ходил, но тогда, конечно, не понимал… Обычно лоцманский талант проявляется годам к шестнадцати у мальчиков, а у девочек чуть раньше — возможно, это связано с особенностями созревания, но толком никто ничего сказать не может. Как-то был урок истории, мы проходили середину двадцатого века, первые звездные сходы, биографию Одена, его поход через пояс Оорта, гибель, и я вдруг явственно увидел… как говорится, перед моим умственным взором возник весь фарватер, и глубину я почувствовал отчетливо, что редко бывает в таком возрасте, я и сказал, что идти надо было через остров Вам-лея, я тогда плохо знал — точнее, вообще не знал — навигационные лоции, понятия не имел, что первый остров Вамлей обнаружил в девятьсот шестьдесят седьмом, через двадцать лет после гибели Одена. Помню, учитель посмотрел на меня с удивлением и сказал: «Лева, останься после уроков, нам нужно серьезно поговорить». Он мне и рассказал о моем призвании. Прежде-то у меня было спонтанно, я не понимал…
— Извините, — прервал я Полякова. — Вы сюжет фантастической истории рассказываете?
Он закрыл рот и улыбнулся внутренне, как это бывает: лицо вдруг озаряется, меняется взгляд, это трудно описать словами, словами вообще много чего описать трудно, а то и невозможно. Понимать понимаешь, знать знаешь, а словами объяснить не можешь. Так я когда-то мучился, пытаясь высказать Сенте все, что чувствовал. Не смог, а сейчас и вспоминать об этом не нужно.
— Я думал, — сказал он, — что в доме физика-теоретика увижу много книг — по специальности, хотя бы.
— У меня была большая бумажная библиотека… то есть, по сравнению с электронной мелочь, конечно, три с половиной тысячи книг. В моей прежней квартире они занимали полторы стены. Пыли было… Постепенно я их раздал в библиотеки, не помню уж, в какие.
— Как все по-разному, — вздохнул Поляков. — Я давно в профессии, но все равно не перестаю удивляться.
— Чему?
— Многообразию идентичных миров. Вам-то это должно быть понятно… или… я неточно выразился… Извините, что отнимаю время… Но, видите ли, у нас нет развитой теории многомирий, и тому, что я умею, невозможно научиться. Я прихожу сюда второй уже раз, и это не случайно. Сначала тот залив. Потом… Перед тем, как пойти на лекцию, я побывал в университетской библиотеке, искал по профессии… Поразительно! — неожиданно воскликнул он. — На дворе двадцать первый век, а у вас ракеты на химическом топливе, единственная станция на спутниковой орбите, вы не были на Марсе, не говорю о дальних планетах! И, в то же время, о многомирии вам известно куда больше, чем нам, я имею в виду теоретические разработки.
Умел же этот человек говорить много, но не сказать ничего, нагнетать интерес, не переходя к сути! Поляков поймал мой раздраженный взгляд и спросил:
— Сами-то вы когда-нибудь были в космосе?
— Нет, конечно. Я физик, а не астронавт. И космический туризм не для меня — слишком дорого.
— Хотя… — добавил я, — в детстве мечтал о космосе. Даже как-то в классе, кажется, девятом, написал… точнее, начал и бросил… рассказ о том, как в далеком будущем герой перемещается от звезды к звезде на велосипеде, педали крутит, и от этого вырабатывается энергия, которая… не знаю… фантазия, в общем.
— Велосипед, — протянул Поляков. — Любопытно. Неужели… — Он не закончил фразу.
— Что? — спросил я.
— Это мне облегчает… — улыбнулся он. — Вы не бывали в космосе. Хотите, покажу?
Вопрос прозвучал неожиданно, и я ответил «Конечно!», не подумав. Мне показалось, что я начал понимать, кто этот человек, и даже относительно его странной профессии кое-что себе уяснил — что-то, чего не смог бы выразить словами. Поляков произнес во время своей сумбурной речи несколько ключевых для меня слов, и я боялся, что догадка окажется верной, и хотел, чтобы она была правильной, и еще неожиданное ощущение прорастало во мне: желание почувствовать такое, чего никогда прежде не чувствовал. Вспомнились слова из старой повести Грина «Бегущая по волнам» — о Несбывшемся, которое приходит внезапно, зовет за собой, и ты идешь на зов, позабыв обо всем на свете.
— Конечно, — повторил я и добавил: — Если я вас правильно понял.
Он поднял брови:
— Иногда я сам понимаю себя неправильно. Такой характер.
— У вас совсем нет ракет? Ни химических, ни ядерных… никаких? — Вопрос я задал прежде, чем успел подумать о том, насколько он бессмыслен.
— В космос на ракетах не летают, — буркнул Поляков.
Кажется, он себя внутренне к чему-то готовил, и мои вопросы ему мешали, но он все-таки ответил. — А в атмосфере да, чтобы оставаться в мире.
Он поднялся и потянулся за сумкой, оставленной рядом с журнальным столиком. С такими заплечными сумками ходят студенты и некоторые преподаватели, разве что цвет был слишком ярким. Поляков что-то в сумке нащупывал, шепча слова, казавшиеся мне знакомыми, но воспроизвести его речь я бы не смог, а смысла не понимал вовсе.
Я тоже поднялся, соображая, нужно ли что-то брать с собой, далеко ли мы собрались, что все это означает и не подвергся ли я гипнозу.
— Мы ненадолго, — сказал Поляков, закрыв сумку и перебросив ремешок через плечо. — Для иллюстрации фарватера. После этого вы втолкуете мне азы инфинитного анализа.
— Фарватер? — переспросил я.
— Линия наименьшего изменения, — объяснил он, ничего не объяснив. — Как тропинка, заросшая травой: никому не видна, только опытному глазу или интуиционисту, то есть лоцману. Поводырю.
— Ничего не понял, — сообщил я.
— Тем не менее, — улыбнулся Поляков, — именно возможности движения в фарватере описывает ваша теория. Сначала каботажное проведение, мелководье, это еще не космос, но…
Он оборвал себя и сказал:
— Поехали.
Совсем как Гагарин. Даже интонации были такими же, как в документальном ролике.
* * *
Никуда мы, конечно, не поехали. Поляков затягивал ремешок на сумке, а я вспомнил, что завтра у меня с утра практические занятия по интуитивистике бесконечности в группе Валло, и хорошо бы вечером смотаться на верхний ярус Проведо, посмотреть представление конкистадоров.
Мысль показалась мне странной, но в то же время естественной. Она была продолжением предыдущей, а предыдущая…
Я будто споткнулся. Ухватился за край стола, потому что… нет, голова не закружилась, я прочно стоял на ногах. Закружились мысли. Память раздвоилась, и я вспомнил, как мы с Поляковым ехали ко мне Домой и как я (в то же самое время, готов поклясться!) проводил Марию-Луизу до ее коттеджа, поцеловал руку, давая понять, что не прочь зайти на чашку кофе, а она покачала головой и скрылась за дверью.
— С непривычки, — сказал Поляков, внимательно за мной наблюдая, — это сильно выбивает из колеи. Учтите — в смысле памяти я вам ничем помочь не могу, я поводырь, а не психолог. Потому и искал вас, чтобы, изучив теоретические основы, научиться делать то, чего ни один поводырь не умеет. С памятью у нас проблемы, и это, с одной стороны, естественно, однако…
С Мери мы поссорились из-за сущего пустяка. Я это понимал, она это понимала, пустяк стал лишь поводом, все к тому шло, и это мы оба понимали тоже.
Мери… Знакомое имя. Мария-Луиза. Аспирантка? Меня она никогда не интересовала. Мы кивали друг другу при встрече, и у меня (у нее тоже, уверен) не было никаких идей относительно того, чтобы встретиться, посидеть в кафе и уж тем более…
Я почувствовал, как краска залила лицо: вспомнил наш уик-энд в Йеллоустонском парке. Поляков едва заметно кивнул и сказал со странной интонацией одновременного огорчения и удовлетворения:
— Вероятности наложения эмоционально окрашенных островов достаточно велики, я всегда их избегаю, но сейчас не стал выбирать внеэмоциональные траектории, чтобы вы ощутили… это не очень приятно, по себе сужу.
Я обошел стол (квадратный, хотя в памяти сохранился и круглый) и направился к окну, занавешенному тонким тюлевым занавесом приятного темно-зеленого цвета (вообще-то мне больше нравились жалюзи, но и занавески я выбирал сам, Мария-Луиза вызвалась помочь, утверждая, что женщина в таких делах разбирается больше, но я вежливо ей отказал, мне всегда хотелось, пока я живу один, все решать и делать самому).
Отодвинул занавеску и увидел то, что ожидал. Чего не ожидал — тоже. Вот засада: обе мысли возникли одновременно, оттолкнулись друг от друга и застыли трехмерными проекциями.
Мария-Луиза снимала коттедж напротив моего вот уже почти полгода, нам обоим так было удобнее. Над дверью. у нее горел светло-зеленый карниз, освещая дорожку и куст сирени, посаженный предыдущим хозяином. Направляясь к Мери, я каждый раз отрывал ветку…
— Воспоминания? — участливо спросил Поляков.
— Да, — коротко сказал я, глядя на синюю дверь коттеджа и надеясь, что сейчас, как это часто бывало, откроется кухонное окно, Мария-Луиза высунется по пояс с телефоном в руке и начнет мне звонить, увидев мой силуэт за занавеской. Как вчера: мне нужно было готовиться к лекции, а Мери хотелось в кино, я не мог разорваться и предложил заказать фильм в мою гостиную, хотя голограмма, заполнившая все пространство, оставив вне поля только мой стол с компьютером, действовала на нервы, а когда айцелот вцепился в горло кротампу…
Я тряхнул головой и вспомнил другое: вчера я действительно провел весь вечер за столом — но один, и готовился не к лекции по геометрии Бермановых пространств, о которой не имел ни малейшего представления, а к сегодняшнему докладу по инфинитному анализу.
— Напрягает, — серьезно сказал Поляков, подойдя ближе, будто собирался подхватить меня, если я по какой-то причине потеряю равновесие и попробую упасть. — И вы видите, то есть вспомнили, верно? Ну… что вы на этом острове не занимаетесь инфинитным анализом и ничем мне помочь не в состоянии.
— Вы уже… То есть…
— Это мелководье, отсюда удобно переходить в более проблематичные ветви, если вы понимаете, что я хочу сказать.
Я сел. Стул выгнул спинку, и мне пришлось откинуться, я не любил эту позу и сел прямо, спинка тоже выпрямилась, но опереться на нее я побоялся, хотя и помнил, что спинка примет любую запрограммированную специально для моей спины форму.
— Человек, — медленно произнес я, стараясь не позволить Полякову отвести взгляд: пусть смотрит мне в глаза. — Человек, личность — это, в огромной степени, память.
— Конечно, — кивнул Поляков. — В том и проблема.
— Две памяти в одном мозге, — продолжал я, — прямая дорога к шизофрении.
— Если бы только две, — воздел очи горе Поляков. — Какая-то причинно-следственная связь… именно это обсчитать можете только вы…
— Обсчитать? Боюсь, воспоминания не относятся к вычислимым процессам.
— Совершенно верно! Но ведь вы такими функциями занимаетесь!
— А когда вы перетащите меня в…
— Я никого не перетаскиваю, — быстро произнес Поляков. — Я поводырь, понимаете разницу?
— Ведете за руку…
— Показываю дорогу! Фарватер.
— Неважно. Там, в третьем мире…
— Острове.
— Острове, — повторил я, — мне вспомнится еще и…
— Ах, это…
— Так недолго и рехнуться!
— Я не знаю! Я практик. Интуитивист. И в моей практике ни разу не было такого, чтобы кто-нибудь запомнил хотя бы один остров. Никто и ни разу. Запоминают только конечную точку маршрута. Возможно, это закон природы — вы сможете ответить на этот вопрос. Я — нет. Поводырей учат умениям. Практикам. Как психологи в вашей ветви. То, что у вас называют психологией, — не наука, а набор практик, как у нас лоцманство.
— Хорошо, — пробормотал я. — Поводырь, значит. С одной Земли на другую. В определенном порядке, суть которого вы не знаете, ощущаете интуитивно, просто чувствуете, что с этой Земли…
— Острова.
— С этого острова нужно перебраться на вот этот, а не на соседний, а почему — понятия не имеете, я правильно понял?
Поляков пожал плечами и одновременно кивнул. Получилось довольно смешно, он и сам улыбнулся, поняв, что его ответ — если подобный жест можно назвать ответом — слишком многозначен, чтобы быть засчитанным.
— А вы сами? — я ткнул в Полякова пальцем. — Вы должны помнить каждый остров, иначе не смогли бы быть проводником…
— Поводырем.
— Какая разница? Не смогли бы, верно? И как эти многочисленные острова уживаются в вашей памяти?
Он пожал плечами.
— Это вы тоже должны будете учесть в расчетах.
— Какие расчеты? — буркнул я. — Работать с невычислимыми функциями обычными математическими методами невозможно.
— Это ваши проблемы…
— Вы не ответили на вопрос.
— О моей памяти? Каждый момент времени мне кажется, что память у меня одна, и помню я одну свою жизнь от детских лет до нынешнего мгновения. И все острова, конечно, помню, вы правы, как бы иначе я знал фарватер? Но все это помню я, понимаете? Я. Один.
— Да, — усмехнулся я. — Каждый момент вы помните свою жизнь, но не уверены, что одну и ту же? Одну — да, но ту же?
Он отвел взгляд. Конечно, он думал об этом. Много думал. Умный человек. В огромном архипелаге — бесконечно большом, по сути! — он сумел найти остров, где надеялся получить ответы на свои вопросы.
Я оставил его сидеть за столом и обошел коттедж — даже на крышу поднялся по знакомым ступенькам, через чердак, где было много пыли, хлама и воспоминаний, от наплыва которых мне пришлось остановиться, ухватиться рукой за свисавший с потолка шнур и переждать. Вспомнил, как в первую ночь, только переселившись в новое свое жилище, я всю ночь, вместо того чтобы спать, простоял у открытого окошка (да, вот здесь) и смотрел на звезды, которых не видел несколько лет — в городе мне в голову не приходило любоваться звездным небом, там никогда не гасли огни реклам и фонари у домов, смотреть было не на что. Я смотрел на звезды и размышлял о том, как разобраться с проблемой Мардена-Кошета…
— Понимаю, — сказал я, вернувшись в гостиную и застав Полякова в той же позе, в какой оставил. — Очень странное ощущение: помню функции Кошета так, будто сам…
— Сами, конечно, — буркнул Поляков, не поднимая взгляда.
К этому было трудно привыкнуть. Я вспомнил Янку — мою первую девушку, еще в России, где я жил до отъезда в… Господи, я же из Москвы сразу переехал в Штаты, не было на моем пути Израиля, да и делать мне там было нечего, никто не занимался проблемой, которую я хотел взять в качестве доктората. Мыс Янкой перед моим отъездом оттянулись как сумасшедшие, оба понимали, что увидимся еще, нет проблем, но останемся просто хорошими знакомыми, может, друзьями, а то, что было между нами, не вернется, и не расстояние тому причиной, а наоборот — расстояние только поставит дли-ин-ную точку (именно длинную, и понимайте как хотите).
— Ну что? — будничным тоном спросил Поляков и, наконец, посмотрел мне в глаза. Определял, достаточно я проникся или надо дать мне еще время. — Двигаемся дальше?
— Я… забуду?
— Что? Это тоже мне должны сказать вы, понимаете? Все забывают. Помнят только начальную и конечную точки маршрута. Начальную и конечную. И на каждом острове фарватера они, естественно, как и вы сейчас, помнят начальную и данную промежуточную точки. Не знаю, почему так происходит. И не знаю никого, кто мог бы объяснить. Никого, кроме вас. Инфинитная математика наверняка создана еще в бесконечном множестве ветвей, но я не могу… я всего лишь поводырь и рад тому, что встретил вас. Так мы двигаемся дальше или вы уже поняли, чему именно вам нужно дать математическое обоснование?
Я ухватился за спинку стула — знакомый стул, я каждый день сидел на нем, когда смотрел визор, а когда приходила Мери… но в моем коттедже вообще не было стульев, я люблю плетеные кресла, их у меня пять…
— Вперед, — сказал я и внимательно осмотрел гостиную, стараясь запомнить каждый предмет, хотя запоминать было нечего, я тут жил пять лет, а в этом мире — всю жизнь.
Поляков кивнул и сказал:
— Это второй остров, доктор Голдберг. Второй, а не первый.
— Почему второй? — переспросил я. — Если считать…
Я понял. Сначала это ощутили мои пальцы, а потом дошло и до сознания. Я крепко вцепился в спинку сту… это был не стул и не привычное кресло: сооружение, напоминавшее собранную щепотью ладонь, светло-кремового цвета («мой любимый цвет» — сказал бы ослик Иа). Я никогда…
Ну, как же! Купил я эту качалку в прошлую субботу в торговом центре Кармона — специально ездил забирать, штука уникальная, делается по индивидуальной мерке, Полякову в мое кресло не сесть — вытолкнет.
Часы в форме большого морского штурвала со старинными арабскими цифрами вместо принятых в Европе более поздних обозначений показывали половину десятого, и я не сразу сориентировался — утра или вечера. Вечера, конечно: солнце уже село в западном окне, и засаженное до самого горизонта поле кочерыжечной пшеницы переливалось всеми цветами радуги, я обычно любовался им на закате, ближе к полуночи там смотреть было не на что…
Уолтер! Он должен приехать с минуты на минуту. Может, с Глорией, но, скорее всего, один, что-то у них вчера произошло, и Уолт опять будет плакаться — рассказывать, какую штуку Глория отчебучила, сил его больше нет… сил у него, по-моему, было достаточно и для того, чтобы всякий раз приводить жену в чувство, и для следующего брака, если Глория ему действительно надоест настолько, что придется отвезти ее в центр бракосочетаний, где…
Уолтер? Глория? Я отогнал воспоминание и опустился в кресло, поддерживавшая меня ладонь выгнулась и принялась средним пальцем массировать мне спину между лопатками.
— Как вы это делаете? — спросил я Полякова, стоявшего передо мной в позе Наполеона — без треуголки, конечно, но взгляд, левая нога, выставленная вперед…
— Если б я знал, — вздохнул он. — Призвание. Опыт. Тренировка. Но в какой-то момент понимаешь: достиг предела. Нужно хотя бы понимание. Ощущение сути. Знание. Теория. Профессия становится набором практик, а я хочу большего. Я уже говорил вам, доктор Голдберг: хочу знать, как и почему это происходит. Какая тут физика. И могу ли я, например… Нет, об этом потом… Это третий остров на мелководье. Двинемся в глубину или вернемся?
— Третий? — удивился я.
— Третий, — буркнул он, передернув плечами. — Я ж вам говорил… Нет, вы этого уже не помните, обычная история. Вам кажется, что только что мы были в вашем коттедже на Лорел-стрит.
— Нет, только что мы были здесь же, но вы сказали, что это остров номер два.
Поляков посмотрел на меня со смешанным выражением удивления и восхищения.
— Вы! — воскликнул он. — Вы запомнили? А первый?
Я покачал головой.
— Вы сказали — второй, а теперь говорите — третий.
— И это лишний раз доказывает, — заявил Поляков, что вы тот человек, который мне нужен! Так мы пойдем на глубину или вернемся?
— Если мы вернемся, — сказал я, соображая, как перестроить матрицу движения, чтобы взаимно уничтожались все промежуточные фазовые состояния. Это, конечно, упрощение, модель, но в данном случае, чем проще модель… — Если вернемся, эту ветвь я запомню, или при закольцовывании маршрута память обнулится, как память компьютера, который после команды «стоп» возвращается в исходное состояние, включая состояние памяти?
Поляков посмотрел на меня с уважением. Сесть ему было негде, я не любил принимать гостей, во всяком случае, не здесь, для гостей у меня была квартирка при университете. Он прислонился к простенку между окнами, став очень похожим на горельеф Наполеона, я даже хмыкнул.
— Запомните, естественно, конечную ветвь — цель движения.
— А вы…
— Я — поводырь. Я помню каждый остров, каждую кочку на фарватере. Как иначе я мог бы проводить группы?
— Это десятки, сотни…
— Тысячи и миллионы, — подхватил он.
— А как же… — у меня пересохло в горле, очень хотелось пить, я знал, что в кухне, на столике, у меня стоит — здесь, в этой ветви, а не дома, в Коннектикуте, — початая бутылка сейги, винного напитка, прекрасно утоляющего не только жажду, но и, в определенном смысле, некоторые иные желания, которых у меня, впрочем, сейчас не было и о существовании которых я вспомнил без обычного энтузиазма.
— А как же… — повторил Поляков, наблюдая за моими усилиями разделить две памяти. — Вы хотели спросить: мои способности к навигации ограничиваются только нашей планетой или существует лоцманская космонавтика? Морская? Океанская?
— Не уверен, что хочу услышать ответ сейчас. Если мы отправимся дальше по этому вашему фарватеру, я забуду ваши объяснения, верно?
— Скорее всего. Но вы запомнили второй остров, и, значит, возможно…
— А если вернемся?
— Пожалуй, нам действительно лучше вернуться. В том, что лоцманская навигация реальна, вы убедились, и разговор наш станет более предметным.
— Хорошо. Только…
— Вы хотели бы здесь осмотреться, — улыбнулся Поляков, — чтобы больше запомнить. Пожалуйста, я подожду.
— У меня мобильный телефон, — с сомнением сказал я. — Если я сделаю несколько снимков…
— Хоть миллион. Конечно, они сохранятся после возвращения. Сохраняется любая информация, на любом носителе. Но тоже только в конечной точке маршрута. Это вы должны учесть в уравнениях.
— Уравнений классического типа в инфинитном анализе не существует. Вы хотите сказать, что… Ладно, — перебил я себя. — Обо всем этом — когда вернемся.
Я обошел комнату, притрагиваясь к каждому предмету и стараясь запомнить, хотя и так прекрасно помнил каждую тумбочку, каждый гаджет, кровать под пологом в спальне, огромную микроволновку в кухне, холодильник-шар… и платья Марии-Луизы в стенном шкафу… Я их сегодня утром подобрал с пола и повесил на плечики, уверенный, что они так и провисят, пока я их не суну в мусоропровод, Мери никогда не надевала одно платье дважды. «Терпеть этого не могу, — говорила она. — Как ты носишь один костюм столько времени, у тебя не возникает ощущения, что ты застыл в жизни?» — «Нет, — говорил я, — j жизнь — это вовсе не смена одежды». — «А как же ты отделяешь один день от другого?» — говорила она, и я думал: ведь верно, для нее смена дней и смена одежды — по сути одинаковые в своей бессмысленности процедуры, при ее профессии иначе и быть не могло, а меня это раздражало…
— Осмотрели? — спросил Поляков. Я обернулся: он шел за мной из комнаты в комнату и ставил на место предметы, которые я брал в руки, рассматривал, вспоминая, а класть забывал, просто выпускал, они падали на пол, и что-то, кажется, я даже разбил, но мне об этом не думалось.
— Да, — сказал я. — Странное ощущение: хотел все запомнить на будущее, а вместо этого всплывает прошлое, нити памяти тянутся в обратном направлении…
— Конечно. Давайте сядем и поговорим наконец предметно, потому что на самом деле все гораздо… ээ… хуже, чем… Но сначала: что вы об этом думаете?
Я хотел сказать «Хорошо, давайте вернемся», но прикусил язык — мы уже вернулись, и этот момент прошел мимо моего сознания.
— Хорошо, давайте поговорим. Присядьте.
Я отправился на кухню и сварил кофе. Смолол и сварил в старой кофеварке, которой не пользовался бог знает сколько времени. Хотел спросить Полякова, сколько ему положить сахара, но раздумал: пусть положит сам, сколько захочет. Пока кофеварка возмущенно шипела, а потом фырчала, выдавливая напиток, я приходил в себя, собирая расхристанные мысли и сводя в список вопросы, возникавшие хаотически, но, как я полагал, все же в каком-то интуитивно неосознаваемом порядке. Когда я вернулся в гостиную с подносом, часы над дверью в кухню показывали 17:52, а солнце за окном легло на вершину дерева, росшего через дорогу.
— Вы говорили об астронавтике. Другие планеты? Космос? Или… все-таки только Земля?
Поляков поднялся, подошел к столу, принюхался, запах кофе был замечательный, лучший сорт арабики, большая редкость в наше время сплошного боша. Поморщился, бухнул в чашку три ложки сахара, размешал, отпил глоток, вернулся на диван — все это он проделал медленно: не степенно, а именно медленно.
— Конечно, — сказал он наконец. — Космос. Океан. Терпеть не могу каботаж. Иногда провожу группы к спутникам больших планет. Туристы. Но обычно ко мне обращаются ученые. Астрофизики, в основном. Это не то чтобы сложнее, провести я могу кого и куда угодно, я же чувствую фарватер, как… не знаю… собственное сердце. Но там… да, вакуум, а вблизи от звезд радиация. Много заявок на системы с нейтронными звездами, черные дыры опять же, ядра галактик, квазары… Самое дальнее плавание было — к горизонту.
— Черной дыры?
— Черные дыры тоже, но я говорю о горизонте Вселенной. Шестьсот тридцать два острова на фарватере. Замучился, право слово. Вы хотели бы побывать на горизонте черной дыры?
— Да. — Я ждал этого вопроса, и ответ был у меня готов еще до того, как я мог себе представить, что такой вопрос мне кто-то когда-нибудь задаст.
— Но там невозможно выжить, — добавил я. — Как же…
— Не могли бы вы, — перебил меня Поляков, оттягивая, похоже, момент истины, о котором он знал все, а я ничего, — приготовить еще чашку этого замечательного напитка?
— Пожалуйста, — сказал я, поставил пустые чашки на поднос и пошел на кухню, затылком ощущая буравивший меня взгляд Полякова. Разговор наш принимал все более странный характер, а воспоминания о недавнем путешествии исчезали из памяти, как выветривается сон. Просыпаешься и все прекрасно помнишь, стараешься запомнить все детали сна, но через минуту многое кажется туманным, через три не можешь вспомнить даже важные детали, а через пять понимаешь: да, снился сон, но что именно… не помню, хоть тресни. Дожидаясь, пока зашипит, выпуская напиток, кофеварка, я вспоминал: картина на стене (никогда такой не видел, хотя ощущение было, будто картина очень знакома, я сам ее и вешал, произведение модного примитивиста… как его… Штефан? Шацман?), похожая на надгробие деревянная скамья в коридоре, нарушавшая гармонию, симметрию и выглядевшая несуразно и неуместно, но тем не менее занимавшая свое место, я секунду назад помнил, когда и для какой цели купил этот шкадон… ээ… да, так этот предмет назывался, на распродаже в Хефлинге… Хефлинг? В ближайшей окрестности не было населенного пункта с таким названием, но я там был недели две назад… или месяц… или не был вообще.
Кофеварка выдавила в чашку порцию «замечательного напитка», а я с недоумением и досадой следил, как из памяти вымывалось то, что я хотел запомнить.
Я стоял, крепко вцепившись обеими руками в спинку стула — не упасть боялся, а хотел удержать воспоминание, расплывавшееся, как лужица на плоской поверхности.
Кофеварка выдавила вторую порцию, я едва успел подставить чашку. В нее-то, видимо, и слились остатки того, что я запомнил — какая-то комната, что-то там было…
Я поставил на поднос чашки, придумывая формулировку вопроса, который сейчас задам Полякову. Какой смысл в путешествии куда бы то ни было по фарватеру, если…
— Какой смысл… — начал я, войдя в гостиную, и едва не уронил поднос. Все-таки не уронил, поставил на стол, обошел его и встал над лежавшим на полу телом.
Поводырь, лежал ничком, вцепившись правой рукой в ножку стола. С первого взгляда можно было подумать, что он спит. Со второго…
Это был мертвец.
* * *
Лежал Поляков так, что можно было, наклонившись, заглянуть в его мертвые глаза. Изо рта вытекла тоненькая струйка крови. Но самое очевидное свидетельство смерти — рана в левом боку, небольшое отверстие от пули. Крови почти не было — может, и не должно было быть при такой ране?
О чем я думал? В те первые минуты — ни о чем. Единственная мысль, которую запомнил, — о том, что рану нарисовали, а смерть свою Поляков изображал с неизвестной мне целью, — прожила недолго, а больше мыслей не было. Наверно, я впитывал информацию (это я начал понимать потом, а тогда мне казалось, что я тупо смотрел на тело и по сторонам: ступор и шок).
Через год или больше, а скорее, через минуту — время для меня то сворачивалось клубком и застывало, то прыгало, как кенгуру, пропуская кванты, — я все же пришел в себя или, точнее, взял себя в руки настолько, чтобы совершить необходимые действия и ввести в сознание, будто шприцем, необходимые мысли.
Наклонился и пощупал пульс. Пульса не было. До приезда полиции нельзя было прикасаться ни к телу, ни к предметам вокруг. Это я знал, читал в детективах и видел в кино. Я ни к чему не притронулся, кроме теплого, но безжизненного запястья, поднялся, высматривая то, что должно было лежать рядом с телом. Из чего-то же Поляков себя застрелил! Пистолета не было. Может, выстрелив, он инстинктивно отбросил оружие? Я заглянул под диван и рукой пошарил в пыльной темноте. Пусто.
Может, пистолет лежал под телом? Поляков выстрелил, уронил оружие и упал на него.
Глупо было этим заниматься, но мысль о том, что трогать тело нельзя, столкнувшись с непреодолимым желанием понять случившееся, спряталась в подсознание. Я взял Полякова за плечо и повернул — чтобы затем положить в точности так, как тело лежало. Пистолета не было, и я подумал, что на самом деле не ожидал его увидеть. Внутренним сознанием — если такое существует — я знал, что оружия в комнате нет и искать его бессмысленно.
Не мог он себя убить! Глупая мысль, почему я за нее цеплялся? Не мог он вывернуть руку так, чтобы… Я попробовал сделать это сам (вспомнил мамино требование: «никогда ничего не показывай на себе») и понял то, что уже знал: в Полякова стреляли, и убийца ушел, унеся с собой оружие. И никак иначе.
Вызвать полицию. Скорее. Иначе преступник скроется; наверно, у него машина, и полиции придется объявлять розыск.
Я потянулся к лежавшему на столе телефону и, к счастью, сначала подумал. Думал я плохо, но эта мысль все-таки пришла в голову. Как, черт возьми, преступник, кто бы он ни был, попал в дом? Как вышел? Я прекрасно помнил, что, когда мы с Поляковым вошли, я запер дверь, как делал это всегда. Другого входа в доме нет. Все окна закрыты, потому что работал кондиционер.
Совсем идиотская мысль: убийца пролез через оконце в ванной или туалете. Нет, конечно. Оконца были слишком малы, но и они были закрыты, обе ручки повернуты в состояние «заперто».
И еще: я не слышал выстрела. Правда, я не прислушивался к тому, что происходило в гостиной, был занят приготовлением кофе и собственными мыслями, но выстрел не мог не услышать! Разве что стреляли из пистолета с глушителем.
А Поляков? Стоял и ждал, пока в него выстрелят? Я не слышал крика. Может, убийца подкрался сзади, и Поляков даже не понял, что происходит?
Какая чушь лезла мне в голову!
Но одна здравая мысль меня все-таки посетила. Я понял наконец, что оказался в безвыходном положении.
Звоню в полицию. Приезжают детективы. И что обнаруживают? Труп в запертой комнате. В закупоренном изнутри доме. Гипотетический убийца, по свидетельству самого хозяина, и осмотр покажет, что это так, не мог ни войти, ни выйти. «Скажите-ка, доктор Голдберг, куда вы спрятали оружие? У вас было достаточно времени, чтобы это сделать. Мы, конечно, произведем досмотр, но будет лучше… признание вины смягчает… никто, кроме вас, не мог…»
«Какие проблемы были у вас с убитым? Каков мотив?»
Никакого, но это неважно. Ясно, как божий день: никто, кроме меня, не мог убить этого человека. А оружие я спрятал.
Эта мысль была такой очевидной, что я стал соображать: куда в моем коттедже можно спрятать пистолет так, чтобы его не нашли при самом тщательном обыске?
Никуда.
Если я вызову полицию, то стану первым и единственным подозреваемым. Наедине с убитым в запертом доме. Мотив? У меня нет никакого мо…
Я мысленно прикусил язык.
Поляков определенно знал, что произошло на берегу залива Черепахи. Я привез его к себе, чтобы выяснить неизвестную мне правду. Он был там и тогда. Он — с точки зрения полиции — мог свидетельствовать против меня. «Провал в памяти, доктор Голдберг? Вы очень не хотели, чтобы вам память освежили?»
Я мог открыть двери и окна и сказать, что неизвестный убийца проник в коттедж, когда я готовил на кухне кофе, убил моего гостя (почему?) и скрылся.
«И выстрела вы не слышали?»
Не годится. Преступник оставил бы следы, например, на подоконнике. Современные методы экспертизы позволяют обнаружить микроскопический клочок ткани, след пальца, что угодно, вплоть до капельки пота, по которой можно прочитать ДНК.
Открыт был дом в момент убийства или заперт наглухо, как пресловутые комнаты в романах Джона Диксона Карра, но убить Полякова мог только я.
И если я вызову полицию…
А если не вызову? Что делать с мертвым телом? Вывезти и захоронить? Какие несусветные глупости приходили мне в голову!
Почти сразу, увидев мертвого Полякова, я понял, чем мне придется заняться. Понял, но не допускал в сознание, пока не перебрал все варианты и не убедил себя, что существует лишь одна возможность.
Докопаться самому. Выяснить: почему, как и, главное — кто.
Рассказать копам о своем предположении? Мне не поверят, для них мое заявление станет аргументом против меня.
«Человек из другой ветви многомирия? Придумайте что-нибудь получше, доктор Голдберг!»
Я не слышал выстрела. Никто не мог ни проникнуть в дом, ни покинуть его в те несколько минут, что я провел на кухне.
Поляков был поводырем. Он говорил об интуитивизме как основе лоцманства. Он хотел, чтобы я создал теорию явления.
И его убили. Потому что он пришел ко мне? Потому что хотел узнать, понять, использовать? Кому-то это было не нужно? Смертельно опасно?
Не нужно фантазировать. Я понятия не имел, почему убили Полякова. Не имел ни малейшего представления, как его убили. И кто.
Я опустился на диван и бездумно смотрел перед собой, ожидая, пока меня «отпустит». Время от времени меня била крупная дрожь — внезапно, приступами, с которыми я не мог справиться.
Нужно было сделать кофе — большую чашку; может, тогда удастся привести мысли в порядок.
Я прошел на кухню так, чтобы не видеть тела, и я его не увидел. Выпил кофе за кухонным столом. Дрожи больше не было. Мысли перестали скакать.
Я сказал себе, теперь уже не панически, а разумно-сосредоточенно: «Никто, кроме тебя, не разберется. Полиция навесит убийство на тебя, и ты не докажешь, что не спрятал оружие».
* * *
«Я поводырь, я умею находить пути между мирами, но не знаю, что при этом происходит физически. Вы, доктор Голдберг, умеете рассчитывать квантовые запутанности, которые моим умением управляют. Поэтому я пришел к вам…»
И что? Математика — абстракция. Язык описания.
Да, язык и абстракция. Но мне ли не знать, что математика — не костыль для физики, это вселенная, существовавшая до появления человека. Мир математики будет существовать и после того, как не станет меня, не станет человечества, не станет Солнца, звезд и галактик. Когда во Вселенной не останется ничего, материя схлопнется в черные дыры, а черные дыры испарятся, мир математики не изменится ни на йоту, два плюс два все равно будет равно четырем, а прямая останется кратчайшим расстоянием между двумя точками. Останется и теорема Гёделя о неполноте, сущность, определявшая состояние математической вселенной еще до рождения австрийского математика.
Математическая вселенная столь же реальна, хотя и нематериальна, как реален наш вещный мир, как реальны поляковские острова, как реально тело поводыря на полу в моей гостиной.
Я ничего в этой жизни толком не умел, кроме как обращаться с числами, операторами, математическими знаками и словами, связывавшими эти знаки, числа и операторы в одно невообразимо красивое целое.
Но я не представлял, как проводить такие расчеты. Тем более что, скорее всего, перемещения между островами описываются невычислимой математикой и инфинитным анализом, поскольку каждый остров располагается в своей вселенной и перемещение происходит на самом деле не в пространстве-времени единственной ветви (это противоречило бы всем известным законам физики, в том числе квантовым), а между ветвями, насколько я понял невнятные объяснения поводыря.
Без инфинитного анализа не обойтись, Поляков прав. Математика всегда описывала не только нашу, но бесконечное разнообразие вселенных во всех разнообразиях многомирия. Но разбираться в основах невычислимой математики мы стали совсем недавно, и наверняка лишь малую (возможно, бесконечно малую) часть этой прекрасной науки можно понять при нашем знании математического аппарата. Я трезво оценивал свои возможности. Я не Дорштейн, получивший Меллеровскую премию за открытие инфинитного анализа. И мне далеко до Волкова, доказавшего первые три теоремы инфинитной математики.
До нынешнего дня я разрабатывал чистую теорию без какой бы то ни было надежды на то, что астрономы найдут моим идеям наблюдательное подтверждение. Сейчас у меня есть результаты прямых, скажем так, экспериментов. Поляков и его путешествия по островам. Более того, Поляков, по его словам, водил группы туристов и даже научные экспедиции. Он говорил о переходах к другим звездам, черным дырам, туманностям…
Понятно, что это были переходы в другие ветви многомирия, в квантовом отношении идентичные начальной. Значит, такое возможно! Оказаться за миллионы световых лет от дома, вблизи от другой звезды, в другой галактике! Без звездолетов, ракет, ускорений, рвущих сухожилия, гигантских запасов топлива и огромных сумм, которые должно тратить человечество, приступая к межзвездным полетам!
До меня только сейчас стало доходить, какие перспективы…
Но думать надо было о другом.
Есть главные вопросы. Я знаю, что поводырь может перемещать не только себя, но и других людей, а также предметы, из одной ветви многомирия в другую. Но только в определенные точки реального пространства-времени, которые Поляков называет островами. Перемещаясь от одного острова (в одной ветви) к другому острову (в другой ветви), поводырь приводит группу к конечной точке маршрута — тоже острову и тоже в какой-то из бесконечного числа реальностей. Но с этого острова начнется путь назад.
Насколько я понял Полякова, конечная точка маршрута — Остров, С Которого Возвращаются, — может находиться сколь угодно далеко от Земли, если рассматривать координаты в нашей реальности. Смысл работы поводыря: перемещаться из одной ветви многомирия в другую, идентичную в пределах квантовой неопределенности. И, судя по рассказам Полякова (да я и на себе испытал!), энергия при этом или не затрачивается вовсе, или — в таких количествах, что законы сохранения не нарушаются. Квантовые нелинейности позволяют, сделать самые общие выводы о том, что ветви могут взаимодействовать друг с другом. Когда предполагалось, что уравнения Шредингера в точности линейны, никакие взаимодействия ветвей не допускались. В принципе, при расчетах взаимодействия двух ветвей (самый простой случай), нужно рассматривать их как единый объект, и тогда законы сохранения будут «работать» в двумирии, а не в каждой из взаимодействующих ветвей.
Вывод первый — а ведь я уже думал об этом, но мне не хватило научной смелости оформить идеи в формулы и числа: в инфинитном анализе многомирий так называемые идентичные ветви на самом деле не полностью идентичны, но в пределах некоторой квантовой неопределенности. Что-то вроде принципа неопределенности Гейзенберга, только применительно не к элементарной частице, а к целой вселенной — и, черт возьми, это тоже очевидно: в рамках инфинитной математики вселенная, ветвь многомирия, по сути является элементарной частицей в бесконечном мироздании. Следовательно, неотличимые *в квантовом смысле миры при более тщательном рассмотрении должны отличаться друг от друга!
Переходил Поляков от одного острова к другому, из одной ветви многомирия к следующей чисто интуитивно, не имея представления если не о физике (в ней он что-то понимал, хотя и немного), то о математике процесса. Точно рассчитать собственные поступки он не мог. Может, в его ветви и компьютеров не было — Поляков ни разу о них не упомянул. В космос они летали (если можно использовать это слово применительно к профессии Полякова) не на ракетах, а способом, который никому из «наших» не приходил в голову хотя бы потому, что многомировая теория квантовой физики только после работ Волкова стала темой многочисленных конференций. До окончательного признания — и тем более до практического использования — было еще ох как далеко…
Вывод второй — матрицы состояния обратимы не только во времени, но и в направлении импульсов. Поляков был поводырем-интуитивистом, а я знал тонкости квантовых переходов, и, если хоть что-то понимал в собственных идеях, мы с Левой (я впервые мысленно назвал поводыря по имени) находились в состоянии квантовой запутанности, и без разницы: жив он был или нет. Кошка Шредингера тоже была то ли живой, то ли мертвой, оба состояния реальны, как сейчас состояние Полякова. Я наблюдал одно, но было и другое.
Возможна ли редукция нашей с Поляковым общей волновой функции? Например, когда наступает трупное окоченение? Вряд ли. В многомирии волновая функция не коллапсирует, редукции нет и, значит, неважно, жив Поляков или мертв, я должен…
Но это он, а не я, должен включить интуицию, пробуждающую его, а не мою способность…
Да, но процесс теоретически обратим, а значит, и реально должны существовать условия…
Терять мне, собственно, было нечего. Мысли прояснились. Сейчас я мог даже без страха посмотреть в мертвые глаза Полякова.
Я помнил, какой была комната перед нашим возвращением. Зафиксировал взгляд на стене, где «там» висел постер с изображением парусника, входившего в гавань, а «здесь» можно было различить почти невидимое серое пятно, происхождение которого никогда меня не интересовало.
Что я почувствовал? Будто тепло потекло поруке от ладони к плечу, но, скорее всего, просто показалось. И еще почудилось, будто стало прохладнее.
Я закрыл глаза — подумал, что надо «погрузиться в себя»: чем меньше информации о внешнем мире, тем лучше. Хорошо бы еще «выключить» слух, осязание и остальные двадцать или сколько у человека чувств и ощущений.
Шестое, а может, семнадцатое чувство подсказало мне, что глаза можно открыть.
Что я ожидал увидеть? Наверно, все то же едва заметное серое пятно на стене. Я хотел одного, но подсознательный страх заставлял меня в то же время желать (куда сильнее!) совсем другого.
Получилось, естественно, третье, и так было всегда. Не помню случая, чтобы сбылось то, чего я сильно хотел. Не помню случая, чтобы сбылось то, чего я всей душой не желал. Всегда я получал то, чего не особенно добивался, но против чего и не возражал.
Серого пятна не было. Постера с изображением парусника не было тоже. Просто белая стена.
Солнце стояло высоко, и потому в комнате было довольно сумрачно, только под окном лежало яркое пятно света.
Получилось?
Немного кружилась голова. Немного дрожали ноги. И еще появился запах. Почти неуловимый запах чужого места — так бывает, когда приезжаешь в город, где ни разу не был, приходишь в гости к людям, которых не знал прежде. Это ощущение никогда меня не обманывало, хотя я обычно не обращал внимания на такие тонкости — запах тель-авивских улиц или американских парков даже при желании не спутаешь с запахом парижских бульваров или московских площадей.
Это был мой дом. И не мой. Взглядом я зацепился за давно знакомые атрибуты: диван, который я купил год назад, коврик с пятнами от давно пролитого кофе, фотографию на стене напротив окна, на которой я был рядом с…
Это была другая фотография. На той, к которой я привык, Юджин Валтер, мой студент, сфотографировал меня с приехавшим на конференцию из России Игорем Мушкатиным, математиком, доказавшим седьмое неравенство Филда. Мы тогда здорово поспорили, Мушкатин доказывал, что склейки ветвей с перемещением материальных тел невозможны, поскольку «вы же сами, доктор Голдберг, придерживаетесь концепции линейности квантовых уравнений!». Да, но я утверждал, что линейность основных уравнений допускает существенную нелинейность приложений, и это качественно меняет подход к проблеме склеек. После двух суток отчаянных дискуссий мы пришли к консенсусу, который сейчас называется в математике «принципом Голдберга-Мушкатина». С помощью этого принципа я собирался решать уравнения перемещения, которые…
На фотографии, висевшей на стене напротив окна, я стоял рядом с человеком, которого не сразу узнал. Мне понадобилась минута, чтобы сопоставить, вспомнить и допустить в сознание: это был сам Волков, лауреат Меллеровской премии, великий математик, которому я на конференции по спиновым аттракторам задал вопрос и получил краткий исчерпывающий ответ. На любые вопросы Волков отвечал кратко и исчерпывающе. После аварии, пролежав в коме почти год и сумев вернуться к профессии, Волков не терпел публичности, мне и в голову не приходило предложить ему сфотографироваться на память.
Я обвел взглядом комнату, отмечая другие отличия. Держась рукой за стены, прошел в кухню, выглядевшую вполне обыденно, взгляд отдохнул на знакомых предметах: даже кофейник, который я поставил на стол, когда готовил Полякову кофе, стоял на том же месте, и еще я заметил горсточку просыпанного сахара, да-да, я его и просыпал.
В шкафчике должен лежать хлеб в полиэтиленовом пакете, а в холодильнике пачка маргарина и болгарская брынза. Мне захотелось съесть бутерброд, и я привычно достал хлеб, масло, баночку с сыром… вот следы ножа, я помнил, что оставил их утром, здесь и сейчас я точно был дома, здесь и сейчас не было ни единого предмета, способного намекнуть, что я…
Кроме запаха.
Чужой запах другого места. Другого города. Другой страны. Другого мира.
Если сейчас позвонят…
В дверь постучали. Три раза. Так стучала Мария-Луиза, я кричал «открыто», потому что всегда заранее отпирал замок перед ее приходом, она это знала, но все равно стучала, предупреждая «я пришла!», она терпеть не могла неожиданностей в жизни и не хотела застать меня врасплох — вдруг я не успел надеть брюки и останусь в неглиже, если она, не предупредив стуком о своем приходе, войдет в гостиную?
— Открыто! — крикнул я, подумав, что на самом деле не знаю, открыта дверь или нет.
Услышал стук каблучков и увидел, как она входит, останавливается на пороге, устремляет на меня обычный свой раздраженно-приветливо-испытующе-притягивающий взгляд и произносит фразу, которую я слышал множество раз и — парадокс! — услышал сейчас впервые, так же как впервые увидел эту женщину, вошедшую из вечности:
— Жарковато сегодня, ты не находишь?
— Здравствуй, — пробормотал я, даже не попытавшись подняться навстречу.
— Ты хотя бы сэндвич мне приготовил? Я прямо с работы, и сегодня было трудное утро. Зато не нужно возвращаться после обеда. Ты рад?
Верно, я обещал ее накормить, а поскольку не умел готовить ничего более существенного, чем сэндвич или яичницу с беконом, то одним из этих блюд ограничивался. И чашкой кофе, конечно. Большой чашкой, стоявшей на второй полке в кухонном шкафчике, где — этого я не мог не помнить! — никогда не стояли чашки, а всегда лежали тарелки, в большинстве одноразовые.
— Сейчас, — пробормотал я.
— Да что с тобой сегодня, Лева? — с тревогой спросила Мария-Луиза.
Лева? Две памяти вели в моем мозгу битву за обладание сознанием, а интуиция, как возница, пытавшийся управиться с двумя конями, несущимися в разные стороны, вовсе не беспокоилась за мой разум.
Большая чашка с зеленым вензелем стояла на своем месте на второй полке, а тарелки — я вспомнил — должны были лежать в нижнем шкафу, мне они сейчас не были нужны, я и не стал проверять. Включил кофейник, сполоснул чашку Марии-Луизы и свою тоже, стоявшую в мойке, достал из ящиков ложечки (привычным движением, хотя и не помнил, чтобы когда-нибудь доставал ложки из ящичков под столешницей, ложечки у меня хранились в высоком стакане на кухонном столе). Сэндвичи — один с беконом, другой (для меня) с сыром — лежали на подносе, завернутые в вощеную бумагу, я их сам утром приготовил и положил под струю влажного воздуха из ионизатора, чтобы хлеб сохранил свежесть.
— Лева, тебе помочь? — крикнула из гостиной Мария-Луиза, и мой голос ответил:
— Спасибо, Мери, я сейчас!
Когда я вернулся в гостиную, Мария-Луиза сидела на диване, поджав под себя ноги и прикрыв колени большим цветастым платком, который я купил ей в позапрошлую субботу.
Я?
Паника выплеснулась волной, я пролил кофе на блюдце, Мария-Луиза подняла на меня удивленный взгляд, но волна схлынула, я вытер лужицу салфеткой и произнес слова, которые возникли сами и сами произнеслись:
— Прости, Мери, я сегодня действительно не в себе, с утра тренировка, а потом бродил по мелководью.
Она понимающе кивнула, но что-то в моем лице или в словах показалось ей странным, или неестественным, или… Я совсем не знал эту женщину и не мог интерпретировать ее взгляд. Ощущение показалось мне нелепым, потому что с Мери мы были знакомы давно, и я прекрасно понимал, о чем она подумала.
— Ты со мной и не со мной, — тихо произнесла Мария-Луиза. — Ты здесь и сейчас, но там и неизвестно когда. Это так?
Она была права и не права. В той ветви, которую я обозначил в памяти как мою, я не был поводырем. В той ветви, которая была моей, Полякова убили. Линия его памяти прервалась, я получил ее завершенной, в отличие от моей собственной, которая еще продолжалась.
Я опустился на стул, но сидеть было жестко, все сейчас казалось мне угловатым, кололо: взгляд Мери, шероховатость сиденья, даже молекулы воздуха, проникая в легкие, кололи их, и мне стало тяжело… нет, скорее, тяжко дышать.
Мери смотрела на меня, обхватив ладонями чашку, и мне казалось, что через ладони уходил из ее взгляда и мыслей гнев и еще какое-то чувство, которое я не успел распознать, потому что оно впиталось фаянсом и оставшимся кофе.
— Это так. Разница в том, что в той, второй, ветви моя память…
Я не представлял, какими словами объяснить.
— Ты знаешь, — сказал я, отбирая в памяти моменты, когда мы говорили об этом, — что мне очень нужно иметь рациональное, физическое объяснение моего умения…
Мери кивнула:
— Угу. Музыку своего таланта ты захотел разъять, как труп.
Жестоко, но она говорила так не впервые, и я пропустил ее слова мимо ушей.
— Я нашел человека на мелководье, долго об этом думал, и всплыло… лицо, имя, место, время… Мы с ним давно запутаны — собственно, он это в какой-то степени я. В тех ветвях, где нет поводырей, а в космос летают на ракетах.
— Его зовут…
— Нет, не Лев Поляков. Другая биография, хотя многое совпадает, это же мелководье.
— Нью-Хейвен?
— Да.
Помолчав, я сказал:
— Его зовут Пол Голдберг. Квантовый физик, изобрел метод расчета склеек идентичных ветвей.
— Ты говорил с ним?
— Конечно, я…
Возглас последовал быстрее, чем я успел закончить фразу.
— Ты не должен был!
— Почему? — удивился я.
— Потому! Зачем тебе теория, ты и без нее прекрасный лоцман, поводырь Божьей милостью. Теория тебе нужна, чтобы вспомнить то, что вспоминать не нужно!
Когда Мария-Луиза сердится, то не выбирает выражений. Она произнесла фразу, которая зацепилась обо что-то в моем изменившимся подсознании и…
Будто молния. Я вспомнил тот переход. Я не мог его вспомнить, пока не наткнулся на вешку. Невозможно вспомнить то, о чем ничего не знаешь. Просто вспомни, говоришь себе. Что? Когда? Не от чего оттолкнуться, не из чего выбрать.
Это было год назад. Мария-Луиза захотела присоединиться к группе планетарных археологов из Манчестерского университета. Хотела увидеть, как я работаю, как веду группу, много чего она тогда сказала, чтобы пойти со мной.
«Хорошо», — согласился я.
Нельзя было этого говорить. Но ведь все тогда было прекрасно. Никаких проблем. Или… Тогда все началось?
Воспоминание раскрылось, как зонтик.
* * *
В группе было трое: двое мужчин и женщина. Мужчин звали Мейдон Лоуделл и Генри Стокер, женщину — Саманта Юришич. Сотрудники отдела малых экзопланет.
«Мы изучаем образование атмосферных вихрей на очень молодых планетах малых радиусов, где атмосфера образовалась на ранней стадии эволюции и еще не успела рассеяться. По идее, в такой атмосфере…»
Я не слушал. Я плохо знал теории формирования небольших планет, теорий таких было штук пятнадцать. Эти трое наверняка придерживались какой-то одной и собиралась добыть если не однозначные доказательства, то убедительные аргументы, чтобы на очередном семинаре выступить с сенсационным (для малого круга специалистов) докладом и (или) опубликовать статью на престижном международном Интернет-портале.
Их интересовал объект Нимейер-3393..На лоцманском жаргоне: Парейра, так звали поводыря, обнаружившего этот остров.
Мария-Луиза явилась, когда я проверял крепления за-, плечных ранцев, куда Лоуделл со Стокером сумели впихнуть довольно громоздкую и массивную аппаратуру. Некоторые приборы я и опознать не смог, видел впервые, научные технологии в наше время развиваются очень быстро, благо есть цель и возможность. В прошлом году астрофизики довольствовались в переходах телескопическими системами Вентера, а эти взяли прибор Кляйнера, последнее слово техники бесконтактных наблюдений, сравнимое с первым телескопом Галилея.
«Мери, — напомнил я, — у тебя в три коллоквиум!»
«Разве мы не успеем вернуться к обеду?» — деланно удивилась она, я и отвечать не стал, спорить с Марией-Луизой, если она что-то решила, бесполезно, а то, что время возвращения я назначил на без четверти двенадцать, она знала.
«Пойдешь налегке?» — только и поинтересовался я, потому что явилась Мария-Луиза без камеры.
«Да», — небрежно ответила она, внимательно оглядев троицу, заканчивавшую приготовления к переходу, и, как я заметил, обратив особое внимание на Сенту, что уже тогда показалось мне странным.
«Они сами будут снимать, — пояснила Мария-Луиза, — и их фотографии все равно будут более профессиональными, чем мои. Так зачем же…»
Она хотела сказать, что изображениями второго сорта коллекцию не украсишь, а лучше, чем профессионалы, ей снять не удастся.
«Не старайтесь запоминать каждый остров на фарватере, — предупредил я, хотя в инструкции это положение было прописано трижды в разных формулировках. — Во-первых, все равно не запомните, а во-вторых, на финише сознание окажется запутанным, и придется потратить важные минуты, чтобы привести мысли в порядок. Готовы?»
Стокер посмотрел на меня изучающим взглядом, будто спрашивал: «А ты сам готов?», кивнул и вцепился обеими руками в поясной ремень. Лоуделл четко ответил «Готов!» и пригнулся, будто собрался прыгать. Мисс Юришич рассеянно смотрела в пространство и тихо произнесла после раздумья: «Я готова, поводырь Поляков». Интонация должна была заставить меня насторожиться, но фраза соответствовала инструкции, и тревожные колокольчики в моей голове не прозвучали.
«Уходим», — сказал я и вызвал в памяти первый остров.
Не знаю, как это происходит. Интуиционизм ничего не объясняет по той простой причине, что никто — ни психологи, ни науковеды — не знает, что такое интуиция и как она работает. Я умел это делать с малых лет. Делал не задумываясь — если начинал задумываться, ничего не получалось.
Как-то в школе — в девятом, кажется, классе — мне попался старый фантастический роман Джека Финнея «Меж двух времен». Я прочитал его, как говорят, на одном дыхании, потому что — единственный случай в художественной литературе — герой романа умел делать то же, что поводыри. То есть почти. А точнее — совсем не. Чисто внешне — похоже. Но Финнею не пришло в голову, что так, как его герой, по одной ветви многомирия переместиться невозможно — нет способа оказаться в собственном прошлом или будущем или в точке пространства вне светового конуса. А вот переместиться на далекий остров в другой ветви — запросто! То есть запросто для меня и других поводырей, которых в списке Гильдии насчитывается сто тридцать шесть. Сто тридцать шесть человек, обеспечивающих космическую экспансию человечества. Сто семнадцать мужчин и девятнадцать женщин.
Грудь распирает от гордости. Но порой подступает такая тоска…
Интуитивистика позволяет побывать в таких далеких и странных мирах, которые даже в лучшие телескопы не всегда поддаются наблюдениям. Но интуитивистика, в то же время, наш кошмар, потому что космос открыт только ста тридцати шести поводырям — и пока не удалось не только подвести теоретическую базу (хотя ясно, что мы имеем дело с квантово-механическими эффектами), но хотя бы определить, зависит ли появление лоцманского таланта, например, от генетической предрасположенности. Физики туманно рассуждают о том, что не обошлось без квантовой запутанности разных ветвей, но это и так понятно!..
Первый остров — банка Ладислава — лежал на расстоянии шестисот световых лет от Солнечной системы. Красота неописуемая. Саманта вскрикнула от восторга, хотя наверняка знала по видео и фотографиям, что здесь увидит. Банка раз двадцать становилась конечным пунктом маршрутов, информации о ней астрофизики накопили вполне достаточно. Конечно, это были разные острова, в идентичных ветвях многомирия, но практически они были неотличимы друг от друга.
«Господи Боже!» — воскликнула Мария-Луиза. Я и сам испытал восторг, в первый раз попав в центр плотной газо-пылевой туманности, освещенной с пяти сторон звездами классов В и К. Будто оказался внутри цветного раствора.
«Спокойно! — сказал я. — Смотрите, но ведь все равно забудете на следующем острове».
«Не понимаю, — пробурчал Стокер, — как получается дышать в пустоте, и тут мощное ультрафиолетовое излучение от голубых гигантов, радиация чудовищная…»
«Боязно?» — спросил я.
Боязно обычно бывало туристам-гуманитариям, их я только до банки Ладислава и водил, чтобы они эту красоту хотя бы запомнили — первый и последний пункт маршрута. Гуманитарии ничего не знали о радиации, о магнитных полях, в десятки раз превышающих земное, о космических лучах, пронизывавших тело. Без поводыря — верная смерть.
Гуманитариям было всего лишь боязно: инстинкт. А эти — специалисты, и им страшно. Восторг скоро сменится ужасом. Красота — безобразием. И первой, как обычно, перепугается Мария-Луиза.
«Лева!»
Как я и думал.
Они восхищались смертельной красотой этой вселенной, я был таким в первые годы, готов был часами наблюдать, как распухает звезда — очень медленно на взгляд наблюдателя, находящегося в десятках световых часов, но на самом деле так быстро, что никакой земной транспорт не смог бы унести прочь попавшего в беду пилота.
Зрелище никогда не надоедало, я помнил все эти острова во всех вариантах, какие видел, и все равно застывал в восхищении, даже когда поджимало время — не как категория перемещения из прошлого в будущее, а как скрытая координата, объединяющая и синхронизующая миры.
Ближе всего был красный сверхгигант. Я назвал его Рыжим Красавцем. Имея видимый размер чуть больше полной луны, он не ослеплял, по его поверхности пробегали волны, создавая быстрые неповторимые рисунки, в которых, будто в кляксах Роршаха, можно было разглядеть собственную суть, понять себя — это ощущение оставалось и после того, как туристы уходили с банки Ладислава. О Красавце они забывали, но ощущение неизбывного счастья, возникшего, как им казалось, непонятно откуда, переходило с ними в другие вселенные, и это тоже было для меня загадкой, которую не могла разрешить наука, один из вопросов, который я хотел задать настоящему специалисту в квантовой физике многомирий, если мне удастся найти такого в каком-нибудь из идентичных миров. Почему самые яркие ощущения все-таки не забываются? Только ощущения. Из-за этого порой случались странные казусы, когда туриста охватывала эйфория там, где, вообще-то, следовало испытывать совсем иные чувства.
Градусах в шестидесяти от Рыжего Красавца висел в небе светло-зеленый серп Окаянной Дамы — третьей планеты в системе, она тут занимала место Земли и выглядела как Земля на первых космических фотографиях с борта «Зонда» — никаких четких линий, все будто в тумане, это придавало планете загадочность, и мне хотелось поглядеть, как Дама выглядит, если опуститься на ее поверхность… Дама не была островом, путь туда мне был заказан.
«Какая красота! — выдохнула Мария-Луиза, схватив меня за руку. — Почему ты никогда не приводил меня сюда?»
Она была на банке Ладислава не меньше десяти раз.
Тут было и еще чем полюбоваться, но это не сразу бросалось в глаза.
«Обернитесь», — сказал я.
В противоположной от Красавца части неба, где отсветы его излучения играли на гранях близких астероидов, выглядевших яркими немигающими звездами, светилось цветное панно — облако плазмы, выброшенное Красавцем несколько тысяч лет назад. Это был, как говорили астрофизики, несимметричный выброс вещества в магнитном поле, и освещенное Красавцем облако являло насыщенную всеми цветами картину, которую я назвал «Райским садом».
«Господи, — пробормотал Лоуделл, — это же Босх!»
Каждый, кто хоть раз видел «Райский сад», уверен был в том, что картину нарисовал разумный создатель, которому не чуждо все человеческое. Нарисовал с помощью плазмы, пыли, двух десятков звезд разных спектральных классов, чье излучение создавало отражения внутри гигантского, размером не меньше двух световых лет, облака, и я понятия не имел, как «Райский сад» выглядел с других ракурсов. Каким он предстанет, если смотреть со стороны, скажем, голубого карлика градусах в сорока от туманности. Возможно, глядя оттуда, можно увидеть лишь бесформенную структуру, а может, взгляду предстанет другая картина того же Босха или Брейгеля?
Однако ни с какого другого ракурса увидеть «Райский сад» я не мог. Там не было острова, и это порой так меня удручало, что хотелось все бросить и стать смотрителем маяка. Водить тех же туристов, только не на край вселенной, куда нет шансов попасть вторично, а на башню, откуда открывался бы вид не на иные галактики, но на бурное море с кораблями, которым я освещал бы путь.
«Смотрите, — разрешил я, — у нас есть несколько минут, потом пойдем дальше. Нам нужно пройти восемь островов, и это займет время до обеда».
В туманных пятнах можно было рассмотреть ветвистые деревья, в листве которых прятались искушающие змии, их там расплодилось видимо-невидимо, а Адам с Евой, как ни поворачивай картину (точнее, как сам ни вертись относительно изображения), держались за руки, и, что поразительно, всякий раз плод познания оказывался другим — или другой становилась игра моей фантазии. Яблоком он был очень редко, чаще гранатом или персиком, а еще чаще чем-то мне не известным, что могло произрастать только в раю, ибо на грешной земле растения, созданные для идеальных климатических условий, не выжили бы…
«Неужели это можно забыть?» — спросила Саманта.
«Забудете, — традиционно ответил я. — Не старайтесь запомнить, просто любуйтесь».
Не сохранялись и записи, сделанные на промежуточных островах: магнитные, лазерные, цифровые; аналоговые, какие угодно. Тем не менее почти в каждой группе находились энтузиасты, полагавшие, будто сумели сконструировать прибор — телескоп, счетчик фотонов, ловушку для элементарных частиц, чего только не придумывали, — с помощью которого удастся сохранить если не собственную память, то аппаратную. Записать, запомнить, принести информацию с собой — в голове или на носителях — удавалось только из конечного пункта маршрута.
«В телескоп должна быть видна мелкая структура облака, — ворчливо произнес Лоуделл. — Похоже, структура изображения фрактальна. Странно для межзвездной плазмы, надо будет в следующий раз ограничиться этим островом и вернуться! Другая тема, не наша, но тоже безумно интересно».
Как все, он забудет о своем желании. Когда после возвращения я напоминал кому-нибудь, какое впечатление на него произвел «Райский сад», турист или профессионал-астрофизик рассеянно говорил: «Да? Так красиво? Надо будет, вы правы, господин Поляков… Как-нибудь потом, у меня много работы в галактике Андромеды», или «в системе нейтронных звезд Альциды», или… в общем, у каждого своя была научная задача, каждый помнил только конечную точку маршрута, а меня время от времени подмывало плюнуть на профессиональные обязательства и повернуть назад, рискуя не получить оплаты ни за проводку группы, ни за полученный научный результат.
«Там действительно фрактальная структура, — подтвердил я. — И происхождение «Райского сада» неизвестно».
«Не помню, — заявил Стокер, — ни одной работы на эту тему».
«Нет таких работ, — согласился я. — Готовы? Пойдем дальше».
Я сосредоточился и потому упустил момент. Стокер схватил Доуделла за пояс одной рукой, другой зажал ему рот и наподдал коленом с такой силой, что астрофизик, не ожидавший нападения, выгнулся дугой, не удержал равновесия и начал погружаться в пустоту, выпадая из фарватера так быстро, что я, будучи в состоянии сосредоточенной задумчивости, не успел подхватить бедолагу, хотя находился к нему ближе остальных.
Я навсегда запомнил ужас на его лице. Чистый, беспримесный животный ужас, когда ничего человеческого не остается, одни инстинкты, сознание отключается, подсознание в шоке, интуиции же у Доуделла не было, сделать он ничего не мог и медленно уплывал в пространство, еще две-три секунды, он пересечет границу острова и мгновенно задохнется, его взорвет внутреннее давление.
Тень промелькнула мимо меня, обхватила Доуделла за ноги, он не мог ни сопротивляться, ни помочь, Саманта подтащила его к центру острова, а я уже пришел в себя, сердце колотилось так, что, кроме его ударов, я ничего не слышал, мы принялись бить Доуделла по щекам, его остекленевшие глаза посмотрели на нас осмысленно, он оттолкнул мисс Юришич, будто не она спасла ему жизнь, и обеими руками ухватил мою ладонь.
«Боже, — слова давались ему с трудом. — Что… Что это было?»
Он так и не понял, что его всего лишь попытались убить.
Стокер стоял с независимым, я бы даже сказал — с отрешенным видом. Произошедшее его не касалось. Он закинул за плечи рюкзак с приборами и ждал отправления. Поводырь, вы сказали, пора отправляться, в чем причина задержки?
Железная выдержка.
Я бросил взгляд на «Райский сад», и мне показалось, что плоды на деревьях позеленели — то ли изменился спектр излучения голубого гиганта (глупая мысль — даже если так, свет не мог за секунду пробежать расстояние в пять световых лет), то ли что-то случилось с моим цветовым восприятием, и это было плохо.
Надо бы остаться, допросить каждого, я имел на это право, а если бы даже не имел, я должен был такое право себе присвоить. Что-то происходило между этими людьми на Земле, дома, что-то они скрыли, иначе их не допустили бы к переходу. Стокер пытался убить Доуделла — видимо, думал, что, покинув остров и все позабыв, уйдет и от ответственности.
Не знаю, о чем он думал, но взгляд мой выдержал, высказав все, что хотел, но я ничего из его короткой немой речи не понял, не до того уже было. Я начал ощущать недостаток кислорода. На островах всегда так, это все-таки космос, своего здесь только то, что я, поводырь, мог взять с собой, и замечательно, что каждый остров — возобновление захваченного с собой ресурса, иначе дальше первого не удалось бы продвинуться. Себе я этот феномен объяснил: видимо, так происходило потому, что острова! располагались в разных ветвях многомирия, и каждая! ветвь запутана с исходной, а не только с предыдущей И последующей. Но это объяснение для чайников, у меня самого оставалось множество вопросов, и я их себе не задавал, не зная квантовых уравнений, описывавших фарватер. Кто я? Поводырь, интуитивист…
Ушли мы вовремя.
Остров Шмидта, к счастью, лежал в фарватере более прочно, если применимо такое определение. Иными словами, находился точно на осевой линии, которую я чувствовал так же определенно, как чувствуешь ногой рельс, по которому нужно пройти, не оступившись.
Остров Шмидта, в отличие от банки Ладислава, находился не в пустоте космоса, а на поверхности планеты. Место можно было назвать лесной поляной, окруженной деревьями, протягивавшими серо-стальные ветви к ослепительно красному солнцу, карлику класса М3, записанному в Кембриджском каталоге под номером 33993276. Физическое расстояние от Солнца две тысячи девятьсот тринадцать световых лет — впрочем, я не стал бы утверждать это наверняка, поскольку находились мы сейчас в чужой вселенной, и, в силу принципа неопределенности, расположение острова от его аналога в нашей ветви могло достигать нескольких световых месяцев. Почему-то всякий раз, когда я шел этим маршрутом, на острове Шмидта был почти полдень, и я не знал, результат ли это простой случайности или существовала квантово-механическая системная связь между местным временем и нарушением пространственно-временной связи ветвей.
«Мрачновато», — бросил Стокер, оценив неприглядную красоту деревьев, поляны, глянцево-желтого неба и красного солнца, занимавшего почти четверть небесного купола, отчего смотреть приходилось в одном направлении: чуть повернешься — и начинаешь слепнуть, неприятное и ненужное ощущение.
«Деревья, как вставшие на хвост крокодилы», — произнесла Мария-Луиза фразу, которую говорила всегда, и я ответил так же, как обычно.
«Это, вообще-то, не деревья, милая. Что-то вроде кораллов».
«Да-да, — встрял Лоуделл, чья жизнь минуту назад висела на волоске. Он этого уже не помнил и к Стокеру относился по-прежнему доверительно. — Остров Шмидта, верно? О нем была статья группы Вингера в ноябрьском выпуске «Журнала экзопланетологии».
Была, верно. Прошлогодняя экспедиция Вигнера и его коллег из Стенфордского университета завершила переход на этой поляне — в другой, конечно, ветви, но, в пределах общей неопределенности, исследования, проведенные ими тогда и там, а потом опубликованные, более или менее точно описывали любой вариант острова Шмидта.
Мария-Луиза подошла ко мне, взяла за локоть, как она всегда делала, когда ей чего-то хотелось, и спросила:
«Лева, а в лес прогуляться? Можно?»
В «лес» можно было углубиться метров на пятьдесят, не больше. Размер острова определялся не только моими возможностями как поводыря, но и гравиметрическими параметрами, играли роль расстояние до светила и масса планеты. Я не мог утверждать это определенно, ссылаясь на квантово-механические расчеты, поскольку таких расчетов не существовало, но интуиция и опыт многократного прохождения фарватера в этом направлении позволяли делать некоторые выводы, и я их сделал.
Оказавшись на острове Шмидта, Мария-Луиза обычно снимала рюкзак и куртку, ложилась на траву, которая здесь была удивительно мягкой, ласковой и приятной на ощупь, говорила: «Вы побродите, а я на солнышке…» — и напускала на себя отсутствующий вид. Сейчас ей почему-то захотелось в нелюбимый лес, где, как она себе внушила, водились настоящие маленькие крокодильчики.
«Можно, — ответил я, — только ненадолго и неглубоко, нам еще семь островов…»
«Конечно. Тем более, — добавила она, — этим трем есть о чем поговорить без нас».
Я бросил на Мери подозрительный взгляд: уж не сохранилось ли у нее в памяти что-то о почти случившейся трагедии?
Лоуделл сосредоточенно разглядывал солнце в бинокуляр — изучал спектр и динамику протуберанцев, прекрасно понимая, впрочем, что ни в памяти, ни на дисках информация не сохранится. Стокер рассматривал окрестности, приложив ладонь к глазам козырьком и улыбаясь, будто увидел ангела. Саманта уселась в позе лотоса и, подняв лицо к солнцу, закрыла глаза.
О случившемся они не помнили, но сохранялся неизвестный мне мотив. Что-то происходило между ними. Все трое (я чувствовал, что и Саманта причастна) скрыли некие обстоятельства от навигационной комиссии.
Могло ли быть, что какие-то условия — чисто физические — на банке Ладислава пробудили в Стокере эмоции, которые он дома даже от себя скрывал?
Мария-Луиза тихо произнесла, не желая, чтобы ее услышали трое на поляне:
«Лева, тебе не кажется, что с ними что-то не в порядке?»
«Нет, — спокойно отозвался я, хотя сердце на секунду дало сбой. — Проверенная группа. Что с ними может быть не в порядке?»
«Тебе что-то известно?» — добавил я небрежно.
«Нет… Предчувствие, что ли? Просто… ощущение».
«Ощущение чего?»
«Что мы не вернемся!» — воскликнула она и, испугавшись собственных слов, спрятала лицо у меня на груди.
Я похолодел. Так полагается говорить в подобных случаях. И что-то про липкий страх, который… Свои ощущения я не смог бы описать. Возможно, не знал нужных слов. Возможно, таких слов не существовало. Есть множество ощущений, не описываемых словами.
«Не говори глупостей, — пробормотал я, зная, что сам произношу, возможно, самую большую глупость в жизни. — Все нормально, милая, все хорошо».
Что-то было ненормально. Стокер попытался убить Доуделла. Они этого не помнили, но мотив остался, и представься случай… Значит, нужно сделать все, чтобы случай не представился.
«Мы, пожалуй, слишком задержались здесь, пошли дальше».
Мария-Луиза удивленно на меня посмотрела. «Мы даже до ближайшего дерева не дошли», — сказала она взглядом, но меня это не заботило, я возвращался, ведя Мери за собой, как на поводу: крепко обхватив ладонью ее запястье.
Стокер присел рядом с Самантой и что-то ей втолковывал, обводя руками горизонт: возможно, излагал статью о физических параметрах острова, которую он читал, но и Саманта наверняка была с публикацией знакома, а потому слушала невнимательно, поглядывая в сторону Доуделла, а тот, в свою очередь, поглядывал на эту парочку, делая вид, будто интересуется только собственным блокнотом и записанными там файлами.
Надо было спросить Марию-Луизу, какая мысль пришла ей в голову. Она-то забудет, а я запомню.
«Господа, время истекло, отправляемся».
Вообще-то у нас было еще около получаса в запасе, я пока даже не чувствовал стеснения в груди от недостатка кислорода, но спорить со мной никто, конечно, не стал — с поводырем не спорят. Стокер помог Саманте подняться, проверил крепления рюкзака, а Лоуделл следил за ним с видимым равнодушием. Возможно, нам следовало задержаться — полчаса довольно большой срок — и выяснить… что? Отношения? Подсознательные желания и страхи? Я не знал, какой вопрос задать, полчаса ничего не решат и не дадут никаких ответов.
«Уходим. Внимание, все готовы?»
Мария-Луиза кивнула, Саманта сказала «Да, я готова», Стокер показал большой палец, а Лоуделл сложил на груди руки и бросил последний взгляд на солнце, не будучи теперь защищен стеклами прибора. Я успел подумать: неужели он не боится ослепнуть? Он не боялся, потому что мы были уже на другом острове, в другой ветви многомирия, и только я пока знал, какая красота обрушится на нас в следующую секунду.
Я привел их на остров Мертона.
Это довольно большой камень — километр в длину и триста метров в поперечнике, — обращавшийся по причудливой орбите в системе из восьми звезд, расположенной в глубине газо-пылевой туманности. Я бывал здесь еще во время своих первых переходов, когда бродяжничал по всем, какие удавалось почувствовать, островам, лежавшим довольно часто в ветвях, которые никогда не взаимодействовали и не будут взаимодействовать, потому что их волновые функции были строго ортогональны друг другу, уж эту-то квантовую премудрость я усвоил на третьем курсе на лекциях доцента Забирова. Он так и не принял идею лоцманства, всю жизнь считал ее фрической, а редких в те годы поводырей называл шарлатанами, дурившими не только простой народ, но даже известных, однако подверженных внушению ученых.
Остров Мертона двигался по неустойчивой траектории, переплывая от одной звездной пары к другой, а здесь их было четыре на тесных орбитах. Пара: голубой гигант и звезда главной последовательности солнечного типа. Пара: два зеленых субгиганта примерно одного возраста, почти заполнявшие каждый свою полость Роша. Пара: красный карлик и нейтронная звезда, причем карлик уже потерял почти всю оболочку и находился в состоянии, которое астрофизики называют критическим: еще тысяча-другая лет, и возникнет белый карлик, окруженный планетарной туманностью. Вид с острова станет еще красивее, если это вообще возможно. Да, и еще самая странная пара в системе: довольно старый белый карлик (туманность вокруг него успела рассеяться) обращался вокруг черной дыры, окруженной не очень массивным диском, для человеческого глаза невидимым, но жар от него чувствовался даже на острове — не всегда, впрочем, а в месяцы относительно близкого прохождения.
В разных ветвях зрелище представало немного разным, но для нетренированного взгляда отличие было незаметно, а восторг неофитов всегда одинаков. Я же отмечал — ага, в прошлый раз голубые гиганты отстояли друг от друга на угловое расстояние примерно двух лунных дисков, а сейчас ближний почти скрылся в ослепительном свете дальнего, отчего казалось, что в небе висело солнышко потрясающей вытянутой формы, этакая небесная ладья.
«Боже мой!» — воскликнул Стокер.
Интересное, кстати, наблюдение: туристы, среди которых было много людей верующих, обычно застывали в молчаливом восхищении, а научные работники, будучи в большинстве атеистами, непременно упоминали Бога.
Лоуделл стоял, запрокинув голову, а я внимательно следил за обоими, поскольку они, похоже, потеряли ощущение пространства и могли устроить прыжки на лужайке, что при почти нулевой силе тяжести могло привести к быстрому коллапсу сферы жизни — пришлось бы убраться с острова раньше времени.
На всякий случай я подошел ближе к Стокеру, но он наблюдал за ослепительно невероятным небесным очарованием, будто впервые оказался в Лувре перед «Джокондой». Творение Леонардо, впрочем, не производило на меня впечатления — не потому, что я не любил и не понимал живопись, а по иной причине. Так случилось, что именно в зале, где висела картина, я впервые ощутил… но ничего тогда не понял…
Мама привела меня в Лувр, когда мне было четыре года. В Париже мы оказались проездом из Марселя в Киль, между самолетами было пять часов, и чем же это время занять? Мы бродили по залам, я вертел головой, меня не интересовали дяди в шлемах и кирасах и тети в огромных и неудобных платьях. Зал с «Джокондой» был полон народа, и мне стало не по себе; картину я не видел из-за спин, а мама застыла в изумлении, как сейчас эти трое. Мне захотелось очутиться где-нибудь далеко, но вместе с мамой, конечно. Желание было настолько сильным, что пробудило мою тогда еще подспудную способность: зал исчез, и мы оказались в пустыне среди барханов, под жарким солнцем. Понятия не имею, что это был за остров.
Мама закричала, прижала меня к себе, закрыла мне ладонями глаза, чтобы я не испугался, а мне совсем не было страшно, наоборот, я радовался неожиданному избавлению от толпы, музея и картины, которую даже не видел.
«Что? Что? Господи, господи!» — мама повторяла это снова и снова, и я, уткнувшись ей в грудь, слышал, как билось ее сердце.
Мне было комфортно, но управлять своей способностью я еще не мог. Не представляю, как далеко от дома и в какой ветви мы побывали. Оказавшись опять в толпе, я сразу обратил внимание: это были не японцы, а скорее американцы (уж японцев-то от американцев я и в четыре года мог отличить), а мама, шумно выдохнув и еще крепче ухватив меня за руку («Больно, ма!» — завопил я, и на меня удивленно обернулись), сказала: «Подождем, сейчас они уйдут, и мы посмотрим».
Я думал, мама испугается, возьмет меня на руки, ведь случилось странное, необыкновенное, невозможное, такое, что бывает во сне, но никогда наяву, да еще в толпе страждущих увидеть старую картину. Мама что-то чувствовала, но — это я понял значительно позже — ничего не помнила о нашем мимолетном приключении. Остров был первым и последним, она должна была запомнить, но я еще не умел плыть по фарватеру и выхватил случайное. Возможно, потому пустыню запомнил только я, а не мама, для кого я, сам того не желая, стал первым поводырем.
Мама подвела меня к картине, и я без тени интереса посмотрел на женщину, которая, в свою очередь, внимательно изучала меня, улыбаясь не столько странной, сколько чуть презрительной улыбкой. «Ну что? — будто говорила она. — Ничего не понял?» Ничего, да. Тогда — ничего.
На самолет мы все равно опоздали, пришлось менять билеты на более поздний рейс, и в Киль мы прилетели только поздним утром, когда папа был ванят и не мог нас встретить. В гостиницу добирались на такси, я спал, и мне снилась странная пустыня с голубыми барханами и зеленым слепящим солнцем в оранжевом небе. Сюрреалистический пейзаж, но я не знал тогда такого слова и потому, вспоминая, просто радовался…
Мария-Луиза и Саманта предпочли не отходить от меня. Возможно, это был самый удобный момент, чтобы задать вопрос. Как обычно, положившись на интуицию, я спросил у мисс Юришич:
«Давно вы работаете с Лоуделлом и Стокером?»
«Скоро два года». — Она не удивилась вопросу.
«Как давно они знакомы друг с другом?»
«Не знаю…» — протянула Саманта.
«Они всегда ладили? У. них нормальные отношения? Бытовые, я имею в виду. Впрочем, научные тоже».
«Не люблю слухи…»
Если женщина говорит, что не любит слухи, значит, напичкана слухами по самое горло.
«А почему вы спрашиваете?»
Она все равно забудет сказанное, увиденное и сделанное, как только окажется на следующем острове. У меня не было причин скрывать правду, и я сказал:
«На банке Ладислава Стокер пытался убить Лоуделла, вытолкнув его за пределы статсферы».
«Генри?! — изумление Саманты выглядело неподдельным. — Вы уверены, что Генри? Если бы Мейдон…»
«А что Мейдон? — с любопытством спросила Мери, облегчив мне задачу. — Почему Мейдон?»
«Это все разговоры…» — пробормотала Саманта, и я еле удержался от того, чтобы не крикнуть: «Говорите же, мне нужно знать, что между ними происходит, не хочу начинать разговор заново на следующем острове, да и случай может не представиться».
«Генри когда-то отбил у Мейдона жену. Очень красивая женщина. — Саманта говорила быстро, проглатывая окончания слов, будто чувствовала, что нужно выговориться раньше, чем мне придется дать команду к «отплытию». — Говорят, прекрасная была пара. И вдруг… Ушла к Генри. Он такой… Прекрасный ученый, но как мужчина… В общем, она и его бросила. Я в то время только пришла в институт и оказалась в группе Генри. Он… Они оба замечательные, только… Как бы это сказать…»
Саманта задумалась и продолжила после паузы:
«Прежде они терпеть друг друга не могли, даже на семинарах сидели в разных концах зала. А потом… Вскоре после того, как я пришла в институт… Совместные работы, премия Вехарта на двоих, теория Лоуделла-Стокера. И теперь они хотят получить доказательства…»
«Или наконец свести счеты», — сделал я напрашивавшийся вывод.
Мария-Луиза вскрикнула. Саманта пожала плечами.
Что-то я упустил в нашем коротком разговоре. Я точно знал, что мимо сознания прошло одно или два слова, сказанных Самантой, и эти слова могли поставить точки над i.
«Пора, — сказал я. — Готовьтесь, отправляемся».
Следующим на фарватере был неприметный, неинтересный остров Чугунцева. Смотреть здесь было не на что, но миновать остров без остановки я не мог, и всякий раз оставалось ощущение тоскливого одиночества, даже если я шел с большой группой — последний раз с девятью астробиологами, бессмысленно искавшими признаки разумной жизни в наблюдаемой части вселенных. Разумной или хотя бы сколько-нибудь высокоорганизованной жизни не было нигде, ни в одной из ветвей идентичных вселенных. О межзвездных войнах или мудрых инопланетянах, одаривающих человечество новыми знаниями, давно не писали и не ставили фильмов, а ведь еще в моем детстве эта тема в фантастике была самой востребованной: от зеленого мира «Аватара», помню, в восторг приходили не только дети, но и взрослые.
Я включил надбровный фонарь, почти ничего не осветивший, луч света уперся в густой туман, серый и унылый, депрессивный, насколько вообще мог быть депрессивным туман, в котором не разглядеть кончиков пальцев.
В инфракрасном свете видно было не намного лучше. Стокер и Лоуделл, будто закадычные друзья, присели на валун — чего здесь было в избытке, так это больших камней. Во всех ветвях многомирия остров был вязким, унылым и однообразным. Здесь звуки искажались, голоса расползались, как старая ткань, рвавшаяся, едва ее брали в руки.
Мария-Луиза держалась рядом со мной. Саманта отошла к коллегам, что-то сказала и села на соседний камень.
«Здесь есть что-нибудь более приятное?» — спросила Мария-Луиза.
Я наклонился к ее уху и объяснил:
«Нет. Туман — довольно крепкая кислота, всякий раз химический состав немного разный — от ветви к ветви, я имею в виду. Поэтому не могу сказать, какая именно кислота сейчас. Цвет меняется мало — серый и серый».
«Как же мы…» — Мери прикусила губу, она не любила задавать вопросы, на которые могла ответить сама. Какая разница, была ли на острове атмосфера из чистого кислорода или из углекислого газа? Поводырь создавал собственное жизненное пространство. От тридцати двух до сорока минут мы могли просуществовать на любом острове, находись он хоть в центре, звезды: впрочем, пока я не нашел ни одного острова на фарватере с такими адскими условиями, но представлял, что такое возможно, и первые месяцы, когда ходил на ощупь, эта возможность меня страшно угнетала. Потом перестал о ней думать.
«Почему мы…» — начала Мария-Луиза, но и на этот незаданный вопрос она знала ответ. Почему не покидаем остров сразу? Не можем, милая. Квантовый зазор, принцип неопределенности, ничего не поделаешь. Пространственный зазор — около километра, временной — около получаса. Варьируется в зависимости только от локальной напряженности гравитационного поля, с которым взаимодействует равное земному поле тяжести внутри моей сферы. Природа явления была сугубо квантово-механической, но физики так и не смогли описать ее уравнениями.
В кислотном тумане было плохо видно в любом диапазоне. Может, будь у меня более мощная лампа, я смог бы увидеть вовремя. Может, успел бы что-то предпринять. Не знаю, правда, что именно.
Лоуделл встал, потянулся (так мне показалось) и изо всей силы ударил Стокера по голове чем-то, по-видимому, тяжелым или острым. Стокер повалился, как кукла. Саманта, похоже, была в шоке: так и сидела неподвижно на своем камне. Когда я подбежал — заняло это секунд десять, не больше, — Стокер лежал, раскинув руки и глядя вверх. Сначала я решил, что он умер, но, наклонившись, встретил изумленный, но вовсе не испуганный взгляд. Стокер искренне не понимал, что произошло.
«Жаль, — сказал Доуделл. — Слишком слабо ударил».
«В чем дело? — спросил я. — Вы могли его убить! Если бы он потерял сознание…»
Это было неважно: все, что я сказал, Доуделл забудет, когда мы переместимся на следующий остров.
«Вставайте! — Я протянул Стокеру руку, но он поднялся без моей помощи и закричал:
«Мейдон, ты рехнулся? Я не был с ней в тот день, сто раз это говорил!»
«Ты врал», — возмущенно бросил Доуделл.
«Нет! — неожиданно вступила Саманта, чего не ожидали оба. — Генри никогда не лжет!»
«Ты бы молчала!» — продолжал бушевать Доуделл.
Может, нужно было подождать — кто-нибудь из них непременно сказал бы что-нибудь, из чего можно было бы понять причину конфликта. Но в тот момент причины интересовали меня меньше всего: нужно было уйти, и мы ушли.
Банка Сергеева была, пожалуй, местом, самым популярным среди поводырей. Располагалась она на скрещении множества фарватеров, и потому ее исследовали вдоль и поперек еще на заре лоцманской навигации. Не менее шести раз (среди мне известных случаев) на банку Сергеева одновременно отправлялись по две или три группы из разных исследовательских центров. Мироздание многолико, ветвей реальности в многомирии неисчислимое количество, я прекрасно знал, что даже идентичных миров, в которых можно перемещаться, не нарушая квантовых законов, бесконечное множество. Однако в сознании все равно не укладывалось, что, переходя на исхоженную, казалось бы, вдоль и поперек банку Сергеева, я — и мои попутчики, естественно, — оказывался в мире, где никогда не был, и шанс вернуться на уже посещенный остров практически был равен нулю. На самом деле он отличался от нуля на величину квантовой неопределенности — километр в пространстве, полчаса во времени, — в бесконечном пространстве-времени любой ветви величину пренебрежимо малую.
Любой остров всегда оставался природным оазисом, на который не ступала прежде нога человека. Банка Сергеева поражала наивное воображение тем, что, по идее, там ежедневно должны были встречаться десятки групп, путешествовавших в разные стороны, разные ветви; к разным объектам и с разными целями. Тем не менее, группы, выходившие на банку Сергеева одновременно, друг с другом никогда не встречались.
Если бы не статсфера поводыря, никто тут и секунды не выдержал бы. Сила тяжести — в миллион раз больше, чем на Земле. Температура низкая, как сказал бы любой астроном в долоцманскую эпоху: градусов шестьсот, по Цельсию, всего-то навсего.
Банка Сергеева находилась метрах в семистах над поверхностью белого карлика, в его атмосфере, состоявшей из гелиево-углеродно-железной плазмы. Кошмарный мир, но потрясающе, неописуемо, неподражаемо красивый, особенно если подключить ультрафиолетовые фильтры и обозреватели магнитных полей.
Мои подопечные сразу легли — сработал, видимо, инстинкт, заставлявший тело принимать самую удобную позу, или, как сказал бы физик, занимать положение с минимумом энергии. На моей памяти все, попав на банку Сергеева — впервые или в десятый раз, — ложились на невидимую, но твердую поверхность статсферы, состоявшую, как объяснял профессор Урман из Кембриджа, из сгущений хиггсовских полей. Я так и не понял толком, что это значит и каким образом невидимые, в принципе, поля ощущаются твердыми, будто бетонные.
Стокер и Лоуделл устроились на противоположных краях банки, Саманта посредине, а Мария-Луиза подальше от всех: обнаружила, что и от меня тоже, приползла и, положив голову мне на грудь, стала смотреть в небо.
Я видел это небо сотню раз, фиксировал на камеру, когда банка Сергеева становилась конечной точкой маршрута, рассматривал телескопические изображения и компьютерные динамические модели, но все равно зрелище завораживало.
Небо было темно-оранжевым, и поверхность его — не было ощущения бесконечной глубины, небо выглядело именно поверхностью, чуть вытянутой кверху, ощущение, будто находишься внутри огромного, в сотни километров (но не больше!) яйца — закружилась в танце. Капли звезд самых разных цветов выплясывали что-то ритмическое, ритм ощущался подсознательно и задавался вращением белого карлика, но понимание того, что это всего лишь визуальный, а не физический эффект, мешало восприятию, и всякий раз я совершал над собой усилие, чтобы ничего не понимать, ничего не знать — только смотреть.
Знание мешало наслаждаться ощущением сопричастности к грандиозному, великому, созидающему, невыносимому и, в то же время, притягивающему. Несколько раз я приводил на банку Сергеева группы психологов и психиатров — они пытались разобраться, почему свет обычных, вообще говоря, звезд, производил ни с чем не сравнимый гипнотический эффект, ощущение морального подъема с последующей, как сказали бы индуисты, нирваной. Мартон, астрофизик из Норфолка, утверждал, что на психику действовал не столько вид неба, сколько сочетание зрительных впечатлений с сугубо физическим воздействием на организм приливных сил, которые, хотя и в сильно ослабленном виде, все-таки ощущались, поскольку статсфера взаимодействовала с гравитационным полем белого карлика.
«Господи, господи», — бормотала Мария-Луиза, сжимая мою ладонь. Я знал, чем это закончится, а она, хотя И была здесь десятки раз, ни о чем не догадывалась, экстаз ее был искренним и полным, как и у Стокера с Доуделлом. Удивила Саманта — она подложила рюкзак под голову и смотрела не в небо, а на своих спутников.
Принцип неопределенности в сильном гравитационном поле белого карлика сократил время пребывания до семнадцати минут, прошло уже семь, когда случилось то, чего я подсознательно опасался, но чего не ожидало мое тело, расслабившееся от ощущения беззаботного счастья.
Тем более я не ожидал ничего подобного от Саманты.
Она приподнялась на локте, вытащила из-под головы рюкзак и достала продолговатую штуку размером с кулак, в которой я лишь после того, как все случилось, узнал париаст, аппарат для бурения верхних слоев грунта, стандартное снаряжение исследователей.
Опираясь на локоть, как на штатив, Саманта свободной рукой направила острие аппарата на Стокера и выстрелила. Она не помнила о происходившем, не знала, что Стокер пытался убить Лоуделла, а Лоуделл — Стокера, и потому убийство — два убийства, как я понял три секунды спустя, — было, конечно, обдумано заранее.
Луч рассек Стокера надвое, будто его переехал поезд.
«Нет!»
Кто крикнул? Мария-Луиза? Лоуделл? Я сам? Голос был не мужским, не женским, вообще не человеческим, будто несуществующий бог возопил с близкого нёба.
Париаст хлопнул вторично, и на моих глазах голову Лоуделла отсекло от тела. В воздухе повис, но мгновенно осел и расплылся лужицей красный туман. Я не сразу понял, что это кровь, меня стошнило, Мария-Луиза захлебнулась в крике, объявшем вселенную, а Саманта повернула отверстие париаста в мою сторону и сказала:
«Лоцман Поляков, в чьей голове вы предпочитаете, чтобы я проделала дыру? В вашей или вашей любовницы?»
«Саманта, — произнес я самым спокойным тоном, на какой был способен, — если вы убьете меня, то не вернетесь домой, вы это знаете. А если вы что-то сделаете с Марией-Луизой, то не вернетесь домой по другой причине, и это вы знаете тоже. Поэтому бросьте париаст и позвольте мне решить — вернемся ли мы сейчас или продолжим путь по фарватеру».
«Продолжим», — заявила Саманта, глядя на меня поверх смертоносного аппарата.
Она на то и рассчитывала: убить обоих (мотив у нее наверняка был, хотя я не имел о нем представления), а затем продолжить маршрут. И она, и Мария-Луиза забудут о произошедшем, Саманта откровенно изумится отсутствию спутников, но, разумеется, сразу поймет, что случилось. Мотив свой и домашнюю подготовку она будет помнить, остальное подскажет интуиция. Поводырь, как она надеялась, промолчит о конкретных обстоятельствах или даже возьмет вину на себя.
За годы лоцманства на маршрутах погибли три человека, и причиной стали, как пишут в страховых случаях, «обстоятельства непреодолимой силы». Вины поводырей не было — предвидеть изменение природных условий даже в рамках действия принципа неопределенности невозможно в принципе. От поводыря требовалось достаточно точно описать произошедшее, причем он мог и отказаться (как поступили в свое время Вольфсон и Ляо Син), потому что память поводырю необходима, как сама жизнь. Насилие над-памятью — а любая попытка вспомнить то, что вызывает резко отрицательные эмоции, является, конечно, насилием — аукнется позднее: поводырь начнет ошибаться, у него возникнет страх, отсутствовавший прежде. На карьере можно ставить крест. И на жизни, как произошло с Уризовским, едва ли не самым классным поводырем за всю историю. Не повезло, погиб человек, и Уризовский дал полные показания. Его вины суд не обнаружил, но пробужденное памятью ощущение собственной, пусть и отсутствовавшей, вины было настолько сильным, что через три дня после судебного заседания Уризовский покончил с собой.
Саманта определенно рассчитывала на мое молчание.
И на то, что никто и никогда не сможет объективно выяснить, что произошло. Создать следственную группу и вернуться на банку Сергеева? Принцип неопределенности приведет следователей на аналог банки, куда еще не ступала нога человека — и никаких следов преступления! Потому никто и не расследовал гибель людей во время переходов — бессмысленное занятие.
У меня оставалось несколько секунд, чтобы принять решение. Я кожей чувствовал, как плавилось пространство-время. Да или нет. Вперед — и Саманта забудет, что натворила, сохранив память лишь о мотиве. Назад — и она все запомнит, но ее никто не станет спрашивать. Спрашивать будут мен». Что же: покрыть убийцу, потому что иначе придется пойти на риск — пожертвовать собственной профессией и судьбой? Может быть, жизнью. Ради чего?
«Возвращаемся» — сказал я.
Успел увидеть изумленное выражение на лице Саманты.
* * *
На стене едва заметно тлело темное пятно. Я опустился в кресло и закрыл глаза, чтобы привыкнуть к свету, своей комнате и странным звукам из кухни, которые я принял за детский плач, не сразу поняв, что это стиральная машина, запрограммированная утром, дошла до стадии «выжимка и завершение операции».
— Мери! — позвал я.
Мария-Луиза? Ее не было здесь, в моем мире.
Я вернулся домой, не приблизившись к разгадке убийства поводыря и ничего не узнав о том, что произошло в заливе Черепахи.
Сердце бешено колотилось, как написал бы графоман. Другого сравнения у меня тоже не нашлось: сердце действительно бешено колотилось, и я подумал, что надо проглотить таблетку кардилока из пачки, лежавшей в ящике тумбочки в спальне, но, чтобы туда попасть, я должен был встать, обойти стол и…
Я встал и обошел.
Да. Он там лежал. Мертвый.
Я сварил себе кофе, стараясь ни о чем не думать, пусть впечатления отстоятся, волнение остынет, а квантовые связи, если они все еще существовали между мной и Поляковым, проявят новые воспоминания, которые я смогу вызвать, если волнение не уничтожит достаточно слабые вторичные запутанности.
Сел в кресло, отпил глоток, понял, что не положил дольку лимона, но вставать и опять идти в кухню не хотелось.
Серое пятно на стене показалось мне чуть более ярким, чем всегда, и меня захолодила мысль о том, что, возможно, вернулся я не в свою привычную реальность. Я помнил слова поводыря о принципе неопределенности, я и сам к такому принципу подобрался и не ввел в уравнения, посчитав пока слишком сильным для моих физических конструкций. Я шел поводырем по фарватеру и знал, что каждый остров — это переход в другую ветвь многомирия. Но возвращался поводырь всякий раз домой, а не в чужую и чуждую ветвь.
Я мог быть уверен?
Если сейчас думать об этом, то я запутаюсь: то, что считаю фактами, окажется лишь моей интерпретацией, а реальные факты останутся миражом, туманом, абстракцией…
Я помнил пятно более ярким? Разве я прежде обращал на него особое внимание? Пристально разглядывал? Хотел забелить, позвать мастера, об этом я думал время от времени, но не удосужился даже спросить у соседей, кто в поселке занимается домашним ремонтом.
Если я вернулся в реальность, отличавшуюся от первоначальной на непренебрежимо малую величину, то почему бы здесь не оказаться открытым окнам, незапертым дверям — чему-то, что облегчит если не задачу поиска убийцы, то хотя бы решение проблемы запертой комнаты?
Дверь была заперта изнутри, как я и помнил. Окна были заперты на задвижки, других выходов из коттеджа не было, ни в этой реальности, ни в моей памяти.
Я вернулся домой.
Но теперь знал то, о чем не имел ни малейшего представления несколько часов назад. Космические полеты. Пешком к звездам. Туманности, галактики, край Вселенной. У меня лишь в детстве было ощущение романтики космических путешествий в гигантских металлических коробках-звездолетах, разгоняемых до субсветовых скоростей при помощи ракет — неважно каких: фотонных, атомных, аннигиляционных или, как у Ефремова, анамезонных. В любом случае до ближайшей звезды лететь несколько лет, а чтобы «освоить» хотя бы небольшую часть Галактики, нужны тысячелетия. В восьмом еще классе наступило разочарование, и я перестал читать космическую фантастику. Субсветовые ракеты были более или менее реальным средством передвижения в пространстве, но мне не нравились идеи «кораблей поколений», хотя я с интересом прочитал «Поколение, достигшее цели» Саймака, «Вселенную» Хайнлайна, отлично написанные повести о том, как не надо летать к звездам. Тысячи лет! Зачем улетать, если некуда будет возвращаться? Фильмы и романы о звездных войнах стали мне смешны. Я не понимал странной идеи покорения экзопланет, борьбы за полезные ископаемые или жизненное пространство. Перелистывал страницу за страницей, где бравые космические волки-земляне мочили чужаков-жукеров или, наоборот, гнусные завоеватели-инопланетяне уничтожали человечество, чтобы… что? Пришельцам нужна нефть? У них звездолеты летают на жидком топливе? Ерунда. А в гипер-, супер-, над- и подпространство я не то чтобы не верил — в восьмом классе серьезно увлекся физикой и знал, что подобные идеи противоречат законам природы и придуманы единственно для того, чтобы оправдать главную идею космической фантастики: к звездам на звездолетах!
На орбиту запускали международные космические станции — первую и вторую, после чего пилотируемые полеты прекратились на два десятилетия якобы из-за огромной дороговизны, что было чушью — неделя войны в Африке или Центральной Азии поглощала больше денег, чем все космические проекты целого десятилетия.
На Марс люди так и не полетели, хотя планов было множество — от нелепых, вроде полета колонистов в один конец, до очень тщательно просчитанного, но так и не претворенного в жизнь проекта международной экспедиции.
На первом курсе физического факультета я начал зачитываться работами струнных теоретиков, а затем квантовых физиков, исследовавших возможности многомировых интерпретаций, и думать перестал о детской мечте — отправиться к звездам на велосипеде. Я почему-то был уверен, что если люди когда-нибудь достигнут звезд, то способом, о котором современная наука не имела ни малейшего представления. В воображении я шел к звездам через пространство, как по мелкой заводи, где колыхалась вода, и я видел дно — океан Хиггса, о котором читал в учебниках.
Может, уже тогда я ощущал в себе нечто от квантовой запутанности с Поляковым? Может, уже тогда квантовые процессы связывали меня с этим человеком прочнее, чем родственные отношения, диктуемые общностью генов?
Почему я сейчас подумал об этом? Почему вспомнил?
Может, в памяти моей, впитавшей и память Полякова, содержалась информация о том, кто и почему произвел роковой выстрел? Нужно было успокоиться и вспомнить, стараясь не перепутать информационные потоки из разных ветвей? Сопоставить, выделить…
Я видел — и мог дать показания под присягой, — как Саманта убила своих спутников: Стокера и Лоуделла. Память поводыря стала теперь и моей, но память — штука своеобразная, я и из собственной не всегда мог вытянуть нужные сведения в нужный момент. Я боялся прикоснуться к воспоминаниям Полякова, не знал, что произойдет, если я попытаюсь вспоминать… Обе памяти были перепутаны квантовыми соединениями, но различны ли они физически? Что, если я начну путать собственные воспоминания с…
Квантовая запутанность — мне ли этого не знать — означала, что у запутанных систем общая волновая функция. И значит, я не только доктор Пол Голдберг, преподаватель Йельского университета, я — Лев Поляков, и это я лежу на полу в моем коттедже на Лорел-стрит, и это собственное убийство я должен распутать, пока полицейские не решили, что у меня шизофрения и придуманной болезнью я хочу отмазаться от убийства, которое совершил сам, потому что больше никто совершить его не мог.
Думай, сказал я себе. Хватит рефлексировать.
Саманта убила Стокера и Доуделла, Но прежде Стокер пытался убить Доуделла, а потом Доуделл хотел сделать то же самое со Стокером. Саманта наверняка знала — почему. Возможно, надеялась, что один из них убьет второго. Когда на последнем перед финальным переходом острове оба оказались живы и она поняла, что чужими руками справиться не удастся, то убила сама. Обоих. И была уверена, что поводырь не станет возвращаться, убийство останется только в его — моей! — памяти, а она все забудет, и ни один суд не сможет ее осудить, не имея ни малейшей возможности получить нужные улики — ни прямые, ни косвенные, — поскольку невозможно войти в одну реку дважды, невозможно вернуться на место преступления, потому что принцип неопределенности приведет следственную группу на тот же остров — но в другой реальности…
Что связывало этих троих? Что связывало их с Поляковым? Почему именно тот переход Поляков вспомнил перед смертью? Он знал что-то, чего я пока… то есть уже знал, но не мог вспомнить и тем более понять.
А залив Черепахи? Поляков там был и что-то помнил. Я там был и не помнил ничего. Что он видел и что забыл?
Мне стало холодно. Эта память… Память поводыря. Я мог — по идее — вызвать в своей — его — памяти тот вечер.
Впервые в жизни захотелось выпить. Не выпить, а напиться. Не просто напиться, а привести мозг в состояние, когда неважно, в каком пространстве-времени находишься, и воспоминания не трогают, и смещения реальностей не ощущаются…
Я не мог заставить себя пойти к кухню, достать из шкафа бутылку бренди, оставленную не помню когда не помню кем из гостей.
Я тянул время.
Как я мог знать, осталась у меня прежняя память или изменилась вместе с реальностью? Память Полякова отличалась тем, что он помнил все свои реальности, все острова, на которых побывал, — иначе не был бы поводырем.
Значит, я мог вспомнить вечер на берегу залива. Я помнил, каким он был в памяти Полякова.
Хотел ли я…
Да. Но не сейчас.
У меня путались мысли, но я пришел в себя настолько, чтобы понять: нужно вернуться на маршрут. Поляков знал, кто в него стрелял и почему. Умирая и понимая, что между нами существует квантовая связь, Поляков думал о Стокере и Доуделле, о Саманте и Марии-Луизе. Значит, в том эпизоде заключена разгадка.
Я должен вспомнить, проанализировать… Да, но мог ли я вернуться на те же острова? А как же принцип неопределенности?
Я был не вполне адекватен, что неудивительно. Мне не нужно было физически последовать пройденным маршрутом — только вспомнить, что тогда происходило. Что-то я упустил, что-то, связывавшее тогдашние трагедии с нынешней.
И вечер на берегу залива…
Я положил ладони на подлокотники. Вытянул ноги, закрыл глаза. Возможно, я был еще в своем коттедже на Лорел-стрит, а может, уже где-то. Мне показалось, в воздухе запахло лавандой, духами Марии-Луизы, но я не стал открывать глаза, чтобы убедиться в том, что ее нет в комнате.
Я спрашивал Саманту о ее спутниках. А что я знал о ней самой? Ее файл в моей памяти оказался пуст, и я понимал, что дело не в сведениях, полученных за положенные семь суток до перехода. Причина в моей памяти — я не мог вспомнить ничего о Саманте, кроме ее фигуры, одежды, того, что она говорила, и, конечно, того, что сделала. Даже лица не мог разглядеть…
Мария-Луиза, подумал я. Она, похоже, знала Саманту еще до перехода. Вспомнил: Мери знакомилась с мужчинами, а с Самантой они обнялись, как знакомые.
Если я смогу ее спросить… Как? Какие действия я мог совершить, будучи в запутанном состоянии с поводырем? Только вспоминать?
Однако если проблема в памяти, то почему, вынырнув из воспоминаний, Поляков — не Поляков, лежавший мертвым на ковре, а я — оказался не в комнате с постерами на стенах, а у себя на Лорел-Стрит?
Все вспомненное, связанное с поводырем, и то, что произошло на берегу залива, и Стокер с Лоуделлом, и Саманта, и Мария-Луиза — было элементами пазла. В них, в их сущностях, в их горе и радости мне нужно было искать причину смерти… убийства… поводыря.
Все элементы пазла были перед моими глазами. Почему мне так казалось? Озарениям далеко не всегда можно доверять, тем более в перепутанном состоянии, когда не можешь понять самого себя. Чья интуиция утверждала, что все элементы пазла — вот они, смотри, перемешивай, соединяй? Я не обладал житейской интуицией, часто ошибался в людях, принимал за друзей тех, кого надо было держать на расстоянии, и не слушал советов тех, кто действительно мог стать другом.
Есть знание, которое осознаешь, а есть подсознательное, интуитивное, в нужный момент связывающее видимые элементы пазла. Но истинное знание и, что важнее — понимание, приходят, когда интуиция дает лишь толчок логическому анализу и математической конструкции. Я был в этом уверен с детства, с тех еще пор, когда отец записал меня в математический кружок — группу, как я тогда думал, таких же лентяев, как я, собиравшихся по воскресеньям дома у замечательного человека, учителя Божьей милостью Антона Владимировича Троекурова. Самозабвенно, до одури, до потери связи с реальностью мы решали задачи, которые, по мнению большинства моих сверстников, не имели не только решения, но и смысла по причине неуловимости идеи и вопроса.
Позднее я оценил, осознал и записал в памяти: «Антон Владимирович — учитель Божьей милостью», а когда отец привел меня к нему и посадил за круглый стол с пятью другими мальчишками и одной девчонкой, я видел немного не в своем уме дядечку, разрешавшего понять, осознать и вытащить на белый свет такое во мне, о чем я даже не подозревал (именно разрешавшего, будто знание, понимание и осознание во мне уже существовало, но кто-то почему-то не позволял всем этим пользоваться, а Троекуров позволил, как разрешал вообще все: разговаривать во время занятий, вставать, подсматривать в чужие тетради и ноуты, выходить на балкон подышать и даже курить в его присутствии, о чем он никогда не сообщал родителям).
Антон Владимирович не убедил, не доказал, а как-то незаметно ввел в мое неокрепшее осознание реальности аксиому математичности мира. Природа не говорит с нами на языке математики, природа и есть математика.
Все, что мы видим, чувствуем, строим, изобретаем, открываем и разрушаем, есть не что иное, как отражение математики в наших мозгах, для которых чистые символы неудобопонимаемы и невообразимы.
Что я вспомнил? Кого?
Интуиция поводыря кричала: пазл собран, не пытайся перебирать элементы, чтобы сложить их так, а потом иначе, а потом еще раз, пока они все не сойдутся. Не думай, брось элементы пазла в пространство, они сами соединятся в нужную картину. Не пропусти момент, когда картина возникнет в сознании, сложенная так, что не видно сцепок, склеек и подстановок.
А разум Пола Голдберга, выпестованный сначала Антоном Владимировичем, а потом профессорами в университете и годами работы, сурово требовал интуиции доверять лишь постольку, поскольку она способна вывести на правильный путь. Не больше. А пройти по пути до конца поможет математика — и только она.
Я недолго раздумывал, чтобы увидеть слабость Полякова, его ахиллесову пяту, о которой он сам не подозревал, будучи интуиционистом по природе, призванию и жизненным возможностям.
Я встал и обошел стол. Поводырь посмотрел на меня невидящими глазами, как мне показалось, неодобрительно. Конечно. Я собирался сделать то, что противоречило его жизненным принципам и всему, что он понимал в мире.
Я опустился на колени и попробовал закрыть Полякову глаза. Не получилось. Тело оказалось твердым, как дерево.
«Поверил он алгеброй гармонию, музыку разъял, как труп…»
Почему мне пришли в голову эти слова? Интуиция создает гармонию в мире? Алгебра привносит в мир доказательства?
То, что Пушкин называл алгеброй, давно стало сложнейшей, но удивительно простой, на самом деле, математикой, чье последнее достижение — инфинитный анализ — мне предстояло сейчас использовать, чтобы опровергнуть основной постулат Полякова.
Я провел ладонью по холодному лбу поводыря, прислушался к своим ощущениям: возникло ли в них что-то новое. По идее, не должно бы. Запутанность существует, она не могла стать больше или меньше от прикосновения к телу.
Или могла?
Чтобы ответить, мне нужно было вывести и решить уравнения. Систему Кавнера-Дюморье. В том числе в невычислимых функциях. Кавнер утверждал, что невычислимые функции могут погубить инфинитное направление математики. Ему пытались доказать, что для инфинитного анализа невычислимые функции так же нужны, как для арифметики таблица умножения, которую тоже невозможно упростить.
Невычислимые функции. Если я смогу их обойти… сейчас у меня есть интуиция…
Да?
Я ушел на кухню, захватив лэптоп и десяток листов писчей бумаги из ящика под телевизором. На кухонном столе стояли чашки с выпитым кофе, я отнес их в раковину и пустил воду. Шелест струи не то чтобы успокаивал, но создавал звук, будто занавесом отделивший мое существование от мира, в котором я все еще находился.
Закрыл дверь в гостиную, сел за стол и записал граничные условия для основной реальности. Перечитал. Исправил ошибку. Перечитал опять.
И понял, почему при вроде бы полном наборе элементов пазл не желал составляться, а загадка убийства Полякова оставалась неразгаданной.
Поляков ошибался.
Ошибка была очевидна — для меня. Поляков же не мог ее обнаружить ни при каких обстоятельствах, и в этом состояла разница между им — интуиционистом, и мной — рационально мыслящим физиком, которого озарение посещает в лучшем случае раза два или три в жизни, а многих не посещает вовсе, что не мешает им становиться выдающимися учеными, сделавшими для науки больше, чем иные великие, чьей интуиции они всегда завидовали, хотя вряд ли признались бы в том публично.
Поляков точно знал, что поводырь не может вернуться на остров, где уже бывал, — не позволит многомировый принцип неопределенности, идея, интуитивно принятая физиками его мира.
Из принципа неопределенности Гейзенберга возникла наука наук XX века: квантовая механика, чья точность и надежность поражали воображение. Квантовая физика — рациональнейшая из всех рациональных вершин человеческого гения.
Из принципа неопределенности в мире поводыря возникла базовая идея интуитивистской космонавтики — не науки на самом деле, а самого изощренного из искусств, принятого за науку по недоразумению, если рассматривать этот эпизод истории человечества с моей, сугубо рациональной, точки зрения.
В моем мире научного рационализма были исследования Годдарда, Кибальчича, частично Циолковского, а после первый спутник, «Восток», Гагарин, «Аполлоны», Армстронг, обитаемые орбитальные и автоматические межпланетные станции, а затем долгий откат — нежелание государств тратить огромные суммы на пилотируемые полеты без ясных — прежде всего, экономических — перспектив.
В мире поводыря идея многомирия и примат интуитивизма привели к появлению людей, способных, подобно Полякову, воспринимать другие ветви, ощущать расположение «островов» на фарватерах. Поводыри умели перемещаться с одного острова на другой, и это не нарушало эйнштейновского принципа постоянства скорости света, поскольку острова находились в разных ветвях многомирия.
Правильно записать граничные условия для задачи — добрая половина решения. И это такое же искусство, как во время съемок удивительного по красоте рассвета найти единственно правильный ракурс и композицию кадра, чтобы захватывало дух от безумной и безнадежной красоты. Именно так — безумной и безнадежной, потому что трезвым разумом, без интуиции, нужную композицию не создашь, и нет надежды повторить уже отснятый кадр, он неизбежно окажется другим, будто и в рамках одной реальности существует свой принцип неопределенности, не позволяющий с идеальной точностью повторить внешние условия и внутренний настрой.
У меня не было времени — шел второй час ночи — долго размышлять над тем, что я написал. Перед глазами мелькали темные мошки, верный признак того, что нужно расслабиться, выспаться, и тогда, возможно, оценив уравнения вместе с граничными условиями и еще какими-то факторами, не пришедшими мне сейчас в голову, обнаружить ошибку и начать все сначала.
И все же я был интуитивно уверен, что уравнения правильны, а решение я знал еще до того, как записал символы на бумаге. Прежде со мной такого не случалось.
Я понял, как вернуться в уже посещенную поводырем реальность. Именно в ту самую, а не в похожую. Принцип неопределенности не препятствовал: поводыри интуитивно приняли квантовую неопределенность как неопровержимый постулат, но я и не стал его опровергать, как Эрмлер десять лет назад ничего не опроверг, но на планковских расстояниях и временах открыл принцип квантового подобия, и лишь тоща стало возможно исследовать меньшие пространственно-временные отрезки.
Принцип неопределенности никуда не делся, но константой, как я понял, был пространственно-временной объем острова, а не отдельно размеры острова и время пребывания, как полагал Поляков. Раздвинув границы пространственной области, я мог точно выбрать момент — и попасть именно на тот остров, где уже был. Правда, в запасе осталось бы гораздо меньше времени, но такова плата за точность.
Как это сложно, малопредсказуемо… и опасно. Мне было страшно. Я пялился на математические значки, знал, что решение правильно, но… боялся.
Не потому, что мог не вернуться. Не потому, что мог оказаться не там и не тогда. Не этот страх заставил меня обхватить плечи руками и почувствовать, как по спине стекает медленная капля пота. Страх был другим. Поняв, что могу сделать то, чего не умел Поляков, я испугался себя. Понял — и это тоже стало озарением, — что моя запутанность с поводырем возникла не вчера и даже не миллион лет назад, когда ни меня, ни Поляковале было ни в каком из бесчисленных миров мультиверса. Запутанность возникла после Большого взрыва, когда из флуктуаций хиггсовского поля образовались первые элементарные частицы, находившиеся в общем квантовом состоянии. Запутаны были электроны в атомах, кварки внутри электронов, а проявилось это четырнадцать миллиардов лет спустя.
Я боялся себя. Подумал, что полиция, исследовав место преступления, окажется права, и что я убийца, хотя совсем не в том житейском и криминальном смысле, как будет казаться следователям.
«Вы убили своего гостя — иначе быть не могло».
Я мог его убить — хотя все произошло совершенно иначе.
Часы пробили два, и я не сразу вспомнил, что в моем доме не было часов с боем. Встав на ватных ногах и пугаясь теперь не столько себя, сколько того, что увижу, я подошел к закрытой двери в гостиную и, прежде всего, внимательно ее осмотрел. Дверь как дверь, она всегда такой была, в отличие от часов, которых никогда не было.
Черт возьми. Я тот, кто есть. Я знаю то, что знаю. Умею то, что умею. И хочу то, чего хочу. Мои решения и поступки полностью осознанны — в отличие от интуитивных поступков Полякова и моих собственных прежних поступков, в основе которых лежали логика и расчет, а интуиции отводилось важное, но очень небольшое и подчиненное место.
Я распахнул дверь с ощущением, будто вырвал из петель. Переступил порог и уставился на большие часы в форме корабельного штурвала, висевшие на стене перед моими глазами. Часы показывали минуту третьего, и секундная стрелка нервически перескакивала с деления на деление. Часы висели здесь с того дня, когда я обустроил этот коттедж, купленный довольно дешево у прежнего владельца, которому нужно было срочно переехать. Кажется, его назначили посланником в Бразилию — впрочем, какая разница?
Дом мне помогала обустраивать Мария-Луиза, мы недавно познакомились и, когда впервые заночевали здесь, стали любовниками: я даже в мыслях не хотел произнести «мужем и женой», она к этому статусу стремилась, а я не то чтобы отвергал такую возможность, но отодвигал ее подальше в будущее, никак не аргументируя свое решение — точнее, нежелание это решение принять. Интуиция. И этим все сказано.
Это был лучший дом во Вселенной. Это был мой дом, и этим все сказано. Мой дом, каким я его помнил. Точнее — каким вспомнил. Теперь.
Странная штука — память. Механизм памяти, как и мозг, как весь человеческий организм, развивался и изменялся по эволюционным законам, и, если люди, не обладавшие даром поводырей, забывали себя в мире, отличавшемся на величину квантовой неопределенности, в этом заключался большой эволюционный смысл: человек, помнивший единственную (нынешнюю!) реальность, имел больше шансов выжить в бесконечно сложном и разнообразном мире ветвящихся вселенных.
В качестве бонуса поводыри получили интуицию, которой не обладал больше никто.
Мы, поводыри, были мутантами, эволюционным нонсенсом, но биологическая история человечества меня мало интересовала.
Я обошел стол, не предполагая увидеть себя мертвым, но опасаясь этого.
Конечно, меня там не было. Я внимательно осмотрел место, где прежде лежало тело — не в этой реальности, конечно, но мне казалось, что какой-то след, что-то странное я все-таки обнаружу.
Ничего.
Я подошел к окну и выглянул в ночную темень. Мне показалось, что где-то очень далеко мерцали слабые огоньки. Город? Конечно: в пяти километрах к юго-востоку располагался французский Монтень, ближайший к моей скале относительно большой городок.
Когда глаза привыкали к темноте, я вышел в ночь и постоял минуту у двери, привыкая уже не к безлунному мраку, а к собственным ощущениям, собственному страху и реакции на страх.
Свежий воздух привел в порядок мысли. Отделил интуицию от знания. Связал знание с умением. Превратил умение в уверенность.
Летний треугольник висел над головой, и, разглядев Альтаир, я вспомнил банку Книдсена — бесхозный астероид, не приписанный ни к одной звезде Галактики. Одно время на него было паломничество космогонистов. Остров слишком медленно двигался относительно местной галактической плоскости, траектория не соответствовала стандартной модели образования планетных систем, но расположение в фарватере оказалось очень удобным — не для ученых, а для поводырей. Добраться до банки Киндсена можно было в один переход. Если смотреть в сторону Альтаира, остров находился в двух градусах к северу, на расстоянии шестнадцати световых лет от Земли.
Я подумал о том, что поводыри отсчитывают расстояния в световых годах, а не в парсеках, как это принято в астрофизике. Так нам было удобнее и понятнее.
В доме переливчато заиграла мелодия, которую я не сразу узнал, и сбила с мысли, которую я не успел додумать. Телефон. Я не любил мобильники — на работе они бесполезны, а дома отвлекали. Для связи мне было достаточно стационарного аппарата, он сейчас и требовал, чтобы я ответил.
Пока я, бросив последний взгляд в небо, возвращался в гостиную, кому-то надоело ждать, и кто-то положил трубку, решив, видимо, что меня нет дома. Мария-Луиза, это был ее номер.
Я потянулся было к трубке, но отдернул руку. Что я скажу? Что я не я? Что с ней говорит не ее любимый Лева, а неизвестный ей Пол Голдберг?
Вспомнил, как позавчера, когда мы вернулись из поездки на Гаваи и бросили вещи посреди прихожей, она крепко обняла меня и, сначала поцеловав, а потом растрепав мне волосы, как она любила, сказала: «Лева, а моим именем ты никакой остров назвать не хочешь?»
Я знал, что когда-нибудь она это спросит, и я отвечу, что поводыри по традиции называют острова именами ученых, исследователей, первооткрывателей.
Мери смотрела мне в глаза, руки ее лежали у меня на плечах, и я не смог объяснить, да и вообще, разве не для того существуют традиции, чтобы их время от времени нарушать?
«Хочу, — ответил я. — Вот только найду подходящий. Это не может быть какой-то камень или пылевое облако…»
«Красивая землеподобная планета», — мечтательно сказала она, и я согласился: красивых землеподобных планет среди известных мне островов было всего две, и существовал очень малый шанс найти еще — слишком мало в космосе планет, похожих на Землю. Самих Земель бесконечно много, а вот похожих…
«Непременно, любимая», — согласился я, и сейчас мне почему-то показалось, что Мери звонила, чтобы узнать, выполнил ли я свое обещание. Она была нетерпелива. Если я позвоню ей, она скажет: «Лева, я загляну к тебе на две минуты», — и я не смогу отказать, а когда она войдет, то поймет…
Не хочу. Сначала должен разобраться сам.
Телефон зазвонил опять.
— Здравствуй, Мери, — сказал я.
Она ответила не сразу — что-то в моем голосе показалось ей незнакомым и, может, пугающим.
— Ты вернулся и не позвонил, — осуждающе сказала она. Мария-Луиза всегда нападала, когда представлялась возможность.
— Я устал. — Это было правдой.
— Но ты пропустил встречу с Хемпсоном, и он на тебя сердит, а когда Чарли сердится, ты знаешь…
Я знал. Вспомнил, как только Мери назвала имя. Хемпсон работал генеральным менеджером в «Япсоне», и мы собирались обсудить пикник на одном из островов — естественно, из самых красивых. Это могло подождать, но я вспомнил и другое: Хемпсон имел какие-то дела со Стокером, это было отмечено в путевом листе, но тогда я с Хемпсоном еще не был знаком, имя его, упомянутое в длинном списке знакомых Стокера (формальность, введенная после того, как однажды близкий знакомый одного из физиков, уходивших на Капрею, потребовал заменить его… не помню по какой причине, но с тех пор в анкете указывали имена не только родственников, но друзей и знакомых), не сказало мне ничего, я его забыл.
И что? Хемпсон мог иметь дела со Стокером и с любым другим физиком, астрономом или даже политическим деятелем — такая у него профессия. Однако воспоминание меня насторожило, придало нашей несостоявшейся встрече новый смысл, пока для меня неясный, но почему-то пугающий.
«Когда Чарли сердится, ты знаешь…»
Это да. Для Хемпсона не существовало преград в достижении цели. Все знали, что пройти он мог и по трупам, но никогда никому (а полиция старалась, это я знал) не удавалось не только найти прямые или косвенные улики, но хоть какую-то материальную связь Хемпсона с человеком, стоявшим у него на пути и внезапно умершим от сердечного приступа или погибшим в автокатастрофе (водитель не справился с управлением на скользком шоссе, какое мог Хемпсон иметь к этому отношение?).
— Ты еще не спишь? — промямлил я. — Поздно уже.
Тут же подумал, что ляпнул глупость — Мария-Луиза была совой, и кому, если не мне, следовало об этом помнить?
— Не сплю, — сухо произнесла Мери, и я понял, что она явится, даже если я скажу, что не желаю ее видеть и между нами все кончено. В последнем случае она примчится еще быстрее.
— Приходи, конечно, — радушно пригласил я, подумав, что смогу задать ей несколько вопросов, которые, возможно, заставят меня вспомнить то, что сам я вспомнить не мог.
А если она не опознает во мне Полякова? Женщины чрезвычайно чувствительны к самым мелким и для мужчины неразличимым деталям. Не об одежде или чертах лица речь. Я мог посмотреть на нее не тем взглядом. Сказать не то слово — да и сказал уже. Не так подать руку, не так поцеловать…
Я думал предоставить Полякову возможность поступать так, как он привык, но понял, что это невозможно. Я был запутан с Поляковым, но он умер — тот Поляков, которого знала Мария-Луиза. Я пользовался его памятью, причем выборочно, вспоминая не то, что хотел (я не знал, что именно мне нужно вспомнить!), а то, что позволяли предлагаемые обстоятельства. Свидание с Марией-Луизой было испытанием, к которому я не считал себя готовым, но и уклониться не мог. Без нее в этой ветви я не сделал бы и десятой доли того, что собирался.
Сказать? Вместе пережить шок и попытаться понять, кто и почему…
Снаружи послышались шаги — быстрые, скорее мужские, чем женские. Конечно, Мери надела свои любимые кроссовки, и свой любимый зеленый свитер, и свою привычную, как сигара во рту у Черчилля, юбку.
Стучать она не стала, а звонок для нее не существовал никогда — она терпеть не могла звонки и в своем коттедже сняла это устройство в первый же день. «Пусть стучат, — сказала она, — а вообще-то у меня не заперто, красть нечего, а если что и украдут, буду только рада». Бессмысленных заявлений Мария-Луиза сделала за время нашего знакомства столько, что хватило бы на толстую книгу. Правда, обычно оказывалось, что бессмысленными ее слова были лишь с моей точки зрения, но это не мешало мне обсуждать и осуждать ее очередное, как я считал, бессмысленное заявление. Вроде такого:
— У тебя пуговица на рубашке, третья сверху, вот-вот оторвется, а ну-ка сними, я пришью.
Сказано это было настолько не к месту, что я без разговоров стянул с себя рубашку.
Постоял, пока Мери ходила в кухню за коробкой, где хранилась домашняя мелочь, были там и иголки с нитками, которые сама Мария-Луиза и положила вскоре после нашего знакомства, сказав, что даже у холостого мужчины должны быть в доме предметы, связанные с женским присутствием. Такие предметы как бы притягивают женщин. Я спросил тогда: зачем мне притягивать других женщин, если одна, самая желанная, уже здесь? Мери удивленно посмотрела на меня и сказала: «Чтобы сравнить несравнимое».
Она принесла коробку, бросила: «Что ты стоишь столбом, привидение увидел?» — села на диван и принялась сосредоточенно пришивать пуговицу, которая, по-моему, держалась вполне крепко. А я мучительно размышлял о физической сути процесса, называемого квантовым запутыванием и проявлением его в человеческом сознании. Для Мери я, вне всякого сомнения, был ее Левой, ее Поляковым, поводырем, я был в его рубашке, но знал, что рубашка — моя, зеленая в полоску, а на Полякове была темно-синяя, гладкая. Сейчас она — я видел — была в руках у Марии-Луизы, хотя твердо помнил, что на мне рубашка была именно зеленой и именно в полоску. Я посмотрел на свои руки — это были мои руки, с родинкой на левом предплечье. Я не знал, была ли такая родинка у Полякова… То есть знал, конечно… Достаточно мне было об этом подумать, и я вспомнил: у меня была родинка, но не на левом предплечье, а на правом, ближе к ладони… В голове застучало, в затылке заломило — видимо, поднялось давление. Я еще только постигал азы наблюдательного проявления квантового запутывания, и это было хотя и удивительно, и неприятно в какой-то мере, и в какой-то мере неправильно по отношению к Марии-Луизе, но тем не менее полностью соответствовало описанию процесса, следовавшему из решений уравнений Вольпитера, тех, что я в первом приближении решил в прошлом году, но не представлял, как эти решения, красивые и неизбежные, можно соотнести с реальной ситуацией. Психология все-таки еще плохо сочеталась с физикой.
Я был собой, конечно. Собой — Голдбергом и собой — Поляковым. И дом мой был здесь, и дом мой был там, и женщину эту я видел впервые, и женщину эту я знал давно, я ее любил, а она любила меня, и мы были вместе, и я вспомнил, как мы были вместе на прошлой неделе, когда Мери сказала: «Лева, а талант поводыря передается детям, как по-твоему?» Я долго смотрел в ее глаза, чтобы понять, сказала ли она это просто так. Мери смотрела на меня с любопытством и, мне показалось, без всякого подтекста. Не желая углубляться в тему, чтобы не услышать то, чего я слышать не хотел, я пробормотал: «Понятия не имею, у поводырей дети еще слишком малы, чтобы…» Я не договорил, потому что Мери думала уже о другом и меня заставила думать о том же, о чем думала сама. Так было всегда, так было и сейчас: она пришивала пуговицу нарочито медленно, нарочито красивыми движениями, знала, что я за ней наблюдаю, и, когда она зубами перекусит нитку, тяжело вздохнет и поднимет на меня взгляд, который я любил больше всего на свете, мне не останется ничего другого, как подойти, забрать у нее рубашку, нитку с иголкой, бросить на пол, сесть рядом, взять ее лицо в ладони…
Мери перекусила нитку, подняла на меня взгляд, и Голдберг во мне отошел так далеко в подсознание, что я решил, будто запутанность распуталась, на какой-то момент испугался этой мысли, но в следующую секунду мыслей не стало вообще, одни ощущения и эмоции: я целовал губы, лоб и щеки, и губы отвечали, и руки Мери обнимали меня, она царапала мне спину своими ноготками, это было так приятно и возбуждающе, что, как это уже бывало, я принялся целовать ее шею, и Поляков, как и Голдберг, исчез из этого мира, из всех миров бесконечных вселенных, я был не я, а мы, и мы не имели имени, потому что еще не родились, и потому что уже исчезли, и потому что будем всегда, а потом, когда вечность, в которую мы провалились, все-таки миновала, я лежал опустошенный и счастливый, смотрел в ее глаза и не мог решить, кто же я на самом деле: Поляков или Голдберг, или Голдберг-Поляков, или Поляков-Голдберг, или я вообще никто, или я — все мужчины всех вселенных, когда-либо любившие и любимые…
— У тебя взгляд Акелы, — пробормотала Мария-Луиза, закрыв глаза и глядя на меня сквозь веки: мне показалось, что так она видела меня таким, каким я и был в эту минуту — метавшимся между двумя личностями и не умевшим понять себя.
Я не был охотником, во всяком случае, не в том смысле, какой придавал этому слову Киплинг. Вспомнил, как первый раз прочитал «Книгу джунглей» — поздно прочитал, в пятом классе. Этой книги не было в домашней библиотеке, я сам ее приобрел на деньги, которые мама дала мне, чтобы я купил в школе бутерброд. Дорога в школу проходила мимо книжного магазина, я вошел и сразу увидел эту книгу: большую, с картинками, денег у меня хватило впритык, сдачу я получил пять копеек и, кажется, потерял, не помню, чтобы я их отдал маме или потратил на что-то еще (да и на что можно было потратить пять копеек?). А книгу читал вечером, вместо того чтобы делать уроки…
Я вспомнил, что «Книгу джунглей» мне прочитала мама, когда я еще не умел читать, — загрузила текст в е-бук и читала по складам, приучая меня запоминать буквы. Картинок, конечно, не было, только текст, картинки я рисовал в воображении, и Акела был у меня не волком, а огромным мужчиной в набедренной повязке и с длинным ножом в руке, это был, скорее всего, взрослый Маугли, таким мне представлялись все, даже Шерхан.
Мери, как всегда, была права: наверняка у меня сейчас был взгляд охотника, потому что я вспомнил еще одно, о чем забыл и сам поводырь, забыл намеренно, я не хотел помнить то, что неприятно, то, что заставляет думать о ненужном, печальном, неправильном. Если бы не вопрос Марии-Луизы, я бы не вспомнил. Вспоминается по ассоциации даже то, что стараешься забыть, — психоаналитики так «вытаскивают» забытые детские обиды и горести, и слова Мери ассоциировались в моем подсознании с банкой Орлина, где я был с группой из пяти человек.
Тогда я повел их дальше, и они забыли все, что происходило. Я тоже хотел забыть и долго потом водил группы по таким окраинным островам, что в памяти все смешалось, и воспоминание о банке Орлина разгладились, как скатерть, если навалить на нее несколько дюжин новых скатертей, новых памятей. Через год мне уже нужно было прикладывать мысленное усилие, чтобы вспомнить произошедшее, через два нужно было приложить мысленное усилие, чтобы вспомнить о том, что я должен приложить мысленное усилие, чтобы…
Через три года меня могла заставить вспомнить лишь случайная ассоциация — почти оторвавшаяся пуговица стала ею.
Я крепче прижал к себе голову Мери и поцеловал ее в краешек губ, она отозвалась, мы лежали обнявшись, она рассматривала меня из-под прикрытых век, что-то она, несомненно, почувствовала, я сейчас был другим. Мне показалось, что ей страшно со мной, эта неправильная мысль мелькнула и пропала. Я боялся сам себя, Мне стало страшно с собой, я подумал, что может не получиться.
Однако теперь я знал, когда и где мне нужно искать недостающий элемент пазла. Элемент, о котором Поляков старался забыть. Элемент, о котором Голдберг не мог знать.
Банка Орлина. Группа: Мария-Луиза, Хемпсон, Лоуделл, Стокер и Саманта. Надо же: вся компания! Как они вместе-то оказались?
Если напрячь память, вспомнить уже рассчитанные коэффициенты в аналогичном, но для другого процесса написанном уравнении Хипнера, то может… и если еще включить интуицию… Собственно, включать ее я не умел ни будучи Голдбергом, ни будучи Поляковым — интуиция не включается и не выключается, она просто есть и дает о себе знать, когда ей вздумается. Если я смог бы интуитивно представить эти числа без вычислений… просто увидеть ответ… да вот же… вот числа… если их подставить, как коэффициенты… да, я могу… то есть мне кажется… нет, уверен… почти… что могу э?о сделать.
И разгадать загадку?
— Родная, — сказал я, будто бросившись в штормовое море, — мне нужно проверить… вернуться на банку Орлина. Подожди здесь, я скоро, полчаса максимум…
Мария-Луиза сложила руки под грудью, она не понимала, что произошло со мной в эти минуты, я будто стал другим, я знал, что это так, а она не знала, только ощущала, что со мной происходит странное, в таком состоянии я не должен уходить в маршрут, и что он имел в виду, сказав «вернуться», вернуться невозможно, почему он это сказал… Все это я читал на ее лице, в мелкой моторике движений, читал так же ясно, как если бы Мери произносила слова вслух. Ей не хотелось остаться одной… нет, не то… она часто была здесь одна, дожидаясь меня, у Мери был свой ключ, она… нет, она боялась не остаться одна, а отпустить меня одного. Почему?
— Странное желание, — сказала она чужим голосом.
Я не стал вдаваться в детали.
— Нужно.
Чтобы у нее было меньше поводов спорить, я поднялся и направился к шкафу, где висела моя рабочая одежда, одежда поводыря, которую я ни разу не надевал. Что, если я не справлюсь с многочисленными кармашками, молниями и принайтованными приборами?
Я надел брюки и куртку, влез в гамаши, нацепил шапку, проверил зацепки, закрутки, руки помнили, я все сделал правильно и повернулся к Мери.
— Я с тобой, — сказала она.
Она была готова. Милая моя, любимая, она всегда шла со мной, если знала, когда я шел, и если у нее было время и возможность меня сопровождать.
— Выбрал момент, — пробормотала она с раздражением. — Что на тебя вдруг нашло, ты можешь объяснить по-человечески?
— Конечно. — Я поправил на ней платье (немного сбилась бретелька) и поцеловал в губы. Крепко. «Будто прощаюсь», — мелькнула мысль, и я согнал ее с лица, пока Мери не заметила.
— Туда и обратно, — сказал я. — Вернемся, и я зацелую тебя, я…
— Ты не ответил: что на тебя вдруг нашло.
Она станет задавать этот вопрос, пока я не отвечу.
— Я же сказал: хочу проверить одну гипотезу.
— Почему именно там и именно сейчас?
Я повернул ее лицо к свету, внимательно — нарочито внимательно — посмотрел ей в глаза и сказал, пожав плечами:
— Для тебя это имеет значение?
— Нет. — Она тоже пожала плечами, высвободилась и перестала смотреть в мою сторону, будто я вышел из комнаты, дома и этого мира. Без нее… Она не хотела идти со мной, впервые за все время. Не хотела, хотя была, в отличие от меня, уверена, что на какой бы из бесконечного числа островов в любой из ветвей многомирия мы ни пришли, это будет остров, где ни я, ни она, и никто из людей никогда не бывал.
— Как хочешь, — сухо произнес я и ушел. В последнюю секунду Мария-Луиза сделала два быстрых шага и оказалась в моей сфере квантовой неопределенности. Меня будто ударили в грудь, но я удержался на ногах и подхватил Мери под локоть. Она оттолкнула мою руку, и мы пришли на банку Орлина, недовольные друг другом.
Удивительное место. Не такое далекое от Солнечной системы, как большинство других островов. Если бы люди развивали практическую космонавтику, как в моем мире, то лет через несколько тысяч, долетев наконец до ближайших звезд — Проксимы, звезды Барнарда, Сириуса, — они наверняка обнаружили бы и эту планету-скитальца, летучего голландца космоса. Может, так и произойдет в каких-то ветвях, и колонисты обоснуются здесь, исследуют всю поверхность планеты, а не только небольшой участок, который был островом, лежавшим в фарватере звездных дорог.
Фарватеры располагались странным образом, как причудливые космические течения. Бывало, и очень часто, что ближайший остров фарватера оказывался в далекой галактике, в то время как конечная цель находилась в какой-нибудь тысяче световых лет от Земли. В моем сознании, в моем видении острова следовали один задругам по прямой линии — прямой в моем мысленном пространстве, — а в реальном космосе (хотя что означал термин «реальный космос», если очередной остров находился в другой ветви, в другой вселенной?), если составить карту, острова будут разбросаны, казалось бы, хаотично, и…
Мысль эта, частично принадлежавшая мне-Голдбергу, а частично мне-Полякову, мелькнула и пропала. Мы не должны были отвлекаться, иначе действительно оказались бы на пустом острове в пределах квантовой неопределенности, и делать нам там было бы решительно нечего.
Мне знаком был пейзаж, я много раз здесь бывал, а я впервые видел устремленные в зенит скалы, будто зубы гигантских животных, — белые, отполированные временем, почти касавшиеся друг друга в далекой голубой высоте.
Небо на банке Орлина было ярко-голубым, как на Земле в солнечный полдень, только здесь не было ни Солнца и никакой другой звезды. С космогонией у астрофизиков не было проблем, но яркое небо смущало. Я проводил на остров две экспедиции из Франкфурта — туда и обратно, конечно, иначе ничего из записанного и увиденного не сохранилось бы в памяти ни людей, ни аппаратуры.
Феномен голубизны объяснили свечением микроорганизмов, плававших в атмосфере на высоте двух десятков километров. Откуда, однако, они черпали энергию? Месяца, кажется, два этот вопрос занимал чуть ли не всех астрофизиков, изучавших бессолнечные планеты. Среди гипотез была даже такая: поскольку речь шла об острове, энергия могла поступать из другой реальности, запутанной с нашей. Будь это так, оказался бы наконец надежно опровергнут закон сохранения энергии в одной, отдельно взятой, ветви. Энергия, безусловно, сохраняется; закон, открытый Майером, который и физиком-то не был, действует всегда и везде, но — в рамках системы ветвей, в рамках многомирия, а не единственного, пусть и кажущегося физически замкнутым пространства-времени.
Гипотеза, однако, просуществовала недолго. Оказалось, что энергия поступала из недр планеты, от ее все еще раскаленного и замагниченного ядра: радость для планетологов, получивших возможность изучить эволюцию ядер землеподобных планет в отсутствие центрального светила. В детали я не вдавался, невозможно знать и помнить физику каждого острова, каждой банки на многочисленных фарватерах — это и не нужно, вредно даже, поскольку, как выяснилось, разрушало интуицию. Углубившись в физику явления, поводырь хуже чувствовал место, хуже воспринимал путь. К сожалению, пока это стало понятно, несколько поводырей лишились своего уникального таланта. В том числе Омира Гехт. Интуиция у нее была потрясающей, ей удавалось находить самые короткие и самые эффектные маршруты. Но Омира была по образованию физиком-теоретиком: научная любознательность сыграла для нее дурную роль.
— Зачем мы здесь? — спросила Мария-Луиза. Она держала меня за локоть, хотя могла уже и отпустить. Я чувствовал, что наш пузырь перекрыл второй, созданный чуть раньше, — эффект, с которым прежде не сталкивался, да и не мог, пока был уверен в справедливости закона квантовых неопределенностей. Никогда прежде я не приходил и не мог прийти на остров, где находился другой поводырь с группой. Не другой, однако, и я это понял быстрее, чем Мария-Луиза. Увидел и увлек Мери за большой куст сине-зеленого цвета, похожий на огромного ежа.
— Что такое? — Она раздраженно вырвала наконец свою руку из моей, хотела еще раз, более настойчиво, спросить, какого черта я притащил ее на этот остров, но наконец увидела то, что и я. Охнула, зажала себе рот ладонью и пригнулась, чтобы остаться незамеченной, в то время как я стоял столбом. Я хотел все видеть и слышать, и, в отличие от Марии-Луизы, был уверен, что никто не обратит на нас внимания. Не потому, что это запрещал какой-то из физических законов. Просто они были так заняты своими проблемами, что не увидели даже, как изменился цвет неба: в зените возник яркий зеленый круг, будто нашлепка.
Я подумал, что это явление связано с тем, что мы с Мери пришли на остров, где уже были. Более того, если я правильно рассчитал, то и во времени мы пришли в идентичный момент, не просто близкий, но полностью идентичный — человеку трудно осознать, что в бесконечном числе бесконечного числа разных многомирий существует бесконечное (менее мощное, но тоже бесконечное) число абсолютно идентичных ветвей, где наши абсолютно идентичные копии совершают абсолютно те же поступки, абсолютно так же ошибаются и… что? Я удержал мысль, не позволил ей стать осознанной, но все же ухватил кончик… начало… Презумпция невиновности. Даже если речь идет о тебе самом.
Мария-Луиза наконец услышала то, что услышал я сразу после прибытия.
— Здесь кто-то есть? — Она привыкла к тому, что на островах никогда никого не бывает.
— Тихо, родная, — прошептал я. Между ветвями куста мы прекрасно видели поляну и все, что на ней происходило. Куст был не растением, а кристаллическим образованием с острыми гранями, коснувшись которых можно было порезаться.
Лагерь был разбит по всем правилам техники безопасности. Естественно: я никогда не пренебрегал мелочами. Походные рюкзаки лежали полукругом в правильном порядке, а путники расположились в центре, пережидая время, прежде чем отправиться дальше. Или вернуться.
— Это же… — пробормотала Мария-Луиза. Она смотрела на высокую молодую женщину, стоявшую рядом с мужчиной, в чьих черных волосах пробивалась седина.
— Это ты… — прошептала Мария-Луиза, и я кивнул.
— А это… — охнула она и больше не отводила взгляда от себя, какой была три года назад. В другой ветви неизвестно какого многомирия — но абсолютно идентичной той, что мы с Мери полагали нашей.
Вспоминал я одновременно с тем, как на поляне произносились слова и совершались действия. Странное ощущение: будто реальности двумя лентами двигались из будущего в прошлое — одна на поляне перед глазами, другая в пробуждавшейся памяти. Я подумал: что произойдет, если я закрою глаза и уши? Память продолжит разматываться или мне нужна подсказка? Я не стал экспериментировать, держал Мери за руку и смотрел. Смотрел и слушал. Слушал и вспоминал.
Мы с Мери — те, другие — стояли немного в стороне от четверки, а они говорили, перебивая друг друга, мне с трудом удавалось улавливать и распределять в памяти фразы, соотносить с теми, что я вспоминал и в своих воспоминаниях не мог угнаться за реальностью событий, всякий раз не предвидя очередную фразу, а вспоминая ее после того, как она оказывалась произнесенной.
Мария-Луиза испытывала нечто подобное, но, в отличие от меня, порывалась вмешаться, не понимая, что это бессмысленно — в этой ветви все пойдет иначе, но в нашей-то ничего не изменится. Пусть разбираются, а я посмотрю, послушаю, сопоставлю и, возможно, разберусь, кто и зачем выстрелил из париаста в меня… в Полякова…
Это я уже понял. Стреляли не из обычного оружия — потому и крови было так мало. И пулю эксперты не найдут. Не найдут и гильзы, что лишь усилит их подозрения в мой адрес. Мало того, что гостя убил, так еще и гильзу спрятал, и оружие.
Я заставил себя не думать ни о чем, оставаться только наблюдателем.
Хемпсон: «И ты говоришь, Саманта, что ни один из них…»
Саманта: «Нет!» (Она отошла на шаг от Хемпсона, наткнулась спиной на Стокера, тот поддержал ее за плечи, но она и его оттолкнула.)
Стокер (миролюбиво): «Послушайте, Хемпсон, здесь не лучшее место для выяснения отношений».
Хемпсон (тыча в Стокера пальцем): «Нужно, черт возьми, разобраться в этом идиотском клубке! Здесь нас не увидят и не услышат».
Лоуделл (пожимая плечами): «Ну-ну. Вы все запоминаете, лоцман?»
Похоже, он презирал мою профессию. Лоцман, да. Поводырь. А вы слепцы, которых я веду по самым интересным, красивым, потрясающим, страшным, отвратительным, невероятным местам Вселенной. Всех вселенных. Поводырь, да. Всего лишь. Что бы вы, слепцы, делали в науке без таких, как я? Строили ракеты, чтобы подняться хотя бы на околоземную орбиту? Тратили миллиарды, чтобы сконструировать аппарат, способный привезти камень с Луны?
Молчу. Оба мы молчим. Вспоминаю: больше всего мне в тот момент хотелось заехать кулаком по самодовольной физиономии Стокера, которого…
Это из другой памяти. Не нужно сейчас.
Я — тот, что стоял, обняв Марию-Луизу за плечи, перед этой четверкой, — сказал спокойно, подбирая слова:
«Хемпсон, вы записались в поход именно в этой компании, чтобы без помех выяснить личные отношения?»
Хемпсон (насмешливо): «Разумеется. Кстати, сколько у нас времени? По стартовым данным — сорок три минуты? Прошло уже двенадцать, а мы еще даже не…»
Саманта: «Прекрати! Прекрати, Чарли! Я не хочу…»
Хемпсон: «Тебя не спрашивают, малышка».
Саманта: «Терпеть не могу, когда меня называют…»
Я: «Да-да, Хемпсон, вежливее, пожалуйста».
Хемпсон: «Ах! Ох! Хорошо, любимая, я продолжу».
При слове «любимая» Стокер и Лоуделл сделали шаг в сторону Хемпсона, но переглянулись и остановились.
Хемпсон: «Неприятно?»
Лоуделл: «Черт возьми, вы могли бы не…»
Хемпсон: «Не мог. Малыш… Саманта моя жена, в конце-то концов. Что? Не знали?»
Оба действительно не знали этого. Я тоже, кстати.
С госпожой Юришич мы познакомились за неделю до перехода, но сейчас мне показалось… Я был знаком с ней раньше? Где-то когда-то встречались, пересекались, общались… Где и когда? Несколько дней я жил с этим ощущением, пытался вспомнить и даже, мне казалось… нет. Скорее всего, то была другая женщина. Память поводыря избирательна, профессиональна: я помнил мельчайшие детали каждого острова, но людей…
Не вспомнил.
Стокер и Лоуделл шагнули к Хемпсону, Саманта встала между ними, Мария-Луиза (обе!) ухватили меня за локоть, потому что и меня (обоих!) неудержимо потянуло совершить рукоприкладство.
Саманта: «Мейдон… Генри… Прекратите!»
Хемпсон: «Послушайте, господа. Мы отсюда не выберемся без поводыря. У вас есть желание остаться?»
«Остаться без поводыря вы тоже не сможете», — сказал я.
Хемпсон: «Я о том и говорю. Шар… как это на вашем профессиональном жаргоне?»
«Сфера квантовой неопределенности».
«Да-да. Нечем станет дышать через полчаса».
«Может, вернемся, и отношения вы будете выяснять дома?» — услышал я свой голос.
«Да-да. Дома, говорите?»
Хемпсон отошел на шаг.
«Скажите… мм… Лев, да? Скажите, Лев, возвращение обратно… то есть домой… Вы опытный поводырь и можете… Сформулирую так. Вы можете вернуть меня в ветвь, находящуюся внутри квантовой вашей неопределенности, но не в ту, которую мы называем домом?»
Я еще не понимал, чего он на самом деле хочет, хотя и вспомнил свое ощущение в тот момент: ноги у меня потяжелели, в висках застучали молоточки:
«Вы хотите сказать: отправиться на остров с параметрами…»
«Не на остров! Зачем мне остров, где можно остаться на полчаса? Возвращение. Домой. Навсегда. Но не в точности на. А в пределах».
Я уже понял, вспомнил, крепко обнял Марию-Луизу: она наверняка тоже вспомнила:
«Нет. Не могу».
«Можете, Лев».
«Теоретически», — пробормотал я так тихо, что даже Хемпсон вряд ли расслышал — но я услышал, точнее — вспомнил.
«Да какая теория? Нет такой теории. Будь у вас, поводырей, теория, с вами так не носились бы. Будь у вас теория, я бы и сам… Интуиция, ничего больше. Поэтому без вас, поводырей, никак. Так вот, интуиция… Вы можете вернуть меня домой, но не… а в пределах?»
Я вспомнил собственные мысли в тот момент. Я мог увести их на следующий остров: банку Певзнера, пустое пространство в двух световых годах от границы туманности «Конская голова», там обычно никто не задерживается, но банка эта находилась на перекрестье одиннадцати фарватеров, и можно было выбрать, что делать дальше, там эта компания забудет обо всем, произошедшем здесь… но Хемпсон не забудет своей цели, он просто начнет все заново.
Вернуться? И пусть они разбираются дома.
Похоже, Хемпсон понимал мои мысли и сомнения лучше меня самого. Я увидел в его руке париаст, направленный мне в грудь. Мне — тому, что стоял в центре группы, но ощущения у меня и сейчас были такими, будто лазерный прицел коснулся моей кожи.
«Оставьте, Хемпсон! — крикнул я. — Это еще что за глупости?»
Я не мог памятью опередить события, память разворачивалась, как свернутый туго ковер. Ужасное ощущение.
Мне показалось, что Мери готова броситься вперед, я зажал ей рот ладонью, а другой рукой обнял, будто собирался поцеловать, я так бы и поступил, это самый верный способ лишить Мери способности двигаться, но тогда я смог бы видеть только ее глаза и забыл бы то, что уже вспомнил…
Пока внимание Хемпсона было приковано к моей персоне, Лоуделл сделал спринтерский рывок, ухватил менеджера за локоть, отобрал аппарат, отошел на несколько шагов и крикнул что-то… я тогда не разобрал, и сейчас тоже.
Хемпсон смотрел, набычившись, он еще не понял, что план не удался. Стокер обнял Саманту, а тот я, другой, на поляне, и та, другая, Мария-Луиза тоже стояли, обнявшись, ну прямо любовная сцена из затасканной мелодрамы.
Лоуделл: «Извините, Хемпсон, но я бы хотел вернуться домой, а не куда-то».
Хемпсон: «Бросьте париаст, Лоуделл, вы ничего не понимаете».
Стокер: «Чего тут не понимать? Вы что-то натворили дома и хотите уйти от суда в любую ветвь в пределах квантовой неопределенности от начальной. Заодно и с нами расправитесь, верно? С любовниками жены. Давно хотели?»
Лоуделл: «Он что, дурак? Не мог же он…»
Стокер: «Он не дурак в своем деле. Но по поводу своей идеи не консультировался со специалистом. Верно, Хемпсон?»
Тот молчал, я видел его затылок и не знал, какое выражение у него на лице… впрочем, знал, конечно, вспомнил, как стоял чуть в отдалении от этой симпатичной группы, обнимая Марию-Луизу, прикрывая ее собой от возможного выстрела этого идиота. Я видел его лицо: Хемпсон даже сейчас не сомневался в том, что все получится. Он ни с кем не консультировался, боялся: физик, разбирающийся в проблеме, передаст разговор в любую из контрольных комиссий, а те сообщат Гильдии поводырей. Физики, для которых походы часть работы и в значительной степени смысл жизни, не станут прибегать к запугиванию поводырей, любой ученый понимает, как глупо то, что хотел сделать Хемпсон.
«Если вы не поняли, — тихо произнес я, продолжая прикрывать собой Марию-Луизу, — я объясню. Я не могу вернуться домой в пределы квантовой неопределенности. Любой другой мир, кроме нашего, содержит нас самих. Кроме принципа квантовой неопределенности, есть квантовый запрет. Островов бесконечно много даже в идентичных мирах. Начальный мир — один, только туда мы можем вернуться».
Хемпсон наверняка прочитал не одну работу по квантовому многомирию, скорее всего, популярную, а в популярной литературе вопросы фермионной сути ветвей не обсуждаются, это вещь интуитивная, она ясна любому поводырю и физику, обладающему научной интуицией, но широким, как говорится, массам, к которым принадлежал Хемпсон, эта идея была не по зубам, он о ней и не слышал.
«Чепуха» — буркнул он, прикидывая, похоже, как добраться до Лоуделла. Соображать он сейчас не был способен, зациклился на своей идее и ничего больше не воспринимал.
В следующую секунду Хемпсон сделал то, чего ни я, тот, что на поляне, и никто другой от него не ожидал. Он засмеялся. Сначала тихо, потом громче и, наконец, во весь голос. Лоуделл опустил париаст, Стокер и Саманта переглянулись. Я, тот, что на поляне, посмотрел мне в глаза… То есть перевел взгляд на нейтральный предмет — куст кристаллического папоротника, не было у меня никакой идеи о том, что за кустом стоял я и наблюдал за своими действиями, вспоминая их буквально по квантам, но ощущение у меня было такое, будто я смотрел на себя.
Я отвел взгляд, Мария-Луиза, расслабленно повисла на моей руке.
«Ты, — произнес Хемпсон, и я услышал в его голосе удовольствие. Удовольствие разоблачения, удовольствие прокурора, зачитывающего обвинительное заключение, — изменяла мне с первого нашего дня, верно, девочка?»
Он указал пальцем в пространство между мной и Стокером.
«Вот с этим. И с этим тоже».
С обоими?
И тогда я вспомнил. А я, тот, что на поляне, и вспоминать не должен был, тот я знал, что происходило и о чем говорил Хемпсон. Но если я знал, то почему допустил, чтобы Хемпсон выбрал меня в качестве поводыря, а собственную жену и ее любовников в качестве?..
В чем проблема поводырёй? В чем проблема у всех, кто когда-либо ходил с поводырем в поход? В чем проблема квантовой запутанности и квантовой неопределенности? Сугубо физическая проблема.
Я вспомнил все.
Мне нечего было больше здесь делать. Я не хотел быть поводырем, я хотел стать собой, Полом Голдбергом, но если я так думал, значит, я уже он… то есть я, но квантовая запутанность не исчезла, и я сделал то, что сделал бы на моем месте Поляков, то есть я… моя память… какая разница…
Вернулся домой.
* * *
Я сидел в своем любимом кресле, Мария-Луиза — на кончике дивана, мы смотрели друг другу в глаза, она сказала «Да», и я сказал «Как же так?», она сказала «Всякое бывает в жизни», и я сказал «Люблю тебя», а она отвела взгляд, и я понял, что она не может ответить «Люблю», потому что не меня любила, а Леву, тело которого лежало с противоположной стороны стола. Я его не видел, а Мария-Луиза со своего места на диване не могла не увидеть. Ее глаза округлились, в них заплескался ужас, непонимание непостижимого, она сползла с дивана на пол, ноги ее не держали.
Я посмотрел на пятно на стене. Перевел взгляд на фонарь за окном. Неподалеку от коттеджа, на Лорел-стрит, просигналила машина. Кому не спалось в третьем часу ночи?
— Боже мой… что же это… — бормотала Мери. Она стояла на коленях над телом Полякова, еще не верила, что его убили, хотя и видела кровавое пятнышко на рубашке. Она не понимала, а я знал, что Полякова убили лазерным импульсом из париаста, аппарата, пригодного для использования на островах фарватера и бесполезного на Земле, где механизм пуска блокируется множеством радиопомех — сигнал любой радио- или телестанции, а их достаточно на любых частотах, отключал рабочий канал.
— Господи, — пробормотала Мери, прикоснувшись наконец к телу. Вздрогнула, обернулась, посмотрела на меня, но не увидела, ей было плохо сейчас, ужасно, у Полякова еще не прошло трупное окоченение, оно пройдет к утру, и полицейский врач по этому признаку сможет установить время убийства. Если он спросит у меня, я смогу сказать: Привести полицию на место убийства и показать, как все произошло. Теперь я это умел и полагал, что моя благоприобретенная способность останется на всю жизнь, потому что квантовая запутанность с этим человеком, поводырем, никуда не денется.
Я опустился на колени рядом с Мери, обнял ее за плечи, поцеловал в глаза, в лоб, нашел губы — холодные, испуганные, она обняла меня, и мы сейчас были вместе, как в те месяцы, которые я помнил.
Она думает, что виновата.
— Нет, — прошептал я ей в ухо, — все не так, родная.
— А как? — то ли прошептала, то ли подумала она. И произнесла слова, которые я ожидал услышать. Слова правды, как она ее поняла. Как помнила.
Что же это такое: память в мире, где поводырь ведет людей, будто слепцов? Что это такое — память человека в запутанном состоянии?
— Я убила его, — сказала Мария-Луиза, и я почувствовал, как она дрожит, как ей сейчас страшно. Она еще не разобралась в ворохе своих памятей, а я все разложил, собрал пазл и смог с чистой совестью сказать ей:
— Нет, любимая, ты не убивала его. Нет.
Она легко приняла мои слова, ей всегда недоставало смелости принимать трудности, а счастливые моменты она впитывала мгновенно. «Это не ты разбила мамину вазу». — «Конечно, не я!» И после минутного замешательства — вопрос: «Кто же тогда?» Страх наказания прошел, и остался интерес: кто? Если не я?
— Кто? — спросила она так громко, что у меня зазвенело в ухе, и я отстранился.
— Ты так и не поняла? — бросил я раздраженно.
Меня не злило ее непонимание, она не связала концы с концами, помнила часть целого, все помнят часть, обычно очень малую, потому что вселенных бесконечно много, а память… Да-да, памятей тоже бесконечное количество. Единственную выбирает интуиция. Интуиция, которой не обладал никто, кроме поводырей.
— Я люблю тебя. — Я приподнял ей лицо ладонями и поцеловал в губы. Она ответила не сразу, не поняла, как можно целоваться рядом с телом человека, который…
Который… что?
Я целовал ее в лоб, в щеки, опять в губы и в подбородок, оттягивая момент истины.
— Кто? — повторила она, не глядя мне в глаза.
Начала понимать?
— Я нашел его мертвым в этой своей гостиной, — произнес я голосом судебного пристава, зачитывающего обвинительное заключение, — спустя несколько минут после того, как вышел на кухню. Подумал, что кто-то в мое отсутствие выстрелил в него из пистолета. Я понятия не имел тогда о лазерном…
— Кто? — переспросила Мери, глядя не на меня, а на мое мертвое тело.
— Подумай! — Я все-таки сорвался на крик, и Мери подняла на меня испуганный взгляд. Испуганный — не осуждающий. — Кто мог убить поводыря и вернуться с его телом в свою Вселенную? Только другой поводырь, это очевидно!
— Ты… не…
— Да. Ты со мной только что была на банке Орлина. Ты видела и вспомнила.
Она закрыла глаза, прижалась ко мне, задумалась. Складывала элементы пазла?
И задала единственный разумный вопрос:
— Почему ты принес его сюда? Мог оставить…
— Нет, — оборвал я резко, чтобы она поняла: не мог я его оставить на острове:
— Почему сюда? Почему не домой?
— Куда ж еще? У нас с ним два дома, но он умер, и только мой дом… У меня не было выбора.
Она долго молчала.
— Ничего не понимаю. Почему… за что…
Я поднял Марию-Луизу, усадил на диван, она прижала колени к подбородку и стала похожа на пугливого цыпленка.
— Говори же…
— Саманта.
Имя произнесено.
— Ненавижу, — сообщила Мария-Луиза и отодвинулась на край дивана. Я протянул руку и погладил ее по волосам, вспомнив, что сам посоветовал постричься коротко, а она иногда прислушивалась к моим советам. Моим? Да, а чьим же?
— Вспомнила?
Мери коротко кивнула, взяла меня за руку и прижала ладонь к губам. У нее были сухие горячие губы, они были такими, когда я поцеловал ее впервые на вечеринке ведоме профессора Хоувела. Я тогда работал с физиками в Йельском университете, а Мария-Луиза перешла на четвертый курс английской филологии. На вечеринку ее привел Хемпсон, он строил новый университетский корпус и потому был вхож в профессорские дома, всюду совал свой нос, искал, как мне казалось, выгоду, хотя на самом деле был просто любопытен. Сложись все иначе, из него получился бы хороший физик, но в физике он не разбирался, а на вечеринку пришел со знакомой студенткой… она тогда… неважно. Я не знал, кем была в то время для него Мария-Луиза, от которой я не мог оторвать взгляда.
Мы танцевали. Пили вино. Разговаривали. О чем? Это не имело никакого значения и не играло никакой роли, потому что на самом деле мы в тот вечер изучали друг друга — взгляды, жесты, интонации, поведение… Хемпсон исчез, потом я узнал, что у него был деловой разговор с одним из гостей. Как бы то ни было, он оставил Марию-Луизу одну, и мы этот шанс использовали на полную катушку.
Губы у Марии-Луизы были сухими и горячими.
И уехали мы с вечеринки вдвоем, так и не найдя Хемпсона (а разве мы искали?) среди гостей.
Тогда все и началось. Я готовил поход — нужно было провести группу физиков к ядру квазара ЗС558, сложный маршрут, семнадцать островов, больше суток перехода только в одном направлении. Я плохо знал фарватер, нужно было самому сначала пройти весь маршрут. С Марией-Луизой встречались урывками, на несколько минут: «Как ты, а ты, у тебя все в порядке, да, а у тебя», беглые поцелуи и четкое осознание того, что, когда я вернусь из похода, все у нас будет замечательно.
Ну, как же.
Хемпсон явился ко мне за день до выхода на маршрут и недвусмысленно пригрозил: если я не оставлю в покое его девушку, он испортит мне карьеру, а если я окажусь неуступчив, то и жизнь — для него это пара пустяков.
Мне не приходилось сталкиваться с такими людьми. Казалось, по меньшей мере, странным: если женщина не хочет быть с тобой (а Мери определенно не хотела, отношения их продолжались два года и закончились, о чем Хемпсону было сказано вполне определенно), то нет такой силы, чтобы ее вернуть.
Я выставил Хемпсона за дверь, он посмотрел на меня с сожалением и уехал на своем «Лендровере», известном всему Нью-Хейвену: это была единственная в то время в городе машина с воздушными двигателями.
Я провел экспедицию, потом еще одну в том же направлении — астрофизикам, естественно, понадобилось повторить наблюдения коллег. С Марией-Луизой мы встречались почти ежедневно, одно время жили вместе, но разъехались — не потому, что угасли чувства, напротив, мне казалось, что мы привязывались друг к другу все сильнее, но в быту нам было…
Да, я кривил душой, внушил себе, что так будет лучше, а на самом деле между нами уже тогда пробежала черная кошка… или другой зверь, невидимый. Я придумал причину и повод, но мы все равно почти каждую ночь проводили вместе, и все выходные, и каждый праздник.
Тогда и появилась…
— Саманта, — произнесла Мария-Луиза и сжала мне ладонь. Вспомнила, да.
И я вспомнил наконец тот вечер на каменистой косе на берегу залива Черепахи в гавани Брэндфорда. Я… кто?
* * *
Ее звали Сентой, потому что отец был большим любителем Вагнера. Однажды она затащила меня в Мет, когда мы были в Нью-Йорке на Рождество, там давали «Тристана», и я едва высидел, пытаясь вслушаться в тягучие, совсем не громкие, как я ожидал, а очень тихие звуки, это, объяснила Сента, томление духа и приближение смерти. Нет, не мое.
Сента была астрофизиком, и в первое время я не думал, что между нами могут быть какие-то отношения, кроме научных. Она рассказала на семинаре о результатах наблюдений очень короткопериодической системы двух пульсаров, это был мощный источник гравитационных волн — правда, не в нашей Галактике, а в М 31. Пульсарная пара должна была погибнуть, образовав черную дыру спустя, по расчетам Сенты, полтора года после того семинара.
Расчет был неправильным, я ей так и сказал после доклада. Она не учла квантовые гравитационные эффекты, полагая (как многие), что теория развита недостаточно, чтобы привлечь ее для расчетов слияния нейтронных звезд.
Я ее переубедил. Переубедил так основательно, что статью Сента отправила не в журнал, а в корзину. Я сделал для нее расчет с привлечением инфинитного анализа, и работу мы написали вместе, когда стали любовниками.
И опять на моем пути возник Хемпсон. То есть не опять, конечно. Мы с Поляковым находились в перепутанном состоянии, жили в мирах, находившихся в пределах квантовой неопределенности — наши судьбы так или иначе были похожи, и то, что до поры до времени мы об этом не подозревали, было естественно и присуще бесконечному числу ветвей даже в пределах одного типа многомирия, не говоря о бесконечном их разнообразии.
Хемпсон что-то строил в университетском городке. Я не знал — что и не интересовался. Не заинтересовался даже тогда, когда Сента сказала, что познакомилась с приятным человеком, главным менеджером строительной компании, он пригласил ее на банкет по случаю… по какому же случаю? Я не знал и не хотел знать, я занимался наукой и любил Сенту, этого было достаточно если не для счастья, то для нормального, ничем не замутненного душевного состояния.
Так мне казалось до того вечера на берегу залива Черепахи. Не я предложил поездку — Сента захотела полюбоваться закатом. Я сказал, что на берегу лучше смотреть восход, когда солнце встает из воды, а закатывается оно за прибрежными строениями, но спорить с Сентой я не умел и не собирался. Закат так закат.
Поехали. И по дороге начали ссориться. Что-то я сказал о Хемпсоне, что-то Сента ответила, что-то я сказал о разговорах, которые бродят по факультету, Сента рассерженно заявила, что я пристрастен…
Я на нее накричал. В первый и в последний раз. Потом, на берегу, просил прощения, говорил о любви…
Увидел ли я тогда этого человека? Будто тень мелькнула перед глазами…
* * *
Я возвращался из тренировочного перехода, и черт меня дернул… хотя при чем здесь черт… Интуиция.
Двое стояли у кромки воды, босиком, волны лизали им ноги… Мужчина и женщина. На песчаный берег набегали волны, три одноэтажных строения на берегу смотрели темными глазницами окон, а на западе видны были высотки, окраина большого города. Там заходило солнце.
Двое стояли у кромки воды и смотрели не на закат, они смотрели друг на друга, и я видел в их глазах…
— Мария-Луиза! — Я не смог сдержать возгласа, но они не расслышали или не обратили внимания на внезапно возникшую фигуру, темную в вечернем сумраке, будто демон (почему этот образ промелькнул в моем сознании?).
— Сента, — пробормотал мужчина, показавшийся мне знакомым, будто когда-то где-то я его видел и даже, возможно, хорошо знал, но множество пройденных островов, лет и состояний забыли сами себя, и я не мог его узнать, разве что почувствовать, что этот человек мне чужд и близок одновременно, далекий и родной, он показался мне опасным, он отнимал у меня ту, которая…
— Я люблю тебя, — он произнес это так тихо, что женщина, скорее всего, не расслышала, а я услышал, возможно, не слова, а мысли, такое со мной бывало, и я не находил этому объяснения, впрочем, и не искал. Иногда боялся объяснений, они могли войти в противоречие с интуицией, чего я хотел меньше всего.
— Я люблю тебя. Почему ты так поступаешь со мной?
Ревность? Мне всегда — прежде! — казалось, что я не знал этого чувства. Мне казалось, что я не ревновал Марию-Луизу, но в тот момент происходило нечто такое, чего со мной не случалось прежде, чего я не понимал, боялся понимать, и все, что сделал, — сделал интуитивно, как-поступил бы любой, проснувшийся в горящем доме, когда начала проваливаться крыша и нужно спасти самое дорогое, единственное… хватаешь любимого человека и вместе выпрыгиваешь в окно — в темноту, в неизвестность.
Я не думал тогда, действовал интуитивно — спасал я, в конце концов, себя, разве нет?
Я не знал, как воспринял случившееся тот я, что остался на берегу. А тот, оставшийся, ничего никогда не поймет и останется пребывать в уверенности, что на его глазах женщину смыло волной… будто бы смыло…
Я не думал в тот момент, не выбирал, просто взял женщину за руку и ушел на ближайший остров.
Мы стояли посреди макового поля. Вдали — мы не смогли бы до него добежать, он находился вне сферы неопределенности — шумел дубовый лес, и стрекозы летали вокруг, наполняя мир легким звоном. Я знал, что маки совсем не маки, дубы лишь отдаленно напоминали земные, а стрекозы и вовсе были не живыми. Когда исследователи, которых я привел на этот остров, поймали и препарировали пару стрекоз, крылышки оказались тончайшими лепестками местной породы, отрывавшимися от оснований где-то в горах, невидимых за горизонтом, и ветер носил их, воздушные потоки способны были перенести «стрекоз» на другие континенты, если, конечно, другие континенты существовали на этой планете.
— Мери, — сказал я и обнял женщину, а она отстранилась и прильнула ко мне. Как это было возможно одновременно, я не знаю, но она это сделала — отстранилась и прильнула.
— Что с тобой, милый? Почему ты назвал меня Мери? Ты… у тебя есть…
Она откинула голову и посмотрела мне в глаза — я понял этот взгляд и понял наконец, что произошло на самом деле. Сердце упало, в груди возникла дыра, стало трудно дышать, мелькнула даже мысль, что сфера неопределенности сколлапсировала внезапно и безнадежно, и сейчас мы задохнемся, потому что, несмотря на всю красоту природы, воздух здесь был непригоден для дыхания, биологической жизни на острове никогда не было.
— Прости… — пробормотал я. И добавил: — Простите, Сента…
Она прикоснулась пальцами к моим щекам, провела, будто слепая, по подбородку, подняла взгляд и посмотрела на солнце, которое почему-то не слепило, оно было ласковым и пыталось ее утешить, а я не мог, я уже понимал, что произошло, и понимал, что не смогу вернуться с ней в ее мир, это был не мой мир, и, значит, я больше не мог туда попасть, только в какой-то другой в пределах неопределенности.
— Простите…
— Ты не…
Она хотела произнести имя, но медлила, что-то в ее подсознании боролось с мыслью, что-то в ее подсознании победило, и она сказала:
— Вы не Пол. Но как вы на него похожи!
Похож, да. Как два атома водорода.
— Мое имя Лев. Поляков. Прости, я принял тебя за Мери…
— Где мы? — перебила она, продолжая, не щурясь, разглядывать солнце, будто в глазах у нее были темные линзы. — Как мы сюда попали?
Я хотел, чтобы ответ ей подсказала интуиция. Интуиция всегда подсказывает правильные ответы.
— Это не Земля.
Правильный вывод, но из легких. Дальше будет хуже, и я еще не представлял, во что обернется мой спонтанный поступок. Меня впервые подвела интуиция? Нет, я по-прежнему был уверен: подсознание подсказало верное решение, только понять его, осмыслить, сделать разумные выводы я пока не мог.
— Сента, — сказал я, попытавшись взять женщину за руку, она отшатнулась, но не с испугом, как я мог ожидать, а скорее из-за того, что жест мой оказался для нее неожиданным.
Очень осторожно, будто хрупкий дюаров сосуд, я привлек ее к себе. Она не сопротивлялась. Что происходило в ее сознании, какие мысли сменяли одна другую, какие идеи возникали и исчезали, будто виртуальные частицы рождались и умирали в океане вакуума? Сента… Она позволила обнять себя, я знал, что ей хорошо и спокойно в моих объятиях, я приподнял ее подбородок и посмотрел в глаза, Она не отвела взгляда и, видимо, уже обдуманно и приняв для себя решение, сказала:
— Я давно хотела… Мне было плохо в том мире. С детства. Мне снились сны, когда я была маленькая. Я летала. Ты скажешь: что в этом такого, все летают. Да, но я летала не по воздуху, как остальные дети. Я не раскидывала руки крыльями, наоборот, крепко прижимала к телу и улетала, как… нет, не как ракета, ракета ни разу не пришла мне в голову… почему-то мне казалось, что я игла, и я летела, как игла, в черном пространстве, и мне было хорошо, ты не представляешь, как хорошо мне было… Я попадала на какие-то планеты, вроде этой, мне даже кажется, что я была здесь однажды, а может, не один раз… Ты, наверно, поразился, что я не закатила истерику? Но я просто узнала… я была… И даже иногда днем, не только во сне… В школе, потом в колледже… на работе… я будто взрывалась… не знаю, как объяснить словами… и оказывалась на… помню туманную планету, тяжелую, солнце едва светило сквозь туман, но очень жгло, солнце синее и рядом поменьше, красное…
— Банка Парапсаны, — пробормотал я.
На фарватере, ведущем в сторону сверхскопления галактик в Деве.
— У меня не было друзей, девочек я не любила, мне не нравились куклы, они были неживые, а люди… многие тоже казались мне неживыми… не могу объяснить… Ты слушаешь меня? — перебила она себя. — Ты решил, что я сумасшедшая?
— Нет, — пробормотал я. — Ты… Мы с тобой одной крови: ты и я. Только ты родилась не в том мире. То есть… В своем, конечно, но… Ты поймешь. Я не смогу вернуть тебя Полу. Принцип неопределенности… — сказал я, поцеловав ее в сухие горячие губы.
— Но ты и так со мной, — сказала она, улыбнувшись так, что я не смог не поцеловать ее, я целовал ее губы, уже совсем не сухие, я целовал ее щеки, глаза, зарылся носом в ее волосы и целовал их запах; не знаю, как это получалось, но ощущение было именно таким, и я понимал, что эта женщина — моя половинка в бесконечном квантовом мире. Мне не было хорошо с ней, я просто без нее не мог.
А Мария-Луиза?
— Ты со мной, — сказал я, — но мы пока не вместе.
— Я с тобой, — сказала она, — и мы — одно. Ты сказал, что не сможешь вернуть меня туда, на берег залива…
Она запнулась…
— Нет, любимая. Нам нужно уходить отсюда. Это не наш мир. Это — остров на пути к другим островам и континентам по Вселенной. Во всех вселенных. Мы не можем быть здесь долго, нужно вернуться… домой.
— Домой, — повторила она и посмотрела на меня с сомнением.
Которое я не мог развеять.
— Любимая, — сказал я, — вернуться мы можем только в мой мир. Вдвоем. Если ты будешь пассивным участником, как те ученые, которых я каждый день вожу по маршрутам.
— Но ты… У тебя…
— Да, — признался я, — у меня есть люби… — я вовремя остановился, поняв, насколько все осложнится, когда…
— У тебя есть женщина, — сказала она с искренним интересом, я не мог ошибиться в ее эмоции, но в глазах увидел грусть, недоверие… страдание.
— Ее зовут…
— Погоди, попробую догадаться, я… чувствую тебя. Мне кажется, я могу читать твои мысли, но это, видимо, не так.
— Мысли — нет. Но эмоции и, может, чуть больше…
— Не рассказывай, чего я пока все равно не пойму. Пол пытался проповедовать свои квантовые теории, но для меня это как проповеди в церкви… Ее зовут Мария-Луиза?
Я привык удивляться. Без удивления интуиция была бы наполовину слепа. Но это…
— Да.
— Жена?
— Нет… Пока нет.
— Пора уходить, — добавил я.
— К тебе? — Она прижалась ко мне всем телом, она целовала мои щеки, глаза, а я думал о том, что сразу после возвращения нужно будет отправиться в бюро иммиграции и легализовать ее появление. В конце концов, это не первый случай: восемь лет назад Дюплесси, один из лучших поводырей, водивший группы к массивным черным дырам, вернулся с женщиной, ставшей впоследствии его женой. Ее звали… да, Катрин. Наверняка были и другие. Все подобные случаи держались в строгой тайне, личная жизнь поводырей неприкосновенна, никто ничего…
— Уходим.
Стало трудно дышать, возник неприятный запах, ноги будто прилипли к почве.
И мы вернулись.
* * *
«Теперь, — сказала взглядом Мария-Луиза, — ты действительно вспомнил все. И больше вспомнить не сможешь, потому что он умер и память его коллапсировала».
— Теперь ты хотя бы перестанешь обвинять себя, — сказала Мария-Луиза.
— Зачем? — спросил я, и вид у меня, видимо, был довольно глупым, потому что Мери улыбнулась. Улыбка получилась грустная, печальная, скорее даже трагическая, но все же это была улыбка.
— Я любила его… тебя. — Говорила она так тихо, что, скорее всего, и не говорила вообще, губы ее не шевелились. То ли я слышал мысли, то ли просто догадывался, что она собиралась сказать, но так и не нашла в себе силы произнести вслух.
Да-да, я знаю, нетерпеливо думал я. Любила. Его или меня, неважно.
А потом появилась Саманта. Странно похожая и абсолютно другая. Женщина, возникшая ниоткуда. Астрофизик — в отличие от Мери. Умная, в отличие от Мери, считавшей себя если не дурочкой, то обычной женщиной, каких много.
— Ты говорила с ним о… — бормочу я. Я должен был, наверно, это помнить, я мог вспомнить, погрузившись в собственную память и отловив плававшие в ней клочья воспоминаний Полякова, отмиравшие и ускользавшие от моего восприятия. Я догадывался, и поляковская интуиция, ставшая моей навсегда (мне хотелось так думать), подсказывала, что это так: моя запутанная память освобождалась от чужих воспоминаний по мере того, как проходило трупное окоченение у моего… я мог бы назвать его братом… близнецом?
К утру я, скорее всего, забуду то, что помнил сейчас.
— Я говорила с ним! — Мария-Луиза посмотрела на меня чуть ли не с ненавистью. Или мне так показалось? — Конечно! Кто эта женщина? Откуда взялась? Я подняла документы — у меня есть возможности, знакомые… Этой женщины не было в базе данных, даже в полиции. Я…
— Ты могла испортить ей жизнь, — вздохнул я. — Если бы…
— Заявила в полицию? — хмыкнула Мария-Луиза. — Милый, конечно, я это сделала.
— Ты…
— И что? Она не совершала ничего противозаконного. В полиции тоже подняли архивы, ничего не обнаружили, и что они могли сделать? У нее были правильно оформленные документы, а о том, что эта женщина… О, Гильдия поводырей, как оказалось, не в первый раз имела дело с подобными случаями, у вас есть отдел регистрации… Люди появлялись и раньше, я этим не интересовалась, но каждый год сотни людей появляются ниоткуда — одни ничего о себе не знают, не помнят, другие рассказывают истории, которые не могли произойти на самом деле, говорят на языках, которые никто не понимает… Они, по идее…
— Поводыри, — подхватил я, — из миров, где никто не подозревает о такой способности человеческого сознания!
Мария-Луиза кивнула.
— Мне известно о подобных случаях, — сообщил я. — Недавно в новостях показывали мужчину средних лет, его нашли на обочине шоссе в Португалии, он шел как помешанный и, когда проезжавший водитель спросил, не нужна ли помощь, ответил на непонятном языке, который впоследствии распознали как норвежский. Он знал свое имя, адрес, но по этому адресу никогда не жил человек с таким именем.
Мария-Луиза не слушала, и я замолчал.
— Я не могла с этим смириться! Это плохая женщина!.. Прости, — добавила она, увидев мое лицо.
Сента… Саманта.
— Она…
— Знаю, — мрачно сказал я. Мне ли не знать мою Сенту, ее характер: она легко знакомилась, легко заводила ничего не значившие связи, в нее легко влюблялись, я это знал, меня это не заботило, я даже не ревновал. Ревность — это страх потерять, а если потерять не боишься, то ревности нет, даже если все мужчины мира смотрят на нее, болтают глупости, ссорятся из-за нее. Хотя… Если быть честным с собой, то, конечно, я ревновал, да, но никогда не показывал виду, понимая, что Сенту не изменить, а любила она только меня.
— Стокер, Лоуделл, — перечисляла Мария-Луиза, — наконец, Хемпсон. Безнадежная любовь, да. Культурные люди, они вели себя пристойно, но я знала, что каждый только и думал, как избавиться от соперников.
Она протянула руку и коснулась моей ладони, я отодвинулся и едва не упал с дивана, Мери рассмеялась. Смешно, конечно, я выглядел идиотом, я переставил элементы пазла, и опять мне показалось, что окончательная картина у меня перед глазами.
Я переставил кресло и сел так, чтобы видеть тело Полякова. Я смотрел на него без страха, без удивления, вообще без эмоций.
Бедная Сента. Саманта.
Она оказалась в своей стихии. В те годы я ее подавлял, при мне она не могла, не позволяла себе…
Она меня любила, а Поляков любил ее, а Мария-Луиза любила Полякова…
— Ты очень страдала… — пробормотал я. Фраза была такой банально-нарочито-неприятной, что я ее не закончил. Ждал, когда Мери…
В полиции это называют чистосердечным признанием.
— Я не хотела. — Мария-Луиза смотрела на едва заметное пятно на стене, будто видела его впервые. Впрочем, конечно…
— Там раньше, наверно, висела картина.
Старые картины ее не интересовали.
— Я не хотела, правда!
Я не мог прочитать ее мысли, мне недоступна была ее память. Иными словами: мы с Мери не были запутаны друг с другом. Чтобы понять это, не нужно знать квантовую физику, не нужно даже знать законы Ньютона и можно не уметь читать.
Глядя на бледное лицо Марии-Луизы, я думал не о том, что эта женщина убила человека, а о том, что если мне повезет выбраться из этой передряги, то всю оставшуюся жизнь я потрачу, чтобы составить и решить уравнения квантовой запутанности для больших систем. Для таких больших систем, как люди. Это будет наука о любви и взаимной привязанности. Новое направление в квантовой физике, самое сложное в природе. Слишком сложная математика, слишком сложные системы, но я знал, чем займусь, если…
Любовь не химия, а квантовая физика, это ясно.
— Ты поводырь, — грустно сказал я. — Мне нужно было понять раньше. Вспомнить.
— Саманта. Сента…
— Они… она тоже.
— Как все запутано, — пробормотала Мария-Луиза. Она не представляла, насколько верно ее утверждение.
* * *
Я вышел на кухню, оставив Марию-Луизу наедине с ее любимым поводырем. Она растеряна, ей страшно, она любила человека, которого убила. По ее словам, не желая этого. Я хотел, чтобы она рассказала, как это произошло, но знал, что не стану ее спрашивать, не задам ей больше ни одного вопроса.
Память Полякова ускользала, слишком много времени прошло после его смерти. Но я вспомнил.
Хемпсон направил париаст на Полякова, он готов был убить…
Но убил не он.
Поводырь смотрит на Саманту влюбленным взглядом. Всегда так смотрел. Он все ей прощал, он привел ее в этот мир оттуда, где был ее дом.
Мария-Луиза подходит к Лоуделлу и отбирает париаст. Тот и не думает сопротивляться. Мария-Луиза поднимает аппарат и направляет на Саманту.
Это было бы логично. Но убила Мери Полякова. И не на острове — понимала, что, если убьет поводыря, вся группа погибнет.
Мария-Луиза дождалась возвращения и явилась к Полякову. Сюда.
Кофейник закипает, из носика тянется в чашку густая, изумительно пахнущая темная жидкость. Сахар не кладу — Мери не любит с сахаром. Нарезаю лимон, раскладываю ломтики на блюдце. Я все делаю медленно, прислушиваюсь — дверь плотно прикрыта, и я не слышу из гостиной никаких звуков. Надеюсь, что…
Если, конечно, Мери поняла мою уловку. И если все еще любит его. Квантовая запутанность не бывает односторонней. Только взаимной — физически это также понятно, как то, что от перемены мест сомножителей произведение измениться не может.
Как-то Сента сказала (мы бродили по университетскому парку и целовались, это были первые дни нашего знакомства): «Не бывает любви несчастной. Невозможно любить и не быть любимой. Любовь — чувство взаимное. Иначе это лишь желание…»
Она была права, но я только сейчас понимаю — насколько.
В гостиной тишина.
Кладу на поднос блюдце с дольками лимона и сахарницу. Ставлю чашку. Одну.
Дверь в гостиную открываю плечом — как несколько часов назад.
От двери мне не видно тела Полякова — как тогда. Подхожу к столу и ставлю поднос.
— Что ж, — произношу вслух, — ты рассудила правильно, Мария-Луиза.
Ее нет в комнате, нет в доме, нет в этой ветви бесконечного мироздания. Подхожу к телу, наклоняюсь, касаюсь пальцами руки поводыря. Пытаюсь пробиться к его памяти и не чувствую ничего. Совсем. Если бы Мария-Луиза помедлила еще минуту, она не смогла бы вернуться туда, где…
Скорее всего, думаю я, она и не смогла вернуться туда, где Сента. Квантовая запутанность, скорее всего, коллапсирует со смертью носителя. Я представляю, как это происходит, я даже могу это, в принципе, описать в невычислимых функциях.
Я не знаю, где она сейчас. Надеюсь, что в том из бесконечного числа миров, где ей не грозит полицейское расследование.
Сажусь за стол, беру с подноса чашку и делаю глоток. Замечательный кофе. Давно у меня не получалось сварить кофе так, чтобы запах и вкус находились в полной гармонии.
Часы над дверью показывают шесть часов двенадцать минут. Светает. Рассвет, как обычно, серый, невзрачный, я вижу, как раскачиваются деревья на улице. Ветер. По утрам здесь всегда ветер, часам к девяти он стихает, будто сопровождает часы пик, подгоняя людей, спешащих на работу. Лекции у меня начинаются в десять, и, когда стихает ветер, я начинаю собираться.
Перевожу взгляд на тело, по-прежнему лежащее между столом и окном. Ничего с тех пор не изменилось. Убитый в запертой комнате, и там же главный подозреваемый. Интересно, думаю я, как быстро полицейские догадаются, что выстрел был сделан с помощью лазера.
Ничего не изменилось с вечера, кроме того обстоятельства, что теперь я знаю, кто убил Полякова и почему.
И еще я знаю, что произошло в заливе Черепахи.
Я хочу быть с Сентой, вот что я понял. Никогда не мог примириться с версией, которую выдвинула полиция, хотя других версий у меня не было и быть не могло.
Ничего не изменилось с вечера. Кроме меня. Смотрю на мертвого Полякова и говорю себе: «Я поводырь».
Я всегда им был. Эта способность врожденная. Возможно, потому я и выбрал профессию, не подозревая, что моя любовь к математике и квантовой физике задана генетически.
Поводырь умер, да здравствует поводырь, думаю я.
Сента ждет меня, это очевидно, все ее поведение доказывает это. Или мне хочется так думать?
Парадокс: сейчас я не только обладаю интуицией Полякова, но умею гораздо больше него. Он знал, что закон квантовой неопределенности — фундаментальный закон мироздания, а я знаю, как этот закон обойти, и могу рассчитать переход в любую точно заданную ветвь многомирия. Проблема в том, чтобы определить нужную точку в бесконечном числе миров — проблема бесконечно более сложная, чем поиск иголки в стоге сена.
Но я могу перебирать… могу переходить с острова на остров и возвращаться всякий раз в тот мир, где, по моим расчетам, должна быть Сента.
Мы сразу узнаем друг друга. Заглянем друг другу в глаза, и она скажет:
«Пол, как долго я тебя ждала!»
Я уверен, что будет так, потому что не может быть иначе.
Обвожу комнату взглядом. Мне не нужно ее запоминать, я прекрасно помню — и эту комнату, и множество других, таких же и не таких.
«Прости, — говорю я Полякову. — Не могу взять тебя с собой, ты умер, и мы больше не связаны даже общей памятью. Полицию, скорее всего, вызовут коллеги, потому что доктор Голдберг не придет на лекцию и не будет отвечать на звонки».
Я понимаю, что тяну время. Пугаю самого себя, самого себя убеждаю, что найти Сенту — бесконечно сложная задача. Я поводырь, надо с этим свыкнуться. Я могу пройти по островам фарватера до того мира, где меня ждет Сента.
В первый раз одному всегда трудно — как выйти к придирчивой аудитории и прочитать доклад о никому еще не известной теории.
Прислушиваюсь к себе. Первый остров на моем пути домой — банка Гаупперса. Три миллиона двести тридцать тысяч световых лет. Между двумя спиральными галактиками, которые даже не имеют каталожных номеров. Далеко… Но интуиция говорит: этот остров — первый на фарватере по дороге домой.
Допиваю кофе. Уношу поднос на кухню и ставлю чашки в мойку. Отпечатки пальцев? Пусть остаются.
В прихожей надеваю куртку и, подумав, — вязаную шапочку. На островах это неважно, а дома может быть холодно.
И я всегда смогу вернуться. Если захочу. Здесь меня будут считать преступником, убившим неизвестного и сумевшим скрыться из запертой комнаты.
Может быть, я захочу дать показания. Когда кто-нибудь сможет понять.
Пора.
Анна Чемберлен ЭКСПРЕСС «ЗАБВЕНИЕ»
I
Фанни Боровская, крашеная блондинка лет тридцати двух, была, что называется, на любителя. Бледное лицо, выразительные глаза и яркие, словно кровью вымазанные губы.
Ее муж до своей преждевременной кончины работал коммерческим директором в какой-то сомнительной фирме, которая занималась перекраской автомобилей. Собственно говоря, он не умер в прямом значении этого слова; Фанни его пристрелила.
В последнее время он действовал ей на нервы. Так, например, придя с работы, муж сразу становился на четвереньки и вел себя как пекинес. Бегал с веселым лаем по комнатам, ел из миски (причем требовал, чтобы миска обязательно стояла рядом с помойным ведром), приносил Фанни тапочки в зубах, обожал, когда она его чесала за ушком… И все это, в принципе, было бы вполне терпимо; мало ли у кого какие причуды?.. Но всему же есть предел.
В один прекрасный день муж наотрез отказался разговаривать, а только тявкал и скулил. А когда же Фанни попыталась заставить его сказать хотя бы одно человеческое слово, он злобно укусил ее за ляжку.
Фанни, недолго думая, достала из ящика пятизарядный револьвер старого образца (короткоствольный, 38-го калибра) и всадила в взбесившегося мужа все пять пуль… Ей без труда удалось убедить молоденького следователя, похожего на девочку, что это была кровавая месть конкурентов.
…Фанни сидела в темноте. Фанни любила темноту. В темноте она чувствовала себя более защищенно, чем при искусственном — и уж тем более естественном — освещении.
Схватив фляжку с коньяком, Фанни надолго присосалась к горлышку. На нее напал безудержный смех, когда она вспомнила покойного мужа-пекинеса. «Ш-ш-ш… — приставила она пальчик к губам. — Они могут услышать. Они уже близко».
Еще чуть понежившись на диванчике, Фанни вскочила и понеслась на кухню. Здесь она. опустилась на четвереньки перед чистой эмалированной миской с молоком (грязную миску мужа Фанни давно выкинула на помойку) и, высунув розовый язычок, начала жадно лакать. Молоко скисло, и Фанни испытывала от этого странную смесь наслаждения и отвращения.
Напившись молока, она легко запрыгнула на широкий подоконник, оттуда прыгнула в заблаговременно открытую форточку… Ну, а уж от окна до крыши соседнего дома было рукой подать.
Оказавшись на крыше, Фанни сладко потянулась. Вот этот момент перехода она любила больше всего. Острое ощущение полноты жизни охватило ее от кончиков ушей до кончика пушистого хвоста… Да! Фанни была кошкой!.. Она еще и потому пристрелила мужа (и это было главное!), что он не просто прикидывался собакой, но по сути своей был собака. Фанни же, как всякая нормальная кошка, люто ненавидела собак.
…Под утро Фанни вернулась домой. Усталая, голодная и счастливая. Вполне удовлетворившая свою похоть. Она залезла в ванну и долго лежала, не шевелясь и закрыв глаза. Наслаждаясь… От воды шел пар.
Когда Фанни вошла в спальню, ей вдруг показалось, что наступила новогодняя ночь. Непонятное сияние озаряло комнату. Словно от разноцветных лампочек, горящих на елке (хотя на самом деле не было ни елки, ни лампочек). Фанни охватил дикий восторг. Раскинув руки, она закружилась по комнате. Но тут же остановилась. «Ш-ш-ш… — сказала она себе, приставив пальчик к губам. — Они уже здесь».
II
Жизнь — временное явление, потому что дается нам на время. Ее надо просто переждать, как пережидают дождь или снег…
Вот Макаров и пережидал.
Это был слегка опустившийся писатель лет пятидесяти пяти. С ним вечно случались какие-нибудь темные истории. То жена у него откуда-то упала. (Ее так и не спасли.) То семилетняя дочка его куда-то пропала. (Ее так и не нашли…)
Короче, когда в соседней квартире Фанни уснула, Макаров — наоборот — проснулся.
Он пошарил рукой по журнальному столику в поисках сигарет и задел будильник. Часы упали на пол. Тиканье прекратилось. Во дворе протяжно завыла собака. «Сегодня непременно кто-нибудь умрет, — подумал Макаров. — Может быть, даже я». Он встал с кровати и пошел в ванную комнату ополоснуть лицо. «Время остановилось, — сказал он своему отражению в зеркале. — Время дало трещину».
В городе было еще пять зеркал, в которые Макаров регулярно смотрелся. Два из них он любил; два других — нет. А одно — пятое — люто ненавидел. Это зеркало находилось в бесплатном туалете; недалеко от пивнухи, в которую Макаров частенько захаживал. Из-за своей неумеренной любви к пиву ему никак не удавалось избежать неприятного зрелища. Каждый раз, заскакивая в туалет, он обязательно натыкался на свое перекошенное отражение с седыми всклокоченными волосами…
Макаров вернулся в комнату. Будильник все так же валялся на полу. С иконы, висевшей в углу и изображавшей святого Серафима, нагло ухмылялась голая девица. «Плохо день начинается, — с тоской подумал Макаров. — Ох, плохо…» Его вновь охватило предчувствие близкой смерти. Он взял мобильник и набрал номер автоответчика времени. В трубке стояла кладбищенская тишина.
Включив свой раздолбанный комп, Макаров с остервенением забарабанил по клавиатуре. «Время дало трещину, — печатал Макаров. — И в эту трещину полезли всякие гады и твари. Извиваясь, раздирая до крови жирные бока, хватаясь за острые края…» Перестав печатать, Макаров резко отодвинул клавиатуру. Так резко, что та грохнулась на пол.
Затем Макаров оделся и вышел из дома.
По небу неслись рваные тучи. Макаров немного успокоился. Предчувствие близкой смерти куда-то пропало. «Вот это — мое, — думал он, бредя по грязным улицам. — Мерзкий дождь, разворошенные помойки, хмурые лица прохожих…» Впрочем, возможно, все это лишь аберрация. И на самом деле светит солнце, помоек нет и в помине, а все прохожие радостно улыбаются… «Не дай Бог, — подумал Макаров, сунув руки в карманы тяжелого пальто. — Мне этого не надо. Мне хорошо, когда — вот так».
Пивнуха была еще закрыта, и Макаров решил сходить в кино. Свет в зале погас. На экране замелькали кадры погонь и перестрелок. А в душе у Макарова вновь начала нарастать тревога. «Что ж такое получается? — думал он. — Время остановилось, и они полезли…» Но, похоже, кроме Макарова никто этого не заметил… Забавно. Время треснуло, как старая статуэтка, а все продолжают жить, словно ничего не произошло.
Макаров посмотрел на светящийся циферблат. Да, время стоит. А эти упорно продолжают лезть. Режут в кровь скрюченные пальцы… Интересно, какая у них кровь?.. Зеленая?.. Или, может, черная?.. Макаров расстегнул ремешок на запястье и, сунув часы в карман, вышел на улицу.
Вышел — и остолбенел!
Вместо грязной, милой сердцу пивнухи его глазам явилось шикарное заведение с витринами. На одной витрине красовалась смазливая девица, с другой — весело скалились породистые псы…
Двери сами собой распахнулись, приглашая Макарова войти. И он вошел.
III
Внутри все мигало, сверкало и переливалось.
Зеркальные плитки пола. Зеркальная стойка бара. Блестящие белые шары под потолком… Там и сям стояли столики с розовыми ночничками… Словом, все как положено.
Вот только… дверь в посудомойку слегка приоткрыта, и лысый карлик с придурошной ухмылкой орудует у раковины с грязной посудой; вот только барменша… как бы это сказать… гермафродитка; вот только грустная девушка в бледно-голубом платье, сидящая на краю эстрады, уж больно смахивает на утопленницу… А так… так все нормально.
Макаров огляделся. Десятки зеркал враждебно смотрели на него пустыми глазницами. Ни в одном из них он не отражался.
«Начинается», — подумал Макаров.
К нему через весь зал суетливо подбежал распорядитель.
— Добро пожаловать, гость дорогой, оскалился он в неприятной улыбке.
Макаров взглянул на его руки. Обе ладони распорядителя были в свежих порезах.
На эстраде появился здоровенный саксофонист с удивительно уродливой физиономией. Одни рыбьи глаза чего стоили. Он стал выдавать на своем саксе хриплые прерывистые звуки. Девушка-утопленница тотчас забралась на сцену и начала извиваться в медленном танце.
Распорядитель повел Макарова в самый отдаленный угол зала.
— Вы знаете, как называется наше заведение? — полуобернувшись, спросил он.
«Знаю, — мысленно ответил Макаров. — Ловушка».
— Что будем пить? — деловито осведомился распорядитель, усадив Макарова за столик.
— Кровь, — сказал Макаров.
— Простите? — не понял распорядитель.
— У вас кровь на подбородке, — показал Макаров пальцем на свой подбородок.
— Порезался, — пробормотал распорядитель и молниеносно слизнул красную капельку длинным языком. — Так что вам принести?..
— Пиво, — сказал Макаров.
Распорядитель ушел. Из посудомойки выглянул лысый карлик. Он зорко оглядел зал. Увидев Макарова, карлик направился к нему.
— Привет, Вилли, — сказал он писклявым голосом. — Как поживаешь, приятель?
— Я не Вилли, — ответил Макаров, поморщившись. От пронзительного писка карлика у него фонило в ушах.
— Читал твою последнюю книжку, Вилли, — продолжал карлик, сев на стул. — По-моему, дерьмо.
Зал понемногу заполнялся. Свободных столиков почти не осталось. Справа от карлика села молодая женщина с бледным лицом и яркими, словно кровью вымазанными губами.
«Типично вампирическая внешность», — подумал Макаров.
Женщина заказала двойной «Манхэттен» со льдом и салат из крабов.
— Здравствуйте, — сказала она, мельком взглянув на Макарова.
— Вы меня узнали? — оживился Макаров.
— Конечно, — кивнула Фанни. — Мы же с вами соседи по лестничной площадке.
(Да, это была Фанни… Как она здесь оказалась? Непонятно. Возможно, ей все это только снится.)
«Вот тебе и писательская слава», — уныло подумал Макаров.
На эстраде появились музыканты в сверкающих золотых пиджаках. Они разом ударили по инструментам. Девушка-утопленница низким хрипловатым голосом запела песенку на английском языке.
Входная дверь с шумом распахнулась. В зал ворвался холодный ветер.
— Эй, кто-нибудь! — крикнула девушка, прекратив петь. — Закройте, к чертовой матери, дверь, а то меня ветром унесет. Буду тогда — унесенная ветром!
В разных концах зала одобрительно зааплодировали. Но дверь, похоже, никто закрывать не собирался.
Макаров встал и подошел к выходу. На улице лил дождь. Так хлестал, что не было видно ни зги. Макаров закрыл дверь.
Вновь зазвучали резкие звуки рояля, хрип саксофона, плач гитары… Девушка скорее говорила под музыку, чем пела.
Макаров вернулся на свое место.
— Она мертвая, — сказал официант, ставя перед ним кружку с пивом.
— Мертвая? — удивился Макаров.
— Да. А что вы удивляетесь? Знаете, как написано в одной книжке? «Мертвых всегда больше, чем живых».
— Это моя книжка, — сказал Макаров.
Фанни посмотрела на Макарова. Как ни странно, но неряшливый вид старого писателя пробудил в ней сексуальные чувства.
— Вам никогда не хотелось умереть? — поинтересовалась она.
— А вам?
— Почему вы отвечаете вопросом на вопрос?
Макаров пригубил пиво.
— Скажем так — я уже умираю. Писатель, который перестает писать, начинает умирать.
— Почему же вы не пишете?
— Почему? — Макаров хмыкнул. — Вот вы чувствуете, как дышите?
— Иногда.
— То-то и оно, что иногда. А откачать сейчас отсюда воздух да сунуть вам баллон литров на пять — небось, каждый глоток считать бы стали.
— Вы не ответили на мой вопрос.
Макаров выбил из пачки сигарету.
— В мире слишком много вопросов, на которые нет ответов, — сказал он, закуривая. — Не существует.
Отыграв несколько номеров, музыканты направились к стойке бара. А девушка-утопленница подсела к Макарову. В сущности, она была уже далеко не девушка. Ну да Бог с этим.
— Спасибо, что прикрыли дверь, — сказала она. — А то у меня хроническая простуда. — Девушка вставила сигарету в белый мундштучок и закурила. — Вам понравилось, как я пою?
— Да, — искренне признался Макаров. — Очень.
— В принципе, голос у меня так себе, но для этой дыры сойдет. — Она прищурилась сквозь сигаретный дым. — Не угостите девочку коктейльчиком?
Макаров заказал несколько коктейлей.
Когда официант принес высокие стаканы с насаженными на них ломтиками лимона, девушка первым делом выкинула эти ломтики на стол. А затем опрокинула в себя один за другим сразу два стакана. Видно, у нее в жизни что-то не ладилось. Хоть она и была мертвая.
— Вы в самом деле мертвая? — спросил Макаров.
— Мя-а-у, — вместо ответа мяукнула девушка. Она уже основательно нагрузилась.
— А вот мы счас проверим, какая ты мертвая, — захохотал карлик и, крутанув колесико зажигалки, поднес язычок пламени прямо девушке к подбородку.
Запахло паленой кожей.
— Ц-ц-ц, — игриво поцокала девушка языком.
— Ну, это еще ничего не значит, — пробормотал обескураженный Макаров.
IV
Музыканты вернулись на сцену и в несколько расслабленной манере заиграли: «Там, где кончается розовый мир».
Девушка-мертвец дотронулась кончиками пальцев до небритой щеки Макарова.
— Пойдешь со мной? — спросила она.
— Потом, — ответил Макаров.
— Потом, — медленно повторила девушка. — Неужели ты не понимаешь, Что не бывает никакого «потом»?
— О, вы проникли в самую суть вещей, — с вялой полуулыбкой сказала Фанни.
Поощренная этой полуулыбкой, девушка-мертвец охватила Фанни за запястье.
— А ты? — задыхаясь, прошептала она. — Ты пойдешь со мной?..
Похоже, у девушки начинался приступ похоти.
Фанни резко дернулась, словно ее прошило током.
— Отстань от меня, детка, — зло бросила она. — От тебя землей пахнет.
Девушка-мертвец тут же убрала руку.
— Зря вы так, — примирительно сказала она. — Вы ведь тоже когда-нибудь умрете.
— Я уже два раза умирала, — нервно ответила Фанни. — Первый раз — в семь лет, на операционном столе. Второй раз — в семнадцать, под машину угодила… Так что не надо.
Карлик хлопнул Макарова по плечу.
— Ну ты даешь, Вилли, — ухмыльнулся он. — Тебе, можно сказать, солнце предлагают, море, нудистский пляж, а ты говоришь: «Не-ет, ребятки, спущусь-ка я лучше в подвал, где девчонку топором зарубили».
У Макарова все внутри так и оборвалось. Он почувствовал тошнотворный запах крови. Чтобы как-то сбить это ощущение, он залпом допил свое пиво.
— Что вы имеете в виду? — Макаров едва шевелил губами.
— Сам знаешь — что, — подмигнул карлик.
Девушка-мертвец снова погладила Макарова по щеке.
— Хотите, я исполню что-нибудь лично для вас? — предложила она.
— Да! Да! — с благодарностью ухватился за это предложение Макаров. — Спойте, пожалуйста, «Экспресс «Забвение»». Знаете такую песенку?
— Такой песенки я не знаю, — ответила девушка, и в ее карих глазах вновь зажглись похотливые огоньки. — Но для вас я ее спою.
Покачивая бедрами, она направилась к эстраде.
Саксофонист вскинул саксофон. Гитарист врубил усилитель. Пианист плюхнулся на вертящийся табурет… Девушка-мертвец запела хриплым голосом, наполненным до краев сладкой горечью:
Экспресс «Забвение» пронизывает ночь. Забытый попугай в забытой клетке «Бр-разилия», — кричит. Забытая дымится сигаретка, Забытый чай на столике стоит. А рядом в зеркалах Забыты чьи-то лица… Забыто все, что можно позабыть. «Экспресс «Забвение» несется по равнине. Проносятся забытые века, Забытая течет река — В забытые пустыни… Звучит мелодия, забытая давно. Лежит любовь забытая на полке. Забытые несутся за экспрессом волки. Забытый я гляжу на них в окно. Все это так похоже на забытое кино. В нем тоже шел экспресс с названием «Забвенье», И так же попугай в забытой клетке Кричал: «Бр-разилия»…Пошло долгое соло саксофона… Напротив Макарова сидела маленькая девочка и ела мороженое. Макаров тряхнул головой. Видение исчезло.
— Что, воображение пошаливает? — понимающе усмехнулась Фанни.
«Откуда она знает?» — поразился Макаров.
— Я чувствую, — сказала Фанни. — Я все чувствую. Как кошка.
— Ненавижу кошек, — злобно пропищал карлик. — Мерзкие твари.
И тут вдруг в зале неизвестно откуда появился огромный черный дог. Страшно зарычав, он бросился на Фанни. Она словно бы ждала этого. Раздался выстрел. Собака упала замертво. Из простреленной головы потекла кровь.
Саксофонист, перестав играть, соскочил с эстрады и подбежал к убитому догу. Присев на корточки, он бережно положил собачью голову себе на колени.
— Ты! — выплюнул саксофонист в сторону Фанни. — Ты!..
— Очень сожалею, — холодно произнесла Фанни, убирая пистолет в сумочку. — Сколько я вам должна?
— Я не продаю друзей, — с нехорошей усмешкой ответа саксофонист. — Тем более — мертвых.
Лысый карлик, схватив убитого пса за задние лапы, поволок его в посудомойку. По зеркальному полу тянулся кровавый след. Танцы возобновились, будто ничего и не произошло.
Зал сотрясали звуки музыки. Крутились блестящие шары под потолком.
— Этого они мне никогда не простят, — прошептала Фанни.
Макаров услышал.
— Кто не простит? — спросил он.
Фанни не ответила.
За дверями посудомойки образовался какой-то сгусток опасности. Макаров ощущал его как гнойный нарыв, который вот-вот прорвется…
— По-моему, нам пора сваливать, — тревожно сказал Макаров.
К столику с решительным видом приближалась барменша-гермафродитка.
— Послушай, мужик, — грубо схватила она Макарова за отвороты пиджака. — Ты дал фальшивую купюру. Пойдем разберемся.
— Какую еще купюру?! Я даже к бару не подходил!.. — Макаров попытался вырваться из цепких рук барменши. Но не тут-то было.
В зале тем временем появились крепкие ребята.
Нельзя было терять ни секунды.
Макаров вскочил, роняя стул, и резко ударил барменшу ногой в пах.
— Бежим! — крикнул он Фанни.
И они выскочили в дождливую ночь.
V
Ночь поглотила их без остатка. Они растворились в густой смеси тьмы и тумана. И те, кто выбежал вслед за ними, растерянно замерли у входа, напряженно вглядываясь в непроницаемую стену мрака…
А женщина-кошка и старый писатель брели по кривым улочкам, не видя себя и друг друга. И только нудный дождь, оседая на лицах моросью, косвенно давал им понять, что они все еще существуют на этом свете.
Фанни и Макаров шли молча, словно были тысячу лет знакомы и обо всем давным-давно переговорено.
— О чем вы думаете? — немного погодя все же спросил Макаров.
— Ни о чем, — призналась Фанни. — Я вообще редко думаю. Я живу инстинктами.
Они опять замолчали. В рваном просвете туч показалась желтая луна. Рядом с ней мерцали далекие звезды. Из редеющего тумана стали выплывать странные металлические конструкции, похожие на доисторических животных, ветхие дома, ржавые вагоны старинных электричек с выбитыми стеклами; рядом с вагонами в одну кучу были свалены телефонные будки — тоже старинные, ржавые, и тоже без стекол… Вдалеке закричала невидимая птица. А где-то совсем близко ударил колокол, и его незатухающий гул надолго повис в сыром воздухе ночи.
В молчании они прошли мимо магазинчика женского белья. За стеклом витрины лежала голая женщина с оторванной ногой. Она умоляюще смотрела на Макарова. Макаров ускорил шаг, убеждая себя, что это манекен.
Город словно вымер. Хотя, в сущности, было не так уж и поздно. Скорее, наоборот — было рано. «Ведь сейчас день, а не ночь, — дошло вдруг до Макарова. — Почему же так темно?»
Не сговариваясь, Макаров и Фанни посмотрели друг на друга.
— Я вам никого не напоминаю? — с улыбкой спросила Фанни.
— Нет, — тоже улыбнулся Макаров.
— Я похожа на кошку.
— На кошку?
— Да. У меня даже маленькие усики есть. Их не видно, но они есть. Хотите потрогать?
Макаров провел пальцами по мокрым от дождя губам Фанни.
— Чувствуете?
— Чувствую.
Они вышли к озеру и побрели вдоль берега, по усеянному мусором и дохлой рыбой песчаному пляжу.
Прогулка начинала их тяготить. И как только они это поняли, так сразу же оказались возле своего дома. Вошли в подъезд и, забравшись в узкую, словно гроб, кабинку лифта, захлопнули за собой дверь. Свет не горел. Фанни нажала кнопку. Натужно загудев, кабинка поползла вверх.
— Вы нажали наудачу? — спросил Макаров.
В темноте послышался легкий смешок.
— Если б я жала на удачу…
С опозданием засветилась тусклая лампочка на потолке. Кабинка еле двигалась. Фанни в упор смотрела на Макарова.
— У вас светло-голубые глаза, — сказала она.
— Ну и что?
— У большинства маньяков-убийц такие глаза.
— Лично я никого не убивал, — с искусственной веселостью ответил Макаров. — Честное слово.
Фанни не приняла его тона.
— У каждого есть свой скелет в стенном шкафу, — произнесла она и, помедлив, добавила: — Или убитая девочка в подвале.
Сердце Макарова бешено заколотилось. Лифт замер.
Они приехали.
VI
Фанни вкатила в комнату портативный бар. Затем, ненадолго исчезнув в кухне, принесла оттуда две большие тарелки с жареным мясом.
— Ешьте руками, — сказала она, ставя тарелки на низенький столик.
— Руками? — переспросил Макаров. — У вас нет вилок?
— Есть. Но меня возбуждает вид мужчины, который хватает мясо руками.
Она включила музыку.
— Это блюз? — спросила Фанни.
— Не знаю, — ответил Макаров.
— Это блюз, — повторила Фанни уже с утвердительной интонацией.
— Вполне возможно. — Макаров опрокинул в себя стопку. Виски обожгло горло.
— А вы знаете, что такое блюз?
Макарова уже начинало нервировать повторение одного и того же слова. Он опрокинул в себя еще стопку.
— Не знаю.
— Блюз — это когда хорошему человеку плохо.
«Слова, слова… — подумал Макаров, закрывая глаза. — Как я устал от слов…» Фанни продолжала что-то говорить, но теперь Макаров воспринимал не значение ее фраз, а как бы их внешний вид. Они виделись ему в форме пауков, стоящих враскоряку на кривых мохнатых лапках.
Макаров открыл глаза. Пауки исчезли. Напротив него сидела Фанни.
— Мне кажется, — сказала она, — что хорошую книгу может написать только хороший человек.
Макаров поправил:
— Хорошие книги пишут не хорошие люди, а хорошие писатели.
Пронзительно зазвонил телефон. Одновременно с этим на улице раздался злобный лай собак.
Макаров сделал движение снять трубку.
— Не надо! — поспешно воскликнула Фанни. — Не снимайте.
Телефон звонил долго-долго. Макаров нервно барабанил пальцами по столу. Фанни заразила его своим беспокойством.
Наконец, после томительной паузы, Фанни тихо произнесла:
— Я не хочу причинять никому зла. — И, немного помолчав, добавила: — Впрочем, делать добро мне тоже не хочется.
— Чего же вы хотите? — Макаров сунул кончик сигареты в пламя зажигалки.
— Мои желания просты, — ответила Фанни. — Я хочу, чтобы зимой шел снег, а не дождь.
— И все?
— И все.
— Представляю, как вам грустно. Ведь этой зимой — сплошные дожди.
Фанни передернула плечами.
— Да нет. Мне очень даже весело. Особенно если учесть, что дог, которого я пристрелила, был вовсе не дог.
— А кто? — спросил Макаров.
— Кто… — с горькой усмешкой повторила Фанни.
VII
Макаров вдруг словно бы в прострацию впал. С ним такое частенько случалось. Возьмет ни с того ни с сего — и унесется в бескрайний Космос. А тело оставит. Вот и сейчас — взял и унесся. Огляделся. А Земли-то нет! Нет Земли!..
— Эй, очнись, — вернул Макарова назад голос Фанни.
Они уже сидели в спальне, на кровати. Фанни была абсолютно голая. Она легла на спину и положила Макарову ноги на плечи.
— Сейчас сожму ножки-то, — сказала она игриво. — И не будет больше великого писателя.
Далее произошло то, что и должно было произойти.
— А-а… — стонала Фанни, и ее голос взлетал все выше и выше.
— Послушай, — Макаров едва сдерживал раздражение, — перестань имитировать оргазм.
Фанни моментально успокоилась.
— Я думала, тебе будет приятно, — сказала она, закурив.
— Мне было приятно, — сухо ответил Макаров. — Спасибо.
— Не за что, дружок. — Фанни выпустила изо рта колечко дыма. — Вообще-то мужчины внушают мне отвращение.
— Зачем же ты тогда со мной легла?
— Исключительно из уважения к твоим литературным способностям, — пошутила Фанни.
Макаров принял ее слова за чистую монету.
— Да уж, когда-то мои романы имели колоссальный успех, — сказал он, приосанившись. Но тут же снова поник. — Впрочем, все хорошее рано или поздно кончается. У меня все хорошее кончилось в одно не очень прекрасное утро, когда я обнаружил рядом с собой в постели свою мертвую жену…
Фанни ничего не ответила. В спальне было темно. Макаров видел лишь красный огонек сигареты и два Фанииных зеленых зрачка.
— Ну а девочка? — вполголоса спросила Фанни.
— Какая… девочка!.. — похолодел Макаров.
— Дочка твоя… она ведь все еще там… в подвале.
Сердце Макарова, прорвав грудную клетку, вырвалось наружу и смачно влепилось в стену. Потом ме-едленно сползло на пол жалким комочком склизкой плоти… Макаров так явственно это увидел, что его чуть не стошнило.
Фанни больно вонзила в его плечо острые ногти.
— Ты должен успеть до полуночи! — жарко зашептала она. — Тогда трещина закроется. И эти подохнут… Без лазейки.
— Что… успеть? — спросил Макаров осипшим голосом.
— Помолиться. Встать на колени, и молитвы зашептать, и крестом себя осенить… Тогда и увидишь, как из крови плоть начнет появляться. И ребеночек руки к тебе потянет… — Фанни перевела дух. — Да только гляди, чтоб она это была… Вспомни, есть ли какие приметы?..
— Колечко! — тотчас вспомнил Макаров. — Колечко должно быть на правом мизинце. Серебряное.
— Тихо! — Фанни зажала ему рот ладонью… — Слышишь?! Они идут…
VIII
Под холодным звездным небом бежала стая собак. Они бежали след в след. Как волки. Крупные, сильные твари с оскаленными мордами и налитыми кровью глазами. Впереди всех несся вожак. Огромный пегий пес непонятной породы. Опустив уродливую голову к земле, он подрагивающими ноздрями жадно втягивал в себя ненавистный запах Фанни-кошки.
Стая стремительно ворвалась в маленький дворик. Вожак с силой оттолкнулся лапами от асфальта и, как стрела, взмыл ввысь. Протаранив мордой оконное стекло, он обрушился на пол Фанииной квартиры.
— Стреляй! — истерично завопила Фанни. — Стреляй!!
Макаров выстрелил. Визжащий комок боли закрутился по комнате, сметая все на своем пути. Макаров выстрелил еще раз. Грохот был неимоверный… В дверь беспрестанно звонили. Потом начали колотить ногами.
— Что там у вас происходит?! — доносились из-за двери громкие голоса. — Сейчас же откройте!
Макаров кинулся открывать.
— Не надо! — вцепилась в него Фанни. — Там тоже они!
Еще одна серая тварь влетела в разбитое окно. Макаров, забыв про. пистолет, врезал ей ногой по морде… Теперь собаки лезли отовсюду. Как тараканы. Комната наполнилась рычащими и лающими звуками…
И вдруг… р-раз! — все исчезло.
Наступила тишина. Только из кухни доносилось урчание холодильника.
— Фанни, — позвал Макаров. — Фанни.
Молчание. За разбитым окном стонет ветер.
Что это?.. Макаров вздрогнул. Звонил телефон. Настойчиво. Агрессивно. Макаров снял трубку.
— Макаров? — спросил писклявый голос.
— Да.
— Живой еще?
— Да вроде живой.
— «Вроде»… — захихикал голос. — А может, уже нет?
Пошли короткие гудки. У Макарова не хватило душевных сил положить трубку на место. Он просто разжал пальцы, и трубка упала на пол.
«Надо идти», — подумал Макаров.
Он вышел в прихожую, надел пальто. Потом открыл входную дверь.
— Эй! — крикнул Макаров. — Эй!..
Ему никто не ответил.
Он начал спускаться по лестнице.
В подвал…
Спустившись, Макаров зажег фонарик. Яркий кружок света заплясал по грязно-серым стенам, выхватывая из тьмы то протекающие трубы, то дохлых крыс… Стало вдруг трудно дышать. Словно бы кто-то принялся энергично откачивать из подвала воздух. (Скорее всего, так оно и было.)
Макаров остановился. Ему почудилось, что вместо крови у него по венам побежала горячая вода. В ту же секунду со всех сторон зазвучала веселая музыка, послышались бодрые голоса ди-джеев — будто одновременно заработало несколько радиостанций. Макаров двинулся дальше. Тотчас погас фонарик. Макаров пощелкал кнопкой. Бесполезно.
— Все кончено, — обреченно сказал он.
— А ты крестик-то на себя наложи, — отчетливо услышал Макаров голос Фанни. — Ну…
Макаров перекрестился. Светлее от этого не стало. Но теперь он видел в темноте. «Как кошка, — подумал Макаров. — Как Фанни».
Музыка и голоса смолкли.
— Мои желания просты, — громко сказал Макаров, — я хочу, чтобы зимой шел снег…
С потолка повалил густой снег.
— Блюз, — еще громче сказал Макаров, — это когда хорошему человеку плохо!
Хрипло взвыл саксофон. В воздухе повисла уродливая физиономия саксофониста.
— Как насчет негритяночки с Вывернутыми губками? — подмигнув рыбьим глазом, спросила физиономия. — Э?..
— Да что вы мне бабу-то суете?! — возмутился Макаров. — Мне весь мир нужен, Вселенная… А вы мне — бабу!
Физиономия с рыбьими глазами пропала.
Наконец Макаров нашел то, что искал. Темную маленькую лужицу, разлитую в неровностях пола. Макаров опустился на корточки и пошлепал лужицу ладонью. Когда он поднес руку к лицу, то увидел, что пальцы у него в крови.
Макаров встал на колени и лихорадочно зашептал молитвы, перевирая все на свете. Кровавая лужица начала быстро-быстро съеживаться, загустевать… И вот уже к Макарову потянулась детская ручонка с пятью растопыренными пальчиками.
— Да-ша, — выдохнул потрясенный Макаров.
Пи-пи-пи… запищали часы в кармане пальто.
Наступила полночь.
Колечка на мизинце не было.
IX
Макаров и Даша стояли на платформе. Вокруг шумел густой лес. Небо было покрыто рваными тучами. Девочка молча смотрела себе под ноги, безучастная ко всему на свете.
— Дашенька, — робко произнес Макаров, — сейчас подойдет электричка, и мы поедем домой.
Девочка ничего не ответила. «Ладно, — подумал Макаров, — все будет хорошо». Ему и правда казалось, что все будет хорошо. Но на самом деле все шло хуже некуда. Солнце исчезло, точно провалилось в бездну. Холодный ветер принес откуда-то острый запах плесени.
— Даша, — сказал Макаров. — Даша…
Девочка упорно молчала. Промчался товарный состав. Мелькнули огоньки последнего вагона. С неба без конца что-то сыпало. Дождь — не дождь, снег — не снег… К Макарову подошел путевой рабочий.
— Кошка, — показал он пальцем на рельсы.
Макаров посмотрел. На рельсах лежал раздавленный кошачий труп. В следующую секунду Макаров увидел, что это Фанни. Он растерянно заморгал. Фанни вновь стала кошкой.
— Я хочу стать кошкой, — вдруг капризно заявила Даша.
— Кошкой? — переспросил Макаров.
— Да.
— А мышкой не хочешь? — с усилием улыбнулся Макаров.
В этот момент Даша толкнула его обеими руками в живот. Макаров и ахнуть не успел, как очутился под колесами очередного товарняка. Улыбка, словно приклеенная, осталась у него на лице.
Жизнь вспомнилась как одна осень… как случайный взгляд в окно…



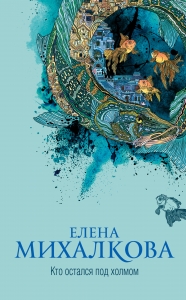


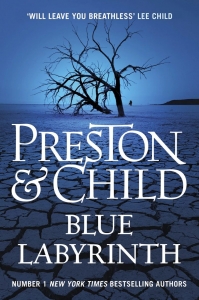


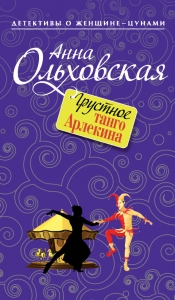




Комментарии к книге «Искатель. 2014. Выпуск №12», Песах Амнуэль
Всего 0 комментариев