Ответный визит
Лев Шейнин Старый знакомый (Ответный визит)
1. Государственные экзамены
В двадцать три года просыпаются разом, весело, с глубокой уверенностью в том, что жизнь превосходна, молодость вечна, хорошее настроение обязательно и естественно. В теле необыкновенная легкость, свежий утренний ветерок проникает через открытое окно в комнату и треплет волосы. Впереди огромный и чуть загадочный летний день, полный всяких приятных и неприятных подробностей. Подробности приятные — отличная погода, вчерашняя улыбка Шуры, свидетельствующая, что ты ей во всяком случае не безразличен, великолепно сданный вчера государственный экзамен по уголовному праву (совершенно дико повезло с билетом) и вообще — самый факт существования. Подробности неприятные — кончаются деньги, растаявшие с почти фантастической быстротой, отсутствие уверенности в том, что сегодняшний экзамен по гражданскому праву пройдет так же благополучно, как вчерашний, и, наконец, предстоящая разлука с Москвой в связи с окончанием вуза и направлением на периферию.
Приблизительно так размышлял студент последнего курса юридического института Плотников в августовское утро 1940 года, проснувшись около восьми часов в своей комнате в тихом замоскворецком переулке, полном солнца, ветвистых лип и старинных купеческих особняков. В этом чисто кустодиевском уголке старой Москвы Плотников поселился с первого курса, приехав в столицу из далекого волжского городка, где он родился и вырос. В Москве у старой тетушки своей Дарьи Михайловны Плотников нашел себе пристанище. Тетушка служила провизором в аптеке, носила старомодное пенсне в черепаховой оправе, была одинока и души не чаяла в племяннике. Она отменно готовила пельмени, очень любила оперу и зачитывалась Бальзаком.
Узнав, что Плотников по окончании института намерен стать следователем, Дарья Михайловна с особым интересом перечитала страницы своего любимого автора, относившиеся к судебному следователю господину Камюзо, и посоветовала племяннику еще раз прочесть эту книгу.
Плотникова мало интересовал французский следователь Камюзо. Но зато он зачитывался воспоминаниями: Кони, мемуарами известных криминалистов и выпусками «Следственной практики», издаваемыми Прокуратурой СССР, в которых помещались рассказы советских следователей о своей работе.
В прошлом году Плотников проходил производственную практику в прокуратуре. Его прикрепили к народному следователю одного из районов столицы. В течение двух месяцев Плотников выезжал со своим шефом на места происшествий, присутствовал при судебно-медицинских, технических и бухгалтерских экспертизах, участвовал в допросах свидетелей и обвиняемых.
Он понял, что профессия следователя отличается прежде всего огромным многообразием жизненных явлений, событий, человеческих характеров и конфликтов. Плотников убедился, что следователю никогда не следует забывать, что с каким бы делом его не столкнула судьба, — будь то дело о растрате или об уличном грабеже, о хищении государственных средств или об убийстве из ревности, — главное: всегда и за всеми этими делами стоят люди, люди разных возрастов и профессий, с разными характерами, привычками, склонностями и вкусами.
Впечатления, накопленные Плотниковым за два месяца производственной практики, по-новому осветили лекции, которые он слушал в институте, книги по методике следствия, которые он прочел, учебники криминалистики, изученные им. Плотников решил, что по окончании института станет не юрисконсультом, не адвокатом, не судьей, а следователем. Он пришел к выводу, что на юридическом фронте следователи как бы занимают передний край, так как по самому характеру своей работы они первыми сталкиваются с фактом преступления, первыми атакуют преступника.
И вот осталось около недели до того долгожданного дня, когда навсегда отойдут в прошлое годы учебы, новенький диплом будет бережно спрятан в заветном ящике письменного стола и будет получена путевка Прокуратуры СССР в один из районов страны — назначение народным следователем, путевка в жизнь… Зажмурив глаза, Плотников попробовал представить себе эту новую, самостоятельную и такую манящую жизнь. Как же она встретит его? Какой город, какие люди, какие дела ожидают его? Достаточно ли он подготовлен и зрел, чтобы уверенно сесть за следовательский стол, лицом к лицу с преступником? Хватит ли у него познаний, выдержки, терпения, настойчивости, спокойствия, наблюдательности, силы логики, без которых, как говорил на лекции один опытный криминалист, нет следователя, а есть — в лучшем случае — грамотный регистратор преступлений и письмоводитель, фиксирующий чужие показания…
Однако, как плотно ни смыкал он веки, ему так и не удалось ничего разглядеть в своем будущем, хотя и было оно близким. Сегодняшние лучи сегодняшнего солнца, проникавшие сквозь зажмуренные ресницы, упорно торопили Плотникова ринуться в это свежее утро, весело шумевшее за окном смехом и криками играющих детей, легкими шагами куда-то спешивших девушек, сиренами и фырканьем проносившихся машин и бодрым «физкультурным маршем», гремевшим изо всех репродукторов во всех квартирах дома. Плотников вскочил с постели, быстро умылся, оделся, выпил стакан горячего кофе и, поцеловав тетушку, пулей вылетел на улицу и с головой нырнул в этот ясный, пока еще прохладный августовский день.
В большом мрачноватом зале юридического института уже толпилось, несмотря на ранний час, много народа. Студенты, как шмели, мерно жужжали по углам, экзаменуя друг друга. Сегодня предстоял трудный экзамен — гражданское право. Профессор гражданского права Валентин Павлович Стрельбицкий славился своей строгостью на экзаменах. Профессору было уже за шестьдесят, но он отличался совершенно юношеской влюбленностью в свою науку и в глубине души был твердо уверен, что человек, не знающий основ гражданского права, есть личность, не заслуживающая уважения и во всяком случае не способная к юридическому мышлению. Высокий, сухощавый, не по возрасту стройный, профессор Стрельбицкий, помимо гражданского права, увлекался спортом — летом охотой и спиннингом, зимой коньками и лыжами. На студенческих вечерах он охотно и подолгу танцевал, принимал участие в студенческих вечерах самодеятельности, где отлично читал стихи Маяковского, и вообще дружил со студентами, оставаясь яри этом требовательным преподавателем.
Плотников, как и многие студенты, увлекавшиеся криминалистикой, не очень любил гражданское право. Теория судебных доказательств в уголовном процессе, учение о косвенных уликах, тактика допроса и судебная психиатрия интересовали Плотникова гораздо больше, нежели вопросы опеки, элементы гражданского правоотношения, обязательства по перевозкам и право наследования. Только одно примечание к статье второй гражданского кодекса вызывало восхищение Плотникова, дававшего ему расширенное, почти философское толкование. Это примечание гласило: «Принадлежность следует судьбе главной вещи».
Тем не менее экзамен есть экзамен, и Плотников добросовестно к нему готовился. Два солидных тома учебника гражданского права были им проштудированы и освежены в памяти. Через несколько минут должен был выясниться результат этих усилий.
Уже секретарь государственной комиссии разложил на столе билеты, бумагу и карандаши, а студенты все еще торопливо задавали друг другу вопросы:
— Что такое причинная связь между неправомерным действием и вредом?
— Какова давность по обязательствам из причинения вреда?
— Может ли быть ответственность без вины?
Услышав последний вопрос, Плотников тревожно задумался. Как криминалист он был убежден, что без вины не может идти речь ни о какой ответственности. Но в гражданском праве, увы, что-то в этом роде допускалось. Где и в каких случаях? Плотников решительно, этого не помнил. А вдруг достанется именно этот билет, черт бы побрал это гражданское право! В полном отчаянии Плотников бросился к студенту Кареву, считавшемуся на курсе лучшим знатоком гражданского права и являвшемуся любимцем Стрельбицкого.
— Карев, объясни, метр, что там за чертовщина с ответственностью без вины? — спросил Плотников.
Карев, очкастый, бледный и до отказа напичканный всяческими премудростями по гражданскому праву, посмотрел с нескрываемым презрением на Плотникова и процедил:
— Элементарнейший вопрос, мой милый. Даже на трехмесячных юридических курсах на него отвечают последние тупицы.
— Умоляю! Суть! Корень! Формулу! — почти простонал Плотников, боясь, что сейчас выйдут члены государственной комиссии.
Карев достал белоснежный накрахмаленный, аккуратно сложенный носовой платок, обстоятельно высморкался и отчетливо проскандировал:
— Наряду с ответственностью за ви-нов-ное причи-не-ние вре-да, которое является общим правилом, гражданский кодекс приз-на-ет и ответст-вен-ность без ви-ны. Согласно статьи четыреста четвертой гражданского кодекса, лица и предприятия, дея-тель-ность коих связана с по-вы-шен-ной опас-ностью для окружа-ющих, как-то: железные дороги, трамвай, держатели диких животных, торговцы горючими материалами, лица, возводящие строения, и т. п. — отвечают за вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие неодолимой силы либо умысла или грубой небрежности потерпевшего…
Выпалив одним духом эту фразу, Карев с удовольствием добавил:
— Все. Рекомендую, уважаемый коллега, для усвоения этой статьи разобрать следующие вопросы: во-первых, почему закон в изъятие из принципа вины устанавливает в данном случае ответственность без вины; во-вторых, что означает термин «повышенная опасность»; — и, в-третьих, в каких случаях считается, что вред причинен источником повышенной опасности?
Разозлившись на докторальный тон Карева, Плотников ответил весьма язвительно:
— Признателен за разъяснение. Полагаю, ваше юридическое превосходительство, что если я провалюсь на экзамене, то источником повышенной опасности явится профессор Стрельбицкий, потерпевшим, коему причинен вред, — я, а самой повышенной опасностью будет столь любезное вашему сердцу гражданское право.
Слушавшие этот разговор студенты расхохотались. Рассердившийся Карев ехидно возразил:
— За этот вред, милейший, не придется отвечать, поскольку всем будет очевидно, что он причинен вследствие неодолимой силы, а именно — твоего невежества. Все!
И он с победоносным видом отошел в сторону. Как раз в этот момент в дверях зала показались члены государственной экзаменационной комиссии, в числе которых был и Стрельбицкий.
Ура, все обошлось благополучно! Плотникову достался билет, который был как нельзя более кстати. Речь шла о наследственной трансмиссии, которую Плотников знал хорошо. Он подробно ответил на вопрос, отчеканивая каждое слово и с удовлетворением отмечая довольный блеск в глазах Стрельбицкого.
Через несколько дней Плотников получил новенький диплом в приятно хрустящей серой обложке. А еще через неделю аттестационная комиссия объявила юристу Плотникову, что его желание посвятить себя следственной работе удовлетворено. Он был направлен в распоряжение Прокуратуры СССР, где и получил назначение народным следователем Зареченского района Энской области. Плотников добивался назначения именно в этот район, на что у него были достаточно веские причины…
В самом конце августа выпускники московских вузов праздновали в Центральном парке культуры и отдыха сдачу государственных экзаменов. Медики и юристы, геологи и политехники, экономисты и филологи собрались в огромном Зеленом театре парка. Чуть душный августовский день догорал над Москвой. С реки доносились веселые голоса купальщиков. В аллеях парка медленно прогуливались пары, не имеющие прямого отношения к госэкзаменам. Это были загорелые спортсмены и щеголеватые молодые летчики, укладчицы с кондитерской фабрики «Красный Октябрь», табачницы с «Дуката» и «Явы», курсанты-танкисты и миловидные чертежницы с ЗИСа.
Плотников сидел в театре в окружении друзей, рядом с Шурой Егоровой, окончившей в том же году ветеринарный институт. Они познакомились около года назад, на студенческом балу в Колонном зале. Стройная большеглазая Шура сразу понравилась Плотникову. В тот вечер они танцевали почти до утра. Потом Плотников провожал Шуру на Стромынку, в студенческий городок, где она жила. Синий рассвет чуть пробивался за краем догоревшей ночи. Было уже слишком поздно для ночных трамваев и слишком рано — для утренних, поэтому шли пешком.
Довольно долгий путь способствовал выяснению разительного сходства вкусов. Оказывается, оба любили театр имени Вахтангова, затем чтеца Антона Шварца, оба «болели» за футбольную команду «Торпедо», из кинорежиссеров предпочитали Ивана Пырьева, из художников — Дейнека, из современных писателей — Валентина Катаева.
Не удивительно, что такое совпадение вкусов привело, как сформулировал Плотников, к «конкретным оргвыводам»: было назначено свидание на следующий, точнее в этот, уже наступивший день; ровно в шесть вечера, под часами Центрального телеграфа.
Справедливость, требует отметить, что как час, так и место свидания, увы, не блистали оригинальностью. Когда, за четверть часа до назначенного времени, Плотников встал на вахту под указанными выше часами, он поразился: не менее дюжины очень похожих на него молодых людей топтались рядом, беспокойно и чересчур часто поглядывая — на часы. И когда с пятиминутным опозданием (что тоже не было оригинальным) появилась Шура с подчеркнуто деловым выражением лица, то впереди нее, сзади и по бокам постукивали каблучками другие девушки, тоже спешившие на свидание.
Так началась дружба Шуры и Плотникова. Они встречались почти ежедневно, и — удивительное дело! — с каждой встречей выяснялась все более насущная необходимость следующей. Теперь их уже занимало не столько сходство, сколько, напротив, расхождение во вкусах. Так, если Плотников утверждал, что лучшая в мире профессия — профессия следователя, то Шура доказывала, что гораздо интереснее быть ветеринаром. Когда Плотников ссылался на классическую литературу и приводил в пример одного из своих любимых героев — следователя Порфирия Петровича из романа Достоевского «Преступление и наказание», то Шура холодно замечала, что Порфирий Петрович — судейский крючок и жаба, а творчество Достоевского — реакционное и больное.
Казалось бы, что столь непримиримые противоречия губительно скажутся на только возникших дружеских отношениях, но они, напротив, сыграли положительную роль: при каждом очередном прощании выяснялось, что стороны не исчерпали своей аргументации и потому есть необходимость в новой встрече.
И вот пролетел год, получены дипломы, и они сидят рядом, почему-то держась за руки, на торжественном заседании в Зеленом театре. Плотников только что с очень равнодушным видом сообщил Шуре, что «случайно» назначен в Зареченск, куда, как она ему рассказала раньше, добилась назначения и Шура, — Зареченск был ее родиной, и там жила ее мать. Шура, выслушав это сообщение, почему-то вспыхнула, но потом еще более равнодушно, нежели Плотников, протянула: «Что ж, это очень мило» — и больше не возвращалась к этому вопросу.
После заседания в парке начался традиционный карнавал. В звездное августовское небо со свистом полетели разноцветные ракеты. В разных концах парка ударили оркестры. На танцевальных площадках поплыли пары. Переполненные рестораны-поплавки были ярко освещены разноцветными фонариками и чуть покачивались на темной притихшей реке. Со всех сторон доносились обрывки песен, взрывы смеха, тосты, восклицания, звон бокалов, стук ножей. Вихрем носились официанты. Все это сливалось с поздравлениями, клятвами в вечной дружбе, взаимными пожеланиями, названиями городов и республик, куда получены путевки, гулкими выстрелами пробок от шампанского и здравицами в честь любимых вузов.
Поезд пришел в Зареченск на рассвете. Дымное солнце пламенело в предутреннем мареве только загоравшегося сентябрьского дня. Плотников остановился на небольшом перроне. Красное кирпичное здание вокзала пылало окнами, отражавшими восход солнца. На перроне было пустынно. Прозвучал кондукторский свисток, загудел паровоз, и поезд, в котором приехал Плотников, двинулся вперед с довольным пыхтением, как бы радуясь тому, что покидает эту маленькую станцию.
Пройдя через зал ожидания с деревянными скамейками, на которых спали трое пожилых мужчин, Плотников вышел на привокзальную площадь, где стояли два извозчика.
— Куда изволите? — сразу подошел к Плотникову один из извозчиков, рослый старик с седой бородой клинышком.
— В город, — неопределенно ответил Плотников.
— Понимаю, что в город, — произнес извозчик, — да на какую улицу? Тут ведь не деревня, не одна улица…
— В гостиницу, если есть.
— Как не быть, имеется и гостиница, — весело сказал извозчик. — Тут у нас все имеется, что по штату положено. Театр и тот завели. Живем весело, вот только с овсом худо. Мается наш брат, извозчик, потому что мы вроде как частники считаемся и не дают нам государственного снабжения. Садитесь. До города две версты.
— Как две версты? — удивился, садясь в экипаж, Плотников. — Это почему же?
— Последствия царского режима, — ответил извозчик. — Не сумела тогда городская управа договориться с начальством, которое дорогу строило. Большую взятку то начальство с города затребовало, ну а наши толстосумы и уперлись. Тут начальство озлилось и дорогу на две версты от города отвело: дескать, вот вам, дуракам зареченским! Знайте, когда торговаться и кому отказывать. Эй, мил-лой!
И он стегнул коня кнутом. Колеса вязли в песчаной дороге. Сосны, стоявшие по ее сторонам, золотились в лучах солнца. Утро было удивительно тихим и свежим.
Экипаж вынесло на пригорок, с которого открывался широкий вид на Зареченск и его окрестности. Городок лежал внизу, раскинувшись полукругом по берегу большого озера с маленьким островом посреди. Купол городского собора и множество церковных колоколен розовели в лучах разгоравшегося утра. Серые, темные, красные домики пестрели в окружении садов и огородов. Слева выделялась подкова базарной площади с двумя рядами каменных, пожелтевших от времени рядов и большими сенными весами в самом центре площади. За мостом, переброшенным через реку, — вытекавшую из озера, зеленел старинный городской вал, а за озером дымились далекие луга и синел стоящий грядою лес.
— Вот наш Зареченск, — не без гордости произнес извозчик, указывая кнутом на раскинувшийся вид. — Господи боже ты мой, родился я здесь, здесь вырос и седую бороду нажил, скоро и на тот свет — пригласят, а вот красотой этой налюбоваться досыта не могу… Изо всех городов расейских — наилучшее место!
Слушая извозчика, я Плотников залюбовался живописным городком, только начинавшим просыпаться. Кричали петухи, кое-где лаяли собаки, кудреватые дымки вились над крышами. Тихий городок, тихие, поросший травою улички, тихая, размеренная жизнь.
Мог ли думать Плотников, что в этом тихом городке его поджидают удивительные события, невольным участником которых станет и он, народный следователь Плотников!..
2. В июне 1911 года
А лет за тридцать с чем-то до того дня, когда Плотников приехал в Зареченск, в городе Брауншвейге, в Германии, был организован традиционный выпускной бал брауншвейгской офицерской памяти фельдмаршала Мольтке школы, который начался ровно в девять часов вечера 21 июня 1911 года.
Едва стрелка часов на остроконечной башне старинного здания городского магистрата коснулась цифры «9» куранты хрипло прозвонили соответственное количество раз, как в распахнутых настежь дверях актового зала появилась группа гостей в сопровождении самого начальника школы — худощавого, чуть прихрамывающего генерал-майора фон Таубе. В огромном белом зале с хорами и лепными колоннами стояли, застыв, как на параде, семьсот воспитанников школы, которым должны были сегодня огласить императорский приказ о производстве восьмидесяти пяти из них в первый офицерский чин германской армии.
Фон Таубе и гости — два генерала и несколько полковников генерального штаба, все в парадной форме, при шпагах и орденах — заняли свои места за длинным столом, покрытым зеленым сукном. Продолжая стоять и храня все то же торжественное молчание, присутствующие выслушали личный приказ кайзера Вильгельма о производстве в офицеры воспитанников школы, окончивших ее в 1911 году.
Торжественный туш заглушил заключительные слова приказа, и официальная часть была объявлена законченной. Воспитанники пяти младших классов были поротно, класс за классом, выведены на вечернюю прогулку, а оттуда отведены в длинные, приготовленные уже к ночи школьные дортуары.
В сопровождении своих командиров и наставников мальчики чинно промаршировали по широкой лестнице вниз, строго по уставу держа равнение налево, старательно и четко печатая шаг.
Воспитанники старших классов и восемьдесят пять только что произведенных офицеров остались в зале, где должен был начаться бал. Из соседних комнат в распахнутые настежь двери хлынули штатские гости, которым имперский воинский устав не разрешал присутствовать при оглашении военного приказа. Это были родители виновников торжества — солидные, полные сознания торжественности момента брауншвейгские бюргеры и окрестные помещики, их чинные пышнотелые супруги, их белокурые и голубоглазые дочки, их родственники, друзья и знакомые.
На хорах грянул медью военный оркестр, испуганно шарахнулась и закачалась освобожденная от чехлов парадная люстра. И пары поплыли в вальсе. Фон Таубе и гости, стоя в стороне, снисходительно наблюдали, как танцует молодежь. Черт возьми, им вспомнилась и собственная молодость, и тот давний выпускной бал в этом самом старом зале, когда виновниками торжества были они сами…
В разгаре бала к фон Таубе быстро подошел адъютант и что-то прошептал ему на ухо. Извинившись перед гостями, фон Таубе проследовал к себе в кабинет. Когда он появился на пороге этой большой комнаты со сводчатыми потолками и тяжелой старинной мебелью, навстречу ему поднялся худощавый человек средних лет в штатском платье.
— Добрый вечер, господин Бринкер, — почтительно приветствовал его фон Таубе.
— Рад вас видеть, мой друг, — чуть покровительственно ответил Бринкер и протянул фон Таубе костлявую руку с множеством старинных перстней на сухих, узловатых пальцах.
Оба сели в кресла друг против друга, лицом к лицу. Бринкер задумчиво жевал потухшую сигару, не торопясь начинать разговор. Он был немногословен, этот Бринкер. Молчал и фон Таубе, отлично усвоивший за долгие годы военной службы золотое правило: никогда не забегать вперед, разговаривая с начальством. А господин Бринкер, хотя на нем был штатский и притом несколько потертый костюм, безусловно являлся начальством в самом прямом смысле этого слова.
— Как бал? — прервал, наконец, затянувшуюся паузу Бринкер. — Как веселятся ваши питомцы?
— Все идет нормально, — ответил фон Таубе, — отличный выпуск, господин Бринкер. В армию приходит прекрасное пополнение.
— Сегодня их, кажется, восемьдесят пять?
— Совершенно точно, господин Бринкер.
— Меня интересует один из них. Что вы можете сказать о Гансе Шпейере?
Чуть заметная тень пробежала по лицу фон Таубе. Дело в том, что Ганс Шпейер приходился ему племянником, а фон Таубе хорошо знал, что еще никогда ведомство, представляемое господином Бринкером, не интересовалось кем-либо бескорыстно. Фон Таубе хотел, чтобы его племянник был офицером, и вовсе не желал ему карьеры по ведомству господина Бринкера.
— О чем вы задумались? — медленно произнес Бринкер, и на мгновение какое-то подобие улыбки появилось на его бесстрастном лице. — Вы задумались? Или вы затрудняетесь дать характеристику своему племяннику? Ведь, если не ошибаюсь, Ганс Шпейер приходится вам племянником?
Фон Таубе мысленно чертыхнулся. Бринкер, как всегда, был отлично осведомлен. Было бы гораздо лучше, если бы он не знал, что Шпейер племянник фон Таубе. Но теперь уже не было выхода, тем более что в последних словах Бринкера был явный намек, звучавший почти как угроза.
— Здоров? — отрывисто спросил Бринкер.
— Да, — ответил фон Таубе, — увлекается спортом, в меру горяч, но не теряет самообладания. Ему сейчас двадцать лет, он одаренный мальчик. Отлично учился и окончил школу одним из первых…
— Воля?
— Мне трудно так подробно ответить на все ваши вопросы, но полагаю, что и с этой стороны все обстоит вполне благополучно.
— Пьет? Любит женщин?
— И то и другое в меру. Шпейер мечтает о военной, чисто военной карьере. Чрезвычайно интересуется аэропланами.
— Очень хорошо. Нас тоже интересуют аэропланы. Очень хорошо. Вот что, пришлите его сейчас ко мне.
Фон Таубе вышел из кабинета и остановился на пороге актового зала. Разгоряченные танцем пары вихрем проносились мимо него. Юные лейтенанты в серых парадных мундирах почти поднимали в воздух своих дам. Блистающая на хорах медь оркестра как бы низвергала из широко разинутых труб водопады звуков, волны которых захлестывали зал.
Но вот в этой пестрой, быстро плывущей толпе мелькнуло молодое лицо с крепкими скулами, глубоко сидящими глазами и несколько тяжелым подбородком. Это и был Ганс Шпейер. Уверенно и ловко он кружил свою даму, влюбленно смотревшую на него. Когда они поравнялись с фон Таубе, тот чуть заметно прикоснулся к плечу Шпейера. Шпейер ответил ему легким кивком и, извинившись перед своей дамой, покинул ее. Подойдя к фон Таубе, юноша щелкнул каблуками и вытянулся, глядя прямо в глаза своему дяде и начальнику.
— Я слушаю, господин генерал-майор, — произнес он привычные слова.
— Пройдите в мой кабинет, — тихо сказал фон Таубе. — Там ждет вас господин, который хочет с вами поговорить. Помните, что, несмотря на штатское платье, это представитель высшего командования.
И, не ожидая ответа, фон Таубе прошел в буфетную. Он не хотел присутствовать при разговоре своего племянника с господином Бринкером.
А разговор этот затянулся на три с лишним часа. Шпейер, в соответствии с полученными указаниями, держался очень почтительно. Человек в штатском начал с расспросов о детстве Ганса, о его школьных успехах, привычках, интересах и даже шалостях. В ходе разговора наблюдательный Ганс заметил, что почти все, что он мог рассказать о себе, уже было известно этому спокойному, сухому человеку в штатском, который вот сейчас сидит против него, неторопливо задает вопросы, внимательно его разглядывает. Да, у него было странное лицо, у этого человека в штатском. Взгляд холодный и вместе с тем очень пристальный, цепкий. Очень спокойно и почти флегматично задавая вопросы, он в то же время непрерывно облизывал тонкие губы, и было в этой привычке что-то беспокойное, настороженное и злое. Пытаясь изредка улыбаться, он чисто механически раздвигал свои узкие губы, но глаза при этом не смеялись и сохраняли свой тусклый, рыбий блеск, а лицо оставалось таким, как было: флегматичным и плоским. И тогда становилось очевидным, что улыбка эта не только не имеет никакого отношения к тому, о чем он сейчас думает, что чувствует и чего хочет, а, напротив, имеет своим назначением все это скрыть от собеседника.
Уже в самом конце разговора господин Бринкер сказал:
— Пора, лейтенант, раскрыть карты. Я — заместитель начальника разведывательного управления генерального штаба. Мы следим за вами с первого класса, с момента вашего зачисления в школу. Нам известно о вас гораздо больше, чем вам самому. Вот приказ о том, что вы откомандированы в мое распоряжение. Завтра утром вы покинете Брауншвейг и поедете в Веленберг. Это маленький городок в долине Рейна. Там наша секретная школа. Еще два года вы будете учиться, лейтенант. У вас подходящая для будущего амплуа внешность. Дело в том, что вы будете работать в России, эти скулы, этот прямой нос, весь этот славянский облик еще пригодятся вам, лейтенант. И нам тоже. По русскому языку у вас отличная отметка. Но вы будете работать над ним еще два года. Вы должны научиться не только превосходно владеть им, но привыкнуть даже и думать по-русски — я хочу сказать, на русском языке. А через два года вы поедете в Россию. Теперь вы понимаете, как высоко мы вас ценим, как серьезно на вас надеемся и как много от вас ждем…
3. Через тридцать лет
До революции Зареченск был глухим городком, стоявшим вдали от железнодорожных узлов, на боковой ветке. В городке этом не было ничего примечательного, кроме большого озера и древней церковки, прославленной тем, что некогда в ней как будто венчался Александр Невский. Когда-то, очень давно, Зареченск стоял на великом торговом пути «из варяг в греки» и бойко торговал льном, рыбой, пушниной и другими товарами. Но потом стремительно возникли новые, гораздо бо́льшие города, открылись иные торговые пути, почти вывелся в окрестных лесах ценный пушной зверь, и городок быстро состарился и заглох.
Уездная жизнь тянулась нудно и размеренно, недели уходили за неделями, привычно сливаясь в месяцы и годы, а зареченцы жили все в том же сонном покое, занимаясь огородничеством и нехитрыми местными промыслами: бочарным и кожевенным делом, валянием шерстяной обуви и изготовлением расписных извозчичьих дуг.
Воскресными вечерами старики любили собираться на завалинках и пережевывать примечательные события зареченской хроники. Любили вспоминать о том, как покойный земский начальник Валерьян Павлович Харинский, большой любитель попариться в бане, имел обыкновение прямо с пару выскакивать голым на мороз и в этом виде нырять в снежные сугробы, после чего он незамедлительно возвращался в раскаленную баню и там вновь начинал париться. И о том, как однажды, прикончив в дымном предбаннике жбан домашней «смородиновой», земский начальник выбежал во двор, свалился в сугроб и там, бедняга, заснув, окоченел.
Старожилы любили также вспоминать рассказы дедов о том, как Наполеон Бонапарт, заняв Зареченск в 1812 году, поставил в церкви Николая-угодника, что стоит и поныне за городским валом, своего любимого коня и как конь этот ночью невесть отчего издох, а император после этого пятеро суток не ел, молча сидел на берегу озера и даже хотел отменить поход на Москву.
Одним словом, было о чем посудачить зареченским старожилам.
Революция пришла в Зареченск в лице балтийского матроса Дубяго, прибывшего в город с аршинным мандатом, в пять дней наведшего порядок, ликвидировавшего местную буржуазию, переименовавшего главную улицу — бывшую Миллионную — в улицу Мирового пожара и, между прочим, женившегося на первой городской красавице Зиночке Туфановой.
Несколькими годами позже в Зареченск прибыли инженеры и строители; вокруг города выросли два комбината: деревообделочный и фанерный. За ними возникла большая спичечная фабрика, и старый, тихий Зареченск стал хоть и не слишком крупным, но все же промышленным городом.
Зареченск сразу как бы ожил и помолодел. Начала издаваться газета. Появился городской клуб. В несколько лет были построены новые, красивые здания. В городе появилось электрическое освещение. На Базарной площади начали строить универмаг.
Одним словом, жизнь приобрела другой характер, другой стиль и размах.
Удивительные события, о которых пойдет речь дальше, начались в Зареченске 21 июня 1941 года с мирного и, казалось бы, незначительного происшествия: в эту субботу в городе было назначено открытие универмага, выстроенного на Базарной площади.
В два часа дня зареченцы собрались у нового здания, с нетерпением ожидая его открытия. Начальник раймилиции товарищ Петухов убедительно призывал граждан к всемерному спокойствию. Витрины универмага были закрыты полотняными маркизами. Еще накануне вечером за этими маркизами кипела лихорадочная работа. По замыслу директора универмага, товарища Бессмертного, центральная витрина, отведенная под мебельную секцию, должна была потрясти воображение зареченцев. В этой витрине, получившей наименование «счастье молодоженов», товарищ Бессмертный поставил роскошную кровать с никелированными шишками, покрытую голубым стеганым одеялом, ночной столик, на котором сияла лампа под розовым абажуром, и полированный древтрестовский шкаф-шифоньер с зеркалом.
И вот по знаку, который подал председатель райисполкома товарищ Максимов, полосатые маркизы медленно поползли вверх, и витрины универмага раскрылись одна за другой. Когда, наконец, дрогнув, как театральный занавес, взвилась вверх маркиза, закрывавшая центральную витрину, толпа разразилась безудержным хохотом: уютно завернувшись в роскошное голубое одеяло и разметав по белоснежной подушке рыжие спутанные кудри, сладко спал на кровати известный всему Зареченску Васька Кузьменко, первый в городе озорник и лучший актер местного драмкружка.
Увидев эту картину, товарищ Петухов со стоном ринулся в универмаг. Лицо товарища Бессмертного приобрело от естественного волнения неестественный фиолетовый оттенок. Толпа покатывалась со смеху.
Между тем товарищ Петухов, как неизбежный рок, ворвался в «счастье молодоженов». Схватив Ваську за пятку и стащив его таким образом с кровати, он опустил маркизу, явно не желая посвящать собравшихся граждан в тайны судопроизводства. Впрочем, через несколько минут он вывел Ваську на площадь, лично конвоируя его в милицию. Необходимо отметить, что Васька, по-видимому, не был особенно удручен этим, так как, едва появившись в подъезде универмага, он послал воздушный поцелуй толпе и даже сделал ей приветственный знак рукой.
Прибыв в раймилицию и сдав злоумышленника своему заместителю с кратким, но внушительным указанием «оформить дело по 74-й и до суда не выпускать», Петухов хотел было вернуться на площадь, но в дверях столкнулся с зареченским старожилом, районным землеустроителем Иваном Сергеевичем Шараповым.
Ивана Сергеевича знал и уважал весь город. В Зареченске он появился давно, еще в 1919 году. Он был лыс, худощав и добродушен. В городе он был популярен как организатор и руководитель местного драмкружка, которому Иван Сергеевич с увлечением отдавал все свое свободное время.
— Здравствуйте, товарищ Шарапов, — приветствовал его Петухов. — Рад вас видеть, но тороплюсь по делам службы: открытие универмага. Васька Кузьменко, сукин, сын, слыхали, чего натворил?! Нет, каков каналья!..
— Я к вам как раз по этому делу, — произнес Шарапов. — Вы его сюда привели, и, признаться, опасаюсь, что не зря…
— Арестован по семьдесят четвертой статье, — коротко разъяснил Петухов. — Хулиганство, то есть озорные действия, сопряженные с неуважением к обществу, в злостных случаях карается…
— Знаю, батенька, чувствую, что карается, потому и прибыл, — произнес, волнуясь, Шарапов. — Беспокоюсь, как бы сие юбилей не покарало, вот почему я за вами бежал… Это в мои-то годы, да при моем сердце…
— Какой юбилей? — спросил Петухов.
— Юбилей драмкружка, — ответил Шарапов. — Сегодня, дражайший, ему ровно десять годков стукнуло. В городском клубе будет торжественный вечер. Небось забыли? Новая постановка показывается — «Свадьба Кречинского». Я в ней играю Расплюева, а Вася — Кречинского. Вы уж меня извините, но придется Васю освободить всенепременно, уважаемый товарищ Петухов. Озорству его не сочувствую, как и вы, поведением Кузьменко возмущен, против законной кары не возражаю, но на освобождении, хотя бы на сегодня, настаиваю.
Товарищ Петухов задумался. Он совсем забыл про сегодняшний юбилей. В городе любили драмкружок, да и сам Петухов, говоря между нами, был большой поклонник сценических искусств. А Васька, хотя и являлся личностью озорной и даже, по глубокому убеждению товарища Петухова, социально-опасной, чувствовал себя на сцене так же просто, как в витрине универмага.
— А заменить его разве нельзя? — неуверенно спросил Петухов.
— Категорически и абсолютно! — с жаром ответил Шарапов. — Роль ответственная, большая. А Вася, злодейская его душа, поверьте — талант! Сумбатов-Южин!..
Товарищ Петухов, услыхав про Южина, не выдержал, вздохнул и отдал распоряжение об изменении меры пресечения. Ваську освободили, взяли с него подписку о невыезде, причем предварительно ему было разъяснено, что если бы не роль Кречинского, сегодняшний юбилей и уважение к Ивану Сергеевичу, то сидел бы он до суда «по всей форме и на законном основании».
— Не усматриваю в действиях своих состава преступления, — нахально ответил Васька. — Нет такого закона, чтобы нельзя было творческому работнику отдохнуть перед выступлением. Я, товарищ Петухов, должен разъяснить вам, что лепить образ — это не протокол составлять… Вы придете в театр и смеяться будете, а мне, может быть, роль Кречинского в муках далась… Я никого не оскорбил, ничего не украл, старуху не зарезал, я только организованно выспался. И все!
— Ступайте, обвиняемый. Я не намерен вступать с вами в дискуссии, — холодно ответил товарищ Петухов. — После спектакля мы вернемся к этому криминальному вопросу. А уж насчет состава преступления не вам говорить. При вашем образе жизни пора бы уже знать уголовный кодекс наизусть.
— Не понята душа поэта, — туманно выразился Васька и весело вышел из милиции в сопровождении товарища Шарапова.
Выручив таким образом Ваську Кузьменко и напомнив ему о необходимости явиться в городской клуб ровно к девяти часам, Иван Сергеевич направился домой.
Он жил за городским валом, на боковой уличке, обсаженной березами и заросшей зеленой высокой травой, на которой играли дети. Его маленький деревянный домик стоял в самом конце этой улицы. Иван Сергеевич жил в нем вдвоем со своей внучкой Тамусей, которая осталась у него после смерти дочери, скончавшейся в 1933 году от туберкулеза. Тамусе исполнилось уже девять лет, она была пионеркой и училась в зареченской школе-десятилетке.
Иван Сергеевич нежно любил свою внучку. Весь город восхищался тем, как внимательно и умело старик воспитывает девочку. И в самом деле, это была трогательная пара — девятилетняя Тамуся и ее старый добродушный дедушка.
Придя домой, Иван Сергеевич стал собираться на спектакль. Он очень увлекался драмкружком, в котором одновременно героически нес обязанности главного режиссера, заведующего репертуаром, художника и ведущего актера. В Зареченске не было профессионального театра, и горожане были благодарны Шарапову за его труды. После каждого спектакля его неизменно вызывали и устраивали ему овацию. Иван Сергеевич выходил смущенный от волнения, по-стариковски неловко раскланивался. И было во всем его облике, в этих морщинах на лице, в застенчивой улыбке и в блестящих от волнения глазах, что-то удивительно привлекательное и располагающее.
— Чеховский персонаж, — сказал о нем как-то рецензент местной газеты Рассветов. — И мягкость в нем какая-то чеховская…
По странному стечению обстоятельств торжественный юбилей зареченского драмкружка начался ровно через тридцать лет после описанного нами выше выпускного бала брауншвейгской офицерской школы, в тот самый день и даже в тот самый час — 21 июня 1941 года.
Юбилей начался с короткого заседания, на котором председатель райисполкома товарищ Максимов произнес речь. Отметив значение драмкружка и личные заслуги в этом деле Ивана Сергеевича, Максимов сказал:
— Мы долго думали, как отметить плодотворную деятельность Ивана Сергеевича на ниве, так сказать, просвещения. И поскольку нам стало известно, что он является страстным радиолюбителем, мы решили преподнести ему радиоприемник как скромное выражение нашей признательности.
При этих словах товарища Максимова оркестр сыграл туш. Заведующий городским клубом незамедлительно вынес на сцену трехламповый, так называемый «колхозный» приемник, который и вручил Ивану Сергеевичу под дружные аплодисменты всего зала, Иван Сергеевич произнес ответную речь. Как всегда, немного сутулясь, он вышел к рампе и взволнованно поблагодарил товарища Максимова и всех собравшихся за оказанное ему внимание.
Потом драмкружок показал «Свадьбу Кречинского», причем Иван Сергеевич отлично исполнил роль Расплюева. В ударе был и Васька Кузьменко — Кречинский. Спектакль прошел с успехом, публика осталась довольна. После спектакля начались танцы.
Было уже поздно, когда Иван Сергеевич вышел из подъезда клуба. Тихо шелестел теплый июньский дождь. Из Заречья доносился заливистый собачий лай. Под ногами после недавнего ливня тяжко вздыхали и чавкали лужи. Городок был уже погружен в сон. Тусклый фонарь, качаясь от резких порывов ветра, бросал на мокрую мостовую колеблющиеся пятна света. Иван Сергеевич поднял воротник пальто и, прижав к груди преподнесенный ему приемник, потихоньку поплелся к себе домой.
Добравшись до дому, старик открыл своим ключом калитку и тихо, стараясь не разбудить спящую внучку, прошел в свою комнату. Затем Иван Сергеевич, не зажигая света, сел в кресло и устало вытянул ноги. В темноте четыре раза прокуковали старинные часы. Было ровно четыре часа утра. Спать, однако, не хотелось, и старик продолжал сидеть, перебирая в памяти детали сегодняшнего дня. К нему незаметно подбиралась дремота.
Внезапно страшный грохот ворвался в нагретую домашнюю тишину. Дом дрожал. Иван Сергеевич бросился к окну. Огромное пламя бушевало в стороне зареченского вокзала, расположенного в двух километрах от города. Еще несколько сильных взрывов донеслось оттуда. По улице, крича, бежали разбуженные люди. Тревожно мычали в хлевах обеспокоенные коровы. Тамуся проснулась и с криком: «Что это, дедушка?» — бросилась к старику.
Но Иван Сергеевич и сам не понимал еще, что случилось. Он выбежал на улицу и, стоя у своего палисадника, увидел, как все больше разгорается пламя в районе вокзала. Один за другим раздались еще несколько взрывов. Вдруг на фоне багрового от пожара неба показался черный, костлявый силуэт самолета, который пикировал на вокзал. Снова взрыв, и снова столб пламени. Сомнений не оставалось — бомбили район вокзала. Война!
Иван Сергеевич бросился к себе и лихорадочно включил свой самодельный старенький приемник. Все германские радиостанции передавали речь Гитлера, который, сыпля проклятия и угрозы, хрипло кричал о войне.
В эту ночь гитлеровская Германия напала на Советский Союз.
4. Война
Никогда не сотрется в нашей памяти первый день войны. В это воскресенье — 22 июня 1941 года — родина слушала речь Молотова, объявившего о коварном и неожиданном нападении Германии на Советский Союз. На сразу притихших площадях больших городов, на заводских дворах и в парках санаториев, в Москве и на Камчатке, в якутской тундре и в Кахетии десятки миллионов советских людей, затаив дыхание, стояли перед радиорепродукторами. Вставшая в это утро для мирного отдыха страна узнала о начале войны.
Мы никогда не забудем, как в несколько минут изменилось в тот день лицо родины, как сосредоточенны и суровы стали вдруг лица людей, как совершенно по-иному пошла, завертелась жизнь.
И маленький Зареченск, как тысячи других советских городов, как вся страна, не растерялся, не дрогнул. Уже с утра городские жители помогали железнодорожникам восстанавливать разрушенные ночной бомбежкой пути, вокзальные пакгаузы и депо. В городе и в районе в образцовом порядке проходила срочная мобилизация. Колонны грузовых машин потянулись к военным складам, расположенным за озером. На фанерном и дерево-обделочном комбинатах уже через два дня вступил в действие график военного производства и заработали военные цехи. К вечеру перешли на казарменное положение только что созданные команды ПВО.
Начались военные будни. Радио непрерывно приносило в Зареченск суровые сводки первых дней войны, правительственные указы, международные новости, инструкции противовоздушной и химической обороны.
Зареченск приобрел особое значение как один из пунктов, в районе которых сосредоточивались военные материалы и запасы для фронта. По железной дороге через Зареченск сплошным потоком пошли к границе военные грузы. Наконец, в районе Зареченска были дислоцированы и людские резервы фронта, ожидавшие направления в действующую армию, на передний край нашей обороны.
Все это вместе взятое превращало Зареченск в важный с военной и стратегической точки зрения пункт.
Жители города были предупреждены о необходимости строго хранить военную тайну, о возможности выброски вражеских парашютно-диверсионных групп, о повышении бдительности в быту и на работе. Через несколько дней были созданы в городе и районе специальные истребительные отряды для вылавливания шпионов, диверсантов и лазутчиков врага. Вскоре в одном из сельсоветов удалось задержать группу подозрительных лиц, неизвестно откуда и как появившихся в этом районе и проявлявших чрезмерный интерес к местонахождению военных складов. Позднее оказалось, что все эти лица — немецкие парашютисты, выброшенные со специальными заданиями.
Через несколько дней колхозницы Гремяченского сельсовета случайно обнаружили в лесу несколько плохо замаскированных парашютов, владельцы которых успели куда-то скрыться. Организованная для их поимки облава не дала никаких результатов. По-видимому, эта группа парашютистов успела перебраться в соседний район.
В эти же дни на фанерном комбинате ночью был произведен поджог большого склада готовой авиационной фанеры. Благодаря бдительности одной из работниц, заметившей легкий дымок, удалось вовремя предотвратить пожар. При этом обнаружилось, что к заднему крыльцу склада чьи-то ловкие руки успели предусмотрительно натаскать охапки соломы, несколько смоляных факелов и шашки тола.
Как всегда бывает в таких случаях, слухи об этих происшествиях распространялись с невероятной быстротой, обрастая все новыми и подчас совершенно фантастическими подробностями. Зареченцы с волнением обсуждали эти факты.
И как раз в это тревожное время случилась беда с внучкой Ивана Сергеевича. Беда началась с летних школьных экзаменов. Тамуся в течение учебного года отставала по русскому языку. Старушка учительница Анастасия Никитична Егорова, прожившая в Зареченске всю свою жизнь, несколько раз обращала внимание Шарапова на плохие отметки его внучки в последнее время. Иван Сергеевич поговорил с Тамусей, и она обещала ему подтянуться и после летних каникул сдать экзамен по русскому языку.
В тот августовский день, когда был назначен этот экзамен, Ивана Сергеевича вызвали в один из сельсоветов. Тамуся на экзамене провалилась. Анастасия Никитична перед всем классом побранила девочку, сказала, что вопрос о ней будет поставлен в пионерском отряде и что, по всей вероятности, ей придется снять красный галстук.
Самолюбивая Тамуся заплакала. Когда все дети разошлись по домам, она осталась в школе и, закрывшись одна в классе, начала что-то писать. По-видимому, это было какое-то важное письмо, потому что она несколько раз его переписывала, а затем пошла в школьную сторожку и попросила у сторожа красных чернил.
— Дядя Сеня, — сказала она, — дай, пожалуйста, немного красных чернил. В классе у нас только фиолетовые, и они сильно кляксятся, а мне надо написать очень важное письмо.
— Дома пиши! — заворчал дядя Сеня. — Уже давно все ученики разошлись, а ты все тут торчишь…
Но чернила он все же ей дал. Тамуся налила их в чернильницу, снова села за парту и принялась за письмо. Но ей не везло: через две-три минуты она случайно опрокинула чернильницу. Красные чернила залили парту и часть письма. От неожиданности Тамуся вскрикнула. Дядя Сеня, убиравший в соседнем классе, пришел на крик и увидел залитую чернилами парту. Вдвоем с Тамусей они стали приводить парту в порядок, после чего рассердившийся старик потребовал, чтобы девочка «сей же минут очистила помещение». Захватив испачканное письмо, Тамуся ушла домой.
А на следующий день утром в кабинет районного прокурора Игната Парфентьевича Волкова прибежал Иван Сергеевич. Вид у старика был ужасный, глаза его блуждали. Сотрясаясь от рыданий, он с трудом сообщил прокурору, что Тамуся ночью повесилась, не выдержав оскорблений, публично нанесенных ей учительницей Егоровой.
— Вот и письмо ее, — рыдая, сказал Иван Сергеевич. — Вот тут все написано… Голубка моя!..
Прокурор взял письмо. На большой листе бумаги, залитом с краю красными чернилами, было написано:
«Анастасия Никитична! Вы жестоко обидели и оскорбили меня перед всем классом!.. Я никому не позволю снять с себя красный галстук, и если бы это случилось, я не стала бы больше жить…»
5. Следователь Плотников
Плотников принадлежал к числу начинающих, романтически настроенных следователей, рассматривающих свою профессию как источник неисчерпаемых возможностей распутывания загадочных преступлений и раскрытия сложных конфликтов и человеческих драм. Еще в институте Плотников мечтал о том, как он, став, наконец, следователем, раскроет десятки «замечательных» дел, проявит изумительное проникновение в тайники человеческой души и прослывет грозой преступного мира.
И вот Плотников — народный следователь в Зареченске. После шумных улиц Москвы, великолепных театров, после веселых студенческих вечеринок — маленький, тихий городок, сонное озеро, деревянные домишки, прочно устоявшийся провинциальный быт.
На работе в районной прокуратуре — неизменно спокойный пожилой, добродушный прокурор Игнат Парфентьевич Волков, большой любитель рыбной ловли. Дела — две растраты в сельпо, разбазаривание горючего в МТС, хищение пшеницы на пункте Заготзерна. Все!
— Где же «настоящие» дела? Где запутанные убийства, дерзкие ограбления, крупные хищения? — уныло спрашивал Плотников у прокурора в первые месяцы своей работы.
— Типун тебе на язык, батенька, — со смехом отвечал Игнат Парфентьевич. — Второй год, как в районе не было ни одного убийства! И прекрасно! Вообще преступность у нас — тьфу, тьфу, не сглазить! — сильно пошла на убыль… Порядок в районе приличный.
— Какой же это порядок, — в искреннем отчаянии восклицал Плотников, — когда нет ни одного хорошего дела? Порадоваться нечему. Одна рыба — мелочь.
Но Игнат Парфентьевич в ответ только добродушно посмеивался, и лишь один раз он рассердился и накричал на Плотникова.
Впрочем, вскоре после своего приезда Плотников еще крепче подружился с дочерью учительницы Егоровой, молодым ветеринарным врачом Шурой Егоровой. Справедливость требует отметить, что после нескольких лодочных прогулок по озеру в обществе Шуры следователь Плотников заметно повеселел и перестал жаловаться на отсутствие «настоящих» дел.
Районный прокурор, очень внимательно следивший за настроениями и бытом своего следователя, был, конечно, в курсе личных дел Плотникова. Как человек тактичный, он никогда на эту тему не разговаривал и лишь слегка посмеивался себе в усы, когда Плотников по вечерам срочно покидал свой кабинет, ссылаясь на «приступ острой головной боли». Успевший искренне привязаться к молодому следователю, Игнат Парфентьевич считал про себя, что Шура — «девица правильная», и вообще она с Плотниковым пара подходящая.
В Зареченске был только один следователь. И прокурор, отлично понимавший всю щекотливость создавшейся ситуации, все же скрепя сердце был вынужден поручить дело о самоубийстве Тамуси Плотникову.
— Придется тебе, — коротко сказал он, делая вид, что не замечает умоляющего взгляда Плотникова. — Больше некому.
— Невозможно это, Игнат Парфентьевич, — произнес Плотников с отчаянием. — Невозможно это по многим обстоятельствам. Ведь Шарапов обвиняет учительницу Егорову в доведении до самоубийства его внучки!
— Ну и что же? — прикидывался непонимающим прокурор. — Дело как дело.
— Да ведь учительница Егорова — мать Шуры, — с трудом выдавил из себя Плотников.
— Дочь за мать не отвечает, — ответил Игнат Парфентьевич.
— Но как же я могу вести дело о матери своей невесты! — почти закричал Плотников. — Ведь для вас не секрет, что я и Шура…
Волков задумался и отошел к окну. Потом он посмотрел на Плотникова и тихо сказал:
— Милый мой, я все знаю, как есть все. Но выхода нет. Кроме тебя, вести дело больше некому. Виновата старуха — будешь ее привлекать. Не виновна — прекратишь дело. Только и всего. В твоей объективности я не сомневаюсь.
— Неэтично. И потом, как я буду смотреть в глаза Шуре?!
— Смотри, как ни в чем не бывало, — ответил прокурор. — Девушка она умная, тактичная. Сама поймет, что служба — прежде всего. Одним словом, милый, приступай.
И Плотников приступил. Как полагается, он прежде всего осмотрел труп и место происшествия. На худеньком лице мертвой девочки застыли широко, как бы в ужасе, открытые глаза. Никаких признаков насильственной смерти при наружном осмотре не оказалось. Записка самоубийцы была написана ею собственноручно. Это в дальнейшем подтвердила и графическая экспертиза.
Оставалось произвести судебно-медицинское вскрытие трупа. Плотников задумался. Дело в том, что в Зареченске не было судебно-медицинского эксперта. Пришлось поручить вскрытие местному хирургу, доктору Осипову.
Врач в присутствии Плотникова произвел вскрытие и написал заключение, согласно которому:
«Смерть покойной Тамары Шараповой, 9 лет, наступила вследствие асфиксии, последовавшей в результате наложения петли на шею покойной. Отсутствие ран, царапин и иных признаков борьбы и насилия в сочетании с запиской, оставленной покойной, приводят к заключению, что в данном случае имело место самоубийство».
Закончив эти формальности, следователь приступил к допросам. Иван Сергеевич подробно рассказал Плотникову об обстоятельствах, при которых он обнаружил рано утром случившуюся беду. По его словам, еще накануне ночью, поздно придя с работы, он застал Тамусю в ее комнате. Она что-то писала за столом и, когда он вошел в комнату, быстро перевернула исписанный листок. Он спросил девочку, почему она не спит. Тамуся ответила, что ей надо повторить уроки. Иван Сергеевич сказал, что уже поздно, и приказал Тамусе ложиться спать, а сам пошел в свою комнату, разделся и лег в постель. Утром, проснувшись, он зашел к Тамусе и застал ее в петле. Тело девочки уже остыло, и признаки трупного окоченения были налицо. На столе лежала ее предсмертная записка.
— Это был тот же листок, который вы видели накануне? — спросил Плотников.
— Да, — ответил Иван Сергеевич, — безусловно, это был тот же листок. Я хорошо запомнил его формат.
— Значит, вы уверены, что Тамуся писала эту записку дома, когда вы ее видели в последний раз?
— Безусловно, — ответил Шарапов. — В этом можно не сомневаться. Именно потому она и перевернула записку.
К концу допроса старик разволновался и заплакал.
— Простите меня, товарищ следователь, — говорил он Плотникову, всхлипывая и сморкаясь, — но поймите: ведь я теперь один на белом свете. Один у меня был свет в окне — моя Тамуся… И вот теперь ничего не осталось. Холодная, одинокая, страшная старость… Старость, которую ничем не согреть…
Плотникову было от души его жаль. Иван Сергеевич очень изменился за эти дни. Он как-то сразу поник, осунулся и постарел. Его неизменно добродушное, приветливое лицо потеряло свою обычную жизнерадостность, глаза ввалились, щеки отекли. Во всем облике Ивана Сергеевича, в его потухшем взоре, в скорбных складках его рта, в частых слезах сквозило неподдельное большое горе.
И Плотникову было понятно, почему убитый горем старик с такой настойчивостью — добивался привлечения к ответственности учительницы Егоровой, которую он считал виновницей гибели Тамуси.
Он требовал ареста Егоровой, показательного суда над ней и строгого наказания.
— Это человек в футляре! — взволнованно говорил он Плотникову. — Это она, старая ведьма, довела Тамусю до петли! Она затравила ребенка! Весь город знает, что Тамуся была здоровой, жизнерадостной девочкой… Я требую суда! Я требую наказания!
— Ну, успокойтесь, Иван Сергеевич, — отвечал Плотников. — Поверьте мне, все будет объективно исследовано и проверено, все станет ясно.
И в самом деле, он добросовестно, с полной объективностью продолжал расследование этого дела, которое в его реестре значилось как «Дело № 187 по обвинению гр-ки Егоровой А. Н. в доведении до самоубийства пионерки Тамары Шараповой».
6. Похороны
Похороны Тамуси состоялись через два дня после патологоанатомического вскрытия. За гробом на кладбище шли Иван Сергеевич и его друзья, школьные товарищи Тамуси и несколько педагогов. Пошел на похороны и Плотников.
На кладбище, возле могилы, перед тем как гроб опустили в землю, Иван Сергеевич не выдержал и зарыдал. Бросившись на маленький гробик, он судорожно вцепился в него руками. Кто-то из присутствующих с трудом оторвал старика от гроба и отвел его в сторону. Когда гроб уже был опущен в могилу, в кладбищенских воротах показалась Анастасия Никитична Егорова. Она опоздала на похороны и торопилась, чтобы успеть проститься с Тамусей. Старуха уже знала о том, что Иван Сергеевич обвиняет ее в гибели своей внучки. Без конца припоминая подробности своего разговора с Тамусей, Анастасия Никитична никак не могла согласиться с тем, что это могло толкнуть девочку на самоубийство. Анастасия Никитична учительствовала сорок с лишним лет. Она отлично знала детскую душу и хорошо учила своих учеников. Тамуся была здоровой, жизнерадостной, немного ленивой, но безусловно способной девочкой. Выговор, сделанный ей учительницей, по мнению Анастасии Никитичны, никак не мог привести ее к самоубийству. Анастасия Никитична любила Тамусю, как и всех своих учеников. Узнав о ее похоронах, старушка решила проститься с Тамусей.
Запыхавшись от быстрой ходьбы, учительница подошла к могиле и остановилась неподалеку.
— Убийца!.. Вон отсюда!.. Как вы смели сюда прийти?! — истерически закричал Иван Сергеевич, увидев Егорову. — Это вы довели ее до — гроба. Бездушная тварь!..
Иван Сергеевич бросился к Егоровой, но его успели удержать. Учительница скорбно смотрела на старика. Потом она тихо, почти шепотом, произнесла:
— Вы ошибаетесь, Иван Сергеевич… Я не убийца… Я любила Тамусю и хотела ей только добра. Но я понимаю ваше горе и не обижаюсь на вас… Вам ведь еще тяжелее, чем мне…
Она повернулась к нему спиной и пошла с кладбища. С минуту после этого стояла тяжелая тишина. Понурив голову, беззвучно плакал Иван Сергеевич. Взрослые и дети, столпившиеся у могилы, старались не глядеть друг Другу в глаза. Потом комья земли полетели в могилу, с мягким стуком ударяясь о крышку гроба.
Плотников стоял в стороне. Ему было не по себе. Интуиция следователя подсказывала ему, что Егорова не виновна. Внутренне он был убежден в этом. Смутно догадываясь, что какие-то совсем иные, пока еще неизвестные причины привели девочку к гибели, Плотников вместе с тем был бессилен это доказать. Формально, с точки зрения всех обстоятельств дела, Анастасия Никитична была причастна к самоубийству Тамуси. С другой стороны, положение Плотникова было крайне щекотливо: он и сам опасался, что его отношение к Шуре невольно влияет на его суждение и выводы.
«Я должен быть объективен, я должен забыть все то хорошее, что мне известно о ее матери», — думал Плотников и незаметно для самого себя как раз и терял эту объективность, настраиваясь против Егоровой. Каждый раз, когда ему в голову приходил довод в пользу Анастасии Никитичны, он придирчиво спрашивал самого себя: «А не потому ли я так думаю, что речь идет о Шуриной матери?»
И вот теперь Плотников оказался свидетелем тяжелой сцены, которая разыгралась у свежей могилы. Он жалел Анастасию Никитичну, но понимал и душевное состояние старика.
Когда над могилой вырос свежий холмик, все стали расходиться.
Кладбище опустело. Плотников присел рядом на пень и закурил. Белые кладбищенские березы тихо шумели над ним. Плотников думал все о том же — о смерти Тамуси, о горе ее деда, об Анастасии Никитичне и о Шуре, которую он не видел уже несколько дней, о войне, которая разгорается все шире. Он объяснил девушке, что до окончания следствия им неудобно встречаться, и Шура — согласилась, с ним. Она ни словом не обмолвилась в защиту своей матери, и Плотников вспоминал теперь об этом с гордостью.
Легкий кашель привлек внимание Плотникова. Он обернулся и увидел старика Шарапова, который тоже остался на кладбище. Иван Сергеевич не видел Плотникова, сидевшего за деревьями. И странно — лицо старика показалось вдруг Плотникову почти спокойным. Иван Сергеевич деловито высморкался, неторопливо размял папиросу, спокойно закурил и затянулся.
Плотникова поразило это удивительное спокойствие старика, который всего несколько минут тому назад весь сотрясался от рыданий, едва держался на ногах и был почти невменяем.
Вернувшись с кладбища домой, Плотников продолжал размышлять об этой разительной перемене в облике Шарапова, и какие-то туманные сомнения возникли у него с новой силой.
Графическая экспертиза установила, что предсмертная записка Тамуси была написана ее рукой. С этой стороны записка не вызывала никаких сомнений. Но кое-что все же казалось в ней Плотникову подозрительным. Плотников не имел еще достаточного следственного опыта, но зато был хорошо подготовлен теоретически. Понимая значение криминалистического опыта в своей работе, Плотников пытался возместить недостаток его, усердно изучая пособия по криминалистике, воспоминания опытных следователей и записки криминалистов. Он понимал, что искусство следователя заключается в умении заметить каждую мелочь, запомнить все детали и, сопоставляя их друг с другом, логически правильно истолковать.
Записка Тамуси была без ее подписи. Известно, что девочки Тамусиного возраста если и решаются в силу каких-то исключительных обстоятельств на самоубийство, то стараются обставить его возможно торжественнее.
«Допустим, — думал Плотников, — что Тамуся и в самом деле решила покончить с собой. Разве она не захотела бы прямо упрекнуть в прощальной записке обидчицу, доведшую ее до самоубийства, и разве, написав об этом, не подписала бы эту записку? Ну конечно, психология девочки ее возраста с повышенной впечатлительностью и некоторой обостренностью рефлексов, хотя бы в силу приближения переходного возраста, должна была продиктовать ей такое письмо. А между тем в записке Тамуси не только нет ее подписи, но даже последняя фраза в ней не закончена, а самый текст в записке залит чернилами…»
В результате этих размышлений Плотников пришел к выводу, что нужно проверить, когда и где именно эта записка была написана и почему она не была закончена.
По показаниям одноклассников Тамуси он точно установил все подробности происшедшего инцидента. Дети припомнили, что по окончании экзамена Тамуся осталась в классе. Тогда Плотников исследовал ее парту и обнаружил, что она сравнительно недавно была залита красными чернилами. Между тем во всех чернильницах в этом классе были налиты фиолетовые чернила. Плотников обратился к школьному сторожу, и тот рассказал ему, как Тамуся попросила красных чернил для какого-то важного письма, как она нечаянно залила парту и письмо этими чернилами и ушла после этого домой.
Убедившись таким образом, что записку свою Тамуся написала днем, за много часов до самоубийства, Плотников решил окончательно проверить этот факт и с этой целью без предупреждения зашел вечером к Ивану Сергеевичу.
— Извините меня, — сказал он старику, отворившему ему дверь, — но мне нужно еще раз осмотреть комнату, в которой произошло несчастье.
— Пожалуйста, — коротко и сухо произнес Иван Сергеевич и проводил Плотникова в комнату Тамуси.
Это была самая обычная провинциальная комната с небольшим рабочим столом, кроватью и шкафом, в котором еще висели платья Тамуси.
Плотников обнаружил, что в чернильнице, которая стояла на столе, были фиолетовые чернила.
— А нет ли у вас в доме красных чернил? — как бы невзначай спросил он Ивана Сергеевича.
— Нет, красных нет, — ответил старик и пытливо взглянул на Плотникова. — А вам, собственно, для чего?
— Дело в том, — ответил Плотников, — что, по вашему утверждению, Тамуся писала свою записку в этой комнате, перед тем как покончить с собой. Между тем записка написана красными чернилами.
Старик еще раз взглянул на Плотникова и, подумав, сказал:
— Да, пожалуй вы правы. Я не заметил в волнении, что записка написана красными чернилами… Значит, я ошибся. Вероятно, Тамуся писала эту записку в другом месте… Впрочем, какое это имеет значение?
Плотников не ответил на этот вопрос. Но он отлично понимал, какое это имеет значение. Было психологически невероятно, чтобы девочка, написавшая записку днем, то есть несколькими часами раньше самоубийства, за это время не успокоилась и не пришла в себя. Кроме того, открытие следователя опровергало первоначальные показания Шарапова об обстоятельствах, непосредственно предшествовавших самоубийству Тамуси.
Но Плотников ничего не сказал старику. Попрощавшись с ним, он пошел к себе на работу.
— Ну, как дела? — спросил его Волков, тоже сидевший в прокуратуре. — Когда ты кончишь дело о самоубийстве?
Плотников сел против Игната Парфентьевича и подробно рассказал ему о возникших у него сомнениях, о сцене на кладбище, о чернилах, о записке, — одним словам, обо всем.
Волков внимательно выслушал следователя и после небольшой паузы сказал:
— Что ж, твои сомнения законны и логичны. Но что отсюда следует? Какова твоя версия?
— У меня еще нет определенной версии, — ответил Плотников, — я ничего пока не могу утверждать. Но я считаю необходимым, чтобы труп Тамуси был эксгумирован и подвергнут повторному судебно-медицинскому вскрытию и чтобы вскрытие это производил специалист, опытный судебно-медицинский эксперт.
— В городе нет такого специалиста, — сказал Волков.
— Знаю. Надо вызвать из области, — ответил Плотников.
Прокурор долго молчал, как бы взвешивая еще раз все доводы следователя, а затем коротко сказал:
— Согласен. Давай телеграмму.
7. Ночной разговор
Через несколько дней из области приехал судебно-медицинский эксперт. Чтобы избежать кривотолков, Волков и Плотников решили произвести эксгумацию трупа ночью. Было уже около трех часов ночи, когда они пришли на кладбище.
Плотников разыскал могилу Тамуси, и ее начали раскапывать. Эксперт готовил к вскрытию инструменты. Волков налаживал переносный электрический фонарь.
Наконец, заступ глухо стукнул о крышку гроба. Плотников спустился в разрытую могилу, обвязал гроб веревкой и крикнул, чтобы поднимали. При тусклом свете слабого электрического фонаря извлеченный из могилы гроб раскрыли и вынули из него труп девочки. Эксперт приступил к работе. Плотников огляделся вокруг со странным чувством. Ему еще ни разу не приходилось присутствовать при ночной эксгумации.
Светлый круг фонаря только подчеркивал глубокую темноту, в которую было погружено кладбище. В руках эксперта тускло поблескивал скальпель, которым он быстро и уверенно работал. Волков стоял в стороне, терпеливо ожидая конца вскрытия. Изредка он поворачивал фонарь, который держал в руках, и тогда луч света вырывал из темноты кладбищенские березы и могильные кресты. Было очень тихо, но и самая тишина эта была какая-то тревожная, настороженная, какая бывает только ночью, на кладбище.
— Нашел! — воскликнул вдруг эксперт, и Плотников, а за ним и Волков бросились к нему. — Все теперь ясно…
И эксперт начал показывать и объяснять. Горловые хрящи девочки были сломаны. Это был тот хорошо известный криминалистам типичный перелом, который происходит, когда жертву душат за горло руками. Странгуляционная же борозда на шее Тамуси была выражена очень слабо.
— Ясно, — заключил эксперт, — что девочку сначала душили руками и только потом, когда она уже потеряла сознание, на нее накинули петлю, чтобы инсценировать самоубийство. Случай очень интересный. Убийство путем насильственной асфиксии с последующим инсценированием самоубийства. Аналогичный факт описан у Крюкова…
Уже на рассвете, когда все формальности были закончены и эксперт подписал протокол эксгумации и свое категорическое заключение, Плотников получил санкцию прокурора на производство обыска в квартире Ивана Сергеевича Шарапова. Написав постановление, Плотников взял с собой двух милиционеров и направился к старику. Около семи часов утра он подошел к домику Шарапова. На стук минут через пять вышел заспанный Иван Сергеевич. Увидев Плотникова и милиционеров, он слегка побледнел.
— Что такое? — спросил он. — Что случилось?
— Ничего не случилось, — ответил Плотников. — Но мне нужно произвести у вас обыск. Вот постановление и санкция районного прокурора.
Обыск уже подходил к концу, но поиски были безрезультатны. Не было найдено решительно ничего такого, что могло бы представлять интерес для дела, что проливало бы хоть немного света на причины гибели Тамуси. Иван Сергеевич молча, злыми глазами наблюдал за тем, как Плотников перелистывал книги, знакомился с документами и старыми фотографиями, рылся в древних сундуках.
Комната Тамуси и смежная с нею столовая были уже обысканы, и сейчас обследовалась личная комната Ивана Сергеевича, в которой стояли его кровать, шкаф с книгами и рабочий стол.
Время от времени Плотников задавал Ивану Сергеевичу вопросы, относящиеся к вещам, обращавшим на себя его внимание. Иван Сергеевич отвечал на эти вопросы коротко и односложно, подчеркивая этим свое возмущение обыском. Однако при этом он был абсолютно спокоен, как человек, уверенный в том, что ему решительно нечего бояться. И только один раз Плотников уловил искру, мелькнувшую в его глазах. Это случилось в ту минуту, когда следователь обнаружил среди кипы старых открыток вид города Брауншвейга.
— Вам приходилось бывать в Брауншвейге? — спросил Плотников.
— Нет, я не бывал за границей, — ответил Иван Сергеевич и тут же добавил: — У меня есть виды и многих других городов: Парижа, Венеции, Рима…
И в самом деле, среди открыток были виды всех этих городов.
В сундуке среди старых документов и журналов Плотников обнаружил вырезанные из «Нивы» фотографии первого русского многомоторного самолета «Илья Муромец».
— Вы, я вижу, интересовались авиацией? — спросил Плотников.
— Интересовался, — ответил Иван Сергеевич. — В то время все ею интересовались. Впрочем, вы, вероятно, этого не помните.
Наконец, обыск закончился. Плотников присел к рабочему столу Ивана Сергеевича, чтобы написать протокол. Стол был завален гербариями, банками и какими-то жучками, старыми конденсаторными лампами, маленькими аккумуляторами, предохранителями и всякой другой радиорухлядью.
— Вы радиолюбитель? — спросил Плотников.
— До войны увлекался. Потом пришлось сдать приемник, — все в том же подчеркнуто сухом и лаконичном тоне ответил Иван Сергеевич.
Сев к столу, Плотников чуть подвинул его, чтобы было удобнее, и заметил, что стол, сдвинувшись одной стороной, остался неподвижен с другой. Сделав вид, что он не обратил на это внимания, Плотников попробовал его сдвинуть. Но левая ножка стола была словно прикреплена к одной точке. Тогда он уже с силою начал двигать стол. Выяснилось, что его левая передняя ножка действительно прикреплена к полу. Плотников приподнял стол и увидел, что через эту ножку под пол пропущен какой-то провод. Иван Сергеевич молча сидел в стороне.
— Что это за провод? — опросил его Плотников.
— От старого приемника. Заземление, — ответил старик.
Ответ был правдоподобен. Тем не менее Плотников поднял половицу, следуя за проводом. Раскапывая землю, Плотников все больше обнажал провод и, наконец, обнаружил какой-то сколоченный из досок ящик. Иван Сергеевич продолжал хранить угрюмое молчание.
Достав топор, Плотников оторвал доски от ящика и увидел довольно большой, поблескивающий никелем и эбонитом радиопередатчик фирмы «Телефункен»…
8. Экскурсия в прошлое
Иван Сергеевич сидит перед столом следователя, прямо против него, и не спеша затягивается дымом предложенной ему папиросы, стараясь спокойно отвечать на вопросы. Иногда он делано смеется, но смех этот горек: старый рот неохотно раздвигается в кривой усмешке, а в глубине зрачков притаился плохо запрятанный ужас, страх перед неизбежным наказанием, досада на свое поражение и — удивительная вещь! — искра надежды. Да, надежды, потому что обвиняемый не перестает надеяться даже тогда, когда его планы потерпели полное крушение и рассудок ясно говорит ему, что расплата неизбежна.
Шарапов был слишком умен для того, чтобы после обыска продолжать сопротивление. Он не находил уже в этом смысла и не чувствовал той фанатической одержимости, благодаря которой иногда обвиняемый, вопреки фактам и доказательствам, вопреки собственной выгоде и расчету на «чистосердечное признание», вопреки всему, коротко говорит «нет», не желая назвать ни одного факта, ни одного имени, ни одного адреса, хотя отлично понимает, что ему не верят и что в его виновности сомнений нет.
Шарапов сразу стал рассказывать все. Он рассказал о выпускном бале брауншвейгской офицерской школы, о том, как вновь произведенный офицер императорской армии Ганс Шпейер уехал, не простившись ни с кем, в маленький городок на Рейне, где еще два года проходил обучение в секретной школе германской разведывательной службы; в этой школе он тренировал свою память, изучал чертежное дело и фотографию, зубрил шифровальные коды, совершенствовался в русском языке и дополнительно ко всему этому овладел профессией землемера.
И вот в августе 1913 года в Гатчинской земской управе появился новый молодой землемер Иван Сергеевич Шарапов. Появился он неожиданно, с назначением из Петербурга, прямо из министерства земледелия, и в управе поговаривали, что новый землемер — лицо влиятельное, с весьма значительными связями. Несмотря на это, он расположил к себе всех своей скромностью, редкостной исполнительностью и примерным образом жизни. Был он очень общителен и отменно воспитан, почтительно относился к старшим, охотно угощал сослуживцев, прекрасно играл в преферанс, умел делать комплименты дамам и весело ухаживать за барышнями. Добавьте к этому приятную наружность, точность и аккуратность, поразительную в этом возрасте солидность — и вы поймете, почему очень скоро после своего появления в Гатчине Иван Сергеевич стал считаться душою общества и завидным женихом.
И в самом деле, через каких-нибудь пять месяцев Иван Сергеевич сделал предложение очень милой барышне, Маше Онисимовой, дочери гатчинского полицмейстера, получил согласие ее и родителей и вступил в законный брак.
После свадьбы он отлично зажил с молодой женой в небольшом домике у парка, полученном в приданое. Он завел широкие знакомства в среде местных чиновников и офицеров гатчинской военной воздухоплавательной школы. На вечеринках, которые очень любили и отлично, умели устраивать Иван Сергеевич и его молоденькая хорошенькая супруга, было неизменно уютно и весело; молодежь любила у них собираться, выпивать по маленькой, заложить польский банчок, петь хором под гитару: «Ах, зачем эта ночь так была хороша…», танцевать только входившее тогда в моду «танго смерти», декламировать Бальмонта:
«Заводь спит, молчит вода зеркальная. Только там, где дремлют камыши, Чья-то песня слышится печальная, Как последний крик души…»Любили также шумной компанией выезжать в окрестности Гатчины на пикники.
Иван Сергеевич импонировал и своей образованностью; он был аккуратным подписчиком «Нивы» со всеми ее приложениями, отличался любознательностью и проявлял, между прочим, большой интерес к воздухоплаванию и авиации — к «аппаратам тяжелее воздуха», как тогда было принято называть самолеты. В те времена увлечение авиацией было широко распространено в России. Со страниц газет не сходили портреты одного из первых русских авиаторов — Сергея Уточкина, лихого одессита, разъезжавшего по стране и показывавшего публике опытные полеты. Гатчинская воздухоплавательная школа являлась центром тогдашней авиационной жизни. В ней обучался знаменитый Петр Николаевич Нестеров, летчик, впервые сделавший «мертвую петлю» и впоследствии геройски погибший на фронте. В мастерских школы секретно строился опытный экземпляр первого в мире многомоторного самолета «Илья Муромец».
«Илья Муромец» чрезвычайно интересовал немецкую разведку. В самом деле, самолет этот был по тем временам огромным событием. В Европе досадовали, что именно русские первыми дерзают строить многомоторный самолет. В Германии предвидели, что в будущей войне, которую тайно подготовлял Берлин, эта машина сыграет немалую роль.
Ганс Шпейер понимал всю серьезность полученного им задания. Он завел дружбу со многими офицерами гатчинской школы и часто встречался с ними. Ему удалось точно выяснить, что «Илья Муромец» строится в мастерских школы. Но проникнуть в эти мастерские, а главное — добыть чертежи и расчеты самолета оказалось делом очень трудным.
В Берлине нервничали и поторапливали «землемера». Все возможные способы получения чертежей самолета были исчерпаны и не дали должных результатов. Даже в военном министерстве не знали толком, что же будет представлять собой этот загадочный самолет.
Наступило лето 1914 года, последнее мирное лето. Переполненные поезда привозили по воскресеньям из столицы нарядную публику. В парке щебетали птицы и барышни. Военный оркестр без отдыха исполнял томные вальсы и тягучие танго. Роскошные дамы в огромных шляпах с перьями, похожих на вороньи гнезда, тонкие, бледные петербургские аристократы, щеголеватые студенты, элегантные купчики в блестящих котелках или соломенных канотье, вертлявые столичные модистки, дорогие кокотки и «звезды» из столичных кафешантанов, надменные гвардейские офицеры в мундирах с иголочки и лакированных сапогах, картавящие штатские пшюты и перезрелые гимназисты гуляли стаями по аллеям парка, любовались мотоциклетными гонками, толпились в гатчинских кафе и кондитерских, флиртовали, сплетничали и вообще развлекались как могли.
В Берлине кайзер Вильгельм нетерпеливо пощипывал усы, рассматривая последние варианты планов генерального штаба. Германская разведка лихорадочно подводила итоги полученных донесений. Генералы тайно примеряли походные мундиры. Под видом летних маневров немцы проводили мобилизацию и поспешно сколачивали новые дивизии. Лето стремительно катилось к июлю, к военной катастрофе. А молодой «землемер» так и не мог получить чертежей и расчетов «Ильи Муромца».
— Как же вы объясняли свою бездеятельность начальству? — спросил Плотников, с интересом слушавший подробный рассказ Шарапова.
— Каждую неделю, гражданин следователь, — ответил Шарапов, — повторяю, каждую неделю я докладывал немецкой резидентуре в Петербурге о тщетности своих усилий. Нужно сказать, что мое начальство понимало трудность задания. Ведь чертежи самолетов и до меня старались получить, но не сумели.
— Я знаю, — сказал Плотников.
— Когда началась война, производство самолетов было передано Русско-балтийскому заводу. «Ильи Муромцы» были все же построены и пущены в дело. На фронте они произвели фурор.
— Все это известно, — перебил его Плотников, — вы рассказывайте о себе. Что вы делали дальше?
Иван Сергеевич начал опять рассказывать. Он рассказал, как переехал после войны в Петроград, где устроился работать на Русско-балтийском заводе. Ему удалось получить там данные о количестве пущенных в производство самолетов и некоторых других видов вооружения. Его деятельность была одобрена. Несколько позже он выехал в одну из западных губерний, где передал ряд шпионско-диверсионных заданий немецкой агентуре, насажденной в этих районах под видом колонистов, мельников, хуторян, аптекарей, владельцев небольших пивоваренных заводов, колбасных и т. п.
— Надо сказать, — продолжал Иван Сергеевич, — что в царской России была огромная сеть германской разведки. Не было буквально ни одного города, ни одного уезда, где бы под той или иной личиной, под тем или иным прикрытием не жил немецкий агент. И вот мне был выделен целый район, в котором я встречался с нашей агентурой, передавая ей задания. Так пролетели три года, и пришла революция. Был заключен Брестский мир. Мое начальство внезапно исчезло из Петрограда. Я растерялся и выжидал, не имея определенных инструкций. Так продолжалось до осени тысяча девятьсот восемнадцатого года. Однажды — это было в ноябре — в дверь моей квартиры постучались поздно ночью. Я уже спал. Жена открыла посетителю двери и разбудила меня. Я вышел в переднюю и увидел… господина Бринкера, моего «крестного папашу». Мы прошли с ним в отдельную комнату. Он поздравил меня с первым Железным крестом и капитанским званием. «Сейчас смутное время, — сказал он. — Германия проиграла войну. Но придет день, и она возьмет реванш. Немецкая разведка на время сворачивается, но отнюдь не перестает жить. Будем ждать». Бринкер добавил, что Германия не успокоится, пока не возьмет реванша, и что к этому реваншу надо уже теперь готовиться. Надо заранее насаждать агентуру германской разведки, создавая «опорные точки» для будущей войны. И он предложил мне «законсервироваться» — уехать в какой-нибудь небольшой городишко, не слишком далеко от границы, мирно жить и тихо работать, врасти в быт этого городка и… ждать указаний. Вот и все. Я приехал в Зареченск и с тех пор живу здесь. Жена вскоре скончалась от тифа. Я остался один с дочерью. Я вырастил дочь, рано выдал ее замуж, но неудачно. Она скоро умерла, оставив мне Тамусю, и, поверьте, я любил девочку, И если бы не эта страшная ночь…
— Почему вы убили Тамусю? — спросил Плотников.
— Это случилось внезапно для меня самого. Поздно ночью я пришел домой из клуба. Тамуся спала одетая. Я прочел ее письмо, которое лежало на столе. Потом я прошел к себе в комнату и начал работать с передатчиком. Дело в том, что за последний месяц у меня скопился материал для передачи.
— Но вы забыли рассказать, как и когда вы получили этот передатчик, — напомнил Плотников.
— Вы правы. Я немного рассеян, — ответил старик. — Это случилось в тысяча девятьсот тридцать седьмом году. Однажды ко мне приехал человек из Смоленска, которого я совершенно не знал. Он объявил мне, что период консервации кончился и что обо мне помнят. Он передал мне приказ Берлина приступить к работе и вручил передатчик. Он же научил меня, как с ним работать. До сих пор мои функции заключались в том, чтобы передавать по радио получаемые от нескольких точек данные в определенные дни. Передача производилась шифром, по короткой волне. С этого и началась моя новая работа. И вот в эту ночь, передавая очередные сведения, я увлекся… Может быть, это произошло из-за усталости. Незаметно для самого себя я стал вслух произносить то, что выстукивал ключом. Вдруг я услыхал детский крик: «Дедушка, что ты делаешь?» Обернувшись, я увидел Тамусю. Она стояла на пороге моей комнаты. Я страшно испугался и, не отдавая себе отчета в происходящем, бросился на нее. Потом вдруг вспомнил об этой записке и решил инсценировать самоубийство. Остальное вы знаете…
Иван Сергеевич замолчал и тупо уставился в угол комнаты. Руки его чуть заметно подрагивали. На виске набухла и трепетно пульсировала старческая фиолетовая жилка. Под глазами отчетливо обозначились набрякшие мешки. Он тяжело дышал. Плотников наблюдал за ним. Некоторое время они молчали, а затем Иван Сергеевич тихо сказал:
— Вот, собственно, и все. Я сам не знаю, для чего я опять взялся за это. Молодость давно прошла, а вместе с нею ушел в вечность и Ганс Шпейер. Эти тридцать лет не прошли даром, гражданин следователь! Вы поймите, русским я был больше времени, чем немцем. Я забыл Германию, я не помню, какая она, иногда мне кажется, что я никогда в ней и не был, что все это сон, чепуха, вымысел… Одним словом, верьте мне, я не могу логически объяснить случившееся. Я уже стар. Впереди у меня нет ничего, кроме могилы. Не думайте, что я хочу вас разжалобить. Это все — правда. Боже мой, как бессмысленно и нелепо прожита жизнь! Я выкурил ее, как дешевую папиросу, и теперь от нее не осталось ничего, даже дыма…
Шарапов опустил голову на стол и заплакал бессильными, старческими слезами.
— Теперь уже поздно плакать, — произнес Плотников, — теперь надо отвечать.
— Я знаю, — сказал Шарапов.
— У вас были в течение этого года люди оттуда? — спросил Плотников.
— Нет, — ответил старик, — не были. Но я не хочу вас обманывать и потому должен сказать, что с неделю тому назад я получил открытку, в которой какой-то племянник Миша извещал меня о своем скором посещении. Я понял, что ко мне приедет немецкий агент. По имеющемуся в открытке обратному адресу я ответил, что буду рад видеть дорогого племянника. Черт бы их всех побрал — этих «крестных отцов» и неожиданных «племянников»!
Плотников задумался. По всей видимости, старик рассказывал правду и выложил все, что знал. Будучи разоблачен, он уже не представлял особого интереса. Но имело смысл заполучить его «племянника». Во всяком случае, об этих новых обстоятельствах надо было, немедленно доложить.
Плотников написал протокол показаний Шарапова и дал его на подпись старику. Тот долго читал протокол и со старческой аккуратностью подписывал страницу за страницей. Наконец, дойдя до заключительной фразы: «Записано с моих слов верно и мною прочитано», он расписался в последний раз.
— На сегодня хватит, — коротко сказал Плотников и, вызвав конвоира, отправил старика в тюрьму.
9. «Племянник Миша»
Органы, которым следователь Плотников сообщил о показаниях Шарапова — Шпейера, естественно, заинтересовались «племянником Мишей». Среди переписки старика была действительно обнаружена открытка, в которой «племянник» уведомлял «дядюшку» о своем предполагаемом приезде.
Эта открытка, как показывал почтовый штемпель, была отправлена из Москвы за несколько дней до ареста Шарапова.
После того как были обсуждены все возможные способы заполучить «племянника», решили, что лучше всего поджидать его в доме Шарапова. И вот в домике этом, на тихой боковой уличке, спокойно поселился какой-то пожилой человек, одного возраста с Иваном Сергеевичем и даже имеющий с ним некоторое внешнее сходство. Новый обитатель дома мирно возился в своем огородике, мало показывался, не заводил знакомств с соседями и вообще ничем не возбуждал любопытства. Он так же, как и Шарапов, немного сутулился, был по-стариковски добродушен, домовит, аккуратен и немногословен. Одежда его была тоже соответствующей: он носил старый мешковатый костюм или холщовую толстовку и в жаркие дни пользовался соломенной каской с двумя козырьками, которые в провинции именовались обычно «здравствуй-прощай».
Одним словом, ни в облике, ни в манерах, ни в поведении этого пожилого спокойного человека не было ничего такого, что выдавало бы советского разведчика с огромным опытом, и большой школой, человека, за плечами которого были царская каторга, партийное подполье, два побега из деникинской контрразведки и многие годы героической чекистской работы.
Человека этого звали Сергеем Михайловичем. Фамилия его была Амосов. Впрочем, с того момента как Амосов поселился в маленьком домике Ивана Сергеевича, он стал называться Иваном Сергеевичем.
О характере человека можно судить по его вещам, так же как о вещах — по характеру их владельца. В подборе вещей, в обращении с ними всегда сказывается человек, его вкус, его привычки, его склонности и слабости. Но и вещи, окружающие человека, в свою очередь, влияют на его характер.
Поселившись в доме Ивана Сергеевича, Амосов присматривался к этому дому и к находившимся в нем вещам с настойчивым любопытством исследователя и с бдительностью человека, который не даст себя обмануть ни вещам, ни людям. Ивана Сергеевича Амосов видел в кабинете Плотникова несколько раз. Он запомнил походку Шарапова, его манеру разговаривать, его лицо. Здесь, в доме Ивана Сергеевича, Амосов пытливо изучал его вещи, его книги, его почерк, его фотографии. Все это делалось потому, что Амосову впредь предстояло играть роль Ивана Сергеевича, действовать в качестве Ивана Сергеевича, казаться Иваном Сергеевичем. И Амосов, как говорят актеры, «входил в образ» того человека, которого он должен был изображать. Из показаний Шарапова ему было известно, что немцы с 1918 года не посещали Шарапова, не имели его фотографий и, следовательно, не представляли себе его теперешнего внешнего облика. Так же как и Плотников, Амосов верил показаниям Шарапова. И теперь он с нетерпением ожидал приезда «племянника».
Прошло уже больше месяца, а «племянник» все не появлялся. Наконец, однажды в поздний час, почти на исходе ночи, осторожный стук в окно разбудил Амосова. Прислушавшись, он убедился, что и в самом деле кто-то очень тихо, но настойчиво стучал в стекло. Амосов быстро оделся и, не зажигая света, прильнул к оконному стеклу. Перед окном в серых сумерках уходящей ночи он разглядел смутные контуры высокой мужской фигуры. Амосов открыл форточку и спросил:
— Кто там?
— Это я, дядя, — ответил шепотом неизвестный.
— Миша! — воскликнул Амосов и, выбежав в сени, быстро отворил дверь.
Мужчина, оглянувшись, подбежал к нему, и Амосов протянул ему руку. Они с любопытством разглядывали друг друга, насколько это было — возможно в полумраке. Потом Амосов проводил своего гостя в комнату и зажег керосиновую лампу. Перед ним стоял высокий, тонкий человек, с длинным, вытянутым лицом. Его глаза смотрели внимательно и пытливо. Он был одет в форму железнодорожника.
— Ну, как ты, Миша, доехал? — очень спокойно и совершенно серьезно спросил Амосов.
— Ничего, — коротко ответил «племянник», одобрительно улыбнувшись серьезному тону старика. — Прилично. Как вы, дядюшка, живете? Давненько я вас не видал.
— Может быть, ты закусишь с дороги? — спросил Амосов.
— С наслаждением, — ответил «племянник». — Признаться, я здорово проголодался. Нет, дядюшка, вы просто прелесть!..
Амосов достал из буфета хлеб, колбасу, масло. Потом он зажег примус и поставил чайник. Гость молча курил. Время от времени они встречались взглядом и почти нежно улыбались друг другу.
— Вы живете один, дядя? — спросил гость.
— Один, — ответил Амосов и, подумав, повторил: — живу один.
Потом «племянник» стал закусывать. Ел он быстро и жадно. Амосов любезно пододвигал к нему тарелки с едой.
Наконец, гость насытился и снова закурил. Отхлебнув из стакана горячего чая, он внимательно посмотрел на Амосова и спокойно сказал:
— Итак, перейдем к делу. Я приехал к вам с очень серьезным поручением от нашего общего начальства. Мне приказано передать вам, Иван Сергеевич, что положение, создавшееся на этом участке фронта, диктует необходимость ряда срочных мероприятий. Согласно вашим же собственным донесениям, в районе Зареченска дислоцированы крупные советские резервы. Судя по некоторым данным, в ближайшие дни русские попытаются перебросить эти резервы в район военных действий. Задача заключается в том, чтобы…
10. КонкретноЕ задание
Пока «племянник» излагал цель своего приезда и конкретное задание, которое ему поручено было передать Ивану Сергеевичу, Амосов с интересом разглядывал своего гостя, не переставая в то же время внимательно слушать его.
«Племянник», по-видимому, был из прибалтийских немцев. Однако он отлично, без всякого акцента говорил по-русски, и только его длинное остзейское лицо, чрезмерно тонкие губы и какая-то особая бесцветность тусклых глаз, называющихся у немцев голубыми, выдавали наблюдательному Амосову его происхождение. Свою мысль «племянник» излагал четко, без лишних слов, с какой-то особой, тоже чисто немецкой аккуратностью. На вид ему было лет тридцать пять, не больше.
Задание касалось нескольких эшелонов с боеприпасами, ожидавших в районе Зареченска указаний о дальнейшем маршруте. Эти боеприпасы немцы решили ликвидировать. План их имел своей целью, с одной стороны, оставить весь этот район фронта без боеприпасов, а с другой — вызвать панику в Зареченском районе, который уже стал прифронтовым.
— Мне поручено передать вам, — сказал «племянник», — что задание должно быть выполнено в самом срочном порядке. Стратегическая обстановка на данном участке фронта такова, что недели через две Зареченск будет уже в наших руках. Наступление идет в отличном темпе. И ваша задача — ускорить события.
— Где именно находятся эшелоны? — спросил Амосов.
— Точно мы этого не знаем. Достоверно установлено только, что они в районе Зареченска. По-видимому, они стоят на одном из ближних разъездов или полустанков. Вряд ли боеприпасы сконцентрированы в самом городе. Я постараюсь облегчить вашу задачу. Именно потому я и явился к вам в роли железнодорожника. У меня, помимо формы, отличные документы. Вот посмотрите…
Амосов ознакомился с документами «племянника». В них было указано, что инженер службы тяги Н-ской железной дороги Михаил Петрович Скорняков командируется в прифронтовые районы Н-ской области для инспектирования паровозного парка. Документы действительно были отлично сделаны и имели безупречный — вид.
— А как с техникой? — спросил Амосов.
— При мне несколько килограммов тола, — ответил «племянник». — На первое время этого более чем достаточно. Но дело не в этом. Имеются ли у вас надежные люди?
— Вам должно быть известно, — ответил Амосов, — что я не имел права ни с кем вступать в контакт. Я был законсервирован и все эти годы работал один, и то лишь по связи.
— Знаю. Однако, прожив в этой дыре столько лет, вы, конечно, завели прочные знакомства, изучили людей, присмотрелись к ним?
— Людей я знаю, но никого твердо рекомендовать не могу. Впрочем, надо подумать. Я не был подготовлен к такому делу.
На этом первый разговор окончился. Амосов предложил своему гостю отдохнуть, и тот с радостью принял это предложение. Устроив «племянника» в спальне и убедившись, что он заснул, Амосов вышел во двор и принялся обдумывать создавшееся положение. Сразу арестовать «племянника» не имело смысла. Он, вероятно, еще не все рассказал: не было выяснено, имеет ли он в Зареченске еще какие-нибудь явки, кроме Шарапова. Судя по внешности и манерам этого человека, он был далеко не рядовым шпионом. Приехал он из Москвы, где, по его словам, он жил много лет. Следовательно, он в Москве должен был иметь связи и корни, которые необходимо было выяснить. При этих условиях имело смысл продолжать игру.
Опасность таилась в данном случае в том, что «племянник» мог случайно узнать от кого-либо из зареченцев, что принял его вовсе не Иван Сергеевич Шарапов.
Тщательно обдумав всевозможные варианты и взвесив могущие встретиться осложнения, Амосов решил продолжать игру, приняв все меры к тому, чтобы никакая случайность его не выдала.
«Племянник» проснулся в полдень. Амосов предложил ему закусить еще раз. За столом оба выпили и снова разговорились.
Гость, по-видимому, ни в чем не сомневался. Амосов ловко вставлял в разговор воспоминания о брауншвейгской школе, пароли прошлых лет, позывные передатчика — одним словом, все то, что было ему известно из показаний Шарапова.
— Вы прошли хорошую школу, — произнес «племянник», — надо сказать, что старые кадры немецкой разведки были отлично подготовлены. В этом смысле наше поколение может вам только позавидовать.
— Ваша работа — лучшая школа, — возразил Амосов. — Ну что толку было получать специальное образование? Я сидел в провинции много лет, в сущности ничего не сделал, постарел и многое уже позабыл. Ведь я даже старался не разговаривать по-немецки.
«Племянник» улыбнулся и тут же заговорил по-немецки. Амосов, хорошо владевший этим языком, по-немецки же ему ответил. После нескольких фраз «племянник» оказал, что Иван Сергеевич скромничает, так как отлично владеет родным языком.
— А мне казалось, что я утратил немецкое произношение, — сказал Амосов. — Приятно, что это не так. По-видимому, муттершпрахе не забывается. Впрочем, я всегда старался думать по-немецки. А вот вы владеете русским языком, как — родным.
— Это не удивительно, — сказал «племянник», — я все последние годы прожил в Риге. А там русский язык и до советизации Латвии был в обиходе. Кроме того, я в свое время учился в русской школе. Однако, Иван Сергеевич, хорошо бы поразмять ноги. Далеко ли отсюда вокзал?
— В двух километрах, — ответил Амосов, — Кстати, вы посмотрите город. Пойдемте, я вас провожу.
Они вышли на улицу. Стоял жаркий сентябрьский день. На дворе почти никого не было.
— Здесь довольно пустынно, — произнес «племянник». — Что, так всегда?
— Провинция, — ответил Амосов. — А кроме того, в это время дня гуляющих нет, да и живу я почти на окраине. Вот в центре города будет поживей. Нам как раз нужно пройти по центральной улице.
На центральной улице было действительно гораздо оживленнее. С вокзала тянулась длинная колонна военных грузовиков, по-видимому только что сошедших с железнодорожных платформ. «Племянник» внимательно разглядывал машины, нагруженные, доверху какими-то ящиками.
— Мы удачно вышли, Иван Сергеевич, — сказал он. — Как видите, прибыла большая партия боеприпасов. Пройдемте на вокзал и постараемся выяснить, откуда прибыл эшелон. Кстати, хорошо бы узнать, куда направляются эти грузовики. Вы не в курсе дела?
— Нет, — ответил Амосов. — Знаю только, что отсюда дорога на Ольховский большак. Но там, по-моему, нет никаких складов.
Когда они пришли на вокзал, там еще продолжалась разгрузка прибывшего эшелона. С длинных товарных платформ осторожно сползали по подставленным доскам тяжелые грузовики.
Эшелон был большой, в сто платформ. «Племянник» обошел весь состав, а затем вызвал старшего кондуктора эшелона. Когда тот подошел, «племянник» предъявил ему документы.
— Как работали стоп-тормоза? — деловито спросил он. — На подъемах тяга не подводила?
— Нормально шли, — коротко ответил кондуктор.
— По пути меняли паровоз?
— Нет, шли одним, — ответил кондуктор.
— В каком депо брали?
— В Н-ске, — ответил кондуктор. — Там и состав формировался.
Больше «племянник» вопросов не задавал. Немного погодя он вынул записную книжку и отметил название станции, в которой, по словам кондуктора, формировался состав, и названное ему Амосовым Ольховское шоссе.
После этого он зашел к начальнику станции и снова предъявил свои документы. Начальник по его требованию доложил ему, как обстоит дело с маневровыми и резервными паровозами.
Эти данные представляли для «племянника» большой интерес, так как по ним он мог получить представление о грузообороте станции, а главное — о предполагаемых перевозках.
— Если в такое время они держат здесь столько резервных и маневровых паровозов, — объяснил он потом Амосову, — то несомненно, что эшелоны, о которых я вам говорил, находятся где-то неподалеку и в любой момент могут быть переброшены к фронту… По-видимому, что-то готовится, так как, по словам начальника станции, вчера прибыло сюда без его заявки пять паровозов. Нам надо торопиться.
Он оказался прав. Когда они вернулись в город, то заметили, что в райкоме, в районном совете и в других учреждениях грузят дела и ценный инвентарь на грузовики.
Служащие толпились у машин с взволнованными лицами.
Было ясно, что некоторые учреждения готовятся к эвакуации.
Потом им встретилась колонна грузовиков, направлявшаяся к вокзалу.
Машины везли станки, оборудование лесопильных заводов и фанерного комбината.
— Мне кажется, — оказал «племянник», — что уже идет эвакуация учреждений и оборудования местных заводов. Уж не подходят ли наши?.. Надо спешить со взрывом.
Амосов ничего ему не ответил. Он и сам понимал, что началась срочная эвакуация Зареченска. И именно поэтому он ни на минуту не оставлял «племянника», решив любой ценой предотвратить взрыв железнодорожных составов. А к вечеру на станции Зареченск не осталось ни одного из воинских эшелонов.
11. Эвакуация
Приказ военного командования об оставлении Зареченска и спешной эвакуации учреждений и промышленного оборудования был получен внезапно. В суточный срок должно было быть, перевезено наиболее ценное имущество и все дела советских учреждений. Промышленное оборудование должны были сопровождать рабочие соответствующих предприятий. Линия фронта стремительно приближалась к городу.
Поздно ночью, когда подвыпивший за ужином «племянник» спал — мертвым оном, Амосов вышел из дому и в условленном месте встретился со своим начальником. Последний информировал Амосова о полученном приказе и спросил его, как идут дела.
Амосов доложил начальнику о цели прибытия «племянника» и обо всем, что он успел за это время у него выведать.
— Его можно взять хоть сейчас, — сказал он, — но вряд ли это целесообразно. Несомненно одно: он абсолютно мне доверяет. Шарапов не обманул нас. По-моему, имеет смысл продолжать игру и вести ее как можно дольше. Упустить такую возможность было бы ошибкой.
— Вы считаете, что вам имеет смысл остаться в городе? — спросил начальник, сразу понявший план Амосова.
— Имеет смысл, — ответил Амосов. — Ну подумайте сами. Возьмем мы этого мерзавца, конечно одним прохвостом будет меньше. Но что же дальше? Между тем если остаться с ним и войти полностью в доверие к немцам, мы выясним очень многое, а главное — сумеем немало сделать. Кроме того, ведь останется в Зареченске и подпольная партийная группа, а в районе будет действовать партизанский отряд. И тем и другим будет полезно иметь верного человека, которому немцы доверяли бы вполне. По-моему, имеет смысл.
Предложение Амосова было принято. Договорившись о подробностях, условившись о форме и технике связи и получив адреса и фамилии нескольких лиц, Амосов простился с начальником. На прощанье они молча пожали друг другу руки и обменялись долгим взглядом.
Было уже совсем поздно, когда Амосов пошел к себе домой. В черном сентябрьском небе тревожно вспыхивали зарницы далеких орудийных выстрелов. Гул артиллерийской стрельбы доносился еще слабо, но багровые вспышки уже предостерегали город о приближавшейся опасности. Несмотря на поздний час, эвакуация была в самом разгаре. По темным ночным улицам тянулись колхозные стада, на скрипящих телегах ехали старики и дети, женщины, понурив головы, шли за ними. Городские жители зарывали в ямы наиболее ценное имущество. Плач детей, рев испуганного скота, скрип телег и тревожное ржание лошадей сливались в одну горькую симфонию.
Амосов подошел к своему дому и остановился у калитки. Движение на улице не прекращалось. Страшная беда приближалась к городу с каждым часом. И в ожидании этой беды, готовый встретиться с нею лицом к лицу, оставался в Зареченске этот спокойный пожилой человек.
Но немцы пришли раньше, чем их ждали. Не все объекты, намеченные к эвакуации, удалось вывезти. В частности, не успели эвакуировать заключенных городской тюрьмы.
В этот сентябрьский вечер тяжелый немецкий снаряд начисто скосил угол тюремного здания. Растерявшись от свободы, явившейся к ним столь неожиданно, заключенные столпились у ворот тюрьмы, точнее — у того, что осталось от этих ворот. Напротив полыхали дома, зажженные снарядами. В багровом зареве пожара мелькали, как на экране, темные фигуры жителей, бежавших от врага.
Первыми влетели на улицу Зареченска мотоциклисты-эсэсовцы. Они непрерывно и беспорядочно стреляли из автоматов, укрепленных на рулях их машин. На перекрестке один из них круто затормозил и, спрыгнув с мотоцикла, бросился к женщине, которая бежала с ребенком и большим узлом. Выкрикивая что-то на своем языке, фашист стал вырывать из рук женщины узел. Девочка, которую женщина держала за руку, заплакала и стала помогать матери, не желавшей отдавать свое последнее добро. Обернувшись к ребенку, эсэсовец раскроил ему череп прикладом своего автомата.
Это произошло мгновенно, на глазах у заключенных, все еще стоявших возле тюремных ворот. Многие из них хорошо знали эту девочку. Она жила напротив городской тюрьмы и часто играла на улице. Заключенным было известно, что девочку зовут Женей, и слова детских песенок, которые она любила распевать, знали в тюрьме наизусть. Порой, когда Женя начинала петь, камеры дружно подхватывали песню.
И вот теперь эту девочку убил белокурый фельдфебель.
Мать Жени закричала так страшно, так пронзительно, что крик ее, сразу заглушивший треск стрельбы, казалось, прорезал весь объятый тьмою город от края до края.
И в то же мгновение, не раздумывая, не сговариваясь, даже не оглянувшись, заключенные бросились на фельдфебеля.
Едва успев вскинуть автомат, он тяжело рухнул на землю.
А заключенные пошли на восток.
Они пошли на восток так же, как бросились на эсэсовца, — не раздумывая, не сговариваясь, не рассуждая.
Они пошли в строю, организованно и дружно, как одно небольшое соединение.
Они проходили улицы, корчившиеся в пожарах, поля, истоптанные врагом, леса, расстрелянные в упор, дороги, изрытые разрывами бомб. Они проходили через окровавленные села и обуглившиеся деревня, по искалеченной, измученной, замолкшей земле.
На вторые сутки они пришли в областной центр и выстроились у здания прокуратуры. Уже знакомый нам Васька Кузьменко, отбывавший наказание за допущенный им хулиганский поступок, был среди них. Как наиболее культурный из заключенных, он, по их просьбе, прошел в кабинет прокурора и коротко изъяснил ему суть дела.
— Гражданин прокурор, — сказал он, — имею доложить, что с марша прибыли заключенные из зареченской тюрьмы.
Прокурор выглянул в окно и увидел группу людей, нетерпеливо переминавшихся с ноги на ногу и выжидательно заглядывавших в окна его кабинета.
— А вы кто такой? — опросил прокурор, с интересом разглядывая курносую, задорную физиономию Васьки.
— Уполномоченный, — с большим достоинством, не моргнув глазом, ответил Кузьменко. — Ихний уполномоченный. Фамилия — Кузьменко, статья семьдесят четвертая, часть вторая.
— Срок? — коротко спросил прокурор, сразу поняв, что имеет дело с человеком бывалым, который поймет его без лишних слов.
— Два года. Имею два «хвоста», но без поражения прав.
— За что «хвосты»?
— Все по той же, семьдесят четвертой, — вздохнул Кузьменко. — Исключительно, гражданин прокурор, страдаю по одной статье. Одним словом, за озорство. Не могу никак уложить свой характер в рамки уголовного кодекса. Нет-нет да и выкину что-нибудь… Я даже к врачам обращался, да все без толку. «Современная, говорят, медицина еще до этого не дошла».
— А где же конвой, путевка? — перебил Ваську прокурор.
— Разрешите доложить — конвоя ввиду военной обстановки добыть не представилось возможным. Который в тюрьме был, то снарядом поубивало, а прочие исчезли. Пришлось идти самоходом. Что поделаешь, время военное, капризничать не приходится. Но ничего — прошли аккуратно. Потерь и побегов нет. Один только с немцами остался паразит.
— Фамилия? — спросил прокурор.
— Моя или паразита? — не понял вопроса Кузьменко.
— Его.
— Трубников, — произнес Кузьменко. И, подумав, добавил: — Ну, а как теперь насчет благоустройства? Куда прикажете садиться?
Убедившись, что Зареченск оставлен, эсэсовцы организовали торжественное вступление в город. Сначала церемониальным маршем в Зареченск вошла пехота.
Вслед за пехотой пошли танки, а за ними влетели штабные машины с офицерами. Впереди ехали в открытой машине кинооператоры и снимали «занятие Зареченска». Когда церемония была закончена, к группе офицеров подъехал на «опель-адмирале» пожилой генерал с моноклем в запавшей, как у мертвеца, глазнице. Он принял рапорт от одного из офицеров, коротко дал какие-то указания и уехал обратно. Оставшиеся в городе офицеры начали устанавливать «новый порядок». Прежде всего надо было найти подходящего бургомистра. Выбор пал на единственного заключенного, оставшегося в Зареченске, Трубникова. Он был осужден за растление малолетних. Отец Трубникова в свое время был расстрелян за участие в белой банде.
Трубников был маленький рыхлый человек, с узкими, бегающими глазками и толстыми, всегда влажными губами, которые он имел привычку часто вытирать тыльной стороной руки. Его оплывшее бабье лицо всегда имело сонный вид, и лишь маслянистый беспокойный блеск глаз свидетельствовал о том, что в этом толстом, ленивом теле непрерывно тлеет нечистое, воровское желание.
Трубников незаметно улизнул из группы заключенных в тот момент, когда они набросились на фельдфебеля. На перекрестке Трубников подошел к немецким офицерам и попросил доставить его к военному коменданту.
Его задержали, а на следующее утро вызвали на допрос. Допрашивали два офицера, один из которых сносно говорил по-русски.
Трубников поспешил отрекомендоваться и объяснил, что его отец был расстрелян за борьбу с большевиками, а сам он тоже, дескать, имел от них большие неприятности. Он хотел было обойти молчанием вопрос о преступлении, за которое его судили, но среди документов, отобранных у него при задержании, оказалась копия судебного приговора. Офицер, говоривший по-русски, со смехом прочел этот документ и что-то сказал по-немецки другому офицеру. Потом он прямо заявил Трубникову:
— Вот что, господин Трубников. Нам нужен такой верный, такой надежный человек, на которого германское командование могло бы положиться. Кажется, судя по всему, вы именно такой… Нам нужен бургомистр, понимаете, хозяин города, мэр — одним словом, президент города… И мы говорим вам — вам, господин Трубников, а не какому-нибудь другому лицу — в добрый час. Вы меня понимаете?
— П-по-н-нимаю, господин офицер, ваше благородие, — несколько запинаясь, ответил Трубников. — Вот только как насчет образования, ведь у меня — всего шесть классов… Насчет старания не извольте и беспокоиться, насчет преданности и говорить не хочу, а вот с образованием прямо скажу…
— Господин Трубников, — перебил его офицер, — германское верховное командование намерено плевать на ваше образование. Нам нужна преданность, нох айн маль — преданность, и еще раз преданность. А мы вам поможем.
На следующий день в приказе, расклеенном по Зареченску, было объявлено, что бургомистром города назначен Степан Иванович Трубников и что «ему германское военное командование вверяет всю полноту власти и поручает организацию образцового гражданского порядка, поддержание чистоты, благоустройства и заботы о здоровье и культурном обслуживании уважаемого населения».
И Трубников приступил к своим новым обязанностям.
Через несколько дней после занятия немцами Зареченска командир вступившей в город эсэсовской дивизии, генерал-майор фон Крейчке, поселился в специально отведенном ему особняке на главной улице. Амосов и его «племянник» явились на прием и просили адъютанта доложить о себе. По паролю, названному «племянником», оба были незамедлительно приняты. Они вошли в кабинет, и уже знакомый нам генерал с моноклем поднялся им навстречу. Он снисходительно протянул им маленькую, высохшую руку.
— Разрешите представиться, господин генерал, — произнес по-немецки Амосов. — Ганс Шпейер.
— О, герр Шпейер, — снисходительно улыбнулся генерал. — Мне рассказывал о вас обер-штурмбаннфюрер Гейдель. Это вы прожили в России чуть ли не век?
— Ну, положим, не век, но довольно много лет, господин генерал, — ответил Амосов.
Поздоровавшись с «племянником», генерал тут же простился с ним и с Амосовым, пригласив их зайти к нему позже в штаб.
Амосов и «племянник» пошли к себе домой. «Племянник», полный радости от того, что немцы пришли так скоро, выпил и лег спать. Амосов вышел в огород, чтобы покурить. Его несколько смутила осведомленность генерала о Гансе Шпейере.
«Видимо, — думал Амосов, — об этом Шпейере заранее с чисто немецкой аккуратностью предупредили генерала — дескать, существует в Зареченске такой человек. Но кто такой этот обер-штурмбаннфюрер Гейдель и что ему, кроме фамилии, известно о Гансе Шпейере? И все ли рассказал на следствии Шарапов или утаил что-нибудь важное?..»
Амосов задумался о том, какие виды на Шарапова — Шпейера могут теперь иметь гитлеровцы. Захотят ли они использовать его в качестве бургомистра, начальника полиции или вздумают и впредь поручать ему шпионские задания, перебросив с этой целью в советский тыл?., Оставаться в Зареченске было опасно, так как рано или поздно могло выясниться, что он вовсе не Шарапов. С другой стороны, надо было заранее придумать уважительную причину для того, чтобы отказаться работать в Зареченске.
Амосов знал, кто из зареченских коммунистов остался в городе на подпольном положении и кто из местных жителей должен был держать связь с партизанским отрядом. В тот вечер, когда он простился со своим начальником, последний сообщил ему, что связь с партизанским отрядом он сможет держать через старушку учительницу, Анастасию Никитичну Егорову, или через ее дочь, молодого ветеринарного врача Шуру. Обе они также были предупреждены об Амосове, которого раньше не знали.
Подробно обдумав свое дальнейшее поведение и предстоящий разговор с генералом, Амосов вернулся в дом и разбудил «племянника». Угостив его чаем, Амосов напомнил, что пора идти в штаб. Было еще светло.
У немецкого постового, стоявшего на площади, Амосов с «племянником» узнали, что штаб разместился в здании горсовета на главной улице. Явившись туда, они назвали свои фамилии и вскоре были пропущены в здание.
Генерала они застали за ужином в кабинете председателя горсовета. Он приветливо улыбнулся им и предложил присесть. Пока генерал с аппетитом уничтожал яичницу, «племянник» подробно информировал его о целях своего приезда в Зареченск и сказал, что, когда его направили сюда из Москвы, он, и не предполагал так скоро очутиться в обществе немецкого генерала.
— О да, — вытирая салфеткой рот, произнес с самодовольной усмешкой генерал, — эта операция нам удалась превосходно. Командование чрезвычайно довольно темпами наступления. Правда, на последнем рубеже мы имели серьезные потери, но они стоят этого броска на восток. Однако сейчас дело не в этом. Надо поскорее навести порядок в городе. В этом деле мы рассчитываем на вас, господин Шпейер. Господин Гейдель рекомендовал мне советоваться с вами. Вы давно здесь живете, считаетесь русским, являетесь, наконец, представителем местной интеллигенции.
— Я готов выполнить любое приказание, — ответил Амосов, — и признателен за доверие вам и господину Гейделю.
— Оно вами заслужено, — сказал генерал. — Так начинайте действовать.
— Сегодня Зареченск, — начал Амосов, — важный фронтовой город, но через какой-нибудь месяц он станет глубоким немецким тылом. Какой же смысл оставлять меня в нем? Или вы думаете, что Ганс Шпейер уже так стар, что на большее не годится?
— В том, что вы говорите, Шпейер, есть резон, — медленно протянул генерал, — и я лично готов согласиться с вами. Но дело в том, что вы находитесь не в моем распоряжении. Пусть этот вопрос окончательно решит господин Гейдель, так как это входит в его компетенцию. Тем более что, насколько мне известно, он отлично вас знает, Шпейер.
— Откуда? — улыбнулся Амосов, хотя ему было совсем не весело. — Ведь, живя в этом городе, я не встречался ни с кем из немцев!
— Может быть, я путаю, — ответил генерал, — но господин Гейдель встречался как будто с вами в прошлую войну в Петербурге. Впрочем, он скоро должен прибыть сюда, и тогда вы сами уточните, где именно и при каких обстоятельствах с ним встречались.
В Петербурге?.. Амосов стал лихорадочно припоминать все, что рассказывал Шарапов об этом периоде своей жизни. Гатчинская воздухоплавательная школа, тщетная попытка украсть чертежи «Ильи Муромца», начало войны, переезд в Петербург, работа на Русско-балтийском заводе, революция… Черт возьми, ни о каком Гейделе Шарапов не сказал ни слова! А если они в самом деле виделись, то запомнил ли этот проклятый Гейдель лицо Шпейера — Шарапова? Ведь с того времени прошло столько лет…
Пока в голове Амосова вихрем проносились эти мысли, генерал разговаривал с «племянником».
Разговор прервал адъютант, который вошел в комнату и громко доложил:
— Обер-штурмбаннфюрер господин Гейдель!
Генерал приятно улыбнулся и встал. В соседней комнате под чьими-то грузными шагами заскрипел пол, и в комнату вступил тяжелой походкой очень тучный, уже немолодой человек с оплывшим бабьим лицом и маленькими глазками.
— Здравствуйте, герр Гейдель, — произнес генерал. — Я очень рад вас видеть.
— Рад и я, — высоким, почти женским голосом ответил Гейдель. — Уф… Я чертовски устал… Эти азиатские дороги… Мой «адмирал» едва одолел их…
— Садитесь, отдохните, — сказал генерал. — А пока разрешите представить вам вашего старого знакомого — Ганса Шпейера…
Амосов подошел к Гейделю, глядя ему прямо в лицо. Гейдель с неожиданной для такой объемистой туши живостью вскочил, повернулся к Амосову и, осклабив сверкающий золотыми зубами рот, протянул ему обе руки. Глазки Гейделя с интересом и острым любопытством, впились в лицо Амосову, а затем забегали по всей его фигуре, словно ощупывая ее.
— Здравствуйте, Шпейер, — пропищал он все тем же, удивительным для его огромной фигуры голоском, — как быстро летит время! Боже мой, сколько лет!.. Но я отлично помню вас, мой друг!.. Как же, как же, воспоминания молодости бессмертны, как любовь, и душисты, как мед. Вот именно, душисты! Ну-ка, милейший, пойдем поближе к свету, к окну, я должен хорошенько вас разглядеть… Глядя, как изменился друг, которого давно не видел, начинаешь понимать, как изменился ты сам…
И Гейдель схватил Амосова за руку и потащил его к окну — в комнате уже начинало темнеть.
12. Дела личные
С Шурой Егоровой, как мы оказали, Плотников познакомился еще до войны, в Москве.
В Зареченске Плотников и Шура часто встречались. Они проводили вместе вечера в окрестностях городка, на озере, за рекой. В это самое время и возникло в производстве Плотникова «Дело № 187 по обвинению гр. Егоровой А. Н. в доведении до самоубийства пионерки Тамары Шараповой».
С того дня Плотников, как известно, перестал встречаться с Шурой. Он не без основания считал, что не имеет права встречаться с дочерью своей подследственной до окончания следствия по этому делу. Его точку зрения вполне разделяла и Шура; она согласилась с Плотниковым, что лучше на время прекратить их встречи, чтобы не ставить его в неловкое и двусмысленное положение.
Это решение было не легким для обоих. Свободные от работы вечера, которые раньше они так радостно проводили вместе, тянулись теперь нудно и томительно. Плотникову стоило немалых усилий, проходя мимо знакомого Домика с палисадником, удержаться от того, чтобы не постучать в окно или в калитку.
Неожиданный поворот дела № 187 вдвойне порадовал Плотникова. Дело по обвинению Егоровой было им прекращено за отсутствием состава преступления. Об этом Плотников с великой радостью объявил, как полагается, по всей форме Анастасии Никитичне, вызвав ее к себе в кабинет.
Перед эвакуацией города Плотников был вызван в райком партии. Секретарь райкома коротко сообщил Плотникову о полученном приказе. Сидевший тут же Волков спросил:
— Ну, как ты? Поедешь или… останешься?
— Где останусь? — не понял его Плотников.
— Партийный актив уходит в лес, партизанить, — ответил Волков. — Так что ты езжай, брат, в область.
— Я ничего там не забыл, — рассердился Плотников. — И у вас нет никаких оснований не включать меня в партизанский отряд.
В ту же ночь Плотников вместе с другими коммунистами ушел из Зареченска. Отряд расположился в лесном массиве в Гремяченском сельсовете. Многолетний хвойный лес тянулся на несколько десятков километров и был почти необитаем, если не считать находившихся в нем лесных сторожек. Секретарь Зареченского райкома Попов, человек средних лет, со спокойными глазами и неторопливой речью, принял на себя командование отрядом. Старик Волков был назначен начальником штаба.
Первые дни после прихода немцев в отряде было не более ста человек. В основном он состоял из местных активистов. Однако в дальнейшем отряд стал пополняться колхозниками, узнавшими о его существовании и примыкавшими к нему и группами и в одиночку.
Кроме того, часть коммунистов осталась в Зареченске на нелегальном положении. Связь между отрядом и подпольной партийной организацией должна была поддерживаться через Анастасию Никитичну Егорову. Шура Егорова вначале тоже была зачислена в отряд — она хотела быть вместе с Плотниковым — и первые три недели провела с партизанами. Но потом командование отряда решило, что отсутствие Шуры неизбежно навлечет подозрение немцев на ее мать. Поэтому Шуре было приказано вернуться в Зареченск и жить дома.
Начались боевые партизанские будни. Были вырыты и быстро обжиты землянки. Отряд разбили на несколько групп, расположив их в разных участках лесного массива. Днем партизаны обучались военному делу: гранатометанию, обращению с пулеметом, саперным и подрывным работам. По ночам отправлялись группами в разведку и на выполнение отдельных — пока не очень крупных — заданий.
Очень скоро удалось установить связь со многими колхозами и сельсоветами. В отряде были хорошо информированы о мероприятиях, которые начали проводить немцы.
Несколько раз отряд посылал людей и в Зареченск, откуда они возвращались с подробными донесениями. Таким образом, Плотников знал, что у Шуры все благополучно. Мать ее, по-видимому, была вне подозрений. Два раза Шура посылала ему записку, в которой просила выхлопотать ей разрешение хоть на два дня прийти в отряд. Однако разрешение не было ей дано.
Об Амосове знал только командир отряда. Он был предупрежден, что Амосов остается в Зареченске со специальным заданием и что, если понадобится, ему надо оказать всяческое содействие.
Однако пока от Амосова никаких сигналов не поступало, а справляться о нем, даже через надежных людей, командир отряда не имел права.
13. В тыл врага
В самом конце сентября линия фронта приблизилась к тому областному городу, в котором теперь отбывали наказание заключенные из зареченской тюрьмы, в том числе Васька Кузьменко. Последний особенно тосковал в чужом городе, не имея никаких вестей из родного Зареченска, где он родился и вырос. Кроме того, Кузьменко волновала судьба одного человека, в чем, впрочем, он никогда бы не сознался никому из своих земляков.
Никто не знал о том, что была у Кузьменко несчастная любовь. Сам он скрывал это очень тщательно и даже, пожалуй, самому себе не признавался в том, что образ Гали Соболевой представляется ему что-то слишком часто. Галя была инструктором Зареченского горкома комсомола. Васька знал ее давно, еще с детских лет, — они росли и играли на одной улице.
Галя была тогда смуглой норовистой девчонкой, всегда окруженной мальчишками, с которыми она очень дружила. Вместе с ними Галя лихо лазила по деревьям, забиралась в чужие сады и уезжала далеко по реке на рыбалку. Ребята ценили в ней смелость, выносливость, а главное — то, что она не имела обыкновения хныкать, как другие девчонки, и жаловаться родителям на обиды.
Так шли детские годы. И однажды случилось нечто весьма неожиданное. Кузьменко встретил Галю на улице и только, по обыкновению, хотел было схватить ее за вихор, как вдруг почувствовал, что сердце у него забилось. Перед ним стояла стройная, смуглая, красивая — ах, какая красивая! — девушка, а вовсе не прежняя Галка, которая ничем не отличалась от других девчонок. Она, вероятно, тоже почувствовала, что в этот момент происходит что-то необыкновенное, чего никогда еще раньше не было и чего еще как следует не могла понять. Она залилась краской от волнения и какого-то совсем незнакомого, но радостного чувства. Это новое имело некое прямое и загадочное отношение к ней, к ее пятнадцати годам, к ее новому яркому платью и к первой прическе, которую, шутя, сделала ей сегодня старшая сестра.
— Здравствуй… те, Вася, — произнесла она шепотом, сама не зная почему, обращаясь впервые на «вы».
— Здравствуй, — пробасил Васька, покраснел и, подумав, протянул Гале руку.
После этого они, как и прежде, часто бывали вместе, но отношения их резко изменились. Оба смущались, когда случалось коснуться друг друга. Оба тосковали, если хотя бы два дня проходило без этих встреч.
Прошло несколько месяцев. И однажды, зимой, Васька (он никогда не забудет этого дня) предложил Гале пойти на лыжную прогулку. Сколько раз в прошлом им приходилось вместе ходить на лыжах, но почему-то теперь, услыхав его предложение, Галя покраснела до слез и едва произнесла только одно слово «хорошо».
Через час они уже были на самом гребне Зеленой горы, возвышавшейся над озером, недалеко от города, над винокуренным заводом. Стоя рядом на самой вершине горы, они долго смотрели вниз, на широко расстилавшееся задумчивое, покрытое снегом озеро, на фиолетовую дымку его далеких берегов, на снежную целину, мягко переливавшуюся в лучах морозного солнца. Никогда еще мир не казался им таким огромным, радостным и полным неожиданностей и загадок. В морозном воздухе мирно дымили трубы казавшихся сверху маленькими домов, где-то внизу скрипел снег под крестьянскими дровнями, и было так тихо, что даже сюда доносилось с далекой дороги веселое пофыркивание лошадей. Окаймленное ровными берегами, чуть синея в дымке морозного дня, озеро лежало, как огромное фарфоровое блюдо.
— Ну что, рванем вниз? — предложил, наконец, Васька.
— Давай; только я вперед, — ответила она.
Проверив крепления лыж, Галя подошла к краю горы, почти отвесно спускавшейся вниз. Она заглянула в снежную даль, куда ей сейчас предстояло ринуться, и в первый раз почувствовала легкое головокружение. Странное дело, никогда раньше она не боялась, а теперь ей вдруг стало страшно. Покраснев от мысли, что Васька заметит ее страх, Галя, резко вскрикнув, с силой оттолкнулась и стремительно полетела вниз. Но, в волнении не рассчитав толчка, она на середине пролета потеряла равновесие и с разбегу упала на бок. Прямо на нее мчался сверху Кузьменко, пригнувшись на лыжах. Еще миг — и он разрезал бы ей лыжами лицо. Но в последнее мгновение страшным напряжением мускулов он вырвал лыжи из глубокой лыжни и, раздвинув их накрест, остановил стремительный бег. Присев, он с испугом склонился над еще лежавшей на боку Галей. Глаза ее были закрыты, но, почувствовав его близость, она открыла их медленно и широко. И Васька прочел в них такое выражение нежности, ласки и благодарности, что, неожиданно для самого себя, поцеловал ее прямо в губы. Снова закрыв глаза, она ответила на поцелуй.
Это был первый поцелуй в жизни обоих.
На другой день, когда Васька пришел к Гале в дом, вышла ее мать и сухо сказала, что Галя очень занята, что выйти к нему она не может и что вообще они уже не дети и им обоим надо заниматься уроками, а не шалостями. Скажи она это еще неделю назад, Васька не придал бы этим словам особого значения, но теперь, теперь ведь было все иным… Васька дал себе слово больше с Галей «не гулять». И в самом деле, встретив через несколько дней Галю на улице, он издали поздоровался с нею с подчеркнуто равнодушным видом. Тут уж обиделась Галя и при следующей встрече демонстративно отвернулась. Пути их разошлись.
Галя продолжала учиться в школе и стала работать в комсомоле. Кузьменко увлекся драмкружком и начал озорничать. Через год его в первый раз судили за уличную драку. По окончании десятилетки Галя стала инструктором в горкоме комсомола. Кузьменко теперь уже с нею не здоровался и даже однажды, столкнувшись на улице лицом к лицу, неизвестно зачем притворился пьяным и начал горланить какую-то песню. Она только сердито сверкнула на него глазами и, резко повернувшись, ушла.
И никто не знал, что все эти годы Васька с горечью и нежностью вспоминал тот удивительный зимний день, и снежное озеро, и фиолетовую дымку его берегов, и теплые губы своей первой любимой, и ощущение огромного счастья, заключенного в маленьком, таком простом и коротком слове «люблю!»
В связи с решением эвакуировать заключенных областной прокурор явился в тюрьму и обходил камеры, беседуя с их обитателями. Когда очередь дошла до Кузьменко, прокурор сразу его узнал.
— А, уполномоченный, — улыбнулся прокурор, — Ну, как дела?
— Какие у меня дела, — хмуро ответил Васька. — Дела на фронте, гражданин прокурор, а у меня один срам. Прозябание и тюремный тыл. В глаза людям стыдно смотреть. Фашист прет, а я, здоровый байбак, в камере отсиживаюсь. Красиво, нечего сказать… — За драки судился, а при этакой драке сижу сложа руки.
— Ну, а чего бы вам хотелось? — серьезно спросил прокурор.
Кузьменко задумался. Потом он горячо сказал:
— Я не имею права в такое время, понимаете, не имею права тут сидеть! Я правильно осужден. Но теперь пришла такая беда, такая опасность, что не время статьями считаться и сроки по дням отсчитывать. Мое место сегодня не тут, а там, на фронте или в тылу врага.
Он долго еще говорил. А на следующий день заключенный Василий Кузьменко был досрочно освобожден. В хмурый осенний день он вышел за тюремные ворота. Город тревожно гудел. По улицам торопливо проходили войска. На восток тянулись поезда с оборудованием фабрик и заводов. Вслушавшись, можно было уловить далекие раскаты артиллерийских залпов. Враг приближался к городу.
Два дня пробыл Кузьменко в этом городе. Неизвестно, где жил, неизвестно, с кем встречался, и неизвестно, куда исчез. Ушел один, невесть куда, невесть зачем, как в воздухе растаял. Был Васька Кузьменко, и не стало его.
Ушел Васька в тыл врага.
14. Ошибка господина Гейделя
Рассмотрев Амосова у окна, господин Гейдель с удовлетворением заметил, что его старинный друг мало изменился. Тридцать лет, в течение которых Гейдель не видел Шпейера, затуманили в его памяти образ последнего.
— О дорогой Шпейер, — восторгался Гейдель, — как много прошло лет и как сравнительно мало вы изменились! Друг мой, этот взгляд, этот рот, это выражение лица… Боже, как мчится жизнь! Ведь кажется, это было только вчера…
— Что вы, господин Гейдель, — возражал Амосов, — вы просто хотите меня порадовать. Я очень состарился за эти годы. Сидя здесь, в этой глуши…
— У провинции есть свои преимущества, — перебил его Гейдель, — она способствует сохранению здоровья и укреплению нервов. Вы говорите — годы, провинция… Что же сказать мне, летучему голландцу, который за эти десятилетия носился, как щепка, по всем морям и океанам и потерял молодость и здоровье! И вот — результат: эта тучность, эта одышка, приступы грудной жабы. Нет, вы посмотрите на это брюхо!.. Каково мне таскать его по свету, милейший Шпейер!
— Да, у вас есть излишняя полнота, — неопределенно произнес Амосов, не знавший, каков был господин Гейдель в молодости.
— Излишняя — не то слово, мой друг! — с жаром сказал Гейдель. — Живот этот — не только мое личное не счастье, но, смею сказать, беда всей германской разведки. Он мешает мне как следует развернуться… Ох, если бы не это пузо!.. Однако перейдем к делу. Какие у вас виды на будущее?
— Господин Гейдель, — ответил Амосов, — я привык считать своими видами то, что мне прикажут.
— Правильно. Но все же интересно знать вашу точку зрения.
Амосов повторил Гейделю то, что раньше уже сказал генералу. Он просил, если это возможно, не оставлять его в Зареченске, а перебросить в другой город или оставить при штабе фронта.
Гейдель очень внимательно выслушал Амосова. Он сразу стал серьезен, малоразговорчив, почти мрачен. Этот болтливый, смешной толстяк мгновенно, на глазах, изменил свой облик.
— Я думал, — наконец, сказал он, — что пока вам лучше всего остаться при мне. Я возглавляю нашу работу в пределах этого фронта. В Зареченске я пробуду день, а завтра мы с вами вместе поедем в Минск — в главную квартиру. У меня есть кое-какие виды насчет вашего будущего, Шпейер. Кроме того, будем справедливы, — если вы захотите после тридцатилетнего перерыва побывать на родине… Берлин очень изменился за эти годы.
— Я буду глубоко признателен, господин Гейдель, — сказал Амосов, лихорадочно обдумывая возможности, которые таило в себе это неожиданное предложение. — Тем более что уже лет пятнадцать, как я не имею никаких сведений о своих близких. Правда, мои родители давно умерли, а дядя — он был начальником брауншвейгской офицерской школы…
— Генерал фон Таубе скончался в тысяча девятьсот двадцать первом году, — произнес торжественно и печально Гейдель. — Это был весьма почтенный и всеми уважаемый человек… Я имел честь знать его лично.
— Я очень любил дядюшку и весьма ему обязан, — в тон Гейделю заметил Амосов. — Да, многое изменилось за эти годы! Как сказал русский поэт: «иных уж нет, а те далече…» Господин Гейдель, я позволю себе обратиться к вам с просьбой отдохнуть у меня в доме. Правда, я живу очень скромно, но мне было бы приятно принять вас у себя.
Гейдель снисходительно потрепал Амосова по плечу и принял предложение. Захватив с собой «племянника», они на машине Гейделя поехали к Амосову на квартиру.
Вечер был посвящен воспоминаниям: Гатчина, Петербург, 1913 и 1914 годы. Амосов, знакомый со слов Шарапова с этим периодом жизни последнего, время от времени вставлял довольно уместные замечания. В результате этого разговора выяснилось, что Гейдель в тот период работал агентом германской разведки в Петербурге и часто встречался со Шпейером где-то на Кирочной улице, у старой акушерки, содержавшей явочную квартиру. Об акушерке Амосов ничего не знал, но своей неосведомленности не обнаружил.
Наконец, Амосов предложил своему гостю отдохнуть. Гейдель согласился переночевать в комнате Амосова и занял его постель. «Племянник» устроился в бывшей комнате Тамуси, а Амосов решил спать на диване. Когда Гейдель и «племянник» заснули, Амосов, по своему обыкновению, вышел на улицу покурить перед сном. Стояла холодная осенняя ночь. В городе было темно. Откуда-то издали доносилась пьяная немецкая песня. Это развлекались солдаты, на ночь уволенные из частей. Время от времени с треском проносился на мотоциклах ночной патруль, объезжавший городские улицы. Где-то стреляли. Потом опять становилось тихо.
Амосов обдумывал предложение Гейделя съездить в Берлин. Какую пользу можно было бы извлечь из такой поездки? Не таится ли в этом предложении скрытая насмешка или провокация? Не лучше ли остаться при штабе фронта, выяснить организацию работы в ведомстве господина Гейделя, их связи, планы, расчеты?
«А если все-таки поехать в Берлин? Немец Шпейер приехал в Россию в тысяча девятьсот тринадцатом году и прожил в ней около тридцати лет. Что, если мне, в порядке ответного визита, поехать в Берлин и провести там пару месяцев? Право же, в этом есть смысл…»
Так размышлял Амосов в эту ночь, сидя на завалинке перед домом Шарапова — Шпейера. Занятый своими мыслями, Амосов не заметил темной тени, которая появилась за углом и стала осторожно пробираться к дому, у которого он сидел… Стараясь держаться вплотную к забору, неизвестный добрался, наконец, до дома и, в свою очередь не заметив сидевшего в тени Амосова, тихо постучал в окно.
— Кто это? — вскочил на стук Амосов. — Чего вы стучите?
— А вы кто? — спросил неизвестный.
— Кто вам нужен?
— Во всяком случае, не вы!
Амосов чиркнул спичкой и увидел молодого рыжеволосого парня, который довольно спокойно глядел на него. Это был Васька Кузьменко. Амосову он был незнаком.
— Перестаньте стучать, — спокойно оказал Амосов.
— Там отдыхают немецкие офицеры? — спросил Кузьменко, который не знал всех событий последнего времени.
— Иван Сергеевич уехал, — сказал Амосов. — И в городе его нет. А стучать нельзя.
Рыжий задумался. Потом он подошел к Амосову и спросил:
— А вы не знаете, где Иван Сергеевич? Что с ним? И вообще?
— А вы откуда?
— Я Кузьменко. Артист драмкружка. Но меня здесь давно не было. И вот я вернулся — в город, а в нем никого нет, и пришли немцы, и вообще творится чепуха какая-то. Иван Сергеевич мог меня приютить. А вы откуда его знаете?
— Вот что, уважаемый, — с сердцем произнес Амосов, не зная, как ему отделаться от этого ночного пришельца, — убирайтесь-ка вы отсюда подобру-поздорову. Сказано вам русским языком: Шарапова в городе нет, он уехал, эвакуировался. Ясно?
— Позвольте, но где же я буду спать? — с искренним удивлением спросил рыжий. — Я всегда ночевал в таких случаях у Ивана Сергеевича. Нельзя ли закурить?
Амосов молча протянул рыжему папиросу. Тот закурил ее с жадностью. Оба молчали. Амосов понял, что рыжий не врет и действительно не в курсе событий, происшедших с Шараповым.
— А почему в этом доме немцы? — не унимался Кузьменко. — Мало им домов в центре? Я вижу, вы русский человек. Объясните, пожалуйста, как это все случилось? Ведь я совершенно не в курсе дела…
И сбивчиво, торопясь, словно из боязни, что его не выслушают, — Кузьменко рассказал Амосову, как он после «Свадьбы Кречинского» был предан суду за хулиганство, учиненное в универмаге, как суд приговорил его к двум годам лишения свободы и как он теперь вернулся домой. Кузьменко, сам не зная почему, разоткровенничался и добавил, что перешел линию фронта, желая работать в тылу врага..
15. Поездка в Берлин
Амосов слишком хорошо разбирался в людях, чтобы не понять сразу, что рассказ Васьки Кузьменко вполне искренен и правдив. Вместе с тем ясно было, что надо как можно скорее отделаться от неожиданного гостя. Посоветовав Ваське направиться к партизанам, Амосов от всего сердца пожелал ему счастливого пути. Однако из предосторожности Амосов не дал Ваське никаких определенных явок, сказав, чтобы он шел в Гремяченские леса.
Простившись с Васькой, Амосов вернулся в дом. Гейдель мирно похрапывал. Одеяло, которым он был накрыт, вздыбилось на его брюхе и мерно колебалось в ритм дыханию.
Амосов решил тоже отдохнуть и прикорнул на диване. Проснувшись утром, он открыл глаза и встретил взгляд Генделя, который тоже уже не спал.
— Доброе утро, мой друг, — пропищал Гейдель. — Я отлично выспался. Эта дорога основательно утомила меня. Но сейчас я свеж, как новорожденный.
— Не угодно ли вам позавтракать? — спросил Амосов.
— Угодно и весьма, — ответил Гейдель и начал одеваться.
За завтраком Гейдель вернулся к поездке Ивана Сергеевича в Германию.
— Чем больше я об этом думаю, — сказал он, — тем больше убеждаюсь, что прав. В самом деле, имеете же вы право отдохнуть, посмотреть, как изменился за эти годы наш Берлин, подышать родным воздухом! Кроме того, милейший Шпейер, вам следует месяц-другой по работать в главной квартире. Как-никак, многое изменилось в нашей работе, многое пересмотрено. Жизнь идет вперед…
— Надо подумать, — неопределенно ответил Амосов, не зная еще, как ответить на это предложение. — Конечно, ваше приглашение соблазнительно, и я вам очень признателен, господин Гейдель.
— Тут не о чем думать, — возразил Гейдель. — Сейчас я отправлю шифровку в Берлин и запрошу согласие начальства. Уверен, что оно будет получено.
Гейдель действительно послал из штаба телеграмму, Амосов из осторожности не стал возражать. Кроме того, поездка в Берлин казалась ему все более и более заманчивой, «Пожалуй, — думал Амосов, — в самом деле имеет смысл поехать, пройти „усовершенствование“ в главной квартире гестапо, познакомиться со всей этой дьявольской кухней. Правда, поездка таит кучу неожиданностей и непредвиденных опасностей, но отказываться от нее не менее рискованно, — можно навлечь на себя подозрение».
Ответ из Берлина пришел через несколько дней. В телеграмме на имя Гейделя сообщалось, что его предложение о выезде Шпейера в Германию одобрено.
— Поздравляю! — кричал Гейдель, размахивая бланком шифротелеграммы. — Что я вам говорил!.. Милейший Шпейер, я от души рад за вас… Завтра вам будут приготовлены все документы, деньги, адреса. Попрошу заодно захватить с собою посылочку моей Мицци. Расскажите ей, как я тут барахтаюсь… Она будет очень рада… Остановиться рекомендую в отеле «Адлон». Правда, там довольно дорого, но вы, черт возьми, имеете право пожить с комфортом!.. Я снабжу вас солидной суммой на дорогу. Кроме того, личный доклад всегда лучше письменного, и я попрошу вас подробно изложить руководству все обстоятельства нашей работы и все наши успехи. Вечером я обстоятельно вас проинформирую.
Амосов с удовольствием — выслушал последнее предложение. Он был совсем не прочь «проинформироваться».
Вечером Гейдель заперся с Амосовым и начал посвящать его в курс дела. Он подробно перечислил Амосову пункты в оккупированных районах, в которых были развернуты диверсионно-шпионские школы, контингент лиц, принятых в эти школы на обучение, ближайшие планы немецкой разведки. Особую важность для Амосова представляли сообщенные Гейделем данные о явках немецкой разведки в прифронтовых городах.
— Все эти данные, — говорил Гейдель, — я приготовлю в письменном виде к вашему отъезду. Все точки, все адреса, все пароли. А пока я сообщаю их вам устно, для того чтобы вы получили общее представление.
Потом Гейдель перешел к партизанам. Он просил информировать Берлин о непрерывном росте партизанского движения и о трудностях борьбы с ним.
— В Берлине, — говорил он, — еще не совсем ясно представляют себе опасность партизан. Кроме того, там не учитывают специфики русской географии — эти непроходимые болота, лесные чащи, отсутствие культурных дорог. Наши солдаты боятся лесов, где стреляет каждый куст, каждое дерево, каждый пень. Танки тут беспомощны. Наконец, никакая карта не дает вам представления об этих путаных лесных тропах и закоулках, в то время как партизаны знают каждую корягу, как свои пять пальцев. Что же касается помощи со стороны крестьян, передайте, что рассчитывать на нее мы не можем. Даже крупные награды, объявленные нами за сведения о партизанах, не дали никакого результата. Более того, в любой хате партизаны имеют своего человека. А всех не перестреляешь… Но самое ужасное — это быстрота, с которой формируются эти партизанские отряды. Не успеваем мы занять район, как в нем уже появляются партизаны… Легко ликвидировать их, сидя в берлинских канцеляриях… Но каково бороться с ними здесь!
По мере того как господин Гейдель излагал свои соображения по поводу партизан, он все больше приходил в ярость. Лицо его побагровело. Амосов с удовольствием слушал жалобы господина Гейделя. По-видимому, партизаны причиняли господину Гейделю немало хлопот.
По окончании разговора Гейдель опять прилег отдохнуть. Воспользовавшись этим, Амосов под видом прогулки направился к Анастасии Никитичне. Ему было важно перед отъездом передать через нее кое-какие данные командиру партизанского отряда.
Старушка сидела дома за пасьянсом. Шура читала книгу. Увидев Амосова, Шура обрадовалась и стала рассказывать ему, как устроились партизаны в Гремяченском лесу.
— Да погоди ты, Шурочка, — перебила ее Анастасия Никитична. — Потом расскажешь. А пока приготовь нам — чайку.
Шура вышла в кухню, и Амосов передал Анастасии Никитичне все, что было необходимо. Учительница слушала его очень внимательно, стараясь запомнить все в точности, — записей она из осторожности делать не хотела.
Амосов попросил ее передать, что на некоторое время он уезжает в неопределенном направлении.
— Если, — добавил он, — к вам явится по паролю связной из области и опросит обо мне, вы ему скажите только три слова: «Наносит ответный визит». Ясно?
— Вполне, — ответила Анастасия Никитична и ни о чем не стала расспрашивать Амосова.
16. Кузьменко находит след
Амосов умышленно не указал Кузьменко точного адреса партизанского отряда, хотя хорошо его знал. Тем более он не считал себя вправе дать ему хоть одну партизанскую явку в самом городе. Поэтому он ограничился общим указанием: ищите, мол, партизан в Гремяченских лесах. Васька, как местный житель, хорошо понимал, что просто направиться в эти леса, тянувшиеся на сотни километров, бессмысленно. Поэтому он решил два дня провести в Зареченске, рассчитывая за это время получить более конкретные данные о местонахождении партизан, а кроме того, узнать о судьбе Гали Соболевой.
На следующее утро после ночного визита к Амосову Кузьменко пошел в центр города. На главной улице по свежим табличкам, приколоченным на перекрестках, он установил, что эта улица теперь именуется «Адольф Гитлерштрассе». Убедившись, что поблизости почти нет прохожих, Кузьменко сорвал табличку, очистил с нее ножичком свежую надпись и вместо нее старательно написал химическим карандашом: «Здесь была, есть и будет улица Карла Маркса, а паразиту Гитлеру никаких улиц у нас не полагается».
Восстановив таким образом справедливость на этом участке городского хозяйства, Кузьменко двинулся дальше. У здания горсовета, в котором теперь разместился магистрат, хрипел репродуктор, выставленный на балкон. Диктор передавал на русском языке «последние известия верховного командования германской армии».
Кузьменко прислушался. Диктор сообщал о «полном уничтожении» Советской Армии и о том, что в «недалеком будущем Гитлер будет принимать парад на Красной площади в Москве, которая со дня на день должна быть занята немецкими войсками». Несколько исхудалых людей молча слушали, стоя рядом с Кузьменко, эту радиопередачу. Эсэсовский патруль торжественно проследовал мимо здания магистрата, изо всех сил задирая ноги вверх и с яростью стуча ими о мостовую.
Посмотрев на них и на своих земляков, Кузьменко решил, что дальше бездействовать нельзя. Он бросился вперед, куда-то вдруг заторопившись.
Между тем диктор, закончив «последние известия», начал с пафосом читать статью на тему «об историческом превосходстве германской расы».
— Таким образом, — гудел диктор, — всякому непредубежденному человеку должно быть понятно, что идеи фюрера несут миру…
Так и не объяснив слушателям, что именно несут эти «идеи», диктор неожиданно как-то странно хрюкнул и замолк. Теперь из репродуктора явственно доносился шум какой-то возни, тяжелое дыхание и звуки, отдаленно напоминающие бурные аплодисменты. Потом чей-то звонкий, хорошо поставленный голос отчетливо произнес:
— Граждане, минуту терпения, часовой уже готов, сейчас я закачу этому оратору еще пару плюх и продолжу передачу.
Снова, на этот раз уже более явственно, послышались звуки оплеух.
Затем Кузьменко — ибо это был он — обратился к заинтересованным слушателям с краткой речью.
— Дорогие друзья, земляки, братья! — начал Кузьменко, и голос его задрожал от волнения. — Передаю вам привет от советской власти и Советской Армии. Не верьте фашистской пропаганде! Убивайте предателей и изменников родины! Знайте, что фашистам дорого обходятся их временные победы. Бейте их в хвост и гриву! Не давайте им передышек! Не выполняйте их приказов! Всем им скоро придет конец…
Когда «русская полиция» и несколько эсэсовцев примчались — в радиостудию, было уже поздно. Связанный диктор хрипел в углу — он был основательно избит. Кузьменко на прощанье вдребезги разбил микрофон и оставил на столе такую записку:
«Паразиты, бросьте обманывать народ. Предупреждаю, что всех дикторов буду лупить нещадно. Смерть немецким оккупантам!»
Когда бургомистру Трубникову доложили о происшествии в радиостудии, он очень взволновался. Он стал еще осторожнее: показывался на улице не иначе, как в сопровождении трех полицейских, по ночам вовсе перестал выходить, а у своего дома поставил усиленную охрану. Вообще бургомистр был недоволен своим положением и совсем не был уверен в завтрашнем дне. Население молчаливо, но очень выразительно бойкотировало его, и он часто читал в глазах зареченцев такое презрение и ненависть к себе, что от одного этого мгновенно обливался холодным потом.
Между тем в городе явно активизировалась подпольная группа. В районе учащались нападения партизан на немецкие обозы, склады, поезда. В городе то и дело появлялись листовки и воззвания к населению, которое явно сочувствовало партизанам и ненавидело оккупантов и их прихвостней.
Все это вместе взятое заставило оккупантов призадуматься. Однажды военный комендант вызвал к себе Трубникова и оказал ему, улыбаясь:
— Что вы скажете, герр бургомистр, если я предложу некоторые начинания, которые… гм… будут направлены к усилению… гм… дружбы между населением и немецкими военными властями… и… гм… даже любви… Это новый вид нашей политики… Вы меня понимаете?
«Давно бы так!» — чуть не закричал Трубников, но вовремя остановился и почтительно спросил:
— Что имеет в виду господин комендант?
— Ну, скажем, надо отремонтировать эту большую церковь, которая разрушена бомбой. Это сделают своими руками наши солдаты. Они это сделают очень быстро, аккуратно, и очень… гм… с любовью… Пусть население видит, как мы заботимся о религии. И потом мы пригласим русского священника и будем делать… Как это у вас говорят… Большая… Большая молитва.
— Большой молебен, — сказал Трубников, с интересом слушая коменданта.
— Вот именно — большой молебен. Это будет весьма, весьма хорошо, герр бургомистр. Да, да, пусть видит население наши заботы о нем.
На следующий день специально вызванная техническая рота приступила к ремонту церкви. Немцы действительно старались и быстро восстановили церковь. Тогда возник вопрос о священнике. Но именно тут немецкий комендант и Трубников столкнулись с неожиданным затруднением — два городских священника, как выяснилось, эвакуировались на восток, и некому было служить молебен.
Все дело срывалось. Трубников в ответ на брань коменданта только разводил в отчаянии руками и что-то лепетал насчет «бедности в духовных кадрах».
Комендант специально снесся с соседними городами я немецкими комендатурами ряда оккупированных районов. Наконец, было получено известие, что в одном из лагерей для военнопленных, в котором содержалось и гражданское население, найден человек, который хотя и не был священником, но согласен отслужить молебен. Через два дня его доставили в Зареченск. Он оказался учителем географии, старым щупленьким человеком с тощей бороденкой и испуганным выражением лица. Фамилия его была Скворцов.
Скворцова принял немецкий комендант в присутствии Трубникова. Отвечая на вопросы, Скворцов прямо признал, что никогда не был священником, но, будучи сыном сельского попа, с детства хорошо знает богослужение и молитвы и сумеет отслужить молебен.
Комендант долго объяснял Скворцову, что от него требуется, чтобы он не только отслужил один молебен, но и вообще стал бы священником зареченской церкви. Скворцов слушал коменданта стоя и о чем-то думал.
— Ну, что же вы молчите? — с раздражением спросил комендант. — Вы должны быть благодарны за это предложение. Вы будете сытно и спокойно жить, германское командование будет вас поддерживать. Это, господин Скворцов, не лагерь, где, как вы, вероятно, успели заметить, не так уж весело… Или вам хочется обратно в лагерь?
Скворцов отвечал тихо. Нет, ему не хочется обратно, и он успел заметить, что в лагере не так уж весело. Он даже заметил, что в этом лагере был замучен до смерти его единственный сын, отказавшийся стать осведомителем гестапо.
Через два дня заранее извещенное население явилось на торжественное открытие храма. На церковной паперти был выстроен «для порядка» взвод автоматчиков. Они не понимали ни слова по-русски, но с интересом следили за происходящим.
Скворцов, в облачении, которое ему сшили из старого орудийного чехла, с белым оловянным крестом на груди, начал богослужение.
Кузьменко появился в церкви с некоторым опозданием. Он с трудом протолкался в храм и здесь заметил Трубникова, стоявшего в почтительной позе за спиной немецкого коменданта.
«Да приидет царствие твое», — доносился с амвона старческий, чуть дребезжащий тенорок Скворцова.
— Здравствуй, бургомистр, — шепнул Кузьменко на ухо Трубникову. — Что, дрожишь, шкура? Только пикни — от тебя мокрое место останется. Всю тюрьму опозорил, паразит!
Трубников оглянулся, сразу узнал Кузьменко и мгновенно вспотел от страха. Странно икнув и энергично замотав головой, он дал понять, что и не думает «пикнуть» и вообще рад прибытию Кузьменко. Он даже протянул ему руку, но Васька своей руки не подал.
Между тем молебен кончился. Скворцов переходил к проповеди. В церкви, набитой до отказа народом, стояла тяжелая духота. Комендант вытер шелковым платком потное лицо. Его радовало, что все проходит так чинно и торжественно и при таком большом стечении публики. Затея явно удалась. Но дальше стоять в этой жаре было немыслимо. Сделав знак Трубникову, чтобы тот оставался следить за порядком, комендант пробрался к выходу и вышел из церкви.
Священник откашлялся. В церкви стояла напряженная, взволнованная тишина. Автоматчики с любопытством заглядывали в распахнутые настежь двери.
Вытерев мокрый от волнения лоб, Скворцов медленно обвел глазами толпу. Вот они стоят, тесно прижавшись друг к другу, исхудалые, измученные люди, попавшие в неволю, растерявшие своих близких, зависящие от каждого немецкого солдата, беспомощные в своем горе, но всем сердцем верные родине, которая так же верно теперь борется за них. Что он должен сказать им, — он, старый, седой человек, всю жизнь учивший русских детей, вырастивший столько поколений школьников, привыкший честно и правильно отвечать на их пытливые вопросы? Что должен он ответить на вопрос, который так отчетливо, так явственно слышит в этой напряженной тишине?
Скворцов на мгновение закрыл глаза и с необыкновенной ясностью вновь представил себе то страшное, незабываемое августовское утро, когда он увидел болтающееся на виселице тело своего сына, точнее то, что осталось от этого искалеченного тела. Это было все, что осталось от его мальчика, от его первого детского лепета, шалостей, первых учебников, сыновней ласковости, веселых, счастливых глаз, застенчивой юности, бодрой, уверенной в себе и в своем деле молодости…
— Братья и сестры во Христе, — начал Скворцов, и глаза его засверкали огнем непреклонного убеждения. — Неисповедимы пути господни, и велика милость всевышнего, но не приемлет Правда клятв Иудиных и не нужны народу дары из окровавленных рук… Мудро сказано было в древности: «Не верьте данайцам, дары приносящим».
Скворцов остановился и тяжело перевел дыхание. От волнения он едва владел голосом. Словно шелест прошел по церкви. Где-то в углу навзрыд заплакала женщина, но вокруг зашикали на нее, и опять стало тихо.
— Братья, — снова начал Скворцов, — не в том вера, чтобы отбивать поклоны в храме, лукаво отстроенном врагами нашими. Не покоряйтесь псам фашистским, верьте в наш народ, которому не бывать под кровавым гитлеровским сапогом. Не дайте отуманить свои головы ни бургомистрам, ни попам, верьте в свой народ, верьте в свою родину — она победит!
Кузьменко, остолбенев, смотрел на священника. Потом он оглянулся вокруг и увидел, как беззвучно плачут люди, как слезы ручьями текут из их глаз, как надеждой и радостью светятся их измученные лица. Он вгляделся в них еще внимательнее, и сердце его сжалось от боли и нежности — такая печать страданий и горя была на лицах его земляков.
И, может быть впервые за эти годы, Васька заплакал. Он плакал совсем по-детски, не стесняясь этого и не вытирая слез, все чаще всхлипывая и сморкаясь. Плакал он потому, что понял вдруг с предельной и горькой ясностью: все, что он до сих пор делал и чем жил, было не то, совсем не то, что надо было делать и чем надо было жить.
«Нет, скорее, пока не поздно, пока есть еще время и силы, — скорее туда, к партизанам, в леса, в леса!.. Нельзя дальше действовать в одиночку, как волк; на врага надо идти вместе, дружно, в строю!»
Но прежде чем выбежать из церкви, Кузьменко подошел к Трубникову, стоявшему с серым лицом посреди враждебно рассматривавшей его толпы, и взял его за руку.
— Слушай! — сказал Кузьменко таким голосом, что кровь застыла в жилах у Трубникова. — Коменданта не было, когда говорил священник. Но ты… ты был здесь. Ты все слышал. И вот… если… если хоть один волос упадет с головы этого человека, тебе не жить, не спрятаться от меня, не уйти!
По мере того как Кузьменко произносил эти слова, кровь все сильнее заливала его щеки, лоб, все его лицо. Сам того не чувствуя, он дрожал всем телом. С нечеловеческой силой сжав руку Трубникова, он, казалось, насквозь прожигал его взглядом.
И Трубников, цепенея от ужаса, смотрел остановившимися глазами на Кузьменко и, не слыша собственного голоса, бессмысленно повторял:
— Охраню… охраню…
…Кузьменко покинул Зареченск на рассвете. Он и сам еще не знал, куда идти и как именно связаться с партизанами, но был уверен, что рано или поздно разыщет отряд и найдет в нем себе место. Выяснить в Зареченске, где находится Галя, ему не удалось, но он предполагал, что и она может оказаться в отряде.
С детских лет ему были хорошо известны все окрестности, шоссе, проселочные дороги и большаки в этих родных ему краях. Знал он и лесной массив, в котором могли скрываться партизаны, хотя понимал, что найти их в этих бесконечных лесах будет делом не легким.
В первый день он прошел километров тридцать и к вечеру остановился на ночлег в одной деревушке. Разговор с женщинами в этой деревне не дал никаких результатов в смысле установления, хотя бы приблизительно, местонахождения партизан. В ответ на его осторожные расспросы бабы только отмалчивались или отнекивались. Чувствовалось, что они ему не доверяют и ничего не скажут, даже если знают.
— Не верите! — вздохнув, сказал им Васька. — Эх, не видите, дуры, что я за человек. Думаете, я для фрицев узнать хочу…
— Зря ты, сынок, осерчал, — возразила одна из баб, совсем уже пожилая женщина. — Ничего мы, милый, знать не знаем и ведать не ведаем. А что дуры мы, так это уж верно, что дуры. И вовсе темный народ…
Бабы дружно рассмеялись и ушли.
Кузьменко понял, что толку от них не добьешься. Тогда он решил расспросить стариков. Встретив у самой околицы какого-то чуть не столетнего деда, Васька любезно угостил его табачком и, присев рядышком на бревне, дипломатично завел разговор о том о сем. Старик охотно поддерживал разговор. Дело шло на лад.
— А что, дед, — спросил, наконец, Кузьменко, — сыновья-то небось на фронте? Один остался?
— Снохи есть, — коротко ответил дед, ловко обходя вопрос о сыновьях.
— Ну, а дети-то где же твои, стало быть, снох твоих мужья? — не унимался Кузьменко. — В армии или еще где?
— Известно, где. В почтовых ящиках.
— Где? — искренне удивился Васька.
— Да сказано тебе, в почтовых ящиках. Николай — в почтовом ящике нумер пять тысяч пятьсот шестьдесят два, Серега — в нумере шесть тысяч семьсот восемьдесят девять, а Иван — внук мой старший, тот под нумером четыре тысячи сто двадцать шесть. Так и шли по нумерам. Не одни мои сыны — во всем колхозе так. Ну, а теперь, как пришел в наши места герман, так и писать стало некуда…
— Некуда, а номера вот помнишь, — подмигнул деду Васька, — на всякий, видать, случай…
Дед метнул в Ваську из-под мохнатых бровей острый, внимательный взгляд, затянулся козьей ножкой, сплюнул и спокойно произнес:
— А что ж, нумер не конь, овса не просит. Чего же его выбрасывать, пусть себе в башке сидит, на своей полочке… Наше дело стариковское, нам забывать не положено, мы не красны девицы. А ты чего, брат, ко мне прилип, как к одному месту лист? Тебе какое дело, сукин ты сын! Выспрашивать сюда пришел? Так я вот, не гляди, что стар, а с хворостиной управлюсь не хуже молодого… Проваливай, откудова явился! Инспектор какой на наши головы нашелся!..
Постепенно накаляясь, дед уже заковылял к изгороди, чтобы выдернуть из тына что-нибудь поувесистей. Имело смысл спешно ретироваться. Сплюнув с досады, Васька покинул деревню.
И опять потянулись проселки и большаки, поля и перелески, а он все шел и шел. Началась Гремяченские леса. Васька пошел прямо в глубь лесного массива. В лесу было теплее, чем в поле. Осень еще только сюда пробиралась. Пахло смолой, прелым листом и хвоей. Быстро темнело, и Васька то и дело спотыкался о лесные коряги. Усталость уже давала себя знать. Дьявольски хотелось прилечь и выспаться, но никаких признаков жилья не было. Вытащив карманный электрический фонарик, Васька медленно плелся дальше, время от времени включая свет.
Наступила ночь. Откуда-то потянуло ночной сыростью и грибными запахами. Где-то недалеко закричала лесная птица. Когда Кузьменко выключал фонарик, его буквально схватывала за горло ночная темень. Признаться, Ваське стало жутковато. Он решил закурить и, присев на старый пень, начал крутить «козью ножку». С мягким шорохом проскальзывали где-то совсем рядом какие-то шустрые лесные зверьки. Сильные порывы ветра раскачивали деревья, стоявшие вокруг, как часовые. Сосны встревоженно перешептывались, склоняясь друг к другу, верхушками.
Васька свернул «козью ножку» и, чиркнув спичкой, закурил. Именно в этот момент его обхватили сзади чьи-то сильные руки.
— Ни с места! — повелительно произнес мужской голос. — Далеко ли, сокол, пробираешься?
— Сначала руки отпусти, дьявол, — ругнулся Васька, — а потом спрашивай!
И тут, как из-под земли, выросли еще двое. Ваське связали за спиною руки и повели какими-то звериными тропами через балки и овраги, сквозь чащи и залежи валежника. Потом еще завязали ему глаза, хотя и так ничего не было видно.
Наконец, пришли. Кузьменко развязали и посадили на скамейку. Васька расправил затекшие руки и, с трудом привыкая к свету, огляделся вокруг. Он находился в землянке, освещенной лампой «летучая мышь». Несколько человек сидели за столом, но их лиц Васька з первую минуту не разглядел.,
— Провались я на этом месте, если это не Кузьменко! — произнес с искренним удивлением один из сидевших за столом.
Обернувшись на знакомый голос, Кузьменко ахнул от удивления: прямо перед ним сидел начальник зареченской милиции Петухов.
17. В Берлине
На следующий день Гейдель торжественно вручил Амосову немецкий паспорт, пропуска, деньги, рекомендательные письма. К этому же времени господину Гейделю успели «организовать» объемистую посылку, которую он просил отвезти в Берлин.
В последнюю минуту, когда Амосов уже садился в машину, Гейдель вручил ему запечатанный пакет.
— Там все, что нужно доложить начальству, — сказал он. — Очень прошу вас вскрыть этот пакет уже в Берлине, в главной квартире. Ну, дорогой Шпейер, от души желаю вам счастливого пути.
Амосов в последний раз пожал протянутую ему руку, и машина тронулась. Из города выехали на Смоленское шоссе. Вдоль дороги потянулись обычные белорусский пейзажи: леса, поля и болота. Амосов сидел рядом с шофером. Слушая, как мягко поет машина, он думал об удивительном путешествии, в которое ему пришлось пуститься. Кто знает, как все пойдет дальше, в какие положения он попадет, с какими людьми ему придется столкнуться? Все было туманно впереди, на каждом шагу подстерегала смертельная опасность. Но ехать было нужно — в этом Амосов не сомневался.
Минск, на три четверти разрушенный немцами еще в первые дни войны, встретил Амосова мертвыми впадинами разбитых окон, обгорелыми остовами домов и грудами развалин. Немецкие солдаты слонялись по искалеченным улицам. Часто проносились машины с куда-то спешащими офицерами.
Амосов явился в немецкую комендатуру, предъявил документы и тотчас был принят офицером СС. Тощий, поджарый немец с моноклем любезно осклабился, когда Амосов передал ему записку от Гейделя. Он сообщил Амосову, что завтра может отправить его с попутной машиной в Негорелое, откуда идет поезд в Берлин.
Амосов провел ночь в военной гостинице, устроенной немцами в бывшем студенческом общежитии. Любезность офицера СС простерлась до того, что Амосову был предоставлен отдельный номер. Сначала Амосов пытался заснуть, но это не удавалось. Нервы его были напряжены до предела. Страха он не испытывал — это чувство вообще не было ему знакомо, — но сознание важности задуманного, желание предугадать все случайности напрягли сейчас его волю и мозг. К тому же мешал уснуть шум, доносившийся из соседних комнат, где кутили «господа офицеры». Крики, смех, женский визг и пьяные песни не утихали всю ночь.
Амосову надоело слушать, как веселятся рядом, и он, одевшись, вышел на улицу. Город был погружен в полумрак. Неверный свет луны бродил посреди домов, искалеченные контуры которых выглядели фантастически. Изредка на перекрестках громко перекликались патрули. Амосов стоял, подняв воротник пальто, — конец октября давал себя чувствовать, — и предавался все тем же мыслям. Наконец, он решил отдохнуть, вернулся в комнату, скинул пальто и, бросившись на постель, мгновенно заснул.
Утром за ним пришел офицер СС, повел его завтракать в офицерский ресторан, а затем проводил к машине, которая должна была везти его в Негорелое.
Несколько часов спустя Амосов сидел в вагоне поезда, который шел в Берлин.
На протяжении всего пути — и в Белоруссии и в Польше — он видел из окна вагона все те же горькие следы войны: разрушенные станции, пожарища, мертвые, обезлюдевшие деревни. Населения почти не было видно, только на редких остановках поезд окружали исхудалые дети, просившие хлеба. Щеголеватые штабные офицеры, направлявшиеся в Берлин, щелкали «лейками», снимая на память развалины и голодных детей. Не питая никакого интереса к своим соседям, Амосов держался от них в стороне.
В Берлин прибыли утром. Город выглядел мрачно. На улицах было великое множество полицейских и мало прохожих.
Амосов с вокзала поехал в отель «Адлон», еще сохранивший остатки довоенного благоустройства. Заняв номер на третьем этаже, он побрился, переоделся и вышел на улицу. Внешний вид встречных прохожих, очереди у магазинов, сравнительно редкие машины, запущенность городских улиц — все это воспринималось им жадно, с яркостью первого впечатления.
В два часа дня Амосов направился в главную квартиру гестапо, адрес которой был дан ему Гейделем. В комендатуре долго проверяли его документы, после чего выдали, наконец, пропуск. Серый огромный дом смотрел сумрачно. Поднявшись на третий этаж, Амосов нашел нужную ему дверь и постучался.
— Битте, — произнес низкий голос.
Амосов вошел. В комнате за столом сидел немолодой человек со скучающим выражением лица, одетый в штатское платье.
Амосов объяснил ему, что приехал в Берлин по приказанию Гейделя.
— Господин Ганс Шпейер, — улыбнулся немец, — я уже предупрежден о вашем приезде. Начальник русского отдела тоже будет рад вас видеть. Я думаю, что он сможет вас принять не позднее, чем завтра. Где вы остановились?
— В отеле «Адлон», — ответил Амосов.
— У вас нет родных в Берлине?
— Нет. Мои родные жили в Брауншвейге, но теперь в живых не осталось уже никого.
Разговор продолжался еще несколько минут, а затем Амосов простился и ушел, оставив свой адрес и телефон.
Амосов пошел пообедать. В ресторане гостиницы пиликал салонный оркестр, но котлеты от этого не становились вкуснее. Публики было мало, и, как объяснил Амосову портье, все столующиеся были приезжие.
— Берлинцы отвыкли от ресторанов, — со вздохом сказал он. — Не то время теперь — война… Да еще у обедающих вырезают мясные талоны из карточки, хотя мяса почти не дают. Где ж это видано? Скорей бы конец этой ужасной войне!.. Говорят, на Востоке много мяса и сала… Моя сестра часто получает богатые посылки от сына. Он служит офицером на Восточном фронте.
После обеда Амосов отправился на Фридрихштрассе, где жила семья Гейделя. Посылку ему пришлось тащить самому — ни такси, ни носильщиков не было. Найдя дом и квартиру Гейделя, Амосов позвонил. Костистая, сухопарая немка открыла дверь. Она оказалась женой Гейделя.
— Добрый день, фрау Гейдель, — сказал Амосов. — Господин Гейдель поручил мне передать вам эту посылку и письмо.
Фрау Гейдель побагровела от удовольствия и пригласила Амосова зайти. Оставив его в столовой, она унесла посылку в другую комнату. Судя по времени, которое она там находилась, и по доносившемуся оттуда шороху, фрау Гейдель знакомилась с содержимым посылки. По-видимому, она осталась довольна, так как вернулась в столовую, сияя улыбкой. В ответ на ее расспросы Амосов сообщил о здоровье Гейделя, передал от него привет и просил написать ему, что посылка получена.
— Не премину сделать это сегодня же, — сказала фрау Гейдель. — Я вам очень признательна за вашу любезность, герр Шпейер.
Она угостила Амосова жиденьким кофе, после чего он попрощался и отправился опять в главную квартиру. Его принял тот же пожилой немец и сказал, что начальнику русского отдела уже доложено о приезде Шпейера. Он добавил, что начальник просил Шпейера быть вечером здесь, так как он намерен его принять.
Амосов стал дожидаться приема. Он просмотрел один за другим три иллюстрированных журнала, после чего, наконец, был вызван к начальнику.
Открыв массивную дверь, Амосов вошел в большую светлую комнату с темной мебелью мореного дуба. Посреди комнаты стоял огромный письменный стол, заваленный бумагами, за которым никого не было. Амосов с интересом оглядел его и развешанные по стенам карты Украины и Белоруссии.
— Рад вас приветствовать, дорогой товарищ, — произнес по-русски чей-то голос за спиной Амосова. Обернувшись, Амосов оказался лицом к лицу с человеком средних лет, который, улыбаясь, очень внимательно его разглядывал.
Это и был начальник русского отдела гестапо,
18. Партизанские будни
Нельзя сказать, чтобы товарищ Петухов пришел в особый восторг от встречи с Кузьменко. Начальник зареченской милиции не очень любил этого озорного парня, хотя отдавал должное его талантам. Подвергнув Ваську тщательному допросу, чтобы выяснить, откуда, каким образом и с какой целью он здесь появился, Петухов пошел к командиру отряда, секретарю зареченского горкома Попову, которому доложил о случившемся.
При этом товарищ Петухов не преминул дать справку о прошлом Кузьменко, сообщил о двух его судимостях и осторожно высказался в том смысле, что, дескать, нужна ли в отряде такая «отпетая личность».
К удивлению Петухова, это не произвело должного впечатления.
— Озорной, говорить? — задумчиво сказал Попов. — Это хорошо, что озорной. Тихони нам здесь ни к чему.
— Боюсь, не доставил бы нам этот фрукт хлопот, — стоял на своем Петухов. — Вот чего я опасаюсь.
— А ты не опасайся, — улыбнулся Попов. — Парень он, как я припоминаю, не плохой. Ничего, человека из него сделаем. Но, между прочим, прошлого ему не вспоминай. А теперь приведи его ко мне.
Пожав плечами, Петухов вышел из землянки и пошел за Кузьменко. Попов встретил Ваську как ни в чем не бывало и сделал вид, что не знает о его пребывании в тюрьме.
— Давно из города? — спросил он.
— Вчера вышел.
— Ну что там новенького?
— Особых новостей нет. Вчера молебен был…
И Кузьменко рассказал о молебне и проповеди. Попов выслушал этот рассказ с удовольствием.
— Молодец поп! — произнес он. — Надо бы его к нам в отряд притащить. Только кто же он, откуда взялся?
— Не знаю, — ответил Кузьменко.
— А ты к нам надолго? Или погостить?
— Прошу зачислить меня в отряд, — сказал Васька, покраснев от страха, что встретит отказ.
— Хорошим людям всегда рады, — улыбнулся Попов и, обращаясь к Петухову, добавил:
— Надо гостя принять, накормить. Позовите мне нашу хозяюшку.
Петухов вышел и вскоре вернулся с высокой смуглой девушкой.
— Слушаю, Андрей Николаевич, — произнесла она певучим голосом.
Васька, услыхав этот голос, вскочил с места.
— Галя! — взволнованно крикнул он.
— Здравствуйте, Вася, — тихо ответила девушка.
— Э, да вы, я вижу, знакомы, — произнес Попов, широко улыбаясь. — Стало быть, мне и хлопотать за тебя, парень, нечего. Галя без меня догадается, как гостя принять. Верно, Галя?
— Постараюсь, Андрей Николаевич, — ответила девушка, приходя в себя. — Идемте, Вася.
Они вышли из командирской землянки. Васька, внутренне ликуя, шел за нею. Галя шла молча, изредка оборачиваясь, чтобы посмотреть, не отстал ли он.
— Ночи-то теперь сырые, — нерешительно начал Кузьменко.
— Осень, — коротко произнесла Галя.
— А здесь вам не скучно? — не зная, что говорить, ляпнул Кузьменко.
— Хорошие гости приезжают, — ядовито ответила девушка. — А вам тут не страшно?
— Вам должно быть известно, что я не из робких.
— Мы оба не из робких… Но ведь я давно вас не видал.
— Разве давно? Что-то я и не заметила, — опять съязвила Галя.
Это определило дальнейшее. Васька обиделся. Он отказался от ужина и спросил, где устроиться. Галя проводила его в общую мужскую землянку. Он холодно поблагодарил девушку и молча завалился на койку.
Но заснуть не мог. Не спалось и Гале. Всю ночь она пролежала с открытыми глазами, думая о нем. В течение всего времени пребывания в отряде Галя ни на один час не забывала о Кузьменко. Она не знала, где он, какова его судьба. Галя любила его и не боялась признаться себе в этом. Осторожно, стараясь не выдать своего волнения, Галя расспрашивала Петухова, куда исчез Кузьменко, но Петухов сам ничего не знал. И вот сейчас Вася здесь, в отряде, рядом в землянке. Как хорошо, что она и виду не подала, что рада его приходу. Надо с ним и впредь держаться строго, чтобы он ничего не понял. А как он, бедный, похудел, видно туго ему пришлось это время. И он такой же рыжий, но очень симпатичный… Как смешно стоят у него волосы — ежиком. Верно, их в тюрьме так стригут. Но это его не портит. Только он совсем как маленький… Сколько лет прошло с того дня на Зеленой горе? Пять лет… А сколько это месяцев — целых шестьдесят, значит двести сорок недель… неужели это было так давно? Как мчится время, даже страшно! А все кажется, что это было вчера, не дальше. А чему так улыбался Андрей Николаевич? Неужели он что-нибудь заметил? Ой, только бы нет!..
— Подумаешь, задается, — ворчал в это же самое время Васька, ворочаясь с боку на бок на койке. — Эти девчонки думают, что без них мы не можем обойтись… Дуры!.. И вообще заниматься любовью во время войны могут только кретины. Хорошо, что я виду не показал, что рад ее видеть… Пусть не задается. Подумаешь, какая птица!
Быстро время бежит!.. Уже месяц прошел с того дня, как Кузьменко нашел партизанский отряд. Он успел за эти тридцать дней познакомиться с партизанскими буднями, а партизаны полюбили его за веселый нрав, за удивительную смелость и находчивость.
Нигде не узнаются люди так скоро и так верно, как в боевой обстановке, где человек проходит самое трудное и надежное испытание — испытание кровью.
Кузьменко не терялся в самых острых и рискованных операциях, которые проводил отряд, и удивительно легко находил выход из самых затруднительных положений. При всем том он никогда не был безрассуден и не признавал риска ради риска, без пользы для дела.
— Молодец Вася, — говорил о нем командир отряда. — Быть просто храбрецом — это еще недостаточно. Надо быть умным храбрецом. Легче всего — просто положить голову. Это небольшой подвиг. А вот голову сохранить и задание выполнить — это умения требует.
И, подумав, неизменно добавлял:
— Положить голову без крайней необходимости — это значит идти по линии наименьшего сопротивления. Это, в сущности говоря, оппортунизм…
В этом смысле назвать Кузьменко оппортунистом было нельзя, так как из всех операций он возвращался, сохранив голову в целости и с выполненным заданием.
С Галей за это время он встречался по нескольку раз в день: на стрельбищах, в штабе отряда, где Галя постоянно работала, и порою на отдыхе. Во всех этих случаях они были суховаты друг с другом и оба делали вид, что о прошлом не может быть и речи. Девушке это удавалось лучше: она вела себя очень ровно, корректно, но безразлично. Васька же иногда срывался: язвил, принимал чересчур холодный вид или вдруг замолкал и начинал дуться.
Товарищ Петухов по-прежнему косился на Кузьменко, явно сторонился его и вместе с тем старался наблюдать за его поведением.
Командир отряда замечал, что Петухов продолжает неприязненно относиться к Кузьменко, и даже несколько раз разговаривал с ним по этому поводу.
— Я ему ничего плохого не делаю, — отвечал Петухов, — а что я о нем думаю — это уж, извините, мое частное дело.
И вот однажды в отряд поступили сведения, что на соседнем большаке движется немецкий обоз с боеприпасами. Узнав об этом, командир отряда задумался, а затем почему-то улыбнулся и вызвал к себе Кузьменко и Петухова. Когда они оба явились, командир рассказал им о полученных сведениях и приказал вдвоем направиться на большак и ликвидировать обоз.
Молча выслушав приказание, они вышли из командирской землянки и стали готовиться к операции. Через час, когда начало темнеть, оба уже направлялись к большаку. Всю дорогу шли молча. Придя к большаку, они замаскировались и притаились в придорожной канаве.
Через некоторое время послышался скрип приближающегося обоза. Ветром доносило обрывки немецкой речи.
— Едут, — шепнул Петухов. — Главное, не спеши. Подпустим поближе, а тогда начнем: ты — гранатами, а я — из пулемета.
Петухов был абсолютно спокоен. Васька мысленно поставил это в плюс начальнику раймилиции.
Наконец, немцы приблизились на такое расстояние, что уже ясно различались контуры повозок и солдатских фигур. Петухов чуть толкнул Ваську в бок, давая этим знак, что пора начинать. Васька перевел предохранитель на гранате и метнул ее в первую повозку. Раздался грохот, лошадь взвилась на дыбы и свалилась на бок. В ту же секунду застрочил пулемет Петухова. Немцы стали разбегаться в разные стороны, крича и беспорядочно стреляя из автоматов. Лошади испуганно ржали и метались, ломая оглобли. Васька методично бросал гранату за гранатой, с неизменной точностью попадая в цель. Один, другой, третий воз с боеприпасами взлетели на воздух. Многие из немцев уже валялись под ногами обезумевших лошадей, и всю эту картину озаряли багровым светом вспышки разрывов.
Но вот один из немцев бросился на Кузьменко, который привстал из канавы, чтобы вернее метнуть гранату. За ним кинулось еще несколько. Петухов снял двух очередью из автомата, в остальных Васька бросил гранату. Совсем рядом раздался оглушительный взрыв, и Кузьменко едва успел спрятаться в канаве от осколков. Через мгновение он поднял голову и увидел, что Петухов окружен немцами. Васька бросился к нему. Выхватив из рук Петухова ручной пулемет и действуя им как дубиной, Васька свалил двух немцев. Третьего он сшиб с ног ударом головы под ложечку, но в это время еще один немец, внезапно выросший перед ним как из-под земли, в упор выстрелил в него.
— Врешь, фашистская морда! — закричал Васька и, почувствовав, что его словно чем-то обожгло, с удесятеренной яростью набросился на немца, схватил его за горло и начал душить. Немец захрипел и упал, потеряв сознание. Взяв выпавший из его рук маузер, Васька плашмя бросился наземь и стал стрелять по немцам.
В этот момент Петухов вырвался из схватки и, обливаясь кровью, закричал во все горло:
— Бей их, лупи! Слева, смотри слева!
Васька обернулся и увидел двух немцев, которые подбегали к нему с левой стороны. Двумя выстрелами он уложил их. Остальные разбежались.
Когда все утихло, Кузьменко окликнул своего товарища. Но Петухов только тихо стонал. По-видимому, он уже был без сознания. Васька разорвал на себе рубаху и перевязал раны Петухова в боку и на шее. Потом он перевязал свою рану. Превозмогая сильную боль, Кузьменко с трудом взвалил на плечи грузного Петухова и медленно поплелся в отряд.
Он шел очень долго и часто уставал настолько, что боялся потерять сознание. Тогда он ложился навзничь, отдыхал, жадно глотая свежий морозный воздух, и вновь пускался в путь.
Когда он пришел в отряд, было уже светло. Огромное багровое, только что вставшее солнце освещало стволы сосен, среди которых темнела знакомая фигура. Это была Галя, которая целую ночь в тревоге ждала их возвращения.
— Вася! — крикнула она в испуге, увидев, как он, шатаясь, бредет из последних сил.
Но Кузьменко уже ничего не мог ответить девушке, он медленно повалился на землю, уронив с плеч тяжелое тело Петухова.
Петухов и Кузьменко очнулись одновременно и вместе, как по команде, открыли глаза. Оба лежали в партизанском «госпитале», оборудованном в самой просторной и сухой землянке. Неяркое пламя приспущенной керосиновой лампы мягко освещало неровные, обшитые свежим тесом стены землянки, некрашеный, но чистенький сосновый столик с лекарствами и две низкие, сколоченные из досок койки.
На табуретке, стоящей между двумя койками перед столиком, дремал, посапывая, партизанский доктор Эпштейн. Когда немцы подходили к городу, Эпштейну было предложено эвакуироваться. Но он наотрез отказался уехать из Зареченска, в котором врачевал почти сорок лет, знал наперечет все семьи и был на «ты» с половиною жителей.
— Не поеду! — решительно заявил он в горкоме, куда его вызывали для переговоров. — Я здесь кум в каждом втором доме. На моих руках сотня больных, которых я не могу покинуть.
— А если город придется оставить? — спросил секретарь горкома, отводя глаза в сторону.
— Я думаю, что и тогда мне найдется работа. Но, разумеется, уже не в самом городе…
— Не понимаю, — попытался схитрить секретарь горкома. — Что, собственно, доктор, вы имеете в виду?
— Я имею в виду требования партии и правительства, — ответил Эпштейн. — В них весьма определенно сказано, чем должны заниматься советские люди в оккупированных районах. И секретарь горкома, конечно, хорошо помнит, что в этом докладе не сделано исключения для врачей. Короче говоря, мои шестьдесят с хвостиком отнюдь не повод для того, чтобы не зачислить меня в партизанский отряд.
— Все ясно, — улыбнулся секретарь горкома. — Оставайтесь пока здесь.
И доктор Эпштейн остался, а затем вместе с партийным активом ушел в отряд. Здесь он прежде всего наладил медицинскую часть: выбрал и оборудовал землянку, получившую громкое название «стационара», и стал тщательно оберегать здоровье бойцов отряда. Стоило кому-нибудь из партизан схватить насморк, как доктор немедля заводил на него подробную «историю болезни» и начинал мучить несчастного термометром, ядовитыми горчичниками и банками.
— Заразы не потерплю! — грохотал Эпштейн в ответ на их мольбы и стенания. — Грипп в этих условиях все равно что чума. Как лицо, ответственное за медико-санитарное состояние отряда, не желаю входить в дискуссии с бациллоносителями. Изолировать в стационаре, а там видно будет.
Месяца через два старик с корнем ликвидировал всяческие следы гриппа и терроризировал партизанскую кухню требованиями строжайшей санитарии. Партизаны отменно поздоровели на свежем воздухе, отлично выглядели, не жаловались на печень и совершенно перестали чихать. Поле деятельности доктора Эпштейна катастрофически сокращалось, он скучал, осунулся, ходил с мрачным видом и, наконец, явился к командиру отряда.
— Что нового, доктор? — приветливо спросил его Попов. — Что за мрачный вид? Не обнаружены ли вспышки тропической малярии, индийской чумы или афганской холеры?
— Вы все шутите, — возразил Эпштейн, — а мне, право, не до шуток. Впервые за последние сорок лет я чувствую себя бездельником. Клинического материала почти нет. И знаете, что я надумал?
— Признаться, нет.
— В немецких обозах нередко попадаются отличные медикаменты. Но наши люди не понимают в них ничего. Наличие на месте специалиста, как мне думается…
— Не хитрите, — перебил его Попов, — скажите прямо, что вам хочется разок пойти на операцию, и не подводите под это фармацевтической базы.
— А если хочется, так что за беда? — не сдавался старик. — Ну, хочется.
Начался спор. И, как ни упорствовал командир, Эпштейн настоял на своем. Взяв со старика честное слово, что он удовлетворится одной вылазкой, командир разрешил ему пойти на операцию. Эпштейн был послан с группой партизан заминировать полотно железной дороги. Доктору повезло: на обратном пути произошла небольшая перестрелка с немецким разъездом. Одним словом, получилось настоящее дело. Как рассказывал потом сам Эпштейн, он никогда еще «не проводил такого содержательного вечера».
Таков был «партизанский доктор», мирно дремавший в тот момент, когда Петухов и Кузьменко пришли в себя.
Когда взгляды их встретились, они оба сразу вспомнили все, что с ними произошло.
— Спасибо, браток, — коротко произнес Петухов, стараясь не смотреть Ваське в лицо. — Спас ты меня, а сам, видать, тоже был ранен. Небось на себе тащил?
Кузьменко посмотрел на своего недавнего врага и мгновенно всем сердцем понял: все, что стояло между ними в течение этих лет, рухнуло окончательно и навсегда, так что взаимной настороженности и неприязни уже нет места.
— Рана болит? — спросил он, уклоняясь от ответа.
— Ноет немного, — ответил Петухов и хотел сказать еще что-то, но вскочил проснувшийся доктор и закричал:
— Это что еще за разговоры! Митинг в стационаре? Категорически запрещаю!.. Больные, вам предписан абсолютный покой, постельный режим и усиленное питание. А ну, повернуться спиной друг к другу!
Петухов и Кузьменко стали, ворча, поворачиваться на другой бок. В это мгновение послышались чьи-то легкие шаги, и Васька сразу почувствовал присутствие Гали.
— Ну, как дела, доктор? — тихо спросила девушка. — Когда же, наконец, он… они придут в себя?
— Он… простите, я хотел сказать — они… уже пришли в себя, — лукаво ответил Эпштейн. — Сейчас я разрешу им по очереди повернуться к вам лицом, ибо делать это одновременно им противопоказано.
Нужно заметить, что доктор Эпштейн давно уже отлично понимал, почему Галя путается в местоимениях и кого из двух пациентов ей хочется поскорее увидеть. Тем не менее Эпштейн произнес, сохраняя все то же серьезное выражение лица:
— Товарищ Петухов, повернитесь лицом к товарищу Соболевой.
— Есть повернуться к товарищу Соболевой, — ответил вместо Петухова Кузьменко и резким движением повернулся лицом к Гале.
— Вася! — воскликнула девушка и, уже не будучи в силах сдержаться, бросилась к нему.
Петухов, который тоже успел повернуться, взглянул на доктора, почему-то подмигнул ему и с тяжелым вздохом вновь отвернулся к стене. Скоро он притворился, что спит, и даже начал похрапывать.
Доктор Эпштейн в свою очередь вспомнил о «совершенно неотложном деле» и поспешно покинул землянку, строго бросив Гале:
— Пожалуйста, не оставляйте до моего прихода больного.
19. Прогулка в Зареченск
А через два месяца грянули морозы, стали реки, дороги замело сугробами; по утрам дымились инеем леса, по ночам протяжно пели вьюги — пришла зима.
Оккупанты в Зареченске зарылись в домах, как кроты. Они боялись высунуть нос на мороз и опасались выезжать за город в эти хмурые и опасные леса, в эти непонятные им, необъятные снежные пространства захваченной, но непокоренной земли.
Однажды вечером командир отряда вызвал к себе Кузьменко и сказал, что надо пробраться в город, разузнать, как идут там дела и какова численность немецкого гарнизона. Командир больше ничего не сказал, но по особой сосредоточенности его лица и сухости тона Кузьменко понял, что это не обычная разведка и что назревают большие события.
Командир приказал ему отправиться в город вместе с Галей, которую знали на подпольной явке.
— Долго там не задерживайтесь, — сказал командир на прощанье. — А главное — не лезьте на рожон.
Выйдя из командирской землянки, Кузьменко пошел к Гале и передал ей полученное приказание. Он был уже совсем здоров и спокойно мог отправиться в далекий путь.
На рассвете Галя и Кузьменко вышли на лыжах из леса.
Фиолетовая дымка стлалась над заснеженными полями, предвещая солнечное и морозное утро. Галя и Васька летели по крепкому насту, быстро оставляя за собою километры пути. Изредка Васька, шедший впереди, оборачивался к следовавшей за ним девушке и спрашивал, не устала ли она.
Часа через три они подошли к городу. Огромное солнце медленно поднималось из-за кромки горизонта, окрашивая поля в причудливые фантастические тона. Там и сям темнели перелески, словно догоравшая ночь еще цеплялась за них. Кузьменко решил подойти к городу со стороны Зеленой горы. Галя согласилась с его решением. Они сделали последнюю остановку и передохнули несколько минут.
— Ну, двинулись, — сказал он, наконец, и пошел вперед. Галя тронулась за ним.
Вскоре они достигли Зеленой горы. Знакомая с детских лет прекрасная картина широко раскинулась перед ними. Справа, прильнув к подножию горы, безмятежно дремал городок. Слева, за снежной гладью озера, тянулись бескрайние поля, синевато-розовые просторы которых уже искрились в первых солнечных лучах. День еще не настал как следует, а трубы на крышах уже дымились, и в тишине морозного утра ленивые столбы дыма стояли неподвижно, словно нарисованные на голубом полотне неба.
Кузьменко огляделся вокруг, как бы стремясь вобрать в себя эти просторы, весь этот мирный пейзаж.
А через минуту, подойдя к самому краю горы и проверив крепление своих лыж, Кузьменко сильно оттолкнулся и понесся вниз. За ним ринулась Галя.
Через несколько минут они были на окраине городка, который уже начинал просыпаться.
В одном из домиков этой окраины находилась вторая партизанская явка, которую содержала Дарья Прохоровна Максимова, старая акушерка городской больницы.
Несмотря на то, что Дарье Прохоровне шел уже седьмой десяток, она была еще совсем бодра, не бросала работу и никогда не жаловалась на нездоровье. Ее широкое добродушное лицо, ее плотная, крепкая фигура, совершенно седые, серебристые волосы, которые только подчеркивали молодой блеск ее глаз, смуглый румянец тугих, не по возрасту свежих щек свидетельствовали о здоровой старости.
У Дарьи Прохоровны не было своих детей, но добрую половину города она принимала при рождении, всех их считала своими крестниками и любила, как собственных детей. Она не была членом партии, но когда Зареченск заняли немцы и понадобилась надежная кандидатура для партизанской явки, то выбор остановился на Дарье Прохоровне. Когда ей сообщили об этом и спросили прямо, не страшно ли браться за такое дело, Дарья Прохоровна только усмехнулась и просто ответила:
— А то нет? Конечно, страшно. А рожать бабам разве не страшно? А ведь ничего, рожают… Страшно, да нужно.
Она деловито расспросила о подробностях, договорилась о способах связи, вызубрила на память пароли, не желая их записывать, и, уходя, сказала:
— А за то, что доверились старой бабке, благодарствую и век не забуду. Лестно, не буду скрывать, очень лестно.
Выбор оказался удачен: Дарья Прохоровна отлично справлялась со своими новыми обязанностями. Она оказалась великолепным конспиратором, была осторожна и предусмотрительна и, кроме того, не вызывала никаких подозрений. Когда Галя и Кузьменко появились на пороге домика акушерки, Дарья Прохоровна возилась у печи с ухватом. Она знала обоих со дня их рождения, но все-таки, сделав непроницаемое выражение лица, спросила:
— Какая температура у роженицы?
— Тридцать семь и одна, — ответил Васька.
— Первые роды?
— Вторые.
— Кого ждете: мальчика или девочку?.
— Родителям безразлично.
Удовлетворившись этим условным паролем, Дарья Прохоровна пригласила гостей в комнаты. Здесь она подробно изложила им все городские новости. Оказалось, что немцы по вечерам стараются не выходить на улицу, что гарнизон в городе не пополнялся и что Трубников продолжает восседать в «магистрате». Кузьменко спросил о судьбе священника. Дарья Прохоровна ответила, что Трубников, опасаясь мести народа, священника не выдал. Однако горожане для большей безопасности на следующий день после проповеди уговорили этого священника уехать в деревню, что он и сделал.
Рассказывая обо всем этом, Дарья Прохоровна быстро накрыла на стол, достала из старого буфета посуду, внесла из кухни пыхтящий самовар, а затем подала своим гостям свежие пышки, маринованные грибы и рыбу.
Галя и Васька, проголодавшиеся с дороги, поглощали всю эту снедь с аппетитом.
Поев, они стали совещаться о дальнейшем. Было решено покинуть город ночью, когда стемнеет. К тому времени Дарья Прохоровна взялась добыть еще кое-какие сведения. Заперев Галю и Кузьменко в доме, старушка пошла по своим делам.
К вечеру Дарья Прохоровна вернулась и сообщила, что в городе все спокойно. Немецкий гарнизон все тот же, новые части за последнюю неделю в город не приходили. Комендант живет на старой квартире и, как обычно, по вечерам старается не выходить на улицу. Патрульную службу в самом городе несут немцы, а у застав дежурят главным образом постовые из «русской полиции».
Получив все эти данные, Галя и Васька дождались наступления темноты и осторожно выбрались из города.
Через три дня, вечером, бургомистр Трубников вышел из «магистрата», направляясь к себе домой. На улицах было уже пустынно. Под ногами поскрипывал снег. Трубников поднял воротник: было морозно.
На базарной площади навстречу ему попался длинный крестьянский обоз с сеном.
Трубников подошел к первому возу и спросил:
— Кто такие, куда едете?
— До коменданта, сено везем по наряду, — спокойно ответил парень, шагавший рядом с дровнями.
Трубников, сам не зная почему, осветил лицо парня электрическим фонариком и хотел было спросить у него документы, но слова застряли в горле: перед ним стоял Кузьменко.
Не успел он произнести и слова, как Васька оглушил его страшным ударом в висок. Через мгновение Трубников был связан и положен на дровни, под копну сена, откуда вылезли двое партизан.
Из других саней длинного обоза тоже стали вылезать спрятанные в сене люди. В сумрачное небо с треском взлетела зеленая ракета. И сразу со всех концов застучали пулеметы, закуковали автоматные короткие очереди, загремели взрывы ручных гранат. Полуодетые захватчики, испуганно выскочившие из здания школы, не успели даже крикнуть свое традиционное «Гитлер капут» — они были мгновенно убиты. Тучный комендант выскочил в одном белье из своего особняка, с маузером в руках, но его навеки успокоила партизанская пуля.
А через два часа в здании горкома уже заседала тройка по восстановлению в городе советской власти.
Председатель тройки — командир партизанского отряда, он же секретарь Зареченского горкома, — позвонил в колокольчик и привычно начал:
— Заседание объявляю открытым. Полагаю, что кворум имеется…
Он остановился и невольно улыбнулся: кворум действительно был налицо. Кабинет, все соседние комнаты, коридор, крыльцо дома были до отказа наполнены народом. Улица была черна от густой толпы. Сбежавшиеся со всех сторон жители напирали друг на друга; мальчишки гроздьями свисали с ветвей деревьев.
В дремучих лесах Белоруссии Плотников и переехавшая к нему Шура продолжали свою партизанскую деятельность. Вместе работали в отряде, вместе ходили в разведку, вместе не раз принимали участие в боевых делах партизан. Так прошло полтора года.
Отряд, в котором они состояли, оперировал в районе Гомеля. Топкие, почти непроходимые леса служили великолепным убежищем для партизан. В каждой деревушке, в каждом селе, в каждом местечке отряд имел надежных людей, с которыми поддерживал постоянную связь. Командир отряда Глухов, уже не молодой молчаливый человек с отечным лицом почечного больного, полюбил Плотникова и Шуру, как родных детей. Его единственный сын Сергей был на фронте, и Глухов давно не имея о нем никаких известий. По вечерам, играя с Плотниковым в шашки или совещаясь с ним о деталях очередной операции, ловя сосредоточенный взгляд Плотникова, слыша его голос, его заразительный смех и видя, как он, задумываясь, смешно, совсем по-детски, морщит лоб, Глухов ловил себя на мысли, что Плотников чем-то напоминал ему Сергея.
Осень 1943 года активизировала деятельность партизан. Долгие ночи и грязь на дорогах облегчали налеты на немецкие обозы и диверсии на железнодорожных путях. Плотников, отлично усвоивший подрывное дело, считался в отряде специалистом по организации железнодорожных катастроф. Не один немецкий эшелон с грузами пустил он за это время под откос.
Отличная связь с местным населением обеспечивала партизанам хорошую информацию о железнодорожных перевозках немецких военных грузов. Поэтому взрывалось именно то, что было нужно, и тогда, когда было нужно. Немецкая полевая жандармерия и отряды гестапо сбились с ног, пытаясь выяснить, откуда у партизан такая точная информация, но так и не добились толку.
В последние дни партизаны получили сведения, что немцы подготавливают следование эшелона с особо секретным грузом, имеющим исключительную ценность. Это можно было заключить из того, что немцы резко усилили охрану железнодорожных мостов и полотна на участке Минск — Гомель. Сотрудники гестапо начали непрерывно дежурить на железнодорожных станциях. Были тщательно проверены все семафоры, стрелки, шпалы. День следования маршрута, для которого проводились все эти мероприятия, сохранялся в строгой тайне.
Глухов мобилизовал все возможности, чтобы выяснить, в чем дело. Ежедневно десятки партизан и партизанок уходили в разведку, встречались с железнодорожниками и возвращались с одним и тем же результатом: идет невиданная подготовка участка пути, но когда именно и с каким грузом проследует таинственный эшелон — никому не известно.
Учитывая усиленную охрану, выставленную немцами в эти дни на участке Минск — Гомель, нечего было и думать о минировании полотна, тем более что дважды в сутки специально прибывшие немецкие специалисты проверяли все секторы участка; кроме того, немцы ввели непрерывные подвижные патрули на автодрезинах. Глухов ломал себе голову, стремясь найти выход. И, как всегда, в случаях, требующих особой находчивости, он обратился к Плотникову. Они просидели вдвоем несколько часов, обсудили все варианты и взвесили все возможности. Наконец, Плотников сказал:
— Вот что, Иван Семенович! Сколько бы мы здесь ни думали, толку не будет. Тут дело такое: надо на риск идти. Пошлите меня.
— Куда? — спросил Глухов.
— Не знаю. Надо идти и решить на месте. Лучше всего, по-моему, к разъезду Скворцово. Там глушь, лес рядом, можно пару дней укрываться. А за это время, может быть, удастся разгадать загадку.
Глухов задумался. Плотников был в сущности прав. Правда, жаль было рисковать одним из лучших людей, но иного выхода не было.
— Один пойдешь? — спросил он, тем самым давая согласие на предложение Плотникова.
— Да, — ответил тот. — Тут лишний человек только обуза. Да и пробраться вдвоем будет труднее.
Решили, что в тот же вечер Плотников направится в Скворцово. В течение оставшихся ему немногих часов он запаковал взрывчатку в портативную оболочку, отобрал себе в путь несколько «мадьярок» — маленьких трофейных мин — и продукты на несколько дней. Шура, привыкшая к тому, что Плотников всегда брал ее с собой, удивилась, узнав, что на этот раз он решил пойти один.
Плотников объяснил ей, почему он решил обойтись без нее. Она признала, что он прав, хотя в глубине души ей очень не хотелось отпускать его одного.
Поздней ночью Плотников добрался до Скворцова — глухого разъезда, отдаленного от населенных пунктов. Сырая осенняя ночь словно потопила в черном лаке маленький домик путевого сторожа. Тусклый фонарь, раскачиваемый резкими порывами ветра, был не в силах пробить ночной мрак и лишь на мгновение вырывал из него то поблескивавший кусок рельсов, то мокрые шпалы, то горку гравия, предназначенного для ремонта пути. Плотников прислушался: где-то вдалеке тревожно ревела сирена автодрезины. Рев этот все нарастал. Вскоре стал слышен стук приближающейся дрезины и показались зеленоватые огни ее фар, горевшие в темноте, как глаза хищного животного. Плотников прыгнул в глубокую канаву, вырытую вдоль железнодорожной насыпи, и растянулся на дне. Дрезина подошла к разъезду и остановилась почти у того самого места, где лежал Плотников. Судя по тому, что мотор не заглушили, дрезина остановилась ненадолго. В дрезине ехал патруль. Плотников отчетливо расслышал немецкие слова, а затем протяжно заревела сирена — это вызывали сторожа. Он вскоре вышел, и один из немцев заговорил с ним на ломаном русском языке.
— Ну, что есть нового? — спросил немец.
— Да какие ж новости, господин офицер? — ответил сторож. — Всего час прошел, как вы тут были: много ли за час могло приключиться? Вот дождь прошел…
— Какие-нибудь люди не проходили?
— Откуда им взяться, людям-то? Сами видите, какая тут глушь. Здесь не то что людей — волка не увидишь: такое уж завидное место, прости ты, господи…
— Ну ты, сторож, смотри, это очень важный есть приказ. Будешь смотреть, будешь не спать — будешь потом иметь награда.
— Покорно благодарим, господин офицер.
— Через час опять приедем. Смотри не зевай!
Дрезина зарычала и умчалась. Потом зашуршал гравий под ногами сторожа, уходившего к себе в домик, и опять наступила ночная тишина, только подчеркиваемая завыванием ветра и скрипом раскачиваемого ветром фонаря.
Плотников вылез из канавы, отряхиваясь, как мокрый пудель. Вода забралась в сапоги, под ватник, в рукава — всюду. Надо было торопиться закладывать мину, так как немцы могли скоро вернуться. Он отошел от разъезда шагов на сто, вынул маленький лом и начал выворачивать шпалу. Вырыв под ней ямку для мины, он стал осторожно ее утрамбовывать. Едва он закончил работу, как донесся рев дрезины, возвращавшейся обратно. Плотников снова нырнул в канаву. Дрезина опять остановилась у разъезда на мгновение, потом поехала дальше и скрылась в темноте. Можно было предполагать, что через час она снова вернется и так всю ночь будет объезжать участок. Это осложняло задачу, так как Плотникову нужно было взорвать таинственный поезд, а вовсе не дрезину. Следовательно, пока нельзя было прилаживать к мине запал. Сделать это можно было, лишь убедившись в том, что идет, наконец, поезд, а не дрезина.
Возникала другая трудность: отличить поезд от дрезины Плотников мог только по шуму в момент его приближения. Значит, в его распоряжении оставались считанные секунды, в течение которых нужно было успеть приладить запал и самому отбежать на достаточное расстояние. И, наконец, не было уверенности в том, что этот проклятый поезд пройдет ночью, а не днем, когда проделать все это будет уже немыслимо. Судя по всему, немцы придавали этому поезду совершенно особое значение, и вряд ли они стали бы пропускать его ночью.
Пока Плотников размышлял обо всем этом, время шло. Патрульная дрезина еще раз проехала мимо разъезда, а поезда все не было. Прилаживать запал было бессмысленно. Так, в напряженном ожидании, летело время. Незаметно стала таять темнота. Горизонт начал светлеть: наступало утро.
Оставаться дальше у полотна железной дороги было опасно. Плотников решил скрыться в лесу, немного передохнуть там после бессонной ночи и продумать, как быть дальше. Тщательно замаскировав гравием следы своей ночной работы и запомнив место, где была зарыта мина, он двинулся в глубь леса, захватив с собой пружину и запал.
Пройдя километров пять, он наткнулся на сухую полянку, выбрал себе с краю местечко поуютнее, натаскал туда хворосту и листьев и через минуту заснул, как в детстве, беспечно и крепко.
Он проспал часов пять и проснулся от детских голосов. Протерев еще сонные глаза, он увидел группу крестьянских детей, игравших на полянке. Очевидно, где-то недалеко была деревня.
Играли несколько мальчиков в возрасте от восьми до десяти лет. Дети не видели Плотникова, лежавшего за деревом и большой кучей хвороста. Они играли в войну. Плотников с интересом наблюдал за ними. Очень скоро он понял, что перед ним происходит добровольная сдача в плен немецкого фельдмаршала фон Паулюса и вообще на полянке разыгрывается финал сталинградской битвы. Удивленный, что здесь, в оккупированном районе, крестьянские дети настолько в курсе военных событий, Плотников с интересом следил за их игрой. Генерал-фельдмаршал фон Паулюс шел сдаваться в плен, тяжело ступая и низко опустив голову. У фельдмаршала было скорбное лицо. Его сопровождали два красноармейца с винтовками, выстроганными из деревянных палок. Винтовки они держали наперевес и не спускали глаз с фельдмаршала, по-видимому опасаясь, как бы он в последний момент не задал драпу. На противоположной стороне поляны стоял на бревне командующий фронтом Рокоссовский. Подойдя к нему, фон Паулюс вытянулся, щелкнул босыми пятками (вообще весь генералитет, несмотря на осень, был без обуви) и взял под козырек. Рокоссовский после многозначительной паузы прищурился и тихо сказал:
— Пожалуйте, пожалуйте. Давно вас поджидаем, герр фельдмаршал фон Паулюс. Русские прусских всегда бивали.
Неизвестно, чем закончился бы этот исторический разговор, если бы на полянку не выбежала неожиданно какая-то девочка, которая закричала, обращаясь к Рокоссовскому:
— Мишка, мамка сказала, чтоб сей минут шел кашу есть, а то она с тебя штаны спустит…
Командующий фронтом досадливо шмыгнул носом и, лихо сплюнув в сторону, проворчал:
— Одно слово, бабы! Тут сталинградскую операцию завершаем, а вы со своей кашей!.. Ладно, счас приду.
Девочка убежала. Рокоссовский снял с себя ушастый шлем со звездой, то же самое сделали остальные ребятишки. Все стали прятать свои доспехи под бревно. В этот момент Плотников вышел на полянку. Дети, разинув от неожиданности рты, молча смотрели на него.
— Не бойтесь, ребята, я свой, — сказал Плотников и спокойно закурил. — Далеко ли отсюда живете?
— С версту будет, — ответил Рокоссовский. — А тебе какое дело?
— В Сталинград играете? — спросил Плотников. — Так, так. Люди кровь проливают, на фронте с немцами бьются, а вы, как маленькие, играми занимаетесь. Оно, конечно, спокойнее… Рокоссовский, твой батька где? Небось фашистам прислуживает?
— Мой батька в Советской Армии, а не у фашистов, — возразил мальчик. — И брат тоже на фронте. Что же ты зря говоришь?
— И мой! И мой! — закричали наперебой остальные ребята.
— Тогда извините: не угадал. А я думал, что вы за фрицев.
— Ты-то сам за кого? — перебил Плотникова Рокоссовский. — Разговорился! За фрицев, за фрицев… Чего тебе здесь надо?
Вопрос был поставлен в лоб. Плотников посмотрел на ребятишек, на их босые, посиневшие ноги и пытливые глаза, посмотрел, подумал и решился.
— Вот что, ребята, — сказал он. — Так и быть, я вам откроюсь. Скажу, зачем я здесь и почему. Вы уже не маленькие, я вам доверяюсь. Я, ребята, партизан. И нахожусь здесь со специальным заданием. Если вы честные парни, не трусы, не плаксы, помогите, а если маменькины сынки, болтуны, — вы мне не компания.
— Ну, а чем помочь-то? Оружие если, так у нас есть.
— Какое оружие? Чего ты врешь? — рассердился Плотников.
— А то нет! Раз говорю есть, значит есть!
— Да откуда оно у вас взялось?
— Откуда, откуда! Вот, смотри!
Ребята, дружно навалившись, с трудом отодвинули толстое бревно, под которым оказалась хорошо замаскированная яма. В ней, к великому удивлению Плотникова, действительно лежали настоящие немецкие автоматы, гранаты и патроны. Как потом объяснили Плотникову мальчики, они раздобыли это оружие еще в 1941 году, подбирая его в различных местах, где происходили бои. Оружие это дети хранили тайком от взрослых и, что особенно удивило Плотникова, великолепно его освоили. Они тут же мгновенно разобрали и собрали по частям автомат, показали гранаты трех систем и объяснили разницу в их устройстве. На вопрос, зачем они хранят это оружие, ребята ответили, что, во-первых, они пустят в ход его против гитлеровцев, когда подойдет Советская Армия, во-вторых, это вообще интересно.
Разговор затянулся и принял непринужденный характер. Потом Мишка, вспомнив о материнской угрозе, сбегал домой, оставив Плотникова с товарищами, но вскоре возвратился. Когда Плотников спросил его, не разболтал ли он дома об их знакомстве, Миша обидчиво ответил:
— Что я, девчонка, что ли, языком трепать?
Убедившись, что имеет дело с надежным народом, Плотников посвятил ребят в существо своей задачи. Он решил привлечь их к делу, использовав мальчиков для дневной разведки. Появление детей у железнодорожного полотна, естественно, не могло вызвать особых подозрений.
Когда он объяснил ребятам, что от них требуется, они восторженно приняли его предложение. Было решено, что трое мальчиков пойдут в разведку, Мишка будет дежурить у места, где зарыта мина, и при приближении поезда подаст знак Плотникову, который будет прятаться в лесу, непосредственно примыкающем к железнодорожному полотну.
Сумрачный осенний день стоял над лесом, в котором залег Плотников, не сводя глаз с маленькой фигурки Мишки, разгуливавшего у самого полотна железной дороги. Остальные ребятишки еще не вернулись с разведки. За те два часа, что Плотников и Мишка дежурили на своих местах, немецкая патрульная дрезина проехала мимо два раза. В первый раз немцы не обратили внимания на крестьянского мальчика, бродившего с лукошком в руке вдоль железной дороги. Во второй раз Мишка, заслышав стук приближающейся дрезины, залег в канаве и вообще не был замечен.
Лежа на влажной земле, Плотников вдруг услыхал далекий, неясный шум. Отсюда, из лесу, было трудно определить по шуму, идет ли это дрезина или поезд. Плотников напряженно вглядывался в то место, где стоял Мишка. Мгновение — и Мишкино лукошко, как было условлено, взлетело вверх. Приближался поезд, была дорога каждая секунда. Плотников вскочил и бросился изо всех сил бежать к мине. Пружину и запал он держал в руках. Прыгнув на полотно, он мгновенно разрыл гравий, поставил запал и приладил пружину. Поезд, который шел с большой скоростью, уже показался из-за поворота рельсовых путей. Пыхтящий паровоз, грозно постукивая на стыках, шел прямо на Плотникова. Мишка, как ему и следовало поступить, успел за эти несколько секунд убежать в лес, откуда, задыхаясь от волнения, следил за событиями. В самую последнюю минуту Плотников успел отбежать от полотна железной дороги. Не оборачиваясь, огромными прыжками он бросился в лес. В тот самый миг, когда он достиг, наконец, опушки леса, раздался страшный взрыв, от которого задрожала земля. Плотников с размаху бросился наземь. Через короткое время раздался второй взрыв, за ним третий, четвертый, и началось нечто невообразимое. По количеству взрывов, следовавших один за другим, по огромному столбу черного дыма, заслонившему место происшествия, и по перемежающемуся треску Плотников понял, что взорван большой эшелон с боеприпасами, среди которых есть и фугасные бомбы и артиллерийские снаряды.
Когда все было кончено и дым немного рассеялся, Плотников и Мишка выбежали на полотно. Надо было спешить, так как скоро мог подоспеть аварийный поезд. Вдоль развороченной железнодорожной насыпи валялись обломки товарных вагонов; вздыбившийся паровоз стоял, как огромная черная свеча. Среди обломков валялись обожженные, изуродованные трупы.
Определив, что в эшелоне было примерно семьдесят товарных вагонов, Плотников направился в обратный путь. Мишка провожал его несколько километров. Потом Плотников остановился, молча обнял мальчика, поцеловал его и сказал:
— Ну, спасибо, Рокоссовский! Выполнили мы с тобой задание. Теперь можешь играть дальше.
— Не буду играть больше, — тихо ответил Мишка. — Я теперь партизаном хочу быть. Всамделишно фашистов бить.
— Подожди, — ответил ему Плотников. — И это придет. Пока играй. Оружие ваше берегите, оно еще пригодится. Погоди, будем фашистов бить, Рокоссовский. Жди только моего сигнала. А я, брат, еще приду. Ты найди пока ребятишек понадежнее да с ними работу проведи. Словом, назначаю тебя здесь нашим ребячьим уполномоченным. Понял?
— Понял, — ответил Мишка.
— Ну вот и все. Пока меня нет, вы только играйте. Приду — вместе работать будем. Без меня ничего делать не смейте!
— Есть без вас ничего не делать! — вытянулся Мишка. — Ждем до вашего прихода!
— Правильно! — коротко и нарочито резко произнес Плотников и зашагал к себе.
Он вернулся в отряд уже к вечеру. Километра за два до стоянки отряда он наткнулся на Шуру, беспокойно бродившую взад-вперед по тропинке. Она поджидала его.
20. В берлоге зверя
Господин Отто фон Бургет, начальник русского отдела гестапо, довольно приветливо встретил Амосова, предложил ему сигару и выразил свое удовольствие лично видеть его.
— Весьма рад познакомиться с вами, герр Шпейер, — сказал он, внимательно разглядывая Амосова. — Не так уж много старых работников германской разведки осталось в нашей системе. Ну, а таких, как вы, столько лет проживших в России, и того меньше.
Амосов поблагодарил господина начальника за внимание и предоставленную ему возможность побывать в родном Берлине. Затем по просьбе Бургета он подробно рассказал ему о том, как в 1911 году был откомандирован в военную разведку, окончил специальную школу и направлен в Гатчино, чтобы собрать данные о первом в мире многомоторном самолете «Илья Муромец».
Амосов долго разговаривал в этот день с Бургетом, который очень внимательно слушал, делая изредка какие-то записи в своем блокноте. В конце беседы Бургет предложил Амосову отдохнуть месяц-другой, познакомиться за это время с Берлином, а уж потом приступить к работе.
— Вам надо месяца три поработать у нас, — сказал он. — За это время вы ознакомитесь с нашей системой — в ней много нового, а также с современной диверсионной техникой, радиоаппаратурой и прочим. Все это очень вам пригодится, герр Шпейер. А затем снова вернетесь в вашу милую Россию. Пока еще не решено, какая именно работа будет вам поручена, это во многом зависит, сами понимаете, от положения на фронте. Во всяком случае, мы учтем и ваш многолетний опыт и ваши пожелания. А пока отдыхайте, развлекайтесь, наслаждайтесь воздухом Германии.
На этом закончился их первый разговор. Амосов стал «отдыхать». Он продолжал жить в той же гостинице и ежедневно совершал большие прогулки по Берлину и его окрестностям. Он приглядывался к жизни города, настроениям людей, организации системы снабжения, торговли, внутренней пропаганды.
В Берлине было уныло.
С Восточного фронта непрерывно приходили поезда с ранеными. Власти, не желая, чтобы население знало об этих бесконечных эшелонах, дали указание принимать поезда с ранеными только по ночам. Но, несмотря на все принятые меры, берлинцы узнавали об этом страшном потоке, хлынувшем с востока. Через медицинский персонал военных госпиталей, санитаров, врачей, шоферов автобусов, перевозивших раненых, население узнало о страшных потерях на фронте. Правда, об этом передавали друг другу по секрету, шепотом, на ухо, с оглядкой, но шепот этот заглушал трескучие немецкие марши, непрерывно передаваемые по радио, и истошные вопли фюрера, время от времени поздравлявшего Германию с «историческими победами немецкого оружия».
Амосов все больше узнавал жизнь в гитлеровской Германии. Но главное было, конечно, впереди, и он с нетерпением ждал того дня, когда явится в гестапо и приступит к работе, о которой говорил ему Бургет.
Наконец, этот день наступил. Амосов точно в назначенный час явился в гестапо.
— Ну, как вы отдыхали? — спросил его Бургет, по обыкновению внимательно его разглядывая. — Мне кажется, вы много гуляли, ездили по городу, набирались впечатлений?
— Совершенно верно, господин фон Бургет, — ответил Амосов, который несколько раз замечал, что состоит под наблюдением и что по его пятам нередко следует «хвост».
И он очень точно рассказал Бургету о всех своих прогулках и путешествиях по окрестностям Берлина. Однажды он даже специально выехал в Брауншвейг, где когда-то обучался в военной памяти фельдмаршала Мольтке школе. Школа эта сама по себе мало интересовала Амосова, но он хотел этой поездкой создать впечатление человека, которого неодолимо тянет к местам, где прошла его молодость. И поэтому, приехав в Брауншвейг и заметив, что и на этот раз за ним установлено наблюдение, Амосов с лирическим видом человека, приехавшего уже в пожилом возрасте в город своей юности, ходил по улицам Брауншвейга, грустил на скамейках парка, долго стоял перед зданием военной школы и даже раза два вытирал платком глаза — это было вполне в немецком духе.
Вот и теперь, рассказывая Бургету, как он проводил отпуск, Амосов не преминул сообщить и о своей поездке в Брауншвейг и о «грустных, но сладких воспоминаниях, которые овладели сердцем», когда он там побывал.
Бургет одобрительно покачивал головой, — все, что теперь рассказывал ему Амосов, вполне сходилось с данными наружного наблюдения, которое было за Амосовым установлено именно по приказу господина Бургета. Правда, он сделал это не потому, что сомневался в личности этого человека, — напротив, ни на минуту не сомневался он, что имеет дело именное Гансом Шпейером, — но он считал необходимым понаблюдать за поведением человека, который столько лет прожил в России и мог за это время изменить свои убеждения и свою службу.
Но то, что Амосов в течение месяца не имел ни одной подозрительной встречи, что его прогулки сами по себе не вызывали никаких сомнений, так как были вполне естественны для немца, так много лет отсутствовавшего и жившего на чужбине, наконец и его поездка в Брауншвейг, освещенная особенно подробно в донесениях филеров, которые вели за ним наблюдение, — все окончательно убедило осторожного господина Бургета в том, что Амосову можно вполне доверять.
И он приказал своим помощникам допустить господина Шпейера к материалам русского отдела гестапо. Амосов приступил к работе.
Он работал много, по десять-двенадцать часов в день, чтобы поскорее выполнить задание и вернуться на родину. Он торопился потому, что отдавал себе отчет в том, как дорог каждый день, каждый час, каждая минута. Там — «дома», как мысленно с любовью и нежностью называл он свою родину, — было очень трудно в тот год. Значительная часть страны еще была оккупирована врагом, на протяжении огромного тысячекилометрового фронта шли грандиозные сражения, каких не знала военная история. В тылу люди работали не покладая рук, создавая необходимые припасы для армии, новое оружие, огромные количества танков, самолетов, артиллерии. В этих условиях было особенно важно разоблачить вражескую агентуру, предотвратить возможность диверсий на транспорте, в военной промышленности, на предприятиях, питающих фронт.
По ночам, долго не засыпая в своей пышной постели в отеле «Адлон», Амосов скрежетал зубами от мучительного сознания, что ценные сведения, которые ему уже удалось собрать, он еще не имеет возможности передать «домой», потому что, в целях предосторожности, он, конечно, не был снабжен рацией и не имел права связываться в Берлине с кем бы то ни было, чтобы не провалить ни себя, ни тех, кто выполнял там задания помимо него.
С одной стороны, по тем же мотивам он не имел права ничем обнаружить своего нетерпения и, с другой стороны, должен был использовать все возможности своей работы в гестапо до конца.
…Работа Амосова подходила к концу, и уже близился день его отъезда из Берлина. Все, что он прочел за это время, изучая тома донесений, карты, схемы и дислокации точек немецкой разведки, ее шифры и условные обозначения, представляло первостепенный интерес. Амосов по существу тщательно изучил сложную паутину гитлеровской разведки, ее ближайшие планы и методы работы.
Особый интерес представляли с разведывательной точки зрения донесения с Восточного фронта. Почти во всех этих донесениях содержались жалобы на трудности работы, нежелание советских людей работать с немцами, специфику местных условий и отличную осведомленность советской контрразведки, очень активно работавшей даже в оккупированных немцами районах. В советском тылу агенты гитлеровской разведки проваливались один за другим, что в значительной мере объяснялось тем, что советские люди активно помогали органам безопасности в разоблачении вражеской агентуры и борьбе со шпионами и диверсантами. Парашютисты, выбрасываемые в советских районах, обычно вылавливались самим населением, хорошо работали созданные истребительные отряды.
Оккупантам причиняли огромный ущерб и партизаны, работавшие буквально под самым носом у немцев, имевшие широкие связи среди населения и проводившие свою работу, несмотря на все принятые немецкими властями меры, карательные экспедиции и походы.
Эти донесения доставляли огромную радость Амосову, но важнее для него были документы, касающиеся дислокации агентуры и планов разведки.
Наконец, наступил долгожданный день, когда его вызвал фон Бургет.
— Добрый день, господин Шпейер, — сказал фон Бургет, любезно улыбаясь. — У меня имеется для вас приятный сюрприз. Сегодня нашли, наконец, в архиве бывшей военной разведки ваше личное дело. Теперь могу вам сказать, что мы даже думали, что оно уничтожено, потому что в течение долгого времени не могли его разыскать. Дело в том, что после Версальского договора часть архива военной разведки была уничтожена, а часть так рассредоточена в разных уголках Германии, что ее трудно было найти. Но вот на днях в Шлезингере обнаружили часть старого архива, и там оказалось, в частности, личное дело Ганса Шпейера. Вот оно.
И Бургет показал Амосову черную коленкоровую папку.
— Вот ваша молодость, герр Шпейер, — сказал он. — Ваши фотографии, снятые в том счастливом и, увы, неповторимом возрасте, ваши первые донесения, даже ваши письма, написанные вами лично…
Амосов похолодел. Что это — дьявольская игра, хитро задуманное испытание, катастрофа?
Огромным напряжением воли он заставил себя изобразить радостную улыбку.
— Боже, какое счастье! — воскликнул он. — Неужели сохранились даже мои первые донесения?
— Вот они, — сказал Бургет, раскрывая папку. — Сейчас мы вместе их почитаем. Я понимаю вашу радость, дорогой Шпейер. Нет ничего увлекательнее и счастливее, нежели ожившие дни юности.
Он сел рядом с Амосовым и стал перелистывать папку. На первом листе объемистого дела была наклеена выцветшая от времени фотография совсем юного лейтенанта Ганса Шпейера, окончившего в 1911 году брауншвейгскую военную памяти фельдмаршала Мольтке школу.
— Вам было тогда двадцать лет, Шпейер, — лирически произнес Бургет. — Посмотрим же, сильно ли вы изменились…
И Бургет, резко повернувшись, уставился своим острым, цепким взглядом прямо в лицо сидящего рядом с ним Амосова.
Амосов с почтительной улыбкой спокойно встретил его взгляд.
21. В командировке
Все обошлось благополучно. Фотография юного Шпейера, имевшаяся в его личном деле, была рассмотрена Амосовым с неподдельным интересом. В свою очередь и начальник русского отдела с любопытством долго смотрел сначала на фотографию, а затем на Амосова.
— Да, время несколько изменило вашу внешность, — сказал он.
— Тридцать лет… И притом столько лет на чужбине, под маской, в глуши, — добавил Амосов.
Поблагодарив начальника за внимание, Амосов ушел, захватив с собой личное дело Шпейера. На досуге он внимательно изучил его и лишний раз убедился, что Шарапов рассказывал правду. История Шпейера-Шарапова, начавшаяся на выпускном балу брауншвейгской офицерской школы, его работа в дореволюционном Петербурге, гатчинская эпопея — словом, решительно все, что показал на следствии Шарапов, соответствовало данным его личного дела, собранным в этом деле донесениям, рапортам, приказам, заданиям. Ничего нового ознакомление с личным делом Шпейера Амосову не дало.
В этом смысле гораздо больший интерес для Амосова представляла его повседневная работа в русском отделе, дававшая ему возможность детально ознакомиться с методами работы германской разведки и ее опорными точками в ряде районов советско-германского фронта. Дислокация немецких разведывательных школ, в которых шла подготовка шпионов и диверсантов, методы вербовки, техника связи и оповещения, новые шифры и коды, применяемые агентурой, — все это представляло собой ценнейшие данные, которые Амосов поглощал с жадностью, умилявшей его «начальство».
— Как изумительно старателен и работоспособен этот человек, — говорил об Амосове начальник русского отдела.
— Да, старые кадры германской разведки были отлично воспитаны, — отмечали «сослуживцы» Амосова.
Так прошло несколько месяцев. Амосов начал подумывать, что пришла пора выбираться из Берлина домой и приступить к реализации собранных сведений.
Однажды после очередного доклада начальнику русского отдела он попросил, чтобы его направили на работу.
— Я достаточно отдохнул, господин начальник, — сказал Амосов. — Кроме того, моя переподготовка, успешно проходившая благодаря вашему содействию, близится к концу. Не пора ли мне выехать на фронт?
— Пожалуй, я с вами согласен, — ответил начальник. — Я не хотел проявлять в этом вопросе инициативу, так как считал, что вы имеете право жить в Берлине столько, сколько вам хочется… Но раз вы сами заговорили на эту тему, то, что ж, в добрый час!
Речь пошла о работе. Амосову было предложено выехать в Финляндию, а оттуда в северный район Восточного фронта.
— Нас интересуют северные порты СССР, — сказал начальник. — Именно эти порты представляют для русских большое значение: оттуда получаются грузы от союзников. Здесь огромное поле деятельности для вас: диверсионная работа в самих портах, собирание данных о количествах и характере поступающих грузов, наконец установление дат и маршрутов прибывающих и уходящих караванов судов, что необходимо для ориентировки наших подводных лодок, — одним словом, есть над чем поработать.
Амосов выслушал указания и советы начальника и выразил благодарность за доверие и за предоставление ему интересной работы.
— Меня вполне устраивает ваше предложение, — сказал он. — Я сам чувствую, что на севере Восточного фронта есть над чем поработать и в чем себя проявить. Но я просил бы, если это возможно, разрешить мне сначала заехать в Зареченск. Мне очень хочется побывать на своей старой базе. Кроме того, я хотел бы ликвидировать некоторые мелкие личные дела. Это займет у меня не более двух недель, а затем я вернусь и отправлюсь в Финляндию.
Начальник русского отдела согласился. Амосову эта поездка в Зареченск была крайне важна, так как он рассчитывал использовать ее для передачи собранных данных.
Что же касается предложения поехать на север, то оно таило в себе соблазнительные возможности, но сначала надо было «разгрузиться» от берлинских впечатлений и материалов.
«Сперва надо информировать наших, — думал Амосов, — тем более что некоторые данные могут быть немедленно использованы. В Зареченске я найду способ связаться с нашими и запросить указаний в связи с работой на севере. Ведь можно в значительной мере обезвредить немецкие подводные лодки, оперирующие против караванов союзников…»
Через два дня, снабженный всеми документами и полномочиями, Амосов выехал из Берлина на фронт.
Вскоре Амосов вернулся в Москву.
Месяцы, проведенные Амосовым в русском отделе, не прошли даром. В Берлине с ужасом узнавали о провале одной точки за другой. Агентура, с таким трудом насажденная в прифронтовые районы, была поразительно быстро ликвидирована советской контрразведкой. И только «племянник Миша», оставшийся в свое время в Зареченске, пропал неизвестно куда. Амосов не забыл о «племяннике», подозревая, что он, как и прежде, находится где-то в Москве, или, вернее всего, под Москвой. «Племянника» искали.
Однажды летом Амосов выехал за город. В электричке на Северной железной дороге, как всегда, было много народу. Амосов стоял в тамбуре вагона, просматривая газету. Рядом с ним стояли школьники, девушки, пожилые служащие — все они с граблями и лопатами ехали на коллективные огороды. Мелькали подмосковные леса, поляны и дачи. Всюду, начиная от полотна железной дороги, копошились люди. Каждый клочок земли был распахан под огород. Трудовая Москва все выходные дни, все часы, свободные от служебных обязанностей, дружно работала на огородах.
На одной из станций из вагона вышло много народу, и стало гораздо свободнее. Амосов занял место на скамейке и снова погрузился в газету. Внезапно он почувствовал на себе чужой взгляд. Подняв голову, Амосов увидел «племянника Мишу», который стоял неподалеку, с лопатой, в сером коломянковом костюме. Сомнений не было — это было его длинное остзейское лицо, его тусклые глаза. Амосов радостно улыбнулся и бросился ему навстречу.
— Миша! — крикнул Амосов. — Сколько лет, сколько зим!
— Дядюшка! — завопил «Миша», тоже радостно улыбаясь.
На глазах у пассажиров они обнялись. Амосов соображал, как ему быть дальше. Задержать сейчас «племянника» не имело смысла, так как надо было сначала выяснить, где он живет, с кем связан и т. п.
Завязался разговор. На ближайшей остановке «Миша» и Амосов вышли из вагона. «Миша» сказал, что он живет поблизости, в дачном поселке. Он пригласил Амосова к себе и стал расспрашивать, давно ли тот в Москве. Амосов тут же сочинил ему целую историю и дал понять, что он лишь недавно переброшен в Москву со специальным заданием.
Они пришли на дачу, где «Миша» познакомил Амосова с какой-то блондинкой, отрекомендовав ее как свою подругу.
— Можете чувствовать себя свободно, дядюшка, — сказал он. — Люся в курсе всех дел…
Проведя у «племянника» весь день и выяснив, что он и его партнерша потеряли связь со своим руководством вследствие провала одной из явок немецкой разведки, Амосов простился с ними и поехал в Москву.
А ночью «племянник Миша» и его дама были арестованы на своей даче.
Утром, узнав, что операция прошла хорошо и «племянник» находится в должном — месте, Амосов вышел на улицу. В зареченской эпопее, была поставлена последняя точка.
Прохладное, чистое летнее утро омывало город. Мимо со звоном мчались трамваи, летели машины и троллейбусы, сосредоточенно и строго шагали по тротуарам люди. Все были заняты, всем было некогда, у всех были важные дела. Столица, страна, народ спешили к победе.
1943Сергей Бетев Восьмой револьвер
1
В Зайковском райотделе милиции не помнили такой тревоги.
Попытка вооруженного грабежа в поселке Красногвардейске!..
Ошеломляющая новость в минуту собрала у дежурного всех, кто находился в эту раннюю пору на работе. Там вместе с участковым уполномоченным младшим лейтенантом Ефимом Афанасьевым сидел испуганный и бледный от бессонницы житель красногвардейской окраины — Прокопий Александрович Червяков, послушно отвечающий всем, кто его спрашивал.
— В какое время?
— Возле полуночи. Жена уже спать ложилась, а я хотел сенки закрыть.
— Ну?
— Слышу, в другой комнате окно стукнуло. Подошел к двери, а она в аккурат напротив приходится, и вижу: окошко настежь, а в нем парень незнакомый. Как меня увидел, пистолет направил, да осечка получилась. Я, конечно, обратно. Схватился за охотничье ружье, а в это время ба-бах!.. Слышу, соскочил с завалины… Окошко, в которое лезли, выходит на огород, жердями он у меня огорожен. За ним проулок на дорогу, что к станции ведет. Только и видел, как двое туда выскочили и побежали…
— В лицо не приметил? Одежду?
— Какое там! Темнота ведь у нас, правда, у дороги фонарь на столбе. Не он бы, так и вообще ничего не увидел… Забегаю домой, а в комнате баба голосит. Сидит на половике в луже крови. Кинулся к ней, оглядел — нога прострелена… Сам я фронтовик, конечно. Изорвал простыню, ногу перетянул повыше раны, как мог перевязал и — в больницу за докторами. Ночью-то везти не на чем. А потом их разыскал, — взглянул он на Афанасьева, — да вместе сюда…
— Не потом, а сразу полагается, — недовольно заметил дежурный.
— Я тоже говорил, — вставил Афанасьев.
— Теперь вот восьмой час, — взыскивал дежурный. — Знаешь, за это время куда можно убежать не только что на поезде, а вовсе пешком? А то бы собаку вовремя пустили, и все такое прочее…
— Так ведь баба, она ревет. До больницы-то не отпускала. Испугалась до смерти, — попробовал защититься Червяков, но виновато умолк.
Суровый дежурный, не слушая его, поднимал по телефону начальство и рассылал людей за оперативными работниками. Скоро два милицейских мотоцикла с колясками запылили в сторону Красногвардейска.
2
Дом Червякова был добротен и вместителен. Из холодных сенок одна дверь вела в чулан, или, как назвал хозяин, в светелку, а другая — в две смежные просторные комнаты. В первой — направо разместилась большая русская печь. Напротив входа, у окна, стоял обеденный стол. Но грабители лезли в другое окно, то, что находилось сбоку от шестка. Оно-то и противостояло двери во вторую комнату — горницу. От этого окна, которое хозяин так и не успел закрыть после нападения, просматривался длинный половик, протянувшийся от двери до кровати, с бросающимся в глаза бурым кровяным пятном.
Наскоро осмотрев дом, опергруппа на виду у собравшихся зевак занялась исследованием огорода. Оперуполномоченный и участковый деловито изучали каждый квадратный метр земли, время от времени покрикивая на осмелевших любопытных не из-за того, что те путались под ногами, а скорее от собственной досады: на истоптанном и перекопанном после недавней уборки огороде всюду валялась ботва, мешали ходить комья земли.
Надежда обнаружить среди этого беспорядка какие-то следы угасла с самого начала.
Уже закурил начальник, строго посматривавший на своих подчиненных, заговорил с кем-то из знакомых участковый, и в это время упорство оперуполномоченного Никишина было вознаграждено:
— Патрон с осечкой!
Он нашел его метрах в четырех от окна. Протертый платком патрон матово желтел на ладони удачливого оперуполномоченного.
— От пистолета «ТТ», — объявил он, передавая находку подошедшему начальнику.
Тот мельком взглянул на патрон и позвал:
— А ну-ка, граждане, чем зря топтаться, поищите-ка тут вот такую гильзу… — И, показав подскочившим мальчишкам патрон, приказал своим: — Прошу всех ко мне. Червяков!.. Ты дождался в больнице, пока осмотрели твою жену?
— Дождался, — поспешно ответил тот,
— Пуля у нее в ноге застряла или нет?
— Нет. В мякоть угодила, сквозь прошла.
— Хорошо. — И распорядился: — Всем в дом! Нечего тут шарашиться, надо пулю искать. — И напомнил Никишину: — А ты место приметь, где патрон нашел. Для схемы.
Прошло более часа. В комнате осмотрели каждый сантиметр противоположной окну стены, сдвинули с места всю мебель, проверили каждую щель в полу. Пуля — как испарилась.
— Где же она, Червяков? — опять позвал хозяина начальник,
— А леший ее знает, товарищ начальник, — искренне признался тот. — Не видел ее, конечно, куда она улетела…
— Улетела вот…
И опять выручил дотошный Никишин. Подвигая на место кровать, он обратил внимание на подушку. Оглядев ее, обнаружил дырку, из которой торчало перо. Оказалось, пробита не только наволочка, но, и пуховик. Подушку вытащили во двор, распотрошили и пулю извлекли из комка спекшегося пуха.
И хотя стреляную гильзу не нашли, картина преступления стала ясна.
Пригласив Червякова для выяснения деталей с собой, опергруппа возвратилась в Зайково.
Волнение зайковских работников милиции объяснялось просто. За годы Советской власти в Красногвардейске не слышали ни об одной крупной краже, не говоря уже о вооруженной попытке грабежа.
…Прокопий Червяков сидел в отделении более двух часов, а совещание у начальника все продолжалось.
— Дело не только в самом факте вооруженного нападения, хотя он и показал изъян в нашей профилактике, — заключал начальник. — Я про себя надеюсь, что у нас достанет нюху и сноровки не только поймать грабителей, но и вникнуть в самую суть дела: как могло приключиться такое нахальное преступление. Сегодня, понимаете ли, Червяков, завтра — Сидоров, а послезавтра — Петров. Не промахнусь, предупреждая, что трудностей и всяких «вот те на!» будет немало. В этом можно не сомневаться. Кто совершил преступление? Наши доморощенные злодеи или приезжие гастролеры? Если приезжие, то это еще полбеды: получим по загривку, что плохо принимаем гостей, — и все. А если наши? Какими глазами мы посмотрим в лицо общественности? Откуда у них оружие? И почему мы узнаем об этом самыми последними, да еще после совершенного преступления? Вы все знаете, что такое безучетное оружие: сегодня, понимаете ли, жертва его — гражданин, а завтра? Государственная касса с государственными деньгами!
А в данном конкретном случае: почему грабители наметили своим объектом Червякова? Что он, понимаете ли, купец первой гильдии?.. Мы все были в его доме, так? Ничего особенного. Половики, понимаете ли, это — не персидские ковры. Мебель жулики давно не воруют. Но я и не поверю, что в шкафу у Червякова сплошные соболя. К тому же и домов в Красногвардейске сыскать получше нетрудно. Так почему же лезли к этому-то?
Сидящие в кабинете серьезно вслушивались в слова начальника. Каждый из них, особенно участковые, мог наизусть перечислить особенности и пороки жителей деревень и поселков. Кто дерется пьяный, а кто — из ревности. Кто, вспылив, имеет привычку хвататься за нож, а кто разве посуду перебьет, да и то — дома. Даже по общежитиям знали, кто способен одолжить у соседа без спроса рублевку или уехать в отпуск в чужих ботинках. Какая из продавщиц обвешивает помаленьку, а какая обсчитывает по копейкам, ссылаясь, что меди нет, Кто спекулирует и кто платит алименты…
Такая осведомленность брала начало не от окольной слежки или чрезмерного любопытства. Просто зайковские сотрудники прожили жизнь в своих деревнях и поселках, среди знакомых с детства людей, чей покой теперь охраняли.
Потому-то и встревожил их ночной выстрел, от которого пострадала жена Прокопия Червякова.
— А может, тут не грабеж, а месть какая-то? Или ревность? — предположил кто-то из молодых.
— Чего? — удивился начальник. — Это в Анну-то Червякову из-за ревности из пистолета стрелять?! Еще таких, понимаете, дураков в Красногвардейске не хватало!
— Или, — вставил свое слово Афанасьев, — кто это и за что будет мстить Червякову? Он всего-то и делов знает, что из дома да на работу. В казенную баню и то не ходит: своя на задах…
— Вот именно! — поддержал его начальник. — Тут собака в другом месте зарыта.
Сотрудники с укором смотрели на неудачника, задавшего наивный вопрос, тем самым выражая полное единодушие с начальником.
— Думаю, по сегодняшнему происшествию все ясно. — Начальник отложил в сторону бумажки. — Расследование предстоит серьезное. Для нас, понимаете ли, экзамен. Прошу учесть… Все.
Оперуполномоченный Никишин после совещания удалился с Червяковым в свой служебный угол в большой общей комнате и просидел с ним до позднего вечера.
Родственников у Червякова в Красногвардейске не было, друзей особенных среди знакомых он тоже не называл. Каких-то ссор или недомолвок с соседями и сослуживцами не припомнил.
— А жена? — продолжал выяснять Никишин.
— Чего жена? — не понял Червяков.
— Она ни с кем не ругалась? Не обзывала никого?
— Не должна. Баба вроде смирная.
— «Вроде» меня не устраивает, — заметил Никишин. — Может, она только при тебе смирная, а когда ты на работе?
— Не слыхал.
— А я видел, как они в магазине сходятся. Из-за пустяка могут друг дружке в глаза наплевать.
— Так ведь то без злобы, — попробовал умилостивить его Червяков. — И к тому же бабы. А лез-то к нам мужик…
— Ты меня шибко-то не учи, Червяков. Я знаю, как бывает: поцапаются бабы, а увечатся мужики. Не слыхал, поди, опять скажешь?
Червяков сдался:
— Оно, конечно… Чего не бывает!..
— То-то. А теперь скажи, дорогой, почему грабители с оружием в руках лезли не в чей-нибудь дом, а в твой?
Вопрос оказался не из легких, и Червяков надолго замолчал. Оперуполномоченный поторопил его.
— Откудова мне знать? Я их не спрашивал… — отозвался наконец Червяков.
— Да я не про то, — стал объяснять Никишин. — Как ты сам прикидываешь: какая корысть привела грабителей в твой дом? Золото, что ли, у тебя есть?
— Что вы!
— Ну, не золото, ценности какие-нибудь: костюмы заграничного покроя или пальто с каракулевыми воротниками, или еще чего… Деньги?
Червяков просветлел:
— Деньги есть — это правда.
— Много?
— Тысяч тридцать наберется.
— Сколько? — Никишин положил карандаш, пригляделся к Червякову, переспросил: — Тридцать?
— Может, маленько больше, может, тридцать одна.
— Хм… — В задумчивости нарисовав на бланке протокола замысловатую фигуру, Никишин полюбопытствовал: — И откуда у тебя такие деньги?
— Выиграл еще в прошлом году по золотому займу двадцать пять тысяч. Остальные — с годами еще раньше подбились в кучу.
— Выиграл, значит? — Никишин снова подумал. — И доказать можешь?
— Чего тут доказывать? — улыбнулся Червяков. — Про мой выигрыш в Зайкове районная газета напечатала. Все знают про него. А вы разве не читали?
Никишин нахмурился.
— Я хочу знать, Червяков, кого, по-твоему, мог заинтересовать этот выигрыш? И не просто так, а с преступной целью?
— Чего не знаю, того не знаю, — сказал Червяков.
— А жена?
— Что жена?
— Опять не понимаешь? Может, она чего предполагает?
— Так, товарищ Никишин, в той же газетке и написали, что я выигрыш на срочный вклад в сберкассу положил. Зачем же за этими деньгами ко мне в дом лезти, ежели их там нет?
Настроение Никишина заметно испортилось, но он все-таки вывел на свое:
— А шесть-то тысяч, которые невыигранные, дома?
— Дома.
— Так-то. А ты мне своей газеткой в нос тычешь. Разве шесть тысяч не деньги для грабителей?
— Деньги, конечно, — согласился Червяков.
— Итак, давай запишем вопрос: «Чем, по вашему мнению, могли интересоваться грабители в вашем доме?» Так?
— Так.
— Твой ответ: «Деньгами. У меня имеется шесть тысяч наличных рублей сбережений». Правильно?
— Правильно.
— На сегодня хватит, — сказал Никишин. — Поезжай домой. А завтра я приеду к вам. Если понадобишься, зайду домой…
О результатах допроса Червякова Никишин доложил начальнику. Тот выслушал его без особого удовлетворения.
— Деньги — всегда мотив серьезный, — согласился сначала. — Но, понимаешь ли, из-за шести тысяч рублей стрелять в человека не каждый решится. Тем более какой-нибудь рецидивист, знающий, что за это полагается.
— А не рецидивист? — возразил Никишин. — Червяков сам говорил, что стрелял парень. А нынче молодежь, она ведь глупая и отчаянная.
— Ну-ну… Дело в твоих руках. Раскручивай.
3
Схема преступления давала Никишину исчерпывающее представление о событиях, происшедших в доме Червякова, но не содержала и намека на личность преступников.
Их нужно было искать. И Никишин, приехав в Красногвардейск, вместе с участковым Афанасьевым начал устанавливать возможных свидетелей. За полдня они обошли всех соседей Червяковых.
Люди знали о преступлении не меньше милиции, но и не больше. Поэтому, учтиво выслушав вопросы и ответив, интересовались сами.
— А кость-то у Анны целая?
— Целая, — отрубал Никишин и гнул свое: — В котором часу позавчера легли спать?
— После десяти. А почему на нашей улице свет не устанавливают? Может, кто-нибудь и увидел бы бандитов-то…
— Выстрел слышали?
— У нас — ставни. И свои который раз не достукаются.
— Не было, значит, по-вашему, выстрела?
— Как это не было? Может, и был. Анну-то прострелили не из рогатки, чай!
…Все старания Никишина и Афанасьева оказались напрасными. Никто из соседей в ту ночь на улице не находился, выстрела не слышал, а Червякова все считали человеком положительным и тихим.
— И Анна такая же, — добавляли. — Ее и на улице-то редко увидишь. В магазин Прокопий ходит, даже стираное в огороде сам вешает…
С пустыми руками возвращаться в отделение Никишину не хотелось. Постояв в проулке возле червяковского огорода, он вышел на дорогу. Предложил Афанасьеву:
— Дойдем до станции.
На вокзале зашли в буфет.
— Давно не бывали, — кокетливо встретила Афанасьева молодая быстроглазая буфетчица. — Налить чего-нибудь потихоньку?
— Не надо. Делов куча. Как у вас тут?
— А что у нас. Пьют да едят — всю дорогу одна кинокартина.
— Скандалов-то нет?
— Тихо, слава богу. Были бы, так вы, наверное, вперед нас знали…
— Послушайте, девушка, — заговорил Никишин. — Вы по сменам работаете?
— Через день.
— Позавчера были, значит?
— Была.
Она вопросительно посмотрела на Афанасьева, словно хотела узнать, можно ли говорить с этим человеком. И, получив молчаливое разрешение, повернулась к Никишину.
— В какое время закрываетесь?
— В двенадцать.
— Незнакомых двух парней в ту ночь случайно не видели?
— Нет. Все знакомые были. Не то чтобы как мы с ними, — кивнула на Афанасьева, — а в общем, поселковские.
— Кто-нибудь из них уезжал?
— Двое говорили, которые последние. Прибежали, едва дышат, стучатся в двери. Когда сторожиха посетителей выпускала, нахалом залезли и — ко мне: девушка, душечка… всякое разное, в общем, водки надо. Пристали — спасу нет. Уезжаем, говорят, насовсем. Давай простимся…
— Знаете их?
— Ни звать ни величать, а в поселке видела не один раз. Годов по двадцать, здоровые оба.
— Что еще?
— Что? Бутылку водки возле прилавка выпили, еще ливерных пирожков набрали. Да две с собой унесли.
— А с каким поездом уехали? Она пожала плечами:
— Я же к часу все опечатываю — и домой. Поезда позднее уходят. — И оживилась: — Вот что: когда я уходила, приметила их в зале ожидания, возле печки сидели. На скамейке газетку расстелили и еще выпивали. В тот день не они одни уезжали. Может, кто другой видел?
— Узнать-то мы их все равно узнаем, — проговорил Никишин. — Только поскорее требуется…
— Ох! Не по червяковскому ли делу? — вдруг с ужасом догадалась она.
— Молчи! Поняла? — осек ее Афанасьев.
— Ага, — она приложила ладонь ко рту и понимающе кивнула.
Никишин деловито направился к выходу. Афанасьев поспешил за ним.
Буфетчица проводила их осторожным взглядом до двери, а потом кинулась на кухню.
— Девки! — объявила страшным шепотом. — Бандиты-то, которые Анну Червякову подранили, у нас в буфете были! Поселковские!..
— Врешь, поди?!
— Зуб отдам! — резанула ногтем по шее. — Сейчас у меня наш участковый Афанасьев был с приезжим каким-то. Ищут их!..
4
Никишин переночевал у Афанасьева. С утра они отправились в отдел кадров механического завода, наиболее крупного предприятия в Красногвардейске. Там вместе с начальником установили всех уволившихся в последние полмесяца. Таких оказалось около десяти человек. Не мешкая стали проверять их по месту жительства. К полудню едва справились с половиной. Все уволившиеся уже работали на новых местах и уезжать из Красногвардейска не собирались.
Никишин этим не удовлетворялся. После каждого посещения он разыскивал председателя домового комитета и подолгу расспрашивал обо всех, кто пьет, кто судился в прошлом, кто чем занимается в нерабочее время.
— Ты меня спроси, — предлагал ему после тягучих разговоров Ефим Афанасьев. — Я побольше ихнего знаю. Чего тут лясы точить? Давай тех искать, которые уехать собирались или уехали.
— А мы их и ищем.
Обошли всех, но так ничего и не узнали.
— Поедим? — спросил Афанасьев.
— Надо, — мрачно согласился Никишин.
После обеда засели в поселковом Совете возле телефона и стали звонить во все организации. Ефима Афанасьева знали всюду, к беспокойной службе его давно привыкли и поэтому, не спрашивая зачем, давали нужные справки. А вопрос ко всем был один: кто третьего дня уезжал в командировку?
Нашли одну — девушку из аптеки, ездившую в Свердловск с какими-то документами. Через полчаса Никишин и Афанасьев уже сидели с ней в маленькой комнатке заведующей аптекой.
— Когда вы пришли на вокзал? — спрашивал Никишин.
— Около часу ночи.
— Не приметили среди пассажиров, ожидающих поезд, двух парней?
— Там много было разного народу. Я пришла не одна, поэтому по сторонам не особенно заглядывалась.
— С кем вы были?
— Ну… — она замялась на мгновение, — с молодым человеком. Идти ночью одной…
— Я не об этом, — остановил ее Никишин. — Нам, например, известно, что в это время в зале ожидания двое парней распивали водку на виду у всех. Сидели на скамье возле печки.
— Этих видела, — ответила она просто.
— И ваш молодой человек видел?
— Конечно.
— Парни те уехали?
— Не приметила. Я за ними не следила. Мы вышли на перрон раньше.
— Багаж-то был у них? — вмешался Афанасьев.
— По-моему, что-то вроде вещевого мешка у одного. — И уже увереннее: — Конечно, вещевой мешок. Когда мы шли на вокзал, так они обогнали нас по дороге, и у одного за плечами болтался вещевой мешок. Мой Андрюшка еще сказал на вокзале…
Она покраснела и смутилась, но Никишин не обратил на это никакого внимания.
— Что сказал ваш Андрюшка?
— Ребята те выпивали, у них на газетке пирожки лежали, ну Андрюшка и посмеялся: они, дескать, не на поезд спешили, а в буфет.
Никишин с Афанасьевым переглянулись. Это встревожило девушку.
— А что случилось? — спросила она взволнованно.
— Мы выясняем обстоятельства одного происшествия, к которому вы не имеете отношения, — успокоил ее Афанасьев. — Вот и интересуемся у тех людей, которые в ту ночь уезжали, что они приметили необычного.
— А необычного ничего не было, — сказала она.
— Где они вас обогнали? — опять спросил Афанасьев.
— На шоссе. Понимаете, сзади мы их не видели, а потом вдруг они нас обгоняют. Я еще удивилась.
— Может, они из боковой улицы выбежали?
— Вполне вероятно. Там как раз проулок, который ведет к пруду.
— Так, так, — оживился Никишин. — На вокзале вы тех парней узнали, а раньше в поселке видели?
— Нет.
— А ваш Андрюша?
— Наверное, лучше спросить у него…
Андрюша, провожавший девушку из аптеки, оказался веселым и благодушным пареньком с механического завода. Когда ему напомнили события, он повторил то же.
— Парней знаете?
— Нет, — твердо ответил он. — Я все свободное время пропадаю в нашем клубе, но их не видел ни разу. Одно могу сказать точно: не с нашего завода.
Никишин настоял на том, чтобы еще раз сходить на вокзал.
— Поговорим с кассиршей из билетной кассы.
Кассирша ответила сразу на все вопросы.
— Я через это окошечко, дорогие товарищи, — она показала крошечное отверстие в стене, — едва голос-то живой слышу. Чего я могу увидеть?
Афанасьев утянул Никишина в буфет. Он сел за столик, стоявший в сторонке от буфетной стойки, и поманил пальцем буфетчицу.
— Что, товарищ Афанасьев? — подсела она с удовольствием,
— Дело-то серьезное, Фая… Вчера ты говорила, что тех ребят в поселке видела. А где, не припомнишь? Или — с кем?
— В магазине видела. Тоже водку брали. А еще: знаешь Катьку из столовского буфета? Толстая такая…
— Ну, знаю.
— Вроде бы с ней одного-то встречала. Давно, правда.
— Хоть бы одежду его приметила, а то как спрашивать-то?
— У него голос хриплый, — сказала она.
— Ладно, попробую…
Попытка что-то выяснить у продавщицы магазина кончилась ничем.
Афанасьев, прежде чем спросить о парнях, сказал, что у одного голос хриплый. Но примета оказалась недостаточной.
— Которые водку часто берут, у тех у всех и рожи одинаковые, и голос пропитый, — только и ответила ему.
— Никакого просвета! — подосадовал Никишин, выйдя из магазина.
— Погоди, — успокоил его Афанасьев. — До всего доберемся. Разве в Красногвардейске что утаишь? Только подумать надо не торопясь…
Перед ужином Афанасьев достал из буфета пол-литру. Не спрашивая Никишина, налил в два стакана.
— Держи.
Когда ели, сказал как решенное:
— Ты сегодня или завтра, Никишин, поезжай в паспортный стол и узнай, кто за последние две недели из Красногвардейска выписался. Помнишь, Файка сказала, что прощались, уезжали совсем. Может, правда. А может, один уезжал, другой провожал. Черт их знает! Аптекарша другое приметила: один вещмешок. Вишь, как все выходит? Ежели хоть один уезжал, так мы его через паспортный стол все одно определим. Значит, и другого. Так что двигай… А я тут еще попробую сам.
— Поеду сегодня, — согласился Никишин.
— А я с утра загляну в больницу. Анну-то мы совсем обошли…
5
Анна Червякова лежала в больнице четвертый день, а испуг у нее не прошел. Ефим Афанасьев заметил это сразу, как только увидел ее в палате: Анна смотрела на него широко распахнутыми глазами, в ее взгляде смешалось все: и страх, и смятение, и беспомощность. Разговаривала она с Афанасьевым неохотно, видно, не веря в его помощь. И как ни подступался к ней участковый, на все отвечала односложно:
— Ничего не знаю. Выстрелили, пала я, а видеть никого не видела. Я и взглянуть-то не успела…
Так и ушел Афанасьев ни с чем.
Все эти дни он много думал о случившемся. Его добродушие и немногословность окружающие часто принимали за невозмутимое спокойствие.
И только одна жена знала, как ворочается он ночами с боку на бок, мучаясь бессонницей и какими-то своими мыслями, о которых она привыкла не спрашивать.
И уж совсем никто не мог догадаться, что во всем, что произошло в доме Червяковых, Ефим Афанасьев винил себя. Отсюда, из Красногвардейска, он уходил когда-то в армию. После службы за границей истосковался по дому. Когда вернулся, райком комсомола даже отдохнуть не дал, направил на работу в милицию. До сих пор работалось, можно сказать, легко. Потому что кругом были свои, с детства знакомые люди. Ефиму даже казалось, что именно из-за того, что в Красногвардейске участковый уполномоченный он, Ефим Афанасьев, здесь никакого преступления серьезного и случиться не может, так как не заслужил он такой обиды. Да и знал он всех настолько, что и в мыслях допустить не мог, как это от него можно плохое скрыть. Сам он взыскивать с людей не любил, от всякой дури старался просто удержать. А перед праздниками заходил в магазин и отдавал продавщице список: кому не следует продавать в эти дни больше чем пол-литра. Добавлял при этом:
— А коли ругаться начнут да просить жалобную книгу, то по такому поводу ее не выдавать. Нечего пьяниц до чистой бумаги допускать. За разъяснениями ко мне присылайте, даже на дом можно. Так и говорите, что я велел.
И вдруг — грабеж, да еще с применением оружия!
Только сейчас и понял, где промахнулся. Пять лет уже работал участковым, на всех совещаниях только одни похвалы слышал, в прошлом году звание офицерское присвоили. И все эти годы полагался только на своих, коренных красногвардейских. А сколько в последнее время новых людей понаехало! И не только специалистов да рабочих кадровых, но и тех, с кривой душой, которые болтаются по белому свету без всякого смысла. Знал ведь об этом! А что мог о них сказать? Ничего. И получилось, что оторвался от жизни. Вот где собака-то зарыта!..
…В поселковой столовой сказали, что Катька-буфетчица работала вчера, а сегодня отдыхает.
Поглядел на часы. Время двигалось к полудню. Решил сходить к Катьке домой, хоть и далеко да и не больно хотелось. Такая она уж была Катька: с другой женщиной мужчина пройдет рядом — и никто слова не скажет, а кто возле Катьки побыл — всякое доверие теряет. И все равно мужики возле нее вертятся. А она только похохатывает.
И Афанасьеву дверь она открыла широко, забелела зубами в улыбке, словно ждала:
— Проходите. Вот так гость!
— Не ждала, что ли? — тоже улыбнулся он.
— Я сроду никого не жду. Ко мне сами ходят. А ты испугал. — И хохотнула весело.
— Вот и я сам пришел.
— Вина не прихватил? — пошутила.
— В такую-то рань?
— Сегодня можно: все равно же завтра воскресенье!
— Ладно, — сказал Афанасьев. — Знаю, что женщина ты веселая, гостей любишь, а я — по делу. Хотел кавалером одним твоим поинтересоваться…
— Которым? — прыснула она.
— Часто меняешь? — решил подковырнуть ее.
— А что делать, если они испытания моего не выдерживают? — нисколько не смутилась она. — То дурак попадет, то наоборот — такой умный, аж противно. Один на телка похож, другой на петуха. Не хочешь, да расчет дашь!
— Правильно. Воюй, пока порох есть,
— Не война это, одно расстройство…
— Так вот. Слышал я, есть или был, не знаю уж какой, кавалер один возле тебя. А нынче понадобился он мне по одному вопросу. Думаю, поможешь мне найти его…
— Чего это ты, Ефим, сыздаля ко мне подъезжаешь, как к незнакомой? — упрекнула она. — Сказал бы кто, и все. Мне ведь скрывать нечего, вся на виду. Кто такой?
— В том-то и дело, что ни имени, ни фамилии его не знаю.
— Ну, хоть с виду-то какой? Мне аж самой интересно.
— Хрипловатый голос у него.
— Кто же это? — силилась вспомнить Катька. — Точно со мной видели?
— Чего мне обманывать.
— Хрипловатый… Так это Колька Ширяев, химлесхозовский. Ну и вспомнили! Со смеху помереть можно. Я его уже с полгода на вытянутую руку не подпускаю. Конечно, только Колька Ширяев и говорит так, будто у него в глотку вата натолкана. От водки, наверное, охрип на всю жизнь!
— Где он сейчас, не знаешь?
— И знать не хочу! Околачивается у себя, думаю. Где ему больше и быть, как не в лесу?
— Уезжать он не собирался?
— А бог его знает! Он трепач, так пойми его. Пускай катится на все четыре стороны!
— Дружок у него есть?
— Такой же, как сам, — Петька Гилев, с одной колодки спущены.
— Давно в химлесхозе они?
— Года полтора. Колька из заключения приехал, а Петька за неделю до него появился. Вот и смахнулись.
— А ты как узнала его?
— Я всех одинаково узнаю: мало их трется у меня возле стойки? Разлив же: у одного до пол-литры не хватает, ко мне идет. Я и рубель беру.
— Фотокарточки нет у тебя с него?
— Откуда? Не жених ведь. Что это они так понадобились тебе? Нашкодили, знать? Они с пьяных глаз все могут…
— Придется в химлесхоз идти, — сказал Ефим, поднимаясь. — Не лишку ты рассказала мне. А на этой неделе не видела их в поселке?
— Давно не встречала, Ефим. Хочешь верь, хочешь не верь, — ответила она по-серьезному.
Афанасьев видел, не врет. Да и знал, что Катька — баба честная и прямая, хитрости в ней никакой нет. Вся недостача ее — по женской линии.
В химлесхозе Афанасьев без труда установил, что Ширяев и Гилев получили расчет за день до происшествия в доме Червякова.
Ни одного хорошего слова не услышал о них Афанасьев,
За полтора года Ширяев и Гилев едва ли ночевали в общежитии половину ночей, а когда являлись, то непременно пьяными. В небольшом клубике лесного хозяйства без них не обошлось ни одного скандала. Жадные до денег, они пропадали в лесу неделями, а когда получали заработанные деньги, не уходили из поселка, пока не спускали все. Так и жили, не заглядывая вперед, довольствуясь тем, что есть на сегодня.
Ребята из общежития, которые жили вместе с Ширяевым и Гилевым, рассказали, что друзья последнее время забросили пьянку и налегали на работу. Собирались уезжать.
— И хорошо заработали? — спросил Афанасьев.
— Тысяч по пять, самое малое, увезли, — прикинули соседи. — В бухгалтерии вам точно могут сказать.
— Что ж у них багажа не было, коль они так много зарабатывать могли?
— А Колька всегда говорил, что маленький, да тугой бумажник в сто раз лучше большого чемодана с тряпьем.
— За что сидел Ширяев в тюрьме, не рассказывал вам?
— Спрашивали, да он увертывался: за божий промысел, отвечал.
— В общежитии ни у кого ничего не пропадало при них?
— Этого сказать не можем. Что делали на стороне, нам неизвестно, а здесь парни рук не замарали. Ручаемся.
Ребята из общежития помогли Афанасьеву и найти фотографии Ширяева и Гилева.
Не откладывая, Ефим зашел в аптеку и в числе разных других показал фотографии девушке, которая видела на вокзале парней, обогнавших ее на дороге.
— Есть на этих фотографиях они? — спросил ее Афанасьев.
— Вот эти, — уверенно выбрала она нужные.
Разыскал домашний адрес станционной буфетчицы Фаи. Сходил с фотографиями и к ней, получил еще одно подтверждение.
И только после этого отправился домой. И хотя время двигалось к девяти, чувствовал себя легко, даже сам не заметил, как тихонько стал подпевать в такт своим шагам… Зашел домой и распорядился с порога:
— Маруся, давай-ка в ружье! Если поторопишься, так на девять часов в кино успеем!..
6
А ранним утром Афанасьева разбудил Никишин. На мотоцикле его изрядно заляпало грязью, но он был бодр и весел. Ворвавшись в дом, заявил громко:
— Долго спишь, Афанасьев! Пора дела начинать да по инстанциям докладывать!
— За нами задержки не будет.
— Итак, зовут наших крестников — Николай Ширяев да Петр Гилев. Только они двое и выписались в этом месяце из Красногвардейска. Работали в химлесхозе. И биографии у них на обвиниловку похожи…
— Знаю, — проговорил Афанасьев, натягивая на теплую портянку сапог. Притопнул ногой и закончил: — Уехали как раз в тот день, когда Червякову ранили.
— Точно — уехали?
— На сто процентов. И в общежитии говорили, и расчет за день до этого взяли, и на вокзале их видели. Вот фотографии. — Пока Никишин рассматривал их, Афанасьев умылся и, вытираясь посреди комнаты, говорил: — Как искать их теперь? Россия-то большая, а они не меньше чем по пять тысяч с собой увезли. На такие деньги знаешь куда заехать можно?
— Россия большая, это верно, но в ней в каждом районе и милиция есть, вплоть до самой тундры. Понял? — не склонен был разделять сомнения Афанасьева Никишин. — Наше дело — образцово выполнить оперативную задачу. Никакой злодей еще ни разу не дожидался милиции на месте преступления. Он всегда старался скрыться, Мы получили заявление о нападении спустя пять часов после того, как преступники сели на поезд. Поступи это заявление вовремя, и мы задержали бы их на вокзале. Все ясно как день. Теперь решай, кто в чем виноват… Нам сейчас первым делом надо всю документацию оформить как положено, а по том решать, что предпринять дальше.
— Дальше я тоже кое-что понимаю, — остался при своих мыслях Афанасьев и спросил: — Покажи, что привез-то?
Никишин выяснил только то, что Ширяев отсидел в тюрьме около четырех лет за государственную кражу и освободился досрочно.
— А про второго особенного ничего не узнал, кроме того, что не судим, — сказал Никишин.
— Про другого я наслышался, недалеко от первого ушел: еще не жил, а с десяток мест переменил. Везде за прогулы да за пьянку выгоняли.
— Отлично! — похвалил его Никишин. — Надо только характеристики подробные взять с производства.
— Взял уже.
— Совсем хорошо. А куда людей будем вызывать?
— В поселковый Совет, куда больше? У меня кабинета нет.
— Сойдет. Ты бы только ребятишек пошустрее нашел, чтобы повестки растащили.
— Не надо. По телефону вызовем.
…За день Никишин с Афанасьевым успели допросить всех свидетелей, включая Анну Червякову, к которой Афанасьеву пришлось сходить еще раз.
— Нашли бандитов-то, — чтобы хоть как-то успокоить ее, сказал на прощание Афанасьев.
— Неужто? — удивленно и испуганно переспросила она.
— Да. Только неувязка случилась: Прокопий заявил поздно, поэтому они сбежать успели.
— Господи, что делается!.. — слабо проговорила она.
— Ничего, — улыбнулся Ефим. — От ответа еще никто не уходил. Найдем все равно.
Вечером на квартире Афанасьева, подшивая документы в папку, Никишин делился опытом:
— Вроде пустяк: подшить документы, а тоже значение большое. На первое место — протокол осмотра места происшествия и схема. Поглядел в них — и полная картина преступления перед тобой. Потом идут протоколы, допросов свидетелей, если есть — заключения экспертиз. Когда в показаниях получается несоответствие, добавляются еще протоколы очных ставок. Но это чаще с обвиняемыми, а они у нас еще бес знает где…
— И для чего это ты все мне объясняешь? — спросил Афанасьев.
— Так, по пути.
— А я думал, что не уверен во всем этом деле.
— В чем же тут сомневаться?
На следующий день Афанасьев вместе с Никишиным выехал в Зайково.
На этот раз присутствующие на совещании у начальника уже знали обстоятельства дела подробно, и доклад Никишина проходил гладко, без досадных мелких уточнений, мешающих разговору.
— Вы уверены в причастности этих людей к преступлению? — спросил Никишина начальник.
— Кроме них, подозреваемых вообще не обнаружено. Они — единственные. Кроме того, их поведение в тот вечер полностью совпадает с обстоятельствами преступления.
— Что вы предлагаете?
— Искать надо. Сначала по области, а если не найдем — и дальше.
— Вы так же думаете, Афанасьев?
— Да, — негромко ответил Ефим. — Виноваты они или нет, а проверить их надо. Людишки-то такие, что всего от них ждать можно. Характеристики одни чего стоят! Но у меня лично сомнения есть кое-какие.
Никишин повернулся к нему и остановил на нем снисходительный взгляд.
— Скажем, люди спали, дело ночное, — продолжал спокойно Афанасьев, — выстрела не слыхали… А как понимать, что полтора года мы про оружие не знали? Из Красногвардейска за это время они никуда не уезжали, к ним гостей тоже не бывало. С собой который-то привез? Может быть. Вот и не понимаю я, как это за полтора года мы о нем не узнали…
— Держали в секрете, чего тут не понимать, Афанасьев? — не выдержал Никишин.
— Вот того и не понимаю, как мог такой секрет полтора года держаться. Хоть бы жили-то не в общежитии… В общем, надо их найти обязательно.
— Значит, искать будем? — спросил начальник.
— Да. А нельзя ли насчет санкции на арест подумать? А то еще раз убегут, — сказал Никишин.
— Надо ли санкцию? — засомневался начальник.
— Не надо, — поднялся Афанасьев. — Хватит нам и телеграфного уведомления. Если потребуется, я сам куда угодно, хоть самолетом…
— Решено. Так и в область доложим. И начальник закрыл папку, давая понять, что разговор закончен.
7
В следственной практике случается, что по каким-то причинам затянувшееся следствие заканчивает совсем не тот человек, который его начинал. Так судьба распорядилась и с ночным выстрелом в Красногвардейске.
Никто тогда не мог отказать в усердии зайковской милиции. Условия работы там были, сказать скромнее, хуже некуда. Людей мало. В то время в райотделе числилось два оперуполномоченных. Машин нет, пару мотоциклов почитали за благо. Все это на деле отражалось. Хорошо, что были такие ребята, как Ефим Афанасьев и Никишин. Они уступали сотрудникам областного звена в профессиональных знаниях, но зато любого и сейчас обойдут в умении установить свидетелей, потому что отлично знают людей, среди которых работают. А когда сталкиваются с преступлением, подходят к нему с самой верной стороны: от жизни, от привычек, годами складывавшихся в том или ином поселке, деревне, где угодно. И логика у них нерушимая. Недаром Ефим Афанасьев воспринял попытку вооруженного грабежа в Красногвардейске как личное оскорбление: по его мнению, случилось почти сверхъестественное. Почему бы ему так думать?
Ответ прост: Ефиму Афанасьеву никогда и в голову не приходило, что в Красногвардейске могло произойти такое. Не мог он ничем этого объяснить. И не так уж велика его вина, да и Никишина тоже, что их дело затянулось и пережило вторую судьбу.
Короче: через полтора года нашли Кольку Ширяева. После отъезда из Красногвардейска шатался он год без прописки, а потом в каком-то порту на Волге опять застрял на государственной краже. Получил семь лет, Санкции на арест в таком случае не полагается, а по запросу доставили его в Зайково как подследственного.
Приехал веселый, спросил даже:
— Что это, граждане начальники, вы меня, как туриста, катаете?
— Хотим, — объясняют ему, — узнать, как ты отсюда уезжал.
— Очень просто, — отвечает Колька, — получил расчетик, купил билетик — и на чугуночку.
— А какой дорогой шел на вокзал и с кем?
— С Петькой Гилевым чуть к поезду не опоздали, — рассказывает. — Пришлось бегом да проулками, чтобы покороче.
Все расписал, как будто перед ним схема Никишина лежала. Только ливерные пирожки из станционного буфета плохим словом вспомнил: старые, видимо, попали, потому что в поезде животом маялся… Спросили, знает ли, где сейчас дружок его, Петька Гилев, живет, Ответил тоже обстоятельно: расстались в Свердловске. Петька, говорит, уехал в Оренбургскую область, в какой-то глухой район к старшей сестре новую жизнь начинать. Как вскоре выяснилось, не обманул Колька следователей.
Тогда предъявили ему обвинение, свидетелей представили. От обвинения он не совсем скромно отказался, свидетелей послал ко всем чертям, хотя не без удивления признал, что их показания во всем чистая правда, О попытке к грабежу, да еще с оружием, говорить вообще не пожелал.
Пришлось вести его в червяковский переулок,
— Был здесь? — спрашивают,
— Был, — говорит.
— Бежал на дорогу отсюда?
— Точно.
— А в этот дом с Петькой лазили?
— Да вы что, — спрашивает сам, — опухли?
— Чем докажешь, что не лазили?
— Ничем, — отвечает. — Вы и доказывайте, если делать нечего, а мне, — объясняет, — нервы надо беречь: шесть лет за решеткой впереди…
Бились с ним две недели, а толку никакого. Из Оренбурга сообщили, что и Петька Гилев измотал тамошнюю милицию до посинения. Как сговорились с Колькой: слово в слово кладут…
Вот тогда-то и послали в Зайково Лисянского, старшего оперуполномоченного уголовного розыска области. Того самого, который позднее стал начальником отдела БХСС Свердловска и участвовал в расследовании дела Хоминой с лотерейными билетами.
Поехал, значит, Лисянский в Зайково. И пропал. Дней через пять нашли его там по телефону. Спрашивают об успехах. А он отвечает:
— Успехов нет.
— В чем загвоздка? — интересуются.
— Изучаю, — докладывает. — Дело-то старое, дайте еще дня три-четыре…
Дали. Дождались: сам позвонил. Сразу спросили:
— Разобрался?
— Как вам сказать? — отвечает.
— Не тяни душу! — посоветовали.
— Отправляйте, — говорит, — Кольку Ширяева туда, откуда привезли. И в Оренбург звоните, дайте отбой насчет Петьки Гилева. Не причастны они.
…На другой день Лисянский появился в управлении. Сразу отправился в научно-технический отдел к Сутыркину. Потом заходит к себе, зовет всех к столу и выкладывает патрон от пистолета «ТТ». Спрашивает не без ехидства:
— Какой это патрон?
— Для «ТТ» годится, — отвечают хором. — К автомату тоже подходит,
— Молодцы, — хвалит. Опять лезет в карман, достает пулю: — А пуля от какого патрона? Посмотрите внимательнее, не торопитесь.
Посмотрели, повертели, ответили:
— От револьвера… системы «наган».
— Академики! — возносит всех и продолжает: — Теперь скажите: можно ли из «ТТ» выстрелить этой пулей?
— Издеваешься? — хотят устыдить его.
А с него вся веселость слезла, как и не бывало ее.
— Так вот, братцы… В огороде Червякова нашли этот патрон от «ТТ» с осечкой. А нога его жены пробита вот этой пулей. Червяков в своих показаниях категорически заявляет, что слышал осечку. И это можно объяснить вот этим патроном, потому что «ТТ» с выбрасывателем. Стреляной же гильзы, которая должна была бы валяться там, не нашли. Скорее всего ее и не было. Не кажется ли вам после всего этого, что стрелял не «ТТ», а наган? Тогда можно понять, почему и гильза исчезла. Она осталась в барабане, насколько я догадлив…
— Может быть, у Ширяева наган и был? — предположил сразу кто-то.
— В таком случае объясните, откуда появился патрон от «ТТ» с пробитым пистоном?.. Посмотрите на него: чистенький, свеженький и сейчас, через полтора года после всей этой кутерьмы. Он не пролежал в земле и недели. Не появился ли он на огороде в ту же ночь?
— Ты прав. Но получается ерунда, задача со сплошными неизвестными.
— К сожалению.
— Послушайте, товарищи! А вдруг там было два ствола?!
— Не исключено, — согласился Лисянский.
— И что ты намерен делать?
— Возвращаюсь в Красногвардейск…
8
Возвращаясь в Красногвардейск, Евгений Константинович Лисянский не только не имел определенного плана оперативных мероприятий, но и не знал, с чего начнет вторичное расследование этого старого дела.
Допотопный, полуосвещенный вагон тавдинского поезда часто вздрагивал на стыках рельсов, уныло скрипел на кривых и на подходах к станциям. Положив под голову мягкий спортивный чемоданчик, Евгений Константинович лежал на второй полке. Завтра его ждало напряженное рабочее утро. Но ночь не обещала сна: слишком загадочным представлялось все, что произошло в Красногвардейске почти два года назад.
Еще на прошлой неделе, во время первого приезда в Зайково и знакомства с делом, ему, давно не новичку в уголовном розыске, не понравилась та поспешность, с которой когда-то сделал свои выводы Никишин. А после встречи с рассудительным и обстоятельным Ефимом Афанасьевым, выяснив, что Никишин, по сути дела, решал все единолично, Лисянский усомнился в категоричности его выводов вообще. Поэтому-то он и не торопился докладывать в управление.
Евгений Константинович сразу понял тогда, почему зайковские дознаватели безуспешно топтались возле Николая Ширяева, который отказывался признать свою вину. Против него свидетельствовали обстоятельства, связанные с отъездом из Красногвардейска. И свидетели, установленные в то время Никишиным, подтверждали только эти обстоятельства, а не само преступление, которое сейчас приписывали Ширяеву.
Да, Ширяева видели с Гилевым, торопившихся около полуночи на вокзал, к поезду. Больше того — теперь имелось подтверждение и самого Ширяева, что он бежал на дорогу к вокзалу по тому проулку, на который выходил огород усадьбы Червякова.
И это все, если не считать дурной славы подозреваемых, которую к делу не пришьешь.
О самом же преступлении не было ни одного, даже косвенного свидетельства. И Евгений Константинович не мог не оценить осторожности Ефима Афанасьева.
— От таких людишек всего ждать можно, — говорил он, но дальше этого в своих выводах не шел.
Целый день убил тогда Лисянский на изучение протоколов допросов. Все в них притиралось одно к другому, как по заказу, если не считать некоторых пробелов. Казалось странным все-таки, что никто из близких соседей Червяковых не слышал выстрела, хотя ночью он значительно громче, чем днем.
Несколько смущало и то, что Червяков не назвал ни одной характерной приметы во внешности парня, пытавшегося проникнуть в его дом через окно. В протоколе на этот счет имелось подробное объяснение, что преступников нельзя было разглядеть на далеком расстоянии, то есть в тот момент, когда они выбегали из темного переулка на освещенную дорогу. Но ведь одного-то, которого Червяков видел в четырех-пяти шагах от себя, в распахнутом окне, можно было хоть как-то запомнить!..
Нет, протоколы допросов свидетелей Лисянского не устраивали.
Тогда он занялся Николаем Ширяевым сам. Разговаривал с ним без всякого официального предупреждения об ответственности за ложные показания, с которого начинают допрос.
— Когда в последний раз был в поселке до отъезда? — спросил Ширяева.
— Месяца за два, — ответил тот.
— Что ж так? У тебя же там подружка жила. Не навещал, значит, ее?
— Какая еще подружка?
— Катя из столовой.
Ширяев захохотал от удивления, замотал крупной головой:
— Ни хрена же вам делать нечего, гражданин следователь, ежели вы всякие байки собираете. К тому времени, как уезжать, я и как звать-то ее забыл. А вы вспомнили…
— Чего ты смеешься? — улыбнулся Лисянский. — Я к тому спрашиваю, что хочу понять, почему ты на поезд опаздывал… Подумал: прощаться забегал…
— Тот кросс нам сдавать пришлось из-за старой ведьмы, что в общежитии у дверей сидит.
— Расскажи.
— А чего там! Выходим с Петькой из общежития, а старуха вахтерша к нам.
— Уезжаете, слышала, — говорит.
— Поехали, — отвечаем.
— Бумажку давайте, что имущество казенное сдали. А то, — грозится, — не выпущу.
— Бабуся, — пробую образумить ее вежливо. — Ты же видишь, что у меня за пазухой кровати нет. Да и до поезда времени в обрез.
А она и понесла.
— Ты, — говорит, — рожа нахальная, может, простыни с наволочками прихватил да полотенца!..
…Днем позже в Красногвардейске Лисянский вместе с Афанасьевым побывал в химлесхозе. Многие из тех, кто работал с Ширяевым и Гилевым, уже уехали. Но двух человек, знавших об их отъезде, которые не фигурировали ранее в деле, нашли.
Бухгалтер расчетного стола вспомнила, что Ширяев и Гилев почти два месяца не выходили из леса и даже пропустили две получки, видно, для того, чтобы сразу получить крупную сумму.
Еще лучше, из-за незаслуженной обиды, вспомнила их вахтерша общежития. Это она требовала у парней документ о сданном казенном имуществе, несмотря на то, что они торопились на поезд.
Разъяренный Ширяев, не зная, как убедить ее, под конец вывалил перед ней прямо на пол все содержимое вещевого мешка, стал тыкать ей в лицо рубашками, майками, трусами:
— На, гляди! Где тут простыни! Где наволочки, в гробу бы тебе спать на них! Гляди!..
А потом скомкал все, столкал в мешок и, матерно выругав старуху, выскочил на улицу.
— А у Гилева даже и узелка никакого не было, — закончила вахтерша. — Того и вовсе не держала.
— В какое время они ушли?
— Часу в двенадцатом.
Шаг за шагом, выясняя действительные обстоятельства отъезда Ширяева и Гилева, Лисянский наталкивался на новые, теперь уже вполне объективные объяснения. Постепенно поспешность, с которой друзья добирались до вокзала, утратила подозрительную окраску, Больше того, оказалось, что у Ширяева с Гилевым просто не оставалось времени для совершения подобною преступления.
— Как же так, Ефим? Разве можно было упустить таких свидетелей, как вахтерша?
— Что сделаешь, Евгений Константинович? Виноваты. Мы ведь в химлесхозе днем были. То, что Ширяев с Гилевым последнее время вкалывали, зашибая деньги, узнали потом. А вот вахтерша…
Лисянский снова вернулся к документам дела. Налюбовавшись схемой Никишина, попросил вещественные доказательства. Тогда-то и увидел ту злополучную пулю. Сильно деформированная в передней части, она стала несколько короче и даже толще обычной, но ошибиться в ее действительной принадлежности можно было только в спешке.
Дело рассыпалось окончательно.
…Дальние пассажиры уже заснули. Тишина, лишь изредка нарушаемая чьим-то нечаянным всхрапыванием, сгущала полумрак. Вагон все так же размеренно постукивал на стыках рельсов, как маятник, отсчитывающий время. А Евгений Константинович все думал, с чего же начать это новое расследование старого дела…
И в Красногвардейске, в доме приезжих, он заснул с той же мыслью. А утром, встретившись с Ефимом Афанасьевым, спросил:
— С чего же начнем, Афанасьев? Где теперь искать свидетелей преступления? Как обнаружить следы настоящего преступника или преступников?
— Не знаю, Евгений Константинович, — откровенно ответил Ефим и объяснил невесело: — Мы теперь — как в сказке, снова у разбитого корыта. Дальше вам карты в руки.
— Думаю, надо идти от оружия. Как полагаешь? У нас есть патрон от «ТТ», который дал осечку, и пуля от нагана, который определенно выстрелил. Давай для начала узнаем, сколько «ТТ» и наганов есть в Красногвардейске.
— Наганов сколько — не скажу. А «ТТ», Евгений Константинович, только у одного меня. Это — точно, — серьезно ответил Афанасьев. — Может, с меня и начнем?
Евгений Константинович посмотрел на него и рассмеялся. Ефим лишь улыбнулся в ответ.
— Нет, Ефим, давай все-таки начнем с наганов.
9
Евгений Константинович понимал, что время уже изгладило из людской памяти ночное происшествие в доме Червяковых. Это делало бессмысленным новые поиски его действительных свидетелей. Да их, видимо, и не было. Расчет Лисянского, решившего предпринять проверку оружия в Красногвардейске, был прост: убедившись в непричастности Ширяева к попытке ограбления, он решил искать преступника в поселке.
Евгений Константинович и мысли не допускал о заезжем гастролере-грабителе. Для этого объектом нападения могли бы стать магазин, производственная касса, даже — банковский сейф, но никак не дом малоприметного обывателя, да еще в таком месте, как Красногвардейск.
А если преступник здесь, значит, и оружие, которым он пользовался, должно находиться при нем.
Несмотря на существующий строгий учет огнестрельного оружия, оно иногда оказывалось в руках отпетых уголовников, и это приводило к самым тяжким последствиям. Поэтому-то работники милиции всегда и всюду с крайней тревогой воспринимают каждый случай утери оружия и считают чрезвычайным происшествием его хищение.
Евгений Константинович помнил, как однажды в Свердловске из склада одной организации ДОСААФ в самый канун денежной реформы исчезло сразу девять боевых пистолетов с патронами. Буквально через два дня в городе должны были открыться больше сотни пунктов обмена денег. Не особенно склонные к фантазии работники уголовного розыска, да и вся милиция, враз почувствовали себя на осадном положении. Тревога охватила даже соседние области. Целую неделю у милицейских подъездов стояли оперативные машины, готовые рвануться в любой район города. Неделю усиленные наряды ни на минуту не покидали комнат дежурных. Он, Лисянский, до сих пор считает эту тревогу самой большой в его беспокойной долгой службе… К счастью, все обошлось: похитителей оружия задержали. Ими оказались подростки, которым вздумалось устроить соревнование по стрельбе в лесу…
Но это, пожалуй, единственный случай, когда хищение оружия носило столь мирный характер, хотя тоже могло кончиться плачевно…
А как бесконечна трагическая летопись оружия!
Разве мог забыть Лисянский человека, несколько лет назад арестованного за кражу, у которого нашли револьвер, такой же, из какого была ранена Анна Червякова? Нет, этот человек ни в кого не стрелял, совершая свое последнее преступление. Да и знал уголовный розыск, что в течение года не было в области преступлений с оружием. Но револьвер все-таки отстреляли. Результаты исследования и фотографию деформированной пули разослали всюду, где случались вооруженные грабежи и убийства. И узнали, что изъятый пистолет молчал не всегда. У исследованной пули оказалось четыре свинцовые сестры, которые за последние пять лет у двух человек отняли жизнь, а двоих тяжело ранили. Вор оказался холодным и расчетливым убийцей…
Здесь, в Красногвардейске, Евгений Константинович не предполагал столкнуться с хитроумным и тщательно обдуманным преступлением. Происшествие, когда-то так напугавшее старожилов, представлялось ему больше нелепым, хотя и носило характер бандитской вылазки. Он не хотел признаваться себе в том, что недоверие к Никишину переносит и на его аргументы, квалифицирующие эту нелепость грабежом. Просто он не мог понять смысла такого грабежа. У грабежа всегда есть расчет, пусть и примитивный, пусть и ошибочный, а перед ним сразу встала фигура неловкого и невзрачного Червякова, отличающегося от других разве только тем, что где-то в сберкассе на его книжке лежали двадцать пять тысяч рублей… Но Анна Червякова была ранена!..
Факт остался фактом. С ним надо было считаться, ему надо было дать исчерпывающее объяснение со всеми вытекающими из этого последствиями.
Интересующего Лисянского оружия в Красногвардейске оказалось не так уж много. Единственный пистолет «ТТ» числился за участковым уполномоченным милиции Афанасьевым, четыре револьвера системы «наган» находились в распоряжении местного отделения Госбанка и еще три таких же — у работников почты.
Как и ожидал Евгений Константинович, оружие в этих организациях не имело персонального закрепления, а выдавалось сотрудникам на разные сроки в зависимости от служебной необходимости. И только у двух инкассаторов, ежедневно имеющих дело с деньгами, оно хранилось постоянно.
Таким образом, круг лиц, представляющих интерес для проверки, несколько расширился. Кроме того, как и во всяких учреждениях, за два года в отделении Госбанка и на почте сменилась почти треть сотрудников, многие из которых не просто сменили работу, а уехали из Красногвардейска. В итоге картина стала выглядеть вовсе неутешительно: за два года револьверы из отделения Госбанка и почты побывали в руках сорока трех сотрудников, из которых четырнадцать получали их уже после известного происшествия, их беспокоить не следовало, восемнадцать уехали из Красногвардейска, а из одиннадцати оставшихся — пять работали в других местах.
— И как вы думаете их проверять? — спросил Лисянского Афанасьев.
— Очень просто: побеседуем вежливо, попросим вспомнить время покушения на дом Червякова, попытаемся узнать, где находилось в это время оружие… Понимаешь, Ефим, я вовсе не подозреваю этих людей в преступлении. Поэтому и хочу знать прежде всего, где находилось оружие. Ты же сам понял, как к нему у вас здесь относятся: сотруднику оно необходимо на два дня, а он держит его неделю, пока не потребуется другому; во время пользования оружием на ночь его даже не оставляют в рабочем сейфе, а тащат домой… Я, например, знаю случай, когда один негодяй, сын порядочного отца, взял из стола его браунинг, чтобы похвастаться перед своими дружками, а кончилось тем, что изувечили ни в чем не повинного человека. Отец же и пострадал…
— Понимаю я, — проговорил Афанасьев. — Но выходит, здешних одиннадцать проверять будем, а тех четырнадцать, которые уехали, нет? Уж если начинать, так…
Евгений Константинович видел скрытое недовольство Афанасьева, понимал, что он прав. Коли кто воспользовался оружием в ту ночь или позволил вольно-невольно сделать это другим, то он и должен был куда-то уехать. Значит, и проверять уехавших надо бы в первую голову, Но Евгений Константинович не хотел терять времени зря здесь, в Красногвардейске.
— О тех, которых вы хотите вызывать, я могу вам полные сведения дать, — предлагал Афанасьев. — Их тут знают не хуже, чем Червякова, да и сам Прокопий любого из них в лицо разберет. А лез незнакомый…
— Так уж и всех знает? — усомнился Евгений Константинович.
— В лицо-то, по крайней мере…
Евгений Константинович не возразил. И Ефим, не ожидая просьбы, начал рассказывать ему о тех, кто долгие годы работает в местной конторе Госбанка и на почте.
— Прежде всего, Кондратьевы. Их двое: отец и сын, оба — в банке. Один — инкассатор, другой в райцентр с машиной ездит. У них, можно сказать, оружия полный дом. К ним-то самый отчаянный ворюга, если он не из Москвы, не полезет. Мужики самые порядочные в Красногвардейске. Отец-то стал в банке работать еще до войны, когда вернулся с действительной службы. На границе он служил и оружие хорошо знал. В те времена здесь с работенкой не шибко просторно было, вот и поступил в банк. Потом весь фронт отбыл, не один раз в госпиталях лежал, но руки и ноги остались в сохранности. Здоровьишко, конечно, поизносилось на войне, поэтому и спятился обратно в свою контору, хотя занятие подыскать можно было поденежнее… А сын туда устроился тоже после армии из-за того, что шофер, Ему выгоднее: ездит с оружием, конторе не надо лишнего человека держать, Теперь судите: могут такие люди к безобразию склониться или нет… Ну… об охраннице Марье Домниной говорить не буду: она хоть и сидит двадцатый год подряд возле почты, а стрелять из своего револьвера все еще не научилась. Это все знают. А держится за работу потому, что когда-то ребятишек после похоронной трое осталось и дом от рабочего поста третий по левому порядку: пока светло, так и сбегать домой распорядиться можно…
Евгений Константинович вслушивался в нехитрый рассказ Ефима Афанасьева, узнавая со всеми подробностями жизнь тех, которых намеревался проверить, и чувствовал, как в нем самом поднимается протест против своего собственного решения. Слишком ясными и простыми были все эти люди, и всякое недоброе подозрение на них ему самому начинало казаться кощунственным. Убеждение в их абсолютной непричастности к этому делу, которое стояло за каждым словом Афанасьева, передавалось и ему.
И когда Ефим замолк, он только и протянул в задумчивости:
— Да… А проверять все равно нужно. А что, Ефим, если мы просто возьмем и отстреляем все имеющееся здесь оружие? С максимальным приближением к условиям того выстрела?
— Отстрелять можно. Отдадим распоряжение сдать оружие для перерегистрации и сами сделаем все без всякого шума.
— И стрелять будем в подушку, — добавил Лисянский. — С семи метров или десяти, какое там расстояние было?
— Смеряем, — Ефим усмехнулся. — Это сколько же подушек мы должны перепортить?
— Пару подушек у Червякова попроси. Он пострадавший и должен быть заинтересован в успехе.
— Пожалуй, сумею, — пообещал тот.
— Так и решим. Ты завтра подготовкой займись, а я съезжу в Зайково за распоряжением об оружии да заодно переговорю с Сутыркиным из научно-технического отдела. Главное, если все это выгорит, людей не будем беспокоить.
Лисянский уехал.
Распоряжение о проверке оружия поступило в Красногвардейск на другой день. Афанасьев немедленно дал ему ход, но Лисянский приехал только на следующий день. Вместе с ним прибыл из областного управления эксперт Юрий Николаевич Сутыркин.
— У меня все готово. В червяковском доме расстояние от окна, от которого стреляли, до кровати девять метров десять сантиметров. Рулеткой мерил сам, Две подушки у Анны выпросил. Место для отстрела оружия приготовил недалеко, километра за три от поселка, в лесном овражке. Оружие дадут по первому слову. Машину грузовую — тоже, — обстоятельно доложил Афанасьев.
Эксперимент оказался весьма канительным. Все начали как полагается: подушку устроили на пеньке. Но после первого же выстрела Сутыркин приказал извлечь пулю, что в расчеты Лисянского явно не входило.
— Может, сразу три выстрела сделаем, а потом все и вытащим? — спросил он.
— Как же мы узнаем тогда, какая пуля из какого револьвера? — полюбопытствовал тот в ответ.
Афанасьеву с Лисянским ничего не осталось, как вспороть осторожно подушку и вытащить пулю. Несмотря на все ухищрения сделать это аккуратно, они все-таки изрядно облепились пухом. После третьего выстрела они уже чертыхались в полный голос.
— Кладите следующую подушку! — командовал между тем Сутыркин.
— Одна и осталась! — ответил Лисянский. — Та уже не подушка…
— Вам-то что! Вы сели да уехали, а мне что хозяевам отдавать? — мрачно справился Ефим.
— Молчи. Нам бы только отчиститься от всего этого опыта, а потом придумаем…
Через несколько минут вторую подушку привели в негодность еще большую, чем первую.
— Как же мы такими красавцами в поселке появимся? — осведомился Лисянский.
— Ко мне домой надо прямиком, — решил Афанасьев. — А то действительно люди подумают, что мы рехнулись все…
И только Юрий Николаевич Сутыркин был в прекрасном расположении духа: по его мнению, эксперимент прошел вполне нормально.
— Послезавтра получите точный ответ. Сказать сразу ничего не могу. Поэтому, не откладывая, повезу, пульки в свой отдел…
В ту же ночь он вернулся в Свердловск.
На другой день, едва Афанасьев с Лисянским возвратили оружие по принадлежности, их нашел посыльный из поселкового Совета, передав просьбу из Свердловска быть возле телефона через два часа.
Позвонил Сутыркин.
— Могу сообщить результат досрочно: пуля, которой ранена Анна Червякова два года назад, не была выстрелена ни из одного проверенного револьвера, — коротко и ясно сообщил он.
— Это не вызывает сомнений? — спросил все-таки Лисянский.
— Никаких. Ищите восьмой револьвер!.. — посоветовал Сутыркин и попрощался.
— Так я и думал, — сознался с облегчением Ефим.
— А понимаешь, что это означает? — мрачно спросил Евгений Константинович.
— Конечно, понимаю. Я же говорил вам, что из дела сказка с разбитым корытом получилась…
10
Как это часто бывает при серьезных неудачах, когда человек не чувствует собственной вины за исход дела, Лисянский испытывал острый приступ досады. Все это нелепое дело, грозившее сейчас полным провалом, представлялось ему сплошной цепью ошибок, элементарных, как незнание таблицы умножения, и поэтому непростительных. То, что сам он успел сделать за неделю, раньше могло внести в расследование ясность, предостеречь следствие от неправильного пути, по которому оно шло почти два года и похоронило под временем все концы. А теперь оно грозило еще худшими последствиями: восьмой револьвер оказался безучетным, находился в руках неизвестного злоумышленника и мог стать источником новых бед. И если раньше Евгений Константинович был убежден, что виновник ночного налета живет в Красногвардейске, сейчас он не был склонен думать столь категорически.
Однако прошлые ошибки, оказавшись серьезнее, чем первоначально предполагалось, настоятельно требовали исправления.
И снова, в который уже раз, Евгений Константинович засел за изучение материалов. В тонкой папке он знал все бумажки наизусть и все-таки терпеливо перечитывал их, словно надеялся найти за словами свидетелей и потерпевших какой-то второй смысл. Но протоколы, составленные аккуратным Никишиным, были настолько определенными, что не оставляли места ни для какой фантазии. Измучив себя до крайности этим бесплодным занятием, Евгений Константинович развернул аккуратно вычерченную схему и невольно залюбовался ее исполнением. Никишин не упустил ничего, обозначив не только главные предметы, но и все подставки для цветов, где и как стоял каждый стул и табуретка, даже ширина половика с кровяным пятном была указана по всем чертежным правилам. И, может, старое недоверие к столь же аккуратным протоколам Никишина вызывало у Евгения Константиновича внутренний протест против этой бумажной красоты. Сам он больше имел дело с наспех вычерченными планами, которые чаще всего укладывались на маленьких листочках блокнотов. В них не соблюдался масштаб, не обозначались север и юг, но эти планы-наброски дышали какой-то беспокойной оперативной мыслью, заставляя думать, предполагать, спорить…
Евгений Константинович и Ефим Афанасьев пришли в дом к Червяковым днем, застав только Анну, хлопотавшую возле печки. Ефим объяснил ей, что товарищ из Свердловска интересуется старым происшествием в их доме, а Евгений Константинович увидел, как не спеша вытерла она руки фартуком и покорно пригласила их пройти, оставаясь безучастной ко всему.
— Стреляли из этого окна? — спросил Евгений Константинович у нее, хорошо помня схему Никишина.
— Из этого.
— А вы, значит, стояли там… — Он заглянул в другую комнату и увидел кровать, к которой от самой двери тянулся половик. — Половик тот же?
— Нет, другой уже, — ответила она и тут же добавила: — Но он из той же полосы, вместе ткан. Только старый-то износился. Давно ведь все было. Уж забывать стали…
Евгений Константинович прошелся по чистой комнате, остановился около кровати, показал на половик.
— Кровь здесь была? — обратился теперь уже к Афанасьеву.
— Тут вот, весь левый край половика в крови был, и на полу немного.
— Сходим-ка в огород, — предложил Евгений Константинович и попросил Червякову: — Откройте, пожалуйста, то окно.
Анна послушно выполнила просьбу.
Ефим Афанасьев показал Евгению Константиновичу, где был найден патрон от «ТТ», провел по огороду до проулка, выходившего на дорогу к станции. Но тот обратил внимание на изгородь.
— Жерди, — сказал коротко, будто про себя. — Вы осматривали их тогда?
— Не помню.
— На них же должны быть следы тех, кто залезал сюда…
— Не помню, — повторил Ефим.
А Евгений Константинович подошел к окну, из которого на них смотрела Анна Червякова, и поднялся на фундамент. Подоконник пришелся ему по пояс. Анна отступила от окна, и он увидел кровать в другой комнате: пожалуй, схема была правильной. Спросил хозяйку:
— Когда лезли к вам, свет в этой комнате горел?
— Даже и не знаю. В той-то, где мы были, горел.
— Ясно…
Но Ефим Афанасьев видел, что Лисянскому ничего не ясно. Он лег животом на подоконник и, оперевшись на локти, о чем-то думал, равнодушно рассматривая комнаты. Ефим кашлянул, и Лисянский спрыгнул на землю.
— Зайдем к хозяйке еще. Поговорим немного…
В доме попросили разрешения закурить. Присели возле стола в первой комнате.
— Муж ваш говорил, — начал Евгений Константинович, — что в тот вечер вы собирались спать, когда он услышал грабителей?.. Вы чем в это время занимались? Уже легли?
— Нет еще. Только постель взялась разобрать, — ответила она.
— Не раздевались еще?
— Нет. Потом и в больницу увезли в чем была.
— Один или двое были в окне, не приметили?
— Ничего я не видела. Упала — и все.
— А где охотничье ружье мужа находится?
— Там, — она показала на шифоньер у дальней стены.
— Так… Вы стояли возле кровати где? Покажите.
Анна прошла к середине кровати и стала спиной к работникам милиции, обернулась:
— Вот здесь.
— Ага! Стояли спиной к дверям?
— Спиной.
— А в какую ногу вас ранили?
— В левую.
— Хорошо. Встань-ка, товарищ Афанасьев, вместо хозяюшки, — попросил он Ефима.
Когда Афанасьев занял место Червяковой, Лисянский выскочил на улицу, вышел в огород и снова по явился в окне. Опять прилег на подоконник. Спросил Червякову:
— После выстрела вы повернулись?
— Не помню.
— Но упали-то вы на половик? Там ведь кровь-то была.
— Выходит так, но я все равно никого тогда не видела…
— А я не об этом… Хватит, Ефим. У тебя рулетка с собой?
— С собой.
— Дай-ка ее сюда. Хочу еще раз расстояние смерить.
— Так я же мерил.
— Давай, говорят! — И Афанасьев впервые за все время знакомства с Лисянским почувствовал в его голосе нотки беспрекословного приказа. Отдал рулетку.
— Тяни, — коротко распорядился тот.
Афанасьев прошел с концом рулетки по половику до кровати, обернулся к Лисянскому, но тот поправил его:
— Ты стань туда, где стояла хозяйка!
Ефим подался на шаг влево, и Лисянский тотчас же остановил его:
— Ладно. На каких-то три сантиметра разница. Это — ерунда!
Через минуту он снова появился в доме. Сразу спросил Червякову:
— Муж в это время находился в комнате вместе с вами?
— Здесь был.
— А что он делал?
Анна пожала плечами, затрудняясь объяснить. Сказала, наконец, неуверенно:
— Чего ж ему делать-то? Сидел, да и все.
Лисянский видел в комнате только два стула, стоявшие по бокам небольшого столика у окна, направо от кровати.
— Где сидел? Здесь или тут? — он показал на стулья по очереди.
— Не помню, — ответила она.
Ефим видел, что сейчас она разговаривает с Лисянским так же, как когда-то с ним в больнице: со смятением и страхом. Видимо, память вернула ее в тот вечер, когда она чуть не лишилась сознания от испуга и не хотела отпускать мужа даже за помощью в больницу.
— А вы постарайтесь вспомнить, — настаивал Лисянский.
— Тут и сидел на котором-то, — только и смогла уточнить она. — Чего же ему по комнате болтаться без дела.
— Жаль, что не помните…
Когда отошли от дома Червяковых на приличное расстояние, Евгений Константинович увидел около одного дома скамейку и предложил:
— Давай посидим немного, Ефим.
Ефим повиновался. Евгений Константинович снял шляпу, вытер платком лоб. Ефим уже давно видел, что его мучают какие-то свои мысли, но спрашивать об этом в доме Червякова не решался. Только смотрел на него с любопытством.
— Чего смотришь? — спросил Евгений Константинович сам.
— Да так… Вижу, думаете что-то.
— Думаю, Ефим, думаю… О сказочках с разбитым корытом думаю… Пошли-ка теперь в поселковый Совет.
Лисянский позвонил оттуда в управление и попросил, чтобы в Красногвардейск срочно выехал судмедэксперт.
В ту же ночь вместе с Ефимом Афанасьевым они встретили на вокзале Острянскую, одного из старейших и опытнейших судмедэкспертов управления.
Лисянский попытался было сразу заговорить о деле, но Острянская оборвала его:
— Нет уж, дружок, это ты молодой да шустрый, можешь в два часа ночи о деле говорить. А я в это время привыкла спать. Так что потерпи до утра. Скажи мне лучше, где моя постель…
11
Наутро Евгений Константинович выложил перед Острянской наскоро нарисованный им собственный план. В нем не было никишинской четкости, а лишь крупно было обозначено окно, из которого стреляли, дверь в другую комнату и кровать, которую разбирала тогда Анна Червякова. Но самыми крупными пятнами в плане были сама Анна и пятно крови на половике в том месте, куда она упала, раненная.
— Мне нужно от вас только одно, — говорил Лисянский судмедэксперту, — определите с предельной точностью направление раневого канала в ноге этой женщины. Это единственное, что мне нужно знать.
— Это не так уж сложно, дружочек, я полагаю.
— Я понимаю. Но я хочу еще, чтобы ваше заключение сразу обрело силу объективного документа. Думаю, что в амбулаторных условиях это можно сделать в присутствии еще нескольких врачей. Скажите, лечащие врачи, например хирург и терапевт, могут служить в данном случае достаточными авторитетами в комиссии, которую возглавите вы?
— Безусловно. Это даже лучше.
— Отлично! Тогда — немедленно за дело.
После полудня Анну Червякову на машине «Скорой помощи» привезли в местную больницу, и врачи внимательно осмотрели ее ногу. Ни хирург, ни терапевт больницы не знали истинной цели этого обследования. Их задача была сужена до минимума: определить входное н выходное отверстия раны, теперь уже окончательно залеченной, указав, насколько возможно, раневой канал. В целях большей объективности заключения комиссии Острянская намеренно предоставляла им возможность высказаться первыми.
Лисянский, получив заключение судебно-медицинской экспертизы, помрачнел. Когда под вечер собрались к Червякову, коротко поинтересовался у Афанасьева:
— Рулетку не забыл?
— С собой.
— А ниток толстых взял?
— Взял.
— С машиной точно на заводе договорился?
— Твердо обещали.
…Червяковы встретили Лисянского и Афанасьева вежливо, хотя и без особой приветливости.
— Извините, — начал Евгений Константинович, — служба обязывает… Как видите, товарищ Червяков, два года мы не прекращали следствия по вашему делу, Из-за досадной ошибки затянули. А вот сейчас решили все это завершить… Но прежде еще несколько вопросов к вам и вашей супруге.
— Пожалуйста, наше дело отвечать.
— Итак, вы говорили, что в тот вечер находились в комнате вместе со своей женой, которая собиралась спать. В ранее состоявшемся между нами разговоре она сказала, что разбирала в этот момент постель.
— Точно так.
— Когда раздался выстрел, вы не заметили, что ваша жена ранена?
— Сгоряча не приметил. Сначала бросился со своим ружьем вдогонку, а когда вернулся…
— Она сидела на полу вот на этом месте? — закончил его мысль своим вопросом Евгений Константинович.
— Точно так.
Лисянский как-то по-особому вздохнул, прошелся при общем молчании по комнате и остановился возле примолкшей Анны Червяковой.
— Покажите мне еще раз, где и как вы стояли возле кровати.
Анна послушно исполнила просьбу.
— А где вы сидели в это время, Червяков?
— Здесь, — показал он в сторону стульев, стоявших у столика.
— Вы говорили, что были на фронте? — вдруг присел на один из этих стульев Лисянский, словно приготовился к другому разговору. — Даже сами оказали жене первую помощь, если судить по вашим заявлениям в начале следствия.
— Точно так, — подтвердил Червяков.
— Тогда помогите мне произвести некоторые новые обмеры ваших комнат для уточнения кое-каких обстоятельств.
— Если смогу…
— Сможете… Товарищ Афанасьев вам поможет. Откройте окно.
С этими словами Евгений Константинович вышел из дома и через минуту появился в окне со стороны огорода.
— Прошу встать вашу жену в последний раз на то место, где ее настигла пуля! — почти приказал он. — А теперь давай мне, товарищ Афанасьев… Да не рулетку, а нитки!
Клубок домашних суровых ниток, припасенный Афанасьевым, размотали, и Лисянский попросил покрепче натянуть конец. Потом стал распоряжаться:
— Скажем, я стреляю от этого косяка… Натягивай, Ефим!
— Не получается, Евгений Константинович, косяк мешает. Вы отойдите к другому косяку…
— Пожалуйста… Натягивай, натягивай! — подбадривал Лисянский.
— Все равно сантиметров десять не хватает. Опять дверной косяк мешает. Задевает его нитка…
На этот раз Лисянский запрыгнул в дом через окно,
— И не получится! Правду я говорю, Червяков?
— Я в вашем деле не понимаю, вы уж сами разбирайтесь…
— Ты же фронтовик. Соображать должен! — сдержанно упрекнул его Евгений Константинович. — Скажи, в тот вечер у тебя гостей в доме не было?
— Никого не было.
— Странно… Теперь идемте сюда, — пригласил Лисянский всех в ту комнату, где все еще стояла Анна Червякова. — Объясните мне, Червяков, как пуля, которая ногу вашей жены могла прострелить, не иначе как пробив косяк двери, еще и в подушку угодила.
Червяков только пожал плечами.
— Давай попробуем и в этом разобраться… У меня вот в кармане бумажечка есть, которую сегодня медицинская комиссия выдала после обследования твоей жены. В ней сказано, что пуля пробила ногу вот в каком направлении… — И следователь, встав рядом с Червяковой, показал, как прошла пуля. — Видишь?
— Ну, вижу…
— А теперь, — он показал ему место на столике, — положи сюда револьвер, из которого ты чуть не убил свою жену!..
Прокопий Червяков еще не успел раскрыть рта, как Анна заголосила на весь дом.
— Вызывай машину, Ефим, — устало сказал Евгений Константинович Лисянский. — А вы, Червяков, успокойте свою супругу…
12
В Зайковском отделении милиции Червяков рассказал, что револьвер привез, демобилизовавшись после войны.
— По молодости и по глупости притащил за собой. А потом женился, сдавать в милицию побоялся и выбрасывать было жалко. В то время, когда всему случиться, попался он мне на глаза. Решил почистить. За тем самым столиком и сидел… Но, видно, один патрон в барабане оставил. Выстрелил…
Боясь ответственности, убедившись, что ранение у жены легкое, Червяков сделал ложное заявление о нападении на свой дом. А чтобы направить следствие по ложному пути, выбросил на огород завалявшийся случайно патрон от «ТТ» с испорченным капсюлем. Возможно, следствие не заблудилось бы так надолго, если бы происшествие не совпало с отъездом Ширяева и Гилева, пользовавшихся в Красногвардейске славой хулиганов и пьяниц.
После трагического выстрела Червяков в ту же ночь по пути в больницу выбросил револьвер в пруд.
Всех тяжелее эту историю переносил Ефим Афанасьев. В Зайково, куда Червякова взяли под арест, Евгений Константинович был свидетелем их последнего разговора.
— Подлецом ты оказался, Прокопий, — говорил Ефим не столько со строгостью, сколько с сожалением. — И вовсе не оттого, что чуть свою жену не порешил, а из-за того, что трусостью своей мелкой и недоверием к закону столько людей из-за себя в грязную канитель затянул, чуть доброе имя у поселка не отнял, Принес бы это старье ко мне, помог бы я тебе, как человеку сознательному, правильное заявление написать, тем бы и кончилось. А ты свой грех хотел прикрыть, чьим-то именем, а сам чистеньким остаться… И просчитался, так тебе и надо. Теперь срок получишь сразу за все: и за незаконное оружие, и за увечье, которое нанес жене, и за обман органов. Все тебе подытожат. Я, конечно, соберу в Красногвардейске собрание, расскажу людям, какой ты оказался, хотя и жалко мне Анну, ни в чем не повинную… Хорошо, что сын у тебя не дома живет, а учится. А то каково бы ему было от твоей теперешней славы? Трус, в общем, ты и еще — дурак… И не может быть тебе никакого снисхождения.
13
Давно нет Зайковского райотдела милиции. С укрупнением районов отошла его территория к Ирбитскому району. А в милиции расследование Лисянским дела в Красногвардейске помнят.
И важно не то, что тогда из уголовной статистики было исключено тяжкое преступление. Главное в другом: многие увидели тогда, что всякий успех в следственном деле приходит не от умозрительных заключений или оперативного чародейства, а от умения анализировать обстоятельства, исключать все случайное, что сопутствует преступлению. Так и поступил Лисянский, увидев единственное реальное объяснение той загадки.
Примечательно, что в те дни работники уголовного розыска кипели от негодования, узнав, какую кашу заставил хлебать их Червяков целых два года. Даже обвинительное заключение по его делу скорее походило на художественную публицистику, нежели на строгий юридический документ. Правда, все это не пригодилось: накануне передачи дела в суд, откуда Червяков должен был отправиться в тюрьму, вышел Указ об амнистии…
Лисянский отнесся к этому философски.
— Со мной всякое бывало, — сказал он и махнул рукой.
Да. С ним всякое бывало. На «личности» ему везло.
В сто первом цехе, кажется, на Уралмашзаводе, украли у одного типа плащ. Прямо из цеховой раздевалки. Люди, конечно, всполошились: не велика потеря, но сам факт прямо-таки позорный. Орджоникидзевские оперативники все мозги вывихнули, а плащ — как испарился. Было только одно понятно: украсть такой плащ — пара пустяков, потому что — болонья, свернул его, положил в карман и — был таков. Кого тут подозревать? У начальника цеха температура поднялась от этого позора… И кража повисла. И вот Лисянского нанесло на это дело; почитал он его и заскреб в затылке: до чего же можно дойти, если среди бела дня такая ерунда начнет приключаться!.. Стал разбираться. Перевернул все. В итоге оказалось, что плащ у того типа вовсе никто не крал, а просто сделал он ложное заявление о краже, чтобы получить деньги. Деньги он действительно получил. И вот как раз в те дни, когда подлец праздновал в душе успех своей выгодной комбинации, Евгений Константинович и застукал его. Естественно, тот обалдел сначала, перепугался, а потом стал вылезать из этой истории… Правда, на этот раз амнистии-то не было.
Приходит этот тип по вызову к Лисянскому, а тот без всякой дипломатии, потому что зол, спрашивает:
— Зачем вы так подло поступили? И товарищей по цеху запятнали, и милицию дискредитировать решились.
— Деньги до зарезу были нужны, — сознается.
— И вы выбрали такой грязный путь? Неужели нельзя было найти возможность выйти из положения иначе?
— Женюсь, — говорит. — И свадьба на носу.
— Интересно, как отнесется ко всему этому ваша невеста, когда я приду в цех и выступлю на общем собрании?
— Только не это! — взмолился тот. — Вы же разобьете мою личную жизнь! Делайте со мной все, что хотите, но не это!
Подумал Лисянский, подумал и решил: черт с ним, с подонком, может быть, после такого урока на всю жизнь зарубит себе на носу. Простил.
Прошло немного времени. Женился тот кавалер. А в один из дней заявляется вдруг к Евгению Константиновичу сам.
— Здравствуйте, — говорит, — Евгений Константинович. Поскольку вы человек добрый и отзывчивый пришел я к вам с просьбой…
— Что ж… Присаживайтесь и выкладывайте, хотя, сами можете понять мое отношение к вам…
— Видите ли, решил я поступать в институт. С производства характеристику требуют, а начальник цеха знает ту историю… Вот и прошу вас поговорить с ним: пусть не упоминает о ней. Понял я все и раскаялся…
— В какой институт поступаете?
— В юридический.
— Что?! — моментально взорвался Лисянский. — Ты, в юридический?! Да я сейчас туда сам позвоню, чтобы тебя, сволочь такую, к порогу там не пускали! Ишь ты, в юридический он захотел! А ну, убирайся из кабинета!..
Так рассказывали о Лисянском. Но после этих рассказов думалось о другом. Думалось о людях, которые, имея дело с подлецами, умеют все-таки с большим тактом отнестись к человеческой стороне дела, не стремятся к одному лишь наказанию виновных, а дают им возможность стать порядочными.
Сам Лисянский далеко не без возмущения вспоминал случившееся с ним, но говорил уже о другом:
— В наши дни еще нередко встретишь этаких философствующих обывателей, которые готовы за всякий пустяк на шею милиции всех кошек повесить. Кухонные скандалы, трамвайное хамство — всюду зовут разбираться милицию, а сами стараются смотреть на все со стороны, как почтенные зрители. Да еще преподносят вот такие ребусы, которые мне пришлось разгадывать, И милиция занимается ими! Да, занимается, потому что обязана помогать людям. Сотни милицейских работников тратят на это знания, время, свои нервы… И вдруг месяцы волнений и тревог заканчиваются… вот такими сказочками с разбитым корытом… Досадно, конечно!
Владимир Шорор Пошлите меня в разведку
1
Давным-давно, когда шла война, в мае тысяча девятьсот сорок второго года, я окончил курсы младших лейтенантов и получил назначение в миномётный полк, в падь Урулюнтуй. Почти год мечтал я попасть на войну, а оказался опять далеко в Забайкалье, у самой маньчжурской границы. Голые рыжие сопки окружали эту падь и, расступаясь, открывали выход в плоскую пустую степь. На самом её краю полыхали багровые закаты и каждый вечер таяло дымное облако — след поезда, умчавшегося куда-то на запад.
С утра до вечера в пади шли занятия — с огневыми расчётами, с разведчиками, связистами. И, казалось, всё приближало час, когда мы погрузимся в эшелон и поедем на фронт. Но вскоре наш миномётный полк из резерва Ставки передали командованию Забайкальского фронта. Нам было приказано поддерживать стрелковую дивизию и вместе с ней прикрывать границу: японцы, даже не маскируясь, выдвинули против нас части вторжения, иногда оттуда постреливали, иногда небольшие группы проникали на нашу сторону, резали линии связи, проводили топосъёмки, угоняли колхозный скот, подкладывали мины, на которых потом кто-нибудь из наших подрывался.
А с фронтов приходили вести одна хуже другой. Начавшееся было стремительное наступление на Харьков захлебнулось, и наши дивизии неожиданно оказались в глухом окружении. Рухнул Крымский фронт, шла осада Севастополя, началось наступление немцев на Кавказе, на Центральном фронте, под Ленинградом. Отогнанные от Москвы прошлой зимой, они стояли всё же так близко, что, казалось, могли снова достичь её окраин за день-два.
«Оставили… Отошли… Отступили. Вели ожесточённые бои с превосходящими силами…» — вещал скорбный голос диктора из чёрного круга репродуктора.
И нам хотелось что-то сделать немедленно, чтобы хоть как-то помочь тем, кто держался, должно быть из последних сил, в этих ожесточённых боях и, наверное, ждал, ждал и ждал помощи. А мы, связанные угрозой японского вторжения, не могли никуда двинуться. Многие мои товарищи по школе, по институту, где я успел проучиться два года, или по тем же курсам младших лейтенантов воевали на разных фронтах. И только, казалось мне, один я всё ещё готовился к будущим боям: то служил на погранзаставе после призыва, то учился на курсах, а теперь вот каждый день веду учебные бои со своими миномётчиками.
Сколько времени мне ещё их вести? Ведь теперь я уже не тот наивный студент, побежавший год назад в военкомат с боязнью, что войны на мою долю не останется, и смутно представлявший — что же буду делать там, на войне. Правда, я умел стрелять из винтовки, метать гранату, ходить на лыжах, и, пожалуй, всё. А теперь я обучен командовать миномётным взводом и батареей, читать карту, вести разведку, короче — теперь я стал военным. И если нельзя отправить на западный фронт ни нашу тридцать шестую армию, ни даже наш миномётный полк, то что изменится, если туда уедет один младший офицер?
Поэтому я вскоре написал рапорт с просьбой отправить меня в действующую армию. И, довольный собой, вышел из саманного побелённого домика, где жил вместе с тремя автотехниками. Бодро я шагал мимо землянок и складов, огороженных колючей проволокой, мимо водокачки, клуба, длинных деревянных казарм, мимо единственного кирпичного дома — штаба полка, к большой землянке, в которой помещалась наша офицерская столовая. Там ещё было пусто, на обед я пришёл самым первым и сел на своё обычное место в углу. Все столики были покрыты бледно-жёлтой клеёнкой, на каждом одиноко стояла консервная банка с крупной кристаллической солью. Из полевой сумки я достал солдатскую ложку, подаренную на заставе, когда я уезжал на курсы. На её черенке было написано: «Помни пограничные ночи!»
Да разве забудешь их, пограничные ночи?
… На миг я будто вновь вижу, как в сумерках мы выходим из деревянного домика нашей заставы и бесшумно, по двое, направляемся на свои участки, охранять границу. Я чувствую на плече ремень винтовки и след в след ступаю за старшим наряда. Слева темнеет колючая проволока, натянутая на невысокие столбы, с подвешенными на ней пустыми консервными банками, и свежевспаханная земля контрольно-следовой полосы. За ними лежит Маньчжурия, чужая враждебная страна. Быстро темнеет, я вглядываюсь, вслушиваюсь в эту темноту, и в посвистывании ветра, в шуршании накрапывающего дождя мне кажется, что с той стороны к нам кто-то идёт. Хочется сдёрнуть с плеча винтовку, крикнуть: «Стой! Кто идёт?» Но старший наряда ефрейтор Лямин не проявляет беспокойства. Он служит на заставе третий год, всё тут знает, и его настроение передаётся мне.
Вдруг на той стороне вспыхивает крошечный огонёк, и тут же раздаётся выстрел. Мгновенно мы останавливаемся, винтовка уже у меня в руках, но Лямин оружия не снял, сказал тихо: «Отвлекают, гады. Значит, где-то готовят прорыв. Но не у нас…»
Утром, вернувшись из наряда, мы узнали, что прорыв был на соседней заставе. Лазутчика обнаружили, он сопротивлялся, ранил одного из наших, но его, конечно, взяли. И таких ночей в моей жизни было не так уж мало…
На ложке, подаренной Ляминым, на другой стороне была ещё надпись: «Передовому бойцу. Ешь — потей, работай — зябни!» Я усмехнулся этому призыву, видимо, довоенному — еда теперь была более чем скудной — и посмотрел в низкое окно. За ним, к солдатской столовой, строем шла наша батарея. Доносился мерный стук многих сапог и слова песни, которую выводил запевала:
Фа-ашисты-людоеды Пошли в наш край родной, За лёгкою победой, За сытою едой…И тут же грянул дружно подхваченный припев:
Пе-ехота, красная пехота, Могучие полки, У всех одна забота — Фашистов на штыки!..Мельком я подумал о том, что штыковому бою тоже обучен. Умею колоть штыком, бить прикладом, умею уходить от ударов. Может, это умение мне пригодится, когда рапорт рассмотрят и пошлют на войну…
В это время в зальчик из кухни, находившейся за перегородкой, впорхнула Лида Ёлочкина — младший сержант интендантской службы, наша повариха. Была она в накрахмаленном кителе поверх гимнастёрки, в синей юбке, туго её обтягивающей, в берете со звёздочкой, с косой чёлкой на лбу. Лида поигрывала карими глазами, улыбалась сдержанно, зная, что, как и многим другим, мне трудно отвести от неё взгляд. Может быть, потому, что женщин в полку, да и во всей пади Урулюнтуй, почти не было, а скорее всего потому, что Лида чем-то отдалённо напоминала мою студенческую любовь Катю Позднякову, был я к Лиде не совсем равнодушен.
— Вы всегда такой тихий, товарищ младший лейтенант, — заговорила Лида, — Рассказали бы что-нибудь интересное…
Если меня просят рассказать что-нибудь интересное, то всегда кажется, что ничего интересного со мной не случалось, что ни от кого «про что-нибудь интересное» никогда не слыхал, и вообще, при такой просьбе я обычно терялся и чувствовал себя совершенным балбесом. Поэтому я напряжённо промолчал и смог только пробормотать, что сейчас у меня совсем не такое настроение, чтобы рассказывать «про интересное».
— Случилось что-нибудь дома? С родителями? — сочувственно спросила Лида.
Давно уже никто так участливо не спрашивал меня о доме, о семье. Но по сравнению с другими семьями, где уже кто-то был убит или пропал без вести, у меня было всё в относительном порядке. Правда, болел мой отец, но прихварывал он и раньше, да ещё я не совсем представлял, что же, кроме картошки, едят мои младшие брат и сестра.
— Дома, знаешь, всё ничего, — ответил я. — Живут помаленьку. А горе на фронте. Опять немцы двинули… Сводку слышала? Вот где наше горе. К Воронежу, гады, подходят…
— Да-а… Что поделаешь?
— Как что поделаешь? На фронт ехать надо.
— Не пустят…
— А ты откуда знаешь?
— Да уж как-нибудь знаю… — Она положила на обструганную дощечку мою двухсотграммовую пайку чёрного хлеба. — Щи сейчас принесу. Второе сразу или потом?
— Какая разница? Давай сразу, чтобы меньше ходить… — сказал я вслед Лиде.
Она тут же вернулась с эмалированной миской щей и маленькой порцией пшённой каши, на которой желтизной отливал глазок постного масла, поставила передо мной и скрылась в кухне.
Я поглощал эту скудную пищу, когда в столовую вошёл незнакомый лейтенант. Среднего роста, в пригнанной по фигуре гимнастёрке, со знаком «За отличную артиллерийскую стрельбу», в походных ремнях, с пистолетом и толстой полевой сумкой, он сразу чем-то заинтересовал меня. Скорее всего — какой-то отрешённостью, видимо, он был слишком занят своими мыслями. Но в то же время бросил взгляд, охвативший вокруг всё, меня в том числе. Идеально отработанным движением вскинул руку к суконной пилотке и так же быстро рванул её вниз. Всё понятно: служит не первый год и прошёл отличную строевую школу. Лейтенант сел в противоположном углу, достал книгу. Читал он быстро, то и дело перелистывал страницы, и мне показалось — будто он не читает, и лишь просматривает эту книгу или что-то в ней отыскивает.
В столовую стали входить офицеры. И у многих оказались к лейтенанту какие-то, как я понял, срочные дела.
— А, Лазарев, появился, — обрадованно сказал командир нашего дивизиона. — Вовремя, вовремя. Инженерное имущество, совсем новое, получено. За тобой инструктаж комсостава. Намечай, проводи. На неделе успеть надо!..
— Константин Петрович, наконец-то, — сказал начальник боепитания Телепнев. — Дело с прицелами остановилось. Кронштейны изготовили, а с гнёздами — неувязочка. Так что давайте, форсировать будем!..
Места вокруг Лазарева оказались занятыми, там образовалась тесная шумная группа, все наперебой о чём-то его спрашивали. Полковой врач интересовался какими-то книгами, комсорг — материалами по наглядной агитации, которые Лазарев должен был получить в политотделе армии, а начальник связи, не выпускавший изо рта трубки, отделанной серебром, всё донимал — удалось ли купить табаку, сколько и по какой цене и на что он, начальник связи, может рассчитывать…
— Это кто же такой? — спросил я соседа по столику.
— Костя Лазарев, командир взвода управления третьей батареи, — ответил сосед.
«Значит, вот он какой», — подумал я. Как раз в нашей батарее всё это время отсутствовал управленец. Говорили, что был он в командировке, учился на месячных инженерных курсах в Чите. «Что же, невелик начальник. Такой же взводный, как и я…»
Правда, уравнивая себя в должности с Лазаревым, я был не совсем точен. Я командовал огневым взводом — двумя миномётными расчётами, и мне подчинялось отделение тяги — семь водителей грузовых машин. Лазарев же был начальником батарейных разведчиков и связистов. Во время боя место его — на НП, рядом с комбатом, которого он должен замещать во всех случаях, предвиденных и непредвиденных. Поэтому Лазарёв, можно сказать, по должности был всё же чуть старше меня. И я ощутил лёгкий укол зависти: в полку я не успел ещё ни с кем подружиться, многих просто не знал, а он тут свой, всем-то нужен этот Лазарев…
На другой день, после развода на занятия, меня вызвал комиссар полка. Пришлось поручить взвод сержанту и бежать в белый кирпичный домик, посреди нашей пади, где помещался штаб. Комиссар сидел за столом над бумагами, крупное лицо его с тяжёлым подбородком было хмурым и озабоченным, он мельком взглянул на меня и совсем по-домашнему предложил, показав на стул:
— Садись-ка, потолкуем. — Заметив моё смущение, неожиданно улыбнулся, повторил: — Садись, говорю, разговор предстоит…
Изучающе комиссар осмотрел мою не новую солдатскую шинель с широковатым воротом и одним кубиком на чёрных петлицах, суконную комсоставскую пилотку, выданную вместе с яловыми сапогами уже здесь, в миномётном полку.
— Конечно, тебя надо бы похвалить, — сказал он раздумчиво и положил на стол мой рапорт. — Молодец, что стремишься на войну. Но хвалить тебя не могу: ты не думаешь о своих боевых товарищах. Пишешь вот — отправить тебя на фронт. А разве у нас тут не фронт? Ты уедешь, я уеду — кто японцев держать будет?…
Конечно, я понимал — комиссар прав. Но сказал ему, что те, кто желают, пусть дежурят здесь, на Востоке, а мой долг быть на войне, которую ведёт народ. Быть там, где решается всё…
Я сказал это с вызовом. Но комиссар оставил без внимания мой тон, вздохнул, открыл ящик стола, подал мне стопку листов:
— На-ка вот, посмотри внимательно. И не думай, что один ты такой объявился…
Я стал читать рапорта однополчан — они тоже просили перевести их в Действующую армию. И у многих было куда больше прав ехать на фронт. Один писал, что фашисты сожгли его родную деревню, у другого расстреляли отца, у третьего — угнали в Германию жену и двоих детей. Просилась на фронт и Лида Ёлочкина. У неё погиб брат, лётчик, и она писала, что должна за него отомстить.
Мне стало неловко. Кто я такой, чтобы обходить этих людей? А они вставали передо мной со страниц своих рапортов, мои сослуживцы, с их горем, которое я не мог или не сумел прочесть на их лицах, так глубоко они его прятали. Наверно, решил я, тут есть рапорт Лазарева — почти половина офицеров полка была тут, но рапорта Лазарева я не нашёл. И снова стал перебирать стопку листов. Комиссар нетерпеливо спросил:
— Что ты там потерял? Что?
Я спросил о Лазареве.
— Лазарев сознательный офицер, — сказал комиссар. — Он задачу на текущий момент правильно понимает. Поэтому рапорт не подал. Постой-ка, ты с кем квартируешь? С автотехниками? Сегодня же переходи к Лазареву, в его землянку. К вечеру доложишь о выполнении. Всё, можешь идти!
Приказ есть приказ, и к вечеру я, собрав вещевой мешок, в котором половину места занимали книги, отправился на новую «квартиру».
2
В маленькой передней на стенах висели самодельные камышовые циновки, потолок был оклеен газетами, вместо железной печки, какие обычно стояли в землянках, тут дышала теплом настоящая кирпичная, побелённая, а дощатый пол был чисто вымыт. Лазарев, в гимнастёрке без ремня, поднялся из-за стола, где лежали планшет, карта, командирская линейка, целлулоидный артиллерийский круг, тетради с выписками и расчётами.
— Давай, проходи! Проходи, занимай командный пункт, — Лазарев указал на пустовавшую железную койку, дружески подмигнул.
Моя насторожённость сразу пропала, я почувствовал себя как дома.
— Книги? — удивился Лазарев, когда я развязал вещевой мешок. — Почитаем! — И он взял «Утраченные иллюзии». — Давно, понимаешь, до этой вещи добирался, да в Урулюнтуе разве достанешь? Конечно, при сильном желании мог бы из Читы выписать, всё руки не доходят…
Я достал из вещмешка «Тихий Дон», Чехова, Куприна, томик Есенина, «Стихи тридцать девятого года» Симонова.
— Все твои? — спросил Лазарев. — Ну, брат, обрадовал! Где же ты их раздобыл?!
Я и сам не знал, откуда брались у меня книги. Но всюду, ещё в школе, потом в институте и на погранзаставе, и даже в этих землянках, книги как-то сами «находили» меня.
— Возьми лучше вот эту. Здесь — война, первая мировая, жизнь артиллеристов. Тебе понравится, — и я дал Лазареву «Тяжёлый дивизион».
— Я всё прочитаю. Не возражаешь? Сперва только закончу расчёты для учебника. Книги на мою полку можешь поставить. У меня литература, сам понимаешь, только военная…
«Что ещё за учебник!» — подумал я, но спросить не решился: таким отрешённым сразу стал Лазарев, склонившийся над столом и, видимо, забывший обо мне.
Я повесил на гвоздь шинель, каску, бинокль, взял из полевой сумки уставы и начал готовиться к занятиям со взводом, устроившись за столом напротив Лазарева. Мы занимались часа два, каждый листая свои книги, делая выписки, а Лазарев что-то ещё чертил, подсчитывал на логарифмической линейке. Писал он мелко и быстро, чертил уверенно, чувствовалось — эту работу он знает и умеет делать.
Потом мы слушали сводку информбюро. Не сговариваясь, вместе стали разглядывать карту фронтов, висевшую на стене. И начался разговор о самом главном, чем мы жили: о наступлении наших войск, почему-то приостановившемся, о том, что до Берлина ещё так далеко, а в сводке опять — «существенных изменений не произошло».
«Почему? — с тоской думал я. — Мало сил у нас? Немцы очень укрепились? Людей не хватает? Техники? Почему?…»
— Когда же настоящее наступление начнётся? — не удержался я.
— Что значит настоящее? — спросил Лазарев. — Выражайся точнее.
— Точнее? Будто не понимаешь, о чём я говорю. Настоящее — чтобы сразу до Берлина, чтобы сразу смести с нашей земли…
— До Берлина, — усмехнулся Лазарев. — Ты дай себе труд подумать. И рассуждай как военный. Что на фронте происходит? Наступательная операция сейчас завершилась. Войска понесли потери, тылы отстали. Коммуникации растянулись. Надо закрепиться на занятых рубежах, подтянуть тыловые службы, укомплектовать войска, дать им отдых. А что это значит? Значит, надо вывести обессиленные части во второй, даже в третий эшелон, а их заменить свежими. Надо подвести боеприпасы. Много чего надо. Операция завершилась, понимаешь?
— Ну и что? Теперь что прикажешь делать?
— А теперь, — продолжал Лазарев, — исходя из обстановки, из сведений о противнике, из наличия резервов и боевых средств, в штабах составят план новой операции. Может, уже составили. И что-то уточняют. А может, время выбирают. Стараются перехитрить противника, чтобы застать его врасплох. Или обеспечить абсолютное превосходство в силах и тогда уже постараться прорвать фронт, ввести в прорыв резервы, когда войска выйдут на оперативный простор…
Ничего подобного прежде мне слышать не приходилось. На курсах нас учили быстро, по самым сокращённым программам: миномётный взвод или батарея в наступлении, в обороне, на марше; учили и топографию — какой же ты офицер, если не умеешь читать карту? Был ещё штыковой бой, уставы, огневая и артстрелковая подготовка…
— Откуда ты всё знаешь? — спросил я. — Тебе бы не взводом, а дивизионом командовать! Или в академии учиться. Просись! Может, и возьмут, с твоими-то знаниями…
— Нет, Витя. Это не для меня. Скажу тебе по секрету: у меня есть свой план. Надеюсь, будешь держать язык на привязи.
— Если не доверяешь, — начал было я, но Лазарев не дал закончить:
— Доверяю, доверяю. Хотя сам не знаю почему. Понравился ты мне, что ли. В тебе, чёрт тебя знает, что-то есть располагающее. Да и трудно жить всё время со своей тайной. Товарищей в полку у меня много, а друга, с которым всё пополам, нету. Был, конечно. Не успею подумать — он уже догадается, о чём думаю. С ним и на войну мечтали поехать. Теперь вот его нету…
— Повздорили, что ли?…
Лазарев помолчал, ответил жёстко:
— С ним нельзя было вздорить. Не такой был человек. Погиб в разведке под Ленинградом. В прошлом году. Ребята из разведвзвода мне написали. Пошли брать «языка», он группой захвата командовал. Захватили, приволокли в своё расположение, только Севка получил два пулевых и ножевое. Фриц этот, которого брали, вояка был, так просто не дался. Приволокли Севку в расположение, он уже сознание терял. Только и успел сказать, чтобы мне написали…
Я отчётливо представил, как умирал незнакомый мне Севка, и, понимая состояние Лазарева, поделился своим: рассказал о ребятах с нашего курса, погибших осенью сорок первого под Москвой. Был там и Ленька. Наши койки стояли рядом в общежитии, его зимнее пальто мы носили по очереди, мой выходной костюм тоже был на двоих. Я переживал за него на соревнованиях в гимнастическом зале, был Ленька чемпионом института, а он «болел» за меня на лыжне. Когда я выбивался из сил, доходил, что называется, «до точки», обычно такое случалось на двадцатикилометровой дистанции, вдруг из-за кустов появлялся Ленька, совал мне в руки бутылку с горячим кофе, это называлось «подкормка на дистанции». Я обретал новые силы, догонял соперников и вырывался на последних километрах в число победителей.
Вместе с Ленькой мы мечтали попасть в один танковый экипаж, насмотревшись фильма о «Трёх танкистах», но когда пошли в военкомат, в строй встали, на беду, рядом. Нам приказали рассчитаться на «первый-второй» и построили в две шеренги. Кто знал, что из-за этого построения мы расстанемся навсегда? Первая шеренга — в ней оказался Ленька — стала командой «01», вторая, где был я, командой «02». А дальше как в песне: «На Запад поехал один из друзей, на Дальний Восток — другой». Я оказался в сорок первом среди пустынных забайкальских сопок на пограничной заставе, Ленька со своим стрелковым полком — сразу же в тяжёлых боях. Он отступал, выходил из окружений, попал в Москву на переформировку. Написал мне оттуда, что получил Красную Звезду и младшим лейтенантом снова поехал на фронт, под Ленинград…
Я показал Лазареву фотографию Леньки. Снят он был в нашем «общем» пальто с мохнатым бараньим воротником, смотрел перед собой прямо, чуть нахмурившись, и только губы готовы были расползтись в улыбку — чувствовалось, он сдерживает смех. Военных фотографий Ленька прислать не успел.
— Да, настоящий, — оценил Лазарев, — Даже по снимку видно: с характером был, как Севка.
Я почувствовал, что с этого момента нас объединило что-то большее, чем взаимный интерес друг к другу, и симпатия, которую мы испытывали с первой встречи.
— Да… Их уже нет, — тихо сказал Лазарев. — И многих других тоже нет… А войне конца не видно.
— Ты думаешь? Ведь сказано — ещё полгода, ну, максимум годик, и Германия лопнет под тяжестью своих преступлений…
Лазарев отвернулся к окну, за которым, уже в темноте, лежала наша неведомая миру падь Урулюнтуй, обозначенная лишь на топографических засекреченных картах, почти шёпотом произнёс:
— Сказано, чтобы ободрить народ и армию. Это необходимо, так говорить. — Он помолчал и добавил: — Вот ты говорил — в академию. Если уцелею, может, когда-нибудь и поступлю. А сейчас другим заниматься надо. Если бы меня спросил командующий: «Что хочешь делать для победы? Выбирай, хоть род войск, хоть фронт, хоть часть». Знаешь, что бы я ответил?
— Ну?
— Пошлите меня в разведку!
— Полковым разведчиком? Как Севка?
— Да нет же! Есть работа ещё трудней. В разведке за линией фронта. Вот куда бы я попросился!..
— Да брось ты! Начитался ещё в школе, наверно, про шпионов. Со мной тоже в пятнадцать лет было…
— Нет, Витя. Это серьёзно. Ещё до армии мечтал, когда в индустриальном техникуме учился. И сейчас всё время думаю, только не говорю никому. Тебе — первому.
— Ты же классный артиллерист! Твой путь мне ясен: батарею не сегодня-завтра получишь. Потом — дивизион, полк, и — в генералы.
Лазарев усмехнулся:
— А война? Севка, Ленька… Сколько их под Харьковом, в Крыму, под Москвой, у Ленинграда осталось? Сколько убито вот сейчас, сегодня вечером, пока мы с тобой разговорами занимаемся…
— Такие, как ты, выходят целыми. Смелого пуля боится, смелого штык не берёт. Забыл?
— Это в песне. Для укрепления морального духа. А а жизни я не заколдованный. Но у меня будет своя война. Должна быть, я знаю. И только в разведке.
— Ну, так просись в свою разведку!..
— Трудно туда пробиться. Да и опоздал: мне уже двадцать четыре. Иностранный надо в совершенстве знать. И спецподготовка у них — не наши миномётные курсы. Это тебе не «Слева вверх прикладом бей!», — удачно скопировал он нашего преподавателя: оказалось, Лазарев окончил те же самые курсы годом раньше меня, перед войной.
— Выходит, дело безнадёжное?
— Да как сказать… Сам стараюсь кое-чему научиться. Радиодело, автомашины, самозащиту без оружие освоил. Теперь ещё подрывником, минёром могу.
«Вот это военный, — подумал я. — Настоящий офицер. А что я? Что знаю, что могу? Доведись, убьют рядом со мной шофёра, как поведу машину? В рациях — ни бум-бум. В рукопашной схватке надеюсь лишь на свой студенческий разряд по боксу. Конечно, моя работа — вести миномётный огонь, командовать взводом— или батареей. Но мало ли что? Кто знает, в какие положения может поставить меня война? И к этому надо себя готовить…»
Лазарев сосредоточенно смотрел на свои раскрытые тетради, лежавшие на столе, потом собрал их, пометил что-то на листке и сказал:
— На завтра главная задача — прицелы. Кронштейны к прицелам…
Что за кронштейны и при чём тут прицелы, я расспрашивать не стал, решив, что успеется. Тем более Лазарёв зевнул, прикрыл глаза:
— Давай-ка спать будем. Устал я что-то сегодня…
3
Утром я привёл свой взвод в парк на занятия огневой службой, а Лазарев пошёл в артиллерийскую мастерскую выяснить, что там с кронштейнами для прицелов.
Парк — это совсем не то, что я привык представлять до службы в армии. В нашем городе был парк — тенистый сад с аллеями, посыпанными жёлтым песком, скамейками, там обычно сидели девушки из медицинского института с учебниками в руках, — готовились к экзаменам. Тот, городской парк был над обрывистым спуском к быстрой, прохладной Ангаре, по которой скользили лодки. А над всем этим довоенным раем плыли мелодии вальса или танго, доносившиеся с танцплощадки, и воздух пронзал запах цветущей черёмухи…
Теперешний наш парк — это глухой угол пади, обнесённый колючей проволокой, и там в специальных ровиках спрятаны грузовые машины и миномёты, подальше от них — штабеля ящиков с минами под охраной часовых. И пахнет тут холодным тяжёлым металлом от стоящих в походном положении миномётов, пушечным салом — им смазывают изнутри миномётные стволы, бензином от поставленных на подпорки автомашин, загнанных в большие прямоугольные ямы — ровики.
— Миномёты к бою! — подал я первую команду.
Солдаты кинулись в ровики, выкатили миномёты и словно разломили их пополам — откинули тяжёлые опорные плиты. С глухим металлическим звоном плиты упали на землю. А миномётчики уже копнули лопатами раз и другой землю и намертво уложили туда эти круглые плиты, соединили их со стволами, стали вращать ручки подъёмного и поворотного механизмов, выравнивая миномёты. Наводчики достали из футляров, выстланных бархатом, прицелы, закрепили их в специальных гнёздах.
— Второй готов! — доложил командир расчёта.
И эхом, через секунду-другую:
— Первый готов!
Я подошёл проверить — действительно ли первый готов? Осмотрел прицеп и наводку, взглянул, не бегает ли «глазок» в уровнях — вертикальном и горизонтальном, пошатал двуногу-лафет и, убедившись, что команда выполнена хорошо, тут же разломал всю работу расчёта, приказав:
— Отбой!
И правильно сделал: в бою, в настоящем бою, а не в учебном, придётся, как нам не раз говорили на курсах, мгновенно менять позицию, если нас засекут вражеские артиллеристы, или уходить от прорвавшихся танков, прятаться в траншеи от бомбардировщиков. И солдаты должны управляться с миномётом за одну минуту.
Исполняя мой приказ, они вновь привели миномёты в походное положение, а я опять скомандовал:
— К бою!
Солдаты молча принялись за дело, лишь командиры расчётов подавали короткие возгласы: «Стяжку, стяжку давай!», «Топи двуногу!», «Уровни выгоняй, уровни!», «Наводки!»…
Когда доложили о готовности, я указал на голую сопку с темневшей на склоне грудой камней и объявил:
— Цель: вражеский пулемёт на высоте с отметкой шестьсот пять. Подавить!
Сержанты прикинули расстояние до цели, посмотрели на таблицы для установки прицела, и началась, всегда вызывавшая у меня досаду, условная стрельба.
— По пулемёту! Осколочно-фугасной миной! Взрыватель осколочный… Угломер… Заряд… Прицел…
После команды «Первому, одна мина, огонь!» заряжающие поднесли к дульным срезам мины. Не те страшные мины, окрашенные в зловеще зелёный цвет, что лежат до времени в ящиках в углу парка. А мины условные, вытесанные из берёзовых чурок топором. Третьи номера расчётов сделали фальшивое движение руками — будто устанавливали взрыватели, а наводчики, после команды сержантов, дёрнули за спусковые шнуры. Нет, оглушительного выстрела, сопровождаемого грохотом и пламенем, не раздалось. Мы услышали всего лишь металлический щелчок: металл звякнул о металл в стреляющем механизме, но считалось, что выстрел произведён и вражеские пулемётчики если и не лежат ещё замертво, то вот-вот будут уложены.
С какой яростью стрелял бы я по настоящим врагам, которые заняли Украину, стоят под Ленинградом, неподалёку от Москвы, отогнанные от самых её пригородов прошлой зимой. Туда бы сейчас меня с моим взводом, на любой фронт, на любое направление, и настоящими бы полупудовыми минами стрелял бы я по траншеям, в которых засели фашисты, по дорогам, где идёт их пехота.
Но дать команду на поражение цели взводом я так и не смог: командир второго миномёта «засел» с установкой прицела — прицел — хоть разбей его! — упирался в ствол миномёта.
Ох уж этот ствол!.. Ещё на курсах с ним было мороки. У любой пушки панорама поворачивается на всю окружность. Поэтому огонь можно вести без помех. А у нашего полкового миномёта — наверно, конструкторы что-то недодумали — кругового вращения прицела не получалось, он упирался в ствол. И, хочешь не хочешь, приходилось мудрить с вычислениями угломера. Из-за этого темп стрельбы снижался даже у самых умелых огневиков.
Я взглянул на цифры, выгравированные на окружности прицела, стал помогать сержанту в вычислениях. Потом приказал повернуть миномёт к цели, к вражескому пулемёту. Получилась полная нелепица: миномёты теперь смотрели в затылок один другому. Хорошо, что никто ещё из других подразделений не увидел. Позор, засмеют, такая артиллерийская безграмотность! И сколько крови прольётся понапрасну из-за такой вот ошибки…
— Немедленно разверните миномёты по фронту! — скомандовал я.
И вовремя: к нам шёл Лазарев в сопровождении оружейного техника из артмастерской.
— Воюешь? — спросил Лазарев.
Я ответил что-то неопределённое, стараюсь, мол, готовлю взвод.
— Ну и ладненько, — сказал Лазарев. — А мы тут кое-что придумали. Давай-ка примерим на твоих самоварах. Не возражаешь?
Он развернул промасленную тряпицу, и я увидел металлические кронштейны странной формы. Один конец, их, с медной напайкой, был приспособлен для насадки прицела. Другой, клинышком, для закрепления на самом миномёте.
Солдаты столпились вокруг, рассматривали невидаль, Лазарев приладил кронштейн к миномёту, насадил, закрепил прицел и стал поворачивать его по окружности вправо и влево, наводя то вперёд, то назад. Мы не поверили глазам: ствол теперь совершенно не мешал.
— Понял, в чём фокус? — спросил Лазарев. — Круговая наводка обеспечивается мгновенно.
— Сам придумал? — недоверчиво спросил я.
— Какая разница? Главное, дело сделано. И, пожалуй, неплохо сделано. Как по-твоему?
— Неплохо… Скажешь тоже. Гениально! В жизни я бы не додумался. Тебе конструктором оружия надо быть.
— Брось, — усмехнулся Лазарев. — Любой техник такую штуку может сделать. Даже получше. А эти экземпляры опытные, надо ещё на боевых стрельбах испытать.
Лазарев снял кронштейны, снова завернул их в промасленную тряпицу, заговорщицки подмигнул мне и ушёл вместе с оружейным техником. А мы покурили едкого самосада и опять принялись за своё. Тренировались на ведение огня по пехоте, по закрытой цели. Я внезапно выкрикивал, что прорвались танки, идут к нам, на огневую. Солдаты прятали миномёты в ровики, хватали связки гранат, конечно же деревянных, ложились в неглубокие окопчики, выставляя на танкоопасном направлении пулемёт Дегтярёва для стрельбы по вражеским автоматчикам, которые должны бы идти за танками.
Я уже изрядно охрип, а солдаты устали, перепачкались землёй — четыре часа подряд они окапывались и ползали по-пластунски, подносили мины под воображаемым огнём врага, а вот подошло желанное обеденное время. Но прежде чем разрешить помкомвзводу вести солдат в столовую, я подал команду «воздух!». И опять они прыгнули в траншею, подняли оттуда вверх и пулемёт, и винтовки — приготовились стрелять по самолетам. Я осмотрел каждого прильнувшего к своему оружию, прижавшегося к спасительной земле. Всё как будто правильно, всё как предписано боевой инструкцией. Но на войне, внушали нам на курсах, бывает всякое, непредвиденное. Надо быть готовым ко всему.
— Газы! — отчаянно выкрикиваю я.
В траншее все зашевелились, задвигались, минута — и уже никого не узнать: на каждом резиновая маска с круглыми стёклами и гофрированным хоботком, исчезающим в холщовой противогазной сумке.
— По самолёту! Высота пятьсот! Упреждение на три корпуса! Беглый огонь!
Щёлк! Щёлк! Щёлк! — ударили из винтовок.
— Пулемёт! Почему пулемёт не слышу?
Тр-р-р! Тр-р-р! Тра-та-та! Тр-р-р, — это пулемётчик стал вращать деревянную трещотку.
Теперь, кажется, всё. Теперь я с чистой совестью командую:
— Отбой! Всем отбой!
Противогазы сняты, солдаты построены в две шеренги, я выслушиваю доклад помкомвзвода и начинаю речь, заключающую занятия. Отмечаю, что все действовали слаженно и умело, только пулемётчик запоздал открыть огонь. А это, говорю, в боевой обстановке может стоить жизни вашим товарищам. Ясно? И когда мне отвечают, что «ясно», разрешаю вести людей на обед и сам отправляюсь в нашу офицерскую землянку-столовую.
Лазарев был уже там. Лида, в белой курточке поверх гимнастёрки, кругленькая, румяная, с ямочками на раскрасневшихся щеках, так и сияла, подавая Лазареву обед. И подавала ему не в алюминиевом котелке, как некоторым, даже не в эмалированной миске, а — будто командиру полка — в тарелке с цветочками, поставленной на другую, плоскую. Тут же она сбегала в раздаточную, принесла второе блюдо — пшённую кашу с кусочком селёдки.
— Вот, товарищ лейтенант, — чуть не пела Лида, — кушайте. Каша вкусненькая, с маслицем. Селёдку я вымочила. Щец вам горячих можно подлить ещё, если желаете. Бот, хлебца порезала…
Ей трудно было скрыть свои чувства к Лазареву, да она и не пыталась это делать, нет, пусть все видят, что значит для неё лейтенант Лазарев, пусть говорят что хотят.
Лазарев в ответ слегка улыбался, пошучивал и, едва закончив обед, ушёл с торопливостью занятого человека, провожаемый тоскливым Лидиным взглядом.
4
Вечером, в кашей землянке, Лазарев вернул мне «Утраченные иллюзии».
— Не будешь читать? — удивился я.
— Почему? Уже прочитал.
— Как прочитал? Тут шестьсот страниц! За три дня не всякий прочтёт.
— Вопрос в том, как читать, — ответил он. И стал пояснять: — Понимаешь, лет четырнадцати узнал я, что на земном шаре выпускается в день в среднем тысяча книг. Допустим, в нашей стране штук двадцать. Даже десять. А человек читает одну книгу три-четыре дня. Значит, я не успею прочитать и миллионной части. Неужели, подумал, нет никакого выхода? Неужели нельзя что-то изобрести? Искал, рылся в книгах, расспрашивал. И нашёл. Оказывается, были такие люди, которые читали в десять раз быстрее.
— Не может быть!..
— Может. Ты постарайся понять, что происходит. Когда учатся читать, схватывают только букву. Одну букву. Потом слог. Наконец, слово. Читающий бегло, видит уже всю фразу. На этом продвижение обычно завершается. А кое-кто пошёл дальше. Стал схватывать всю строчку. Потом две строчки. И три, и пять. Короче, есть люди, которые одним взглядом как бы фотографируют всю страницу. Ты слово, от силы — фразу прочитал, а он за это же время — страницу. Понимаешь?
— И ты что же, «фотографируешь» сразу страницу? — недоверчиво спросил я.
— Страница требует долгой тренировки. Я остановился на трёх строчках. Пока что остановился.
Ничего подобного я не слыхал.
— Как думаешь, — спросил несмело, — я смогу научиться?
— В наших условиях трудно. Когда тут читать? Всё время на учениях или в казарме. И что мы читаем? Уставы, наставления, газеты. Но попробовать можно. Схватывай сразу строчку. Глаза будут сперва болеть — расстояние между зрачками должно как бы растянуться. А потом станет легче.
— А ну, прочитай сам! — решил я устроить Лазареву проверку.
Он пристально взглянул на страницу, на лице его заметны были напряжение, сосредоточенность, но только на короткий миг, потом он, как обычно, усмехнулся, сказал:
— Проверяй!
Я стал следить за текстом, а Лазарев слово в слово произносил всё, что было напечатано.
— Ладно, Витя, — остановил он после второй проверки, — не трать время попусту. Лучше сам начинай тренироваться. Начинай, время дорого…
Я задумался — с чего же начинать? Взял «Устав гарнизонной службы», раскрыл наугад, попробовал схватить сразу всю первую строчку раздела «Эскорты при погребении военнослужащих». И хотя при нормальном чтении всё понимал, теперь смысл почему-то стал от меня ускользать. Ерунда какая-то. Надо, наверно, взять что-нибудь другое. Открыл наугад «Штабс-капитана Рыбникова», снова постарался схватить строчку: «… — А что, нет ли у вас каких-нибудь свежих известий с войны? — спросил Рыбников».
«Что-то должно получиться. Это уже интересней».
И вдруг, забыв, что мне следует тренироваться, схватывать всю строчку, незаметно начал читать как читал всегда, увлёкся и перенёсся в Петербург времён русско-японской войны, стал вместе с маленьким, скуластым, калмыковатым и странным штабс-капитаном Рыбниковым бродить по военным учреждениям той поры, поражаясь полному отсутствию бдительности, царившей тогда беспечности и нелепой доверчивости. «Нет, у нас теперь всё по-другому, — с гордостью думал я. — Попробуй-ка проникни в штаб нашего полка. Без пропуска никого не пустят». И жадно читал страницу за страницей, особенно стараясь запомнить всё, что касалось японского характера. Оказывается, вот какие они — японцы, стоящие совсем недалеко от пади Урулюнтуй, готовые напасть на нас в любой день…
Я оторвался от книги. Лазарев смотрел на карту с обозначением линии фронтов, поправил флажки, задумчиво произнёс:
— Да, много ещё войны… Начать да кончить…
— Нам только не достанется. Просидим в этой проклятой пади.
— Сидим где приказано. А насчёт войны — не беспокойся. Война тебя найдёт. Каждого из нас найдёт! — сказал Лазарев и добавил с вызовом: — Службу надо нести, а не выставлять из себя героя. Нести! Чем ты помог полку? Я слышал, занятия проводишь толково. А ещё? Что ты сделал?
— Я кронштейны изобретать не могу…
— При чём тут кронштейны? Бесплодным мыслям предаёшься, вот что. Себя только растравляешь. Хочешь, учебник для младших командиров вместе будем писать?
Я растерялся. А он уже протягивал мне стопку исписанных листков, на которых были чертежи, схемы, рисунки, расчёты.
— Прочти! И подумай, что бы ты смог добавить. А я к политзанятиям пока подготовлюсь.
Я стал читать эти небольшие листки, исписанные мелким почерком, Лазарев экономил бумагу. И всё же схемы и рисунки были выполнены выразительно. Но при чём тут учебник?
И в школе, и за два года в институте, на тех же курсах младших лейтенантов я начитался всяких учебников. Поэтому, когда прочитал бумаги Лазарева, или то, что он называл учебником, удивился: на учебник, даже в малой степени, это было не похоже. Скорее, он написал инструкцию, напоминавшую знаменитые суворовские наставления солдатам. С той разницей, что она предназначалась для наших сержантов-миномётчиков. Лазарев обращался к ним на «ты» и наставлял, что надлежит делать в разных условиях боя, как обучать подчинённых— разведчиков, связистов, огневиков, давал некоторое представление о тактике, оборудовании позиций и наблюдательных пунктов, артстрелковой подготовке. Всё было написано просто и так интересно, что, пожалуй, любой солдат, даже не очень грамотный, смог бы в этом разобраться.
— Ну? Что скажешь? — спросил Лазарев, когда я перевернул последнюю страничку.
Я похвалил его, но всё же заметил:
— Знаешь, на учебник-то не слишком похоже. Учебник, он сложней, научней, что ли. И потом: учебник посвящают обычно одному предмету. Даже одному разделу. А у тебя все вместе, все наши науки. Как бы тебе объяснить?…
— Не надо объяснять. Я специально писал так. Подумай, исходя из обстановки, для кого мы пишем? Для военных училищ? Для ребят со средним образованием, которых призывают в мирное время и направляют в сержантские школы? Нет! Мы должны сделать учебник для младших командиров военного времени. Тут есть люди, сам знаешь, у которых вся академия четыре класса. Есть дядьки по тридцать пять — сорок лет, давно забывшие, чему их учили в школе. А времени, чтобы готовить их основательно, у нас нет.
Возразить было нечего. Лазарев, видимо желая меня подбодрить, предложил:
— Так что давай свои соображения. Может, я что-то пропустил. Может, дополнить надо? Подумай, Витя!
Мне очень хотелось помочь Лазареву, но я ни до чего не мог додуматься. Казалось, он предусмотрел всё. Но тут я вспомнил свои занятия по огневой службе и солдата Зобышева, неторопливо выгоняющего уровень горизонтальной наводки. Во всех батареях делали это вручную, вращая стяжку двуноги до тех пор, пока «глазок» уровня не становился на своё место. А наш Зобышев этот процесс усовершенствовал. Он заранее снимал свой брезентовый брючный ремень, обхватывал им стяжку и действовал как приводом. Одно движение — и уровень мгновенно выгонялся, действия расчёта упрощались. Почему бы это маленькое усовершенствование не сделать общим достоянием?
Я сказал об этом Лазареву.
— Вот видишь! — обрадовался он. — Молодец, Витя, в учебнике непременно об этом напишем…
Лампочка, висевшая под окленным газетами потолком землянки, стала тускло-красной, мигнула трижды, предупреждая всё население Урулюнтуя — пора спать всем, кроме дежурных, дневальных, часовых. Так что заканчивайте на сегодня свои дела, товарищи, через пятнадцать минут свет будет отключён.
Я стал разбирать постель, а Лазарев, как всегда, проверил походный чемоданчик, положил туда бритву, тёплые носки, полотенце, два чёрных сухаря — свой личный НЗ, к ремню прицепил флягу с водой. В полевую сумку он сунул целлулоидный артиллерийский круг и угольник, цветные карандаши, наставления и уставы. И чемодан, и ремень с пистолетом, и сумку положил возле кровати так, чтобы можно было вмиг надеть на себя, прицепить к поясу, взять в руки и, как говорили у нас, быть сразу в полной боевой готовности.
«Как ему не надоест, — удивился я, — каждый вечер? Ну, что может произойти в нашем Урулюнтуе. Если даже нападут, не успеем собраться, что ли?…»
Но сам не знаю почему, невольно подражая Лазареву, я тоже приготовился к неожиданностям. Увязал свой вещевой мешок, положив туда самое необходимое, даже пистолет на всякий случай проверил, осмотрел оба магазина с патронами — все шестнадцать на месте, по восемь в каждом.
Лазарев будто бы не смотрел на мои приготовления, но, перед тем как погасили свет, я заметил, что он одобрительно усмехнулся.
5
На рассвете нас разбудил суматошный стук в дверь.
— Тревога! Боевая тревога, товарищи командиры! — кричал со двора мой связной.
— Слышим! — ответил Лазарев, проснувшийся раньше меня и уже одевавшийся. — Передай комбату, сейчас будем в батарее! — И ко мне: — Подъём, Витя, подъём!
«Как же хорошо, что у меня всё приготовлено, всё под рукой», — подумал я, натягивая сапоги.
Мы выбежали из землянки, и Лазарев предусмотрительно запер дверь на висячий замок: ведь сколько уже бывало разных тревог, ночных подъёмов, торопливых сборов и выездов в поле, а мы неизменно возвращались, как острил начальник боепитания Телепнев, к стоянию на боевом посту. Но в этот раз происходило что-то необычное. Бежали к своим казармам не только наши миномётчики. Бежали и офицеры истребительно-противотанкового полка, и тяжёлого артиллерийского. Значит, тревога общая, для всей нашей тридцать шестой армии, а может быть, и для всего Забайкальского фронта. Кто знает?…
В автопарке, я успел взглянуть туда, уже вовсю шла работа. Шофёры тащили из маслогреек вёдра с водой, аккумуляторы, канистры с бензином. К складам торопились интенданты, повара загружали дровами походные кухни, заливали водой котлы. Неизвестно ведь, в каких безводных местах нам предстоит вскоре оказаться…
Мы подбежали к казарме, когда солдаты нашей батареи уже повзводно стояли на плацу. Кое-кто ещё застёгивался, подпоясывался, поправлял пилотки, поёживался со сна. Наш комбат Титоров, такой же лейтенант, как мы с Лазаревым, только постарше Кости года на три, в длиннополой кавалерийской шинели, в походном снаряжении, массивный, меднолицый, спокойно взглянул на нас, задыхавшихся, вытянувшихся перед ним, сказал хрипло:
— Не опоздали? Значит, годитесь!..
Он всегда говорил с хрипотцой, служил в этих краях уже пятый год и, по рассказам, сорвал голос на огневых позициях, на Халхин-Голе, во время боевой стрельбы. От тех дней у нашего Титорова остался не только хриплый голос, но и шрам на лице — уже на самом излёте пробил ему щеку японский осколок, а на гимнастёрке — орден Красного Знамени. Может быть, с тех же самых пор осталось и любимое словечко «годитесь». Если он говорил «годитесь» — значит, хвалил. Подразумевалось — годитесь на доброе дело, на дружбу, на службу, в бой, наконец.
Титоров приказал вести людей к машинам, заводить моторы, укладывать имущество и выстраиваться в походную колонну. Приказ на марш он получил от командира дивизиона ещё до нашего прихода и объявил нам маршрут следования к боевому рубежу. Все наши части, стоявшие в приграничных районах, кроме, конечно, тыловых и учебных, имели на границе свои, заранее отведённые участки обороны, рубежи — как мы их называли — на случай вторжения противника. На такой-то рубеж и предстояло нам выдвинуться.
Вскоре наш миномётный полк выехал из пади Урулютуй. Я сидел в кабине, рядом с шофёром Обжигиным, смотрел вперёд на пустую холодную степь, на дорогу, проложенную по бурой прошлогодней траве, где шли машины с солдатами в кузовах и мягко катившимися миномётами, прицепленными позади. Навстречу пронзительно дул ветер, бился о лобовое стекло, подвывал, посвистывал, нагоняя тоску и холод. Обжигин покручивал баранку, машину покачивало на ухабах, впереди густо синели сопки, и казалось, весь этот мир всегда был таким, — застывшая бурая степь, машины нашего полка, безжизненные сопки, дорога. Дорога, сопки, степь, колонна военных машин, и я тут еду не помню сколько — день, год или два.
И Обжигин спрашивает:
— А правда, товарищ младший лейтенант, самураи границу перешли?
Точно я ничего не знаю, только догадки, слухи, возникшие после объявления тревоги. Но какой же я командир, если мне известно меньше, чем солдату? Надо делать вид, что я знаю больше Обжигина. Поэтому спрашиваю:
— Откуда у тебя такие сведения?
Обжигин молчит, соображает, как лучше ответить. Наконец бормочет:
— Ребята в батарее сказывали. Да и без ихнего телеграфа видать: всех на рубеж ни свет ни заря погнали. В полном боевом. И нас, и артиллеристов, и ишшо иптаповцев.[1] А вона, глядите, ишшо народ валит!.. — Обжигин указал рукой на северный край степи.
Там высоко и густо висела пыль. Я достал из футляра бинокль, посмотрел. Вдали, тесными группами, двигались солдаты с вещевыми мешками за спиной, с винтовками и примкнутыми к ним штыками. Шёл, должно быть, стрелковый полк. Пожалуй, Обжигин в своих рассуждениях был прав. Но я всё же одёрнул его:
— Сказывали, сказывали… Как бабы деревенские, а не бойцы Красной Армии. Получат на орехи, если перешли. Наше дело дать провокаторам сокрушительный отпор. Так ведь, Обжигин?
— Так-то оно, конечно, так… Да раз перешли, видать, подготовились. Должно, не с пустыми руками перешли. Чтобы нам по шее смазать, вот зачем перешли!
Настроение Обжигина мне решительно не нравится, хотя понимаю справедливость его рассуждений. Это ужасно, если они перешли. Это война на два фронта. И мы выдали бы им похлеще, чем на Халхин-Голе, если бы один на один. А немцы-то, немцы… Нам бы здесь хоть продержаться, не пустить японцев дальше границы…
Обжигин, чувствую, ждёт ответа. Я смотрю на его могучую шею, туго охваченную воротом гимнастёрки и сверху шершавым воротником шинели, отвечаю:
— По твоей шее, пожалуй, смажешь! Рука сломается, не иначе!
— Это уж точно, товарищ младший лейтенант, — отвечает он с довольным смешком. — Никому ещё не удавалось меня смазать. Уж точно…
— А всем нам тем более не смажешь. Видишь, какая сила идёт?
— Так я что? Я ничего. Я только так, к слову.
Дальше мы едем молча. Нет, на войну не похоже.
Если бы война, нас уже на марше бомбили бы. А куда спрятаться здесь от воздушного налёта? Где укрытие? Хоть бы лесочек, хоть перелесок. Нет, степь и степь, каменистые тарбаганьи холмики, ветер гонит свалявшиеся кусты перекати-поля, свистит в прошлогодних травах. Над сопками бегут тяжёлые сизые облака, грозятся запоздалым снегом. Машины одна за другой втягиваются в ущелье, сопки сходятся всё ближе, степь исчезла куда-то. Теперь справа и слева от нас — густо-зелёные скалистые возвышения, каменные глыбы, убегающие вверх. А там, вверху, острые, рваные гребни гор, странные нагромождения выветренных скальных пород, похожие на башни средневековых замков. На одной такой башне, нахохлившись, сидит степной орёл, сидит неподвижно, как изваяние, смотрит на нас, не боится, не улетает.
Внезапно каменные стены становятся ниже, их сменяют плоские круглые сопки бархатно-чёрного цвета: здесь прошёл степной пожар, прошлогодняя трава выгорела. Некоторое время мы едем среди этих мягко-чёрных сопок, потом дорога вновь вырывается в открытую рыжевато-жёлтую степь с низко летящими над ней сизыми облаками.
В кабине остро пахнет бензином, ноги в кирзовых сапогах замёрзли, и так хочется есть, что даже звенит в голове. От мерного покачивания, от того, что поднялись мы до зари, меня давно уже клонит в сон, и противиться этому нет никаких сил. Непроизвольно я закрываю глаза и сразу впадаю в оцепенение, вижу перед собой какую-то радужную пелену и на минуту-две забываюсь. Но тут же прихожу в себя, вижу, что машины впереди нас затормаживают. Обжигин тоже сбавляет скорость, мы останавливаемся. Я спрыгиваю на землю, спрыгивают со всех остальных машин и офицеры, и солдаты.
— Прива-а-ал!.. — проносится по колонне.
Для бойцов — минутный отдых. А для командиров — работа и заботы. Надо проверить, не отстал ли кто? Нет ли больных? Как оружие? Не потеряно ли что на марше?
— Командирам расчётов проверить людей, оружие, доложить!
Обжигин хозяйственно поднимает капот, оглядывает мотор, подкручивает отвёрткой какой-то винтик. Потом обходит машину вокруг, пинает каждое колесо — не надо ли подкачать?
Ко мне приближается стремительной своей походкой комбат Титоров. Докладываю по всей форме:
— …в первом взводе на марше происшествий не было. Взвод находится на привале…
— Годится, — говорит Титоров. — Смотри, чтобы всё было в порядке, — он дружески подмигивает, неожиданно улыбается: — Ну, будем живы, не помрём…
И уходит к Лазареву, большой, массивный и какой-то для меня новый, понятный после этих, казалось бы, ничего не значащих слов, которыми хотел меня подбодрить. Мне тут же хочется доказать комбату, что он может на меня положиться, что там, куда мы едем, я не дрогну и буду держаться до последней минуты. Но доказать это сейчас решительно нечем. И я снова осматриваю машины, залезаю в каждый кузов, выискиваю непорядок, проверяю миномётные прицелы…
И опять мы едем вперёд, и нет ни конца ни края этой монотонной степи. Но вот показалась гряда отлогих сопок, где-то за ними граница. Там наш огневой рубеж, а перед ним должны ещё занять оборону стрелковые батальоны. Впереди вижу командира дивизиона с начальником штаба, оба с флажками, указывают взводам и батареям, в каком направлении ехать. И колонна раздваивается: одни машины берут влево, другие выезжают на обочину, останавливаются, третьим путь вправо, к подножию сопок.
6
Мы сворачиваем вправо, под укрытие отлогой сопки, и Обжигин тормозит там, где нас ждёт комбат Титоров.
— Вот, Савин, огневая позиция. Место первого миномёта, — он пристукнул каблуком и завалил вход в мышиную норку, — здесь. И давай живо приступай к оборудованию, Лазарев! Готов? За мной, на НП!
Не оглядываясь, озабоченный своим делом, наш комбат двинулся вперёд по склону сопки на свой наблюдательный пункт. И кто знает, подумалось мне, может быть, навстречу своей скорой гибели. Вслед за ним быстрым шагом пошли разведчики. Один несёт за плечами футляр со стереотрубой, на груди у него автомат, в руках лопата, на которую он опирается, будто на посох. На другом разведчике, как винтовка, надета на плечо тренога для стереотрубы, и ещё тренога, поменьше, для буссоли, и сама буссоль в футляре, и автомат. Сержант Старков, командир отделения разведки, несёт печку, сработанную из ведра, охапку дровишек, перевязанную телефонным проводом, а на ремнях, за спиной, артиллерийский планшет. Вместе с ними двинулись на НП и связисты. На боку у одного катушка, она раскручивается, и за связистом ползёт по земле чёрная ниточка провода.
Лазарев неожиданно отозвал меня в сторону, тихо сказал:
— Вот что, Витя. Обстановка, судя по всему, серьёзная. Если меня убьют, а ты уцелеешь — стой насмерть. Нельзя нам пустить самураев дальше этих сопок. И ещё: напиши, если что, в Барнаул, улица Сизова, шестнадцать. Жене моей, Кате. Давай!.. Я побежал…
Лазарев протянул руку. Я посмотрел ему в глаза, сглотнул готовые навернуться слёзы и почувствовал боль в руке — так сильно пожал её Лазарев.
— Береги батарею! Тебе командовать, если нас накроет…
Он побежал догонять своих разведчиков и комбата Титорова, придерживая на бегу полевую сумку. Мои солдаты притихли, видно, тоже думают о предстоящем. Мрачно уставившись в землю, курит свою цигарку сержант Сухих. Туповато стоит подле него Буньков, толстая губа его отвисла и чуть подрагивает, шинель бугрится на спине, пилотка съехала на уши, руки засунул в рукава шинели, как в муфту. Робеет? Конечно, робеет. А я уже преодолел эту проклятую робость-жалость к самому себе, возникшую было после ухода комбата Титорова. Она может обессилить, перерасти в страх, превратить даже неплохого солдата в труса. И тут слово, сказанное вовремя, может сильно помочь.
— Буньков, примите воинский вид! — командую бодро. — Такой бравый парень, герой, можно сказать, а похож на мокрую курицу…
В такую минуту для перемены настроения не много надо. И уже раздались смешки в адрес Бунькова, и он распрямился, поправил пилотку, одёрнул шинель, глядит веселее. А я начинаю действовать. Отмеряю десять шагов от места первого миномёта, говорю сержанту Харитонову:
— Место второго здесь!
И сразу же Буньков лопатой срезал пласт дёрна, приметил место второго, А я иду дальше, размечаю огневую позицию, ещё третий и четвёртый надо поставить. И поставить хитро, уступами, в ломаную линию, чтобы при поражении одного мог уцелеть второй, чтобы предохранить его от разлетающихся осколков. Разметив позицию, командую:
— Миномёты к бою!
На позиции возникает торопливое движение, возня вокруг тяжёлых миномётных стволов и опорных плит, которые с тихим звоном падают на землю, стучит металл о металл — это шаровую часть казённика вставляют в опорную плиту, потом перекошенный миномёт выравнивают, вращая ручки подъёмного и поворотного механизмов, и вот уже все четыре, как бы привстав на своих двуногах, грозно глядят стволами, освобождёнными от чехлов, на сопку, за гребнем которой скрылись Лазарев, комбат Титоров и наши разведчики,
Ко мне подбежал телефонист, оставленный Лазаревым на огневой:
— Связь на НП есть, товарищ младший лейтенант. Где аппарат ставить?
Ясно где, посредине огневой, чтобы фланговые расчёты — первый и четвёртый — могли лучше слышать команды. Однако я поступаю иначе, пожалуй, хитрее. Первый начинает пристрелку, первому всегда достаётся работы больше других. Поэтому приказываю поставить аппарат ближе к первому. Вижу, как связист устанавливает плоский зелёный ящик позади первого, затем вбивает в землю стальной штырь, зубами освобождает кончик провода от изоляции, дует в трубку, вызывает НП, я слышу комариный писк — зуммер и тут же раздаётся вятский, певучий говорок связного:
— «Амур!» «Амур»! Я — «Байкал». Как слышите? Есть «третьего» к телефону!
«Третий» — это я. «Первый» — комбат Титоров, «второй» — Лазарев, для секретности. Говорит Лазарёв. Как мы и условились, он сообщает, что видно по ту сторону границы:
— Возня какая-то подозрительная. Пехота японская идёт вдоль рубежа. И артиллерию везут. Идут и идут. По численности дивизия, не меньше. С обозами, с автомашинами. Ага, вот и танки выползли. Примерно танковый батальон. Старков, считайте машины противника и записывайте. Слышали? Записывайте! Нет, это не тебе, Витя. Ты положение понял? Чёрт их знает, что они выкинут…
Внутри у меня всё напряглось, затрепетало в предчувствии самого главного события, которого я ждал и для которого жил с первого дня войны. Сейчас эта японская дивизия развернётся и пойдёт на нас. Правда, мой рассудок, просвещённый на миномётных курсах, на пограничной заставе, уроками Лазарева и нашего комбата, подсказывал: противник перед боем, перед рывком вперёд не так бы должен себя вести. Идут куда-то вдоль границы, идут на виду у наших наблюдателей. Должны бы хоть замаскироваться, что ли. Артиллерия тоже в походном положении. И зачем обозы сюда вытащили, если собираются нападать? А впрочем. Лазарёв прав, чёрт их знает… Может, по их уставам так предписано?… Ну, ладно: моё дело открыть огонь по приказу комбата, огонь точный и немедленный. Смотрю — всё ли готово?
Солдаты уже рьяно копают ровики, соединяя в сплошную траншею круглые окопы, в которых стоят миномёты. И связисты тоже окапываются, телефонный аппарат запрятали уже в земляную нишу — технику берегут, молодцы. А мне надо рассчитать «веера» — параллельный и сосредоточенный, такой, когда все миномёты сразу смогут стрелять в одну точку, на уничтожение. И ещё надо замаскировать нашу позицию. Если налетит авиация, мы же открытые, как на блюдечке. Хорошо хоть сопка эта торчит, на наше счастье, батарею за ней не так заметно. Натянем ещё сетку маскировочную, травой, перекати-полем забросаем. Может, сверху и не увидят сразу.
Солдаты копают, скинули шинели, работают в гимнастёрках, распоясались, воротники расстегнули, видно, уже упарились. Да! Мины ведь ещё не приготовлены, даже с машин не сгрузили. Как же я упустил? Приказываю:
— По два человека от расчёта, быстро за минами!
Бросили копать, ждут, кого назначат. Но это уже дело сержантов — не моё.
— Быстро, быстро! — тороплю их.
И они бегут со всех ног к машинам, а кто-то, самый проворный, уже тащится назад, приседая под деревянным ящиком на плече, в котором притаились до срока две серо-стальные стодвадцатимиллиметровые мины. Их ещё надо извлечь, очистить от смазки, ввернуть взрыватели, вставить хвостовые патроны, навесить пороховые мешочки. Но всё это потом, перед самой стрельбой, за этим дело не станет.
Из полевой сумки я достаю половинку тетради в картонных корочках, раскрываю, смотрю на артиллерийские формулы, выписанные ещё на курсах, начинаю рассчитывать веера: под каким углом поставить миномёты друг к другу и к цели, когда комбат Титоров по телефону прикажет: «Веер сосредоточенный!» Дело идёт быстро, учили нас на курсах хотя и недолго, но все наши действия стремились довести почти до автоматических.
Едва закончил рассчитывать веера, как вдали от нашей позиции увидел клубы пыли, там, откуда мы приехали. Что бы это могло быть? Смотрю в бинокль — идут танки, приближаются стремительно, их видно уже без бинокля, идут с открытыми люками, из башен смотрят командиры в чёрных шлемах, головной танк сворачивает в сторону, остальные за ним.
Пыль на дороге хотя и оседает, но почему-то не уменьшается, висит низким облаком, что там ещё? Пытаюсь рассмотреть. Ага, пехота-матушка, дивизия подходит нам на подмогу. Вообще-то если быть точным, то наш полк придан этой дивизии для усиления. Но мы первыми заняли оборону на своём рубеже. Вот и получается, что они подходят на подмогу. Ведь мы сильны дальним огнём, а устоять против вражеской пехоты или танков нам трудно, хотя и есть чем оборониться — и пулемёт на батарее — «дегтярь», и винтовки, и гранаты. Но это так, чтобы хоть продержаться, чтобы подороже отдать наши жизни, спасти-то их в случае прорыва на батарею вряд ли будет возможно. Поэтому появление стрелков бодрит и радует.
Мимо, метрах в тридцати, проходят первые автоматчики, взвод. Впереди младший лейтенант, угрюмый, маленький, усталый, и солдаты идут за ним такие же усталые, пропылённые. Как они только выдерживают — сутки, двое, а то, бывает, и трое, идут и идут. Поспали час-другой на земле — и опять вперёд, шагом марш!.. Передних нагоняет верховой, капитан. Это, знаю, командир батальона, только ему полагается в пехоте лошадь, все, кто помладше, даже его заместители и начальник штаба, идут «на своих двоих». Капитан натягивает поводья, приставляет руку к губам, командует:
— Прива-ал!..
7
И взвод младшего лейтенанта валится на мёртвую степную траву. Кое-кто начинает перематывать портянки, кто-то закуривает, остальные лежат недвижимо на спине, раскинув руки.
Я подхожу, всматриваюсь в лицо солдата, который ближе других. Это парнишка лет восемнадцати, курносый, с обветренными скулами, губы у него потрескались. Откуда он? Где ждут его? Кто заплачет о нём, если через час или раньше японская пуля попадёт в это запылённое прикрытое веко? А может, он уцелеет, а сам я буду лежать вот так, под этой сопкой, когда разорвётся над нами первый японский снаряд? На этой мысли — о своей судьбе — не задерживаюсь, она проходит как чужая, я возвысился над ней и думаю о других. Мне хочется подбодрить этих солдат, поддержать, как-то утешить.
— Эй, браток! — окликает меня младший лейтенант. — Эй, бог войны, артиллерист!..
Я подхожу.
— Водички, браток, не найдётся?
Я рад, что могу с ним поделиться. Он пьёт из моей фляги маленькими глотками. В глазах вопрос — можно ли ещё?
— Пей! — ободряю его.
— Ну, спасибо, браток. Поддержал. Можно топать дальше. Тебя как звать? А я — Прибытков. Сашка Прибытков из Иркутска. Будем, как говорится, знакомы.
Я радостно удивлён:
— Погоди, я ведь тоже из Иркутска. Ты где жил?
— За вокзалом, на Касьяновской. Я — глазковский…
Глазково — предместье за Ангарой. И жили там хулиганистые глазкачи, наши лютые враги, называвшие нас, городских ребят, городчанами. Сразу за Глазковом начинался сосновый лес на Кайской горе, под ней петляла речушка Кая, а чуть поодаль, в песчаных отмелях, густо заросших черёмухой, из ветвей которой получались прекрасные удилища, луки, свистульки, нёс свои зелёные воды Иркут — река моего детства. Как мечтали мы вырваться из пыльного душного города туда, на Иркут, на Каю, к тёмной и таинственной Сенюшной горе, искупаться, позагорать, наломать черёмухи, полакомиться её глянцевито-чёрными, вяжущими рот ягодами.
Но на пути к этому загородному краю вставали шайки глазкачей. И плохо приходилось нам, городским. У нас отбирали небогатые наши завтраки, уложенные матерями в сумочки, отбирали вместе с этими сумочками, если были деньги — отнимали и деньги, награждали подзатыльниками и пинками. А если мы шли дружно, большой компанией, то в нас из-за калиток, из-за деревянных заборов летели камни, а сидевшие на лавочках парни постарше показывали нам кулаки и ругали скверными словами. Но и мы не оставались в долгу. Глазкачам, пришедшим в город, если даже они были старше и сильнее, можно было безбоязненно смазать по шее, по их же примеру отобрать деньги, выданные матерью на лекарство, — аптек в Глазкове в ту пору не было. Но если мы, бывало, не раз плакали от обиды и бессилья, то враги наши — помню точно! — были крепче и не унижались до слёз. Они терпели наши побои молча, не пытаясь сопротивляться — находились в стане недругов, надеясь отомстить на своей земле.
Я смотрел на Сашку Прибыткова и мне даже показалось, что именно он, тогда маленький задира, отобрал у меня на берегу Иркута пончики с повидлом, испечённые мамой.
— Били мы вас, — извинительно сказал Сашка.
— Да и вашим в городе перепадало, — усмехнулся я. — А за что?
— Детство. Какими дураками были, а?
Взвод автоматчиков, как и другие пехотинцы, уже поднялся, сержанты выстраивали неровные ещё ряды,
— Вперёд! — махнул рукой своему помкомвзводу Сашка. — Веди, говорю! Догоню вас, друга, понимаешь, встретил!..
Он вдруг торопливо открыл свою тощую полевую сумку:
— Возьми! — протянул мне плоский сухарь. — У меня ещё один есть, бери! — И сунул мне в руку.
— Спасибо, — смущённо кивнул я. — Мы ведь как поднялись, так не жравши и двинули. Начпрод, тетеря дохлая, чешется где-то…
— А у нас начпрод — человек. Душа человек! Всех горячим концентратом обеспечил, да ещё сухари вот приказал выдать… Ну, будь жив!..
Мы ещё успели записать номера наших полевых почт, и Прибытков побежал догонять свой взвод.
Пехотинцы всё шли и шли вперёд, огибая сопку, на которой находились Лазарев и комбат Титоров, шли занимать заранее открытые окопы впереди наших наблюдательных пунктов.
Бережно откусывая сухарь, я вернулся на огневую. И сразу меня вызвали с НП к телефону. Комбат спрашивал, как подвигается оборудование позиции и вообще, что у нас происходит. Я доложил, что окапываемся, к открытию огня готовы, спросил о японцах.
— Развернулись в боевой порядок, — ответил Титоров. — Залегли, обозы угнали, артиллерию тоже…
— Думаете, они как? Всерьёз? Или на испуг берут?
— Это у кого другого спроси. А мне таких вопросов не задавай. Форсируй лучше оборудование огневой, быстрей окапывайся. Взрыватели проверь сам. Заряды тоже. Тут «второй» тебя просит…
— Слушай, — спросил Лазарев, — у тебя всё готово?
Не успел я ответить, как Лазарев крикнул:
— Они пошли…
И тут же в трубке раздался голос Титорова:
— Батарея, к бою!..
Я эхом повторил эту команду.
Огневики отшвырнули лопаты, кинулись к минометам. Я передал трубку телефонисту, выскочил из окопчика, подбежал к первому миномёту.
А телефонист уже кричал:
— По пехоте! Осколочно-фугасной миной! Взрыватель осколочный!
Во всё горло, чтобы слышали командиры всех четырёх расчётов, я повторял за телефонистом:
— Угломер… Прицел… Заряд четвёртый! — и смотрел, как третьи номера расчётов навешивают на хвостовую часть мин заряды — белые, изогнутые колбасками мешочки, начинённые порохом.
«Сейчас, — думал я, — сейчас он подаст команду „огонь!“, всё загрохочет, взорвётся выстрелами, японцы тоже откроют огонь…»
Но вместо команды «Батарея, огонь!» следует:
— Батарея…
Ничего не следует, никакой команды. Пауза. Тишина. Я слышу, как стучит моё сердце в этой леденящей степной тишине. Ну же!..
— Батарея… Зарядить!
Это уже какая-то передышка. Готовность к выстрелам моментальная, но ещё не сами выстрелы. Всё напряжено, всё затаилось, готовое взорваться. Я не выдерживаю, прошу к телефону «второго».
— Понимаешь, — говорит Лазарев, — залегли, можно сказать, у самой проволоки. Лежат, гады, притаились, даже не окапываются. Добежали до проволоки и — на землю…
— А танки?
— Не видно танков. И артиллерию уволокли. Должно быть, на закрытые позиции. Хотя наблюдателей ихних мы пока не засекли. Думаю, ты правильно предполагал — очередная самурайская возня. Страху нагоняют. Там у вас обедом не пахнет?…
«Да ведь мы сегодня ничего не ели», — вспоминаю я, и голод так сильно напоминает о себе, что начинает даже звенеть в ушах.
— Не пахнет, — отвечаю безнадёжно, и мы заканчиваем разговор.
«Где же старшина дивизиона? Куда запропастился Наш батарейный старшина Смирнов, всегда такой расторопный и вдруг, — на тебе! — исчезнувший: с утра не появлялся в батарее. Где наши кухни? Что себе думает начпрод? К японцам, что ли, угнал он всех поваров?»
В это время на позиции появляется военфельдшер второго ранга Пупынин. Он невелик ростом, голова его воинственно задрана, и на всех он взирает будто командарм, не меньше. На широкой лямке через плечо висит сумка с красным крестом, рядом с пистолетом здоровенный кинжал в расшитых ножнах, фляга на ремешке, на шее для чего-то ещё бинокль, а на фуражке, над лакированным козырьком, «консервы» — солнцезащитные очки. Пупынин обожает всякую амуницию.
— Докладывай, Савин, больше заболевших нету?
«Тоже начальник выискался, докладывать ему ещё. Нет чтобы спросить по-человечески — как, мол, то да сё. Доклад ему необходим…»
— А что, — спрашиваю, — разве кто-то уже заболел?
— Ещё не знаешь? Старшину Смирнова с утра в госпиталь отправили. Температура почти сорок, и острое катаральное состояние дыхательных путей. Пневмония по всем симптомам…
Любит Пупынин напускать медицинского туману, говорить так, чтобы научные слова его были нам непонятны. И при этом испытывает явное удовольствие — вот, мол, я чего знаю, вот в чём понимаю, не то что вы — темнота, о чём, кроме своих миномётов, понятие имеете?
Сообщение Пупынина меня огорчает и злит. Огорчает потому, что по-человечески жаль Смирнова. А злюсь из-за того, что мы надолго лишились старшины, снабжение батареи теперь замедлилось, тот же самый обед доставить на позицию некому. Значит, комбат назначит временно вместо Смирнова кого-то из сержантов, и, наверняка этот сержант будет из моего взвода, скорее всего мой помощник — рассудительный и хитроватый Сухих, этот старшинские обязанности должен бы, как говорит Титоров, потянуть. А мне с кем оставаться? Я ведь лишусь лучшего командира расчёта…
Пупынин идёт вдоль нашей огневой позиции, где окапываются солдаты, смотрит, к чему бы прицепиться, и, конечно, находит: ведро с питьевой водой стоит открытое, туда летит пыль, оседает зеленоватой плёнкой.
— Почему непорядок? — строго вопрошает Пупынин.
Ну как он не понимает, что о такой ерунде никто не думает, когда миномёты заряжены и мы ждём боя.
— Спрашивай со своего санинструктора, это его дело, — отвечаю ему.
— Саниструктор, сам знаешь, на наблюдательном пункте. А здесь ты за порядок отвечаешь.
— Буньков, закройте ведро! И впредь чтобы закрывали… — говорю с раздражением, только бы отделаться от Пупынина. А то ведь ещё что-нибудь найдёт, и заладит, и не отвяжется — будет грозить рапортом командиру дивизиона.
Ещё не успел уйти Пупынин, стоит поучает солдат, как появляется сам начальник боепитания полка военный инженер третьего ранга Телепнев, деловой, торопливый, озабоченный. Если Пупынин весь увешан оружием, перетянут ремнями и ремешками, то на Телепневе не видно даже пистолета, шинель нараспашку, чтобы удобней работать, руки перепачканы смазкой. Не только мы, взводные, даже батарейные командиры Телепнева побаиваются: всё оружие, оптические приборы, мины и патроны — во власти Телепнева. Заметит неисправность — берегись!
— Как оружие, Савин? На марше ничего не потеряно? Затворы проверяли? Оптика в порядке? — он с ходу забрасывает меня вопросами. — Не повредили, спрашиваю, оптику? А? Савин?
Мне даже страшно становится — как можно повредить оптику? Мы бережём, храним от ударов всю эту оптику — прицелы, бинокли, перископы. Без оптики много ли настреляешь? С готовностью отвечаю:
— В порядке у нас оптика! В полном порядке…
Но въедливый начальник сам желает проверить. Его, конечно, право. Но в такой час делать ему больше нечего, как нас, взводных, мучить? Ведь мне надо к ночной стрельбе подготовиться. И «Боевой листок» успеть бы выпустить, комиссар непременно спросит. Но Телепневу о моих заботах не скажешь. Да и никому не скажешь, у каждого своё дело. У каждого своя война, как говорит Лазарев.
Только я подумал о «Боевом листке», пришёл комиссар дивизиона, интересуется — как настроение? Как моральный дух поднимаем? И сразу же находит упущение:
— Почему нет «Боевого листка»?
Я виновато молчу.
— Надо срочно выпустить. И повесить…
Комиссар вручает мне газеты — маленькую, в листок, армейскую «Вперёд, к победе!» и фронтовую «На боевом посту», наказывает провести беседу с солдатами на тему «Стрелять отлично, как герои фронтовики» и собирается уходить. Но я спрашиваю:
— Как там насчёт обеда, товарищ старший политрук?
— Потерпи чуток, Савин, — просит он совсем другим тоном, — скоро привезут. — И уж совсем по-свойски, будто я не взводный, а ровня ему, рассказывает: — Понимаешь, Савин, начпрод-то наш заблудился. Это надо же, а? Не смог карту сориентировать. Командир полка послал на розыски три машины. И что ты думаешь? Нашли, конечно. А начпрод уже весь бензин израсходовал и заехал, куда Макар телят не гонял, Сам комиссар полка с ПНШ-первым[2] нашли его. Ну, стружку, конечно, сняли. Что ты, брат, весь полк без пищи оставил. Ты уж как-нибудь поддержи у солдат моральный дух. Давай, брат, действуй! А я в третью батарею схожу. Сам с утра не евши…
От его дружеского тона мне становится как-то спокойней, легче, я отчётливей понимаю — каждому тяжело. И какой толк ныть? Надо держаться, надо подбодрить солдат. Комиссар же просил меня. Но предпринять я ничего не успеваю: на огневую вкатывается машина с полевой кухней на прицепе.
Эх, и поедим сейчас! Но сначала надо позаботиться о солдатах, чтобы каждого накормили как полагается. И тут вспоминаю — да в батарее же нет старшины! А солдаты уже оставили по одному человеку возле миномётов, уже строятся, смотрят вопросительно на меня, ждут разрешения идти к кухне,
— Сержант Сухих!
Он подбегает, прикладывает к косо сидящей пилотке измазанную землёй руку, смотрит с готовностью к любому делу.
— Примите на время обязанности старшины.
Сухих польщён доверием, с плохо скрытой улыбкой отвечает:
— Есть принять обязанности!..
— Ведите людей на обед!
Кухня — вот она, рядом. Поэтому наши успевают на раздачу первыми. За ними торопятся солдаты из других батарей. Они толпятся вокруг кухни, ругают начпрода, поваров, шофёров и тут же отходят с дымящимися котелками, садятся на землю, начинают насыщаться чем-то средним между супом, кашей и похлёбкой — тут и завтрак, и обед, и ужин, рассчитались за весь день. На том спасибо: могли дать один обед, а остальное, как говорят солдаты, в пользу второго фронта. И хлеба двойная порция — клейкого, мягкого, с пригорелой коркой.
Да, как же там, на НП? Надо кого-то немедленно послать туда с обедом на всех. Эх, Смирнов, Смирнов, угораздило же тебя заболеть в такое время. Был бы здоров старшина, потащил бы термос нашим разведчикам на сопку. Впору хоть самому идти туда, снимать кого-то с оборудования позиции нет расчёта. Вдруг я слышу тонкий, совсем не солдатский голосок.
8
Это, конечно, она, наша Лида Ёлочкина. Мне хочется с ней поговорить, а о чём — не знаю сам. Но её сразу окружают солдаты, они становятся оживлёнными, молодцеватыми, каждый пытается завладеть её вниманием. А самые молодые ребята смущённо переглядываются и старательно дымят самокрутками.
Я подхожу к ним, кто-то разжёг из сухой травы и щепочек маленький костёр, отсветы пламени вздрагивают в карих Лидиных глазах, освещают надетый набекрень синий берет с алой звёздочкой, косую чёрную чёлку, всё её смеющееся нежное лицо, такое непривычное среди грубых усталых солдатских лиц.
— Ой, товарищ младший лейтенант, вас-то по всем огневым ищу, — кидается ко мне Лида.
«Меня?» — обрадованно думаю я, но, боясь это обнаружить перед солдатами, грубовато отвечаю:
— А что меня искать? Я всё время тут, в батарее.
— Кончай перекур, разбирай шанцевый инструмент, — приказывает Сухих и смотрит на меня понимающе.
Солдаты нехотя расходятся, и мы с Лидой остаёмся одни в темноте, костёр угас, и лишь светятся из-под сгоревшего сена красные глазки углей. Лида берёт меня за рукав шинели, шёпотом спрашивает:
— А где лейтенант Лазарев?… Он придёт сюда?
«Вот оно что, оказывается. А я-то уж думал…»
— Его место на НП в такой обстановке, — отвечаю ей, нажимая на «такую обстановку».
— Вот и хорошо, — неожиданно радуется Лида, — Мне как раз на НП приказано идти.
— Тебе — на НП? Кто это приказывал?
— Приказал начпрод. Всем поварам приказал — разнести пищу бойцам… Ну, которые сами не могут получить с кухни, — пояснила она. — У вас и хотела спросить — куда идти? Покажите!
Только теперь я замечаю стоящий позади Лиды переносный термос с лямками — обед для наших разведчиков, для всех, кто находится на НП. Лида умело подняла его, закинула за спину, готовая идти. Если ей приказали, значит, мне посылать никого не надо. Пусть идёт. И всё же я почему-то медлю, молчу. Не заблудится ли она в этой кромешной тьме?
— Вот телефонный провод, связь с НП, — говорю я, поднимая с земли тугую нить провода. — От него не отходи… Хотя постой, сейчас кое-что уточним…
Так не хочется отпускать её одну, надо бы предупредить наших на НП. Или дать ей кого-нибудь в провожатые. Но кого? Каждый человек на счету.
— Некогда мне тут стоять, — неожиданно и резко говорит Лида. — Там, сами знаете, люди целый день не евши. У меня приказ…
И она, маленькая, в длиннополой шинели, с термосом за спиной, поворачивается и через несколько шагов скрывается в темноте.
— Старшего на огневой к телефону! — слышу я.
Что там ещё? Кому я понадобился в такой момент?
— «Третий» слушает!
— У тебя всё в порядке? — дружелюбно спрашивает Титоров. — Если в порядке, приходи к нам на НП. Освоиться на всякий случай не помешает. Да жми побыстрей, пока всё тихо…
Со всех ног бегу я вдоль батареи, натыкаюсь на командира второго взвода, с налёта говорю:
— Останешься за меня. Я — срочно на НП. Вызвали. Если что, сразу докладывай комбату. Я скоро!
— Давай, топай, — покладисто говорит взводный. — До света далеко, авось всё обойдётся…
Я кидаюсь в молчаливую ночь, слышу, как позади позвякивают о камни лопаты солдат, роющих окопы, и бегу в надежде разглядеть очертания Лидиной фигурки. Постепенно все звуки, доносящиеся с батареи, затихают, будто растворяются в ночной степи, и уже ничего не слышно, кроме моего собственного дыхания и стука сердца. Но где же Лида? Нигде никого, хотя пора бы её догнать. Я наклоняюсь, шарю в траве, где-то здесь тянется телефонный кабель. Не нахожу. Подаюсь вправо, снова шарю по жёсткой и колкой траве. Нету. И неожиданно спотыкаюсь, — вот он где, этот кабель. А куда же девалась Лида? Что-то колыхнулось как будто левее меня. Подаю сигнал тихим свистом. Прислушиваюсь. Тишина. Где-то вдалеке заработал автомобильный или танковый мотор и, удаляясь, затих. Я иду вдоль телефонного кабеля, срезаю крутой подъём и в трёх шагах слышу какой-то всхлип или вздох. Осторожно подхожу и едва не падаю, наткнувшись на кого-то, сидящего на земле. Она!
— Ты почему тут уселась? Ищу, понимаешь, тебя, ищу, всю сопку обшарил…
Да она плачет, кажется!
— Ты чего? Кто тебя?…
— С-страшно, товарищ младший лейтенант, миленький. Страшно в темноте. Иду, иду. Совсем одна. Заплуталась…
— Ну, вставай, вставай! — говорю как можно мягче, поднимаю её, всё ещё всхлипывающую. Девчонка же, что с неё взять? Название одно, что сержант. Надо бы успокоить её, вся дрожит, что-то смешное бы рассказать. И я начинаю бессовестно врать.
— Вот послушай, — говорю, — в нашем полку был такой случай. Старшину Балалайкина знаешь?
— Из взвода боепитания, что ли?
— Оттуда. Передают недавно по телефону приказание: «Старшину Балалайкина — в штаб!» А в дивизионе принимающий телефонист кричит: «Всех старшин с балалайками— в штаб!»
Лида заливается смехом, и я вынужден выдержать паузу. Потом продолжаю:
— Вот переполох был! Побежали старшины искать балалайки. Кое-как насобирали штук шесть со всего полка. Построились, идут. Балалайки несут как винтовки, в положении «на плечо». Начальник штаба увидел, шёл как раз им навстречу, спрашивает: «Это что за самодеятельность такая? Что за балаган?» — «А это, отвечает Балалайкин, по вашему приказанию, товарищ майор, следуем к вам в штаб!..»
— Ну надо же! — смеётся Лида. — А мы в хозбатарее служим, ничего интересного не знаем. С подъёма до отбоя котлы да плита. И обратно с отбоя до подъёма. Ничего не поделаешь, служба такая.
Мне становится жаль её. Вспомнил, что брата у неё убили. Наверно, был такой же лейтенант, как я, только с голубыми петлицами, летал. И любовь к Лазареву наваливалась, судя по всему, безответная. Я беру Лиду за руку, она доверчиво сжимает мои пальцы.
— Не устала? Давай-ка я понесу термос. Давай, давай…
Я помогаю ей освободиться от лямок, впрягаюсь в них сам и, ощущая на спине приятную теплоту нагретого металла и не слишком большую тяжесть, продолжаю подниматься вместе с Лидой по склону сопки. Мы идём в полной тишине, лишь трава шуршит под нашими сапогами да изредка срывается из-под ног и катится вниз маленький камень. Подъём становится круче, кажется, что небо, усеянное звёздами, наклонилось в сторону. Звёзды появились как-то неожиданно, чернота вверху пропала, и вот на нас смотрят вечные и бесчисленные миры, которым нет никакого дела до наших горестей, наших обид и забот, до всей нашей войны и нашей короткой человеческой жизни. Но мысль эта посещает меня мимоходом, и, вслед за ней, я практично отмечаю, что звёзды мне, огневику, как нельзя кстати: при ночной стрельбе я смогу построить «веер» по звёздам, возьму основную отметку угломера по Полярной звезде, вот она, стоит высоко-высоко и мигает нам синими льдистыми лучами.
— Теперь не страшно? — спрашиваю Лиду.
— Теперь-то куда с добром! А давеча испугалась, темь вокруг, не вижу ни капельки. И чую, впрямь чую, будто кто крадётся ко мне.
— Такое со всеми бывает, — говорю солидно. — Тут, главное, преодолеть себя. Доказать себе: я не боюсь! И всё будет в порядке. Поняла?
9
Ответить она не успевает, раздаётся грозный окрик:
— Стой! Кто идёт?
Мы замерли на месте. Но я сразу узнал голос Шилобреева, разведчика из взвода Лазарева, громко назвал себя и Лиду.
— Пароль! — потребовал Шилобреев.
Я назвал и пароль.
— Проходите! — разрешил Шилобреев.
И мы снова двинулись было вверх по сопке, но подъём уже кончался, мы достигли гребня.
— Сюда, сюда, — донёсся откуда-то снизу голос Шилобреева.
Я пригнулся, прошёл ещё несколько шагов, держа Лиду за руку, и увидел голову Шилобреева, в каске, торчащую из глубокого окопа.
Я спрыгнул к нему, и за спиной, в термосе, глухо плеснулась похлёбка. Вместе с Шилобреевым мы приняли на руки Лиду и пошли по траншее на едва слышные впереди голоса. Путь нам преградила натянутая плащ-палатка, из-под неё, в щель, сочился тусклый свет. Я приподнял её край, и мы оказались на НП нашей батареи.
Керосиновая лампа освещала земляные стены, прикрытые сверху жидковатым берёзовым накатом, склонившихся над планшетом Лазарева и Титорова. В углу, на соломе, подрёмывал у телефона связист, в другом — спали двое разведчиков, подложив под головы противогазные сумки. Третий разведчик подбрасывал щепьё в печку, сделанную из железного ведра. Круглые консервные банки из-под тушёнки, соединённые в коленца, заменяли трубу, и туда уходил дым. Старков тряпочкой протирал стереотрубу, стоящую у смотровой щели. После огневой позиции, открытой всем ветрам, после блуждания в темноте этот тесный блиндаж, где пахло ружейным маслом, махоркой, нагретым железом, разрытой землёй, мне показался обжитым домом.
Не успел я доложить, как обернувшийся к нам Титоров увидел Лиду и угрожающе спросил:
— А ты зачем здесь? Кто разрешил?
— Товарищ лейтенант! По приказу начпрода младший сержант Ёлочкина доставила для ваших людей дневную норму продовольствия! — выпалила Лида, вскинув руку к своему синему берету.
— Продовольствие? — недоверчиво переспросил Титоров. — Ты лично?
— Она, — подтвердил я, снимая с плеч лямки термоса. — Она лично. Только на последних, можно сказать, метрах помог ей донести…
— Ну, это меняет обстановку. Спасибо Ёлочкина. От лица батареи благодарю! — произнёс Титоров и добавил: — А мы уже не надеялись. Кормите людей, сержант Старков! И ты, Ёлочкина, тоже помогай…
Лида, заметил я, смотрела на Лазарева, ждала его ответного взгляда, а он только рассеянно ей кивнул и подозвал меня к планшету,
— Вникай, — сказал он. — Вот схема целей…
— А ну, приготовиться к приёму пищи! — возвестил Старков, — Подставляй котелки, доставай ложки-плошки!
Все, кто был в блиндаже, кроме Титорова, Лазарева и меня, сгрудились у термоса, с которого Лида сняла крышку.
Я смотрю на планшет, вникаю во всё, что там начертано, и одновременно вижу — Титоров и Лазарев ждут, когда все солдаты получат свою порцию. Это у нас святое правило — сначала солдатам, а потом уж, когда убедимся, что каждому выдано всё, что полагается, потом уж можно и о себе подумать. Хотя не раз я видел, как при раздаче пищи сначала еду получали командиры, начиная с самого старшего. Но у нас в батарее так никогда не бывало.
Лида наполнила последние два котелка, сказала Старкову:
— Передай командирам, товарищ сержант!
Некоторое время все молчали, занятые едой, я разбирался со схемой целей, схемой ориентиров, неподвижным и подвижным заградительными огнями, а когда поднимал от планшета голову, видел взгляд Лиды, направленный на Лазарева. И столько преданности, столько нежности было в этом взгляде, что я начинал злиться и на неё, и на Лазарева, делавшего вид, что он ничего такого не замечает.
— У вас тут хорошо, — произнесла Лида, будто спохватившись. — Обжились…
— Проявляем военную находчивость, — заметил Старков. — Нам, разведчикам, по-другому нельзя. Нам это по штату положено.
— А в трубу на самураев поглядеть можно? — спросила Лида.
Старков покосился на Титорова и Лазарева и, так как те продолжали молча доедать обед, ответил:
— С нашим удовольствием. Проходите, товарищ младший сержант, к окулярам, сейчас подкрутим, чтобы вам удобней было глядеть…
— Прекрати, Старков! Чего она там увидит? — сказал Лазарев, — Раньше надо было приходить, засветло…
— Возможности не было, — грустно заметила Лида. — Нас начпрод не в те сопки направил, с дороги сбились. Ему попало уже от командира полка, сама слышала, как майор его пробирал. Меня-то не заметил, я за кухней притаилась и слушаю…
— Майор, он, конечно, человек правильный, — говорит Старков. — Он солдата понимает. Куда ему без солдата, кого навоюешь?
Я опустился на корточки погреться возле печурки, подумал, а что солдаты говорят обо мне? Какой я человек в их глазах? Правильный или нет? Я стараюсь быть похожим на Лазарева, на Титорова. Но не скоро, наверно, стану таким командиром, как они. Верно говорит Лазарёв — мало у меня жизненного опыта…
Лида с любопытством, прикусив губу, наблюдает, как Лазарев наносит на командирский планшет цели, соединяет их линиями-стрелками с огневой, с наблюдательным пунктом, измеряет углы при помощи артиллерийского целлулоидного круга, сверяется с картой, куда тоже нанесены цели — японские огневые позиции, траншеи, места расположения пехоты — всё, что было увидено в стереотрубу и засечено с наблюдательного пункта.
Телефон тоненько запищал, солдат с трубкой, привязанной к уху бинтом, нажал клапан, отозвался непроспавшимся голосом:
— «Амур» слушает! «Первого»? Даю… — и протянул трубку Титорову,
Комбат доложил обстановку, выслушал кого-то и отчеканил:
— Есть! Будет исполнено! — И к нам: — Командир дивизиона звонил. Приказал подготовить заградительный огонь. По трём рубежам. Если они на рассвете двинут, чтобы сумели накрыть незамедлительно. Сразу дивизионом. Понятна задача? Обещал сам прийти, — Титоров выразительно смотрин на меня.
— Разрешите пойти на огневую? — спрашиваю.
— Идите. И прихватите младшего сержанта Ёлочкину.
Мы поднялись, Лида вскинула на плечи опорожнённый термос.
— Я немного их провожу. Разрешите? — спрашивает Лазарев.
— Давай, — соглашается Титоров. — Только не до самой батареи, — подшучивает он.
Я первым выбрался из траншеи в ночную темь, стряхнул шинель, прислушался. Тихо было вокруг. Слились в черноте ночи и небо, усеянное холодными звёздами, и сопки, и степь, в которой, за пограничной проволокой, притаились наши враги — ждут, выжидают. Что-то будет на рассвете? И вдруг не то чтобы вижу, а скорее чувствую, в темноте происходит какое-то движение. Кто-то не то крадётся, не то переползает. Всматриваюсь до боли в глазах, делаю вперёд несколько неслышных шагов. Нет, никого. Неужели померещилось? Ведь я так ясно чувствовал это движение и даже шуршание травы, и колебание воздуха. Неплохо бы вспугнуть, если кто здесь притаился.
— Гу-гууу! — подвываю я, стараясь воспроизвести крик филина.
И тут же, в каком-то шаге от меня, с клёкотом, с фырканьем, обдав меня ветром, едва не задев, поднялся в воздух большой, тёмный, показалось, даже косматый клубок и полетел, издавая жуткий крик.
— Орёл, чёрт бы его побрал, — выругался я негромко. — Птичка божия на мою голову. Хорошо хоть этот орёл, а не кто-нибудь двуногий из-за пограничной проволоки… А где же они, Лазарев с Лидой? Почему не пошли за мной?
Я прислушался. Снизу, из траншеи, донёсся их тихий разговор, но что они там говорили, разобрать было нельзя. Ревность кольнула меня — значит, между ними всё-таки что-то есть? Я почувствовал себя не то обиженным, не то обманутым.
— Побудь пока тут, — громко сказал Лазарев. — Поговори с Шилобреевым, а то он совсем на посту заскучал. Иди. Он там, в конце траншеи. А у меня к младшему лейтенанту разговор есть, секретный…
Лазарев окликнул меня, выбрался наверх, мы отошли на несколько шагов, он спросил так, будто я перед ним провинился:
— Ты что, не мог оставить её на огневой? Не мог вместо неё кого-нибудь прислать? Друг называется!..
— Подожди, — растерянно произнёс я, — Мне в голову не пришло заменять её. Да и как я мог — начпрод послал, а у меня — ты что, не знаешь? — каждый солдат на счету. Кто копать будет? Да и вообще, чем ты недоволен?
— Эх, Витя… Не понимаешь, что ли?… Вот пришла она. А мне всё это ни к чему, только из колеи выбивает, душу переворачивает…
— Знаю. Любит она тебя. Всё для тебя отдать готова. А ты? Да я бы ради неё. И сколько других ребят на неё смотрят…
— Ты же знаешь — я женат. И обижать девчонку не в моём характере. Люди эти, которые на неё пялятся, о себе только думают. А кто о ней подумал? — Он помолчал, сказал совсем тихо: — Мало ты обо мне знаешь. У меня дочка растёт. Не родная дочка, понял? С ребёнком я Катю взял. Едва оттаяла, поверила мне. Три года меня ждёт! И никто, кроме неё, не нужен мне… Ладно, заболтались мы, пора по местам!
Шилобреев развлекал Лиду байками о вятских — мужиках хватских, которые в проруби заваривали кисель, а потом ныряли проверять — куда делась заварка?
Лида, всё ещё смеясь, протянула нам с Лазаревым руки, мы выхватили её наверх, а Лазарев тут же спрыгнул к Шилобрееву, бросив нам, медлившим с уходом:
— Давайте, ребята, шагом марш! Время…
Весь обратный путь Лида была молчалива, мне тоже не хотелось ни о чём говорить, и я обрадовался, когда мы подошли к огневой позиции. Она направилась дальше, туда, где в укрытиях стояли полевые кухни, а я к своим миномётам, заряженным и готовым к открытию огня.
… Но ни той тревожной ночью, ни наступившим вслед за ней утром огонь открывать не пришлось. Едва рассвело, позвонил Лазарев:
— Ты знаешь, — сказал он весело, — самураи-то смылись! Ни одного на той стороне не видно, понял? Опять на испуг брали, гады ползучие!..
И сразу схлынуло ночное напряжение. С минуту я сидел оглушённый этой новостью, счастливо глядел на своих солдат. Человек шесть, половина взвода, спали возле миномётов на голой земле, подняв воротники шинелей, глубоко надвинув пилотки, закрыв руками головы. Другие всё ещё продолжали копать, земля вылетала из ходов сообщения, уже довольно глубоких, соединивших миномётные площадки.
После завтрака нам дали команду «отбой».
— Разрядить! — приказал я.
В разряжании миномётов есть элемент опасности. Не дай бог совершить неловкое или ошибочное движение! Оно может стоить жизни всему расчёту. Поэтому солдаты с особой осторожностью наклоняют тяжёлые стволы миномётов к земле. Я стою рядом, заглядываю в глубину миномётного ствола, отливающую серебристо-тусклым металлом, вижу, как оттуда ползёт заострённый корпус мины с обнажённо-голым устрашающим взрывателем. Наводчик и заряжающий схватывают мину мгновенно, едва вылезла её головная часть. Она выползает с еле слышным шипением, держать её становится трудно. Сухих, командир расчёта, подхватывает корпус мины. И вот она вышла вся, тяжёлая, поблёскивая зеленоватой краской. Её кладут на брезент, вывинчивают взрыватель и надевают на него колпачок. Теперь всё, теперь мина как мина, её укладывают в деревянный ящик и закрепляют распорками.
Другие расчёты делают то же самое, на огневой позиции все в движении, все торопливо собираются, укладывают на машины ящики с минами, лопаты, кирки, вещевые мешки, все торопятся, но торопливость сейчас совсем другая, чем та, когда мы собирались по тревоге. Тогда все были в предельном напряжении, в неведении о нашем близком будущем, не сулившем ничего хорошего. Сейчас мы собираемся в таком же быстром темпе, но свободно, весело, с шутками-прибаутками, эти сборы нужны каждому из нас. Чем скорее соберёмся — это понимает любой — тем скорее дадут отдохнуть, отоспаться в тепле казармы, под крышей.
Мы погрузились на машины, с НП пришли комбат Титоров и Лазарев, связисты смотали телефонные провода и полк стал вытягиваться в походную колонну. Я опять сижу рядом с Обжигиным, машины идут по степи, идут домой, в падь Урулюнтуй. Домой ли? Да, хочешь или нет, а там, где служишь, всегда твой дом. Пусть временный, пусть привал на одну ночь, пусть землянка или шалаш, но всё равно — дом. А вот и показался наш дом — падь Урулюнтуй, над которой возвышается крутая светло-зелёная высота. А в пади видны казармы. Длинная деревянная, с двумя входами по краям — нашего полка. И за ней двухэтажные, одинаковые, тоже длинные — казармы артиллеристов. На пригорке выстроились домики полкового начальства, видна и офицерская столовая, в которой я впервые увидел Лазарева и Лиду и многих других людей, без которых сейчас трудно представить мою жизнь.
Все эти мысли, возникшие при виде Урулюнтуя, отошли под нашествием многих сиюминутных дел. Теперь надо, чтобы всё имущество взвода сгрузили, разложили, расставили, протёрли, смазали, чтобы все солдаты под командой Тимофея Сухих отправились в казарму, чтобы все они получили еду, поспали и, главное, сохранили полную готовность вновь встать заслоном на границе, если прикажут.
10
Так, в заботах о своих солдатах, в занятиях огневой службой, тактикой, материальной частью оружия, учебных тревогах, ежедневном ожидании фронтовых сводок, вновь потекли наши дни в пади Урулюнтуй. Японцы то не подавали на границе признаков жизни, а то устраивали свои манёвры почти у самых проволочных заграждений, отделявших нашу землю от маньчжурской. И тогда мы — в который раз! — поднимались всем полком, мчались на свой рубеж, занимали огневые позиции и наблюдательные пункты, ждали, случалось, по трое суток: что они предпримут? Мглистыми ночами, когда нас, даже в полушубках, пробирал холод и ноги, обутые в валенки, тоже начинали мёрзнуть, нам приносили в окопы пшённую кашу со льдом и чёрные, сломаешь зубы, сухари — вот и вся пища тех дней и ночей. И опять давался «отбой», опять мы возвращались в занесённую снегами падь Урулюнтуй…
Я уже заметил, что как только наши дела на фронте шли хуже, как только начиналось большое немецкое наступление, скажем, в сорок втором на Сталинград или под Курском летом сорок третьего года, так японцы начинали свои провокации, держали нас на границе, изматывали нестерпимым ожиданием — вот, вот начнём! И не начинали — немцев в очередной раз отгоняли. И отгоняли так далеко, что было уже ясно — и эти, их союзнички, вряд ли полезут теперь. Кроме того, дела их на Тихом океане стали идти хуже, теперь уже наши союзники отнимали у них остров за островом, несмотря на отчаянное самурайское сопротивление. А нас всё держали и держали здесь и даже улучшали наше вооружение. Если в сорок втором мы сдали всё самое лучшее для западных фронтов и получили миномёты совсем топорной работы, наскоро покрашенные, не воронёные в деталях, без колёсных ходов, то теперь у нас каждый сержант получил желтовато-чёрный новенький автомат, каждому взводу дали ручной пулемёт и противотанковое однозарядное ружьё, которое вскоре заменили пятизарядным, Да и старые автомашины поменяли на мощные четырехосные грузовики, устойчивые, просторные, на маршах надёжно гудящие сверх-сильными моторами. Зачем бы всё это, если не для войны?
Но день шёл за днём, а война отодвигалась от нас всё дальше — и на западе, да, видно, и на востоке. И после каждого большого наступления, в ожидании нового, садился я за очередной рапорт — просился в Действующую. В таких стремлениях Лазарев ни разу меня не поддержал: был уверен в исключительности нашей дальневосточной судьбы и нашего предназначения и своей собственной участи — будет, непременно будет своя война, в той самой разведке.
В ноябре сорок третьего, уже после того, как наши освободили Киев, и в Москве был грандиозный салют, и был приказ — части и соединения, освободившие столицу Украины, именовать Киевскими, вскоре после этих событий я как-то вечером рассматривал карту, рассечённую линией фронта. За последние месяцы эта линия сильно подвинулась на запад, но до Берлина всё ещё оставалось далеко, и многие наши города ещё лежали по ту сторону фронта. Однако было ясно — наша взяла, повторения сорок первого никогда не будет,
Я развернул фронтовую газету «На боевом посту». Её название точно отражало состояние тех войск, для которых она была предназначена. Газета была интересной, её любили читать все солдаты и офицеры. А я даже послал туда две-три заметки, их напечатали, этим я очень гордился. Но название газеты теперь мне было не по нутру. Видно, что мы стоим, стоим и стоим, хоть и на боевом посту. А то ли дело газеты называются там, на фронтах — «Суворовский натиск», «Вперёд, за Родину!», «В бой на врага!». Это газеты!.. Плохо моё дело, если уж газета, её название стало против моих интересов. Как бы там ни было, я взял эту газету, посмотрел карикатуры на гитлеровских вояк, захлёбывавшихся в реке, которую накануне форсировали наши, и наткнулся на заметку. В ней сообщалось, что три лейтенанта-танкиста, служившие, видимо, где-то в наших краях, внесли все свои сбережения на строительство танка «Мститель» и обратились к Верховному Главнокомандующему с просьбой — послать их на фронт экипажем этого танка. Ходатайство офицеров-патриотов, говорилось в конце заметки, удовлетворено.
Первая мысль была — какие молодцы эти ребята, танкисты. Но сразу пришла другая: значит, по желанию отсюда на фронт нельзя. У начальства, кто-то говорил, даже есть указание — бороться с фронтовыми настроениями. А со своим танком, выходит, можно. Но моя судьба определена, я — миномётчик. И на танкиста — блажь, глупость — никто переучивать меня не станет. Стоп. А если миномёт купить? Но я же не командир расчёта, я взводный. Значит, надо купить три миномёта, полный огневой взвод нового трехорудийного состава. На такое дело, пожалуй, денег можно и наскрести…
Время уже приближалось к ночи, лампочка трижды мигнула, свет стал тускнеть, через десять минут выключат. Я отложил газету, сказал Лазареву, усердно читавшему «Наставление по форсированию рек»:
— Выйдем, Костя. Дело есть. Поговорим, воздухом подышим…
— Предложение принимается, — ответил Лазарев в стал одеваться.
В кисейных облаках катилась над сопками полная луна, освещая всю нашу падь, склоны сопок, на которых чернели автомашины и орудия, голубовато-белое зданьице полкового штаба, землянки и деревянные домишки со снежными платочками, тусклыми огоньками в заледенелых окнах. Всё пространство просматривалось далеко, таинственно темнели сопки, за ними открывалась степь, и где-то там, ещё дальше, был наш рубеж, граница, край земли.
Мы отошли от офицерских землянок, и я сказал:
— Совершенно и особо секретно, как говорили в давние времена…
— Ты меня знаешь.
— Потому и доверяю. Так вот. Думал я о нашей судьбе. Я здесь третий год. Ты — пятый. К боям мы давно готовы. Особенно ты. А для чего, спрашивается, если никаких боёв никогда в нашей жизни не будет?
— Ты не прав. Они будут. Войны на наш век хватит.
— Если дело так дальше пойдёт на западе, может и не хватить. Поэтому предлагаю действовать. И действовать вместе. Хочешь?
— Что я должен делать?
— Газету вчерашнюю читал? Танкистов помнишь?
— Каких ещё танкистов?
Я рассказал.
— Богатые ребята, не то что наш брат. Танк — это не стакан махорки купить…
— А миномётная батарея? Шесть стволов. Один миномёт наш, Телепнев говорил, всего восемьсот рублей стоит. Считай: шестью восемь — сорок восемь. Четыре восемьсот. И со своей батареей — на фронт.
Лазарев сосредоточенно молчал. Наконец-то, кажется, дрогнул и он, не стал возражать, думал. Конечно, как и всем нам, давным-давно ему хотелось настоящего боевого дела.
— Пожалуй, попробовать можно, — не слишком уверенно сказал он. И озабоченно добавил: — Денег вот как набрать?
— Давай считать. У меня тысяча пятьсот на книжке. Сколько у тебя?
— Мало. Рублей шестьсот, я Кате посылаю. По аттестату. И ещё… Но если такое дело… Вот часы «Кировские». Это, считай, минимум тысяча. Значит, две пятьсот. Моя гимнастёрка суконная, сапоги хромовые. Сколько это? Около четырёх…
Не желая отставать, я немедленно вложил в общий котёл шерстяной свитер и парадную гимнастёрку.
— Свитер оставь, самому будет нужен. А гимнастёрка принимается.
— Порядок. С получки наберём на батарею!
— Миномёты ещё не батарея, — возразил Лазарев, — а средства тяги? Приборы? Одна стереотруба дороже миномётов потянет — оптика! Да всякая мелочь, без неё тоже много не навоюешь — личное оружие, вещевое довольствие, шанцевый инструмент…
— Основное — миномёты. А мелочи приложатся. Представь только: на фронт поедем. Вместе поедем…
— Может быть, по дороге Катю увижу, — мечтательно произнёс Лазарев.
А я продолжал своё:
— И к весне, к большому наступлению, будем там! Только надо действовать. Действовать!..
За неделю мы распродали всё, что могли: часы Лазарева, суконные гимнастёрки довоенного пошива, синие парадные галифе с красными кантами. Находилось много покупателей и на офицерские ремни с портупеями. За них давали немалые деньги, но Лазарев воспротивился:
— Какой ты командир без хорошего ремня? Мальчишка с курсов? Так, по одежде, и встретят в другой части. А если человек в кожаном снаряжении довоенного образца, значит, он кадровый, значит, послуживший…
Надо сказать, что в ту пору офицерские ремни, иначе — снаряжение ценилось высоко. Их не хватало, выпуск кожаных ремней давно прекратился, а потребность возросла невероятно. Вновь испечённым офицерам выдавались ремни солдатские, узкие, без портупеи, иногда — брезентовые, с некрасивой кирзовой кобурой. Поэтому-то Лазарев и воспротивился продаже снаряжения.
— Офицер всегда должен быть одет по форме, — любил повторять он.
По форме — значит, красиво, подтянуто. И сам он был щеголеват, всегда отглажен, затянут ремнями, по фигуре он каким-то образом подгонял шинель, и она была как влитая.
Нет, ремнями Лазарев поступиться не мог. Впрочем в этом и не было нужды: денег у нас на батарею вроде бы хватало. Мы написали письмо Верховному Главнокомандующему, пересчитали эти немалые для нас деньги, указав, что они предназначены для приобретения батареи стодвадцатимиллиметровых миномётов. И что вместе с этой батареей просим отправить нас на любой фронт. С боевым комсомольским приветом!..
А чтобы в полку никто не узнал, куда мы посылаем письмо и деньги, сказали комбату Титорову, что в день самостоятельной подготовки отправимся в верховья пади, а оттуда в степь, тренироваться в ориентировании по карте.
Титоров посмотрел недоверчиво, спросил:
— Что, маленькие? Ориентироваться не умеете? Опытные офицеры — и курс молодого бойца будете повторять? Не годится! Занимайтесь лучше на миниатюр-полигоне. Надо на артстрелковую нажать перед проверкой.
Я не был подготовлен к такому обороту дела, но Лазарев нашёлся:
— На полигоне позанимаемся в обычный день. Можно и вечером. А ориентирование на нашем вероятном театре военных действий, вы знаете сами, требует больших практических навыков. И кроме всего, был приказ командарма — ориентированию в наших условиях придать первейшее значение. Когда же будем выполнять приказ?
Лазарев на зубок помнил приказы армейского и фронтового командования. И наш Титоров подрастерялся. Особенно когда Лазарев ввернул насчёт командующего и театра военных действий. Титоров безоговорочно доверял Лазареву, полагался на его знания и в глубине души, должно быть, понимал, что Лазарев не хуже его разбирается во многих военных вопросах. Поэтому, помолчав, со значением ответил:
— Ну, если был приказ командующего, тогда — конечно. Тогда выполняйте. Откровенно говоря, подзабыл я об этом приказе. Да и по полку приказа ещё не было. Ну, в этом хоть будем первыми. Не повредит. Валяйте, да сами-то не заблудитесь? На поиски посылать не придётся? — И он засмеялся, довольный, что подковырнул нас.
На другой день, перевалив через сопку, мы выбрались на степную дорогу и зашагали к станции Ундур-Булак. Хорошо было идти этой далеко открытой степью, присыпанной мелким снежком, из-под которого тут и там торчали прошлогодние ломкие травинки, колеблемые встречным ветром, идти рядом с верным товарищем навстречу заветной цели, приближавшейся с каждым шагом. И не надо нам заниматься ориентированием, изучать этот театр военных действий. Нас ждёт совсем другой театр, совсем другая война. Вот они, денежки, лежат-полёживают в полевой сумке Лазарева. И никто, кроме нас, не знает, что не деньги в этой сумке, нет — миномётная батарея там спрятана. Судьба наша там, в этой сумке, дальняя дорога, бои и — кто ведает? — может быть, раны, увечья, скорая гибель, А может быть, эта доля обойдёт нас стороной и мы ещё дойдём до этого проклятого Берлина.
Лазарев негромко затянул свою любимую песню, приглашая меня подпевать:
Пропеллер, громче песню пой, Неси распластанные крылья…Я сразу же включился, и уже в два голоса мы продолжили:
Лети вперёд, на смертный бой, Лети, стальная эскадрилья…На станционной почте пожилая женщина приняла деньги и письмо — мы решили отправить его заказным, — посмотрела на нас жалостливо, сказала: «Какие молоденькие», выдала квитанцию, и мы зашагали обратно, испытывая чувство облегчения: теперь сделано всё. Теперь осталось ждать.
Сначала мы не говорили о нашей тайне, но дней через пять я не вытерпел:
— Как думаешь, не получили ещё там, в Москве?
— Рано. Не надо об этом пока, — сердито ответил Лазарев. — Займись лучше делом, не трави себя.
Я и сам понимал, что рано, а вот не мог думать ни о чём другом. И делом, в отличие от Лазарева, заниматься не мог. Все составлявшее нашу жизнь — и огневая служба, и занятия артстрелковой подготовкой, топографией, уставами, хождениями в наряды — всё это происходило призрачно, будто не со мной, а с кем-то другим. По-настоящему я оживлялся лишь по утрам, слушая фронтовую сводку. И ещё после обеда, высматривая, когда покажется полковой экспедитор с письмами и газетами. И хотя газеты, слово в слово, повторяли вчерашнюю сводку, было куда надёжней прочесть её глазами, подумать над ней, отыскать на карте города и посёлки, возле которых проходил фронт. Ведь мысленно я уже ехал туда и, лёжа на топчане после занятий, будто слышал стук вагонных колёс, вдыхал паровозную гарь, видел, как выгружается миномётная батарея на разбитом прифронтовом полустанке, как на машинах мы движемся вперёд, занимаем огневую позицию, и, наконец, вот оно: «По фашистам, первому, одна мина, огонь!..»
Я смотрел в обклеенный газетами потолок нашей землянки и ясно видел, как вырывается из ствола короткое острое пламя, оглушающе-звонко раздаётся выстрел, миномёт подпрыгивает на своей двуноге, а мина уносится к вражеским позициям…
Так я подолгу грезил нашим фронтовым будущим… Лазарев же по-прежнему налегал на самоподготовку, решал на карте или планшете артиллерийские задачи, а в последние дни, раздобыв где-то школьный учебник, стал заниматься немецким. Тут я тоже спохватился, начал зубрить фразы из военного разговорника и, подключившись к Лазареву, разбирал разные варианты стрельбы батареей — когда она смещена влево от наблюдательного пункта, когда вправо, когда, наконец — редкий, но возможный случай — батарея впереди наблюдательного.
Эти занятия, конечно, отвлекали от мыслей о фронте, но недели через три мы, не сговариваясь, стали вопросительно поглядывать друг на друга — ну, что там произошло с нашим письмом? Не придёт ли завтра ответ, а вместе с ним и приказ об откомандировании в Действующую?
Но ни назавтра, ни в другие дни ответа нам не было.
— Может, запросить? Вдруг деньги куда-то девались? Как думаешь? — спросил я.
— Подождём, — сдержанно ответил Лазарев.
Уже в начале января 1944 года, после занятий огневой службой, я вошёл в нашу землянку, чтобы оставить полевую сумку, умыться и пойти в столовую. Лазарев неподвижно сидел за столом в шинели, в полной амуниции, даже в шапке, чего никогда себе не позволял, Я понял: что-то произошло.
— Читай, — он мрачно усмехнулся, протянул листок.
Вскрытый конверт лежал на русско-немецком разговорнике, закрывая слово «немецкий» и касаясь острым углом развёрнутой топографической карты.
И до сих пор будто вижу эту маленькую бумажку с большим синим штампом какого-то отдела Наркомата обороны и отпечатанные на машинке слова. Там сообщалось, что Верховный Главнокомандующий благодарит нас за заботу об укреплении вооружённых сил и личный вклад в фонд обороны, просит принять привет и благодарность Красной Армии. Дальше стояла подпись какого-то майора — заместителя начальника четвёртого отдела канцелярии наркома обороны. О главной нашей просьбе — отправке на фронт — ничего сказано не было. Я заглянул в конверт — может быть, там написано что-то ещё, какая-то отдельная бумага, которую Лазарев не достал. Но тонкий конверт был пуст.
— Вот и всё, — произнёс Лазарев.
— Не может быть!.. — воскликнул я. — Придёт специальное указание…
Лазарев молчал. И такая растерянность, такая тоска была в его глазах, что мне стало стыдно. Ведь это я вовлёк его в это дело.
— Вот посмотришь, — упрямо повторил я, — на днях придёт! Посмотришь!..
— Ну, ладно, — отозвался он. — Поживём — увидим. Возможно, ты прав…
Он взял из-под конверта учебник немецкого языка, рассеянно полистал, решительно захлопнул и поставил в самый дальний конец книжной полки. Там стояли книги уже прочитанные или ненужные.
— Главное — не изменять себе, Витя. Главное — делать своё дело. И делать как следует, чтобы сам не имел права себя упрекнуть.
Вечером он принёс из штаба новые книги. «Вооружение японской армии» — называлась первая, «Организация японской пехотной дивизии» — стояло на обложке второй.
— Ну, начнём всё сначала, — сказал Лазарев, усаживаясь за стол и открывая книгу.
Я сел напротив него, позанимался по учебнику «Тактика артиллерии» и взял книгу об японской пехотной дивизии. Она захватила меня сразу. По-военному чётко излагалось в ней множество сведений о нашем вероятном противнике, о его штабах, полках, батальонах, даже обозах, о вооружении, обмундировании, нормах снабжения. И хотя написано всё это было суховато, со многими военными терминами, я зримо представлял себе японские батальоны на марше, видел, как идут они к нашей границе под белым знаменем, в которое влеплен красный круг восходящего солнца.
А в самом конце книги было пять-шесть таблиц. В одной, разграфлённой на клетки, указывались номера японских дивизий и места их расположения. В нескольких клетках были только номера и стоял вопросительный знак — дислокация не уточнена. Именно этот знак заставил меня ощутить свою причастность к особой тайне. Наверно, таких вопросов в этой таблице было бы куда больше. Но кто-то ведь вызнал, уточнил и сумел же передать нашему командованию все эти сведения. И этот кто-то, которого я никогда не встречу и ничего не узнаю о нём, сейчас продолжает свою опаснейшую работу в каком-то маньчжурском городе, где стоят части Квантунской армии. Кто он? Наш человек, заброшенный туда? Или китаец, ненавидящий захватчиков? А может быть, японец — не всё же они оголтелые империалисты, есть, наверное, и такие, которые правильно всё понимают, И симпатизируют нашему строю, помогают в нашей войне. Нет, вряд ли японец. Скорее всего наш, русский.
Я незаметно стал наблюдать за Лазаревым. Сидит, читает, поглощён своим чтением, всё ещё надеется, упрямый, что пошлют его на эту сверхопасную работу.
Тихо, чтобы не отвлекать его, я встал из-за стола, проверил чемоданчик и полевую сумку, наполнил фляжку водой, разделся и лёг на свою жёсткую койку, накрывшись ветхим одеялом и шинелью, сняв хлястик с одной пуговицы — шинель тогда становилась значительно шире, как второе одеяло. А Лазарев сидел ещё долго, весь отдавшись делу, которым он занимался, и лицо у него было, как всегда, отрешённое.
На другой день он ещё больше удивил меня — принёс русско-японский военный разговорник и самоучитель японского языка. Ничего не поясняя, только усмехнувшись моему недоуменному взгляду, он сел к столу, полистал свои новые книги и неуверенно произнёс:
— Намаэ на нанто ни маска?
— Что, что? — не понял я. — Что ты сказал?
— Намаэ на нанто ни маска? — повторил он. — Это значит — как ваше имя? Запишем. Что дальше? Кто командир вашей части? Ага, значит, так, — бутайтё на нанто ни маска? Запишем. И запомним. Это не так уж трудно. А вот интересный и очень нужный вопрос: «Как пройти к этому городу?» Коно матиэномити га вакари — маска? А это немедленно надо запомнить. Слушай, красиво звучит: «Томарэ, буки о сутэро!» Знаешь, что это? «Стой, бросай оружие!» Понял? Томарэ, буки о сутэро! — воскликнул он без запинки и засмеялся.
Мне тоже почему-то понравилась эта фраза, я повторил её и сказал:
— На испанский похоже, — хотя по-испански не знал ни слова.
А ещё через несколько дней Лазарев предложил:
— Одному язык осваивать трудно. Надо с кем-то разговаривать. Кроме тебя — не с кем. Подключайся! Пригодится…
Я и сам уже иногда без Лазарева брал разговорник и пытался произносить отдельные фразы. Поэтому согласился: может, действительно пригодится.
О нашем письме Верховному, о том, что так и не пришло никакого дополнительного указания, мы, по молчаливому уговору, вспоминать перестали.
11
И ещё одна весна пришла в нашу падь. Растаяли на сопках снега, робкие ручейки заструились по склонам, обнажились светлые камни, омытые вешней водой, и, едва просохло, запылали на сопках сухие травы. По вечерам, а особенно ночью, казалось, если долго смотреть на горящие сопки, что там светятся огнями дальние большие города. А по утрам и сопки, и степь — всё было окутано синей прозрачной дымкой, воздух был горьковатым, и на склонах, где плясали фантастические огни, лежали выгоревшие чёрно-бархатные поля. А там, где падь, расступаясь, выбегала в степь, на самом её краю, от станции Ундур-Булак по-прежнему уходили на запад поезда, волнуя возможностью отъезда. Но я уже перестал думать, что мне когда-нибудь выпадет случай уехать на запад. Стало ясно — о нас с Лазаревым просто забыли, и указание, на которое мы рассчитывали, не придёт.
«В конце концов, думал я, какая разница — кто будет стрелять из наших миномётов: мы с Лазаревым или другие лейтенанты? Главное, чтобы на фронте было больше орудийных стволов, больше огня поражало противника. И мы для этого что-то сделали. А стреляет Иванов или Лазарев — не всё ли равно?…»
Но рассуждая столь правильно, я всё же чуть-чуть обманывал себя. Именно мне хотелось стрелять по противнику. И я вновь недобрым словом вспоминал команду «02», уехавшую тогда, в сорок первом, на восток. Но, видно, нас не зря отправили сюда, поставили на краю земли и сохранили в самые тяжкие дни войны для особой цели. И в октябре 1941 года, когда немцы подошли к окраинам Москвы, и в ноябре 1942-го, когда они прорвались к Волге у Сталинграда, когда на фронт было брошено всё, что можно бросить, даже тогда наши два фронта — Забайкальский и Дальневосточный, вместе с Тихоокеанским флотом были щитом Дальнего Востока, Забайкалья, Сибири.
И кто знает — не будь нас здесь, что бы предприняли японцы и кто помешал бы их Квантунской армии хотя бы тогда, в сорок втором, перейти наши границы и — вперёд! — на Читу, на Хабаровск, на родной мой Иркутск… Значит, действительно у нас была своя военная судьба.
А если верить Лазареву, то война, рано или поздно, должна начаться и у нас. Поэтому я, в конце концов, принял свою военную судьбу и никаких рапортов решил больше не писать.
Но Лазарев, кажется, что-то замышлял. И на этот раз своими планами делиться со мной не спешил. Я знал: торопить его не следовало, скажет сам в своё время. Так оно и случилось. Правда, Лазарева к признанию невольно принудил Телепнев, наш доморощенный стратег, как прозвали его в полку.
… В тот вечер мы с Лазаревым пришли в землянку
Телепнева, чтобы послушать его прогнозы о событиях на фронте, Телепнев, на удивление многим, умел довольно точно предсказывать, что и когда произойдёт, в каких местах начнётся новое наше наступление.
Едва мы сняли шинели и уселись — Лазарев на единственную колченогую табуретку, а я на койку Телепнева, над которой висела старая уже карта, расчерченная по всем правилам военного искусства синими и красными стрелами, с матерчатыми красными флажками, неудержимо теперь рвавшимися на запад и обтекавшими синие оборонительные линии противника, — Телепнев взял остро заточенный карандаш и начал:
— Вот, смотрите. Смотрите сюда, на юг! Наступать, я вам говорю, в ближайшее время будут южные армии. Почему? Да, почему? Простое дело, если подумать. На юге что? Никель! Ещё что? Экономическую географию в школе учили? Не помните? Двойка! Марганец на юге. Марганец, понимаете? Компоненты, необходимые для выплавки стали. Попробуйте-ка выплавить броню без марганца. Не получится. А где взять марганец? Вот здесь! — И он карандашом показывал на юг Украины. — А здесь, в Белоруссии, у Константина Константиновича Рокоссовского? Что здесь? Лён-долгунец, конопля, трикотажные фабрики. Наступать будут, я вам говорю, южные фронты. Можете мне поверить!..
Мы молча внимали нашему стратегу, ошибался он редко. Когда прогноз был составлен и Телепнев слегка утомился, то спросил Лазарева:
— Ну-с, а как ваши шерлок-холмсовские успехи? Поймали похитителей портянок?
— Какие портянки? — возмутился Лазарев. — Вы скажете. Дело сложнее: полушубки во втором дивизионе пропадают. Но больше пропадать не будут, — пообещал он.
И рассказал, как выследил похитителей и накрыл двоих с поличным: Лазарев был у нас нештатным полковым дознавателем.
— А разузнать о сообщниках — это уже не столь сложно. Это уже, как говорится, дело техники, — закончил Лазарев.
— Слушайте, Константин Петрович, — сказал Телепнев, — из вас же прекрасный контрразведчик может получиться. А вы чем занимаетесь? Портянки, полушубки — какая разница? Самодеятельность полковая. А вам надо заниматься настоящим делом. Обидно, что серьёзную разведку вы проморгали. Раньше начинать следовало. Впрочем, тут я не специалист, это не по моей части. Может, ещё и не поздно. Но контрразведка по вас просто слёзы льёт. У вас память исключительная, наблюдательность, воля. Изобретательность, наконец, чёрт возьми. Почему бы вам не подать рапорт?
Лазарев усмехнулся со значением, и я что-то заподозрил.
Телепнев продолжал:
— На днях буду в штабе армии. Хотите, скажу о ваших способностях? Я там кое-кого ещё по довоенным сборам знаю. Попрошу вам помочь. Или намекну кому надо. Так, мол, и так. Это же слепым надо быть, чтобы вас не заметить. Грамотных сержантов дважды отправляли в школу. А вас-то, вас как не заметить?
— А если уже заметили? — спросил Костя таинственно. — Кто его знает, особиста? У него служба такая: помалкивать…
Телепнев сразу перестал говорить. Я тоже молчал, удивлённый этим намёком.
Лишь Телепнев неопределённо протянул:
— Тогда другой, конечно, разговор…
— Ну, ладно, — произнёс Лазарев, решившись. — Вам кое-что сказать могу. Кио ку мицу, как говорят японцы, — совершенно секретно. Вызывал он меня. Документы заполнил. Жди, говорит, вызова. Сказал, всё должно быть в порядке, свою рекомендацию, говорит, даю. И как будто туда, куда я всё время хотел: набирают только офицеров. Оказывается, ещё не поздно.
— Если так — поздравляю, — сказал Телепнев. — Просто рад за вас, Константин Петрович. По такому случаю надо было бы вспрыснуть это дело. Дерябнуть, говорю, полагается. Но в нашем Урулюнтуе что можно выпить, кроме хлорированной холодной воды? Или перепревшего чаю в столовой. Да, жизнь наша военная…
— Вспрыскивать пока что рановато, — сказал Лазарёв. — Всё может пустым номером обернуться.
— В нашей жизни и это не исключено, — произнёс Телепнев. — Хотя не вижу причин, по которым бы вам отказали. Главное в нашем положении — не терять надежды. А надежда у вас, на мой взгляд, есть немалая.
— Главное в нашем положении ещё и верить, — сказал я со злостью. — Верить тем, кто рядом с тобой. И, между прочим, не один год рядом. Товарищам верить!
Телепнев и Лазарев неожиданно засмеялись — так, должно быть, непримирим и категоричен был мой тон.
— Витя, милый ты мой! Совсем зелёным бываешь иногда. Как солдат-первогодок, честное слово, а не офицер с границы. За что, впрочем, тебя и люблю. Пойми: я и сейчас не имел права ничего вам сообщать. Но есть разные права. И правила разные есть…,
— Исключения из правил тоже есть, — заметил Телепнев. — На них, как я убедился, многое в жизни держится…
Возвращались от Телепнева мы поздно. Движок давно умолк, было тихо, только время от времени с дальних постов доносилось «Стой! Кто идёт?» и столь же знакомое в ответ — «Разводящий со сменой»: в пади сменялись часовые. Свет в домах и землянках был погашен, лишь в штабе да ещё двух-трёх оконцах едва мерцали огоньки. Лазарев шёл рядом со мной, и я ничего не чувствовал к нему, кроме всегдашнего им восхищения, и понимал, что у меня никого не будет товарища дороже и лучше.
12
Через неделю после этого вечера Лазарев уезжал из Урулюнтуя. Комбат Титоров перед строем батареи сказал речь.
— Сегодня, — объявил он торжественно, — по приказу командования лейтенант Лазарев отбывает к новому месту службы. Мы все хорошо знаем товарища Лазарева как передового командира. И образованного. А также заботливого. И знаем: он много сделал полезного не только в батарее, но и в дивизионе, и в полку. Мне, как и всем, было приятно служить с лейтенантом Лазаревым. И не враз мы найдём подходящую ему замену, хотя замену он себе подготовил и вырастил совместно со всей батареей. — Тут наш комбат выразительно посмотрел на меня. — Взводом управления назначен командовать лейтенант Савин. Командир тоже знающий и требовательный. А лейтенанту Лазареву пожелаем на новом месте службы больших успехов и счастливого пути!
Лазарев пошёл вдоль строя, пожимая каждому солдату руку и желая отличной службы. А солдаты желали остаться ему живым и с победой вернуться домой после войны. Сержант Старков даже прослезился, и когда Титоров дал команду «Разойдись!», он всё шёл за Лазаревым, пока мы не оказались на улице. Тут Лазарёв попрощался со своим сержантом. Телепнев ещё утром уехал в штаб армии, Титоров заступил в наряд — дежурить по части, — и я один пошёл провожать Лазарева до границы гарнизона — дальше идти не разрешалось.
На дороге, проходившей под сопкой, там, где был контрольно-пропускной пункт, Лазарев надеялся поймать попутную машину до станции Ундур-Булак. А если машина не попадётся — не в первый раз идти на своих двоих, да и станция почти рядом: всего двенадцать километров.
Мы поднялись на сопку. На вершине её посвистывал ветер. Я нёс чемодан Лазарева, совсем лёгонький, а сам он тащил аккуратно увязанный спальный мешок, сшитый им недавно из козьих шкур. Внизу, по одну сторону сопки, лежала наша падь, окружённая горами. На их склонах темнели ровики с миномётами и автомашинами нашего полка. Лазарев остановился, с минуту смотрел туда, слегка качнул головой и будто сказал что-то сам себе. Редкие дымки поднимались над офицерскими землянками, над домиками командира полка и другого начальства, над штабом, перед которым выстроилась на развод наша батарея. А по другую сторону открывалась равнина, окаймлённая такими же сопками, то синими, то густо-чёрными, то изжелто-золотистыми в лучах степного заката. Вдалеке, на дороге, ведущей от рудника к станции, показался грузовик.
— Ну, — сказал Лазарев, — давай простимся!..
Мы посмотрели друг на друга. У меня навернулись слёзы. Но Лазарев этого не любил, я заставил себя улыбнуться,
— Держись, Витя! Пиши мне. И запомни, куда бы тебя ни забросила служба: Барнаул, Сизова, шестнадцать. Там всегда тебе будут рады. Даже без меня. Там знают, я писал Кате.
— И ты запомни: Иркутск, Разина, двадцать два.
— Оставайся, служи: у вас ещё будет своя война…
— Будет своя война, — повторил я как пароль.
Мы обнялись и постояли так несколько секунд, не выпуская из рук наших колючих шинелей.
Машина уже приближалась к будке КПП. Лазарев подхватил чемодан и тючок со спальным мешком и по тропке быстро скатился вниз. Я видел, как он забрался в кузов, уселся на чемодан и, уже удаляясь, махал мне шапкой, пока машина и он сам стали неразличимы.
Закат над степью угасал, я пошёл обратно. В пади шла своя жизнь, как при Лазареве. У штаба, на разводе, всё ещё стояла наша батарея, с песней проехал полковой водовоз, в казарму первого дивизиона шёл комиссар, должно быть проводить политинформацию.
Я понимал, что остался в этой жизни с миномётным полком и пройду с ним весь его путь, который кем-то и для чего-то намечен. Ибо не бывает в этом мире, как я потом убедился, ничего просто так, попусту, во всём есть определённая цель — малая или великая. Лазарев поехал навстречу своей, а я остался здесь, на своём посту.
Первое письмо от Лазарева пришло через месяц. Костя писал, что учебное заведение, куда он попал, как раз такое, о котором он мог только мечтать. «Изучаем, — писал он, — многие специальные предметы, очень интересные для меня. У человека моей будущей профессии должен быть широкий кругозор. Ребята вокруг собрались удивительные. Но мне всегда не хватает тебя. И Телепнева, и комбата, и моих солдат. Но тебя — особенно. И, знаешь, теперь я с. нежностью вспоминаю наш Урулюнтуй, из которого мы так хотели вырваться. Хорошо там служилось, поверь, хорошо!.. А учиться мне тут почти год, если не сократят программу по обстоятельствам непредвиденного характера».
За тот год в моей жизни заметных перемен не произошло, если не считать, что теперь я замещал командира батареи. А наш комбат Титоров выполнял обязанности начальника штаба дивизиона, уехавшего на курсы «Выстрел».
В ту осень — осень сорок четвёртого года, война, по мнению Телепнева, нашего доморощенного стратега, вступала в завершающую фазу. Фашистов изгоняли из Белоруссии, бои шли в западных областях Украины, вот-вот наши войска перешагнут новую линию государственной границы. Тогда-то и получил я второе письмо от Лазарева, самое важное.
Он писал, что с отличием закончил своё учебное заведение, повышен в звании и — тут шло иносказание — очень скоро настанет для него главный бой, к которому он готовился всю жизнь. Вместе с опытным офицером он будет отправлен на свой, особый участок нашего фронта. На листке стоял штамп: «Просмотрено военной цензурой».
Но какой цензор, какой посторонний читатель мог понять, о чём идёт речь? Для тысяч молодых офицеров, обучавшихся в то время во многих военных школах, на курсах, в училищах, должен был наступить главный бой, к которому они готовились. Ну, и что из этого? Какая здесь может быть тайна, если фронт каждодневно требовал новых и новых командиров, взамен выбывших? Или фраза: «с опытным офицером отправлен на свой участок нашего фронта». Опять ничего конкретного, составляющего тайну: молодого и неопытного посылают на фронт с опытным. Населённый пункт, откуда посылают, не назван, фамилия опытного офицера тоже, куда именно посылают — не написано: фронт велик — от Белого до Чёрного моря.
Но я — то понял, что всё это означает. А означало это, что Лазарев вместе с опытным разведчиком под чужой фамилией уйдёт за линию фронта. Нашего Забайкальского фронта. И будет вести разведку противника. Будет собирать данные о вооружении и расположении вражеских частей, о их передвижении, чтобы наше командование знало всё это и чтобы они никогда не застали нас врасплох. И границу он перейдёт, возможно, где-то здесь, у нашего огневого рубежа, а может быть з другом месте — кто это знает? Вот это уже тайна, святая военная тайна. Но ясно — и мне было от этого радостно — Костя остался здесь, на востоке, на нашем фронте.
И пока я тут командую батареей, Костя, наверно, уже там, за едва видимыми с нашего боевого рубежа сопками — в Маньчжурии. Может быть, в Хайларе или у самого Хингана, скажем, на станции Якэши или в Бухэду — это уже на перевалах Хингана.
Я до боли в глазах всматривался в эти закордонные синие сопки, когда мы выезжали на боевой рубеж, стереотруба десятикратно увеличивала и приближала камни, рассыпанные по вершинам или сложенные кем-то в пирамидки, колеблемые ветром травы, видел даже орла, сидящего на острой скалистой вершине, но никакой тайны, связанной с Лазаревым, высмотреть не мог.
Иногда я приходил к полковой радиостанции, просил у радиста наушники, слушал эфир. Там неслась чья-то морзянка, условные тире и точки, кто-то открытым текстом просил доставить немедленно запасные части и сельхозинвентарь, потом снова сквозь писк, завывание и треск разрядов шла торопливая отчаянная морзянка. Я спрашивал радиста, что там передают? Кому? Он брал карандаш, быстро записывал, и на бумаге выстраивались колонки цифр, как в задачнике.
— Вот, товарищ лейтенант, — говорил радист, — вот что получается. Шифровка идёт за шифровкой. Ключ к этим шифровкам надо, а ключа у нас нету. Кто ж его знает, какой тут ключ? Это шифровальщики в штабах знают. Секретные, надо полагать, сведения…
Да, секретные, думал я. Сверхсекретные. И я ждал хоть какого-нибудь известия от Лазарева.
И ещё раз получил его. Костя писал, что после «первого боя» он будто заново родился — столько пришлось пережить и увидеть. Но, главное, бой выигран, задание командования выполнено.
Как же мне хотелось приоткрыть эту тайну, разгадать, что за словами «задание выполнено»? Что было с Лазаревым на той стороне? Как выглядит этот город, где выполнял он своё секретное задание? Что, наконец, делал он, какие люди — друзья и враги — его окружали? И какой ценой был выигран этот незримый бой?
Но обо всём этом я мог только гадать.
Перед самым концом войны, в апреле сорок пятого года, Лазарев написал, что вновь направлен на свой участок фронта, что писать ему не следует, он напишет сам, когда позволят обстоятельства.
Передать бы ему, что я буду постоянно думать о нём, вспоминать его, желать ему переменчивого военного счастья. Что если бы мог, то вместе со всей батареей отправился ему на помощь. Теперь у нас в батарее — не то что в сорок первом году! — есть и противотанковые ружья и пулемёты, и автоматы в каждом расчёте. Да, с таким сопровождением Лазареву работалось бы спокойно. Нас тут — армия, фронт, с академиками-генералами,[3] с танками, пушками, связью, с интендантами и поварами, соседями справа и слева. А ведь он там один, совсем один среди врагов. Ну, может быть, их двое или четверо — группа, как говорится в военных документах. И не поможешь им, не пошлёшь даже привета. И никто не может помочь — ни я, ни командир полка, ни даже командующий фронтом. Разведчик работает один, безымянный, известный лишь тому, кто его послал.
Но мы пойдём по твоим следам, Костя. Уже скоро. Об этом мы знали по многим происходившим у нас на Востоке переменам. Нам дали первую фронтовую норму довольствия. Первую, высшую — мы теперь становились вроде бы главными силами. В наши гарнизоны стали прибывать полки, отвоевавшиеся на западе. Они выгружались на глухих разъездах и уходили куда-то в сопки, поближе к боевым рубежам. На учениях, вместо надоевшей обороны, отрабатывались темы наступательного боя в горах, в пустынной местности, в населённом пункте.
И пришёл день, принёсший известие, в которое мы как-то не сразу поверили. Я готовился к занятиям с сержантами батареи по совершенно новой теме «Форсирование водной преграды», когда кто-то забарабанил в дверь, закричал непонятно тревожащее. И вслед за этим отовсюду послышались другие крики и началась стрельба. Бахали винтовки. Автоматы разлили свои разрывные трели. Пистолеты отрывочно били там и сям. А дверь просто разламывали.
«Ну, началось, — решил я, вскочив и затягивая ремень. — Но как-то странно началось. На нас напали? Откуда? Десант? Не иначе, воздушный десант. Сколько ни готовились, а самое начало, кажется, проморгали. Немедленно — в батарею!»
Я вылетел из землянки с пистолетом в руке и чуть не сбил с ног ефрейтора Бунькова, моего нового связного. Буньков орал во всё горло что-то радостное, гоготал, размахивал руками, закатив узенькие свои глаза.
«Свихнулся, не иначе. От страха. Первая жертва в батарее».
Я схватил его за борт распахнутой шинели, дёрнул изо всех сил:
— Ты что? Струсил? Марш за мной, бегом!
— Товарищ лейтенант, куда марш? Зачем? Кончилась война!
— Как так кончилась? Не может быть! — сказал я уверенно.
— Только что передали. Я за вами побежал, в батарее что делается, посмотрели бы? Все стрелять стали. Салютуют.
— Значит, кончилась говоришь? — тихо переспросил я и почувствовал, что по моему лицу текут слёзы.
Где-то далеко в городах и посёлках праздновали Победу, торжествовали; в мае, в июне, в июле стали возвращаться по домам отвоевавшие солдаты, а у нас к августу всё было готово к новой, к нашей дальневосточной войне.
13
Наступило девятое августа 1945 года. Всю ночь мы шли через степь к новому нашему рубежу. Он был на берегу Аргуни, близ бывшего казачьего караула, а теперь большого села Старого Цурухайтуя. Никогда не видел я столько войск, сколько скопилось их тут на рассвете. Танки, артиллерия — конная и на механической тяге, понтонные части и прожектористы, автомашины, брички и солдаты-пехотинцы пятью колоннами подходили к реке. Над нами с мерным гулом проплыла эскадрилья бомбардировщиков — девять самолётов, — пошли бомбить противника. Над переправой, охраняя нас с воздуха, ревели, носились истребители. Сапёры стали наводить понтонный мост. В ожидании очереди на форсирование наша батарея развернулась на берегу в боевой порядок, чтобы открыть огонь, если появится враг. Но на другом берегу на этот раз не было видно ни одного японца.
Я спустился к реке, прохладной, в камышах, курящейся кое-где лёгким туманом. Из-за дальних сопок вставало солнце, отражалось, вспыхивая в реке, окрашивало тускло-серую воду в розовато-кровавый цвет.
И вдруг с того, пустынного ещё берега я услышал слабый крик. Показалось? Но крик повторился. Я всмотрелся и даже без бинокля увидел двух странных людей. Сначала не понял — что в них так меня удивило? Они что-то кричали, махали призывно руками, и отчётливо я услышал:
— Перевезите! Э-э-й! Товарищи! Своих перевезите!..
Их заметили, ко мне стали подходить солдаты и офицеры, появился Титоров, недавно стал он капитаном и был утверждён начальником штаба нашего дивизиона.
— Что за люди? — спросил он.
— Сам не знаю, товарищ капитан. Перевезти просят…
— Немедленно лодку, — приказал Титоров сержанту. — И срочно позовите офицера из «Смерша». Быстро!..
Вскоре лодка с тремя автоматчиками взяла странных людей и поплыла к нам. Едва, раздвинув камыши, она ткнулась в берег, я понял, что поразило меня в тех неизвестных людях, — они были в довоенных гражданских костюмах! И среди наших защитных гимнастёрок, офицерских кителей, шинелей, пилоток, фуражек выглядели на редкость странно. Захотелось их тут же переодеть, чтобы приобрели нормальный вид. Во все глаза мы разглядывали эту странную пару. Один, постарше, так уверенно выпрыгнул из лодки, будто вернулся к себе домой. Был он в тёмно-синем пальто с подставными плечами, модными в довоенные времена, в расстёгнутой белой рубашке, давно не стиранной, обнажавшей сильную грудь, без головного убора, чёрные волосы его были не то кудрявы, не то специально завиты в колечки. И что-то настораживало в его лице неуловимо восточное, пожалуй, узковатые азиатские глаза, быстрые, всё замечающие, как у Лазарева. Он сразу же подхватил из лодки туго набитый заплечный мешок, перекинул лямку через плечо, в руках у него оказалась арисака — японская винтовка, хорошо знакомая мне по книге «Вооружение японской армии». Но больше всего меня почему-то удивили его туфли: чёрные, лакированные, совсем новые, в таких щеголяли модники на довоенных танцплощадках. Ни у меня, ни у моих товарищей, живших тогда на студенческую стипендию, таких туфель никогда не было. Должно быть, этот тип надел их в лодке.
Его напарник — высокий, с белёсым мальчишеским ёжиком, в сером пиджаке и сильно измятых брюках, боязливо озирался, губы его мелко дрожали, то ли от холода, то ли по другой причине. Был он здоровенным, но нескладным и большие свои руки держал в карманах.
— Оружие! — приказал Титоров, как только выбрались они из лодки.
Чёрный дружески усмехнулся, глядя Титорову прямо в глаза, но винтовку не бросил, почему-то медлил.
«Не понимает», — подумал я и громко произнёс фразу, отработанную ещё вместе с Лазаревым:
— Томарэ, буки о сутэро![4]
Чёрный удивлённо взглянул на меня, сказал:
— Значит, и у нас появились знатоки японского? Ну, что же, бери, капитан, — и протянул Титорову винтовку. — Теперь она не нужна…
Его товарищ вынул из кармана кольт и, держа за ствол, отдал мне.
— Кто такие? Откуда? — властно спросил Титоров.
— Разведчики, — устало сказал чёрный. И добавил: — Я такой же капитан, как ты, только другой службы. Прикажи, прошу тебя, доставить нас на ближайшую погранзаставу.
— Разберёмся, какие вы разведчики, — с недоверием сказал Титоров. — Что в мешке?…
— Пожалуйста, смотрите, — вежливо произнёс чёрный и вытряхнул из мешка бельишко, какую-то одежду, среди которой я успел заметить синий китайский халат, пару войлочных туфель, несколько пачек заграничных сигарет, никогда нами прежде не виданных, и коробочку красного цвета, испещрённую иероглифами.
Коробочка Титорова заинтересовала.
— А это что? — спросил он.
Чёрный стремительно схватил коробочку, спрятал в карман:
— А это, товарищ капитан, я могу показать только своему начальству. Вам показать не имею права.
— Ну и ладно, — мягко сказал Титоров, впервые дружески улыбнувшись. Видно, поверил, что перед ним наш разведчик, и добавил ободряюще: — Теперь у вас всё будет в порядке!..
— Какой там порядок, — горько сказал разведчик. — Было нас четверо. Трое погибли, остался один я. Он-то, — разведчик кивнул на своего напарника, — он-то из русских эмигрантов. На нас работал. Больше нельзя было ему оставаться там. К нам вот пришёл, боится ещё: столько вокруг людей — и все красные. Не бойся, Коля, плохого тебе не сделают. Тут все свои…
Солдаты, окружавшие нас, молча, с любопытством смотрели то на этих двоих, то на Титорова, всё ещё сомневаясь, не зная, верить или нет.
А пришедший из-за границы Коля никак не мог унять дрожь, видно, сильно замёрз в камышах, на том берегу.
Подошёл офицер из «Смерша», спросил:
— Эти? Чем докажете, что наши разведчики? А если вы оттуда разведчики?
Чёрный повторил требовательно:
— Доставьте нас на ближайшую погранзаставу. Я такой же капитан, как и вы. Кому положено знать, тот подтвердит. Все мои товарищи погибли. — И опять, как во сне. — Нас было четверо…
— Хорошо, — спокойно согласился офицер. — Пойдёмте со мной.
И они пошли, за ними солдат с винтовкой системы арисака.
Тут меня будто иглой пронзило страшное предположение. Я кинулся им вслед, догнал, с налёту спросил разведчика:
— Лазарев с вами был? Скажите! Лазарев Константин Петрович. Это мой друг…
Я увидел усталые глаза разведчика, в самой их глубине мелькнула какая-то затаённая мысль, губы его дрогнули:
— Лазарев? Не знаю такого. Со мной были Петров и Константинов. Эх, какие были ребята!..
Ничего больше я спросить не успел, сзади раздалась команда:
— Вторая батарея на форсирование!
— Савин! Где комбат Савин? — услышал я голос Титорова и побежал к нему. — Давай, быстро, батарею на форсирование!
Начинался новый этап нашей жизни, и меня поглотили новые заботы.
Я вскочил в кабину грузовика, где в кузове сидели разведчики взвода управления, которым когда-то командовал Лазарев, сказал Обжигину:
— Давай вперёд! Держи к переправе…
Обжигин лихо вырулил и по накатанной уже колее повёл машину к понтонному мосту, который колыхался поперёк реки. Я приоткрыл дверцу, оглянулся, высунувшись из кабины. Вся батарея вытягивалась в колонну вслед за нами. В стороне стояла полевая кухня. Я увидел Лиду. Вместе с хозяйственным взводом она тоже готовилась перейти реку в арьергарде нашего полка. У самого моста меня задержал регулировщик, дав знак остановиться: пропускали роту автоматчиков. Впереди шёл невысокий старший лейтенант, чем-то знакомый. Я вгляделся и узнал Сашку Прибыткова, моего земляка. Кажется, здесь были все, кто долгие годы служил в наших пограничных гарнизонах, ожидая этого часа, — все шли на войну с японцами, и только Лазарева не было с нами.
Когда мы оказались на чужом берегу, я едва не выскочил из машины и не побежал обратно, к погранзаставе, куда увели разведчика с его напарником. О чём же я — дурная голова! — спрашивал? Да ни один разведчик не посылается на задание под своим именем! У них имена чужие и биография, так называемая легенда, тоже чужая, придуманная или у кого-то взятая, для маскировки. Какой же мог быть на той стороне Лазарёв? А Константинов? Или Петров? Скрытое, затаённое сходство было в этих фамилиях, в их тайной близости Константину Петровичу Лазареву, ушедшему раньше нас за эту пограничную реку, к тем дальним сопкам, на которых, я уже знал, укрепились самураи. По этим сопкам нашей батарее предстояло вскоре открыть огонь, а роте старшего лейтенанта Прибыткова пойти на их штурм…
… Когда я вернулся с той короткой и стремительнопобедной войны — она вошла потом в историю Великой Отечественной как Маньчжурская наступательная операция, — то сразу же стал искать Лазарева. Из города Барнаула не пришло никакого ответа. Военные архивы и штабы, куда я обращался, неизменно отвечали, что сведениями о Лазареве не располагают. Наконец, через несколько лет, судьба привела меня в Барнаул. Дом номер шестнадцать на улице Сизова я не нашёл, его снесли давным-давно, домовая книга в архиве горкомхоза не сохранилась. Из Лазаревых, интересовавших меня, в городе никто не проживал. И сколько я потом ни искал Лазарева по разным городам — не нашёл до сих пор.
Остаётся добавить, что каждый год в День Победы, когда наступает Минута Молчания и мы стоим рядом с отставным инженер-полковником Телепневым, устремлённые в прошлое, я вижу зааргунские степи, по ним идёт — нет, не наш полк в составе огромной армии, а крошечная группа из четырёх человек. В ней Константинов и Петров, очень похожие на Лазарева, сам Лазарев и наш начальник штаба, бывший комбат Титоров, убитый под городом Хайларом при штурме высоты Обо-Ту. Какие это были ребята!.. И рядом с ними, улыбаясь мне из дальнего далека, стоит в своём синем берете со звездой Лида Ёлочкина. Её сразил осколок снаряда, когда она с термосом за плечами пробиралась на наблюдательный пункт нашей батареи.
Леонид Млечин Картины города при вечернем освещении
— Пока доберемся, совсем стемнеет, — озабоченно пробормотал Касуга. Он включил фары и прибавил газу.
Снопы света выхватили из сумрака ровную дорогу. Вокруг сразу стало темней, редкие крестьянские домики, мелькавшие по обе стороны шоссе, слились с черными квадратами полей, небольшими рощицами. Имаи равнодушно смотрел прямо перед собой: разглядывать скучный пейзаж не было ни малейшей охоты. Поля, домики, опять поля. Чуть отъедешь от Саппоро — и уже в деревне; дороги узкие, машин почти нет. После переполненного Токио чувствуешь себя как в пустыне. Имаи зевнул и украдкой взглянул на своего спутника: Касуга, положив обе руки на руль, уверенно вел машину, снижая скорость на поворотах и вообще соблюдая все правила. «Касуга всегда спокоен, — подумал не без раздражения Имаи, — впрочем, кто родился и вырос на Хоккайдо, все такие. У них за зиму чувства отмерзают». Когда Имаи несколько месяцев назад приехал в Саппоро, то еще застал настоящую, не токийскую зиму; морозы несколько дней стояли жестокие, ртутный столбик на градуснике за окном полицейского управления упорно держался на двадцати градусах ниже нуля, и Имаи сильно мерз. Теперь и на Хоккайдо пришло лето, но Имаи не мог без содрогания вспоминать об ушедшей зиме.
Стрелка спидометра качнулась вправо, и сразу же надоедливо запищал сигнал, замигала красная лампочка.
— Выключите вы его, — взмолился Имаи.
Касуга ухмыльнулся.
Установленные вдоль дороги «незримые полицейские» — электронные датчики — сигнализировали водителям о превышении скорости. Соответствующие приемные устройства полагалось устанавливать на всех машинах, но зачем они полицейским автомобилям, Имаи понять не мог. Чистый формализм.
— В этом году резко увеличилось число дорожных происшествий, слишком много людей гибнет на дорогах, — как всегда, обстоятельно объяснил Касуга. — Полицейские тоже иногда злоупотребляют своим положением, особенно патрульная служба.
Имаи уныло вздохнул: до чего же скучный человек, от его рассудительных речей мухи дохнут. «Один из лучших инспекторов, богатейший опыт, — так характеризовали Касуга в штабе полиции префектуры Хоккайдо. Вам интересно будет с ним поработать». Как же! Имаи полез в карман за сигарами, вспомнил, что Касуга не курит, секунду колебался, потом все же решился. Касуга, не глядя на него, выдвинул пепельницу и приоткрыл окно.
Вечерняя прохлада скользнула в машину, свежий воздух обдувал лицо. Имаи поудобнее откинулся в кресле, высоко поднял подбородок, сигара оказалась где-то на уровне глаз. Хорошие голландские сигары замечательная штука, хотя они не прибавили ему друзей в штабе полиции, где не курят ничего, кроме популярных в Японии сигарет «Севен старз» и «Майлд севен». Ну да ничего. Конечно, отношения с людьми необходимо поддерживать («„Хьюман релейшенз“[5] и полиция» — так назывался курс лекций, прочитанный слушателям полицейской академии чиновником из ФБР), но поди установи добрые отношения с человеком, который старше тебя на двадцать лет, а до сих пор всего-навсего инспектор и инспектором уйдет на пенсию. Имаи покосился на золотую нашивку на околыше фуражки Касуга. Сам Имаи ходил только в штатском: во-первых, не любил форму, во-вторых, две звездочки на петлицах — инспектор полиции — раздражали людей типа Касуга, которые до тридцати лет ходили в простых полицейских. А Имаи только что двадцать семь исполнилось.
Касуга переключил фары на дальний свет. Стемнело окончательно. Одно за другим гасли окна домов, подобравшихся к самой дороге. Крестьяне ложатся рано.
— Долго еще? — спросил Имаи.
— Вот огни впереди, — показал Касуга, — это магазин. За ним километрах в десяти дом этого, которого ограбили.
Местное отделение полиции обратилось за помощью к городскому следственному отделу, столкнувшись с трудной задачей. Хозяин дома, в прошлом владелец небольшой фабрики, одинокий человек, вернувшись из города, нашел свой дом ограбленным. Полицейские не могли найти никаких следов.
Касуга сделал резкий поворот, чтобы съехать к мосту через мелкую речушку. Имаи, ухватившись за подлокотник, вдруг вскрикнул:
— Смотрите!
Прямо на шоссе, буквально в нескольких метрах перед ними, неподвижно стоял человек.
Свернуть было некуда: узкая дорога была сооружена на высокой насыпи и с обеих сторон круто обрывалась вниз. Касуга резко нажал на тормоза.
Имаи зажмурился, услышав глухой стук удара… Машина наконец остановилась. Касуга выскочил на шоссе. За ним вылез Имаи.
Он обошел вокруг машины. Бампер погнут, левая фара разбита, капот залит чем-то темным. Имаи потрогал рукой — кровь.
— Имаи-сан! Возьмите у меня под сиденьем фонарь.
В луче фонаря Имаи увидел распластанное на земле тело. Машина с такой силой ударила человека, что он отлетел на насыпь. Имаи поднял фонарь повыше. Лицо было спокойно, даже невозмутимо. Или Имаи показалось?
Касуга встал с колен.
— Мертв. Ещё бы, он даже не пытался увернуться.
— Может быть, слепой? Или глухой? — предположил Имаи.
Касуга подошел к машине.
— У меня есть вспышка. Пойду сфотографирую. А вы вызывайте по рации «скорую» и дорожную полицию. Во-первых, нас ждут свои дела, во-вторых…
Имаи понял, что имел в виду его напарник: Касуга, видимо, вообще до выяснения обстоятельств дела отстранят от службы. Убить постороннего человека в перестрелке с преступниками — такое случается. На это главное управление иногда закрывает глаза. Но сбить человека, и даже не во время погони…
Имаи зябко повел плечами. Между тем Касуга уже фотографировал машину и участок дороги.
— Связались с полицией?
— Сейчас будут.
Касуга тщательно упрятал фотоаппарат, уселся в машину, положил руки на руль. Имаи заметил, как дрожат его пальцы.
— Почему он все же не двинулся с места? — не выдержал Имаи.
— Я и сам не пойму. Он стоял прямо за поворотом, и мы его заметить не могли. Но он-то должен был видеть свет фар, слышать шум мотора.
— Что-то здесь неладно, — покачал головой Имаи.
— Да нет, я виноват… — Касуга отвернулся. — Должен был притормозить перед поворотом, а шел с превышением скорости. Вот и все. — Он замолк.
Имаи не нашелся что возразить. «Но ведь мы действительно не виноваты, — размышлял он, — это какая-то случайность. Парень, может, сумасшедший. Или пьян был, что ли?» Теперь убитый не вызывал в нем жалости, а только раздражение.
Патрульная машина, а вслед за ней и «скорая» примчались под звуки сирен и перемигивание световых маячков. Старший полицейский, явно смущенный ситуацией, в которой он оказался, откозырял:
— Здравствуйте, Касуга-сан! Что случилось?
Пока инспектор подробно рассказывал, два санитара принесли на носилках труп. И опять Имаи стало не по себе от безмятежного выражения, которое сохранило лицо сбитого ими человека.
— Проверьте его обязательно на алкоголь, — крикнул врачу Касуга.
«Скорая» развернулась и уехала.
Старший полицейский — он не переставал кивать, слушая Касуга, — явно был не в восторге от свалившейся на него заботы. Обычное дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом не смутило бы его, но инспектор полиции в роли виновника — такое на его памяти в первый раз. Он поминутно снимал фуражку и вытирал пот. Касуга заставил его облазить весь участок дороги, показал, где лежал пострадавший, вынул и отдал пленку из фотоаппарата.
Когда инспектор закончил объяснение и официально попросил разрешения покинуть место происшествия, старший полицейский почувствовал облегчение.
Безучастно державшийся в стороне Имаи тоже хотел как можно скорее уехать отсюда. Мрачные фигуры полицейских, мелькавшие в ярких лучах фар и пропадавшие во мраке, так и не выключенная водителем патрульной машины мигалка — все действовало на нервы, рождало какое-то тревожное чувство. За два года службы после академии кровь он видел не раз, но преступление всегда было как бы по другую сторону от него, относилось к иному миру. Теперь все спуталось. Кто здесь преступник? И есть ли он вообще?
— Вы что, знаете этого полицейского?
— Да, он работал у меня в отделении, — ответил Касуга тем же ровным тоном. — Он уже пятнадцать лет в полиции.
— А-а, — вяло откликнулся Имаи.
В деревню они приехали за полночь. Весь следующий день провозились с расследованием ограбления. Дело шло туго, следы частью стерли, частью попортили сами полицейские и побывавшие в доме любопытные. В довершение ко всему было жарко. Имаи ходил весь потный, принять душ было некогда, и он злился. Его модный костюм, синий в полоску, потерял всякий вид, воротничок рубашки стал коричневым, манжеты запачкались, пришлось закатывать рукава.
Все же кое-что удалось выяснить. Касуга вспомнил, что брат одного из местных жителей — рецидивист, грабитель. Кто-то из соседей видел его в тот день в деревне. За эту ниточку уже можно зацепиться. В суете Имаи даже забыл о ночном происшествии и вспомнил о нем, лишь когда вернулся в Саппоро.
Утром, едва он появился в управлении, его вызвал начальник следственного отдела. Но, открывая дверь кабинета, Имаи уже знал о рапорте Касуга. Вину инспектор брал на себя и просил отстранить его от дел до выяснения всех обстоятельств и вынесения решения руководства.
— Дурацкая история у вас там вышла, — недовольно пробормотал начальник следственного отдела, с ненавистью глядя на газеты, которые уже успели сообщить о ночном инциденте. — Для префектуральной полиции большая неприятность. На носу выборы, оппозиционные партии обязательно используют этот случай. Как это Касуга так оплошал! — Он покачал головой. — Столько лет в полиции… В прошлом году получил орден «Восходящего солнца». — Теперь только он соизволил предложить Имаи сесть. — Пришлось включить этот случай в сводку. Начальство уже высказало недовольство, — пожаловался он Имаи. — Знаете что, возьмитесь за это дело, а? Вы все сами видели, вам и карты в руки. — В его словах проскользнула просительная нотка.
— Я лично уверен, что Касуга ни в чем не виновен, — начал Имаи.
— Ну и прекрасно! Остается только убедить в этом начальство, улыбнулся начальник следственного отдела. — Вам это удастся лучше чем кому бы то ни было.
Начальник отделения полиции, на которого свалилось ночное происшествие, с надеждой смотрел на Имаи. Прибытие инспектора из Саппоро снимало с него ответственность.
Заключение медэксперта ничего не прояснило; погибший не страдал слепотой или глухотой, не был пьян и не находился под воздействием наркотиков. Самоубийца?
— Никаких документов при нем не было?
Начальник отделения отрицательно покачал головой.
— Кроме носового платка, в карманах ничего.
— И никаких зацепок, чтобы определить, кто он?
— Пока ничего. В принципе послали отпечатки пальцев в центральную картотеку, но это вряд ли что даст, если он никогда не привлекался. Раздали фотографии всем полицейским, они попробуют расспросить в округе. Заявлений от жителей еще не поступало.
Имаи поднялся. Прощаясь, начальник отделения козырнул:
— Если мои люди могут быть чем-нибудь полезны…
Потом Имаи часа полтора гулял по улице. Курил, рассматривал витрины лавочек, соблазнился выставленным в одной из них свежим тунцом и решил угоститься суси — сырой рыбой. Пожилой владелец лавчонки мигом положил перед ним большой лист какого-то растения, принес горячую влажную салфетку — протереть лицо и руки, поставил сосуд с соусом, слепил колобок из вареного риса, положил сверху кусочек сырого тунца, взялся за новый колобок.
Имаи ел медленно, окуная суси в соус. Он не торопился.
Уже вечером зашел в отделение, где, скучая, его ожидал совсем молоденький полицейский, выделенный ему в помощь. Имаи решил выехать к месту, где их машина сбила человека, после наступления сумерек, чтобы точнее восстановить картину случившегося.
Он сам уселся за руль.
— А что у вас говорят по поводу этой неприятной истории?
— Разное, господин инспектор, — осторожно ответил полицейский. Он, разумеется, и вечером не снимал черных очков, а козырек фуражки надвигал на самые глаза, подражая героям американских боевиков. — Кто говорит, что тот парень был не в себе. После выпивки… А кто наоборот…
— Ну-ну, не стесняйся, — подбодрил его Имаи, не спуская глаз с дороги.
— Кое-кто считает, что инспектор Касуга позволил себе… в общем, был нетрезв.
Имаи сбавил скорость: они подъезжали к злополучному повороту.
— В том-то и дело, что ни тот, ни другой не пили. И это единственное, в чем я уверен.
Имаи остановил машину, и они вылезли. Все было, как в ту ночь. Никаких машин на дороге, тишина. Только за мостом светятся огоньки в деревне. Имаи подошел к тому месту, где стоял убитый. Молодой полицейский с любопытством наблюдал за ним.
Имаи хорошо видел весь изгиб дороги, который не скрывали от него редкие деревца, высаженные вдоль обочины. Он недоверчиво покачал головой: машину можно было увидеть заранее, у человека на дороге оставалось несколько минут, которых с избытком хватило бы на то, чтобы избежать опасности. В медицинском заключении сказано ясно: пороков органов чувств нет. Следовательно, видел и слышал нормально. Головной мозг тоже без опухолей и гематом. Конечно, это не гарантия психического здоровья, но все же…
Он прекрасно понимал, что Касуга не повинен в смерти этого человека. Но чтобы все поверили, нужно ясное и четкое объяснение того, что здесь произошло. Необходимы доказательства вины самого погибшего. Иначе на полиции все равно останется пятно. Касуга не был ему симпатичен, Имаи тянулся к людям, которые легко достигали успеха, заставляли других уступать им дорогу. Касуга, чуть не всю жизнь просидевший на одном месте, к этой категории не принадлежал. Но понятия корпоративной чести были для Имаи не менее важны.
На шоссе раздался гул мотора. Имаи мгновенно отогнул рукав пиджака на левой руке и засек время. По фосфоресцирующему циферблату бежала секундная стрелка. Когда машина подошла к повороту, яркий свет брызнул инспектору в глаза. Он даже не сразу сообразил, в чем дело: свет фар отражался от большого рекламного щита, установленного рядом с дорогой.
Теперь машина ехала прямо на него. Немного выждав, он отступил и посмотрел на часы: две с половиной минуты было у убитого.
Махнув рукой нечего не понявшему полицейскому, Имаи сел в машину.
— У меня к вам просьба, — сказал он полицейскому, — займитесь с завтрашнего дня поисками водителей машин, которые проехали по этой дороге в тот день непосредственно перед нами. Может быть, кто-то из жителей деревни, еще кто-нибудь… Посмотрите по карте, куда вообще ведет эта дорога.
* * *
Аллен сел в такси первым. За ним скользнул Росовски.
Шофер, положив на руль руки в безукоризненно белых перчатках — такими же чистыми были чехлы на сиденьях, — повернул к ним голову.
— «Таканава принсу хотэру», — приказал Росовски. И повторил по-английски: — Отель «Таканава-принц».
— Как вы и просили, — он говорил уже Аллену, — мы заказали вам номер в гостинице, где всегда масса иностранцев.
Аллен кивнул, глядя в окно. Его сухое узкое лицо в квадратных очках, малоприятная манера не смотреть собеседнику в глаза сразу же не понравилась Росовски. Он хорошо знал этот тип людей: не считают нужным здороваться, слушать собеседника или хотя бы делать вид, что слушают. Они замечают тебя, только когда ты им нужен. Зато очаровательно улыбаются начальству.
— А почему, собственно, вы не ездите на своей машине?
— От аэропорта до гостиницы добрых полтора часа, дорога обычно забита. Удобнее всего на рейсовом автобусе, но я подумал, что вам это не понравится. Я-то всегда так делаю: сдаю багаж на автовокзале и налегке еду автобусом. Никаких хлопот, дешево и стопроцентная уверенность, что не опоздаешь из-за пробок.
Аллен уже не слушал его. Отвернувшись, он лениво смотрел в окно. За высокими щитами, разделяющими дороги — ночью это спасало водителей от ослепления светом фар, — стремительно несся встречный поток.
— В экономике они нас скоро обштопают, эти япошки, а ведь это мы им все дали и всему научили. Они производят автомобилей больше, чем мы. К тому же наводнили Штаты своей продукцией. Их автомобили такие же юркие, пронырливые, как и они сами. Пора нам что-то предпринять.
— Таможенные рогатки не помогут, — покачал головой Росовски, — они предусмотрели такую возможность. Вступают в долю с американскими производителями автомобилей, строят у нас заводы. Автомобиль сделан на американской земле руками американских рабочих, заплатят за него тоже не иенами, а долларами, но денежки-то окажутся в японских карманах.
Аллен не ответил. Он больше не обращал внимания на собеседника. Росовски обругал себя и дал себе слово обходиться предельно короткими ответами.
Водитель то и дело притормаживал, чтобы просунуть в окошко деньги, участки дороги принадлежали разным компаниям, и каждая взимала плату за проезд.
— Приличная сумма набегает, — пробормотал Аллен. Пятизначная цифра на счетчике такси с непривычки произвела впечатление. — Дорога жизнь в Японии?
— Дешевле, чем в Штатах. — Росовски сумел удержаться в пределах минимально необходимой информации.
Наконец они были в городе. Росовски прожил здесь много лет и ревниво следил за гостем: понравился ему Токио или нет?
— Как все-таки этот город характерен для японцев! — Аллен снял очки и стал тереть глаза. — Для их постоянного стремления соединить несоединимое, взять наше, но и сохранить свое. Чисто американский конструктивизм и азиатская пестрота. Но во всем должно быть прежде всего внутреннее единство, изначальная логика вещей. А здесь нет логики, сплошная эклектика, разнородные элементы не могут слиться воедино. Бетон и стекло на месте в Лос-Анджелесе, а азиатская пестрота, экзотика… Да здесь ее почти не осталось. Вы бывали в Гонконге?
Прежде чем Росовски успел ответить, Аллен заключил многозначительно:
— Восток — это Восток, Запад — это Запад, и вместе им не сойтись.
Росовски с удивлением посмотрел на него. У японистов эта цитата была не в моде. Но и Аллену следовало бы, во-первых, цитировать Киплинга точно, во-вторых, понимать, что поэт вовсе не стремился противопоставить Запад и Восток. Достаточно внимательно дочитать стихотворение до конца, чтобы убедиться в этом.
Росовски не понравилось, что Аллен, впервые приехав в Токио и не успев как следует оглядеться, заявил, что не в восторге от города. Такая безапелляционность, по мнению Росовски, не свидетельствовала о большом уме.
Росовски вообще не мог понять, как можно рисковать браться за японские дела, не зная языка. Таких неучей теперь в дальневосточном отделе управления хоть пруд пруди. Они, видимо, вслед за одним иезуитом, приехавшим в Японию в 1549 году, считают, что этот сложный язык — дьявольские козни.
«Впрочем, — подумал Росовски, — даже примитивное знание языка, которое дает разведшкола, — лишь первая ступенька в постижении Японии. Но большинство так и не вступило на вторую. Заучи хоть словарь целиком, все равно ничего не поймешь, если не научишься думать, как японец, шиворот-навыворот, — усмехнулся Росовски. — Американцы же не только не научились думать, как японцы, но ошибочно решили, что японцы думают так же, как они. Американцы придают большое значение словам, японцы считают более важным то, что остается невысказанным. Употребление слов — своего рода ритуал, который не всегда можно воспринимать буквально. Достаточно один раз сходить в театр Кабуки или Но, чтобы понять: важнейшее средство коммуникации у японцев не слова, а жесты, выражение лица. Вся беда в высокомерии жителей Запада, — продолжал рассуждать Росовски, — к тому же они обманываются внешней американизацией Японии. Видят токийские небоскребы, компьютеры, суперэкспресс „Синкансэн“ и полагают, что японцы вместе с технологией усвоили и западный образ мышления. Ничто не может быть более далеким от истины. И дело не в примитивном противопоставлении Запада и Востока. Японцы просто другие».
Пока он рассчитывался с шофером, появился носильщик в форменной красной куртке с тележкой, на которой покатил багаж Аллена.
Несколько минут ушло на формальности, затем Аллен получил ключ от номера.
— Полчаса вам хватит? — спросил Росовски.
— Конечно.
— Я буду вас ждать здесь. Если не возражаете, пообедаем вместе.
Аллен кивнул и двинулся к лифту.
Через сорок минут Аллен в твидовом пиджаке и в рубашке без галстука появился внизу. Очень худой, с черной, без единого седого волоска, шевелюрой, он выглядел моложе своих сорока пяти лет. Росовски, которому в этом году минуло пятьдесят три, подумал, что никогда не рискнул бы опоздать на десять минут и сделать вид, будто не заметил этого.
— Мы можем пообедать, не выходя из гостиницы. На выбор — китайская, французская и японская кухня. Я бы…
— Разумеется, японская. Китайскую еду я знаю лучше гостиничных поваров. Французская кухня, как ее здесь представляют, ничем не отличается от стандартной американской.
— Прошу.
Аллен двинулся вперед. Росовски на секунду задержался у выставленных в вестибюле произведений кондитеров отеля. Торт в форме Эйфелевой башни в самом деле заслуживал внимания. «Японцы так часто вспоминают об Эйфелевой башне, — подумал Росовски, — чтобы иметь возможность лишний раз сообщить, что Токийская телевизионная башня выше на несколько метров».
— Пожалуйста, направо.
Наблюдая за Алленом, который не мог оторваться от жаренных в масле креветок, — здесь неплохо готовили тэмпура, — Росовски пытался понять этого человека, которому придется подчиняться. Вчера его пригласил к себе резидент, бодрый и подтянутый, как всегда после бани с массажем — удовольствие, которое резидент позволял себе не чаще двух раз в неделю.
— Джек, вам придется поехать в Нарита встречать нашего гостя Эдварда Аллена. Он приезжает сюда с поручением особой важности. Он японского не знает, в Токио первый раз. Естественно, ему нужна помощь.
— Каков характер задания?
— Аллен сам скажет все, что необходимо… — Резидент произнес это с каменным выражением лица.
Росовски не понял, то ли резидент просто не знал, о чем идет речь, то ли не хотел снисходить до дел, которые казались ему незначительными.
— Здесь довольно мило. — Аллен обвел глазами комнату. Они сидели за подковообразным столом, в центре была небольшая жаровня, и повар жарил нарезанную кусочками рыбу, овощи, грибы и раскладывал по тарелкам. Японская кухня проста, но вкусна.
Росовски определенно не нравилась его манера безапелляционно судить обо всем. Когда Росовски при выходе из ресторана заплатил за обоих, Аллен приятно улыбнулся.
— Вы, вероятно, устали? — начал Росовски. — Все-таки такой длительный перелет…
— Да, я пойду спать, — сказал Аллен. — Заезжайте за мной завтра в восемь. Поедем в посольство. Спокойной ночи.
Он повернулся и пошел к лифту.
Выезжая со стоянки, Росовски вздохнул. За тридцать лет работы в Центральном разведывательном управлении США он перевидал разных начальников. В молодости он относился спокойнее к странностям своих шефов, с возрастом стал более раздражительным. Аллен вызывал в нем только отрицательные эмоции. Росовски и сам не мог понять причину внезапной неприязни.
Самолет австралийской авиакомпании приближался к Токио. Пассажиры надели пиджаки, собрали ручную кладь — портфели, сумки, свертки.
Стюардесса склонилась над креслом в самом хвосте салона:
— Не нужна ли вам помощь в заполнении таможенной декларации?
Молодой человек, по виду японец, покачал головой. Стюардесса нашла, что для азиата у него приятное, хотя и не слишком выразительное лицо.
Она прошла дальше. Рейс был неудачный: у одного пассажира случился сердечный приступ, некоторое время пилот даже обсуждал с землей вопрос о вынужденной посадке. Пожилой женщине стало плохо на взлете, у маленького мальчика разболелись зубы, и он плакал. Этот молодой человек с приятным лицом сидел спокойно, изредка посматривая в иллюминатор. Стюардесса решила, что он служащий какой-нибудь торговой фирмы и в Австралии был в командировке.
Проводив взглядом стюардессу с длинными белокурыми волосами, он вытащил паспорт и, сверяясь с ним, заполнил декларацию. Судя по паспорту, он был гражданином Сингапура. Мысль лететь из Канберры принадлежала его шефу. Въездная виза была выдана японским посольством в Канберре. «Срок пребывания десять дней… Может быть использована в течение месяца со времени выдачи». Дата… Печать… Подпись.
Самолет прилетел поздно ночью. В гигантском аэропорту было очень тихо. Туристы гоготали на весь зал.
Он приметил, с какой неприязнью посмотрел на австралийских туристов иммиграционный инспектор, прикрепляя к его паспорту въездную карточку. Таможенник у стойки с надписью «Для иностранцев» не заинтересовался им, бросив равнодушный взгляд на его аккуратный чемоданчик.
Он вышел в стеклянную дверь, но не сел сразу в такси, а поставил чемоданчик на асфальт и стал наблюдать. К выходившим пассажирам одна за другой подкатывали машины. Потом, словно что-то решив, он подхватил чемоданчик и сел в очередную машину. Судя по надписи, такси принадлежало самому водителю.
Таксист, ничего не спросив, отъехал от стоянки и только тогда, найдя в зеркале заднего обзора лицо пассажира, улыбнулся:
— Здравствуй, Ватанабэ-кун. Долетел нормально?
— Да, все в порядке, — небрежно кивнул пассажир. — Спасибо, Морита-кун.
Таксист вытащил из внутреннего кармана пиджака длинный белый конверт и через плечо протянул пассажиру:
— Здесь билет до Саппоро и деньги. Я отвезу тебя прямо в Ханэда, до самолета не так уж много времени.
— Есть какие-нибудь дополнительные инструкции? — поинтересовался Ватанабэ.
— Пожалуй, нет, — неторопливо ответил таксист, — мы сворачиваем здесь операции. Токийское полицейское управление в последнее время слишком уж активничает, поэтому надо расширить связи с нашими партнерами по всей стране. Сакаи, с которым ты встретишься в Саппоро, контролирует не только остров Хоккайдо, но и весь север Хонсю. С открытием новой курьерской линии Бангкок — Токио нам понадобится много покупателей, не так ли?
Пассажир согласно кивнул.
— В этом году в «золотом треугольнике» соберут колоссальный урожай. Товар уже готов. Причем хорошего качества — «999», «Два дракона», «Олень и петух».
— Японцы предпочитают слабые наркотики, амфетамины. Адская смесь, вроде кхай, который делают из морфия, дросса — субстрата опиума и аспирина, здесь не пойдет.
— Это верно, — согласился Ватанабэ, — кхай убивает человека за год, но хорошо идет в Юго-Восточной Азии.
Больше они ни о чем не говорили до самого аэропорта Ханэда, который обслуживает теперь только внутренние линии и полеты на Тайвань.
— Вот его дом, Имаи-сан! Где машина стоит. Наверное, уезжать собрался. Хорошо, что мы поспели.
Маленький коренастый человек в просторной куртке, с грязными от масла руками, встретил их не очень приветливо.
— Да я же все рассказал!
Однако согласился повторить то, что видел в тот вечер на дороге. Имаи включил магнитофон.
— Я ездил в город, чертовски устал и хотел одного — поскорее добраться домой. Дорога у нас тут пустынная, как вы сами заметили, живем просторно, не то что на Хондо или Кюсю. Водитель я опытный, машина у меня как новенькая. За пятнадцать лет ни разу машину не бил. Если и превышаю скорость, то…
— Мы не из дорожной полиции, — сказал Имаи.
— Ага, ну ладно. В общем, у моста какой-то идиот буквально из-под самых колес отпрыгнул. Я этот поворот хорошо знаю, заранее посигналил. И надо ж — чуть не сбил его! Еле из-под колес ушел, да еще ухмылялся. Хотел я остановиться, да что с такими разговаривать! А зачем он вам нужен?
— Он нам не нужен, — ответил Имаи, — спасибо за рассказ.
Они вышли на улицу.
— Значит, больше никто его не видел?
Молодой полицейский отрицательно покачал головой.
— Он тоже обратил внимание на улыбающееся лицо. На самоубийцу как-то не похоже.
— Словно играл со смертью, — заметил полицейский.
Имаи шел ровным, размашистым шагом, засунув руки в карманы пиджака. Сегодня на нем был серый в красную клетку костюм и голубая рубашка с серо-красным галстуком. Брюки тщательно отутюжены, узел галстука безукоризненный.
Дорожка кончилась тупиком. Они оказались перед великолепно ухоженным садиком. Какой-то человек в кимоно возился в саду.
— Вы ко мне? Заходите.
Имаи вежливо покачал головой:
— Нет, нет, мы просто залюбовались вашим садом. У вас прекрасные цветы, вы, верно, отдаете им все время?
Человек подошел поближе. На вид ему было за шестьдесят. Тонкие черты лица, хорошая осанка, но общее впечатление немного портили вульгарные, как показалось Имаи, усы.
— Позвольте представиться, — человек поклонился, — Ямакава.
Он жестом предложил войти.
— К сожалению, мой сад далек от совершенства. На самом деле я уделяю ему мало времени — только один раз в неделю, в воскресенье, я могу вволю повозиться с цветами. Я всегда любил цветы, но к старости они стали моим спасением от одиночества.
Имаи с восхищением осматривал крошечный садик. Цветы были посажены в какой-то загадочной последовательности, сочетания их были пленительны, на миг Имаи показалось, что он улавливает принцип этой сложной композиции, но тут же пришлось признаться, что не так-то просто ее разгадать.
Ямакава пристально наблюдал за Имаи.
— Вы, я вижу, тоже поклонник прекрасного?
— Но мне, к сожалению, больше приходится иметь дело с безобразным, — ответил Имаи.
Ямакава раздвинул сёдзи — решетчатую раму, оклеенную почти прозрачной бумагой.
— Зайдите.
Имаи и молодой полицейский сняли туфли и, оставшись в одних носках, поднялись по ступенькам.
В небольшой просто обставленной комнате стояло в вазах несколько искусно подобранных букетов. Имаи сразу понял, что перед ним мастер икебана.
— Как видите, сад мне нужен как источник материала для моих композиций. В юности я увлекался стилем нагэирэ. Теперь, вероятно, отошел от всех канонов.
Имаи загляделся на цветы. Ближе к окну стояла высокая ваза из тонкого хрусталя, сделанная в форме устремленного вверх бутона. В ней всего три белые камелии с желтой сердцевиной, узкие сочно-зеленые листья. Главное в стиле нагэирэ — расставить цветы так, будто они не сорваны, а еще продолжают расти. Ни один элемент композиции не должен заслонять другой. Лишние стебли удалены. Предельная лаконичность и выразительность.
— Самое сложное в букете — световой эффект. С какой стороны направить свет? Под каким углом? В искусстве аранжировки цветов свет не менее важен, чем сами цветы. Подбирая букет, я все время думаю, при каком освещении лучше всего на него смотреть.
Имаи словно забыл о цели поездки в деревню. Он был весь под впечатлением того, что говорил и показывал Ямакава.
На маленьком столике Ямакава расположил в деревянной продолговатой вазе со множеством отверстий несколько веточек сосны и цветки сакура.
— Сосна и сакура, как вы знаете, традиционный материал, их используют с тех пор, как появилась икебана. Но видите, они не приедаются, — рассказывал Ямакава. — Простота, скромность и скрытая прелесть. Излишество сразу же сделает композицию бесформенной. Мы, японцы, обладаем способностью видеть красоту в простом, а не в пышном. Не так ли?
Имаи согласно кивал. Он был благодарен Ямакава за несколько минут прикосновения к миру прекрасного.
— Вы не брали уроков икебана? — поинтересовался Ямакава.
— Нет, мои родители были далеки от искусства. Отец всю жизнь занимался медициной, ничто другое его не интересовало, и желал, чтобы дети тоже стали врачами. Но я вот не захотел, а старший брат, хотя и закончил медицинский институт, любит поэзию и сам пишет стихи, — разоткровенничался Имаи.
— Врачи понимают искусство лучше других людей, — сказал Ямакава, — потому что искусство — это психология, а психология близка врачам, которые хорошо чувствуют, что происходит внутри человека.
— Наверное, вы правы, — согласился Имаи.
Ямакава чему-то улыбнулся.
— Посмотрите, сколько в цветах скрытой силы, движения, экспрессии.
Он показал Имаи букет, состоявший всего лишь из одной ветки вишни и цветка камелии, на этот раз красной.
— Представьте себе, что грубая ветка вишни — мужчина, а тоненькая веточка камелии — женщина, и они то сплетаются, то отталкиваются, то прислушиваются друг к другу, то демонстрируют презрение. Драма в цветах, не так ли?
Уходя, Имаи заметил:
— Вам кто-нибудь помогает по дому? Для ваших лет вы слишком много трудитесь.
Ямакава распахнул калитку.
— Видите ли, я считаю, что старость наступает тогда, когда человек начинает беречь себя, приговаривая: «Мне уже много лет, надо поменьше работать». И так в двадцатом столетии люди почти совсем перестали трудиться физически, нарушили извечный баланс: труд — отдых. Если не поработал хорошо, то и отдых бесполезен. В организме, которому не хватает нагрузки, возрастает энтропия — невосстановимое рассеивание энергии. Так вот работа в саду — это борьба с энтропией.
— Забавный старик, — сказал молодой полицейский, когда они сели в машину.
— А чем он занимается? — поинтересовался Имаи.
— Точно не скажу, — пожал плечами полицейский. — Кажется, врач.
«Врач? Охота ему торчать в такой глуши?» — удивился Имаи.
— Отвезти вас в город?
— В город? Нет, давай обратно к мосту. Посмотрим, откуда мог появиться этот несчастный самоубийца.
В Саппоро было чуть прохладнее, чем в Токио, и шел дождь. Усевшись в такси, Ватанабэ спросил у шофера, сколько до города, услышал ответ, удовлетворенно кивнул и откинулся на удобные подушки. Нажал кнопку, стекло немного опустилось, и воздух, пропитанный озоном, приятно освежил его. Уставившись немигающим взором в затылок водителя, он сосредоточенно перебирал в памяти каждый свой шаг с момента, когда в аэропорту Ханэда расстался с Морита. Ватанабэ был одним из курьеров, нелегально провозивших в Японию наркотики. В чемоданчике, оставшемся в машине Морита в Токио, была очередная порция героина, который предназначался для местных торговцев наркотиками. И хотя он уже отделался от груза, напряжение не спадало.
Испортившаяся погода согнала с улиц людей. В сравнении с Токио столица острова Хоккайдо показалась ему сонным царством. Вечерний город был пустынен. «Саппоро гранд-отель», старое мрачноватое здание, ему неожиданно понравился. В отличие от неуютной атмосферы токийских стеклобетонных громадин, спокойная тишина гостиницы располагала к душевному покою.
У стойки минутное напряжение — надо заполнить регистрационный бланк. «Ватанабэ Ёсинори… служащий… „Санва гинко“… десять дней». Взгляд на клерка, взявшего бланк. Вроде все в порядке.
— Мне нужно арендовать машину.
— Пожалуйста.
В номере взял из холодильника маленькую бутылочку сока, открыл, сделал небольшой глоток, вытащил упакованный в целлофановый пакет набор сушеных рыбных закусок, пожевал. Переодевшись в лежавшее на постели юката — легкое летнее кимоно, отправился в ванную. Потом лег в постель и тут же уснул.
Ватанабэ в этом году исполнилось тридцать пять. Десять лет, почти треть своей жизни, он занимался наркотиками. Он был одним из немногих удачливых курьеров: за десять лет ни одного ареста. Он сам поражался своему везению. Обычно курьер не работал больше двух лет. Полиция ловила его, и венцом карьеры была либо смертная казнь, либо длительное тюремное заключение, в зависимости от законов страны, где его арестовали. Однако недостатка в курьерах бизнес на наркотиках не ощущал: прикосновение к этому товару сулило невиданные, фантастические барыши.
На стыке территорий Таиланда, Бирмы и Лаоса, в труднодоступной гористой местности живущие там племена яо, мео, акха, лису, качин выращивают опиумный мак. Эта опиумная кладовая мира и называется «золотым треугольником», хотя наркотики значительно дороже любого из драгоценных металлов. Тем, кто выращивает мак, сборщик опиума платит за килограмм опиума-сырца 50 — 100 американских долларов. Килограмм героина (в который перерабатывают опиум-сырец тайные лаборатории прямо в «золотом треугольнике») продают в США за 100 тысяч долларов. Килограмма героина (он попадает наркоманам уже не в чистом виде, а смешанный для веса с сахаром) достаточно для 20 тысяч инъекций. Таким образом, урожай, снимаемый в «золотом треугольнике», обходится наркоманам почти в 8 миллиардов долларов. Ватанабэ всегда поражался прибылям, которые оседали в карманах хозяев этого бизнеса. Но кое-что перепадало и им, простым курьерам.
Масару Имаи окружающие, за редким исключением, не любили. Высокомерный, независимый, резкий, он не слишком располагал к себе. Однокурсники в полицейской академии называли его лощеным типом и пижоном, но никто не мог отрицать: когда речь шла о деле, Имаи вовсе не был пижоном.
Он был прежде всего упрям. Тогда как большинство людей ищут себе оправдание в неблагоприятных обстоятельствах и охотно отказываются от неприятных дел, Имаи, сталкиваясь со все новыми трудностями, не раздражался, не стремился побыстрее закончить расследование. Напротив, проникался желанием выяснить все до конца.
Так было и на этот раз. Уединившись в небольшой комнате, которую ему отвели в полицейском отделении, Имаи сгреб чужие бумаги со стола и разложил подробную карту местности.
Ни денег, ни билета, ни документов, ни визитных карточек — убитый не был похож на приезжего. Но с другой стороны, его фотографию никто из жителей округи до сих пор не опознал, и — что более важно — не поступило никаких сигналов об исчезновении человека в этом районе.
Теперь Имаи, изучая карту, искал подтверждения мысли, только что мелькнувшей у него. Тот человек мог прийти к повороту не только по дороге, но и напрямик, через поля. Это предположение расширяло круг поисков.
Но несколько крестьянских дворов, расположенных неподалеку, в трех-четырех километрах, отделены речкой. Вброд не перейдешь, сказали ему, а мост в стороне. Если идти через мост — Имаи с помощью циркуля измерил расстояние, — выходило километров шесть-семь. В населенных пунктах по другую сторону реки полицейские уже провели опрос.
Имаи с раздражением отбросил циркуль, с шумом отодвинул стул, встал. Громко позвал молодого полицейского, который сопровождал его. Тот немедленно появился.
— Иди-ка сюда, — поманил его Имаи. — Что тут расположено?
Полицейский нагнулся над столом, неловко вытянув шею.
— А-а, так это лечебница профессора Ямакава, с которым вы утром разговаривали.
Имаи прикинул расстояние: от дороги километра два с половиной. «Странно, — подумал Имаи, — кто же располагает больницу так далеко от людей? Но она находится близко к месту происшествия». Имаи колебался.
— Профессор Ямакава сказал бы, если бы пропал кто-то из его клиники, — заметил полицейский.
— Поехали, посмотрим сами, — коротко сказал Имаи.
— Скажите, Росовски, вы читали Юкио Мисима?
Росовски удивленно посмотрел на Аллена. Вопрос показался ему странным. Они сидели в посольском кабинете Аллена, который не пожелал обосноваться в здании ЦРУ возле кладбища Аояма. Посол, как говорят, лично распорядился отвести ему временно пустовавший кабинет одного из советников. Прежнего хозяина кабинета перевели в Австрию, замену Вашингтон пока не прислал.
Задрав ноги на стол, Аллен смотрел телевизор. Весь стол был завален брошенными в беспорядке бумагами, засыпан пеплом. Утром он побывал у посла, долго сидел у резидента, потом пригласил к себе Росовски.
Вид и надменное поведение Аллена по-прежнему рождали у Росовски неприятное чувство. В словах Аллена слышались нотки пренебрежения, когда он говорил о Японии и японцах. Поэтому-то Росовски удивил вопрос о Мисима.
— Да, конечно, — ответил он. — Вы тоже теперь можете это сделать. Четыре его романа переведены на английский. В том числе трилогия «Весенний снег», «Мчащийся конь» и «Храм утренней зари». Не знаю, правда, качества перевода, я читал на японском.
— И что вы скажете о Мисима?
— Мисима сейчас существует в двух ипостасях. — Росовски злило, что Аллен заставляет его высказывать свою точку зрения, а сам ничего не говорит, и потому непонятно, что он думает. — Мисима как идейный вдохновитель сторонников императорского строя — в этой роли он куда более значителен после своей смерти. И Мисима — писатель. Причем, несомненно, талантливый писатель. Если творчество есть самовыражение, то Мисима прекрасно выразил себя в своих романах. Его литература предельно откровенна. Я вновь перечитал «Исповедь маски» и некоторые другие его книги уже после того, как он совершил самоубийство перед солдатами токийского гарнизона. Конечно, он готовился к этому акту всю жизнь. При таком мироощущении, какое было у Мисима, самоубийство естественно.
Аллен смотрел куда-то в сторону, казалось, что он не слушает Росовски, но тот решил все-таки договорить:
— Мисима делил людей на тех, кто помнит, и тех, кого помнят. Люди совершают самоубийства, считал он, чтобы самоутвердиться. Он не мог примириться с неизбежностью смерти и забвения. А поскольку Мисима был поборником чистоты, верности принципам, то, ради принципа и стремясь избежать забвения, покончил с собой.
— Со времени смерти Мисима прошли годы. И что же, его не забыли? — спросил Аллен.
— Нет, — покачал головой Росовски, — напротив. Его образ обрастает мифическими чертами национального героя. Я бы даже сказал, что существует дух Мисима — духовная основа идеологии крайне правых. В этом году в годовщину смерти Мисима правые провели в одном из храмов трехдневную конференцию, его последователи сообщили о создании «Общества драконов, возносящихся в дождь в небеса», устроили пышную церемонию на кладбище, один молодой человек пытался последовать его примеру — совершить ритуальное самоубийство в храме Ясукуни, но остался жив. Японская студенческая лига организовала группу по изучению идей Мисима. Журнал «Санди майнити» рассказал о существовании в «силах самообороны» тайного общества офицеров — поклонников Мисима. Это естественно, в стране меняется климат. То, о чем десять лет назад не решались говорить, сегодня произносят во весь голос. Идеи, которые проповедовал Мисима, разделяют теперь многие. Один из моих знакомых сказал: «Единственная ошибка Мисима в том, что он неправильно выбрал время. Сегодня к его голосу прислушалось бы значительно большее число людей, чем тогда». Самоубийство Мисима отражало смятение японского национального чувства, если можно так выразиться. Многие японцы воспитываются на понятии национальной гордости, которое включает большую долю самурайской мистики. То, что их лишили возможности вести войну, националисты воспринимают как кастрацию. Теперь акция Мисима предстает как попытка компенсировать ощущение недостатка мужественности у японцев, смерти духовных чувств в стране. Все эти люди тоскуют по старым добрым временам, когда Япония не была просто богатым евнухом, а была лордом в своем замке. Не забывайте: феодальный период закончился в Японии всего лишь чуть более века назад.
— Это интересно, — как-то вяло сказал Аллен.
— А почему вы меня спросили о Мисима? — задал, в свою очередь, вопрос Росовски.
Аллен посмотрел на него своими серыми невыразительными глазами.
— Неделю назад мы получили информацию из Швейцарии от наших людей. Какие-то японцы пытались купить там у фармацевтических фирм ряд наркотических препаратов особого назначения. Нашему агенту, который обещал им помочь, удалось выяснить, что препараты нужны для операции под кодовым названием «Храм утренней зари». Больше ничего он узнать не успел. Японцы что-то заподозрили, и он еле унес ноги.
— А что за препараты? — поинтересовался Росовски.
Аллен пожал плечами.
— У нас в ЦРУ такие есть, я узнавал. Ребята используют их для того, чтобы развязать языки, или когда нужно убрать кого-то. Что-то вроде ЛСД.
Росовски встал из кресла, с хрустом прогнулся назад.
— Собственно говоря, в чем проблема? Неужели вы прилетели сюда только из-за этой истории? Наверняка это местные гангстеры — якудза. Надо просто предупредить японскую полицию.
— Дело в том, — заговорил Аллен как бы нехотя, — что, получив эту информацию, мы так и решили сделать. По просьбе нашего отдела сотрудник вашей резидентуры поехал к одному из руководителей бюро расследований общественной безопасности министерства юстиции…
Проснувшись, Ватанабэ несколько мгновений лежал с закрытыми глазами, стараясь сосредоточиться. То, что предстояло сделать сегодня, требовало хладнокровия и собранности.
Омлет с ветчиной, салат, стакан апельсинового сока, тост с джемом, чай… Ленивое перелистывание местной газеты «Хоккайдо симбун» тоже входило в «меню».
Он прошелся до ближайшего автомата. Ему всегда советовали избегать пользоваться гостиничными телефонами. Отыскал нужный номер в пухлой телефонной книге, опустил десятииеновую монетку.
Голос на другом конце провода был низкий, мрачный:
— Слушаю.
— Я хотел бы поговорить с Сакаи-сан.
— Кто его спрашивает?
— Он меня не знает, но я привез ему рекомендательное письмо от его друзей из Токио.
— Подождите.
Ватанабэ закурил, рассматривая скучную улицу, по которой проносились редкие автомобили. Провинциальный город.
— Сакаи-сан сейчас занят, но вечером готов с вами увидеться. Приходите в кабаре «Император». Скажете, что Сакаи-сан ждет вас за своим столиком…
…Около невзрачного токийского бара остановилась машина с номером зеленого цвета — такси. Водитель вылез, размял ноги — видно было, что он просидел за рулем весь день, и вошел в бар. Узенькие стеклянные двери, раздвинувшиеся, чтобы пропустить его, вновь закрылись.
Таксист попросил бутылку пива «Кирин». Из внутреннего кармана пиджака вытащил бумажник, незаметно для других, но не для бармена подложил под купюру небольшой листок бумаги. Бармен поклонился. Таксист, сделав большой глоток, вышел из бара. Когда машина отъехала, бармен бесшумно скользнул в соседнюю комнату.
Это было большое помещение с низким потолком, где на соломенных циновках — татами — несколько человек играли в тэхонбики. Возле хозяина бара — толстого человека лет пятидесяти, поджавшего под себя ноги в носках, — лежала небрежно брошенная пачка денег. Бармен наметанным глазом определил: семьсот тысяч иен. Значит, игра идет по мелкой.
Он склонился к уху хозяина и что-то прошептал.
— Давай сюда, — коротко сказал тот.
Бармен протянул ему бумажку, оставленную таксистом.
Взглянув на нее, хозяин задумчиво потер грудь под расстегнутой рубашкой, потом быстрым движением собрал деньги и встал. Вслед за ним поднялся молодой парень с узким лбом и бычьим взглядом. Он тоже сидел в расстегнутой рубашке, под сплошной сеткой цветной татуировки традиционной для якудза играли мускулы. Это был личный телохранитель хозяина.
— Я скоро вернусь, — сказал хозяин бармену.
— Хорошо, Тадаки-сан. — Бармен склонился в поклоне.
Они прошли через задний вход, замаскированный щитами с рекламой. Телохранитель сел за руль машины черного цвета марки «президент». Тадаки, кое-как завязавший галстук на жирной шее и натянувший пиджак, опустился на заднее сиденье.
Через десять минут они подъехали к ресторану со скромной вывеской, известному среди любителей хорошей японской кухни. На платной стоянке рядом с рестораном цепкий взгляд Тадаки сразу заметил такси со знакомым номером района Синагава.
Таксист ожидал его в отдельном кабинете. Телохранитель не отходил от Тадаки ни на секунду. Таксист нисколько не удивился, увидев телохранителя, но с ним не поздоровался и на протяжении обеда обращал на него не больше внимания, чем на стоявший в углу столик.
— Прошлая партия, Морита-сан, была слишком маленькой. Выручка не окупила возни, — сказал Тадаки. — Надеюсь, следующие партии будут больше.
Таксист с аппетитом принялся за закуски, макая их в острые приправы.
— Должен вас огорчить, — неторопливо сказал он, вытирая руки салфеткой, — придется прервать наши деловые отношения.
— Что?! — Тадаки не мог сдержать удивления.
Морита остался невозмутим.
— Повторяю: нам придется прервать отношения.
— Почему?
— Это не имеет значения.
— Зря ты так со мной разговариваешь. — Тадаки перегнулся через стол и говорил прямо в лицо Морита. Его обрюзглое лицо покрылось потом. — Не пришлось бы пожалеть.
Плохо соображавший телохранитель сунул руку в карман. Морита не шелохнулся, но Тадаки, встав, бросил телохранителю:
— Пошли.
Морита не ушел из ресторана, пока не окончил обеда. Официант, провожая его, наклонил голову. Он оставался в этой позе, пока гость не исчез в лифте. Тогда он скользнул в кабинет. Быстро сунул руку под стол и извлек небольшой предмет, который был прикреплен к внутренней стороне стола. Затем принялся за посуду.
— Нет, я нисколько не преувеличиваю. Он мгновенно изменился в лице, будто ему сказали, что его дом сгорел.
Росовски внимательно смотрел на своего коллегу, который ездил в бюро расследований.
— Когда я произнес слова «Храм утренней зари», он побелел. Не припомню другого случая, чтобы японец прямо на глазах потерял самообладание, — вновь повторил сотрудник токийской резидентуры ЦРУ. — Он, правда, быстро справился с волнением и сразу же ответил, что ни о чем подобном не слышал. А потом целый час убеждал меня сказать, что нам еще известно о «Храме утренней зари».
— Это становится интересным, — заметил Росовски.
— Потом я ездил в главное полицейское управление, в военную контрразведку, был у разных людей, упоминал «Храм» — никакой реакции. Видимо, они ни при чем, или я беседовал не с теми людьми.
— Хорошо, спасибо, — сказал Аллен, — можете идти. — Он сгреб со стола бумаги в сейф. — Пойдемте к резиденту, — кивнул он Росовски. — Уже поздно, но он нас ждет. Японцы от нас что-то скрывают. И судя по всему, что-то важное. Бюро расследований, насколько я знаю, занимается не разведением пчел. Японцы готовят какую-то акцию и боятся, что нам станет о ней известно. Мы совершили ошибку. Нельзя было показывать, что мы знаем о «Храме». Но кто же мог ожидать от японцев самостоятельной игры? Мы привыкли, что каждую свою акцию они согласовывают с нами. В течение многих лет Америка была для Японии и крышей от дождя, и ее окном в мир. Что же, времена меняются. Будем исправлять положение. Надо выяснить, что такое «Храм утренней зари» и почему японцы держат это в тайне. Вы будете работать со мной. Во-первых, я не знаю японского языка. Во-вторых… вы читали Мисима.
Лечебница профессора Ямакава располагалась в стороне от жилья; укрытая густой рощей, она не просматривалась с дороги, на которой даже не было соответствующего указателя. В одиночку Имаи вряд ли нашел бы ее.
Они остановились у высоких ворот, почти сливающихся с не менее высокой оградой, — редкость для Японии. «Даже американские базы, — подумал Имаи, — обнесены всего лишь проволочной сеткой».
Полицейский вышел из машины и нажал кнопку электрического звонка. Открылось маленькое окошко. Пара настороженных глаз посмотрела на них.
— Что вам угодно?
— Мы из полиции. Хотели бы поговорить с руководителем лечебницы.
— Минутку.
Ждать пришлось минут пятнадцать. Сбоку от ворот открылась калитка, и человек в белом халате сделал приглашающий жест.
Имаи вылез из машины и прошел за ограду. На территории лечебницы было много деревьев. Так много, что Имаи не увидел самого здания лечебницы.
Человек в белом халате так же безмолвно пригласил его войти в домик, прилепившийся к ограде.
— Я помощник профессора Ямакава, который сейчас, к сожалению, занят. Что вас привело сюда?
— Скажите, среди персонала вашей лечебницы или пациентов никто не пропал? Не исчез внезапно?
Врач рассмеялся:
— Ну что вы! У нас просто некому пропадать: сейчас в лечебнице нет ни одного пациента. Дело в том, что профессор Ямакава принимает больных на период с осени до конца весны, а летом мы занимаемся обобщением собранного материала, встречаемся с коллегами, представителями фармацевтических фирм. Соответственно практически всему персоналу предоставлен отпуск. Осталось буквально несколько человек, и они все на месте.
Имаи поднялся.
— Тогда прошу простить за внезапное вторжение.
— Что вы, что вы! — Врач явно успокоился, узнав о цели визита полицейского.
Имаи запросил по телефону справку о лечебнице Ямакава, в частности его интересовало время пребывания там больных. Когда через полчаса ему дали ответ, что прием больных производится сезонно и сейчас лечебница пустует, Имаи сказал начальнику отделения, что с него хватит, он устал и едет в Саппоро.
В Саппоро шел мелкий надоедливый дождь, на полупустынных улицах было мрачно, тускло светили огни домов, и оттого пышная вывеска кабаре «Император» казалась заманчивой. Ватанабэ вошел, и его сразу оглушили громкая музыка, смех. Он спустился по лестнице, отдал в гардероб зонтик и прошел в зал.
Его провели к столику, из-за которого навстречу ему поднялся благообразный седой господин в синем костюме и красном галстуке.
— Ватанабэ-сан?
Он поклонился.
— Сакаи. Очень приятно.
Столик стоял около сцены, на которой расположился оркестр. Тут же на сцене бил настоящий фонтан.
За столиком Сакаи сидели три женщины-хостэсс, современная и упрощенная модификация гейш. В их обязанности входило развлекать гостей, болтать и танцевать с ними. Две хостэсс были некрасивы, а третья, довольно крупная для японки, понравилась Ватанабэ. Уловив что-то в его глазах, она пересела поближе, очистила банан и, улыбнувшись, спросила:
— Почему гость такой хмурый? Мы ему не нравимся?
Сакаи рассмеялся:
— Давай, давай, Ёко, возьмись за него.
Сакаи, обняв одну из девушек за шею, чувствовал себя вполне уютно.
Ёко продолжала что-то говорить, но Ватанабэ, нагнувшись к Сакаи, прошептал:
— У меня мало времени.
— Ну, как угодно, — с сожалением сказал Сакаи.
В этот момент оркестр исчез, и на сцене появились три рыжие («Крашеные», — подумал Ватанабэ) девицы с гитарами. По той реакции, с которой зал встретил их, он понял, что это любимицы публики.
Сакаи сказал хостэсс:
— Пока идите. Мы хотим послушать программу.
Когда свет в зале потух и со сцены раздались звуки веселой песенки, Сакаи повернулся к Ватанабэ, и он впервые увидел жесткие, навыкате глаза своего собеседника.
— Так что вы можете мне предложить?
— Как насчет известного вам груза? Речь идет о регулярных поставках. Каждый месяц. Двадцать — двадцать пять килограммов порошка.
Сакаи немного отодвинулся, не спуская с него немигающего взора.
— Сколько?
— По курсу.
— Э, нет, — Сакаи помахал указательным пальцем у него перед носом. Ватанабэ не шевельнулся. — Минус двадцать процентов. Иначе зачем мне это надо!
— Хорошо. Первый груз будет через неделю. Как вас найти? По прежнему телефону?
— Позвоните…
— Звонить буду не я.
— Неважно. Попросите заказать столик в «Императоре», назовите время. В тот же час, только утром следующего дня, встречаемся вот по этому адресу.
Сакаи начертил несколько иероглифов на своей визитной карточке.
— Теперь вот что. У меня есть один заказ, который я должен выполнить. Я этим людям всем обязан.
Сакаи положил на столик перед Ватанабэ лист бумаги, на нем в столбик были написаны по-английски какие-то названия. Ватанабэ видел их в первый раз.
— Если вы мне привезете это, плачу любую цену, — добавил Сакаи.
Ватанабэ сунул листок в карман.
— Попробую, — сказал он.
Неподалеку от квартала Роппонги, на узенькой улочке, водителю лимузина марки «президент» повелительно махнул полицейский в темных очках.
— Ну, что такое? — раздраженно пробормотал Тадаки. После неприятного разговора с таксистом он собирался как следует развлечься, поэтому и велел телохранителю ехать в Роппонги — один из веселых кварталов Токио.
Телохранитель опустил стекло, чтобы поговорить с подходившим полицейским. Он уставился на полускрытое огромными очками и козырьком фуражки лицо полицейского, который, подойдя к машине, начал поднимать руку для приветствия, но внезапно рванул дверцу и выбросил вперед правую ногу. Телохранитель скорчился от боли. В ту же секунду еще двое полицейских, неизвестно откуда возникших, открыли дверцы с другой стороны и сели в машину. Один из них приставил пистолет к голове Тадаки и тихо сказал ему:
— Молчи.
На телохранителя уже надели наручники. Полицейский в очках сел за руль.
Тадаки покрылся испариной. Что могло произойти? Облава? Почему сейчас? Сегодня? И таким способом? Он хотел что-то сказать, но полицейский, сидящий рядом с ним, больно вдавил дуло пистолета в бок.
— Я же сказал: молчи.
Машина шла на большой скорости, от волнения Тадаки не мог понять, куда его везут. Телохранитель на переднем сиденье застонал, приподнял голову и тут же получил ребром ладони по горлу, захрипел и больше не двигался.
Они свернули на респектабельную улицу и въехали в подземный гараж. Вслед за «президентом» Тадаки почти впритык шел белый автомобиль с длинной антенной.
Тадаки выволокли из машины и потащили в большую комнату без окон. В углу в кресле сидел высохший седой человек. Тадаки подвели к нему поближе. Увидев старика, он сначала не поверил своим глазам, а потом все понял.
— Узнал, — удовлетворенно проскрипел старик. — Вижу, что узнал, хоть и давненько мы с тобой не видались. А ведь я тебя предупреждал: не самовольничай. В первый раз простил. Видно, зря.
Тадаки с ужасом смотрел на старика.
— В тот раз ты всего-навсего должен был расстаться с мизинцем. Теперь, я думаю, тебе пора освободить этот мир от себя. — Старик брезгливо посмотрел на стоящего перед ним человека. — Ты невежествен, ты так ничего и не понял в жизни и потому боишься смерти. Ты даже не потрудился проникнуться великим духом идей Нитирэна, а я ведь советовал тебе ознакомиться с его учением. Ты бы хоть понял, что после смерти то, из чего ты состоял, опять соединится с мировой жизнью и найдет новое воплощение. Надо надеяться, лучшее, чем прежде.
Люди, которые привезли хозяина бара сюда, уже поснимали полицейские мундиры и стояли за спиной старика. Телохранителя куда-то утащили.
Все это время Тадаки был в странном оцепенении. Его охватил смертельный страх. Он рухнул на колени и завопил:
— Простите меня! Простите!
Старик поморщился:
— Заткните ему глотку. Терпеть не могу криков.
Один из мнимых полицейских, взяв Тадаки за горло, сунул ему в рот кляп. В глазах Тадаки не осталось нечего, кроме животного страха.
Немощный старик был некогда ближайшим помощником ныне покойного Кадзуо Таока, руководителя крупнейшей в Японии преступной организации «Ямагути-гуми», синдиката, в который входило, по мнению полиции, около одиннадцати тысяч человек (подлинную цифру не знал никто) и который держал в своих руках все отрасли подпольного бизнеса.
В свое время фотографии Кадзуо Таока не сходили со страниц журналов, японских и иностранных, о нем сняли фильм, у него были друзья депутаты парламента, по случаю свадьбы его сына прислал поздравления один из бывших премьер-министров. Тадаки вступил в «Ямагути-гуми» молодым человеком. И этот старик был его оябун — старший в их банде. Тадаки сильно провинился, не выполнил задание и по законам якудза должен был отрезать себе мизинец. Тогда старик пожалел его…
Со временем хозяин бара, оказавшийся достаточно ловким, ушел из «Ямагути-гуми» и завел самостоятельное дело. Как ни старался он держаться подальше от сферы деятельности «Ямагути-гуми», чтобы не вызвать ее гнева, самое страшное, что виделось ему в кошмарном сне, случилось: люди Таока сочли, что он им мешает. Это смерть. Прощения в таких случаях не бывает.
— Теперь, надеюсь, ты понял, — продолжал старик, унаследовавший после смерти Таока значительную долю его власти и доходов, — что смерть — всего лишь отдых перед новым рождением. Но перед тем как ты отправишься на отдых, поведай-ка нам, где ты хранишь деньги, вырученные от продажи грузов, которые ты получал от таксиста.
Старик поднял правую руку.
Один из подручных включил стоявший на низком столике магнитофон, другой вытащил кляп, и хозяин бара услышал запись своей беседы с Морита в ресторане. Значит, все его шаги были под контролем «Ямагути-гуми».
Легкое движение пальцев, и магнитофон остановлен.
— Говори, — повторил старик.
Хозяин бара рассказал все. Потом ему дали проглотить таблетку. Бесцветную и безвкусную.
Его тело было обнаружено в увеселительном районе Синдзюку, в одном из так называемых «лав-отелей», где постояльцам не обязательно регистрироваться.
Прибывший с полицией врач констатировал смерть от сердечной недостаточности. Излишний вес покойного, почтенный возраст… Словом, полиции здесь нечего делать.
…Имаи не мог уснуть. В маленькой комнатке было душно, верно, собиралась гроза. Кровать слишком узкая, подушка чересчур жесткая — чем они ее набивают?
Ему пришлось заночевать прямо в деревне, где находилось полицейское отделение.
Утром ему позвонил из Токио Тэру Тацуока, его старший брат, и пригласил на день рождения. Имаи обрадовался звонку. Из всей семьи старший брат был самым близким ему человеком. Но прежде чем улететь в Токио, надо как-то разделаться с этой нелепой историей на дороге. Теперь Имаи, уставший от возни, уже почти не сомневался, что произошел несчастный случай. А погибший был человеком одиноким, раз никто — ведь его фотографию напечатала газета — не опознал несчастного. Имаи не пугали трудности расследования. Но здесь не было стимула для работы. Все, что он мог выяснить, — личность погибшего. В лучшем случае — не был ли он шизофреником.
Он отправился опять в надоевшую ему деревню, чтобы с самого утра завершить все формальности и со спокойной душой ехать на день рождения старшего брата. Для ночлега начальник отделения предложил на выбор диван в своем кабинете или комнатку в пустующем домике на краю деревни.
Убогая обстановка домика подействовала на него угнетающе. Как хорошо, что завтра он, наконец, полетит в Токио, к Тацуока, который хоть и не женат, но живет в образцово ухоженной, со вкусом обставленной квартире. К тому же достаточно большой по токийским масштабам: ведь там две комнаты предел мечтаний для средней семьи.
Часа в три ночи он стал засыпать. Сквозь дрему до него донеслось неясное металлическое позвякивание. Имаи досадливо повел головой, перевернулся на другой бок. Вставать никак не хотелось. Он нехотя разлепил глаза.
Дверь в его комнату приотворилась, появилась длинная рука, которая потянулась к его пиджаку. Раздеваясь, он повесил пиджак на единственный стул у двери.
В этой картине было что-то невероятное. Длинная, кажущаяся очень белой в темноте рука скользнула во внутренний карман. Тогда Имаи вскочил. Рука замерла. Инспектор бросился к двери. Рука исчезла, как будто ее и не было. Он распахнул дверь — пусто. Ничего не понимая, Имаи инстинктивно оглянулся. В окне…
То, что Имаи увидел в окне, заставило его ухватиться за дверной косяк. К стеклу приникло не лицо, а какая-то маска: всклокоченные волосы, огромный выдающийся подбородок, выпуклые надбровные дуги, раскрытый в гримасе рот.
Лицо за окном исчезло. Имаи бросился на улицу. Никого. Обежал вокруг дома — пусто.
Он осмотрел замок входной двери — взломан. Внимательно оглядел пол: следы, несомненно, остались, не затоптать бы самому. Опять вышел на улицу. Земля была влажная, он присел на корточки, щелкнул зажигалкой, повернув колесико, увеличил пламя. Под окном тоже были отчетливые следы; более крупные, чем в доме.
Потом Имаи разбудил полицейских, и они пришли с мощными фонарями и аппаратурой, чтобы сфотографировать следы. Подтвердилось, что неизвестных было двое. Они некоторое время стояли под окном, затем один проник в дом, второй в это время наблюдал за комнатой. Окна были низкими, без занавесок, и стоявшему под окном был хорошо виден спавший Имаи.
Следы вели к дороге и там обрывались. Надо полагать, эти люди уехали на машине.
Между тем Имаи ни на секунду не переставал думать о странном лице за окном. Что это могло быть? Маска? И эта длинная рука с необыкновенно тонкими и очень длинными пальцами. Зачем они проникли в домик? Убить его? Украсть что-то?
Только утром Имаи заметил, что исчезла записная книжка, куда он вносил результаты расследования, соображения по делу о ночном происшествии.
Морита пристроился на стоянке, ожидая, когда из дверей аэропорта выйдет Ватанабэ. Самолет из Саппоро уже сел, и он должен был появиться с минуты на минуту. У здания аэропорта выстроилась длинная очередь свободных такси, и водители коротали время, слушая радиорепортаж о матче популярных бейсбольных команд. Морита предстояло выслушать доклад Ватанабэ о переговорах с якудза на Хоккайдо и отвезти его в отель «Пасифик». Билет до Сиднея был заказан на завтрашний день.
Стеклянные двери раздвинулись, и вышел Ватанабэ. Он дождался, пока подъедет Морита, и сел в машину.
Утром Имаи сидел в кабинете начальника следственного отдела штаба полиции в Саппоро.
— Да, инспектор, вы кому-то, похоже, крепко наступили на хвост, если вами так заинтересовались. Довольно редко залезают в карман работнику полиции. Вы здесь, кроме этого случая на дороге, самостоятельно никаких дел еще не вели, так?
— Да.
— Значит, это ночное происшествие не так просто, как мы с вами полагали. Давайте начинать все сначала. Что нам прибавила вчерашняя история в смысле фактов? Вы не можете описать тех, кто залез к вам в дом?
— Один из них был в маске, потому что подобной мерзкой рожи просто быть не может. Или это специальный грим?
— Странно, инспектор. Маски, грим — это вызывающе, приметно, не практично для преступников. Куда проще надеть чулок.
— Может быть, мы имеем дело не с профессионалами?
— Возможно. Что у вас было в записной книжке?
— Ничего, кроме записей по этому делу.
— Они ее не бросили — значит, можно полагать, что ее и искали.
— Мы сразу связались с полицейскими постами — ни одной подозрительной машины не заметили. Значит, они скрылись где-то там, в округе.
— Я бы на вашем месте не стал так полагаться на свидетельства дорожных патрулей. Меньше всего они любят возиться с каждой машиной, проверять документы и все такое прочее. Я дам вам двух ребят. Пропустите через сито всю округу. Может, встретите ночных посетителей.
Звонок Аллена поднял Росовски с постели. Он посмотрел на часы половина первого, значит, он только уснул.
— Росовски, вы мне нужны. — Голос Аллена был чуть менее спокойным, чем обычно. — Садитесь в машину и приезжайте в посольство.
Аллен отключился, не дожидаясь ответа. Росовски так шмякнул телефонную трубку, что проснулась жена, наглотавшаяся снотворных пилюль. Она приподнялась, опираясь рукой на подушку, и встревоженно спросила, что случилось.
Росовски пробормотал нечто невнятное, одеваясь в темноте. Он вывел машину из подземного гаража и погнал ее по пустынным улицам ночного города.
Аллен сидел один в просторном кабинете резидента, официально именовавшегося политическим советником, и перелистывал старую папку. «Из архива», — наметанным глазом определил Росовски.
— Вы долго ехали, — недовольно сказал Аллен, — вам надо снять квартиру поближе к посольству.
Росовски чуть не задохнулся от злости. Он молча уселся в кресло. Аллен захлопнул лежащую перед ним папку и протянул Росовски два исписанных листка бумаги. Росовски внимательно просмотрел их. И на том и на другом было одно и то же: несколько неизвестных Росовски наименований каких-то химических веществ или лекарств.
Он вопросительно взглянул на Аллена.
— Один из этих листков мы получили из Швейцарии. Это те самые препараты, которые пытались купить японцы. Второй листок час назад передал мне сотрудник резидентуры.
— Откуда же он его взял?
— Получил от своего агента. Какие-то люди через якудза просят торговцев наркотиками достать эти вещества.
— Чрезвычайно любопытно, — сказал Росовски. — Что вы собираетесь предпринять?
— Я уже отправил шифровку в Лэнгли. С первым же самолетом получим эти препараты.
— Хотите через якудза выйти на «Храм утренней зари»? Что ж, — согласился Росовски, — возможно, это реальный путь.
— Кстати, — спросил Аллен, — что из себя представляют якудза? Аналог нашей мафии?
— Для многих японцев, — начал Росовски, — особенно старшего возраста, якудза — не обычные гангстеры, они ассоциируются со старой Японией, самурайским духом, гири — чувством долга, ниндзё — человеколюбием. Якудза появились в семнадцатом веке, в эпоху Эдо, и с тех пор были окружены таким количеством мифов, что трудно отличить правду от выдумки. Само их название, как говорят, произошло от японских слов, означающих цифры 8, 9 и 3, сумма которых дает 20 — несчастливое число в традиционной японской игре в кости. Долгое время вокруг якудза пытались создать образ душевных, бесхитростных людей, которые никому не причиняют вреда.
В действительности жестокость якудза внушает ужас, а мощная система организованной преступности не по зубам полиции. Доходы организаций якудза можно сравнить с доходами крупнейших японских корпораций, таких, как «Тоёта» или «Ниппон стил». Якудза держат в руках игральные автоматы, игорные дома, торговлю порнографией, проституцию — в одном только Токио насчитывается тысяча «турецких бань с массажем». Якудза контролируют и большое число легальных предприятий. В Токио и Осака они управляют 26 тысячами фирм, ресторанами, барами, строительными и транспортными конторами. Многие из них носят на лацканах пиджаков значки с изображением символов своих организаций — куми. Этими же символами украшены фасады их резиденций (собственное помещение имеет практически каждая куми). Официально они называются обществами взаимопомощи, и полиции не к чему придраться. У них обширные связи с правыми политиками — это основа их безнаказанности.
Лет десять назад якудза переключились на наркотики, которые оказались самым прибыльным товаром. Более выгодным, чем даже контрабанда огнестрельного оружия в Японию. Наркотики везут из Юго-Восточной Азии, где у якудза большие связи. Сейчас якудза начинают проникать в Соединенные Штаты. Сначала на Гавайи, потом в Калифорнию. Под видом туристов они провозят в США «избыток» наркотиков, которые не может поглотить японский рынок. Заодно легализуют полученные незаконным путем деньги и вкладывают их в американские предприятия. Агенты якудза оседают в США под крышей владельцев все тех же турецких бань и порнокинотеатров. Якудза привезли с собой жесткую дисциплину и сплоченность. Когда американская полиция на Гавайях заинтересовалась одним японцем, занимавшимся торговлей героином, его застрелили, чтобы спрятать концы в воду.
Организации якудза основаны на абсолютном послушании рядовых преступников своим главарям. Во главе каждой куми стоит оябун, который волен убить рядового якудза за серьезный проступок. В мире якудза проступки караются так: нарушитель падает на колени перед оябуном, отрезает себе мизинец на левой руке и, завернув в шёлковой платок, отдает хозяину. Если оябун возьмет, значит, якудэа помилован. Если нет, должен ждать худшего и встретить смерть с покорностью…
Якудза покрывают тело татуировкой с головы до пят, но под будничной одеждой трудно угадать красочную роспись, свидетельствующую о принадлежности к одной из банд. Якудза пополняют свои ряды за счет босодзоку, которые частенько не дают спать по ночам, если вы поселились на облюбованной ими улице. Босодзоку — юнцы семнадцати-восемнадцати лет; оседлав мощные мотоциклы без глушителей или автомобили, как бешеные носятся по улицам ночных городов, доводя до инфаркта встречных водителей, поскольку презирают правила уличного движения…
Росовски остановился. Он зарекся уже что-либо рассказывать Аллену, но на сей раз тот слушал довольно внимательно.
— Кто же попросил этих якудза достать препараты? — произнес Аллен.
Росовски чуть заметно пожал плечами.
— Я хочу, чтобы вы сами получили посылку из Лэнгли и привезли сюда, — распорядился Аллен, — извините, но поспать вам и сегодня не придется.
Аллен не стал рассказывать Росовски, что человек, связанный с якудза и передававший им наркотики, сотрудник ЦРУ. Росовски да и абсолютному большинству работников Лэнгли не следовало знать, что отдел, в котором работал Аллен, многие годы занимался вывозом наркотиков из «золотого треугольника». Тайные операции ЦРУ, включавшие организацию переворотов в различных странах, борьбу с национально-освободительным движением, убийства и подкуп видных политиков, требовали больших средств, чем предусматривалось бюджетом ЦРУ. Велики были и личные расходы сотрудников управления.
Еще в пятидесятые годы ЦРУ создало в районе «золотого треугольника» террористические группы, которые вели подрывную работу против азиатских государств. Оружие наемникам перебрасывалось самолетами созданной ЦРУ авиакомпании. Сначала она называлась «Сивил эйр транспорт», затем «Эйр Америка». Пилоты в обратный рейс брали груз наркотиков. Сотрудники управления гарантировали безопасность. Прибыль делили на всех… Возможность участвовать в бизнесе на наркотиках была лучшим вознаграждением для отличившегося агента. Деньги, вырученные от продажи героина, шли на финансирование наиболее секретных акций оперативного управления ЦРУ.
Со временем вывоз и продажа наркотиков были поставлены на широкую ногу. Отдел Аллена разработал несколько перспективных маршрутов доставки героина потребителям. В каждую цепочку доставки наркотиков обязательно внедряли несколько профессиональных агентов Лэнгли — естественно, из местного населения.
Таксист Морита был таким агентом. Узнав от Ватанабэ, что якудза интересуются такими препаратами, как проликсин и анеотин, он поспешил встретиться со своим «почтальоном» — сотрудником резидентуры, который отвечал за связь с группой, занимавшейся наркотиками. Листок, исписанный чьим-то аккуратным почерком, лег на стол Аллена.
За час до звонка Росовски Аллен встретился с Ватанабэ. Японцу было обещано пять тысяч долларов, если он выяснит, кому в действительности предназначаются эти редкие препараты. Ватанабэ согласился. После того как ему передадут посылку, которая прибудет из Лэнгли, он опять полетит в Саппоро.
Имаи был очень доволен, что хотя бы сегодняшний вечер проведет со старшим братом. Родители все-таки принадлежали к совсем другому поколению, с ними иногда было трудно. Зато для роли советчика идеально подходил Тэру Тацуока. Обаятельный, умный, тактичный, все понимающий, он был образцом для Имаи. В его холостяцкой квартире, где было столько книг, Имаи провел лучшие дни юности.
В Токио его отпустили с условием, что на следующий день он вернется. Пришлось сразу позаботиться об обратном билете.
— Хорошо, что гости быстро разошлись, — сказал Имаи.
Тацуока присел на диван.
— Признаться, я устал. Много работал последнее время, да и светская жизнь тоже требует полной отдачи.
— У вас это получается прекрасно, — сказал Имаи.
Он стоял у окна, немного отодвинув тяжелую штору.
Было уже поздно. В темном прямоугольнике окна под мрачным небом сверкало сплетение неоновых огней. Разноцветные змейки жили, двигались, разбегались, наползали одна на другую, на мгновение исчезали. Змейки существовали сами по себе, без людей. Окна домов казались тусклыми рядом с яркими змейками. Здесь, в центре Токио, было пустынно. Токийцы понемногу переселялись на окраины, в предместья, города-спутники. «Змейки выгнали их, — подумал Имаи. — Офисы банков и компаний вытеснили жилые дома».
— Любуешься? — В голосе Тацуока была ирония.
— Вечерний Токио мне не нравится. Людей не видно. Все спрятались у себя в квартирах. А там, за шторами и занавесками, за прочным прикрытием бетонных стен, творятся грязные дела. Работа в полиции заставляет видеть во всем оборотную и весьма грязную сторону. Не знаю. Во всяком случае, днем, когда я вижу лица людей, у меня не возникают такие мысли.
— У тебя просто плохое настроение, — с сочувствием заметил Тацуока. — На все можно смотреть по-иному. Прекрасная теплая ночь. Звезды блещут. Парочки гуляют по улицам.
— Да, — согласился Имаи, — звезды блещут, и парочки гуляют. Но я бы им, кстати, этого не советовал. Я-то знаю, сколько преступлений совершается ночью.
Тон Имаи плохо вязался с образом щеголеватого офицера полиции, каким его знали коллеги. Но Тацуока понимал, что внешний облик младшего брата обманчив. Масару Имаи многое чувствовал и понимал точнее, чем сверстники.
— Извините, что порчу вам настроение. Но по правде сказать, при вечернем освещении здесь действительно совершается немало мерзких дел.
— Я понимаю тебя, — улыбнулся Тацуока. — Мы, врачи, видим следы недугов, вы подозреваете преступления. Тебе поручили трудное дело? — спросил он без перехода.
— Пока не пойму. Но есть верная примета: если сначала кажется, что дело не стоит и выеденного яйца, то потом попадаешь в такие дебри… Все казалось очень простым. Полицейский сбивает прохожего, который буквально сам лезет под колеса. Я сидел в той машине, все сам видел. В карманах убитого никаких документов, не удается выяснить, кто он. Обследуем весь район…
— Проверка на алкоголь, наркотики? Паталогоанатомическое исследование черепа? — поинтересовался Тацуока.
— Все как полагается, — ответил Имаи. — В протоколе вскрытия никаких зацепок. Убитый, похоже, вообще не пил, занимался спортом. Так вот, буквально накануне вашего дня рождения, когда я ночевал в деревушке, где проводил расследование, ночью залезают ко мне в комнату и выкрадывают мою записную книжку. Интересно, правда?
Ночь была душной. Сквозь открытое окно вместо ожидаемой прохлады проникал до противного теплый воздух с запахом горячего асфальта. Улицы отдавали накопленное за день тепло. В комнате раздавался нежный мелодичный звон фурин — маленького металлического колокольчика, подвешенного к потолку. Полоска плотной бумаги, привязанная к язычку, улавливала малейшее дуновение.
— Кто бы это мог быть?
— Не знаю. Но такой явный интерес к расследованию — свидетельство того, что тут могут быть самые неожиданные открытия.
— Хорошо. Кстати говоря, каждый раз хочу у тебя спросить и забываю: как ты думаешь — предварительно, конечно, — что ты найдешь? Я не слишком хорошо формулирую мысль, но, наверное, у тебя есть профессиональное предчувствие, которое тебе говорит, что это преступление связано с тем-то и тем-то. Хирург, оперируя, даже если не совсем ясен диагноз, все же представляет себе, что он может найти у больного.
Имаи задумался.
— Мне кажется, что здесь не обойдется без наркотиков. Те двое, которые залезли в дом… Они произвели на меня странное, отталкивающее впечатление. У одного — лица я не видел — длинные гибкие пальцы, у меня было такое ощущение, словно они гнутся во все стороны. Лицо второго — еще ужаснее, какая-то злобная карикатура на человека. — Имаи передернуло.
— Ты устал, — поднявшись, заметил Тацуока, — ложись-ка лучше спать.
— Да, пора, — согласился Имаи, — завтра рано вставать.
— Я отвезу тебя в аэропорт. Я рад был тебя повидать.
— Утром хочу на минутку заскочить в токийское полицейское управление. Так что спасибо, доберусь сам.
Ватанабэ внимательно осмотрел взятую напрокат машину. «Глория» фирмы «Ниссан», не новая, но сойдет. Проверил шины, тормоза, коробку скоростей, покопался в моторе — возможно, что от этой машины будет зависеть удача всего дела. Заранее все предугадать невозможно, но быть уверенным в надежности окружающих тебя людей и вещей просто необходимо.
Он сел в кабину, подогнал кресло, покрутил зеркало заднего обзора, потом неспешно сдвинулся с места. Он поездил немного по улицам Саппоро, свыкаясь с машиной, определяя ее сильные и слабые стороны.
В пять вечера он позвонил Сакаи. Они опять встретились в кабаре «Император». Только на сей раз Сакаи держался настороженно. Он не верил, что Ватанабэ сумел так быстро раздобыть все необходимое. Ватанабэ нервничал, опасаясь, что его миссия сорвется.
— Хорошо, — сказал наконец Сакаи, — мои друзья предлагают такой вариант. Они передают посреднику деньги. Затем вы отдаете ему же товар, забираете деньги, и все довольны. Идет?
— Кто этот посредник?
— Бармен в кафе «Цудзи». Все произойдет на ваших глазах, посторонние посетители ничего не поймут.
— Куда вы меня везете? — недовольно спросил Аллен. Он плохо знал город, а в ночном освещении не узнавал даже знакомые кварталы.
— На нашу конспиративную квартиру, которой пользуется только резидент.
— А что случилось?
Сегодня они поменялись ролями. Росовски поднял Аллена среди ночи, сказав, что резидент желает его немедленно видеть.
— Что-то связанное с «Храмом», — ответил Росовски. — Шеф получил важную информацию от Нормана.
— Кто такой Норман?
Росовски вел машину очень осторожно. Ночные улицы были оккупированы ремонтными службами. Под лучами мощных прожекторов рабочие в касках приводили асфальт в порядок. К утру они должны были все закончить. Ремонтировать дороги в Токио можно только ночью: днем это привело бы к множеству пробок.
— Норман — личный контакт шефа, он сам с ним встречается и снял для этого квартиру. Норман — японец. Нисэй.
— Нисэй?
— Да, он японец, родившийся в Соединенных Штатах. Его отец работал в так называемом «органе Кеннона». Вы, конечно, вряд ли знаете это имя, но в свое время Кеннон наводил тут на всех страх: руководил сразу после войны армейской разведкой и чувствовал себя полным хозяином в Японии — ведь управление стратегических служб уже расформировали, а ЦРУ еще не создали. Странный был человек. Ковбой в роли разведчика. Любил стрелять и всегда носил с собой пистолет с рукояткой, отделанной десятииеновыми монетами. Потом его заставили уйти с этого места. Говорят, что это сделал сам Макартур. Так вот, у Кеннона работали двое японцев — муж и жена. Когда его отозвали, они тоже уехали в Америку. Боялись, вероятно, своих соотечественников. Кеннон и его ребята вели себя слишком свободно, в методах не стеснялись. Золотое было время — полные хозяева в стране. Не то что сейчас… — В голосе Росовски звучали ностальгические нотки.
— А при чем тут Норман? — прервал его Аллен.
— Эти двое японцев родили в Америке сына и назвали его Норманом. Они хотели, чтобы он американизировался — ведь он имел право на американское гражданство — и остался в Штатах навсегда. Но когда родители умерли, он решил съездить в Японию. Паспортными делами, как известно, занимаются наши люди. Американцев японского происхождения наша разведка всегда старается как-то использовать. Особенно с тех пор, как 120 тысяч американцев японского происхождения в 1942 году загнали за колючую проволоку, — язвительно добавил Росовски, — где они просидели до конца войны. За одну ночь после Пёрл-Харбора все нисэи превратились в интернированных лиц и лишились всего имущества, хотя даже министр юстиции и директор ФБР считали, что они не представляли угрозы для национальной безопасности. В то же время гораздо большие немецкая и итальянская общины избежали подобных мер. Только по одним японцам пришелся удар, вызванный смесью расового антагонизма, зависти к процветавшим нисэям и истерии из-за ожидавшегося японского вторжения после Пёрл-Харбора. Инициатором интернирования был командующий вооруженными силами Западного побережья генерал-лейтенант Джон Л. Девитт, который выразился так: «Япошка есть япошка! Какая разница, гражданин он США или нет». Потом-то, когда настоящая война началась, сразу о нисэях вспомнили. В военной разведке служило шесть тысяч японцев. Я думаю, они спасли жизнь многим американцам, которые их так презирали. Они были единственными солдатами в армии, кому полагалась личная охрана. Их приходилось защищать от собственных войск. Впрочем, многих нисэев убили все же сами американские солдаты. Особенно ужасно, когда гибли наши разведчики — нисэи, возвращавшиеся из японского тыла с важными документами.
— Я слышал об этом, — нетерпеливо заметил Аллен. — Но что там с Норманом?
Росовски благополучно проскочил на красный свет, надеясь на спасительную ночную темноту.
— Словом, на Нормана обратили внимание у нас в управлении. К счастью, поручили им заняться человеку, который в пятидесятом году разбирал бумаги, оставшиеся после Кеннона. Он вспомнил о родителях Нормана.
Они выехали на какую-то ярко освещенную улицу, на которой, одинаково расставив ноги и заложив руки за спину, стояли двое полицейских. Увидев машину Росовски, один из них повелительно махнул рукой, приказывая остановиться. Росовски затормозил.
— У вас же дипломатический номер, — запротестовал Аллен.
— А зачем с ними ссориться? — пожал плечами Росовски.
— Тогда не нарушайте правила. Проскочили на красный свет, а они зафиксировали.
Подошедший к машине полицейский наклонился, чтобы разглядеть лица сидящих в машине. Внимательно посмотрев на Аллена и Росовски, он кивнул: «Проезжайте».
Росовски дал газ.
— Ищут кого-то, — неуверенно пробормотал он.
— Так что с Норманом? — Аллен был настойчив.
— С неделю слушали его разговоры, всадили аппарат ему в телефон. Норман собирался уехать в Японию насовсем. Своей девушке он несколько раз говорил, что больше всего боится, как бы в Японии ему не припомнили службу родителей в американской разведке. И без того нисэй — человек второго сорта, а уж работа на иностранную разведку… Наши психологи, понаблюдав за ним, сказали, что к нему можно подобрать ключи. С ним встретился наш нынешний резидент, он как раз собирался в Японию. Резидент принес на встречу все документы, относящиеся к деятельности его родителей. Он не стал угрожать Норману. Напротив, обещал полностью скрыть его прошлое, подготовить новые документы, дать денег, поклялся, что взамен не станет требовать обычных услуг. Психологи инструктировали резидента: главное — не затронуть самолюбия Нормана, надо, наоборот, подчеркивать его исключительность. Шеф сказал Норману, что лишь иногда они будут встречаться как равный с равным и беседовать об американо-японских отношениях. Норман согласился, — констатировал Росовски, — у нас были все козыри. Он уехал в Японию с новыми документами и поступил на государственную службу. Это было пять лет назад.
— Где он сейчас?
— Года три никто, кроме шефа, вообще не знал, где Норман. Потом он стал работать в государственном комитете по обеспечению общественной безопасности, который подчинен непосредственно канцелярии премьер-министра. Не путайте с бюро расследований при министерстве юстиции. Это разные ведомства.
— Да-да, — кивнул Аллен.
— По-прежнему с ним встречается только шеф. Мы не знаем Нормана в лицо, не знаем даже его японского имени. Я увижу его сегодня в первый раз. Однако все работники резидентуры отметили, что в последнее время шеф располагает важной информацией, получаемой не через наши каналы. Видимо, от Нормана. Насколько я понимаю, шеф попросил Нормана заняться «Храмом утренней зари». И если он нас пригласил, значит, Норман что-то узнал.
Они подъехали к обычному многоквартирному дому недавней постройки. В лифте Аллен посмотрел на часы — три часа ночи.
Дверь им открыл широкоплечий блондин. Аллен знал его: блондин занимался обеспечением безопасности нелегальной агентуры, в посольстве ведал вопросами культурного обмена и имел дипломатическое звание второго секретаря.
Имаи с удовлетворением отметил, что его еще не забыли. Начиная от охранника и кончая начальником отдела, его сослуживцы по токийскому полицейскому управлению кивали, кланялись и приветственно поднимали руку в зависимости от занимаемого ими поста и меры симпатии к Имаи, который вообще-то не относился к числу всеобщих любимчиков.
В комнате инспекторов его приветствовали вполне дружелюбно.
— У вас там, на Хоккайдо, кажется, тоже лето? Я смотрю, ты без теплого пальто. Или ты здесь переоделся?
— Имаи закаляется: даже в мороз ходит в одном костюме!
— Зато в каком! Нам теперь на Хоккайдо и ехать неудобно: скажут, оборванцы какие-то заявились.
Имаи с завидным хладнокровием выдержал порцию шуточек, без которых инспекторы не могли обойтись, принимаясь за ежедневные дела.
— Не смейтесь над Имаи, — подмигнул самый старый из инспекторов, Нагано. — На Хоккайдо он привык к уважительному отношению. Я слышал, тамошнего начальника снимают, хотят тебя назначить на его место, а?
Кое-кто ухмыльнулся, но инспекторы уже погрузились в работу. Несколько человек говорили по телефону, двое вышли. Появился незнакомый инспектор из патрульной службы. Тогда Имаи подсел к Нагано:
— У меня к вам просьба. У вас уникальная память на лица, а я пытаюсь найти следы одного человека.
— Чем занимается? — перебил Нагано. — Убийства, грабежи?
— Не знаю, — ответил Имаи, — он мертв.
— Это хуже, конечно, — покачал головой Нагано, — с живыми работать как-то проще. Но я надеюсь, что его гроб с собой не таскаешь, догадался сфотографировать?
Имаи достал пачку снимков.
Нагано долго их рассматривал, потом прикрыл глаза, вспоминая. Покачал головой.
— Я его никогда не видел. А что за история?
Когда Имаи закончил рассказ, Нагано заметил:
— Конечно, ручаться ни за что нельзя, но если этот твой парнишка и промышлял чем-то, то почти наверняка наркотиками. Пойдем спросим у специалистов.
Он попросил Имаи постоять в коридоре.
— Подожди, я сам наведу справки. Ты следователь и должен обращаться официально. Я выясню у ребят по-дружески.
Имаи пришлось долго гулять по коридору, вызывая недоумение сотрудников. В этом крыле здания его не знали.
Наконец Нагано выглянул в коридор и позвал Имаи.
За столом сидел такой же, как и Нагано, пожилой инспектор. Грубоватые, практически без образования и без шансов на повышение, эти люди когда-то составляли костяк управления, но теперь постепенно выходили на пенсию, уступая место другому поколению, которое шло из полицейских школ. Новички были прекрасно осведомлены о технике полицейского дела, но Имаи чувствовал, что им не хватает глубокого знания преступного мира. Такие люди, как Нагано, куда лучше разбирались в психологии преступника, чем в способах обнаружения старых кровяных пятен методом агглютинации, и показатель раскрываемости у них был выше, чем у молодых.
— Имя Тадаки не приходилось слышать? — спросил инспектор.
Имаи отрицательно покачал головой.
— Это руководитель мелкой банды якудза, в свое время откололся от «Ямагути-гуми». Несколько дней назад его нашли убитым. Думаю, что люди его бывшего босса свели с ним счеты. Этот парень, — инспектор щелкнул пальцем по фотографии, — когда-то работал на Тадаки. Года полтора назад исчез, прежде чем мы успели заинтересоваться им. Поэтому нет на него никаких данных. Но у меня должно быть где-то записано его имя.
Инспектор встал и вынул из сейфа пачку одинаковых записных книжек, принялся неторопливо перелистывать их. Имаи и Нагано молчали. Имя отыскалось только в пятой по счету книжке, когда Имаи закурил уже вторую вонючую сигару.
— Осима. Запиши себе куда-нибудь, — сказал инспектор, запирая сейф.
Имаи, едва поблагодарив, помчался в Ханэда — опаздывал на самолет.
…Росовски не назвал Аллену главной причины, почему Норманом монопольно завладел сам резидент американской политической разведки на Японских островах. ЦРУ располагало не таким уж большим числом агентов в Японии. За последние годы их число уменьшилось. Сотрудники управления, привыкшие здесь к бесконтрольной свободе, почувствовали пределы своего могущества. Росовски был уверен, что уменьшением своего влияния они обязаны японским специальным службам, незаметно набиравшим силу. Самым опасным он считал потерю источников информации. Пока этот процесс был почти незаметен, но один за другим люди, снабжавшие ЦРУ важными сведениями, лишались к ним доступа. Сам Росовски не видел в этом ничего сверхъестественного. Япония, обретя экономическую самостоятельность, стремилась и к самостоятельности политической.
Но сотрудникам токийской резидентуры нелегко было перестраиваться. Опытные работники, такие, как Росовски, помнили другие времена.
Сразу же после оккупации на Японские острова высадилась большая группа сотрудников американских специальных служб. Поговаривали даже, что подлинное правительство Японии в период оккупации находилось в бывшем здании пароходной компании «Нихон юсэн биру», где разместились основные подразделения Джи-2 — 2-го отдела штаба оккупационной армии, занимавшегося разведкой и контрразведкой, и штаб армейской контрразведки Си-Ай-Си, пользовавшейся самостоятельностью благодаря возможности выхода наверх, прямо в Вашингтон. Джи-2 имел в своем распоряжении специальный отряд Си-Ай-Эс — секцию гражданской разведки, которая участвовала в выработке политики. Кроме того, в порту Йокосука расположилось Оу-Эн-Ай — управление военно-морской разведки. На всех военно-воздушных базах действовала Оу-Эс-Ай — контрразведка ВВС. Отдел гражданской цензуры контролировал всю корреспонденцию в стране, прослушивал телефонные разговоры. В те времена японцы получали заклеенные полоской целлофана конверты со штампом «вскрывалось».
Потом место армейских разведчиков заняли сотрудники образованного в 1947 году Центрального разведывательного управления, которым была предоставлена полная свобода действий. Пребывание в Японии работников управления было формально узаконено в одном из японо-американских соглашений. Подпункт «Д» третьего пункта 7-й статьи этого документа гласил: «Персонал второй категории в соответствии с международным обычаем признается обладающим привилегиями и свободой, установленными для определенных категорий в посольстве их страны. Правительство Соединенных Штатов в отношении персонала второй категории может отказаться от регистрационных номерных знаков, установленных для дипломатических машин, от внесения в списки дипломатического корпуса, от общественных почестей и других привилегий и почестей, связанных с положением дипломата».
В бедствовавшей, тяжело оправляющейся от военной разрухи Японии американцы легко находили людей, готовых служить им за полновесные доллары. Сотрудники ЦРУ не знали никаких проблем. Они подключались к телефонам политических деятелей, внушавших им сомнения. Росовски вспомнил, как в 1960 году, выложив немалую сумму в долларах, управление помешало переизбранию в парламент депутата оппозиции, который возглавил демонстрацию против визита в Токио тогдашнего президента США Дуайта Эйзенхауэра.
В те времена второй отдел главного полицейского управления Японии раз в неделю передавал токийской резидентуре ЦРУ сводку информационных материалов о положении в стране.
Теперь все изменилось, недовольно констатировали сотрудники токийской резидентуры. Они по-прежнему формально пользовались режимом наибольшего благоприятствования, но некоторые двери перед ними уже закрылись. История с «Храмом утренней зари» лишнее тому доказательство. Что же замышляют японцы? Мысли о «Храме» не давали Росовски покоя.
— А зачем вы лезете в наркотики? Это не ваша специальность, подозрительно посмотрел на Имаи инспектор Коно.
— Не бойтесь, хлеб отбивать не стану.
— А я и не боюсь, — хмыкнул инспектор, — я этого хлеба за одиннадцать лет службы переел, живот болит. Я другого боюсь. Ребята вашего отдела часто просят разрешения покопаться в моих делах. Они-то свое находят, да заодно спугивают мою дичь. Вот и получается, что вы мне только работу портите. Зачем же мне вас подпускать к своим делам?
У Имаи болела голова, почему-то было больно глотать — простудился в аэропорту, что ли? Ему хотелось высокомерно оборвать инспектора («Надо же, одиннадцать лет на одном месте сидит! Явно никаких способностей!»). Имаи часто хвалил американцев, которые пользовались системой тестов по определению коэффициента умственного развития. «Ведь совершенно очевидно, — говорил он приятелям в университете, — что люди рождаются с различным уровнем умственных способностей. И если с самого детства определить степень возможностей человека и соответствующим образом направить его, то он будет счастлив». Глядя на инспектора по наркотикам, он подумал, что по результатам тестов того следовало бы наверняка перевести в патрульные.
Но некоторый опыт служебных отношений, приобретенный на стажировке в хоккайдском штабе, заставил его ответить по-иному:
— Я готов выложить карты на стол. Мне нужно найти какие-нибудь следы вот этого человека. — Он достал фотографию Осима — человека, которого они с Касуга сбили на дороге. — Он был связан с местными торговцами наркотиками.
Инспектор бросил цепкий взгляд на фотографию.
— Я такого не видел.
— А что, если потолковать с кем-либо из ваших подопечных?
Инспектор нахмурился.
— Завтра я провожу одну операцию. Не ручаюсь за ее исход, но в принципе охота будет крупная. Поезжайте со мной. Поможете мне, я помогу вам…
Они просидели часа три в маленьком, душном кабинете инспектора Коно.
— Да-а, непростая предстоит работа, — заметил порядком уставший Имаи. Ночь почти не спал, плюс самолет, да еще простудился.
Он чувствовал себя совершенно разбитым, мечтал добраться до постели. Однако Коно, казалось, не ощущал ни малейшей усталости, вновь и вновь прокручивая детали завтрашней операции.
— Повторяю еще раз, — сказал он, обращаясь к трем полицейским, приданным ему в помощь. — Завтра примерно в полдень в этом баре, — он ткнул указкой в висевшую на стене схему квартала, — должна произойти передача партии наркотика. Так сообщил мне надежный осведомитель. Поэтому надо быть настороже, следить за каждым посетителем бара «Цудзи».
— А это точно? — спросил один из полицейских, тот, что помоложе. Вдруг они вообще не придут?
— Не исключено, — отрезал инспектор. — Но это не значит, что вы завтра можете бездельничать и пить пиво за казенный счет.
Полицейский покраснел, а Имаи с интересом посмотрел на инспектора Коно. Сам он, наверное, не сумел бы так резко ответить.
— Мы с инспектором Имаи сядем в баре, — продолжал тот, — вы займете наблюдательные пункты здесь, здесь и здесь. — Он указал каждому место. Связь со мной по радио. Ваша задача — запоминать водителей машин, которые будут парковаться рядом с баром. Всех, кто покажется подозрительным, немедленно задерживайте. Под любым предлогом. Лучше потом десять раз извиниться, чем упустить якудза с грузом наркотика. Все ясно?
Полицейские кивнули.
— Может быть, засядем в баре пораньше, часов с десяти? — предложил Имаи, когда они остались одни. — Около полудня — понятие неопределенное.
— Нельзя, — покачал головой инспектор. — Там, кроме продавца и покупателя, будет кто-то третий. Он проконтролирует передачу груза. Якудза не доверяют друг другу. Этот третий может нас засечь. Поэтому встретимся в баре в двадцать минут двенадцатого. Возьмите оружие, Имаи-сан.
Аллена не было в кабинете, но грохотавший чуть ли не на полную мощность телевизор свидетельствовал, что он вышел ненадолго. От привычки Аллена постоянно держать телевизор включенным Росовски начал беситься. Он испытывал сильное желание, воспользовавшись отсутствием хозяина, сломать что-нибудь в этом говорящем ящике. Но тут появился Аллен с кипой бумаг.
— Готовы? — буркнул он.
Росовски игнорировал этот вопрос, да Аллен и не ждал ответа. Он уселся поудобнее в кресле и, глядя на собеседника, сказал:
— Начинайте вы, потом я поделюсь своими соображениями.
Ночная встреча с Норманом принесла новые открытия. Агент разыскал следы «Храма утренней зари» в официальной переписке канцелярии премьер-министра.
Ватанабэ вошел в бар «Цудзи» без пятнадцати двенадцать. Он был в плохом настроении. Сейчас он передаст пакет с наркотическими препаратами (накануне вечером в отеле он внимательно изучил содержание свертка, врученного ему в Токио) какому-то посреднику и вернется, не выполнив задания Аллена. Сакаи не пожелал даже намекнуть, кому предназначаются препараты. Незаметно вручив бармену пакет и взяв чашку кофе, Ватанабэ уселся за столик и развернул «Хоккайдо симбун». Он ломал голову, как же выйти на людей, от имени которых действовал Сакаи. Бар был почти пуст, хотя в соответствии со своим названием «Цудзи» («Перекресток») находился рядом с пересечением двух оживленных улиц. Сидели лишь несколько молодых ребят, да в углу бара устроились еще двое: один помоложе, в хорошо отутюженном костюме, другой — более солидный — в куртке из крупного вельвета и без галстука. Судя по их раскрасневшимся лицам и оживленной беседе, они уже изрядно набрались.
Бармен с прилизанными редкими волосами лениво перетирал стаканы за стойкой. «Наверняка работает на Сакаи», — подумал Ватанабэ. Если он не выполнит поручения, его могут убрать с линии, и тогда прощай заработок, к которому он привык, участвуя в бизнесе на наркотиках. Что же делать?
Раздумывая, он тупо смотрел на газетный лист, инстинктивно морщась, когда двое выпивох за дальним столиком начинали слишком громко смеяться.
Имаи сразу обратил внимание на молодого, спортивного вида человека, который читал местную газету. Он был слишком сосредоточен и серьезен для посетителя бара. Но и на якудза походил мало. Скорее уж тот парень в джинсовой куртке, занявший столик у входа. Неприятная у него физиономия, маленький шрам на подбородке. Он сидел в профиль к Имаи, и шрам был хорошо виден. На парня обратил внимание и инспектор Коно. Имаи понял это, когда Коно, не переставая рассказывать смешные истории и громко хохотать, несколько раз оглянулся, будто хотел разглядеть, какие сорта виски они еще не пробовали. В бар входили и выходили люди, но друг с другом не общались, выпивали свою порцию и исчезали. Имаи знал, что на всякий случай их всех фотографируют. Он все время смотрел на часы. Четверть первого. Уже много времени. Неужели их обвели вокруг пальца? Или встреча сегодня не состоится?
Ватанабэ узнал курьера по описанию: Сакаи дважды повторил ему приметы этого невзрачного человека в дешевом черном костюме, который должен был забрать у бармена принесенный Ватанабэ пакет и оставить деньги. Курьер уйдет из бара только после того, как Ватанабэ возьмет деньги и убедится в правильности суммы, объяснил Сакаи. Ни на кого не глядя, курьер попросил бармена завернуть ему несколько пакетиков с солеными орешками, небрежным жестом дал ему крупную купюру. Никто и не заметил, что он передал бармену сверточек плотно сложенных банкнот достоинством в десять тысяч иен каждая. Покопавшись за стойкой, бармен протянул курьеру бумажный пакет, из которого выглядывала целлофановая упаковка арахиса. Теперь настала очередь Ватанабэ: он должен был забрать деньги. Свернув газету, Ватанабэ собрался встать, но вдруг в нарушение договоренности курьер, держа в левой руке пакет, куда бармен должен был положить наркотические препараты, повернулся и вышел из бара. И в ту же секунду Ватанабэ уловил движение за соседним столиком. Двое выпивох, забыв о бутылках, которыми они любовно запаслись, резко встали. Лица у них были серьезные, совсем не пьяные. Эта внезапная перемена Ватанабэ не понравилась.
Конечно, Имаи не мог уследить за манипуляциями бармена — это был профессионал. С лица человека за стойкой не сходила улыбка. Но когда он долго обслуживал человека в костюме, Имаи показалось, что бармен побледнел, на высоком лбу заблестели капли пота. И улыбка его в тот момент походила скорее на гримасу.
— Пойдем быстрее. — Имаи выскочил из-за столика и потянул за собой инспектора.
Тот поднялся, немного удивленный.
— Ты думаешь…
Но Имаи уже был у входа.
Он выбежал на улицу, но человека в черном, не по сезону, костюме уже не было. Имаи побежал к переулку, оттуда вылетел красный микроавтобус с желтой полосой и скрылся за поворотом.
Появился один из полицейских. Имаи набросился на него.
— Почему не задержали этого, в микроавтобусе?
Полицейский замялся:
— Да я документы проверил у него — в порядке. Микроавтобус его.
Подбежал запыхавшийся инспектор по наркотикам.
— Бармена я приказал отправить в отдел. Сейчас мы с ним побеседуем.
— Где ваша машина? — нетерпеливо спросил Имаи у инспектора.
Прохожие с интересом оглядывались на человека в вельветовой куртке, доставшего длинный плоский предмет с антенной. По сигналу инспектора Коно подъехала полицейская машина. За руль уселся Имаи. Через штаб полиции были оповещены патрульные автомобили. Одна из машин отозвалась; несколько минут назад разыскиваемая машина проехала мимо патруля. Ярко-красный микроавтобус с желтой полосой торопился покинуть пределы города. Имаи включил сирену.
Следующее сообщение поступило от полицейского поста на окраине города: микроавтобус шел с превышением скорости.
На сельской дороге, по которой от преследования стремительно уходил красный микроавтобус с желтой полосой, погоня продолжалась еще полтора часа.
Инспектор Коно безостановочно ругался со штабом, но безуспешно: на всем пути микроавтобуса не оказалось ни одной радиофицированной полицейской машины. Преступник ехал беспрепятственно. Наконец в воздух подняли полицейский вертолет. Когда он сообщил координаты микроавтобуса, лицо Имаи стало хмурым: несколько дней назад в этом самом месте они с инспектором Касуга сбили неизвестного.
Норман, получив от резидента задание выяснить, что такое «Храм утренней зари», рассуждал так: есть основание полагать, что речь идет о каком-то мероприятии, операции, акции, к которой причастно бюро расследований. Даже самое секретное дело неминуемо обрастает бумагами, дающими о нем пусть косвенное, но представление.
Первое, что сделал Норман, — он поинтересовался, не получает ли канцелярия премьера, где он работает, корреспонденции из бюро расследований общественной безопасности. Вначале ему сказали, что прямой переписки между канцелярией премьера и бюро не может быть, потому что бюро подчинено министру юстиции и все бумаги идут через его секретариат. Но поскольку Норман некоторое время работал в департаменте по делам персонала канцелярии премьер-министра и у него остались кое-какие связи, то он довольно скоро выяснил: не так давно начальник канцелярии отдал негласное распоряжение: при выполнении особо важных поручений, «имеющих отношение к безопасности государства» (как выразился начальник канцелярии), бюро расследований отчитывается, минуя непосредственного начальника — министра юстиции. «Зачем это понадобилось, не знаю, — сказал Норману его знакомый, поведавший о распоряжении начальника канцелярии. — О таких делах министр юстиции все равно должен быть осведомлен, правда ведь?»
У Нормана был ключ от сейфа секретаря его начальника. Раз в неделю Норман, задержавшись после окончания рабочего дня, обследовал сейф. Фотоаппаратурой его снабдили американцы. На сей раз его интересовала книга учета входящей секретной корреспонденции. Он выписал регистрационные номера десяти бумаг, поступивших из бюро расследований. Причем для передачи по инстанции самому начальнику канцелярии премьера.
В графе «Содержание поступившей корреспонденции» лаконично отмечалось: «Финансовый отчет». Все десять писем поступили за последние два с половиной года.
На следующий день Норман пришел в секретариат и, извинившись, сказал, что в новом деле, которое ему поручили, содержится ссылка на одно служебное письмо, а он совсем не помнит его содержания. Не могли бы в секретариате помочь ему? И он назвал номер письма, полученного из бюро расследований.
Молоденькая секретарша, порывшись в картотеке, сказала, что в деле наверняка ошибка, — письмо за таким номером не занесено в картотеку. Норман, посмеявшись вместе с ней, ушел.
После обеда он появился в экспедиции канцелярии премьер-министра и принялся долго объяснять начальнику, что вот потерялось несколько писем, у него есть их номера. Может быть, сотрудницы экспедиции вспомнят, куда их сдавали. Вспоминали долго. Норман терпеливо ждал. Последнее из десяти писем, которые его интересовали, пришло совсем недавно.
— Да, — неожиданно сказала полная женщина в очках, — я помню эти письма.
Норман отвел ее в сторону.
— Это секретная корреспонденция. По инструкции я, распечатав, передаю ее…
— Да, да, я знаю, — прервал ее Норман, — эти письма относились к техническому оснащению токийской полиции, и я хотел…
— Нет, вы ошибаетесь, — ответила она, — это были короткие докладные записки, подписанные директором бюро расследований, примерно следующего содержания: «Настоящим подтверждаю израсходование выделенной суммы». Подпись. И все.
— Не может быть! — изобразил удивление Норман.
— Да, больше ничего. — Она задумалась. — Хотя нет, вверху два иероглифа: «Храм утренней зари». Не понимаю, зачем на письма надо было ставить пометку «Секретно»? Ничего секретного там не было.
— Верно, произошла какая-то ошибка, — сказал Норман, — извините, что побеспокоил вас…
— История становится все более занятной, — заметил Аллен. — «Храм утренней зари» замыкается на весьма высокие сферы японского истэблишмента. Хотя мы по-прежнему даже не представляем себе, что кроется за этим красивым названием. Что у нас есть о начальнике канцелярии? — обратился он к Росовски.
— Мы подняли не только все архивы посольства, но и связались с отделением биографических данных центральной библиотеки государственного департамента. Начальник канцелярии премьера считается партийным функционером и бюрократом, у которого нет своего политического лица, но который отлично умеет организовать работу. За это его, дескать, и ценит премьер. При внимательном рассмотрении его фигура кажется более колоритной. В юности, перед войной, он был членом общества «Черный дракон». Эта организация…
— Ультраправые. Мечтали о мировом господстве Японии. Я знаю, продолжайте, — перебил его Аллен.
— О мировом господстве Японии мечтали многие, но «Черный дракон» организация военного характера, которая готова была добиваться поставленных перед ней задач любыми средствами. Как-то мало вяжется членство в тайном обществе с образом аккуратного чиновника без политических амбиций.
— Грехи молодости, — сказал Аллен, занятый раскуриванием трубки. Он безостановочно чиркал плоскими спичками, на которых было написано по-японски и по-английски: «Благодарим вас».
«Прихватил в ресторане», — подумал Росовски.
— В круг общения начальника канцелярии входят всего два человека: бывший министр финансов Содо Итикава и бывший начальник управления национальной обороны Рицу Фукуда. Оба — депутаты парламента, причем влиятельные. Итикава — глава одной из фракций правящей партии, которая называется «Общество встреч по понедельникам». Считают, что фракция Итикава помогла нынешнему премьеру удержаться в кресле во время последнего кризиса. Взамен премьер назначил человека Итикава начальником своей канцелярии. — Росовски посмотрел на Аллена.
— Это чья точка зрения? — спросил тот.
— Я выудил это из аналитического отчета нашего политического отдела.
— Источник?
— Неизвестный японский информатор, видимо из парламентских кругов.
— Для вас не должно быть неизвестных информаторов, — сделал замечание Аллен.
— Как бы не так! — разозлился Росовски. — Аппарат политических советников терпеть не может наше ведомство. Уж они-то никогда не откроют свои источники, хотя вовсю пользуются нашими.
— Надо будет поговорить с послом, — пробормотал Аллен. — Продолжайте, пожалуйста.
— Рицу Фукуда вынужден был уйти в отставку после того, как открыто заявил, что Япония должна обладать собственным потенциалом для ведения ядерной, химической и бактериологической войны. Несмотря на скандал и шумиху в прессе, он после отставки был избран депутатом и занял пост председателя комитета правящей партии по вопросам безопасности. Они часто собираются втроем в загородном доме Итикава. Итикава ярый националист, у нашего посольства с ним плохие отношения, поскольку он считает, что Япония слишком зависит от Штатов.
— Ярко выраженный тип шовиниста? Превосходство желтой расы и все прочее?
— Он никогда не высказывается на политические темы публично, но весьма активно участвует в закулисной дипломатии.
Аллен подошел к телевизору и переключил программу. Вместо мультфильма появилась роскошная белокурая красотка с флаконом духов новой марки в руках, которая, ни слова не говоря, несколько секунд призывно покачивала бедрами, чтобы уступить место детишкам, восхищенно взиравшим на новую игрушку.
— Вся эта информация хотя и любопытна, — сказал Аллен, не отрываясь от экрана, — но ничего нам не дает.
— Есть две интересные детали. — Главные козыри Росовски, как опытный игрок, оставил под конец. — До войны Итикава работал в Маньчжурии, в правлении Южно-Маньчжурской железной дороги. Вместе с ним работали Рицу Фукуда и нынешний начальник канцелярии премьер-министра. Это первая деталь. Вторая: в начале пятидесятых годов, когда американцы уходят, Рицу Фукуда избирается губернатором префектуры Сайтама. Своим заместителем он делает все того же нынешнего начальника канцелярии премьера. Одновременно там же появляется Итикава. В префектуре у него нашлись какие-то деловые интересы. Вся троица опять собирается вместе, но появляются и новые лица: начальник префектуральной полиции и прокурор. Они тоже работали в годы войны в Китае. В так называемом исследовательском отделе Южно-Маньчжурской железной дороги — иначе говоря, в разведке. Вы знаете этих людей: один из них теперь руководит государственным комитетом по обеспечению общественной безопасности (у него работает Норман), другой — Кубота — возглавляет бюро расследований.
Они почти догнали микроавтобус у ворот клиники профессора Ямакава. Подъезжая, видели, как водитель автобуса вылез из кабины, позвонил. К удивлению Имаи, вместо старого сторожа ворота открыли двое высоких парней в застегнутых пиджаках. Микроавтобус въехал на территорию клиники, и ворота закрылись.
— Что будем делать? — спросил инспектор Коно. — Нужен ордер на обыск.
— И десяток полицейских, чтобы прочесать всю территорию, — добавил Имаи. — Надо связаться со штабом.
Через полчаса появились две машины, набитые полицейскими в форме. И почти одновременно из ворот клиники выехал микроавтобус. Имаи развернул свою машину поперек дороги. Водителю микроавтобуса пришлось остановиться. Он высунулся из окошка:
— В чем дело?
Имаи показал ему удостоверение.
— Вылезай.
Водитель, молодой парень, вытащил водительскую лицензию.
— Я ничего не нарушил, — растерянно сказал он.
Инспектор Коно прошептал Имаи на ухо:
— Тот, из бара, видно, остался в клинике. Придется ее обыскать. Если он, конечно, уже не ушел через какой-нибудь черный выход.
Имаи подозвал одного из приехавших полицейских.
— Отвезешь этого в Саппоро. Ордер на его арест уже должны были выписать.
Коно показал Имаи ордер на обыск в клинике — его привезли полицейские.
— Пойдемте.
Они подошли к воротам.
Навстречу им вышел широкоплечий молодой человек, которому они показали ордер.
— Эту затею вам придется оставить, — хладнокровно сказал он, ознакомившись с документом, и предъявил в свою очередь удостоверение сотрудника бюро расследований общественной безопасности министерства юстиции. — В связи с чем вы хотели произвести обыск? — спросил он.
— Подозрение на хранение наркотиков.
— Мы здесь находимся не один день. Могу вас уверить, что здесь нет никаких наркотиков. Мы выполняем особое задание и не можем вам позволить войти сюда.
— Но ордер…
— Только по согласованию с нашим начальством в Токио. Пусть ваше руководство договорится.
Имаи испытывал острое желание приказать полицейским арестовать этого наглеца и все-таки обыскать клинику. Инспектор Коно отвел его в сторону.
— Нам придется уйти, — сказал он вполголоса. — Сами видите, эти ребята не пойдут на попятную. А вступать в схватку с их ведомством мы не можем.
Имаи бросил сигару, которую только что вытащил из алюминиевого футляра, и пошел к машине. Усаживаясь рядом с ним, Коно усмехнулся:
— Двоим полицейским я велел вылезти на повороте и спрятаться в роще около клиники. Пусть понаблюдают, что вокруг нее происходит.
…Из бара «Цудзи» Ватанабэ вышел сразу же за полицейскими, сообразив, что подходить к бармену за деньгами уже бессмысленно. Пока полицейские в штатском и в форме что-то оживленно обсуждали, Ватанабэ, усевшись в свою машину, догнал красный микроавтобус с желтой полосой. Держась на приличной дистанции, Ватанабэ ехал за микроавтобусом до клиники Ямакава. Увидев, что сзади появились две полицейские машины, он развернулся и поехал назад в Саппоро. Теперь он знал, что ему делать.
— Все это пока что не приблизило нас ни на шаг к разгадке «Храма утренней зари». Сама по себе информация интересная, но…
— Во всяком случае, мы можем предполагать теперь, что уцепились за что-то очень серьезное, раз действующими лицами являются столь высокопоставленные особы, — возразил Росовски.
— Резидент, кстати, тоже засомневался. Первое, что он спросил: «А чем это может нам помочь? Всем известно, что в Японии политику делают группы, фракции, назовите их как угодно. И если Содо Итикава создал группу, которая подбирается к власти, то заниматься этим должен политический отдел. Передайте туда эту информацию, пусть доложат Вашингтону, присовокупив, что выяснили все это благодаря собственному интеллекту и долгой аналитической работе». Но потом резидент все же согласился послать человека в префектуру Сайтама, чтобы порыться в прошлом наших подопечных.
Аллен рассказывал, энергично расхаживая по комнате. Его приятно волновало общение с людьми, занимающими более высокое положение, чем он сам.
— В последние дни наши подопечные активно контактируют друг с другом, — заметил Росовски. — Начальник комитета общественной безопасности дважды был на этой неделе у Итикава. Один раз вместе с начальником канцелярии премьера.
— Нельзя всадить аппаратуру этому Итикава? — поинтересовался Аллен.
Росовски отрицательно покачал головой.
— Его личная охрана — в основном бывшие полицейские — бдительно сторожит дом. Не подступишься.
— Вне зависимости от итогов поездки в префектуру Сайтама необходимы срочные шаги. Что вы предлагаете?
— У нас нет подступов к бюро расследований, — в утверждении Росовски все же сквозила вопросительная интонация, словно он надеялся на какие-то известные одному Аллену источники информации.
Но Аллен никак не реагировал.
— В принципе можно было бы обратиться в Федеральное бюро расследований США, — неожиданно сказал Росовски, — но даже если они и могут помочь, наверняка не захотят.
Глухая вражда между специальными службами (несмотря на усилия Совета разведки США, куда входили представители всех заинтересованных ведомств, и попытки координировать их работу) свела на нет практику обращения за помощью к коллегам. ФБР не могло простить ЦРУ того, что ведомство Гувера оттеснили от международных дел. ФБР доставалась только черновая работа, вроде ареста иностранных агентов, уже разоблаченных ЦРУ.
Но Аллена идея заинтересовала.
— А почему ФБР?
— Очень просто, — ответил Росовски. — Японское бюро расследований в свое время скопировали с ФБР. И в прежние времена они поддерживали с ФБР неплохие контакты, ездили к Гуверу учиться и перенимать опыт.
— Пожалуй, это мысль! — Аллен воодушевился. — Надо немедленно послать запрос. Моим личным кодом. Важную информацию надо не только получить, но и суметь сохранить.
Росовски понял, что идею с ФБР Аллен уже считает своей.
— Боюсь, что… — начал он.
— Не надо бояться, — покровительственно сказал Аллен. — Один из заместителей директора ФБР мой старый друг.
Когда раздражение от неприятного разговора у ворот лечебницы немного улеглось, Имаи подумал, что все это дело вообще его не касается. Его дело — раскопать историю с Осима, сбитым на дороге. Он не стал возвращаться в Саппоро, а поехал в ту же деревушку, где однажды ночевал и где ночью к нему в комнату пытались проникнуть неизвестные. Он надеялся, что местные полицейские что-нибудь нашли.
Начальник отделения, хоть и заставлял себя улыбаться, был явно недоволен появлением Имаи. Во-первых, присутствие постороннего нарушало привычный образ жизни. Во-вторых, Имаи понял это сразу, полицейские не ударили палец о палец, чтобы найти ночных взломщиков.
Имаи обосновался у телефона, собираясь затем позвонить в Саппоро, чтобы выяснить, какие там новости. Но когда он, вытащив свой блокнот, вновь сосредоточился на деле Осима, ему позвонил инспектор Коно. Слышимость по спецсвязи была прекрасной, и Имаи сразу уловил его огорченный тон.
— Шофера пришлось отпустить. Бармен клянется, что ни в чем не замешан. Хотя у него нашли несколько наркотических препаратов. Я такие, правда, в первый раз вижу. Во всяком случае, бармена-то мы упрячем за решетку, но ордер на обыск клиники начальство не дало. Ищем того человека из бара, но пока безуспешно. Словом, неудача, только спугнули якудза.
После разговора с инспектором Коно Имаи опять погрузился в свою записную книжку. Переждав обеденное время, он принялся звонить в штаб полиции.
— Это инспектор Имаи, — сказал он дежурному. — Мне надо…
— Хорошо, что вы позвонили, инспектор Имаи, — лишенным всяких эмоций голосом сказал дежурный. — Вас ждет заместитель начальника штаба. Приезжайте немедленно.
Выяснить адрес сторожа клиники оказалось не таким уж трудным делом. Ватанабэ, чтобы не терять времени, приехал к старику домой. Глядя тому прямо в хитрые, алчные глаза, Ватанабэ откровенно сказал, что ему нужно. Не дав сторожу опомниться, он встал, повторив, что будет ждать старика через два часа в ресторанчике на окраине Саппоро.
— И еще… — Заместитель начальника штаба полиции посмотрел на Имаи поверх очков в тонкой золоченой оправе. — Вы до сих пор не завершили порученного вам дела. Вы прибыли к нам на практику с хорошими рекомендациями, и мы надеялись, что сможем помочь росту молодого сотрудника полиции. Но вы не оправдали наших надежд. Я даю вам два часа на завершение дела об этом ночном происшествии. Сдайте отчет начальнику отдела. Он же сообщит вам, где вы будете работать впредь.
Имаи, поклонившись, вышел.
Он и не подозревал, что час назад его собеседнику позвонил раздраженный губернатор, который, осведомившись о здоровье (это было плохим признаком), минут десять неторопливо читал вслух газетную статью с перечислением нераскрытых хоккайдской полицией тяжелых преступлений. Накаляясь от гнева, заместитель начальника штаба полиции вынужден был выслушивать иронические фразы в адрес блюстителей порядка, у которых на все есть время, кроме расследования преступлений.
— Этот парень знает, что пишет, — с издевкой сказал губернатор. — Только сегодня мне жаловались на вас. Вместо того чтобы заниматься делом, ваши люди мешали сотрудникам бюро расследований выполнять свои функции, пытались проникнуть в клинику уважаемого профессора Ямакава под нелепым предлогом. Как все это понимать?
После разговора в таком тоне и последовал вызов Имаи в штаб. В штабе полиции откровенно не любили бюро расследований, и в поведении Имаи не было бы криминала, если бы не предстоящие муниципальные выборы — после переизбрания губернатор может обновить руководство полиции. Вызывать его недовольство сейчас было просто глупо.
В назначенное время Ватанабэ сидел в машине, поставленной наискосок от бара, и спокойно наблюдал за входом. Если бы сторож пришел не один, то можно было бы сразу свернуть налево и исчезнуть.
Сторожа он увидел издалека и удовлетворенно усмехнулся. Алчность пересилила страх. Отметил парадный вид старика — галстук, коричневый пиджак, застегнутый на все пуговицы. Выждал, пока тот исчез за стеклянной дверью, только после этого вылез из машины и вошел в бар.
Около стойки он тронул за плечо сторожа.
Тот испуганно обернулся, но, узнав, радостно поздоровался.
— А я вас ищу.
Они отошли к столику в глубине бара.
Ватанабэ пристально посмотрел сторожу в глаза. Старик чувствовал себя явно не в своей тарелке, мялся. Наконец не выдержал:
— Я решил отказаться.
Он заискивающе посмотрел на собеседника, но Ватанабэ молчал.
— Опасаюсь я, — продолжал сторож, — вдруг узнают, кто вам ключи дал. Если за меня возьмется полиция, я все расскажу. Уволят. А здесь служба постоянная. Хоть и платят мало… Так что решил я отказаться, — опять повторил он, но уже не так уверенно.
Ватанабэ, нагнувшись над столиком, внятно сказал:
— Триста тысяч сразу, еще триста потом.
Сторож открыл рот…
— А вы обещаете, что все будет аккуратно, никто не заметит и вообще…
— Деньги отдам в машине, — сказал Ватанабэ, поднимаясь.
Сторож засеменил за ним.
Проехав пару улиц, Ватанабэ остановил машину. Протянул сторожу конверт.
— Давай ключи. Я сейчас пойду сделаю дубликаты.
— Не надо, — ответил сторож, вынимая из кармана пиджака завернутые в газету ключи. — Это я сам сделал для вас.
Ватанабэ не удивился. Пока сторож пересчитывал деньги, он расправил на твердой папке большой лист бумаги.
— Мне нужна схема, — объяснил он, — где находится сигнализация и как добраться до кабинета.
К сторожу вернулась боязливость. Рука, которой он взял карандаш, дрожала.
— От ворот метров четыреста — главный корпус. Его нужно обойти с правой стороны. Там увидите маленький домик. В двери один замок. — Он показал Ватанабэ ключ. — Два поворота против часовой стрелки. Сигнализация есть только в главном корпусе. Кабинет его — как войдете, чуть вперед по коридору и направо. Ключ от кабинета сторожам не дают. Я за пять лет там ни разу не был.
— Ночью ты один?
— В летнее время, кроме сторожа, ночью ни души, — подтвердил он.
Часов в одиннадцать Росовски стал шарить по книжным полкам, раздумывая над тем, что бы ему почитать на сон грядущий. Он равнодушно перебрал несколько новых романов, но ни на одном из них не остановился, а вытащил книгу, в свое время прочитанную с карандашом в руках. Росовски заканчивал университет, готовился посвятить себя изучению Японии и выпущенную гарвардскими профессорами монографию «Ближайшие шаги в Азии» изучил досконально. В Японии еще стояли оккупационные войска, и в книге обсуждалась текущая американская политика.
Росовски перелистал несколько страниц.
«…Американцы рассматривали оккупацию Японии как альтруистическую попытку, предпринимаемую Соединенными Штатами ради спасения преступной нации и ее исправления, с тем чтобы в будущем она стала полезным членом семьи народов».
Росовски даже улыбнулся, читая эти отчеркнутые карандашом строчки. Как бы не так! Может быть, в штабе командующего американскими оккупационными войсками генерала Макартура и было несколько человек, искренне стремившихся способствовать демократизации Японии, ее освобождению на веки вечные от милитаризма, да их достаточно быстро отправили обратно в США.
«Поскольку Соединенные Штаты нанесли Японии поражение почти без посторонней помощи, американцы считали, что будет логично, если они от имени всего мира возьмут на себя задачу преобразования Японии… Американцы ревностно охраняли свое исключительное право формулировать и осуществлять оккупационную политику в Японии».
«Что ж, — подумал Росовски, — дело историков переосмыслять историю. Конечно, приятнее считать, что Америка справилась с японцами сама, и забыть, как русские разгромили основные сухопутные силы императорской армии. Впрочем, — пожал плечами Росовски, — мы первыми высадились на Японских островах, и естественно, что мы старались сделать из этой страны нашего союзника. Цель стоила средств».
Росовски выключил верхний свет и лег. «Самое удивительное, — подумал он, — что многие японцы после оккупации изъявили желание сотрудничать с новой властью. Это было полной неожиданностью для американцев, ожидавших от фанатически сражавшихся японцев чего-то вроде партизанской борьбы. Подозревали, что японцы маскируют своей готовностью сотрудничать с американцами некий дьявольски хитрый замысел с целью усыпить их бдительность и обмануть. Американцы недооценили приспособленческий характер этики японцев, — продолжал размышлять Росовски. — Во время войны рядовой японец сражался главным образом из чувства долга. Его святой обязанностью было в случае необходимости безмолвно умереть, пожертвовать жизнью ради процветания императорского дома. Однако, когда капитуляция была должным образом оформлена японским правительством, все изменилось. Сказалась привычка к подчинению властям. Американцы стали властью, и большинство японцев без внутреннего сопротивления им покорилось».
У Росовски совсем прошел сон. Он лежал с необыкновенно ясной головой и размышлял. Он приехал в Японию, когда нанесенные войной раны уже зарубцевались. Разрушенные бомбардировками кварталы отстроили заново, нищета уже не бросалась в глаза. Что здесь творилось сразу после войны, он мог себе представить только по рассказам ветеранов и «Японскому дневнику» Марка Гейна. О бедственном положении страны — итог развязанной Токио войны — свидетельствовала впечатляющая деталь тогдашнего японского быта, воспроизведенная Гейном: в ясный солнечный день мужчины высовывались из окон и старались прикурить сигарету при помощи увеличительного стекла…
Японцы долгие годы были самыми преданными союзниками США. Что же происходит теперь? На словах правительство еще раскланивается перед Вашингтоном, но по сути гнет свою линию.
Значит, японцы считают, что Америка больше не олицетворяет некую власть, которой приходится покориться? Америка слабеет, а Япония крепнет.
Росовски сумел уснуть, только приняв снотворные пилюли жены — их рекомендовал посольский врач как наименее вредные.
…Ватанабэ нажал кнопку на часах — красные точечки сложились в цифру три. Глаза уже привыкли к темноте, и он хорошо различал силуэты деревьев, высокий забор. Вслушиваясь в тишину, он минут пятнадцать стоял не двигаясь, но вокруг было спокойно. Осторожно ступая, подошел к забору, подпрыгнув, подтянулся, в два приема легко перебросил тренированное тело на ту сторону. Осмотрелся. Поодаль светилось окно в домике сторожа. Под ногами он чувствовал мягкую землю, садовники аккуратно очищали территорию от листьев и сучьев.
Через минуту он достиг главного корпуса. Трехэтажное здание без единого огонька казалось мрачным. Также легко он отыскал маленький домик. Обошел его со всех сторон. Вход один. Все шесть окон заперты.
Он надел перчатки, мягким движением сунул в замочную скважину ключ, переданный сторожем, дважды повернул. Нажал на ручку. Дверь бесшумно отворилась.
Компактный фонарик, умещающийся в ладони, давал достаточно света. Плотно притворив дверь, он вдруг решил запереть ее на ключ, хотя сначала не собирался этого делать.
Кабинет представлял собой небольшую квадратную комнату, обставленную по-европейски. С письменным столом, несколькими стульями, большим книжным шкафом, которые он не торопясь обследовал под острым лучом фонарика. Просмотрел бумаги на письменном столе, с помощью универсальной отмычки вскрыл ящики стола. Ничего интересного. Но это его не обескуражило.
Он подошел к незастекленному шкафу, уставленному солидными томами. Несколько минут тщательно осматривал и ощупывал полки. Потом резким движением потянул одну из них на себя. Три фальшивые полки, скрепленные между собой, откинулись на петлях, открыв прямоугольник сейфа.
Сейф был не номерной — просто большой несгораемый шкаф, но с массивными стенками. Он посмотрел на часы: 3.30. Прошло всего полчаса. Можно повозиться. Набор инструментов у него был с собой. Он установил фонарик так, чтобы замок сейфа был освещен, и принялся за дело. Работать было неудобно, потому что мешали нависавшие со всех сторон книжные полки.
Он провозился около часа, прежде чем замок начал поддаваться. Остановившись на секунду, чтобы вытереть пот со лба, он вдруг услышал звук, заставивший его насторожиться. Он молниеносно сгреб инструменты, поставил полки на место и бросился к окну, выходившему на асфальтированную дорожку.
Теперь он уже явственно слышал звук автомобильных моторов, а затем на асфальте заиграли лучи фар.
Тишины как не бывало. Раздались громкие голоса, шаги, машины разворачивались и становились где-то рядом с домиком. Он прижался к стене, внимательно прислушиваясь к тому, что происходило снаружи. Голоса приблизились — неизвестные явно обходили дом вокруг, проверяя сохранность оконных запоров, кто-то подергал ручку входной двери. Он мысленно похвалил себя, что догадался запереть замок.
Голоса стихли. Красные цифры на часах подавали сигнал тревоги — уже 4.30. Скоро станет светло. Он выскользнул из комнаты. Кроме кабинета, в домике были маленькая кухня, туалет и комната в японском стиле, устланная татами. Ее окно смотрело в лес. Он открыл оконные задвижки, осторожно высунул голову — никого. Спрыгнул на землю и прикрыл окно. Быстро побежал через лес к забору. Из-за деревьев осторожно выглянул. На маленькой стоянке возле главного корпуса стояли три одинаковых автомобиля. В нескольких комнатах был зажжен свет, у входа стоял человек и курил.
Ватанабэ перелез через забор довольно далеко от своей машины и побежал к ней.
Его «глория» стояла на обочине дороги, параллельной той, что вела к воротам, и ни с одной стороны не просматривалась. Однако возле нее он увидел рослого молодого парня, который стоял, засунув руки в карманы.
Полицейский? Если что-то случилось, то по номеру они легко доберутся до него. Там, в домике, он не оставил никаких следов, но машина покажется им подозрительной. Неужели сторож испугался и донес?
Ватанабэ, пригибаясь, неслышно подобрался сзади и, бросившись на парня, сильно ударил его по голове. Тот рухнул на землю. Ватанабэ быстро обшарил его карманы. Под пиджаком — наплечная кобура. Из кармана вытащил удостоверение: «Бюро расследований общественной безопасности министерства юстиции».
Он вынул небольшую ампулу с острым, как иголка, концом и сильным движением воткнул ее парню в правое ухо. Тот обмяк.
Использованная ампула исчезла в потайном кармашке брюк, и он бросился к машине.
Загородный дом Содо Итикава построил недалеко от курорта Атами, известного своими горячими источниками. Атами — местечко людное, в сезон пустого номера в отеле не найдешь, загодя надо бронировать. Но дом Итикава стоял в стороне от скоплений отдыхающей публики.
В свое время не раз избиравшийся депутатом, министр в одном из послевоенных кабинетов, Итикава лет десять как отошел от активной политической деятельности. Это произошло, когда ему перевалило за семьдесят. Широкая публика давно забыла о нем, журналисты не баловали вниманием. Но автомобильная стоянка возле его роскошного загородного дома редко пустовала, количество телефонных звонков не уменьшалось, ему даже пришлось нанять еще одного секретаря. К нему заглядывали весьма влиятельные люди, руководители фракций правящей консервативной партии, министры. Они приезжали не ради того, чтобы выказать ему уважение в День почитания престарелых, как это заведено в Японии. Они приезжали за помощью.
Итикава был своего рода крестным отцом, он пользовался большим уважением в подпольном мире, к его словам прислушивались якудза. С послевоенных времен он служил посредником между преступным миром и правыми политиками, которые весьма нуждались в помощи якудза. Однако тесные связи с организованной преступностью были не единственным источником его власти…
Перед домом, адрес которого Ватанабэ назвал Морита во время вчерашнего разговора, стояла одинокая машина синего цвета марки «королла».
За рулем сидел человек, внимательно наблюдавший за улицей в зеркало.
Когда Ватанабэ подошел, человек вылез из машины и ушел, не оглядываясь. В связку ключей была просунута записка: «Документы — в ящичке для перчаток. Когда минует надобность в машине, оставьте ее на стоянке в аэропорту».
У ближайшего телефона Ватанабэ остановился. Набрал токийский номер. Откликнувшийся голос был ему незнаком.
— Я хотел бы поговорить с Морита-сан.
— К сожалению, его нет. Что передать?
— А когда он будет?
— Точно не могу сказать. Возможно, через день-два.
Ватанабэ огорчился: таксист Морита был ему необходим, чтобы посоветоваться, что делать дальше.
Ему захотелось есть, да и до ночи надо было как-то убить время. Сегодня он предпримет еще одну попытку. Он зашел в небольшую закусочную, чтобы похлебать горячего супа и съесть свежей рыбы. Люди сидели под открытым небом, ожидая, когда невысокая пожилая женщина обнесет их горячими влажными салфетками, поставит чашки с дымящимся супом. Сам хозяин тут же жарил рыбу и раскладывал ее по тарелкам. Креветки были маленькими, суп чересчур жидким.
…Росовски изумленно вскинул брови: ответ пришел меньше чем через двенадцать часов. Конечно, он знал, что ФБР еще при Гувере напичкало свою штаб-квартиру всякого рода техникой и при желании требуемая информация может быть получена немедленно. Но с какой стати им стараться не для себя, а для других? Аллен, видимо, не соврал, рассказывая о своей дружбе с кем-то из начальства ФБР.
— Фотографии мы получим позже, — сообщил Аллен.
Высокий блондин с каменным выражением лица, которого Росовски видел на встрече с Норманом, согласно кивнул.
В шифровке сообщалось, что пять лет назад некий Исида, работник бюро расследований, во время пребывания в Штатах по приглашению ФБР в пьяной драке проломил бутылкой голову какому-то завсегдатаю бара, где японец очутился после целого дня «знакомств с достопримечательностями города». Исида быстро увезли из бара, а затем тихо отправили в Японию, внушив, что его вытащили, можно сказать, из тюрьмы, и получив согласие на сотрудничество. Однако его услугами пока не пользовались.
Дополнительно должен был прибыть пакет с фотографиями, где Исида запечатлен скрытой камерой в том злосчастном для него баре.
Блондин поднялся.
— И не церемоньтесь с ним, — сказал вдогонку Аллен.
— А если Исида ничего не знает о «Храме»? — поинтересовался Росовски.
— Пусть узнает, — жестко ответил Аллен, глядя ему прямо в глаза.
— Это может ему дорого стоить.
Аллен подошел вплотную к Росовски.
— Мне плевать на всех японцев, вместе взятых. Если они что-то замышляют за нашей спиной, пусть сами и расплачиваются. Мы еще достаточно сильны, чтобы поступать так, как нам угодно.
Имаи проснулся в двенадцатом часу. Во рту было сухо, ныло в висках. Он залпом выпил бутылку пива «Кирин», умылся.
За час, пристроившись за свободным столом в штабе полиции, он закончил рапорт и сдал начальнику отдела. Тот быстро просмотрел выводы: несчастный случай по вине пешехода, водитель инспектор Касуга не виноват, — и отпустил Имаи.
Имаи включил радио и тут же выключил. С тоской посмотрел на стопку книг, которые надо было прочитать, и решил просто прогуляться. Завтракать он не стал. Головная боль прошла, но есть не хотелось.
Иногда, когда дела не ладились и портилось настроение, он долго бродил по улицам. Он мог ходить час, два, пока мысли не прояснились и можно было вновь приниматься за работу.
Он побрел в обратную от центра сторону, переходя с улицы на улицу, разглядывая витрины магазинов, останавливаясь у киосков, чтобы перелистать свежие журналы. Протянул продавцу двести иен и взял номер иллюстрированного «Сюкан синтё». Этот журнал, печатавший с продолжением современных японских и зарубежных писателей, он предпочитал другим.
Прогулка по городу приободрила его. Он вспомнил, что не ел со вчерашнего дня, и зашел в маленькую лавочку, привлеченный запахом мисо-сиру — традиционного японского супа из перебродивших соевых бобов.
Профессор Ямакава вышел из кабинета, на ходу натягивая на себя серый пиджак. Он сильно устал за последние дни, когда его заставляли работать по шестнадцать часов в сутки и непрерывно напоминали, что порученная ему задача требует немедленного решения. Слушая эти слова, он раздражался: не они, а он сам торопил себя, как мог, выжимая из своего мозга все, на что он был способен.
Человек в темном костюме, дежуривший у дверей, пропустил Ямакава, скользнув по нему цепким взором. Профессору не нравилось это нашествие одинаковых людей, заполонивших клинику. Он натыкался на них повсюду, но поделать ничего не мог: клиника принадлежала не ему, и он не был хозяином в своем доме. Профессор утешал себя тем, что после практических испытаний его, во-первых, оставят в покое, во-вторых, на обещанную премию он создаст свою собственную лабораторию, где сможет распоряжаться и другими и самим собой.
— На сегодня все, — сказал он человеку, сидевшему за столом со множеством телефонов и пультом радиосвязи, установленным совсем недавно в главном корпусе.
Тот кивнул и, нажав какую-то кнопку, коротко сказал:
— Машину профессора.
Это новшество тоже было неприятно профессору. Он любил — даже если засиживался в клинике допоздна — пройтись до дому пешком. Вечерняя прогулка бодрила и успокаивала его; идя неспешным шагом по знакомому маршруту, он сосредоточивался на своей работе в клинике. И немало важных мыслей пришло к нему во время таких вечерних прогулок. Теперь его возили только на машине, шофер которой даже и не пытался скрыть под пиджаком наплечную кобуру. Еще хорошо, что они не обосновались у него дома. Попытку подселить к нему охранника Ямакава отмел с порога, сославшись на то, что его домик слишком на виду и нового человека соседи сразу заметят, да еще и донесут на него в полицию, заподозрив что-нибудь. Аргумент подействовал. Всякого публичного внимания к себе эти люди боялись.
Остановив машину у калитки, шофер открыл ему дверь, потом первым вошел в дом, осмотрел комнаты, кроме одной, всегда запертой — Ямакава никому не разрешал заглядывать в нее, — и только тогда ушел. Профессора эта процедура немного смешила, но приходилось с ней мириться. В конце концов, его жизнью всегда распоряжались другие. И тогда, до войны, когда он был молодым начинающим врачом, и после войны, во время оккупации, когда он чуть не умер с голоду, потому что его нигде не брали на работу, и даже сейчас, когда стал профессором. И хотя теперь его просьбы никогда не встречали отказа и он получал все, что просил, его не покидало ощущение, что он узник чрезвычайно комфортабельной и уютной, но все же тюрьмы. Другие люди говорили ему, что делать, другие люди заставляли его переезжать с места на место. И даже дома не оставляли его одного.
Переодевшись в кимоно, он вышел в сад, потом вернулся за садовым инструментом. По дороге он открыл всегда запертую комнату без окон.
Секретарь осторожно раздвинул сёдзи. В комнату проник свежий запах цветов, испарения от нагретой солнцем земли смешивались с вечерней прохладой. День клонился к закату, и полулежавший на циновках старик укутался в плед.
Старик читал книгу, держа ее левой рукой. Рядом стояла неизменная чашка с жасминовым чаем. Раз в месяц секретарь посылал кого-нибудь на почту забрать посылку с чаем, регулярно посылаемую из Китая.
В комнате размером в восемь татами было просторно и чисто. На стене висел один-единственный пейзаж, под ним стояла этажерка с книгами. Рядом небольшой шкафчик, на нем ваза с цветами. В углу у табличек с именами умерших предков стоял лакированный ящичек с рисом. Секретарю было всего сорок лет, из них пятнадцать он служил здесь, но он знал от своего предшественника, что в этой комнате ничто не изменилось с тех пор, как дом был построен и обставлен в первый год Сёва — год восшествия на трон нового императора, чье имя — Хирохито — японцы осмелились произносить лишь после несчастий 1945 года и прихода варваров-американцев.
Поймав взгляд старика, секретарь согнулся в поклоне. Уловив краем глаза, что тот отложил книгу, заговорил вполголоса, употребляя самые вежливые формулы японского языка, в котором даже грамматика подчеркивает разницу между аристократом и крестьянином.
— Сэнсэй, Фукуда-сан хотел бы приехать сегодня…
— Я жду его. Что-нибудь еще?
— Тэру Тацуока просит сэнсэя принять его. Он говорит, что для него это вопрос жизни и смерти.
Старик прикрыл глаза.
— Вопрос жизни и смерти! — проговорил он насмешливо. — Как теперь бросаются словами… Что делать, все возвышенное испоганено чуждым влиянием. То, что было уделом немногих достойных, отдано на откуп массе ничтожных. Вопрос жизни и смерти!.. — еще раз повторил он. — Я начинаю разочаровываться в этом человеке… Дело, из-за которого он рвется ко мне, — старик говорил уже так тихо, что секретарь не различал слова, напряженно следя за лицом хозяина, — никак не стоит таких высоких слов. Жаль. Он мне нравился, этот молодой человек… Хорошо, пусть приедет.
Он вновь взялся за книгу, и секретарь понял, что пора уходить. Он вытащил из кармана маленькую коробочку и поставил на низенький столик, так, чтобы старик мог дотянуться.
— Это подарок, присланный Сасихара-сан.
Секретарь исчез, задвинув за собой фусума — тонкие деревянные рамы; наклеенная на них плотная рисовая бумага не пропускала света.
Теперь он ступал уверенным шагом: за пределами комнаты старика он был важной персоной, доверенным лицом Содо Итикава, бывшего министра, пользующегося влиянием в правящей партии, сохранившего большие связи.
Оставшись один, Итикава равнодушно взглянул на коробочку. Он знал, что найдет там. Крупный бриллиант или изделие из золота ручной работы. Словом, что-то ценимое людьми типа Сасихара, которые пренебрегают духовными ценностями. Сасихара и Коно Киёси, президент компании «Тоё сого сёся», не забыли, кому они обязаны возможностью спокойно заниматься своим выгодным бизнесом.
Он даже не стал проверять, правильной ли была его догадка, а снова углубился в книгу, которую читал медленно, всматриваясь в очертания знакомых иероглифов, пытаясь угадать второй смысл слов, эпизодов, характеров. Этого второго, подлинного смысла, некоего откровения не могло не быть в книге, которую он перечитывал уже в который раз. Это был роман Мисима «Храм утренней зари».
Итикава знал все, что написал Мисима. А что не так мало: сорок романов, восемнадцать пьес, двадцать томов рассказов. Многое Итикава читал еще при жизни Мисима, который стал модным писателем в сравнительно молодом возрасте — после выхода романа «Исповедь маски». За два года до самоубийства Мисима Итикава познакомился с ним и нашел его слишком несерьезным для той роли, на которую писатель претендовал. Но после событий 1970 года Итикава переменил отношение к Мисима. Он читал и перечитывал его романы. И не потому, что ценил их художественные достоинства — Мисима слыл тонким стилистом, — а потому, что хотел понять, как Юкио Мисима пришел к идее смерти за императора. Итикава искал в книгах Мисима универсальный рецепт воспитания молодых японцев, развращаемых современной школой, телевидением, западным влиянием.
Когда Юкио Мисима в ноябре 1970 года пытался поднять солдат «сил самообороны» на мятеж ради восстановления прежней Японии с ее национальной гордостью и военной мощью, Итикава прослезился. Он не сомневался, что попытка Мисима обречена, народ не поддержит его, но смертью своей Мисима закладывал кирпич в фундамент здания, которое будет возведено рано или поздно. Итикава больше всего был благодарен Мисима за самоубийство. Останься тот жив, он бы попал на скамью подсудимых и никогда не обрел бы ореола национального героя, мученика, которым надо гордиться. Итикава даже позволил себе пошутить, переиначивая известное выражение: «Если бы Мисима не умер, его надо было бы убить».
Итикава не жалел денег на новые издания книг Мисима и книг о нем, на создание легенды об истинном японце, примере, достойном подражания. Итикава собирал все относящееся к жизни Мисима, надеясь отыскать ключ к жизни писателя, ключ, который подошел бы и к юношеским сердцам.
Многое претило ему в жизни Мисима: его противоестественные наклонности, его стремление выставлять себя напоказ. Он хорошо помнил скандальные фотографии, на которых Мисима запечатлен полуголым на мотоцикле, — символ западного образа жизни. Однако об этом следовало забыть. Итикава приводил пример с Хорстом Весселем, немецким студентом, убитым в пьяной драке в кабаке, что, однако, не помешало нацистам сделать из него национального героя.
Итикава подчеркивал другие, важные для его замысла детали жизни Мисима. Когда будущему писателю было четыре года, отец, жесткий и властный человек, решил воспитать в нем мужественность. Он держал его на предельно близком расстоянии от мчащегося поезда, следя за тем, чтобы лицо ребенка оставалось таким же бесстрастным, как маска в театре Но.
Для альбома Мисима он сам отбирал фотографии. На одной из них писатель в каске и униформе. У него была собственная небольшая армия, которая проводила настоящие учения (ее командир Масакацу Морита покончил с собой одновременно с Мисима — для Итикава это был прекрасный образец мужской дружбы). Эта армия участвовала в маневрах «сил самообороны».
Когда стемнело, секретарь зажег свет. Итикава по-прежнему читал «Храм утренней зари».
Имаи сразу вспомнил этого человека. Ожидая, пока ему принесут суп, он оглянулся, рассматривая немногочисленных посетителей, пожелавших поесть в неурочный час. Имаи еще тогда в баре заметил молодого парня с холодным и спокойным взглядом. Потом тот мгновенно исчез, и Имаи не успел попросить кого-нибудь из полицейских проверить его документы.
Имаи не мог объяснить даже самому себе, что именно его настораживало в этом человеке с уверенными движениями, но, когда тот поднялся, инспектор, расплатившись за суп, к которому не притронулся, осторожно последовал за ним. Имаи встал за углом и увидел, что неизвестный, приостановившись у витрины, проверился, и сделал это вполне профессионально. Это усилило подозрения Имаи.
В соседнем переулке человек сел в синюю «короллу» и уехал. Имаи отыскал ближайший полицейский пост и попросил установить, кому принадлежит автомобиль — номер он запомнил.
Был дан приказ всем постам и патрулям найти синюю «короллу», номер которой сообщил Имаи. Однако никаких сведений не поступило. Машина и ее водитель исчезли.
Имаи не находил себе места, то и дело заглядывал к сотрудникам дежурной службы, которые однозначно качали головой. В отделе ему сказали, что из Токио звонил его старший брат, но Имаи был в таком напряжении, что не обратил на это внимания. Синяя «королла» принадлежала солидной прокатной фирме.
— Тут явно какая-то махинация. Тот, кто брал машину, записал на карточке свой адрес, — рассказывал младший инспектор, который по просьбе Имаи ходил в офис фирмы. — Я проверил: там находится склад известной торговой компании.
Не дослушав, Имаи опять пошел к дежурным — новостей по-прежнему не было.
— Может быть, он сменил номер? — предположил кто-то. — Он не мог заметить, что ты за ним следишь?
Имаи пожал плечами. Гадать бессмысленно.
В десять часов вечера, когда Имаи, одурев от многочасового ожидания, задремал в кресле, его разбудили. Машину, которую он разыскивал, час назад видели на той самой дороге, где Касуга сбил ночью человека.
…Его явно били. Увидев кровоподтеки на лице, Аллен нахмурился. Японца, имя которого значилось в шифровке штаб-квартиры ФБР, привязали к креслу так, что он не мог шевельнуть ни ногой, ни рукой. Перестарались. В глазах японца, вскинувшего голову, когда появился Аллен, был страх. Исида сидел без пиджака, в одной рубашке. Аллен заметил, какой он худой и маленький. «Впрочем, — подумал он, — японцы все такие, за исключением тех, кто родился в шестидесятые годы, — они уже росли на мясе и витаминах, которые мы, американцы, принесли в эту страну».
Аллен посмотрел на часы — из-за плотно зашторенных окон и ослепительно яркого света ламп терялось чувство времени. Высокий блондин подошел к нему.
— Четыре часа с ним работали, — он кивнул на Исида, — прежде чем раскололся.
Блондин тоже был в одной рубашке, под которой бугрились мощные узлы мышц. Аллен задумчиво посмотрел ему в глаза.
— Можем заставить его рассказать еще раз специально для вас, — предложил Аллену блондин, — а нет — в соседней комнате мы установили магнитофон. Сейчас ребята напечатают показания на машинке и дадут ему подписать. Магнитофонная лента ведь не документ.
Дверь в соседнюю комнату приоткрылась. Оттуда высунулась голова Росовски.
— Идите сюда, Эдвард, — хриплым голосом произнес он, — послушайте, что он рассказал. Боже мой!..
Ожидая, пока Ватанабэ спустится из своего номера (там говорить не хотелось, лучше выйти на улицу), Морита внимательно изучал свод правил, вывешенных администрацией «Саппоро гранд-отель» в просторном холле. Появившийся из раздвинувшихся дверей лифта Ватанабэ с трудом скрыл удивление по поводу внезапного приезда на Хоккайдо таксиста Морита.
Когда они вышли на улицу, Ватанабэ спросил:
— Что-то случилось?
Морита молча кивнул. Они подошли к машине Ватанабэ, он распахнул перед Морита левую дверцу. В машине Морита протянул ему несколько отпечатанных на машинке страниц.
— Нам удалось довольно много раскопать об этом человеке. Читай внимательно и запоминай. Тебе придется…
Ватанабэ напряженно слушал Морита. Его задание усложнялось.
…Внезапному появлению Морита в Саппоро предшествовали некоторые события в Токио.
Когда магнитофонная лента с записью показаний Исида о «Храме утренней зари» кончилась, Аллен поднял глаза на Росовски:
— Надо немедленно искать подходы к этому Ямакава. Немедленно. Я еду в посольство. В спецархиве должны же были остаться какие-то документы. Мы обязаны заполучить эту штуку. Ямакава надо пригрозить разоблачением его делишек. Я отправлю туда своих людей. — Он подозвал к себе одного из сотрудников резидентуры. — Как только закончат перепечатку, — Аллен кивнул на человека, десятью пальцами выбивавшего пулеметную дробь на электрической машинке, — немедленно везите в посольство. Отправьте в Лэнгли шифровку за моей подписью. — Джек, — он понизил голос, обращаясь к Росовски, — этого японца придется убрать. Может разразиться скандал.
— Опасно. — Голос Росовски сразу стал напряженным.
— А вы что предлагаете? — вдруг взорвался Аллен. — Разве есть варианты?
— Самое простое, — вмешался стоявший рядом блондин, — отвезти в какой-нибудь отель на Сибуя. Из окна может вывалиться каждый.
— Или наглотаться снотворного, — в том же деловом тоне предложил Аллен. — Но это детали, обсудите их с Росовски.
Когда Аллен вышел, Росовски сквозь зубы пробормотал:
— Скотина. Какая скотина! Втравливает меня в такое дело, а сам хочет остаться в стороне!
Блондин повернулся к нему.
— Вы что-то сказали?
Росовски плюнул на ковер.
— Давайте к делу. У вас есть подходящая гостиница на примете?
— Ты помнишь фильм «Химико»? — неожиданно спросил Итикава.
— Да.
— Его «Двойное самоубийство» не оставило во мне следа. Он сделал этот фильм на потребу иностранцам. Нам, японцам, он не сумел ничего сказать. Другое дело «Химико».
Слегка потрескивала жаровня. К манящему теплу слеталась мошкара. Итикава в теплом кимоно, заботливо укутанный пледом, распорядился не закрывать сёдзи, несмотря на прохладу, и комната превратилась в террасу. У Итикава был удивительный сад, знатоки восхищались им. Ароматы невиданных растений, как дальние страны и детские мечты, волновали Тацуока. Но сегодня ему казалось, что ему нехорошо от сладковатых, дурманящих волн, накатывающихся на террасу.
Он бросился к Итикава, снедаемый тревогой, но не решался заговорить о своем, прежде чем хозяин сам изъявит желание его выслушать. А Итикава, встретивший его, как обычно, доброжелательно, завел разговор о кино и книгах. Привычка говорить об искусстве усилилась в последний год, когда Итикава, который никогда раньше не жаловался на здоровье, вдруг тяжело заболел и почти перестал ходить. Тацуока часто приезжал к нему, привозил лучших специалистов. Итикава удивил окружающих тем, что смирился со своей неподвижностью, хотя всегда был человеком динамичным, мобильным, легким на подъем.
— Я припоминаю этот фильм. Мне не понравилась одна деталь: получается, что вся культура древней Японии, и в особенности синтоизм, пришла к нам с Корейского полуострова. Жрицы являются в дикий, варварский мир и основывают религию, которая затем превращается в синто.
— Да, да, — согласился Итикава. — Я просил тогда проверить, не кореец ли сам режиссер Масахиро Синода. Подобные утверждения безнравственны, корейцы должны знать свое место и быть благодарны нам за то, что могут жить в такой великой стране, как Япония.
— Хотя корейцы всегда были искусными мастерами и ремесленниками, — заметил Тацуока.
— Вот именно — ремесленниками. (Тацуока даже показалось, что Итикава возвысил голос, произнося эти слова.) Не более того… Наша культура создана истинными японцами, а не чуждыми нам людьми, как бы искусны они ни были.
— Печален конец фильма, — продолжал Тацуока. — Над священной рощей, где родилась наша духовность, скользит тень вертолета. Камера отступает и показывает Японские острова, окутанные смогом, сквозь который проглядывают заводы, фабрики, поезда. И священную рощу совсем не видно.
Тацуока подошел к раздвинутым сёдзи и соприкоснулся с ночью. Он стоял там, где свет переходил во тьму, тьма от этого казалась еще непрогляднее. Ему стало не по себе, и он повернулся лицом к старику.
— И священную рощу совсем не видно. Закономерен вопрос: зачем копаться в старине, обращаться к истокам, стараться понять, что такое душа Японии, если та, старая Япония мертва? Если мертвы ее традиции?
— Ты тоже так думаешь? — настороженно спросил Итикава.
— Нет, конечно… Но какая-то доля истины в фильме есть, и это пугает меня.
— Меня тоже, — сказал старик. — Я подумываю о приобретении киностудии. Мне бы хотелось, чтобы японцы смотрели другие фильмы. — Он налил себе немного чая. — Ты хотел со мной о чем-то поговорить, — напомнил он.
Тацуока машинально провел ладонью по лбу, ощущая мгновенно выступивший пот.
— Я хотел поговорить о своем младшем брате — Масару Имаи.
— Профессор Ямакава?
— Да, я.
Ямакава, стоя на крыльце, пытался разглядеть, кто его зовет. Фонарь у входа в дом освещал только силуэт у калитки, оставляя лицо говорившего в тени.
— Простите, что так поздно, но я приехал издалека.
Ямакава, удивленный, пригласил человека зайти. В прихожей незнакомец сбросил обувь, представился:
— Ватанабэ.
Они уселись в комнате с большим книжным шкафом. Ямакава наконец разглядел своего гостя. В руках у него был портфель, из которого он вытащил толстую пачку документов.
— Чем могу служить, Ватанабэ-сан? — нетерпеливо спросил Ямакава. Неожиданный вечерний визит нарушил привычный ритм жизни. В старости это почти всегда неприятно.
— У меня к вам один вопрос. — Можно было подумать, что Ватанабэ хотел улыбнуться, но сдержался. — Вы ведь хорошо знали генерал-лейтенанта императорской армии Сиро Исии, начальника отряда № 731?
Ямакава не шелохнулся, не запротестовал, не закричал, не стал выгонять нежданного гостя. Он только очень сильно побледнел, словно кровь ушла куда-то глубоко, где она была нужнее.
Он всегда ждал этого вопроса. Он сменил фамилию, переезжал из города в город. Его высокие покровители достали ему новые документы и постарались вытравить его прежнее имя из всех бумаг. Но он чувствовал, что придет день, когда ему напомнят об этом.
— Вы не могли не знать его, верно? Он же был вашим преподавателем в военно-медицинской академии. Вы специализировались как раз по его предмету — эпидемиологии. И когда Исии уезжал в Маньчжурию, он взял вас с собой, как лучшего ученика.
Ямакава смотрел на говорившего, но не видел его. Слова доносились как будто издалека. «Это должно было случиться, и это случилось», — повторял он вновь и вновь. В этой мысли сейчас как бы сосредоточилась вся его жизнь.
Ватанабэ продолжал говорить, не глядя на Ямакава.
— Чем занимался отряд № 731, хорошо известно: созданием и промышленным производством бактериологического оружия, которое Япония собиралась применить против своих противников в войне. Для этого в отряде были собраны неплохие специалисты и завезено соответствующее оборудование. Для широкомасштабного производства бактериологического оружия. Ведь врагов у Японии было много.
Лицо Ямакава, казалось, окаменело, глаза исчезли, спрятались.
— У вас была особая задача. Вы проверяли эффективность продукции, вырабатываемой отрядом. Для этого командование Квантунской армии выделяло достаточное количество «подопытных кроликов» — заключенных из тюрем.
Ямакава помнил несколько страшных послевоенных лет, когда пробавлялся случайной работой, боясь обратиться к коллегам, — его фамилия была слишком известна. Русские судили в Хабаровске сотрудников 731-го отряда, поведав всему миру о подготовке бактериологической войны. Сложными путями Ямакава раздобыл выпущенные в Советском Союзе «Материалы судебного процесса по делу бывших военнослужащих японской армии, обвиняемых в подготовке и применении бактериологического оружия». Он со страхом перелистывал страницы, пытаясь понять, где на этом непонятном языке написано о нем, о его участии в экспериментах над людьми… Сам-то он успел вовремя исчезнуть и избежал суда, как избежал его и сам Исии. Исии нашел его потом и привез в город Касукабэ в префектуре Сайтама.
После войны прошло много лет, но никто к нему не приходил, его прежнее имя больше не мелькало в газетах. Но несколько раз он испытывал приступы острого страха. Один раз, когда о том, чем занимались они с Исии в Касукабэ, стало известно прессе и вот-вот могли всплыть его прошлые дела. Потом, когда китайцы пригласили иностранных корреспондентов и показали им шахты, где погребено больше двухсот тысяч трупов. Корреспондентам рассказывали, что это жертвы варварской эксплуатации, подневольных людей заставляли работать по пятнадцать часов в сутки и почти не давали есть. Профессор Ямакава знал, что среди этих трупов немало и его «подопытных кроликов». Иногда их сбрасывали в заброшенные штольни, даже не удостоверившись в смерти.
Он продолжал как завороженный слушать своего гостя.
— В принципе бактериологическое оружие оказалось не таким уж эффективным, вернее, средства и методы его доставки не обеспечивали требуемой убойной силы, — говорил Ватанабэ тем же спокойным и размеренным голосом. — Вы занялись другим. Влияние медикаментов на психику человека — вот что занимало вас в последние годы службы в отряде № 731 и после войны.
Откуда они это знают? Значит, вся его жизнь, прожитая, как ему казалось, в обстановке полной секретности, в глубокой тайне, о которой осведомлены немногие посвященные, известна еще кому-то? Кто эти люди? Чего они от него хотят?
— Вы первым решили попробовать целенаправленно воздействовать на людей наркотиками. Вам, вероятно, пришла в голову мысль: уничтожить людей просто, вот управлять ими куда сложнее. Но решение этой задачи обещало грандиозные выгоды. Управлять надо и врагами и друзьями. После войны вы уже целиком переключились на поиски средств управления мозгом человека. Вы не пожалели сил для изучения психиатрии и фармакологии. — Ватанабэ в первый раз посмотрел на Ямакава. — Может быть, у вас есть какие-нибудь сомнения? Я принес с собой копии необходимых документов. — Он пододвинул пачку бумаг к профессору. — Здесь все: документы отряда № 731, заверенные вашей подписью, и ваши фотографии того периода, и свидетельские показания. Вполне достаточно для того, чтобы вас назвали врачом-убийцей. Если эти документы попадут в чужие руки, разумеется. А произойдет это или нет целиком зависит от вас.
Ватанабэ говорил гладко, не сбиваясь и не подыскивая слов. Он говорил то, что ему поручили сказать, сухо и без эмоций. Морита хорошо объяснил ему, как надо себя вести, чтобы его речь звучала максимально убедительно.
— Это предисловие, — вновь заговорил Ватанабэ. — Меня же интересует ваша сегодняшняя деятельность.
Губы Ямакава дрогнули, словно он сделал попытку открыть рот, но не смог.
— Мне нужны химическая формула, способ производства и метод применения вашего препарата. Словом, ваш результат по проекту «Храм утренней зари».
Имаи задержался, договариваясь с местным отделением полиции о помощи. Когда он выехал, было уже темно.
На развилке дороги за мостом ему пришлось остановиться, выключить мотор и ждать. Патруль опять потерял из виду «короллу». На сей раз было проще: машину следовало искать либо на дороге к клинике профессора Ямакава, либо в деревне, где Имаи оказался в самом начале расследования. Там, кстати, живет сам Ямакава. Правда, машину могли бросить где-то в лесу. По радиотелефону Имаи сказали, что ему следует задержать неизвестного по подозрению в торговле наркотиками. Ордер прокурор подпишет.
Через десять минут полицейский патруль доложил, что на дороге к клинике «королла» не обнаружена. Имаи поехал в деревню. Полицейские в это время должны были обшарить лес.
По правде сказать, то, что сообщил Исида, не было для Аллена полной неожиданностью. Он предполагал что-то в этом роде, когда они начали выяснять, что японцы скрыли под кодовым названием «Храм утренней зари». Что ж, над этой проблемой десятилетиями бьются в разных странах. И если японцы добились результата, нужно во что бы то ни стало раздобыть документацию. Грех было бы не воспользоваться такой возможностью. Во-первых, японцам этот препарат не так нужен, как американцам. Во-вторых, хоть Япония и союзник, но мало ли что может произойти. Словом, такое оружие не может быть монополией косоглазых. Если, конечно, рассказанное Исида соответствует истине. А его слова очень похожи на правду. В архиве посольства быстро нашли документы, относящиеся к генералу Исии, который после разгрома Японии сам предложил американцам свои услуги. В перечне сотрудников Исии с пометкой «Может быть полезен» значился и Ямакава.
Этот Исии здорово помог американцам. В благодарность за то, что ему спасли жизнь и не выдали русским, он передал специалистам по ведению бактериологической войны, прилетевшим из США, все материалы 731-го отряда, итог многолетних исследований. Аллен видел в архиве телеграмму из Токио в Вашингтон с пометкой «Совершенно секретно»: «Заявления, сделанные японцами здесь, подтверждают заявления советских военнопленных… Об опытах с людьми говорили трое японцев, и Исии не стал ничего отрицать; были произведены полевые испытания с применением бактериологического оружия против китайцев… Исии говорит, что, если ему дадут документированную гарантию, что его не привлекут к ответственности за военные преступления, он сообщит подробности об этой программе. Исии утверждает, что он располагает обширными теоретическими сведениями, включая данные о стратегическом и тактическом применении бактериологического оружия в наступательных и оборонительных операциях, подтверждаемые кое-какими исследованиями относительно того, какие бактерии лучше всего подходят для условий Дальнего Востока, а также относительно использования бактериологического оружия в холодном климате». «Заполучить бактериологическое оружие для борьбы с СССР было важнее, чем наказывать Исии, — подумал Аллен. — Даже несмотря на то, что японцы проводили опыты и над американскими военнопленными, а выращивавшиеся отрядом Исии чумные блохи предполагалось на воздушных шарах запускать в сторону западного побережья США».
Сотрудники армейского центра по созданию бактериологического оружия в Форт-Детрике (штат Мэриленд) провели длительные беседы с Исии и его сотрудниками. Они вернулись в США с объемистыми томами записей и с фотографиями образцов, специально отобранных из 8 тысяч предметных стекол со срезами тканей, сделанными при вскрытии трупов людей и животных, на которых испытывали бактериологическое оружие. Опыты на людях, отметили специалисты из Форт-Детрика, были лучше поставлены, чем эксперименты с животными. Они подготовили специальный меморандум в защиту Исии: «Поскольку любой процесс по делу о „военных преступлениях“ сделает подобные данные доступными для всех стран, то в интересах обороны и безопасности США такой огласки надо избежать». Данные, полученные японцами на основании опытов с людьми, «будут представлять большую ценность для американской программы разработки бактериологического оружия».
Аллен узнал, что в послевоенные годы Исии получал неплохую пенсию как «вышедший в отставку военнослужащий», но продолжал работать на американцев. Тем же занимались и многие его бывшие подчиненные, рассеявшиеся по стране. До начала 70-х годов 22 японских университета и института, как государственных, так и частных, получали субсидии от Пентагона на проведение исследований в области бактериологии и нейрофизиологии. В первые послевоенные годы и американцы, и англичане разрабатывали планы нападения на СССР с использованием не только атомного, но и бактериологического оружия. Был составлен список советских городов с населением более 100 тысяч человек, которые предполагалось подвергнуть воздействию смертоносных бактерий. Подготовительная работа, проводившаяся в Японии, была необходима для создания новых образцов такого оружия в военном институте медицинских исследований в Форт-Детрике. Однако в дальнейшем японцы отказались помогать Пентагону в этой работе. Да и само бактериологическое оружие, насколько знал Аллен, как-то отошло на задний план. Помимо вспышек загадочной «болезни легионеров», легочной чумы и различных экзотических заболеваний, жертвой которых были солдаты в Форт-Детрике и военнослужащие специальных подразделений американской армии и которые вызвали нежелательную реакцию общественности, против бактериологического оружия свидетельствовали многолетние неудачи в создании практичного и эффективного способа его применения. И тогда внимание многих специалистов переключилось на разработку методов целенаправленного воздействия на психику человека с помощью наркотических препаратов.
В свое время Аллена подключали к работам по программе «МК-ультра», и некоторое понятие об этой сфере он имел.
Созданный одним швейцарским химиком в годы войны психодислептик — производное лизергиновой кислоты, получивший название ЛСД, обрадовал не химиков (и не наркоманов, которые открыли для себя ЛСД много позже), а сотрудников спецслужб. Пятидесятые годы были временем, когда недавно созданное Центральное разведывательное управление США активно привлекало психиатров и фармакологов, работающих на психиатрию, к разработке целого ряда сверхсекретных программ.
Цель — найти надежные методы воздействия на поведение человека, отключить самоконтроль, заставить действовать согласно приказу.
В одном из документов ЦРУ говорилось: «Тенденции в современных полицейских и военных операциях говорят о стремлении временно выводить из строя и деморализовать противника, вместо того чтобы убивать его… С изобретением сильнодействующих натуральных веществ, психотропных и парализующих препаратов в судебно-медицинской практике наступает новая эра…»
Использование в медицине психотропных веществ, способных до некоторой степени модифицировать поведение человека, характер, отношение к реальности, нашло широкое применение при лечении психических заболеваний. Однако эффект этих лекарств был не очень сильным. Заманчивой показалась мысль найти такие препараты, которые способны полностью менять самое личность человека. Наиболее близким к желаемому казался ЛСД, опыты с которым начали проводить параллельно отдел исследований и разработок ЦРУ и Пентагон. Синтезировались новые вещества, подбирались сочетания известных препаратов, способных дать нужный эффект. Очень долго в лабораториях научно-технического управления ЦРУ шел поиск так называемого «маньчжурского кандидата» — агента, который выполнил бы любое задание, вплоть до убийства. Использовался метод дифференциальной амнезии «промывания мозгов» до такого состояния, когда человек переставал руководствоваться своим разумом, а покорно выполнял команды извне. Однако эксперименты не дали ожидаемого результата. Человеческая психика, воля оказались более прочными, чем думали психиатры, работающие на ЦРУ и армию. И все же они продолжали считать, что дело в несовершенстве фармакологии, а в принципе цель достижима.
Программы «Блю бёрд», «Артишок», «МК-ультра», «Офтен-Чиквит», стоившие немалых денег, практической помощи спецслужбам не оказали. Зато, когда об экспериментах стало известно, престижу ЦРУ был нанесен сильный удар. Комиссии, возглавляемые сенаторами Рокфеллером и Черчем, предали гласности — в сжатом виде, без подробностей и имен — содержание программ по манипулированию человеческой волей.
Два случая со смертельным исходом — результат экспериментов с ЛСД тоже наделали шума. Хотя, Аллен вспомнил, только гибель Олсона инкриминировали ЦРУ; другой, Харольд Блауэр, работал на армию.
Доктор Фрэнк Олсон, симпатичный, общительный человек, занимался исследовательской работой в Форт-Детрике, но потом взялся за выполнение заданий ЦРУ. («Как и Ямакава, — подумал Аллен, — он пришел в психиатрию из бактериологии. Впрочем, других специалистов тогда не было, а эти понимали, что от них требуется».) Отправившись в Нью-Йорк, он неожиданно выбросился из окна. Семье сообщили, что смерть последовала «в результате несчастного случая». У группы исследователей, принявшихся за испытание ЛСД, было мало «подопытных кроликов». Олсону и трем его коллегам добавляли ЛСД в ликер, который они пили после обеда. За поведением Олсона, не понимавшего, что с ним происходит, внимательно наблюдали — это были бесценные «экспериментальные данные». Олсон бросился в Нью-Йорк к врачам, это, видимо, встревожило управление. Его нашли мертвым на тротуаре Седьмой авеню. Выбросился ли он сам в результате изменений, происшедших в его психике, или ему помогли расстаться с жизнью, никто не знает, большинство документов по экспериментированию с ЛСД было уничтожено в 1973 году.
Однако Аллен, хотя в последние годы он и не был связан с этим кругом проблем, в принципе знал, что — до последнего времени, во всяком случае осуществлялась программа «МК-сёрч», включавшая работу с психодислептиками, психогенными веществами типа «Би-Зед» — квинуклиданил бензинат; «Би-Зед» блокирует образование в организме вещества, необходимого для передачи сигналов нервными окончаниями. Человек, подвергшийся воздействию «Би-Зед», на несколько дней утрачивает всякое представление о действительности.
Кроме того, свои исследования вела армия. У нее тоже была неудача: из-за передозировки ЛСД или другого психодислептика, кажется мескалина, погиб «подопытный кролик» Харольд Блауэр, в прошлом профессиональный теннисист. Ежемесячно в Форт-Детрике получали от крупных фармацевтических фирм примерно четыреста химических веществ, не запущенных в производство по причине «нежелательных побочных эффектов». Армия как раз и охотилась за такими эффектами. В Пентагоне считали, что ЛСД — замечательное боевое оружие, которое может вывести из строя целую армию или парализовать большой город. Правда, так и не удалось придумать хорошую систему распыления ЛСД. Армия преследовала свои цели: Пентагону нужно умение воздействовать на психику не отдельных людей, а целых групп. Скажем, препарат, снимающий чувство страха за свою жизнь.
Западные разведки внимательно следили друг за другом: не добьется ли кто-нибудь успеха в этой области? Если японцы и в самом деле что-то придумали, надо заставить их поделиться секретом.
Аллен еще в машине продумал текст шифровки в Лэнгли с просьбой предоставить ему соответствующие полномочия.
— В конце концов, об этом не узнает никто, — продолжал Ватанабэ, — вы останетесь таким же уважаемым ученым, как и были. Кроме того, я принес вам деньги. Их вполне достаточно, чтобы приобрести небольшую клинику. Ведь это ваша мечта, не правда ли?
Ямакава уже ничто не удивляло. Он сидел сгорбившись на стуле, молча глядя перед собой.
После войны он вновь стал работать под руководством Исии, который сменил генеральский мундир на штатский костюм американского покроя. Вокруг люди бедствовали. Императорское правительство довело страну до полного краха. Хорошо жили только те, кто был связан с американцами. Исии выделялся отличным видом среди окружавших его людей с изможденными лицами и вечно голодным взглядом. Ямакава не знал, откуда Исии получал американскую еду и одежду. Он понял это потом. У Исии были высокие покровители. Они сами избежали преследования со стороны оккупационных властей и спасли Исии от наказания, которое ему полагалось как военному преступнику. Эти люди были хозяевами в префектуре Сайтама, они наладили крепкие связи с американцами.
Проработав некоторое время с Исии, Ямакава понял, что надежды на бактериологическое оружие не оправдаются в ближайшем будущем. После войны стали известны результаты аналогичных исследований, проводившихся в других странах. Из них явствовало: полагаться на бактериологическое оружие не следовало. Однако Исии не согласился с этим.
Ямакава подробно изложил свои соображения на бумаге и передал записку одному из тех высокопоставленных людей, которых встречал у Исии. Ответ он получил не сразу.
Ямакава устроили на работу в провинциальную клинику, где у него была маленькая зарплата, но зато много времени для научных изысканий. Он погрузился в дебри психиатрии. Через пару лет с ним пожелал увидеться приехавший в Токио старик с манерами члена императорской семьи. Ямакава не читал газет, не интересовался политикой и не узнал в старике видного консерватора Итикава.
После этой беседы он получил приглашение возглавить психиатрическую лечебницу на Хоккайдо, о существовании которой не подозревал. В лечебнице не оказалось ни одного больного и ни одного врача. Зато за высоким забором скрывалась прекрасно оборудованная лаборатория, в которой Ямакава принялся за осуществление своего замысла. У него появились ассистенты, замкнутые молчаливые люди, выполнявшие его команды с четкостью кадровых военных. Нашлись и пациенты. В основном наркоманы. «Вы можете распоряжаться ими по собственному усмотрению, — сказал ему человек, привозивший деньги из Токио. — У них нет родных. Даже если им суждено умереть во имя науки, не страшно…»
Ямакава проработал в лечебнице многие годы, прежде чем добился успеха. В последнее время ему доверяли больше. Он узнал, что его работа именуется «Храмом утренней зари» и в исследованиях заинтересована какая-то влиятельная организация. Ямакава подозревал, что речь идет о военных. Ведь для них его идея просто находка.
Профессор Ямакава создал препарат, снимающий чувство страха. Раздав этот препарат перед атакой, можно быть уверенным, что солдаты выполнят приказ несмотря ни на что.
Лабораторные испытания дали прекрасный результат. Если, конечно, не считать того случая с молодым парнем, который под воздействием препарата перелез через стену и попал под машину. Ямакава понимал, как это произошло. Парень просто был лишен инстинкта самосохранения, хотя находился в полном сознании.
После этого случая клинику стали строго охранять. Теперь уже никто не убежит, получив дозу его препарата. Впрочем, все это скоро кончится: он свою задачу выполнил. Передаст технологию изготовления людям из Токио и может отдыхать.
И все. И он будет свободен. Если только в прессу не попадут те сведения, которыми располагает этот молодой человек.
Ямакава тяжело встал и подошел к письменному столу.
Ватанабэ вытащил из внутреннего кармана пиджака толстый конверт, вскрыл его, чтобы показать Ямакава вложенные туда купюры.
Ямакава двигался уже увереннее. В стол был вмонтирован небольшой сейф. Ямакава открыл его, набрав необходимую комбинацию цифр. Протянул несколько листков бумаги.
— Здесь все: формула, способ изготовления, данные испытаний, дозировка.
Это были его первые слова за последний час.
Ватанабэ принялся внимательно изучать листки. Он настолько погрузился в это занятие, что не слышал шума подъехавшей машины, и встрепенулся, только когда раздались шаги. Кто-то постучал в дверь и громко крикнул:
— Профессор Ямакава, откройте. Полиция!
— Ты меня огорчил, Тацуока-кун. Все, что ты тут говорил, недостойные тебя слова.
Итикава отхлебнул чая. Чашка с чаем всегда стояла на этом столике — Тацуока часто приглашали сюда, и каждый предмет в комнате был ему знаком.
— Сэнсэй, это мой младший брат, и хотя у нас разные матери, я очень люблю его. Таков был завет моего отца. Он умер, когда Масару был совсем маленький, мне пришлось заменить ему отца. Он честный парень. Он настоящий японец. Прошу вас, сэнсэй, отмените ваш приказ. Я поговорю с Масару, и он никогда больше не помешает вам. Напротив, уверен, что станет помогать.
Тацуока старался говорить спокойно. Он знал, что Итикава любит хладнокровие и невозмутимость. С человеком, не способным сдерживать свои чувства, он не станет разговаривать. Но его душила горечь. Конечно, ему сказали, что Масару здорово помешал людям, обеспечивавшим проект «Храма утренней зари». Того и гляди, в клинику могут наведаться и журналисты, и просто посторонние люди. Такого не прощают. Сам Тацуока всегда считал: ради успеха великого дела можно жертвовать всем, даже людьми. Он так и не женился, детей у него не было. Масару единственный близкий ему человек.
Он хотел еще что-то сказать, но Итикава повелительным жестом велел ему замолчать.
— Ты проявил слабость, недостойную сына Ямато. Но я слишком хорошо отношусь к тебе и ценю твои услуги, чтобы не предоставить тебе возможность искупить позорную слабость.
И Итикава, и его единомышленники многим были обязаны Тацуока, который не только лечил их всех. Тацуока внимательно изучал копии, которые агенты делали со всех бумаг профессора Ямакава. Профессору тоже не доверяли полностью. Тацуока контролировал его исследования. Он предложил использовать наркоманов в качестве «подопытных кроликов» для Ямакава. Итикава легко это осуществил, у него широкие связи с якудза. Они с удовольствием избавились от нескольких человек, которые слишком много знали о подпольной торговле наркотиками. Тацуока видел таких «экземпляров» перед отправкой на Хоккайдо. Эти люди продавали наркотики, а потом втянулись и сами стали наркоманами.
— Мы не станем следить за Имаи. Он, приехав в Токио, обязательно позвонит тебе, не так ли?
Тацуока принудил себя равнодушно кивнуть головой.
— Ты пригласишь его к себе. Когда он придет, сообщишь нам.
Смуглое лицо Тацуока побледнело, лоб покрылся влагой. Итикава ничего не заметил, зрение у него с каждым годом ухудшалось.
— Мы с тобой говорили о фильме «Химико». Помнишь, героиня, жрица, влюбляется в своего брата. Чистота религии оказывается под угрозой. И тогда ее наставник убивает Химико, чтобы она могла стать первой божественной правительницей Японии, богиней Солнца.
Итикава вновь отпил глоток и взялся за книгу. Тацуока понял, что пора уходить.
— Ты не разобрался в фильме, — сказал ему Итикава вдогонку, — тебе нужно поразмыслить как следует.
К поезду Тацуока отвезли на машине. Люди Итикава были очень любезны. Его снабдили не только билетом в «зеленый» — мягкий — вагон, где было меньше пассажиров, но и бэнто — завтраком в картонной коробке. Но Тацуока не хотелось есть. Он только попросил чая у пробегавшего мимо молоденького официанта и выпил его быстрыми, жадными глотками.
Итикава не был бы самим собой, если бы согласился на просьбу Тацуока помиловать его младшего брата. И все-таки Тацуока надеялся. Его личные заслуги, многолетние добрые отношения, связывающие его с Итикава, неужели все это ничего не стоит?
Конечно, Имаи, который привлек внимание к клинике Ямакава, где заканчивались эксперименты исторической важности, виновен. Если они завершатся благополучно, Япония будет иметь средство, которое сделает японских солдат непобедимыми. Природные качества японцев плюс препарат профессора Ямакава — и можно вновь думать о восстановлении Японской империи. И Имаи чуть не помешал этому.
Но ведь Масару его младший брат!
Тацуока прикрыл глаза, так что можно было подумать, что он дремлет.
Но он не спал.
Тацуока никогда не рассказывал Масару о своих связях с Итакава, об их организации «Патриоты Великой Японии». Он считал, что мальчику лучше всего быть подальше от политики. Тем более что по природе Масару был честным и открытым. Тацуока боялся, что тайная деятельность придется младшему брату не по вкусу.
И вот как все это кончилось. Тацуока не был в обиде на Итикава. Все правильно: отец должен покарать сына-предателя, старший брат — младшего. Так повелось издревле. Масару не предатель. Но он мог повредить Великой Японии и потому заслуживает смерти.
Ничто внутри Тацуока не сопротивлялось этой мысли, он сам жил этой логикой. Но все-таки Масару его младший брат!
Итикава раскашлялся, потянулся рукой к чашке из тонкого фарфора, отпил глоток чая. Он уже забыл о разговоре с Тацуока и думал сейчас о «Храме утренней зари». Мысли его вернулись к прошлому.
Он провел в Китае почти пятнадцать лет. Можно сказать, всю молодость. С 1931-го по 1945-й. С того момента, как Япония начала вторжение в Маньчжурию, и до разгрома Квантунской армии советскими войсками. В Японию он попадал только по служебным делам. В Токио он докладывал, как продвигается колонизация Северного Китая, возвращался с новыми поручениями.
В 1936 году его попросили помочь в строительстве особого объекта для управления по водоснабжению и профилактике Квантунской армии. В пустынном местечке около железнодорожной станции Пинфань, близ Харбина, был выстроен целый городок: лаборатории, казармы, склады, питомники для подопытных животных, собственная электростанция и аэродром. От станции Пинфань к городку протянули железнодорожную ветку, от Харбина проложили шоссе. Район был объявлен зоной особого назначения. Итикава, который туда часто ездил, в штабе Квантунской армии выдали специальный пропуск.
Итикава был одним из немногих людей «со стороны», кто побывал в лабораториях и знал, что происходило в городке. Его хозяева были заинтересованы в результатах исследовательских работ, которые велись в лабораториях, обнесенных высокой кирпичной стеной. Они финансировали деятельность управления по водоснабжению и профилактике, и у армии не было от них секретов.
Собственно говоря, в соответствии с секретным указом императора управление расформировали. Взамен был создан особый отряд № 731 (у него было четыре филиала, расположенных вдоль границы с СССР); особый отряд № 100 заменил иппоэпизоотическое управление Квантунской армии. Третьим формированием такого рода был особый отряд «Эй» (затем «Тама») № 1644, базировавшийся в Нанкине. В Шанхае действовала лаборатория № 76 — здесь бактериологическое оружие испытывалось на китайских коммунистах, на тех, кто сражался с японцами.
Особый отряд № 100 занимался изысканием способов бактериологического заражения животных и растений. Особый отряд № 731 готовился к ведению бактериологической войны. Такая же цель была поставлена и перед нанкинским отрядом № 1644.
В первый раз, когда Итикава приехал в пинфаньский городок, он познакомился с Сиро Исии, который был главным идеологом бактериологической войны и вскоре получил генеральские погоны. С Исии считались и в Токио. Исии ходил тогда в мундире со множеством орденских планок — это Итикава помнил точно, но он почему-то не мог вызвать в воображении лицо тогдашнего, молодого Исии. Перед глазами стоял уже другой, послевоенный Исии, в добротном, но с чужого плеча американском костюме, несколько испуганный, неуверенный в себе. Уверенность вернулась к нему, когда Итикава увез его в префектуру Сайтама.
Да, в тот первый раз Итикава провел в кабинете Исии несколько часов, внимательно слушая начальника особого отряда № 731. Исии был личностью необычной, фанатично преданной своей идее, считали токийские хозяева Итикава.
Закончив медицинский факультет императорского университета в Киото, Исии пошел добровольцем в армию, служил в военных госпиталях, защитил диссертацию. В 1928 году его отправили в заграничную командировку в Европу. Из Европы Исии вернулся убежденным сторонником ведения бактериологической войны. Он стал преподавателем военно-медицинской академии и пользовался каждым случаем, чтобы убеждать японский генералитет в перспективности ведения войны с помощью бактерий — самого дешевого вида уничтожения людей. Исии нашел сторонников и в военном министерстве, и в генеральном штабе сухопутных сил. В 1936 году подполковник Сиро Исии отправился в Маньчжурию в качестве начальника особого отряда № 731.
Исии понимал, сколь могущественны хозяева Итикава — владельцы гигантских дзайбацу, и всячески пытался доказать их посланцу эффективность своей работы. Он провел Итикава по построенному в форме замкнутого прямоугольника главному зданию городка, показал скрытый этим зданием тюремный корпус и даже подземный ход, через который в тюрьму вели новых узников — их привозили в машинах жандармерии. Итикава видел одну такую машину — без окон, похожую на фургон. Вокруг машины стояли люди в штатском, которые по-военному вытянулись, увидев Исии. Из машины выталкивали новых узников. Они были в наручниках, с завязанными глазами. Среди них не было ни одного японца. В основном китайцы, монголы, корейцы, несколько человек европейского вида. Всех их, как потом узнал Итикава, в отряде называли «бревнами». Они лишались имени и фамилии, а взамен получали трехзначный номер.
На Итикава произвел впечатление размах работ в городке. Первый отдел занимался исследовательской работой — изобретал средства ведения бактериологической войны. В лабораториях первого отдела выращивались все новые и новые виды бактерий с учетом эффективности их применения на будущих театрах военных действий. Второй отдел был экспериментальным. На построенном возле станции Аньда полигоне испытывались новинки доктора Исии. Четвертый отдел представлял собой гигантскую фабрику смертоносных бактерий. В городке работало несколько тысяч человек, Исии собрал со всей Японии лучших врачей-бактериологов, многие из которых занимали высокие посты в военно-медицинской иерархии, носили генеральские погоны.
Итикава хорошо помнил тот 1936 год. В оккупационной Квантунской армии было неспокойно. Молодые офицеры были недовольны тем, что после создания на севере Китая марионеточного государства Маньчжоу-го армия остановилась. Уверенные в успехе своего оружия, офицеры не желали терять времени даром. Японское офицерство делилось на две фракции. Одна, называвшая себя «фракцией императорского пути», считала, что надо напасть на Советский Союз. Другая надеялась, что Китай и другие страны Азии станут более легкой добычей.
В те годы в Токио, да и здесь в Квантунской армии, была необыкновенно популярна песенка, сочиненная Такаси Минами, лейтенантом военно-морских сил:
Волны бурлят над глубинами Мило, Тучи гневно кружат над Уханем, Мы стоим среди мутных течений мира, Готовые к действию, вооруженные праведным гневом.Итикава удивился, насколько хорошо он помнит слова старой песенки. Он даже попытался спеть первый куплет, но голосовые связки плохо его слушались. В те дни песенку распевали повсюду. Слова отвечали настроению людей. Ощущение надвигающихся событий, которые резко изменят историю страны и их собственную жизнь, не покидало японцев. Предгрозовая атмосфера волновала молодых офицеров — сверстников Итикава. Они с нетерпением ожидали перемен в Токио.
Те, кто у власти, полны спеси, Но не слишком озабочены интересами нации. Богатые похваляются своим богатством, Но ничего не делают для нации.Минами назвал ее «Песня молодой Японии», но она стала популярной под другим названием — «Песня реставрации Сёва». Понятие «реставрация Сёва» (образованное по аналогии с «реставрацией Мэйдзи» — отстранение в конце XIX века от власти сёгунов и превращение императора в неограниченного самодержца) было лозунгом честолюбивого офицерства, требовавшего передать власть военным, ответственным только перед императором.
Мужественные воины объединяются во имя справедливости, Способные справиться с миллионом, Готовые, подобно мириадам цветков сакура, Взвиться в весеннем небе реставрации Сёва.Смысл песни был ясен каждому: призыв к действию. Итикава, слушая воинственные речи возбужденных дешевой китайской водкой и надеждой на почести офицеров, был с ними абсолютно согласен: Япония сильна, как никогда. Она не только обладает мощной армией и военно-морским флотом, боевой дух ее воинов сокрушит любого противника. Японцы достойны большего, чем быть хозяевами одной страны, они должны взять на себя управление всей этой частью земного шара, куда входят Китай, Сибирь, страны Юго-Восточной Азии, Австралия, Новая Зеландия… Но Итикава никогда не говорил о своих взглядах. Он уже в юности научился держать язык за зубами. И его хозяева, владельцы дзайбацу — финансово-промышленных корпораций, ценили Итикава за умение отстаивать их интересы, не привлекая к себе внимания, оставаясь скромным сотрудником правления Южно-Маньчжурской железной дороги.
Но оставим эти жалобы, Прошло время пустых огорчений. Наступил день, когда наши мечи Заблестят от крови очищения.В конце февраля 1936 года Итикава узнал о том, что молодые офицеры «фракции императорского пути» подняли мятеж в Токио.
Накануне на Токио обрушился снежный шквал. Такое количество снега не выпадало в столице последние тридцать лет. В заваленном сугробами Токио главари мятежа решили: пора!
Разбившись на несколько отрядов, тысяча четыреста мятежников атаковали официальные резиденции премьер-министра, главного гофмейстера императорского двора, дома лорда-хранителя печати, министра финансов и генерального инспектора военного обучения. Из автоматов они расстреляли лорда-хранителя печати Сайто, министра финансов Такахаси, генерального инспектора Ватанабэ и пятерых полицейских. Премьер-министр Окада спасся бегством. Участники мятежа поспешили захватить ключевые позиции в центре города, штаб-квартиру токийской полиции, редакцию газеты «Асахи».
Мятеж подавили через несколько дней, но цель армии была достигнута: власть в стране постепенно концентрировалась в руках военных.
В этот год Исии получил карт-бланш на подготовку к ведению крупномасштабной бактериологической войны.
В одном из своих донесений в Токио Итикава просил поддержать эксперименты начальника особого отряда № 731. Итикава писал: «Доктор Исии продемонстрировал мне превосходную постановку дела во всех лабораториях… Его идеи заслуживают пристального внимания. Доктор Исии исходит из того, что Япония стоит накануне решительной схватки со своими врагами. Цель Японии — не только победить, но и сохранить людские резервы для последующей колонизации земель, которые войдут в состав сферы совместного процветания Великой Восточной Азии. Победу над врагами следует одержать с минимальными потерями. Бактериологическое оружие, создаваемое доктором Исии, предоставляет нашей замечательной армии уникальную возможность одерживать бескровные победы».
Итикава написал это донесение после того, как Исии продемонстрировал ему действие своего оружия.
Итикава считал себя ровесником века. Несколько лет, на которые он разошелся с наступлением двадцатого столетия, значения не имели. Мать он помнил плохо, она умерла, когда ему исполнилось всего семь лет. Отец второй раз не женился и сам воспитывал сына. Итикава-старший происходил из древнего рода, он приветствовал реставрацию Мэйдзи и, раньше других уловив пробуждение политической жизни в Японии, переехал из Нара в новую столицу — Токио. Избранный в первый в истории страны парламент, он быстро устал от политических интриг. Позднее он сказал сыну, что навсегда разочаровался в парламентаризме.
— Будущее Японии — абсолютная монархия во главе с просвещенным императором, — говорил Итикава-старший, когда сын, студент императорского университета в Киото, приехал в родной дом, чтобы посоветоваться, какой путь избрать в жизни. — Наделенный всей полнотой власти, прозорливый, сильный император поведет нашу страну по пути, предназначенному ей судьбой. Толпа честолюбцев, растленных собственной алчностью, если она окажется у политического руля, оставит Японию на задворках мира.
Отец первый сказал Итикава, что он ровесник века.
— Япония проснулась в двадцатом столетии полной сил и воли, готовой выполнить свою миссию. Она нуждается в таких же полных сил молодых людях, как ты. Ты будешь идти вровень с этим веком, который должен стать японским веком.
Отец не разрешил Итикава стать военным. Тот подчинился, хотя и чувствовал себя в штатском костюме неуютно рядом с молодыми офицерами в блестящих мундирах.
— Военный всегда исполнитель чужой воли, — объяснил ему отец. — Я хочу, чтобы твоя голова осталась свободной для неординарных мыслей. Япония — небольшая страна, и японцев немного. Вы, поколение двадцатого века, должны что-то придумать. Победить врага и сохранить жизнь японцев вот ваша цель.
Итикава, закончив юридический факультет, начал работать в одной из крупнейших промышленных корпораций Японии. Его друзья и однокашники были удивлены странным выбором блестящего, по отзывам профессоров, студента. Армия, министерство финансов или иностранных дел — вот что сулило быструю карьеру. Работа в промышленности была и незаметной и считалась не слишком приличествующей молодому человеку из хорошей семьи.
Итикава смирился с пренебрежительными взглядами некоторых своих знакомых, которые при встрече преувеличенно вежливо осведомлялись о его делах. Оказавшись в совершенно новой для него сфере, где мыслили и поступали по-иному, чем в его прежнем окружении, Итикава понял, какую силу набрали молодые промышленные гиганты Японии, уверенно манипулировавшие скрытыми пружинами политической жизни. Дзайбацу на свой лад тоже готовились к внешней экспансии Японии, поскольку захват азиатских государств открывал уникальные возможности для ограбления их природных ресурсов. Марионеточное государство Маньчжоу-го, которым управлял, разумеется, не карикатурный император Генри Пу И, а многочисленные японские советники в форме и штатском, было отдано на откуп дзайбацу. Когда такого молодого человека, как Итикава, отправили в Маньчжурию, это следовало рассматривать как знак высокого доверия. На новом месте требовалась не только деловая хватка, прочные знания, но и высшее искусство политического лавирования.
На территории Маньчжурии было несколько хозяев. Во-первых, Квантунская армия; во-вторых, дипломатические представительства Токио. Маньчжурские отделения дзайбацу были третьей властью, невидимой, но могущественной, которой следовало отстаивать интересы большого капитала, направлять действия армии. Работа Итикава в Маньчжурии заслужила самую высокую оценку его хозяев. Итикава сумел построить правильную систему отношений и с генеральными консульствами, и с армией, и с военной разведкой генерала Дойхара. Спокойного, немногословного Итикава часто видели в штабе Квантунской армии. Его личные контакты гарантировали полное взаимопонимание военных и промышленников даже в мелочах.
С генералом Дойхара они осуществили крупную операцию по финансированию военных закупок японской армии.
Оккупационные власти потребовали от китайских крестьян выращивать опиумный мак. Были отменены все ограничения на производство наркотиков, и китайцев стали травить опиумом, героином и морфием. Из страны выкачивались деньги, которые уходили на расширение военного производства Японии. А что касается китайцев, которых наркотики умерщвляли медленно, но верно, то Итикава был согласен с точкой зрения Токио: чем их меньше останется, тем лучше. В конце концов, наркотики были тем оружием, о котором говорил его отец. К тому же китайцы в данном случае сами оплачивали свою смерть.
В особом отряде № 100, где Итикава тоже был несколько раз, ему демонстрировали опыты с наркотиками. «Подопытными кроликами» служили китайцы и русские, которых японская жандармерия передавала 731-у и 100-у отрядам.
При Итикава одного китайца заставили принять около грамма героина. Спустя полчаса китаец потерял сознание, через несколько часов он умер. Японские врачи внимательно наблюдали за изменениями в его состоянии.
— Это слишком большая доза, — сказал один из них, обращаясь к Итикава. — Обычно мы даем меньше. Зато на каждом можем поставить не один, а несколько опытов.
— А что вы делаете с теми, кто выживает после экспериментов? — поинтересовался Итикава.
— О да, — понимающе кивнул врач, — некоторые русские оказываются чересчур живучими. Обычно их расстреливают. Ведь мы не можем себе позволить такую роскошь, как затраты ценных медикаментов для их лечения. Лекарства нужны нашей армии. Эти неполноценные нации все равно обречены на вымирание — китайцы и русские. Тем более что ни один человек из местных не должен узнать, чем занимается наш отряд.
Итикава был вполне удовлетворен объяснениями врача. «Особый отряд № 100, - писал он в Токио, — проводит крайне важные эксперименты по изучению воздействия ядовитых веществ на организм человека. Результаты этих опытов пригодятся японским воинам, воюющим в Азии. Ведь эти варвары могут пытаться отравить японских солдат».
…Отец Итикава не дождался бесславного конца Тихоокеанской войны. Он умер от воспаления легких и не услышал переданного по радио выступления императора, сообщившего о безоговорочной капитуляции Японии. Он не услышал, как император размеренно произносил: «Настоящим мы приказываем нашему народу сложить оружие и точно выполнять все условия…» Он не испытал того священного ужаса, который пронзил, словно раскаленная стрела, фанатичных самураев. Услыхав впервые в жизни голос сына неба, многие из высших офицеров императорской армии совершили харакири.
Итикава иногда задумывался: смог бы его отец перенести известие о капитуляции Японии?
Сам Итикава, с его холодным аналитическим умом, уже в 1943 году не питал ни малейших иллюзий в отношении исхода войны. Но в отличие от многих его узко мыслящих друзей в военных мундирах, которые к тому времени, словно в укор Итикава, покрылись знаками боевых отличий, он считал, что даже поражение не будет означать конца предначертанного Японии пути.
Незадолго до смерти отца у Итикава состоялся длительный разговор с ближайшим сотрудником начальника особого отряда № 731. Они стояли на станции Пинфань в ожидании машины, которую за ними выслали из городка. Сначала беседа касалась мелких новостей штабной жизни Квантунской армии, общих знакомых, потом, естественно, перешли к обсуждению состояния дел на фронтах. Превосходство англо-американского флота на Тихом океане было уже очевидным. И хотя сотрудник Исии был крайне осторожен в выражениях, Итикава сразу сообразил, зачем был затеян этот разговор.
Исии и те из его подчиненных, кто был поумнее, попросту испугались. Если Японии суждено проиграть войну, победители вряд ли будут рады узнать, что на их соотечественниках (англичан и американцев тоже использовали в качестве «подопытных кроликов») испытывали продукцию отряда № 731. Участники подготовки бактериологической войны не могут рассчитывать на снисхождение. Все это Итикава прочитал в глазах своего собеседника, который в тот момент говорил:
— Доктор Исии и все мы очень огорчены, что работы в нашем отряде продвигаются слишком медленно. Мы боимся, что можем опоздать… и доблестные императорские войска одержат победу без нашего участия.
За этим стояло: не лучше ли нам затормозить работу, чтобы на случай поражения остаться чистенькими?
Итикава долго молчал, наблюдая, как медленно проезжал через станцию редкий в здешних местах пассажирский поезд. Вагоны были полупустые. Несколько человек, стоя у окон, во что-то вглядывались. Должно быть, их поразил комплекс современных зданий, воздвигнутый посредине пустыни для отряда № 731. Что это за здания, никто из них не знал и знать не мог.
Проводив взглядом последний вагон, Итикава повернулся к своему собеседнику. Он заметил, что за последнее время разительно изменилось отношение к нему среди военных и вольнонаемных чиновников Квантунской армии и оккупационного управления. Те, кто раньше не замечал Итикава, теперь первыми с ним здоровались. Неудачи Японии на поле брани могли лишить их всего, поражение грозило крахом всех надежд. Зато Итикава и его хозяева могли ничего не бояться. Их жизненное положение было куда прочнее. И в окружении Исии решили поговорить именно с ним.
— Победы доблестных императорских войск вовсе не означают, что мы все можем сидеть сложа руки, — размеренно произносил Итикава. — Каким бы ни был исход ближайших сражений, надо думать о длительной перспективе. Результаты ваших исследований — это капитал, золото, его можно перевести в любую валюту.
Глаза сотрудника Исии изумленно расширились и тут же сузились. Он понял, что имел в виду Итикава.
— Поэтому вам нужно поторопиться, — сказал Итикава. — К грядущим событиям надо что-то иметь в руках.
Больше они не возвращались к этой теме. Но в следующие свои приезды в расположение отряда № 731 Итикава убедился, что его слова были восприняты всерьез. Младшие сотрудники отряда, лаборанты, вольнонаемные вполголоса жаловались на усталость. Исии получил дополнительные ассигнования. И «бревен» отряду требовалось теперь все больше.
Итикава наблюдал за происходившим с холодным любопытством. В конце того же 1943 года его привезли на полигон отряда № 731, расположенный на станции Аньда.
Предстоял опыт с бактериями сибирской язвы. Брат Исии, который был начальником внутренней тюрьмы отряда, выделил десять «бревен», которых доставили на полигон.
Глядя на лица заключенных, Итикава пытался представить, о чем они думают, понимают ли, что обречены на смерть? Но он ничего не смог прочитать в глазах этих людей. Они шли, устало переставляя ноги, не оглядываясь и не разговаривая друг с другом.
Итикава прислушался к себе: не шевельнется ли в нем жалость? И с облегчением убедился в собственной твердости.
Перед смертью Итикава-старший продиктовал женщине, которая ухаживала за ним в последние месяцы его болезни, письмо-завещание сыну.
Итикава перечитывал письмо несколько раз. Он был поражен ясностью мыслей старика, который дал ему несколько дельных советов на будущее и потребовал только одного: никогда не отступать от принципа гири.
Пока «бревна» привязывали к столбам на расстоянии пяти метров друг от друга, Итикава вспоминал давнюю беседу с отцом. Они гуляли около императорского дворца в Токио в солнечный осенний день. Итикава внимательно слушал тихий голос отца. Его слова врезались Итикава в память. Японец не знает чувства внутренней вины, вины перед самим собой, которую переживают, забыв о других. Для японца осознание собственной вины неотделимо от чувства стыда перед окружающими, от ощущения позора. Эти чувства особенно болезненны для японца, если он совершил нечто расходящееся с интересами его группы — в широком смысле этого слова. Японец всю свою жизнь должен руководствоваться принципом гири — чувством долга перед своей группой. Исполнение долга и есть единственный нормальный критерий. Все, что делается во имя долга, — морально, оправданно, справедливо. Вину японец может испытывать только за то, что не выполнил свой долг.
Сотрудник особого отряда № 731, руководивший испытаниями на полигоне, предложил Итикава спуститься в укрытие.
— Сейчас начнем, — сказал он.
Итикава последовал за офицером.
— Заряд с бактериями сибирской язвы установлен на расстоянии пятидесяти метров от «бревен», — давал пояснения офицер. — Собственно говоря, это обыкновенная бомба, которую мы взрываем с помощью электрического запала.
После взрыва бомбы раненные осколками «бревна» были отправлены назад в городок. Позднее Итикава сказали, что опыт прошел успешно: заражены были все десять человек, не выжил никто. Следовательно, бактерии, которые выращивались во втором отделе отряда № 731, были достаточно активны.
Через несколько лет, уже в конце войны, Итикава опять возили на полигон возле станции Аньда. Начальник второго отдела проводил серию опытов по заражению газовой гангреной в условиях сильного мороза. Методика была все та же. «Бревна» привязывали лицом к столбам. Головы закрывали металлическими шлемами, тело — щитками и толстыми ватными одеялами. Оголенными оставались конечности. Взрывали осколочную бомбу. И на сей раз сотрудники второго отдела похвастались перед Итикава: все десять человек умерли.
Итикава не был кровожадным человеком, не радовался зрелищу чужой смерти. Но умерщвление людей, превращенных в отряде № 731 в подопытных кроликов, он считал необходимым. Погибая, эти люди спасали в будущем жизнь японцев. А сохранение расы Ямато было куда важнее для истории, чем судьба китайцев или русских. Итикава с интересом рассматривал русых, светлоглазых людей, которым суждено было умереть во имя жизни японцев. Ни на секунду в нем не заговорило чувство жалости. Жалость была бы предательством по отношению ко всей нации, забвением принципа гири.
В конце войны Итикава получил от своих хозяев из Токио секретное поручение: подготовить подробную справку об исследованиях особого отряда № 731. Этот документ следовало составить в одном экземпляре, за которым в столицу Маньчжоу-го должен был прибыть специальный курьер.
Итикава выполнил поручение. Но секретная справка была изготовлена в двух экземплярах. Один из них Итикава оставил себе. В июне 1945 года он попросил своего приятеля из министерства по делам Великой Восточной Азии, возвращавшегося в Токио, передать небольшую посылку сестре. В письме Итикава просил ее сохранить посылку до его возвращения.
За быстро и умело выполненное поручение Итикава получил благодарность.
На двадцати страницах он сжато изложил все, что знал о работах Сиро Исии.
Предметом гордости генерала Исии были изобретенные им керамические бомбы. Использование обычных авиационных бомб для распыления бактерий на больших пространствах оказалось неэффективным. В момент разрыва бомбы абсолютное большинство бактерий гибло.
Керамический корпус требовал небольшого взрывного заряда, поэтому взрыв получался небольшой силы, а смертоносная начинка сохраняла свои боевые качества.
Исии создал мощную производственную базу, которая позволяла в сжатые сроки выращивать гигантские количества смертоносных бактерий. В особом отряде № 731 предпочитали выращивать возбудителей сибирской язвы, чумы, холеры, брюшного тифа. Эти бактерии, считал Исии, будут наиболее устойчивы в суровых климатических условиях Сибири.
По подсчетам руководителей четвертого отдела, особый отряд № 731 мог бы ежемесячно производить до 300 килограммов бактерий чумы, 800–900 килограммов бактерий брюшного тифа, около 600 — сибирской язвы, примерно тонну бактерий холеры, чуть меньше — паратифа и дизентерии. Исии считал, что создание таких мощностей позволило бы вывести из строя вражескую армию любой численности. Хуже обстояло дело со средствами доставки. В распоряжении отряда было несколько самолетов, приспособленных для распыления с воздуха бактерий или блох, зараженных чумой, и сбрасывания бомб. Однако при распылении с большой высоты бактерии гибли практически полностью, с малой высоты удавалось заразить небольшую площадь, к тому же самолет попадал под губительный огонь противовоздушной обороны. Исии считал перспективным сбрасывать с самолетов чумных блох, заражать овощи, фрукты. Во втором отделе имелись помещения, где выращивались блохи — будущие переносчики чумы. За несколько месяцев — около полусотни килограммов блох. На полигоне возле станции Аньда проводились эксперименты и с чумными блохами. В качестве «бревен» использовались заключенные из концентрационного лагеря «Хогоин», где держали попавших в руки японской жандармерии советских людей. Их привязывали к столбам, затем самолет, взлетавший с отрядного аэродрома, пролетал над полигоном и сбрасывал десятка два бомб. Это был очень длительный эксперимент, жаловались сотрудники отряда, поскольку приходилось долго ждать, пока чумные блохи доберутся до «бревен». Однако результаты экспериментов не оправдали надежд Исии. Чумные блохи оказались неактивными. То ли погибли в результате взрыва бомбы, то ли в жару потеряли боевые качества. Сотрудники отряда огорченно обсуждали свою неудачу.
Особые старания Итикава приложил к тому, чтобы получить доступ к обобщенным данным, касающимся применения бактериологического оружия не в лабораторных, а в боевых условиях.
Сотрудники особого отряда № 731 совершили три экспедиции на территорию Китая, чтобы опробовать продукцию «культиваторов Исии».
Первую экспедицию возглавлял сам Исии. Бактериями брюшного тифа и холеры заражались водоемы. Чумные блохи сбрасывались с самолета на город Нинбо, близ Шанхая. Китайская пресса сообщила, что в Нинбо неожиданно появилось множество блох и 99 человек заболели бубонной чумой (все, кроме одного, умерли). Китайцы были удивлены эпидемией, поскольку крысы в городе чумой не болели, а обычно вспышки чумы следовали за эпизоотией среди крыс.
Итикава удалось увидеть и документальный фильм о применении бактериологического оружия, снятый во время экспедиции. Кинооператоры запечатлели распыление чумных блох над районом города Нинбо, довольные лица Исии и его сотрудников.
Вторая экспедиция также проверяла эффективность заражения с помощью чумных блох. Объектом нападения был избран город Чандэ, в провинции Хунань. В экспедиции принимало участие более ста человек. Японский самолет сбросил над китайским городом зерна пшеницы и риса, обрывки бумаги и хлопчатобумажной ткани. Зараженные чумой блохи были завернуты в ткань и бумагу, зерно же сбрасывали в надежде, что оно привлечет крыс, на них набросятся блохи, и начнется эпидемия.
Экспедиция 1942 года в Центральный Китай проводилась по приказу генерального штаба армии. Цель — изучить так называемый наземный способ использования бактериологического оружия. По приказу Исии производственный отдел подготовил примерно 130 килограммов бактерий паратифа и сибирской язвы, холеры и, разумеется, чумы. Заражались водоемы, колодцы, реки, продукты питания. Бактерии тифа и паратифа содержались в разбрасываемых повсюду обычных металлических флягах — люди Исии надеялись, что фляги будут подобраны местными жителями. Три тысячи булочек, зараженных тифом и паратифом, были розданы в лагерях для китайских военнопленных, которых затем освободили, чтобы они вызвали у себя дома эпидемию. Таким же образом приготовленное печенье разбрасывали в деревнях.
Внимание Итикава привлекли и опыты по обмораживанию людей. Это были перспективные исследования в плане конфронтации с Советским Союзом. Во внутренней тюрьме отряда Итикава видел несколько китайцев, у которых либо вообще отсутствовали пальцы рук, либо остались одни кости. У одного китайца была отморожена нога, которую не лечили — наблюдали за ходом болезни.
Через окошко «холодильной камеры» Итикава наблюдал за «бревнами», подвергавшимися действию низких температур. Зимой заключенных в кандалах просто выводили на улицу в сильный мороз, оголяли руки, и с помощью вентилятора ускоряли процесс обморожения. Когда при постукивании палочкой обмороженные руки издавали деревянный звук, «бревна» вели назад в тюрьму и пытались найти способ бороться с обморожением. Исии деятельно готовился к будущей кампании Квантунской армии против Советского Союза. Он опасался, что непривычные к сильным морозам японские солдаты окажутся небоеспособными.
Отметил Итикава и исследования особенностей иммунитета англосаксов. В Мукдене в концентрационном лагере сотрудники особого отряда № 731 отбирали американских и английских военнопленных, которым прививали различные бактерии с целью выяснения их сопротивляемости болезням. Однако об этих экспериментах Итикава упомянул вскользь. Он полагал, что опыты, ставившиеся на англо-американских военнопленных, не интересуют его токийских хозяев. В экземпляре отчета, который он оставил для себя и тайком передал матери на хранение, Итикава вообще убрал все, что относилось к подготовке бактериологической войны против союзников. Несмотря на победные реляции генерального штаба, он хорошо разбирался в ситуаций и понимал, что в самом скором будущем его доклад о деятельности особого отряда № 731 приобретет определенную ценность. Его можно будет уступить в обмен на жизненно важные услуги. Но покупателей доклада о деятельности генерала Исии вряд ли обрадует описание экспериментов над американскими и английскими летчиками. Зато все, что касалось подготовки бактериологической войны против Советского Союза, окажется для них полезным.
Итикава покинул Китай за три дня до вступления в войну СССР. Своим коллегам он сказал, что едет в Токио на несколько дней. На самом деле он не собирался возвращаться.
События следовали одно за другим. Японская империя, сеявшая смерть на Дальнем Востоке и в Юго-Восточной Азии, рушилась. Никакие усилия, предпринимавшиеся верховным командованием, никакие бессмысленные жертвы отрядов смертников не могли ее спасти.
Итикава с железным спокойствием наблюдал за агонией империи. Происходившее не было для него неожиданностью. Худшим недостатком человека он считал слепоту и с презрением думал о своих сверстниках, в 1945 году продолжавших надеяться на победу Японии. В Токио переоценили собственные силы, рассуждал он. Нельзя сражаться со всем миром. Политики неправильно выбрали ориентиры, привели страну к поражению. Надо учесть эти уроки. Молодость прошла незаметно. Она осталась там, в Маньчжурии, в кабинетах прекратившего свое существование правления Южно-Маньчжурской железной дороги. Правда, он добился многого за эти годы и не мог пожаловаться на судьбу. Нажитое состояние, конечно, из-за поражения пойдет прахом. Но есть недвижимость, акции металлургических предприятий, тесные связи с крупнейшими промышленниками. В старой Японии ему не было ходу — слишком молодой. Теперь, наоборот, потребуются молодые, динамичные люди, способные все начать заново. Итикава был уверен в своем будущем. Он ничем не запятнал себя перед победителями. Он никогда не носил военного мундира, не принимал участия в экзекуциях.
Последние дни перед капитуляцией Японии Итикава провел в Киото у сестры, которая была уже тяжело больна и через несколько месяцев умерла. Запершись в доме, Итикава учил английский. Он проклинал школу, где его не научили этому языку, от которого зависела теперь сама его жизнь.
Он не покидал свой дом и в первые месяцы оккупации. Больше всего он боялся, как бы в Японии не высадились русские войска. С американцами, Итикава был уверен, он сумеет договориться. Он внимательно прислушивался ко всем известиям из Токио. Союзники собирались наказать японских военных преступников, арестовали нескольких видных военных.
В один из дней Итикава увидел в очереди за рисом знакомое лицо. Мучительно долго вспоминал, где мог видеть этого человека. Когда тот получал свою порцию, Итикава сообразил: перед ним стоял сотрудник отряда № 731.
Итикава нагнал его на улице, остановил. Человек побелел от испуга, чуть не выронил узелок с рисом. Итикава успокаивающе похлопал его по плечу.
— Меня вам нечего бояться, — сказал он. — Как ваше имя?
Это был Ямакава, который рассказал ему, что произошло с особым отрядом № 731.
Когда из штаба Квантунской армии сообщили о наступлении Советской Армии, генерал Исии приказал уничтожить все оставшиеся в живых «бревна» и разрушить отрядный городок.
Сотрудники отряда крушили запас керамических бомб, другие таскали из камер трупы заключенных, сваливали их в большие ямы, вырытые во внутреннем дворе, поливали нефтью и поджигали. Трупов оказалось слишком много, они не успевали сгорать полностью. К концу дня решили вытаскивать непрогоревшие трупы из ям. Нашли дробилки для костей. Сорванное с костей человеческое мясо бросали назад в яму и опять поджигали. Так работа пошла быстрее. Раздробленные кости вывозили за пределы лагеря. Здание тюрьмы подорвали мощными авиабомбами. В лабораториях разбивали оборудование, сжигали в печах все, что могло бы навести на след истинной деятельности особого отряда № 731. Однако крысы, блохи и вши, зараженные опасными болезнями, уцелели и стали причиной гибели населения целой деревни. Крысы бешено размножались и атаковали Харбин, где начались эпидемии. Это был прощальный «подарок» генерала Исии.
Большая часть личного состава отряда успела эвакуироваться в Японию. Дав друг другу клятву никогда не вспоминать о прошлом, они рассеялись по стране. Ямакава тупо смотрел в землю. На его лице были написаны только страх и усталость.
Когда Итикава увидел, что американские оккупационные власти готовы к диалогу, он приехал в Токио. Его ожидания оправдались. Итикава хорошо приняли и в консервативных политических кругах, и в среде высших промышленников. Освоившись в сложной политической ситуации послевоенного Токио, Итикава встретился с офицерами американской разведки…
Имаи громко крикнул:
— Профессор Ямакава, откройте. Полиция!
Синяя «королла» стояла сбоку от домика Ямакава. Имаи взглянул на номер, дабы убедиться, что на сей раз они не ошиблись, и бросился к дому.
Он крикнул и почти сразу же рванул дверь — там, внутри дома, раздался подозрительный грохот.
Уже в прихожей он услышал звон разбиваемого стекла и чей-то стон.
Вытаскивая на ходу пистолет, Имаи влетел в комнату — там было пусто. Бросился в другую. Раздвинул жалобно завизжавшие фусума, увидел профессора Ямакава, лежавшего на татами лицом вниз. Имаи одним взглядом охватил комнату. Ямакава убили выстрелом в затылок, когда он стоял около небольшого сейфа. Столик с чайным сервизом опрокинут. Оконное стекло разбито. Имаи сделал первый шаг, чтобы подойти к окну, и в этот момент его сзади сильно ударили по голове.
Морита второй час торчал на шоссе неподалеку от моста через узкую речушку. Он съехал с обочины вниз, так что в наступившем сумраке машину не было видно с дороги, и ждал. Курил. Прогуливался.
Промчавшаяся минут двадцать назад машина не понравилась Морита. Он не знал полицейских номеров на Хоккайдо, но за два часа по шоссе прошло всего несколько автомобилей, а этот так торопился.
Повинуясь неясному инстинкту, он включил зажигание и с погашенными огнями выехал на шоссе.
Имаи рухнул на пол. Но он был тренированным человеком и, падая, откатился в сторону, избежав второго удара. Он хотел встать, но на него бросился человек, от одного вида которого Имаи стало жутко. Огромное до неестественности лицо с низким лбом, мясистым носом, челюстью бульдога и маленькими глазками, упрятанными под массивные надбровные дуги. Если бы на человеке не было одежды, Имаи принял бы его за какое-то хищное животное. Он бросился на Имаи, хрипя и брызгая слюной и придавил его своей огромной массой, стараясь задушить.
Имаи, изловчившись, ударил его коленом в низ живота. Руки, тянувшиеся к его горлу, ослабели. Имаи уже напрягся, чтобы сбросить противника, но краем глаза заметил, как кто-то схватил пистолет, валявшийся на полу.
Через мгновение на него смотрел черный зрачок пистолета. Теперь Имаи увидел второго. Высокий, худой. Лицо бесцветное и тупое. И руки неестественно длинные, тонкие. Он держал пистолет обеими руками. И целился Имаи в голову.
Имаи изо всех сил рванул гиганта на себя. Прозвучал выстрел — мощная туша, навалившаяся на инспектора, обмякла. Имаи бросился на второго, выхватил пистолет из его руки, которая оказалась какой-то бескостной. Пальцы, как с омерзением убедился Имаи, гнулись во все стороны.
Он защелкнул наручники на втором, перевернул гиганта на спину — тот был мертв. Увидев это лицо, страшное и после смерти, Имаи содрогнулся. Что это за люди? Почему они так выглядят? Почему бросились на него?
Его взгляд упал на разбитое окно. Где же человек, приехавший на «королле»?
Он вышел в сад, немного прихрамывая. Правая нога ныла — что-то он там повредил, падая.
Имаи быстро установил, что тот, кого он преследовал, выскочил из окна, пробежал через сад и исчез, пока он дрался в доме. «Королла» тоже исчезла. Но в темноте Имаи увидел яркие вспышки сигнальных огней полицейской машины. Приехал инспектор Касуга, которого он не видел с того злосчастного дня.
— Что с вами? — спросил инспектор.
— Профессор Ямакава убит, — тяжело дыша, заговорил Имаи, — в домике человек с наручниками. Заберите его. И труп. Надо вызвать спецмашину.
Увидев недоуменное лицо Касуга, Имаи развел руками.
— Я и сам не знаю, что это за люди. Они напали на меня.
— А где же тот, кого мы ищем?
— Убежал.
Имаи двинулся к своей машине.
— Надо попробовать догнать. Далеко он не мог уехать.
— Я с вами, — решил Касуга, на ходу отдавая приказания своим людям.
Имаи рванул с места.
— Опять мы с вами вдвоем, — сказал Касуга. У него была странная интонация. Не то грустная, не то насмешливая. — Только на сей раз вы за рулем. Будьте осторожны.
— Я не суеверен, — отрезал Имаи.
Он чувствовал себя плохо, но не хотел в этом признаваться.
… - Ты?
В его голосе было изумление.
— Ну а кто же еще? Засунь хлопушку в карман. Нервы у тебя, надо сказать, сильно не в порядке. Я думал, ты меня тут пристрелишь, Ватанабэ. Бумаги с собой?
— Да, в кармане. Но я должен вручить лично.
— Никто и не отнимает у тебя этого права. Я просто хочу проводить тебя и помочь в случае чего.
— Спасибо, Морита-кун. Надо торопиться, полиция на хвосте. Они уже в доме Ямакава. Я только что чуть не столкнулся с полицейским автомобилем. Хорошо, свернул вовремя.
Таксист согласно кивнул.
— Поедем на моей машине. А твою сбросим под откос.
Они разговаривали почти в полной темноте, с трудом различая лица друг друга.
Ватанабэ сел за руль; не захлопывая дверцу, завел мотор. Осторожно подвел машину к откосу. Таксист, стоя на шоссе, наблюдал за его манипуляциями. Вдруг он махнул рукой. Ватанабэ повернул к нему голову, думая, что таксист что-то забыл сказать. Морита подошел к машине, нагнулся к водителю и вдруг быстрым движением ткнул что-то острое ему в ухо. Голова Ватанабэ безжизненно откинулась назад.
Морита быстро вытащил из его кармана пачку бумаг. Рукой в перчатке нажал педаль газа и подтолкнул «короллу» к откосу. Машина нехотя перевалилась через край дороги, повисла над пустотой и наконец рухнула. Морита, на ходу стаскивая перчатки, побежал к своей машине.
«Ну вот и все», — подумал он, перебирая вытащенные из кармана Ватанабэ бумаги. Он быстро просматривал лист за листом, подсвечивая себе карманным фонариком. Да, это то, что надо. Ватанабэ поработал на славу.
Секретарь заглянул в комнату. Итикава вроде бы спал. Секунду он раздумывал, как быть, но Итикава, не открывая глаз, спросил:
— В чем дело?
— Звонили от Кубота-сан. У себя дома убиты профессор Ямакава и один из его людей. Второго арестовали.
Секретарь подождал, не скажет ли чего Итикава, но тот молчал.
— Полиция оказалась там раньше, чем сотрудники бюро расследований. Кубота-сан полагает, что похищены бумаги, которые Ямакава хранил дома.
— Кто взял бумаги?
— Он не знает.
Итикава подумал, как он был прав, когда с самого начала настаивал на необходимости строгой охраны клиники и самого Ямакава. Но к нему прислушались, только когда бежал этот Осима — наркоман, на котором Ямакава ставил опыты, и в результате полиция обратила внимание на клинику и на самого профессора.
Да еще двое уродов, которых держал Ямакава, по своей инициативе украли у полицейского записную книжку, чтобы узнать, как далеко продвинулось следствие. Ямакава очень гордился «подвигом» своих подопечных. Похоже, он питал любовь к уродцам, которые слушались его беспрекословно.
Один раз Итикава ездил на Хоккайдо и долго не мог забыть слуг профессора. На ранней стадии работы над препаратом они тоже служили подопытными кроликами. Потом Ямакава проникся к ним странной симпатией и поселил у себя дома. Весь день держал взаперти в комнате без окон, на ночь выпускал, объясняя, что с такой охраной ему никто не страшен. Итикава считал, что последние годы Ямакава был немного не в себе. Нормальный человек не смог бы общаться с этими уродами.
— Прикажете что-нибудь передать Кубота-сан? — не выдержал секретарь.
— Нет. Идите.
Что передать? Что надо выяснить, кто и зачем украл бумаги? Так это Кубота понимает и сам. От этого зависит его благополучие. Ему не простят неудачи с «Храмом утренней зари». Раздавят, как червяка. Итикава укутался пледом. Прохладно. Он даже на ночь не разрешал закрывать сёдзи. Свежий воздух полезен.
Имаи и Касуга наблюдали, как из «короллы» вытаскивали труп.
Сюда подогнали несколько полицейских машин, карету «скорой помощи», подъемный кран и тягач. В мощном свете прожекторов было видно, как суетились внизу люди.
Один из полицейских подошел к ним, протянул бумажник погибшего.
Имаи тщательно просмотрел содержимое. Документы на имя Есинори Ватанабэ. Внимательно поглядел на фотографию. Тот самый, кого они искали. Пачка денег. Больше ничего. «Скорая помощь» уехала.
— Почти на том же самом месте, — сказал Касуга.
Имаи вздрогнул. Они думали об одном и том же.
— Ни одна машина здесь не падала под откос. Никогда. Можно поднять полицейские отчеты, проверить. Но я не припомню ни одного такого случая.
Имаи махнул рукой.
— Нам с вами везет на нетипичные случаи.
— Он убил Ямакава?
— Я полагаю, что да, — ответил Имаи. — Машина, которая стояла у дома Ямакава, принадлежит этому Ватанабэ. Вот зачем он убил и зачем убили его это вопрос.
— Да, непонятно. Ничего не взял.
«Короллу» подняли и погрузили на платформу, прицепленную к тягачу.
— Поедем?
Имаи кивнул.
— Надо допросить этого длинного парня, которого арестовали в доме Ямакава. У него и документов даже не оказалось.
Но допрос не состоялся.
В полицейском участке их дожидались начальник отделения и патологоанатом, который должен был произвести вскрытие человека, найденного в свалившейся под откос «королле».
— И арестованного, и машину, и труп приказали срочно отправить в Саппоро. Звонил сам начальник префектурального штаба полиции.
Начальник отделения, впервые удостоившийся такой чести, был почти в невменяемом состоянии.
— Почему? — спросил Имаи.
— Приказ. Вам тоже приказано немедленно прибыть в Саппоро. Начальник штаба хорошо отозвался о вас. Позвольте поздравить.
Патологоанатом с интересом спросил Имаи:
— Это вы арестовали симпатичного молодого человека, которого только что увезли?
Имаи передернуло.
— Мерзкий тип. На паука смахивает.
Врач захохотал:
— Угадали. Я тут с ним успел немного побеседовать. Довольно редкий образчик. Я такого первый раз вижу. У него арахнодактилия — болезнь, встречающаяся очень редко. Например, я читал о ней только в учебнике. Характерный признак — пальцы паучьей формы, гнутся в любую сторону. Личность действительно малоприятная. Ваш профессор Ямакава был, видно, большой оригинал, раз держал у себя в доме таких людей. Второй-то не лучше.
— Да уж, до смерти сниться будет.
— Еще бы! — Молодой врач был рад показать свою осведомленность. — Неестественно крупные черты лица, надбровные дуги, челюсть, конечности — бьюсь об заклад, у него акромегалия.
— Я и слов таких никогда не слышал, — заинтересовался инспектор Касуга. — Это еще что такое?
— Опухоль передней доли гипофиза. Выделяется слишком много гормона роста. Отсюда и гигантизм. Крайне опасные люди, возможны внезапные вспышки ярости.
— Зачем они были нужны Ямакава? Опыты на них ставил?
— Возможно, — пожал плечами врач. — Это ведь люди умственно неполноценные, но не до такой степени, чтобы не чувствовать своей ущербности. Если ваш Ямакава к ним хорошо относился, могли привязаться, верно служить. По-собачьи.
Только потом Имаи вспомнил: когда он ночевал в деревне и к нему ночью пытались залезть, он видел страшную маску за окном, длинную руку, которая вытащила из кармана пиджака записную книжку. Уж не эти ли ребята навестили его ночью?
В таком случае фигура профессора Ямакава приобретает новые краски. Если они действовали по его приказу, значит, профессор имел отношение к гибели того молодого человека на дороге.
Агенты бюро расследований общественной безопасности через своих людей в полиции довольно быстро выяснили, что произошло в доме Ямакава. На исходе дня Итикава доложили, что бумаги, относящиеся к «Храму утренней зари», предположительно находятся у некоего Морита. Агенты бюро расследований проследили его путь из Саппоро в Токио.
«Найкаку тёсасицу» — исследовательское бюро при кабинете министров. Таинственная организация, сфера деятельности которой известна немногим. Имаи, во всяком случае, не принадлежал к их числу. В полицейской академии им дали понять, что бюро создавалось по типу американского ЦРУ, только обладает более скромными ассигнованиями, а следовательно, и штатом. В основном оно занималось внешнеполитической разведкой, концентрируя у себя всю информацию, получаемую разведывательными органами Японии, и готовила информационные сводки для правительства. Штат бюро был небольшим — примерно полторы сотни человек. Но особенность японской разведывательной системы состояла в том, что к этой деятельности привлекались все, кто имел отношение к загранице. Ученые, которые получали от бюро немалые «гонорары» перед поездкой в социалистические страны — аванс за представление затем подробных отчетов, заграничные представители торговых фирм, занимающиеся сбором информации «на постоянной основе», — все работали на разведку. Особое значение имели данные, поставляемые Японской ассоциацией развития внешней торговли (Джэтро): разведкой занимались 270 ее сотрудников в 59 странах. Некоторые специалисты даже считали крупные торговые фирмы главным звеном разведывательной системы Японии. На бюро работали также информационные агентства, служба радиоперехвата, научно-исследовательские учреждения, поставлявшие по заказам разведки аналитические доклады. Разведкой занимались и другие ведомства: разведывательные отделы управления национальной обороны и родов войск, МИД, иммиграционный департамент министерства юстиции, отдел по делам иностранцев главного политического управления. И вся добытая ими информация опять-таки передавалась бюро. Имаи никогда не приходилось сталкиваться с людьми из исследовательского бюро. Поэтому он был удивлен, когда в штабе полиции в Саппоро с ним захотел побеседовать сотрудник бюро, который интересовался странным убийством профессора Ямакава.
— Сам не знаю, почему приехал человек из «Найкаку тёсасицу», — сказал начальник отдела, когда они с Имаи остались вдвоем. — Впрочем, тебя это не касается. Ты возвращаешься в Токио. Характеристика твоя уже составлена, и очень хорошая, так что присвоение следующего звания не за горами, можешь мне поверить.
— А как же убийство Ямакава? Дело не окончено.
— Мы доведем, — улыбнулся начальник отдела. — Или ты сомневаешься в нашей компетентности? Рано нос задираешь.
В конце концов, думал Имаи, собирая вещи, все это действительно его уже не касается. Что он мог сделать — сделал достаточно добросовестно. Во всяком случае, лучше, чем многие другие на его месте.
И вообще он никогда не воображал себя сверхпринципиальным человеком, это просто глупо. Он достаточно рано, еще в полицейской академии, понял: чтобы ладить с людьми, продвигаться по службе (а карьера означала для Имаи прежде всего возможность получить более интересную работу), необходимо и душой кривить, и через какие-то собственные принципы переступать. Таково общество, в котором он живет. Да и нравы полиции хорошо известны. Каждому ясно: все, что пишут в разных наставлениях молодым полицейским, — чепуха, сплошная реклама. А истина — интриги, взаимная ненависть и зависть. И твоя репутация в полиции зависит прежде всего не от того, хороший ли ты работник или плохой, а от отношений с начальством. Имаи принял все это как данность: ничего не поделаешь, надо приспосабливаться.
Но всему есть предел. Приспосабливался он ради того, чтобы иметь возможность хорошо делать дело. А это не получалось. Убийство Ямакава — не конец расследования, а начало, что бы там в штабе ни говорили. Тут потребуется еще много работы. Вопрос в другом: хотят ли такого расследования, которое может вытащить на свет божий что-то неприятное для властей? Многие и очень многие преступления, Имаи хорошо знал об этом, покрывались полицией. Иногда кто-то пытался преодолеть этот барьер. Начинались скандальные процессы, но тянулись они годами, пока про них не забывали. А преступники, глядишь, опять на свободе.
Имаи рассчитывал на долгую и интересную службу в полиции. Ему нравилась его работа. Но он хотел быть хотя бы немного честным перед самим собой. Иначе перестанешь уважать самого себя.
Каков же выход? Он даже формально не имеет права оставаться здесь. Попробовать что-то предпринять в Токио? То, что опасно для местных властей, не обязательно должно испугать токийское начальство. Но прежде надо посоветоваться со старшим братом.
От этой мысли Имаи стало легче. Он даже сменил билет. Должен был вылетать на следующий день, а решил отправиться прямо сегодня. Вечерним рейсом.
Несколько человек приехали в этот день в загородный дом Итикава.
Морита, похитивший бумаги профессора Ямакава, был найден мертвым в отеле «Пасифик», сообщили Итикава. Содержимое его портфеля лежало на низеньком столике в одной из комнат загородного дома Итикава. Среди бумаг, взятых у убитого Морита, не было самого главного: описания технологии производства препарата профессора Ямакава. Эти документы Морита успел кому-то передать. Бюро расследований общественной безопасности продолжало разрабатывать связи Морита. Но пока безрезультатно.
Гости расселись вокруг полулежавшего, как всегда, Итикава.
— Таможенной службе дано указание усилить контроль за всеми, кто покидает страну. Такое же распоряжение получило управление охраны на море. С этой стороны мы можем быть спокойны. Да и кто за границей мог знать о «Храме утренней зари»? Наши специалисты считают, что бумаги похитили свои. Чтобы воспользоваться плодом чужих трудов. Следовательно, кто-то из наших людей оказался недостаточно честен. Поэтому в первую очередь мы должны позаботиться о собственной безопасности. Надо проверить всех и безжалостно уничтожить паршивую овцу, которая портит все стадо.
Секретарь Итикава, загибая пальцы, пересчитывал гостей. Беседа затянется, нужно подать чай.
…Аллен и Росовски появились в зале вылета сразу же после того, как объявили регистрацию пассажиров на ежедневный рейс Токио — Нью-Йорк. Подхватив чемоданы, пассажиры двинулись взвешивать багаж. Они торопились занять места в комфортабельном «Боинг-747», понимая, что путешествие предстоит долгое и надо устроиться поудобнее.
— Самолет приземлится в 17.40. Наши уже предупреждены и будут встречать, — сказал Росовски.
— Через два дня и я полечу домой… — Аллен словно и не слышал Росовски.
Он находился в благодушном настроении. В рекордно короткий срок он сумел выполнить задание Лэнгли — выяснил, что такое «Храм утренней зари». Рецепт в руках. Теперь приготовить препарат — дело техники. Пусть Пентагон скажет спасибо ЦРУ. Сдав багаж, высокий, стройный американец в твидовом пиджаке пошел к эскалатору, ведущему в зону паспортного контроля. Аллен чуть подмигнул Росовски, указав ему глазами на американца. Вслед за ним шел смешного вида пожилой японец с зонтиком в руках.
— Вот и все, Росовски, — спокойно проговорил Аллен. — Документы у этого мальчика в твидовом пиджаке. Дипломатическая почта идет слишком долго. В таких случаях курьеры незаменимы. Кстати, жаль, что убили Морита: ценный был агент. Слава богу, он успел отдать мне главные бумаги. Японцы останутся с носом, как и должно быть.
Ни Аллен, ни Росовски не подозревали, что в эту минуту, тая насмешку в глазах, за ними наблюдал сотрудник исследовательского бюро. Американцам и в голову не могло прийти, что через десять минут после взлета самолету придется совершить вынужденную посадку на военном аэродроме, на котором «Боинг-747» уже ждут оперативники исследовательского бюро. И бумаги ЦРУ не достанутся. Здесь, в Японии, хозяева японцы. Американцам не хватает понимания специфики этой страны. Зачем, например, посылать с таким ответственным поручением человека, чья профессия понятна с первого взгляда? Нет, на Востоке так нельзя.
Сотрудник бюро с удовольствием проводил взглядом своего агента — смешного пожилого человека, который не вызовет ни у кого подозрений. А между тем даже по физическим данным он не уступает более молодому американцу с роскошными мускулами.
Японец посмотрел на часы: итак, через десять минут вынужденная посадка. Возня на аэродроме займет в крайнем случае полчаса. Значит, еще сегодня исследовательское бюро передаст кабинету министров технологию производства препарата, который сделает японскую армию непобедимой.
…Имаи позвонил Тацуока прямо из аэропорта. И побежал к такси. Он хотел сразу приехать к старшему брату. У него накопилось столько вопросов к Тацуока. Убийство профессора Ямакава и события, предшествовавшие этому, сулили интересное дело, в расследовании которого Имаи с радостью принял бы участие.
Тацуока долго смотрел на телефонный аппарат. Почему он не сказал «Не приезжай»? Впрочем, это бессмысленно. Он обязан подчиниться долгу. Сняв трубку, Тацуока стал медленно набирать хорошо известный ему номер.
Когда Имаи подъехал к дому старшего брата, на Токио уже накатывалась ночь. Он заплатил таксисту и пошел к подъезду.
Тацуока жил в хорошем квартале. По токийским понятиям, здесь было много зелени. Но сегодня двор перед домом, где замерла одинокая машина с двумя пассажирами на переднем сиденье, предстал перед Имаи мрачным и неуютным. Странно, но раньше он никогда не замечал этого.
Дом ярко светился огнями. Имаи поднял голову. Ему показалось, что он видит в освещенном квадрате окна фигуру старшего брата.
Имаи вошел в подъезд.
Его встретили у лифта.
Примечания
1
Иптаповцы — т. е. из ИПТАПа, истребительно — противотанкового артиллерийского полка.
(обратно)2
ПНШ-первый — первый помощник начальника штаба.
(обратно)3
Академиками в армии называли окончивших военные академии.
(обратно)4
Стой, бросай оружие! (японск.)
(обратно)5
Хьюман релейшенз (англ.) — отношения между людьми.
(обратно)


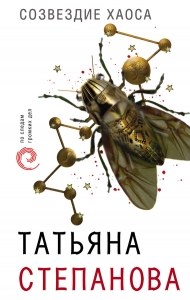


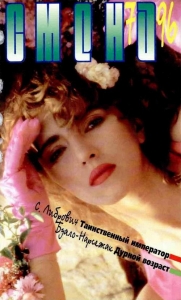





Комментарии к книге «Ответный визит», Лев Романович Шейнин
Всего 0 комментариев