Андрей Алексеевич Молчанов Кто ответит?
Эту могилу он уже видел. Стандартную, ничем не примечательную: черный мраморный обелиск с выпуклым овалом фотографии, имя, даты рождения смерти, у подножия надгробия — фиолетово-блекло понурые анютины глазки.
Здесь он оказался случайно. Таксист, попутно решив заправиться, свернул с магистрали к колонке. Дорога шла в объезд кладбища и, глядя на рябившую оконце дощатую ограду, он, преодолевая внутреннее сопротивление, попросил остановить машину. В конце концов торопиться было некуда. До отправления поезда еще оставался час, томиться в зале ожидания, в толкучке и суетном гомоне спешащих людей, не хотелось, и провести это время можно было здесь, на кладбище. Ибо единственное, что связывало его с городом, был именно этот черный стандартный обелиск, на котором высечена его, Ярославцева, фамилия…
Впервые он увидел могилу несколько лет назад, когда проходил мимо, но с тех пор стал видеть сны — тяжелые, страшные… Порою боялся уснуть, удерживая себя на зыбкой, качающейся грани дремы. Только бы вовремя очнуться. Не сорваться туда, где поджидает прошлое…
Накрапывал дождь — редкий, он, казалось, висел в воздухе — тяжелом и горько-пряном от первых запахов осени. Сентябрьский, еще не промозглый дождь. От поникшей листвы кладбищенской сирени уже веяло холодком; сумерки были черны, и случайный ветерок вороват и остр.
Он ступил на тропинку, и уже направился к могиле, но раздумал, свернул к выходу.
Он заметил их.
Непонятно, что делали в поздний час девочка и женщина на кладбище, у этой могилы.
Он знал когда-то и женщину, склонившуюся над увядающими цветочками, и девочку, стоявшую рядом, жавшуюся в тонком плащике. Поспешно уходя, расслышал голос девочки — родной до боли:
— Мама, смотри, как он похож на папу…
— Танечка, не говори глупостей…
— Ну, мам… Пойдем в машину. Дядя Толя ругаться будет. Поздно ведь… Вторая серия скоро начнется, а ему еще в гараж заезжать, не успеем… Весной приедем, все здесь уберем. Темно же, мам…
Он ускорил шаг. Взглянул на часы. До отправления поезда оставалось сорок минут. Как раз, чтобы успеть приехать на вокзал автобусом. Такси решил не брать. Денег было мало, а еще предстояли дорожные траты.
В серой «Волге», одиноко торчавшей возле кладбищенских ворот, томился, очевидно, «дядя Толя». Не без труда он припомнил этого человека: то ли из внешней торговли, то ли из Министерства иностранных дел… Основательный, неглупый чиновник. Вероника выбрала надежный вариант.
Подумал с досадой: я допустил ошибку. Мертвым нельзя приходить к живым. И теперь я понял, почему нельзя — больно, и все места заняты… навсегда!
ИЗ ЖИЗНИ АЛЕКСЕЯ МОНИНА
Тетка была сварливой, толстой, от нее вечно пахло прокисшим борщом, рыбой и хозяйственным мылом. Соседки по большому пустынному двору — общему на три мазанки — дружно переругивались с ней по всякому поводу. Впрочем, едва ли не полгорода открыто враждовали с этой издерганной, крикливой женщиной. А она, взвинченная бесконечными стычками, вымотанная стиркой, возней с чахлым огородом, срывала все на нем, на мальчишке.
— У, поганец! — теребила в бессильной ненависти его выгоревшие на южном солнце вихры распаренными, в морщинах пальцами. — Всю жизнь сломал! Ты да мать твоя, гадина, из-за нее все! За что только крест тащу!
Он не хныкал, не огрызался, терпеливо, не по-детски, пережидая ее истерику.
Собственно, ребенком он себя и не помнил. Всегда был взрослым, потому что детство пришлось на войну.
Отец — рабочий в порту, погиб при первой же бомбежке, оставив в его сознании ощущение чего-то сильного и надежного. А мать вспоминалась, только когда смотрел на фото, которое тетка прятала в комоде. Миловидная, волосы, уложенные «корзиночкой», тихая, застенчивая улыбка… А после всплывали ее слова — далекие, как бы приснившиеся: «Лешенька, сынок, если увидишь дядю Павла… Передай: мама наказывала отдать куклу…» И отчетливо виделось последнее из того дня: ситцевая занавесочка, опасливо отодвинутая рукой матери, напряженное лицо, а там, за окном, — пятнистый кузов машины, из которого ловко выпрыгивали большие, сильные солдаты с окаменевшими лицами…
С треском ударили в дверь.
Мать вывела его через черный ход.
— К тете беги. Быстро, Леша…
И все. Мамы не стало. Он прибежал к тете, расплакался. Картавя слова, рассказал о страшной машине и заснул в слезах. А когда проснулся, уже была другая жизнь. Без мамы.
Однажды вскользь тетка буркнула: дескать, мать была связана с партизанами, после ее ареста пошли провалы и… кто знает, не повинна ли в них она? Но толком никто ничего не знал. Однако слушок креп, и, взрослея, Алексей все отчетливее ощущал отчуждение взрослых и сверстников. Друзей у него не водилось. Мальчишки, наслушавшись всякой разности от взрослых, сторонились его, хотя и не задирали, побаивались. В драке он был беспощаден и к себе, и к обидчикам: шел напролом — до конца и бесстрашно. Да и не нуждался он ни в чьей дружбе, замкнулся в собственном мире. В подвале дома тетки хранились остатки библиотеки, растащенной с пожарища, и друзей он находил в книгах: отважных пиратов, благородных рыцарей, неустрашимых ковбоев. Когда чтение надоедало, уходил на скалистое взморье ловить крабов, нырял за рапанами, подкапывал острогой ленивых ершей — скорпеи, либо искал нежно-розовые, намытые волной сердолики среди шуршащей влажной гальки. И всегда при этом сочинял разные сказочные истории, героем которых — самым сильным и удачливым — был он.
И вот наступил день, который… предварил жизнь: большую, неизвестную. Всю.
Он возвращался с пляжа домой с кошелкой, полной крабов, представляя, как будет варить их, как начнут краснеть колючие панцири, как обнажит горячее, сладкое мясо и выдернет зубами первое нежное волоконце. А потом сварит мидий, наловленных еще утром, — целое ведро, набросав в отвар мяты. Вот и обед! И тетка будет довольна как-никак, а сэкономили!
Тетка встретила его какой-то внезапной, пугающей лаской. Преувеличенно восхищалась крабами, обнимала за плечи, целуя в макушку. На ней было выходное платье, волосы, обычно прихваченные грубым гребнем, обрели некое подобие прически, на опухших ногах — узкие туфли аспидно-черной лакировки при такой-то жаре! Яркая помада на губах и легкий, неприятный запашок вина… Войдя в дом, он увидел маленького человечка с насупленным узким личиком, кивнувшего ему коротко и деловито, как равному. И пробежал холодок пугающего предчувствия.
— Ты взрослый, — услышал он теткины слова, невнятно доносившиеся сквозь ее сентиментальные всхлипы. — Я тебя взрастила… Пора и свою жизнь устроить, Леша. И тебе в люди выходить надо.
— Детдом? — спросил он, зная наперед — да, детдом.
— А нет, нет! Там… интернат называется. Хорошо там, ребятишки, весело. В Харькове это… Вот дядя Павел договорился уже. Директор — брат его, в обиду не даст…
«Никогда!» — кричало в нем все с болью, яростью и обреченностью, но он покорно выслушивал ее слова, сознавая: вот и конец его маленького счастья… Там тоже будет город, но другой, за казенными стенами, где царят распорядок, учеба, зубрежка…
А потом словно ударило: дядя Павел… Кукла… Ситцевая занавесочка, серая громоздкая машина, солдаты, горохом посыпавшиеся из ее кузова…
— Хорошо, тетя, — сказал он. — В Харькове интересно.
Ах, какой восторг начался после этих слов, какой восторг! Даже тот, с узким личиком, хлопнув его по плечу, высказался — ты, мол, не теряйся, где наша не пропадала. И вообще умный пацан… А после мигнул тетке, и тетка, засмущавшись, сообщила вдруг, что постелит Леше сегодня на улице — больно уж душно в доме… Он поначалу удивился: чего это она о ночлеге? — день еще стоит, зной…
— Конечно, тетя, — сказал он.
Чинно пообедали. Втроем.
— А вы… — набравшись смелости, спросил он у узколицего, — в войну где были?
— В войну? — с неудовольствием оторвавшись от тарелки, переспросил тот. — Ну… далеко. А чего?
— А раньше бывали здесь?
— В Крыму? Ну… до войны когда-то…
Не тот дядя Павел. Тот не пришел. Кукла… Да, к тетке он пришел тогда с куклой — это она, распотрошенная, валяется сейчас в пыльном углу сарая. Выцветший, без руки клоун… Конечно! Еще несколько лет назад, следуя какому-то наитию, он распорол куклу, пытаясь найти в ней что-то… И нашел, кажется, клочок бумажки с непонятным рисунком. А где клочок?
Он встал из-за стола, поблагодарил тетку за обед и отправился к сараю. Стряхнув липучие нити паутины, взял клоуна в руки. И в разрезе ветхой материи тут же увидел съеженную бумажку, облепленную опилками и обрывками линялых ниток.
Внезапно во дворе раздался голос тетки. Он отшвырнул клоуна, сунул бумажку за майку и, отодвинув доску в стене, шмыгнул прочь. Перемахнул через забор и побежал к морю. У городского пляжа остановился. Достал из-под майки листок, развернул его. И увидел план: поселок, три дороги, расходящиеся от него, лес, кружок с надписью «валун», от которого вверх шла пунктирная черточка с обозначением «3 м» и стоял крестик. Все.
Что означает этот план? Не клад же? Так, ерунда, наверное.
Поселок находился неподалеку от города, он бывал в нем. Знать бы раньше, наведался, посмотрел бы, что за валун, и вообще… А теперь нет времени, кончилось оно…
Домой он вернулся к вечеру. Тетка, порядком уже захмелевшая, сменила навязчивую ласку на высокомерное снисхождение.
— Прошатался до ночи? А мне стелить! Ну-ка… Вон топчан под яблоней, одеяло… Сам давай устраивайся, не маленький, здоровенный лбище… Собирать тебя еще завтра весь день!
— Почему завтра! — вырвалось у него с ужасом. — Три дня еще до сентября…
— Завтра, — отрезала тетка.
Он лежал на топчане, словно окаменев. Лежал долго. А потом заплакал. Беззвучно. Вспоминалось сегодняшнее море — светлое и тихое. Вспухал и мягко опадал песок под ногами, солнечные змеи переплетались, уходя в синь глубины, и он шел за ними как зачарованный.
Нет! Он встал, усилием воли отогнав сон. Сон означал покорность. И если он заснет, то завтра, утром, будет поздно… Он подчинится. А разве так поступали сильные, умные люди, о которых он читал?
Нож у него был. Настоящий немецкий штык. Достал его из тайника. Пригодится.
Вошел в дом, настороженно прислушиваясь к хрипловатому дыханию спящих, раскрыл шкаф. Свет луны отразился в зеркале, укрепленном на тыльной стороне дверцы.
Замер на миг, ощущая не страх, нет, — ожесточенное, расчетливое спокойствие умелого вора. Вытащил старенький рюкзачок, взял свой свитер, куртку, пару носков и белье. Собрал со стола продукты. На тумбочке лежали часы узколицего, мутно зеленевшие циферблатом. Он прихватил и их — украв в первый раз, но так, словно бы крал до этого все время. Не колеблясь. После, обшарив пиджак благодетеля, выгреб деньги.
У ворот задержался. Знакомый двор. Три мазанки размыто белели, погруженные в ночь. Захотелось плакать. Но с этим он справился быстро. Надо было спешить. Проснется тетка, и, как только она узнает о его побеге, город станет ловушкой.
Он должен попасть в порт, сесть на корабль, спрятаться в трюме. И приплыть в какие-нибудь расчудесные страны, где обязательно будет море, и скалы и крабы, но только лучше, и люди лучше, и уж там он станет всем нужен…
Укрываясь в тени деревьев, он вышел к набережной, нырнул в кустарник и начал пробираться к порту. И вдруг застыл, пораженный внезапным открытием. Осуществить задуманное оказалось невозможным. Днем порт выглядел доступным, шумным, открытым… Ночью же вдоль сетчатой ограды, подходы к которое были ярко освещены, прохаживались вооруженные люди… А корабли стояли далеко, и море вокруг них тоже ровно и продуманно освещалось.
Занимался рассвет, улицы серели, море казалось холодным и жестоким…
Милиционер появился внезапно, словно бы из ниоткуда.
— Ты что тут делаешь, мальчик? Куда собрался? В Грецию, поди? Или в Турцию?
Алексей ловко поднырнул под расставленные руки пытавшиеся ухватить его, и, подгоняемый трелью свистка, долго бежал по переулкам. Ужас давил его, ужас и ненависть — что он сделал этому милиционеру, что?!
У кинотеатра стояла грузовая машина. Двигатель работал, шофер, взобравшись на бампер, ковырялся под раскрытым, как гигантский клюв, капотом.
Он прислонился к углу дома, затем короткими прыжками, приседая, подобрался к кузову, закинул в него рюкзак и, подтянувшись, перевалился через борт. Затаил дыхание.
С тяжелым лязгом замкнулся замок капота. Чиркнула о коробок спичка — водитель закурил. Хлопнула дверь. Машина поехала.
Уцепившись за решетку, отгораживающую заднее стекло кабины, он увидел стриженый затылок шофера, серую шерстяную кепку. Потом привалился в изнеможении к борту, сжался, глядя на проносившиеся мимо дома и деревья.
Выехали за город, началось шоссе с голыми степными обочинами, выглянуло солнце из-за далекого пригорка, и тут к нему пришла вязкая, безнадежная усталость. И он заснул. Сон оказался сильнее тряски и неудобств.
Проснулся от надсадного рева мотора, старый грузовичок с трудом взбирался по крутой грунтовой дороге. Вокруг стоял лес. Машина тяжко дернулась. В этот момент мелькнул дорожный указатель со знакомым названием поселка…
Интуитивно, мало что соображая одуревшей от краткого сна головой, он перевалился через задний борт, схватив рюкзак, спрыгнул на дорогу. Упал, перевернулся в пыли и юркнул в упругие, больно хлестнувшие по лицу заросли кизила.
Когда протер саднящие веки, разболтанно вихлявшийся кузов машины уже скрывался за гребнем подъема.
Неподалеку нашел родник. Умылся, съел кусок хлеба, полежал на траве.
Утро постепенно набирало силу, солнце начало припекать, пора было идти… Но куда?
Он вспомнил дорожный указатель, бумагу с планом, где обозначался тот же поселок. Задумался. Пойти разведать что-либо? А что еще оставалось делать? В порт не проникнешь. В город нельзя — там его уже ищут…
Холмистым лесом обогнул поселок. Дорога, указанная на схеме как основная, заросла кустарником и колючей травой.
Здесь когда-то шли бои. То и дело попадались стреляные гильзы, дырявые каски, из-под камней он вытащил прогнивший остов автомата, тут же отбросил его в сторону. Такие находки не удивляли — снаряды, патроны, части оружия нередко находили в округе мальчишки, относясь к ним равнодушно, как к лому.
Валун выступил из-за поворота внезапно, будто поджидал его… Даже и не валун — остаток скалы, разрушенной дождем и ветрами.
Он сверился с планом. Тот валун, определенно тот. Обошел его. Вот расселина, чертой указанная на схеме. «3 м», конечно же, означает три метра. Он старательно отшагал их и остановился, невольно прислушиваясь. Ни шороха, ни ветерка…
Вытащил штык. С силой вонзил его в землю. Еще раз, еще. Лезвие легко уходило вглубь, до «уса» рукоятки. Тут наверняка требовалась лопата. Он понимал это, но все же, стоя на корточках, продолжал методично и упорно, со всего размаха кромсать штыком землю.
Глухой удар. Аккуратно начал поддевать земляные пласты, складывая их рядом. И вскоре увидел люк. Тяжелый чугунный люк с рычагом ручки.
Собравшись с силами, отодвинул его. В лицо пахнуло колодезной застоялой прохладой. Чернота. И уходящая вниз деревянная в налете плесени лесенка.
Склонившись над провалом, зажег спичку — бревенчатые стены и пол, какие-то ящики…
Робко ступил на лесенку.
В первом ящике хранились мины — в пушистой, как мох, ржавчине. Во втором — несколько винтовок. Третий был набит патронами — целехонькими. Густо промасленная бумага надежно сохранила металл.
Он копался в подземелье, понимая — перед ним партизанский тайник. Нашел пару немецких «шмайссеров» — новеньких, в масле, пять гранат, десяток тщательно законсервированных пистолетов. Многое сгнило.
Прихватив тяжелый, в жирной смазке «парабеллум», он выбрался наверх.
Оторопело посмотрел на оружие — грозно-красивое, надежное, и тут его захлестнула сумасшедшая радость. Теперь он — сильнее многих и многих сильных, теперь…
Закрыв лаз, он аккуратно утрамбовал землю, придирчиво оценил: заметны ли какие-либо следы? Нет, замаскировано здорово.
Изможденно, как после тяжкой работы, опустился у подножия валуна. Достал из кармана план-схему, поджег…
Глядел на огонь, болезненно морщась, едва не плача… Почему? Сам не знал. Лишь потом, много лет спустя уяснил: в огне горело прошлое… Прошлая война, память о маме, грузовая машина, солдаты, так и оставшийся неизвестным дядя Павел…
Но от слез удержался, хотя и надолго запомнил их — невыплаканные.
Бумажка сгорела; растоптав ее, он вытащил из рюкзака чистую майку и любовно протер «парабеллум». Кончиками пальцев ласково погладил шероховатую рукоять пистолета. Стрельнуть бы… Хотя — к чему лишний шум? И зачем терять время на пустое? Сегодня же, сейчас же, выбираться отсюда на материк.
Исподволь точивший его страх оказаться пойманным ушел. Он уже не боялся ничего. И вовсе не из-за того, что держал в руках оружие. Теперь у него была тайна… Своя большая тайна, которую нельзя доверить никому, и с которой он будет сильнее всех!
— Я вернусь, — прошептал он скрытому в земле арсеналу. — Вернусь, слышь? Вот стану взрослым, и… Ты меня подожди…
И, сжимая «парабеллум», побрел через холмистый лес. Ему была нужна железная дорога.
СТАРИЦЫН АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, СЛЕДОВАТЕЛЬ
Вот и апрель. Со всеми его каверзами. Ночью моросило, утром осадки прихватило нежданным морозцем, и я, глядя в окно, вижу, что на моем «Москвиче» ровный тоненький слой пороши. Завтракаю на пустой кухне. Вся ее обстановка состоит из кособокого, набитого кастрюлями, чашками и плошками стола-комода и двух стульев, неспособных украсить даже свалку. Хилую эту меблировку я перевез из коммуналки, где честно отстрадал пять лет, покуда дожидался отдельной жилплощади, и теперь предстоит эту жилплощадь «обставлять». Мысль о том, что придется бог весть сколько времени посвятить хождениям по мебельным магазинам, ввергает меня в тоску и раздражение. Мой бывший сокурсник по юрфаку, а ныне сослуживец в Прокуратуре Союза Владик Алмазов предложил помощь, и в грядущую субботу мы с ним отправляемся в мебельный храм — заклинать тамошних жрецов на предмет приобретения кухни «под дерево». Непосредственно заклинать будет коммуникабельный Алмазов, и верю, это ему удастся. Правда, после негодяй Алмазов решительно заявит о необходимости отметить приобретение и — прощай, суббота! Выпровожу я его за полночь, и только тогда извлеку залежавшуюся в портфеле кипу документов, взятых с работы, и начну привычную бесконечную писанину.
Где взять время? Ем второпях, сплю урывками, и моя милая мама резонно замечает, что в тридцать четыре года пора бы обзавестись семьей.
Я прохожу в комнату, целую в щечку очень хорошую и симпатичную женщину, которую зовут Света. Дождавшись, когда она, заспанная, с удивлением рассмотрит мое лицо, сообщаю ей, что завтрак на столе, дверь надо просто захлопнуть, а ключ — на всякий случай — под половиком.
В ожидании лифта изучаю мелькание цифр на табло электронных часов. До начала работы — тридцать пять минут с секундами. Пять минут — фора, тридцать — чтобы только-только добраться до службы, секунды — на лифт.
На службу я все-таки опаздываю. Ровно на пять минут. И, отперев дверь кабинета, судорожно тянусь к дребезжащему селектору.
— Старицын? — слышится бесстрастный голос шефа. — Зайдите…
— Есть! — отзываюсь я, спешно скидываю куртку, приглаживаю волосы, ногтем обозначая пробор, и — отправляюсь к начальнику следственного управления. Ничего приятного в вызовах к начальству я не предполагаю, хотя начальник мой в принципе человек доброжелательный. Только тон этот его ровный… Постоянно ровный и невозмутимый. При всех случаях жизни.
— Здорово выглядишь, — роняет начальник, устремив на меня взгляд из-под очков. Затем интересуется, как, мол, жизнь — симптом положительный. Я отвечаю, что жизнь, как известно, прекрасна, после чего со стороны шефа следует нелогичный переход к тому, что на службе следует чаще появляться в форме — как-никак в параллели с армейскими мерками я — майор и, наконец, мы переходим к делам конкретным. Мне передается папка. Читаю: «Постановление о возбуждении уголовного дела…»
Шеф уткнулся в свои бумаги, у него их тоже хватает с избытком, и поведение его я истолковываю как совет мне ознакомиться с материалами незамедлительно.
Дело, в общем, представляется не ах каким удивительным. Суть такова: в траншее теплотрассы при производстве ремонтных работ обнаружен труп мужчины. Смерть по заключению судебно-медицинской экспертизы наступила около недели назад.
Так, стоп. Неясность: траншею аккурат неделю назад и засыпали, что же подстегнуло разрыть ее вновь? Ага: небрежно заваренный шов на стыке труб… То есть огрех сварщика позволил выявить чей-то смертный грех.
Просматриваю фотографии, опись одежды, акты… По милицейским картотекам покойный не проходил, не дактилоскопирован, одежда — производства исключительно импортного, в карманах ничего, кроме табачных крошек… Убит… ого! — из «Вальтера».
Поднимаю глаза на шефа, и он, не отрываясь от бумаг, но, словно чувствуя мой взгляд, спрашивает рассеянно:
— Ну, какие эмоции? Идеи вообще?
— Но почему дело из города передали нам? — недоумеваю чистосердечно. — А если вы меня имеете в виду… в смысле расследования, то я по уши загружен! Дело о приписках раз, взятки, разбойное нападение, потом…
— Вот я тебе и помогаю, — замечает шеф глубокомысленно и, откидываясь в кресле, смотрит на меня с ласковой улыбкой иезуита.
Сей улыбочкой я поначалу уязвляюсь, но после доходит: неужели здесь — связь с какой-то текучкой?
— Пересечение? — сбавляю брюзжащие ноты, начиная перелистывать страницы по новой.
— Пересечение, — подтверждает шеф. — По крайней мере, так кажется. Ты почитай внимательно — уяснишь. И, замечу, в городской прокуратуре есть очень толковые работники. Свяжись с ними и поблагодари — твою работу они делали.
— Знакомый «Вальтер» вновь бабахнул? Тот самый?
— Да. И вот еще… — Шеф вытаскивает из ящика другую папку. — Иди к себе, разбирайся. После обеда представь соображения. Объединение трех дел — старого и этих двух новых в одно производство считаю целесообразным. Да, в кармане убитого — табачные крошки… Ты там почитай заключение…
В этот момент звонят сразу два телефона, и, пока начальник расправляется с ними, я удаляюсь.
Если выражаться производственным жаргоном, числится за мною «висячок» — гиблое дело, нераскрытое.
На железной дороге орудовали профессиональные погромщики. Крали много, умело, в основном специализируясь на контейнерах, прибывающих из-за рубежа по валютным поставкам. И вот темной ноченькой наткнулись разбойнички на засаду, организованную возле одной «вычисленной» дистанции. Однако милиции не повезло: преступникам, хотя и было их всего двое, отваги и дерзости хватило с избытком, и сопротивление они оказали отчаянное, с перестрелкой. Одному удалось скрыться, проявив, как утверждали специалисты из группы захвата, недюжинное спортивное мастерство бегуна, прыгуна, водителя и вообще многоборца, удрал он в итоге на машине с фальшивым, как выяснилось, номером. Второй же, отстреливавшийся из автомата «Шмайссер», в перестрелке был убит. Картина осмотра трупа и места происшествия принесла следующие результаты — «Шмайссер» с запасным магазином — увы, в картотеках не зафиксирован; пачка сигарет «Парламент» в кармашке джинсовой куртки, дешевая пластиковая зажигалка и — стреляные гильзы от «Шмайссера», пистолетов группы захвата и «Вальтера», с которым скрылся удачливый разбойничек.
Оружие и гильзы никакой ниточки следствию не дали, зажигалка тоже, а пачка «Парламента» — сигарет редких, указывала на причастность убитого к большой краже, случившейся на том же перегоне неделю назад. Обчистили едва ли не вагон табачной продукции Запада. Легко установили личность: некто Будницкий, двадцать пять лет, дважды судим — сначала за кражу, потом за разбой; сцепщик вагонов. Круг знакомств определяли долго, посылали запросы в колонии, беседовали с десятками людей, когда-то контактировавших с ним; наконец — это я делаю всякий раз тщательно и пунктуально — полностью дактилоскопировали комнату в коммуналке, где ранее покойный обретался. Однако — ни с места!
По данным ОБХСС, сигареты «Парламент» периодически возникали по темным углам в южных республиках, но никаких перспектив за такой информацией не проглядывало. Были задержаны два скупщика-спекулянта: один — в Баку, другой — в Ашхабаде, признавшие факт скупки с целью спекуляции, но об источнике поведавшие неопределенно. Сигареты поставлял незнакомый приезжий человек, чья внешность каждым из них описывалась по-разному и довольно размыто. О характере же взаимоотношений с поставщиком спекулянты утверждали на удивление одинаково:
— Подошел, предложил. Я — купил. Кто на меня навел — не знаю. Да и чего мне спрашивать? Главное — товар.
Классически выверенный ответ. Никакого предварительного преступного сговора с долгосрочными обязательствами, сплошная случайность. Спекулянтов я понимал: выложи они истину — после срока ждала бы новая зона. Зона отчуждения среди «своих». «Раскола» их круг не простит. А вне этого круга для них не жизнь…
Но это — относительно вагона сигарет. Аппаратура, продукты, меха, покрышки исчезали бесследно.
Существовал лишь единственный позитивный момент: после перестрелки на дистанции хищения прекратились напрочь, как отрезало, и контейнеры без проволочек доставлялись адресатам в целости сохранности и даже с пломбами.
Я вернулся в кабинет и, отрешившись от всего суетного, скрупулезнейшим образом изучил материалы об обнаруженном в канаве теплотрассы трупе. Убийство совершили из того же «Вальтера», из какого пальнули в перестрелке на путях. Информация пришла через каналы УВД города и сомнению не подлежала.
Далее я раскрыл том иного уголовного дела, врученного мне шефом на прощание. И присвистнул.
Неделю назад, в лесу, возле шоссе, ведущего из столицы на юг, найдены два трупа, судя по форме — работники ГАИ. Но, как выяснилось, убитыми оказались два ранее судимых типа, проживавших в Ростовской области. Застрелены «гаишники» из того же «Вальтера». Бандиты, видимо, ждали «нужную» машину. А в машине оказались профессионалы…
Еще увлекательная деталь, отмеченная шефом: в карманах одежды трупа из траншеи была табачная крошка, соотносимая по результатам экспертизы с набивкой сигарет «Парламент». То есть…
Я изымаю из дела материалы, касающиеся дактилоскопирования всех трех убитых, вкладываю их в тоненькую полиэтиленовую папочку и созваниваюсь с нашими вспомогательными службами. Пусть сравнят данные отпечатки с теми, что выявлены в комнате грабителя, застреленного на путях. Если это — одно дело, трупов слишком много.
Затем водружаю перед собой два новых тома дел и горько задумываюсь.
Итак, шеф говорил нечто о моем визите к нему после обеда… С соображениями. Соображения таковы: сравнение отпечатков трупов с имеющимися в наличии, запросы по фактам исчезновения, связь с городской прокуратурой на предмет выяснения деталей, и, наконец, радуем новостями прикомандированного ко мне по «висяку» Семена Михайловича Лузгина — старшего уполномоченного МВД. С ним все свои боевые годы я тружусь в постоянном контакте. Далее. Просим свое начальство упросить начальство в МВД, дабы оно разгрузило от текучки пожилого сыщика — ему в этом году пятьдесят пять стукнуло — возраст, когда особенно не набегаешься по десятку дел.
Дверь с шумом открывается, входит возбужденный Владик Алмазов и с места в карьер начинает жаловаться на начальство — он совершает это каждодневно и в качестве излюбленной аудитории избирает неизменно меня.
— Значит, звонит он мне, — сопит Алмазов, — и глаголет. Мол, опять частные машины под знаком «стоянка запрещена» у прокуратуры, звони в ГАИ, пусть номера снимают! Звоню. Приезжают, снимают. Через полчаса опять звонит: дескать, недоразумение, ко мне тут человек по делу приехал, а у него номер отвинтили. Из солидной, подчеркивает, организации человек, неудобно. Позвони, пусть вернут. Во как! Только что пену пускал: снимайте, карайте, теперь — пардон! А я ему ляпни: сами звоните!
Ох, сочиняешь ты, Алмазов, про свой несгибаемо-принципиальный характер! Ибо скоро грядет повышение, и вообще…
Я с сочувственным терпением всматриваюсь в его расстроенную физиономию. Усмехаюсь, год назад сломал себе Алмазов передний верхний зуб, но времени вставить новый не находил, а потому кривил рот, губой прикрывая изъян. После зуб вставил, а рот так и остался привычно-перекошенным. Как у Мефистофеля.
— Покурю хоть у тебя, — вздыхает Алмазов. — Слышь, из города мне звонили, дело у них… Четверо парней тяжелой атлетикой заниматься вдруг вздумали. Из зала не вылезали, тренер их в чемпионы готовил — каждый день успех за успехом… Ну, и внезапно пропали… Тренер в панику, выяснять… Ну, а они, в общем, сейф с деньгами готовились с предприятия вынести. Не вышло — тяжелым оказался, на лестнице упал, шум, то се…
Он курит, болтает, я же тихо бешусь про себя, делая вид, будто углублен в бумаги. В голову ничего не лезет.
— Слушай, — встаю, — извини… я в туалет.
— Да я посижу, — милостиво отмахивается он.
— Ага. Шеф заглянет, а ты тут с чужими секретными документами… — привожу я весомый аргумент. — Подъем! Порядок знаешь!
Выходим из кабинета, и мне не остается ничего другого, как идти в туалет, где нахожу себе занятие, причесываюсь и разглядываю себя в зеркале. Ничего воодушевляющего в своей внешности не обнаруживаю: поредевшие волосы, ранние склеротические прожилки на скулах от курения и недосыпания, бледное лицо…
Тьфу, хватит! За работу, неорганизованный ты человек!
АЛЕКСЕЙ МОНИН. КЛИЧКА — МАТЕРЫЙ
Дорога подходила к концу. Скоро он будет дома, где можно, наконец, отоспаться — сутки, двое, времени он не пожалеет. Отоспится же он не в квартире законной и не в коммуналке конспиративной, а на Машиной даче — сосны, апрельский озоновый воздух, мягкий велюр дивана… Выпьет коньячку, чтобы снять стресс — хоть и не выносит алкоголь, но тут уж, так и быть, позволит себе… А после — забытье, сладкая дрема. В высоком окне — синее небо, хвоя, а вокруг — уют теплой спальни… Быстрее бы! Устал… Одно точило: что ждет по возвращении? Вдруг завал в делах? Вдруг что-то с Хозяином, с шестерками?
Не терзайся, убеждал он себя, еще какой-нибудь годик, и все. Далее будет лишь море, Маша, дом, где и короля не стыдно принять: с оранжереей, балконом, каминным залом и холлом… Вечное отдохновение…
Он запнулся на этой мысли — не надо, ты вымотан, отстранись от всего и от мечтаний тоже, переживания оставь на потом… И лучше всего — до того дня, когда приедешь к Маше. Навсегда приедешь. Со слегка измененной после пластической операции физиономией, с новой фамилией в паспорте… благо, фальшивомонетчик Прогонов документики справил замечательные. Надо бы, кстати, на всякий случай чистыми бланками у него поразжиться впрок. А вообще опасный Прогонов свидетель. Убрать? Мало ли что? Подумай! Не сегодня, не сейчас, конечно.
А все же хорошо, что не поленился, заехал на Азов, хоть крюк вышел немалый. Зато душа не ноет: освоилась Машенька на новом месте, обжилась. Садик-огородик, фрукты-овощи… Даже тархун с анисом в рассаду вывела… ох, баба! Бриллиант! А в доме? Дворец! Музей! Машенька! Вот странно-то как… Никогда никакой любви для него и в помине не существовало. Женщины? Их было множество. Порой увлекался даже. Но чем кончалось? Или дамскими истериками, жаждой властвовать над ним, или банальной бытовой скукой… Просто было лишь с проститутками. Он платил, они работали. И вот как-то, в дымном гомоне интуристовского бара, размышляя о девочке на ночь, шепнул он шестерке своей, ведавшей здешними шлюхами: кто, мол, такая там, за соседним столиком?.. Э, Матерый, ответила шестерка бархатно, то — не в продаже. То само по себе. Она свободу отработала, она и тебя перекупит. Назвала шестерка и двух бывших мужей незнакомки — отошедших в мир иной согласно судебным приговорам. И понял Матерый: приглянуться ей — задача практически без решения… Но — приглянулся.
Так появился друг и партнер. Любовь? О ней не говорилось, не думалось. Пусть любят другие, кто о том ведает, решил он. Меня же устроит кондовая надежность битой бабы. Э-эх, дурак! Не знал любви и знать не хотел, доступность случайных, ветреных попутчиц душу измарала, а любовь все равно пришла, пробилась сквозь коросту сердца, и теперь нет у тебя ничего, кроме любви, все остальное — белиберда, текучка, поденщина…
Машенька! Как бы быстрее возле тебя очутиться, ведьма, как бы быстрее, родная моя…
Стоп! Прочь все воспоминания. Прочь и назойливо всплывающие события последних дней: клювы нефтяных насосов под Баку, постовых со смуглыми лицами, прохладный подвал караван-сарая, штормящий Каспий, браконьерские ладьи, осетровые и белужьи туши в звездных костяных шипах, чаны с черной, липкой икрой, бледно-розовые потроха рыб, чем-то напоминающие поросячьи… Икры же этой в «Волге» — две трети багажника! Одна треть — балык. Ах, Прогонов, спасибо за специальный документик… Гореть бы без него на этом маршруте. Но как не урвать? Хозяин бы, конечно, от возмущения лопнул, узнай, на какой риск иду… Грешим за его спиной, грешим… Ох, будет концерт, как проведает… Хотя — куда он без нас? Он — мозг, а мы — руки. Шаловливые. Плохо это! Ну, ехал бы сейчас порожний, скучающий. Сколько вся икра стоит? Тьфу! Нет, надо лишний червонец сорвать с куста! Ну, лишние тысячи… Чуть больше их или чуть меньше, какая разница? Жлоб ты, Матерый! Нет у тебя кругозора, нет широты, прав Хозяин! А погоришь — его подведешь… Все, кончай, Матерый, с такой мелочевкой, кончай! Икорку через Леву сплавишь в последний раз, и пусть Лева из игры рыбной выходит. Ненадежен он, торгаш, продаст вполкасания. Да и тебя Лева опасаться начал, по всему видно сдрейфил. Силу за тобой почувствовал, масштаб. Тем более, повязал ты Леву когда-то на серьезных кушах, на погромах железнодорожных, через него, барыгу, много чего ушло, а сейчас прикидывает Лева: какой срок за то самое «много»? Занервничал Лева, задергался. А почему? Дна у него нет, лечь некуда. Грянет час страшный, протрубят трубы или фанфары, и загремит под их завывания Лева в преисподнюю, потому что воровал без оглядки, а будущего себе не сочинил. Деньги или проматывал, или копил. Это их удел, торгашей…
Груз полагалось оставить на перевалочной базе в Подольске, в одном из гаражей.
Он открыл багажник, привычно надел перчатки и подумал: глупо… Сколько людей хваталось за эти канистры с икрой, за фольгу, которой обернуты балыки… Да и в гараже этом наверняка есть отпечатки пальчиков тех, кто знал либо видел его. Если суждено, так или иначе вычислят…
Вновь остро почувствовал обреченность. Быстрее бы. Быстрее бы туда, в зарезервированный рай…
Гараж был ангажирован Левой у директора местного ресторанчика, кормившегося на бесхозной рыбке и икре с самого начала «предприятия».
Закрыв гараж, Матерый снял номера с машины и в закутке возле гаражей, достав лопату, закопал их. Номера «светились», долой! Рукастый Толик-мастер отштампует новые, а техпаспорта Прогонов рисует, как дружеские шаржи.
Взглянул на часы. По времени он укладывался точно, несмотря на крюк к Азову… До Москвы — рукой подать, а там — первый же телефон, контрольный звонок Леве! «Привет. На уху — есть…» Значит, товар в гараже, приступайте к реализации.
Он развернулся и выехал на магистраль. И — прислушался к себе, к неприятному, тягостному чувству, непонятно от чего крепнувшему с каждой минутой… Впервые оно пришло к нему, когда выезжал из Ростова. Будто следил за ним некто всевидящий и коварный. Нервы?
Двое в форме ГАИ. Полосатый жезл, белые перчатки… Машины рядом нет. Останавливают… Проскочить? Сзади лабух в желтых «Жигулях», догонит? Навряд ли… Эх, рация у них.
Тормознем. Наверняка не по нашу душу, так захват не производится. Хотя… В любом случае — попросят подвезти. По выражениям лиц видно. Так… «Вальтер» из-под сиденья, под ногу, предохранитель спусти. Зеркало подправь — один сзади сядет, горло пережмет, если всерьез это… Не по-хозяйски топают, семенят, как фрайеры, вприпрыжку. Лейтенант и сержантик. Ну, рожи! Лимитчики? Первый, лейтенант, еще ничего так, а ну-ка, соберись. Не по этим ли сволочам тревога тебя ела? Напрягись, как струна, не ублажай душу, что без груза, ведь номера — «липа», техпаспорт — тоже.
Матерый приспустил стекло.
— До поста довезешь? — наклонившись, спросил лейтенант, молодой приземистый парень с рысьими, зеленоватыми глазами.
Уселись. Лейтенант — на переднее сиденье, сержант — позади. Чем-то они не нравились ему, эти милиционеры. Было в них нечто нелогичное, неестественное, шедшее даже от внешних примет: дурноватое, чуть отекшее лицо лейтенанта — без режима живет, разбросано; а сержант — жесткий мужик, таких на плач и сердобольность не прикупишь — только силой, властью. И озабочен сержант как-то мрачно, целеустремленно, до ломоты в скулах.
Театр? Нет, не оперы они… Оперов сразу видать. Да и не стали бы оперы вымученных сюжетов придумывать, взяли бы на посту, чего мудрить? А может, ряженые? Похоже! Деньги. Везу деньги. У гаража выследили и, пока копался там, чуток опередили. Кто-то навел, значит. Так. Сейчас я еще вполоборота к тому, сержанту, и ему надо выждать, когда отвлекусь. Тут — нож в спину, молодой сразу к рулю потянется, скорость мала, но все же… Но кто знал, что с деньгами я буду? Друзья восточные? Так они же и отстегивали, им не резон. Левка? Но ведь ему же деньги везу. Неужели нервы? Спокойно. Попроси сержанта дверцу покрепче захлопнуть и — газу резко, вот так. А, не готовы были? Ну, теперь давайте, теперь если имелась схема, то она сломана, на спидометре — сорок, шестьдесят, восемьдесят… поздно! На ходу кончать — риск. Упущен момент, сявки.
Боковым, зрением Матерый наблюдал за сержантом в зеркало.
Лейтенант с угрюмой сосредоточенностью смотрел куда-то вдаль. Руки его, лежащие на коленях, были напряжены. Жезл он положил на сиденье рядом с дверцей.
Губы сержанта шевельнулись. Нет, молчит, подбирает слова.
— Слышь, может, до поста сойдем? — неуверенно спросил он лейтенанта. — А то вдруг — начальство? Проверка сегодня… Переждем, а? Сколько времени-то натикало?
Лейтенант оголил кисть. Часы «Ориент» — массивные, с уймой красивеньких излишеств — шантрапа такие любит, «хапужные» часы — мясников, кладбищенских деятелей, автослесарей — словом, удачливых кусочников, подворовывающих на мелких точках, знак их касты. Но часы — ладно, а татуировочка вот у тебя на запястье, дружок любезный…
Заплясали мысли, встраивая фрагмент татуировки в известные схемы… Есть! Не ошибка молодости, не любительщина армейская или флотская, не блатная даже, а с «кичи», в тюряге наколот этот крест, обвитый змеей. Ряженые!
— Вот тут тормозни, — произнес лейтенант сдавленно.
Матерый принял вправо.
Рука сержанта скользнула под полу кителя.
Резко пошла вниз стрелка спидометра.
Лейтенант инстинктивно подался ближе к рулю.
Сзади блеснула сталь лезвия.
Матерый с силой вдавил педаль тормоза.
Лейтенант, растопырив руки, всем телом навалился на «торпеду». Фуражка слетела с его головы. В то же мгновение Матерый, молниеносно распахнув дверцу, выбросился наружу. Нож вонзился в край клавиши звукового сигнала. Резкий, внезапный звук оглушил, по лицам милиционеров пробежала судорога ошеломления. Матерый тоже замешкался, но лишь на секунду, а потом увидел как бы все сразу: лес по обочинам, жало лезвия, плотно застрявшее в пластмассе, растерянных, торопливо соображающих гаишников, сзади — далекое желтое пятнышко приближающихся «Жигулей», пустую встречную полосу, мушку «Вальтера», — и когда он его выхватить-то успел…
Выстрел прозвучал безобидно, будто воздушный шарик лопнул. На лбу у сержанта словно раздавили клюкву. Закатились глаза, открылся рот, обнажив редкие, прокуренные зубы, и устало, как после тяжкой работы, он отвалился назад.
«Чехлы менять — точно», — рассудил Матерый, целясь в «лейтенанта». Тот громко икнул от ужаса. Рука его, потянувшаяся было за пазуху, застыла в воздухе, как бы сведенная параличом.
— Будешь вести себя хорошо, эта штука не выстрелит, — процедил Матерый, усаживаясь за руль.
Желтые «Жигули» пронеслись мимо. Проводив их хмурым взглядом, Матерый тронулся следом. «Лейтенант» дрожал, затравленно глядя на него. Шептал, как заклинание:
— Не убивай… только не…
Приметив ближайший съезд в лес, Матерый свернул с дороги. Брезгливо отпихнул потянувшиеся к рулю руки «лейтенанта», почувствовавшего, видимо, недоброе в таком маневре…
— Не дергайся, гнида…
Остановился на краю поляны, окаймленной почернелым, истаявшим снегом.
— Ну, — вновь направил пистолет на ряженого, — теперь говори — кто, что, как, почему.
— Левка это — прозвучал едва слышный ответ. — Левка. Ростовские мы…
— Ростовские, псковские… Что — Левка?! Концы резать хотел?
— Не знаю… Мы — нанятые, бойцы, я и Шило. — Он опасливо скосился на мертвеца. — Равелло послал, наш пахан. Подсобите, сказал, человеку. Он заплатит. Левка, значит. Ну, мы сюда. Свиделись. Десять кусков за тебя посулил. С монетами ты, знаю. У гаража тебя ждали, но там стремно показалось. Ну, Левка сюда нас довез, а сам в столицу подался.
— Ну, кончили бы, — равнодушно кивнул Матерый. — Дальше?
— Тачку в ельник, деньги к Левке… Он нам свои колеса оставил — неподалеку тут, в лесу… Показать?
— Не надо. Лева ждет?
— Сегодня, — с поспешной готовностью пояснил «лейтенант», не отрывая взгляда от пистолета, — в девять часов, вечером.
— Дома у себя? Предварительно вы должны позвонить?
— Не… Подъезжаем на хату, расчет и разбежались.
— А ежели без расчета?.. И привет Леве?
— Ты что! Петля! Равелло удавит… Мы ж — блатные, закон понимаем…
Матерый не удержался — фыркнул: закон! Сунул «Вальтер» за пояс.
— Помоги вытащить его, — приказал озабоченно.
Тело грузно опустилось на землю. Кровь меленько окропила прошлогоднюю ветхую листву.
— Говорил же! — причитал «лейтенант», отирая ладони о брюки. — Зачем на мокруху идти? Если бы не Равелло…
Снова — легкий хлопок. «Лейтенант» повалился на труп напарника, даже не застонав — словно в рот ему с размаха всадили кляп.
Матерый неторопливо осмотрелся. Вокруг стоял голый, тусклый весенний лес.
Перевел взгляд на трупы. Это мясо надо упаковать в багажник, после придумать, где зарыть его, затем с машиной Левкиной разобраться — от нее многое потянется… Вот же не было печали!
И вдруг — голоса! Он даже не поверил… Точно. Голоса. Люди. Идут сюда. Что им делать-то здесь в такую пору? С ума посходили? Слова… Что-то про подснежники, про сморчки… Ну сколько же на белом свете идиотов праздношатающихся! И все, как назло, там норовят очутиться, где дьявол правит бал…
Он влез в машину, газуя на раскисшей почве, развернулся и — ринулся обратно, к шоссе. После, выбравшись на асфальт, рванулся вперед, выжимая из двигателя весь ресурс мощности. Исподволь утешал себя: правильно, свидетелей убирать не стоило, да и не получилось бы — тут пулемет нужен, а так — кинутся врассыпную… Но зато теперь — труба! Следствие. Скорее бы пост проскочить…
Ненависти к Левке не было. Не деньги ему нужны были. Деньги — гонорар этим ублюдкам дохлым. Концы Лева резал. Занервничал.
Теперь. Трупы, считай, уже найдены. Машину Левину тоже обнаружат. Дальше — просто. Выяснить личности ряженых — чепуха. Ситуацию поймут: неудачно нарвались. А зачем на гастроли пожаловали? Тоже, в общем, не тайна. Преступный мир секреты хранит, как дырявый мешок — змей. Сведения из него ручьями текут. Выйдут, конечно же, на Равелло, от него — к Леве, и — начнется! Вся железнодорожная эпопея развернется, каналы сбыта, а далее — сопутствующие дела Хозяина, а на тех делах большие люди… А причиной — пугливенький, подлый Лева… Скотина, мразь!
Он с силой ударил кулаком по рулю. И тут пронзительно уяснил всю логику ситуации, ее закономерность и неотвратимость. Он не мог не убить ряженных, а ряженые не могли отказаться от убийства его, Матерого, ибо подчинялись закону шайки. Лева же нуждался в безопасности, иначе грозила бы ему смерть. Высшая мера. В лучшем случае — пятнадцать лет, означавшие ту же гибель, но куда более мучительную, долгую и страшную для него — изнеженного и праздного. Вот почему надлежало убрать тебя, Матерый. Твоя смерть — залог безопасности Левы, равно как его смерть — залог твоей безопасности. Это не месть, это дело. Так. Дальше думаем. Выход на меня — исключительно через Леву. Где, кто, когда видел тебя с Левой, какая информация о тебе могла уйти по его знакомым?
Вспомнилась дача, велюр дивана, мечта о сладком сне.
— Забот-то теперь, забот… — Он озадаченно посмотрел на часы. — До вечера надо что-то обязательно придумать, надо успеть «Волгу» в порядок привести: кровь сзади на чехлах замыть, от пистолета освободиться. А как освободишься, если к арсеналу пилить триста верст, тайник далеко, а без оружия куда? Придется рисковать, таскать с собой улику… А если — Леву ножом! Но неизвестно еще, какая обстановочка сложится. Да и ненадежно ножом…
Неужели все кончено? Неужели сейчас — начало краха? Тогда, в перестрелке на путях, он думал: финиш, приплыл к водопаду — ан, обошлось, вроде. Вдруг и здесь обойдется? Одно несомненно: предстоит разговор с Хозяином. Трудный разговор. Боязно и подумать о нем. Ведь предупреждал Хозяин, тысячу раз наказывал: не лезь в уголовщину, делом занимайся, зарабатывай. Кивал ты, соглашался, а сам… Да, придется объясниться с Хозяином. Выйдя на тебя — выйдут и на него.
Убрать Хозяина? Еще хуже. Тогда точно на тебя выйдут. В кольце ты, Матерый.
— Ох, забот-то, — стиснул он зубы. — Ну, забот!
НЕУДАЧА ЛЬВА КОЛЕЧИЦКОГО
Он уехал, не дождавшись развязки. Страшась увидеть то, чего столь страстно желал все последнее время. Смалодушничал. Ведь там, у гаража, где разгружался Матерый, все бы могло и завершиться. Но — дрогнул. Смотался трусливо, скрывая ужас за надменностью киношного мафиози, мол, времени нет, чтобы на пустяки его транжирить, сами разбирайтесь, шестерки… А теперь — жди! Жди, взвинчивая себе нервы, томясь в неизвестности. А если прикарманили наймиты деньги и — на вокзал? Вряд ли… Да и пусть бы так, пусть! Лишь бы…
Неужели положили Матерого? Даже если сразу в сердце попали, умирал он наверняка не сразу, тяжело, до последнего вздоха борясь за жизнь, исходя кровью, ненавистью, вычислив все, и его, Льва, тоже.
Он вздрогнул. Звонок в дверь. Кто? Эти шакалы? А если засыпались, если милиция?
Судорожно выпил рюмку водки. Оглядел комнату. Картины, стильная мебель, видео, компьютер для телеигр, гобелены… Этого хотел всю жизнь?
Подошел к двери, ткнулся лбом в пухлую кожаную обивку.
— Кто? — проронил грубо.
— К Леве я, к Леве, — ответил приглушенно развязный, прокуренный голос.
Накинув цепочку, открыл дверь. В узком просвете увидел незнакомого парня: кожанка, кепочка, скуластое лицо, стылый взгляд глаз видевших много разной дряни, крупные черты лица.
— Привет от Шила…
— Где он?
Парень потрогал цепочку. Хмыкнул снисходительно.
— Так и будем… беседы беседовать?
— Именно, — ответил Лева.
— В общем, — неприязненно сказал гость, пальцем подняв козырек кепочки, — Шило передать просил: дело подняли большое, у тебя долю делить — стремно, езжай к ним, получи. Или у Равелло возьмешь, как знаешь. Я — кореш Шилов… По прошлым ходкам, когда в тундру плавали, чтоб в курсе ты был. На тачке я, таксер. Решай. Едем — едем. Нет — покеда. Все. Выдохся. Думай, свет мой. И еще — стольничек за визит. Я не курьер из конторы в контору. Отработал отдай.
— С чего это я тебе… — начал Лева.
— А с вас со всех по стольничку, — с невозмутимой угодливостью разъяснил таксист. — И я — могила. Наворотили ведь? Значит, тоже рискую, мил человек…
— А ехать куда? — Лев соображал: провокация? Не похоже. Или против него что-то ребятки замыслили? Но какой резон?
Вот она — плата за трусость! А не дергался бы, не финтил, — не стоял бы сейчас перед тобой этот подонистый вымогатель, и никто бы не принуждал мчаться в неизвестность: сиди, пей водку да смотри телек — приключения разных там джеймсов бондов…
— Так куда ехать? — повторил он.
— Ко мне. В Перово. Хата у меня там. — Таксист поморщился. — Ты быстрее прикидывай, голова, недосуг мне.
— Иди… — сказал Лева — Внизу обожди. Я сейчас…
Закрыл дверь. Уперся в отчаянии лбом в косяк. А что, если таксист — мент? Нет. С такой рожей и с такой стрижкой? А вдруг — стукачок? Ладно гадать. Не дрейфь. В случае чего — был пьян, поехал по инерции… А Матерый? Мог вывернуться и свою игру начать, перекупив наймитов? Ну то из области фантазий, игра больного воображения. Похоже, шизиком ты становишься от излишних нервных перегрузок.
Он оделся. У порога перекрестился. Тщательно запер дверь.
Таксист включил счетчик.
— Только учти, — предупредил, как бы извиняясь. — Стольник — стольником, а что на счетчике — отдельно.
— Двигай, крохобор, — обронил Лев, превозмогая невольную дрожь.
— Двинуть-то я двину, но учти…
— Учел, учел! — обернулся Лев к таксисту с яростью. — И еще сверху пятьдесят своих копеек получишь, успокойся!
— Ну и… поехали, — откликнулся таксист миролюбиво. — Отличное обслуживание гарантирую.
Город уже засыпал, пустые улицы были сухи от ночных апрельских заморозков, шины шелестели по асфальту гудяще, тягуче… Поежившись, Лев оглянулся назад — на серую гладь неровно освещенного проспекта, остававшегося за спиной, на апельсиновые вспышки мигающих светофоров. Затем, отогнув кисть, осторожно вытряхнул из-под рукава куртки нож — обыкновенный, столовый нож. Подумал: кретин… Трусливый, нетрезвый кретин. И чего маешься? Что грозит тебе? И кто? Выдернула тебя шпана на свидание, потому как не поверила в честный расчет — провинциалы, дуболомы…
Машина въехала в район новостроек, дорога пошла ухабистая, узкая, петлявшая среди пустырей, загроможденных строительным хламом.
— Тэк-с, — сказал таксист, тормозя. — Прибыли. Вон тот дом. Тележку уродовать не будем, сплошные колдобины, мать их, пешком дойдем, тут две минуты. Счетчик выключать или обратно тебя доставить?
— Обратно, — буркнул Лев, вылезая из машины.
Двинулись вдоль стены строящегося дома, поминутно попадая то в грязь, то в лужи. Таксист, злобно матерясь, шагал впереди.
— Во хату где дали, — сетовал он. — Еще век пройдет, пока тут асфальт проложат.
— От таксопарка получил? — спросил Лев, тревожно всматриваясь в темноту.
— Ну да, от парка! Дождешься! Кооператив… Тут вот осторожнее, бочком, а то — траншея, не ровен час…
Лев крепко сжимал рукоять ножа. Сердце ныло от страха и безвестности глупого, унизительного пути в темноте.
У штабеля бетонных плит, вплотную лежавших к краю траншеи, он замешкался. Провожатый обогнул штабель, канув в темноту. Лев, поразмыслив, шагнул за ним и вдруг почувствовал, как грудью наткнулся на какой-то выступ и, прежде чем сообразил, что не выступ это, упал навзничь, отброшенный сильным, упругим толчком.
— …Карманы пустенькие, — сказал Матерый. — Выстрел в упор, как шарик лопнул.
— Легкая смерть, — скорбно вздохнул таксист. — И не пикнул, гражданин.
— У, смотри-ка, ножик он с собою нес! — Матерый смешливо качнул головой. — Дорого готовился в случае чего…
— Кухонный… Фрайер, — констатировал таксист.
— Все, чистый он. — Матерый еще раз проверил внутренние карманы. — Теперь давай без суеты, но по-скорому… Под плечи его бери, не измажься смотри…
— Впервые на мокрое иду. — Голос у таксиста неожиданно дрогнул. — Противно… Как бы не повязали еще…
— Десятку плачу! — прорычал Матерый сквозь стиснутые зубы. — За эту шваль…
— Вот десяточку и дадут, — заметил таксист, с кряхтеньем приподнимая труп.
— Покаркай! Лопата где?
— Рядом, под ногой у тебя, гляди лучше…
— К осыпи его давай! Точно траншею завтра заровняют?
— Ну, сам же слышал! Видишь, и бульдозер оставили. Малый один клялся бригадиру: прямо с утра, говорил, наглухо канаву заглажу, только сегодня отпусти, переэкзаменовка какая-то там.
— А у нас — экзамен! Посвети, кровища есть! Вот тут присыпем. А завтра проверишь — насчет бульдозера и вообще…
— Ну! Дело общее, серьезное…
— Вот то-то! Если что — звони. Ботинки выбрось, одежду проверь — не замарался ли?
— Матерый, слышь, а точно он тебя сдать хотел!
— Х-хэ… Меня! Думаешь, только свое дело откупаю? И тебя за дурика держу?
— Да нет, я верю…
— Ну, спасибо! Кто «Волги» ваши угнанные через него сплавлял? Я! А молчать бы ему не позволили — хищение в особо крупных… Дальше — дело техники. Через моих знакомых — на тебя, рецидивиста. А у «Волг» этих ты крутился, докажут. Вот тебе и тормоз на долгие лета! С гидравлическим усилением!
— Профилактика, выходит?
— Выходит.
— А если боком выйдет? Вышак?
— А разница какая? В зоне не жизнь, сам знаешь.
— Ну нет, Матерый, лучше уж в зоне…
— Да ты вон на покойничка посмотри… Тихий, смирный, никаких головных болей — все за чертой… Ботинок присыпь, ты чего, слепнуть начал?
— Знаю! Помолчи, будь другом, понял? Вырвет сейчас…
— Я те вырву! Вещественные доказательства не оставлять!
— Да заглохни же ты! — раздалось сквозь стон.
ХОЗЯИН
Старинные часы в узорчатом саркофаге футляра долго и настойчиво гудели томными ударами: полдень. Обычное утро, пустая квартира. Жена давно на работе, дочь скоро придет из школы. Прозрачный алый шелк штор, свет, застывшими полосами пробивающийся в спальню, и мягкий ковер, где, царапая ворс, потягивался, покачивая хвостом, ангорский кот.
Ярославцев встал, кривясь от надсадной боли в затылке и растопыренной пятерней массируя макушку.
«Спиваюсь, — подумалось обреченно и равнодушно. — Надо кончать… Каждый день… Каждый день ведь, скотина!»
Умылся, прошел на кухню. Есть не хотелось. Выпил, давясь, бутылку холодной пепси; закурил. На балконе стыли два ящика немецкого пива, перехваченные вчера в одном «курируемом» ресторанчике, в холодильнике была хорошая рыбешка, трехлитровая банка икры, и так хотелось плюнуть на все и пропьянствовать этот непогожий весенний денек, но идти на поводу у легкомысленных желаний он себе не позволял никогда. Его ждала работа, а работу он ставил превыше недомоганий или же приятных минут. Работа была сутью и смыслом. Всегда.
Мог ли он предположить, что когда-нибудь станет вкладывать в понятие «работа» то, что никак не вяжется с понятиями, ей сопутствующими: «зарплата», «трудовой коллектив», «общественные обязанности»… Впрочем, официальный статус у него имеется: консультант министерства, а точнее, министерств. И зарплата есть, причем одна — с учтенным подоходным налогом, другие же, получаемые в конвертиках в высоких кабинетах, — за труд незаменимого консультанта. И существует, наконец, заработок, перед которым меркнут все эти зарплаты, но цена заработку — адский труд, нервы, здоровье и, вероятно, голова, как он понимает сейчас.
Потянулся за второй сигаретой, но в пачке осталась лишь упаковочная фольга… Все. Кончился «Парламент», классное курево. Надо заглянуть в интуристовский бар, не зря пристроил там человечков.
Вставил телефонный штепсель в розетку. День сегодня выдавался сравнительно легкий, половина вопросов решалась по проводам.
— Милочка? Это Ярославцев. Звонили, никто не отвечал? Естественно, с шести утра как на ногах… Во именно… потому, Милочка, и вечно бодр. Наш грозный шеф, надеюсь, на месте?
Грозный шеф снял трубку незамедлительно.
— Ты не присутствовал на утреннем совещании, — в голосе его звучало трудно скрываемое раздражение, — а зря! Я же тебя просил, обсуждались планы…
— Не зря, — оборвал он. — И не кипятись. Если я буду участвовать в твоих совещаниях, дело встанет. А если встанет дело… В общем, присылай машину. Документы подписаны, стройматериалы будут сегодня же у заказчика.
— Володечка… — резко переменился тон. — Володечка… Когда успел?
— Успел. Вчера, в двадцать пятом часу. Но это — не за просто так…
— Да? — настороженно спросил голос.
— В твоем подчинении имеется один интересный учебный полигон. Грошев там директор, так? Ну, вот. У Грошева этого на пятом складе пять лет законсервированный дизель.
— Откуда я знаю, чего есть у какого-то там…
— Очень плохо, что не знаешь. Прояви, кстати осведомленность, повысь тем самым авторитет среди подчиненных. Это тебе еще и презент, от меня… в смысле моральной поддержки штанов. Далее. Заявится сегодня к вашей милости человечек от наших благодетелей со стройматериалами. Потоми его в прихожей, сколько положено согласно рангу, потом подпиши ему бумажку. Там, в бумажке, — просьба о передаче дизеля, гарантия об оплате через банк, полный набор формальностей. Заодно избавишь своего Грошева от барахла, а народному хозяйству — польза.
— Но вдруг…
— «Вдруг» с дизелем не наступало пять лет. Но пусть «вдруг». Новый дизель тогда за мной. Без задержек и безо всяких вспомогательных потуг с твоей стороны.
— Идет. А как с бензином на этот квартал?
— Завтра после обеда к тебе пожалует человек. Его в прихожей не томи.
— Понял.
— У меня все.
— Когда будешь?
— Когда будет нужда. У тебя или у меня. Сослуживцам, кстати, привет!
— Бездельники эти сослуживцы, Володя.
— Все равно привет.
Он положил трубку. Еще два-три таких звонка, и кажется, свою непосредственную работу на общество он на сегодня завершил… Вернее, обязательную работу. Внезапно задался вопросом: а когда ты работал только на себя, на собственные нужды, ради наживы, наконец?
Он отогнал от себя праздные и одновременно тягостные мысли. Оделся и вышел на улицу.
«Жигуленок» был покрыт рябью смерзшейся грязи. Салон в пыли, черный лед в резиновом корытце под ногами… Помыть бы машину, да все недосуг заехать на мойку.
Вспомнил, как покупал когда-то первую… Сколько радости, благоговения… А перед чем? Перед куском железа… А с трудом выбитый гараж? Зачем? Тащиться каждое утро за два километра к кооперативу? Удобство, ничего не скажешь. А запчастей дурацкая коллекция? Существует, по минимуму, пять станций обслуживания, где очереди для тебя нет. При всем том — ты не банщик, не стоматолог, не популярный певец, не работник исполкома, а просто человек, от которого работа станции непосредственно зависит. Об этом, пусть в разной степени, но осведомлены и начальство сервиса, и чумазый механик, и дама в складском окошечке, и мастер цеха. Ну, а когда машина начнет капризничать не в меру часто, надо продать ее, а самому приобрести железяку новую — благо есть множество организаций, готовых оказать ему услугу в очереди на машину, как доблестному ударнику…
— Ваши документы! Вы проехали на красный свет…
Не торопясь, он подал капитану через слегка приспущенное стекло документы.
Зуб компостера впился в талон.
Ничего, капитан, коли, этих талонов некто Прогонов отпечатает еще не один десяток, два запасных лежат в кармашке дверцы, но тебе, капитан, сие неведомо, так что ублажи самолюбие.
— Можете продолжать движение… Машину, кстати, пора помыть!
— Благодарю за совет, постовой!
ИЗ ЖИЗНИ ВЛАДИМИРА ЯРОСЛАВЦЕВА
Внезапно потеплело, асфальт стал влажен и черен, мелкой грязью пылили грузовики, серая магистраль, заполненная машинами, жила какой-то угрюмой, механической жизнью, и Ярославцев, продираясь в этом тумане промозглого дня, вспоминал будни иные, прошедшие. Вспоминал, как просыпался по звонку будильника, как дорог и сладок был растревоженный этим заливистым трезвоном сон. Однако расставался со сном не усилием воли, не властным приказом самому себе: «надо!» — надо тянуть лямку, надо не опоздать, надо не получить выволочки. Нет, его поднимало другое — желание труда, желание видеть людей, разделяющих с ним этот труд — порой нудный, изматывающий, но всегда необходимый. Необходимый ему куда больше, чем сон и отдых. Может, от родителей все шло, от воспитания. Рос он в рабочей семье, где безделья не принимали органически. Все свободное время мать посвящала уборке, починке одежды, а отец вечно что-то мастерил по дому или отправлялся подработать на стороне: то замок в дверь вставить какому-нибудь неумехе, то разбитое стекло, то прокладки сменить в худом кране… И он, мальчишка, тоже всегда был при деле: помогал отцу, матери, видел, как трудно достается хлеб…
Он всегда был серьезен, деловит, прилежен и сдержанно-дружелюбен со всеми — со сверстниками, родственниками, учителями. Всегда и всем помогал по делу, помощью своей не спекулируя, не кичась. Бескорыстно. И, может, поэтому, хоть и сторонился шумных компаний, единогласно был избран одноклассниками в комсорги.
В райкоме комсомола его заметили сразу, после окончания школы пригласили на работу: затем экономический факультет университета, куда поступил на вечернее отделение: перевод в горком — там он познакомился с Вероникой. Первое приглашение ее в театр, ее рука в его руке, темный зал, актеры на светлой сцене, но он видел только ее, профиль Вероники, и ощущал со сладкой тревогой в сердце нежное, покорное тепло ее ладони…
Наконец, разговор с будущим тестем.
— Значит, вы и есть тот самый Володя, — иронически констатировал тесть, поднимаясь из-за массивного письменного стола со столешницей, окантованной витиеватым бронзовым узором.
— Да. Владимир, — подтвердил Ярославцев, робея в просторе огромного домашнего кабинета, где полки до самого потолка были заполнены энциклопедиями, мемуарами политиков и трудами экономистов — художественной литературой хозяин не увлекался.
— Тогда, Володя, будем знакомы. — Он пожал руку и указал ему на изящный стул с гнутыми ножками, хрупко ютившийся в углу кабинета. Указал, как просителю, пожаловавшему в приемные часы. — Хотел бы, — продолжил глубокомысленно, поговорить с вами без Вероники, по-мужски. Итак, без преамбул — расцениваю ваш брак, как несколько ранний, однако вам, молодым, виднее… И я близок к тому, чтобы намерения ваши благословить. Но сначала желал бы задать несколько вопросов. Можно на «ты»?
— Конечно, — смущенно замялся Ярославцев, и вдруг испытал стыд перед собою, будто пришел клянчить нечто у сильного, от которого только все и зависело.
— Ну, так кем же ты представляешь себя? В перспективе? — вздернулся в мягкой усмешке волевой подбородок.
— Организатором, — рассудительно произнес он нелепое слово, в интонации передавая всю подспудную и, по его мнению, весомую значимость его. — Партийным. — Выдержал паузу. — Советским. Хозяйственным… Каким — решится, естественно, не мною.
— Организатором! — удивленно, но и одобрительно прозвучал отзыв. — Научились выбирать обтекаемые формулировки, молодой человек? Руководителем — нескромно, да?
— Наивно, я бы сказал.
— У вас, у тебя, вернее, все задатки дипломата. Не привлекает такая стезя?
— Нет. Я бездарен в иностранных языках, неуклюж… Кроме того, мне проще и… интереснее работать с создателями… материальных ценностей. Я, конечно, молод, резок в суждениях, но это — моя убежденность.
— Убежденность-то у тебя хорошая, Володя. Но то, что ты категоричен в суждениях, — достоинство обоюдоострое. Начинай становиться мудрее. Будь тоньше и давай меньше конкретных ответов. Не все собеседники заранее искренни, учти. Что же касается дипстези, будем считать, что в начале твоего пути я сделал тебе любопытное предложение. Ты от него отказался. Хотя… есть еще время подумать. Однако если ты твердо не жаждешь спланированной не тобою карьеры, то позволь предупредить: на данном, самостоятельном этапе один опрометчивый шаг будет стоить тебе… ну, скажем, много времени, ибо выведет тебя с широкой дороги на тропинку окольную, а по ней придется долго блуждать… чтобы выйти в лучшем случае — на то место, где оступился. Ты хочешь делать судьбу сам? Благородно, достойно сильного человека. Но все же советую чаще обращаться ко мне, когда принимаешь решение… Большое решение. Или малое, влекущее за собой большие последствия. Особенно — когда решение подобного рода диктуют тебе эмоции, принципиальность, нетерпимость и прочая…
— Вот я и обращаюсь, — перебил он. — Представьте я принял решение жениться на вашей дочери. Решение принципиальное и прочая…
— Ну, это мы уже обсудили… Вы же понятливый человек, Володя.
Не было тестя на том злополучном собрании, где в президиуме восседало начальство из центрального аппарата, не было! И когда отзвучали первые ударные речи о победах и доблестях, бодро и взахлеб зачитанные по согласованным шпаргалкам, слово было предоставлено ему, Ярославцеву, дабы и его голосишко грянул в общем благолепном хоре. И он, дрогнув от дерзости, сказал незаученное: о бумаготворчестве, о высиживании гладенькими молодыми чиновниками с комсомольскими значками «взрослых» мест, о лжи, пестующейся здесь, в молодежи, где ее не должно быть…
И сквозь недоуменный ропот в президиуме кто-то четко и властно потребовал:
— Примеры, пожалуйста!
Он выложил «примеры». И — «прокололся». Все его «вопиющие» факты оказались неубедительными, а сам запев обличительной речи — нелепым до сумасбродства…
Аплодисменты, правда, прозвучали. Разрозненные, квакающе-испуганные и невероятно глупые…
А после была комиссия, деловитые пожелания и впредь занимать активную позицию по отношению к недостаткам: его, как «принципиального, политически грамотного, непримиримого к негативным явлениям», отправили в огромное, разваливающееся от бесхозяйственности и пьянства автохозяйство.
— Ты, Володя, теперь дипломированный экономист, прошедший серьезную школу комсомола, — с теплой улыбкой напутствовали его в горкоме, — и на месте сумеешь проявить боевитость своего характера. Со своей стороны готовы поддержать тебя по любым вопросам. Уж не забывай нас!
— Ну, Володя, — сказал тесть, — не обессудь: устроен тебе лучший вариант из всех грозящих… Теперь так: ты в школе учился, знаешь термин «большая перемена». Вот она и грянула. Идешь ты ныне в другой класс, золотой медали не видать… Впрочем, есть шанс сменить школу… Давай-ка, дружок, покуда не поздно, покуда я жив, в дипакадемию, послушай старого человека.
Не послушал. Ринулся в атаку на автохозяйство.
И стало хозяйство передовым. Выбил сотрудникам квартиры, новую технику, пьянь — если не перевоспитал, то подтянул. И порядок стал идеальный, и план выполнялся, и решались все проблемы, но — какой ценой? Какими приемами? Вот он первый его шажок в то никуда, в котором он сейчас: в день сегодняшний, когда едет он в сумраке индустриального города на собственной машине… А в глазах — не черный, сырой асфальт, не морось унылого неба, а прошлое — зимний тихий вечер, свет в заснеженной конторке, столик с бумагами, и — Матерый — то бишь, Лешка Монин: в кожанке, только что сбросивший доху на стул, молодой, сил — как у быка, шоферюга-ас, стоит, усмехается…
И вновь — конторский стол. Запомнил он его. И ворох бумаг на нем запомнил — все его же, Ярославцева, запросы, и все резолюции на них, в лучшем случае уклончивые. Ни одной, чтобы: «поддерживаю», «отпустить», «не против». Обычно: «изыскать по возможности».
— Товарищ Монин, — поднимает он отчужденные глаза. — Поступил сигнал, будто вы регулярно сливаете из государственной, закрепленной за вами машины бензин… В канистры. Для собственной, вероятно?
— Брехня. Выжить хотят, вот и… Думают, раз сидел…
— Сидели вы не раз. Это — раз. Теперь — два: в прошлое воскресенье вы проводили в третьем боксе ремонт своей «Победы». Сторож признался, вот его объяснительная…
— Ну и проводил ремонт. Зима же, куда зимой без ямы, гражданин начальник? Ямы жалко? Пустого места? Въехал человек, сделал дело, выехал…
— Непорядок. Могли бы подойти ко мне, согласовать. Я бы не отказал.
— И по всякому такому пустяку кланяться?
— Монин, вы всего год, как из заключения. Откуда машина, можно полюбопытствовать?
— Кровно нажитое на лесоповале, — прозвучало глумливо. — Там ведь расходов нет, все в копилку идет…
— Монин… да вот стул, что вы тут, как… при высочайшей особе… У вас множество нарушений трудовой дисциплины. Множество! И…
— Так. План перевозок я выполняю?
— План… да. Но кроме плана.
— Резину так и не выбили?
— То есть?
— Не выбил, начальник… — Монин присаживается на стул. Подминает зажатую под мышкой ушанку. — Вот что. Хорошо меня слушай, внимательно. Я, конечно, тьфу… уголовник, вообще… Но скажу! Нет, лучше так договоримся — если после разговора этого в обиду полезешь, то сразу заявление пишу и — пока! Только честно чтоб… Идет? Так вот. Прошлый хозяин наш — пустой человечишка. Выпивоха, краснобай. Ну, коли сам пьешь, чего со слесаря спросишь! Да тебя ж открыто пошлют. Но держался он. До упора. Покуда совсем дело не развалил. А почему держался? Бумажки умно сочинял для плана, ремонты для нужных людей организовывал, да и затягивал с ним умело, на нервах играл, чтобы в пиковый момент — извольте шик, блеск… Все секреты. А ты с начальством как! По правилам. И они с тобой строго. Ну, а резины-то у кого нет! У нас, грузовщиков, не у тебя! А кому ты нужен, чтобы выделять ее! И мы кому! И побежали бы мы отсюда, как тараканы от мора, если бы не привычка, не бензин дармовой, не яма для халтуры и спидометры без пломб! А отними это — привет, друг! Я — на другую базу, другой — на третью, а тебя в итоге домуправом. Хорошо, если в крепкий дом! Ты же не болеешь нуждами нашими…
— Не прав ты, Монин. Фактор материальной заинтересованности я учитываю.
— Чего ты по-газетному-то мне? И какой фактор? Червонец к зарплате? Да я тебе этот червонец самому каждый день отдавать буду, только не лезь со своими нарушениями трудовой дисциплины! Ты мне, конечно, красиво возразить желаешь. А ты умерь пыл. Мы одного поколения, ровесники, давай хоть сегодня на равных… Тебе же выбираться отсюда надо, иначе — каюк. Не надоело, как киту в луже пузыри пускать среди шелупени, килек всяких? В винном соусе… Кого пугнешь, кого сожрешь, а толку? Выбираться надо! Ищи сподвижников себе, верных ищи, деловых. И начальников ублажай по мелочам, а проси у них по-крупному. И к народцу не цепляйся, масштабно с него спрашивай, не размениваясь, он тогда даже в ерунде тебя не подведет — не то, чтобы побоится, посовестится. А жандармом быть — последнее дело.
И ведь понравился ему тогда Лешка Монин. Открытостью, напором, силой. И — сдружились они. Не теми приемчиками, какими Монин советовал, хозяйство он поднял, хотя и те порою в ход шли. Не снабженцев ублажал он, как исстари велось, им, мелким людишкам, кость кинешь и — довольны. И не местные контролирующие организации — те тоже малым удовлетворятся и утрутся. На министерские нужды начало работать автохозяйство, на серьезных людей, у которых тоже много хлопот имелось — и сугубо личных, и государственных. И рождали оказанные им услуги отношения доверительные, причем где служба, а где дружба часто не различалось… А отсюда пошли и квартиры работникам, и оборудование, и фонды, и в итоге — новое расширение автохозяйства.
Кучи мусора на дворе превратились в клумбы, исчезли залежи старых покрышек; бараки с мастерскими сменились чистенькими кирпичными постройками, и машины выезжали из сияющих свежей краской ворот чистыми, сыто урчащими… И на лицах людей появилось осознание своего дела, своей работы и… негласного устава своего монастыря…
Вскоре окольная тропа, предреченная тестем, кончилась. И вывела она его вновь на магистральный путь… Присмотрелись сверху к мелкому хозяйственнику, успевшему, на удивление всем, защитить диссертацию по экономике, хотя не наукой он занимался, а шоферюгами да моторами, и выдвинули его внезапно в крупные руководители районного масштаба, а затем и городского.
Леша Монин автоматом-переводом перекочевывал из одной персональной машины Ярославцева в другую, и уже редко когда позволял себе напутствовать шефа — разве в порыве несдержанности, да и то — уважительно, извиняясь за дерзость.
И тесть на пенсии уже был, не у дел, пусть и с прочными старыми связями — поучениями не злоупотреблял, говорил, как с равным, умным, лишь изредка сомнение выказывал: не случайность ли возвысила? Не остался ли юношеский максимализм? Не собьют ли на взлете?
Сбили.
Сбили? Нет, сам он себя тогда сбил. Сам! Вспомни раннее утро, персональная «Волга», из которой ты вылезаешь непроспавшийся, раздраженный, наодеколоненный, в модном пальто, купленном в недавней поездке по Европе. И попадается ненароком на глаза дворник, и начинаешь ты отчитывать его — съеженного, покорно кивающего мол, мил-человек, почему образовались сосульки на карнизе представительного учреждения? Позор! Немедленно. Знать не знаю, какая еще там оттепель ночью была! Совещание сегодня, высокие люди приезжают, чтобы — через пятнадцать минут…
Дворник боязливо мнется, пытается что-то сказать, да к чему слушать, о чем лепечет этот серый человек в черной телогрейке? Отвернулся, повторив гневный наказ, и пошел, плечи расправив и подбородок вздернув, по скользкой от гололеда лестнице к высоким дверям с бронзовыми ручками.
А дворник полез на крышу. Март, подтаявший наст едва держался на скатах и под тяжестью человека рухнул… И не стало человека.
Конечно, нашлись бы оправдания. Мог он спастись. Мог! Если бы не отправился на похороны. Увидел лицо человека в гробу незнакомое, он ведь и не разглядел тогда это лицо, близких увидел, семью, горе их… И — сломался. Не пошел выклянчивать милости, валяться в ногах. Муторно вдруг стало, вечностью потянуло, и вспомнились понятия самые что ни на есть отвлеченные: совесть, грех, суета, выбор.
А после состоялся разговор с тестем — одряхлевшим, поблекшим, слабеньким, уходящим. И в глазах старика он увидел не разочарование, не презрение, не осуждение, а лишь легонькое, схожее с нежностью сожаление. Старик уже понял тщетность суеты, ее внешний блеск и тягостную пустоту, скрытую за блеском… И все-таки старик заставил себя что-то привычно-ловко сообразить, кого-то нужного припомнить и, механически сняв трубку телефона, твердить в нее заученные фразы, справляясь поначалу о здоровье и семье этого нужного, болтая о разных разностях и уж после, в конце разговора, прося об одолжении для зятя.
Следующим же днем приехал Ярославцев в высотный дом, принял пропуск из амбразуры окошечка и поднялся, шалея от бликов света на мраморе, от простора коридоров, помпезности ковров, в кабинетик-клетушку, где желтый, сухой человечек в роговых очках принял от него анкету, сказав «Я позвоню… Сам».
Позвонил. И месяц спустя очутился он как по волшебству в чужедальней тропической стране, на большой стройке — в качестве начальника с ограниченными полномочиями. Бытие зарубежное шиком не отличалось: тесный гостиничный номер в провинциальном отеле, труд от зари до зари, хлопоты с женой, ожидавшей ребенка, ее отъезд. Из развлечений — фильм по воскресеньям в местном кинотеатре на открытом воздухе.
Но работал он самозабвенно. Понимал: здесь он нужен. И не в роли наблюдателя, а вершителя великих преобразований.
Затем — долгожданный отпуск, родина, ребенок, семья; уже привычные коридоры здания, знакомые лица чиновников.
— Послушайте, — сказал он одному из них, казавшемуся более-менее инициативным. — Зачем нам покупать за валюту материалы, которые мы вкладываем в эту стройку? Материалы отнюдь не худшие выпускаются и у нас.
— Крепкая идейка, — ответил чиновник. — Но возникает масса проблем со всякими согласованиями, заказами, транспортом… Живите проще, Вова!
— Я второй день в отпуске. Время у меня есть. С поставщиками договорюсь. Обещайте лишь пяток поездок их людям. Как экспертам. Понимаю. Сложно. Но — прикиньте разницу по валютным суммам. Командировочных жалко?
Прикинули. И отправились на тропическую стройку материалы из холодной Сибири. Сетующих на их качество не нашлось.
Внезапно — отзыв.
— Товарищ Ярославцев! С фирмой-поставщиком мы устанавливали контакты, исходя не из купеческих амбиций. Вы, что же, взяли на себя не только оценку целесообразности в международной торговле, но и проблем международных отношений?
— Но меня же поддержали…
— Да, по недальновидности. Некомпетентные лица, введшие в заблуждение руководство. Однако даже их не следует впутывать в планы, продиктованные вашей личной, весьма сомнительной инициативой. Еще предстоит разобраться, что за нею стоит…
Деньги у него имелись. Во всяком случае, существовала возможность спокойно обдумать свое положение, не тяготясь отсутствием зарплаты и не лихорадя себя в поисках относительно пристойной службы. Хотя служить не хотелось. Устал. Но искать работу было необходимо, жизнь не кончалась с последней его неудачей, хотя основная игра была проиграна без надежд на реванш.
Пытался искать поддержки у тестя, но тот дал понять, что взрослый человек обязан устраивать судьбу сам, а ошибки простительны лишь тем, кто их совершает несознательно. Отец, ушедший на пенсию и служивший вахтером на родном заводе, вполне серьезно пообещал устроить его мастером в механический цех… Это увлекательное предложение вызвало поначалу у Ярославцева неудержимый смех, но, отсмеявшись, почувствовал тревогу… Радужные прожекты проваливались один за другим, круг сужался; жена уже искоса поглядывала на праздношатающегося мужа, деньги таяли, как снег на солнышке, и предложение отца начало восприниматься не столько с иронией, сколько с досадой полнейшей беспомощности…
И вдруг появился Монин… Матерый. Весело, беспечно вошел в квартиру — с цветами, шампанским, свертками: запоздало поздравил с рождением дочери… Затем посидели, попили-поели, послушали рассказы гостя о новой нелегкой его профессии начальника автоколонны таксопарка и, когда за полночь тот выходил из кухни, где они остались наедине попить чайку, вытащил Матерый из кармана пиджака пакет, перетянутый резинкой. И его безмятежная веселость вдруг куда-то ушла.
— Здесь, — он положил пакет на стол, — три штуки. Или тысячи, по-интеллигентному. Месяца два проживешь без забот, хватит. Но тут — и на работу: приемы, визиты… Давай. Налаживай связи. Не удастся, не встанешь на ноги — пустой ты парень тогда. Встанешь — опять в шоферы к тебе готов. То, что в начальники не попадешь, ясно, но место найди! Это не в долг, так… Надеюсь на тебя, Хозяин.
Последнее слово он подчеркнул. После оно стало кличкой.
Он просидел на кухне до утра. Тусклым, больным взором глядел на деньги. Были ли они подачкой? Нет… Скорее жестом сильного по отношению к равному или же к более сильному, но в какой-то момент оступившемуся, крупно проигравшемуся, однако способному перекрыть проигрыш удачей в другой игре. Обязанному перекрыть!
Полистал записную книжку. Над каждой фамилией задумывался долго, не пренебрегая никем: ни мелкими людьми при мелком деле, ни случайными знакомцами, давно, вероятно, и позабывшими его. После составился список — довольно длинный. Наутро объяснил жене: пойми правильно — хлопот у тебя хватает, но, несмотря на них, предстоит тебе еще более хлопотный месяц. Потрудись воспринять его как должное. Как аврал.
Одно празднество сменяло другое. Гости приходили и уходили. Квартира превратилась не то в салон, не то в ресторан. Вечером поднимались тосты, крутился магнитофон, менялись блюда и велись разговоры, а утром он мчался на рынок и по кулинариям в поисках продуктов. Денег не жалел.
Однако приемы, чья пышность в соответствии с наличными неуклонно увядала, оказались напрасными. «Нужные» люди, охотно поднимающие бокалы, с аппетитом закусывающие и яро обещающие поддержку на любом уровне, на следующий день исчезали в никуда в казенность выстраданных ими кабинетов, за заслон секретарш, занятости, телефонного нивелирования жизненных проблем и уклончивых ответов типа: «Нужно время…»
И однажды, осенним мрачноватым деньком, в дожде и смоге брел он по улице после пустого визита к пустому влиятельному лицу, в очередной раз что-то вяло ему пообещавшему, и вдруг припомнил: вон в том министерстве, коренастым монолитом глыбившимся среди облезлых домишек дореволюционной постройки, говаривали, служит в больших начальниках один толковый малый, некогда его подчиненный…
В министерство удалось проскользнуть, не вдаваясь в объяснения с вахтером, но нужный чиновник находился на совещании, и полтора часа Ярославцев бесцельно шатался по коридорам, стараясь возбудить в себе интерес к здешней суете, что-то осмыслить и проанализировать… Потом вместе с чиновником они вспоминали времена ушедшие, вспоминали тепло; Ярославцев пригласил поехать в гости — поехали; скромно поужинали на кухне (деньги приходилось уже всерьез экономить), и за чаем, взглянув на часы, чиновник молвил:
— Пора мне… И вот что скажу, Володя. Ты — толковый человек. Но у тебя нескончаемая полоса невезения. О последних твоих неприятностях не знаю, но они, чувствую, есть. Не ошибусь, если обозначу их причину: ты неосторожен в решениях генеральных. Ты не политик в конъюнктуре. Ты политик вообще, по натуре, но, чтобы выйти на уровень признанного «политика вообще», надо успешно окончить все классы школы… Знаешь, как фигуристы? Лучше всех откатался, всех поразил, а в скучном, профессиональном тесте на «школу», в исполнении хрестоматийных фигур дал маху. В итоге — зарезал все. Так и с тобой, но у тебя нет перспективы следующего чемпионата. Я к чему? Твое место — советник. Серый кардинал. И я готов помочь тебе с местом. Для дела ты человек незаменимый и, если не против, на службу тебя возьму. Консультантом. Будешь при мне, помогать достраивать коммунизм в сфере обрабатывающей промышленности. Завтра в первой половине дня оформишься. После обеда запремся, отключим телефончики, и расскажу я тебе очень подробно о проблемах министерства. А после ты активно начнешь данные проблемы устранять. Если начнешь устранять, как дурак, выкину вон — сразу и без жалости. Все. Мне пора. Спасибо за чай, очень вкусный.
Для начала ему дали опробовать силы в одной из головных организаций министерства, работа которой шла наперекосяк. Спустя четыре месяца организацию посетил известный телекомментатор, специализирующийся на пропаганде передовых методов ведения экономики. Анализируя внезапные достижения, комментатор, вдумчиво подбирая слова, высказался так:
— Характерной особенностью предприятий, подчиненных организации, является то, что конструкторскими вопросами на них занимается конструкторский отдел, а технологическими — технологический.
В министерстве эта фраза прозвучала, как развеселый, надолго всем запомнившийся анекдот. Неулыбчивый министр тоже хохотал от души, а, отсмеявшись, попросил подготовить приказ о премировании некоего Ярославцева, не упомянутого телекомментатором.
Сколько людей впоследствии предлагали ему роль: консультанта… И сколько таких ролей он исполняет сейчас, в разных министерствах и ведомствах — координируя, увязывая, пробивая, внося коррективы и вынося готовые решения…
Предлагалось и другое… Влияние росло, о старых ошибках вспоминали (если уж позволяли вспомнить!) неизменно с юмором и наперебой звали занять посты. Он был уже необходим многим именно на посту. Но — отказался. Пост — даже звучало скучно, казарменно, пост — нечто конкретное, обязательное и… опасное. Ибо за что-то необходимо отвечать, а как замечательно не отвечать ни за что, пребывая нигде и везде! И пусть его скромное общественное положение не блещет в иерархии чинов и званий. Главное — не в наименовании, а в том, что ты есть на самом деле. И другое пугало, то, с чем столкнулся он, будучи большим начальником: изоляция от тех, кому служил. И еще: узость круга знакомых, продиктованная статусом и целесообразностью, неукоснительное соблюдение ритуалов и правил, наконец, одиночество и оторванность…
А что теперь есть я сам? Он часто задавал себе такой вопрос с тревогой и болью. Конечно, можно занять пост, зарыться в бумагах, играть роль безупречного гражданина и семьянина, но… зачем лгать себе? Поначалу он упрощенно полагал, будто в обществе существует лишь две категории людей: деловых и неделовых. Неделовые сидят на зарплате или же на пенсии, а деловые своими поступками и идеями двигают общество вперед, принося ощутимую пользу всем окружающим, и в первую очередь неделовым. Удовлетворяя их спрос. Деньги в таком процессе извлекаются исключительно за счет личного вклада или энергии, а исходное сырье приобретается законно.
Вот и создавались им артели, споро и качественно возводившие на садовых участках летние и зимние домики, сервис при гаражных кооперативах, бригады по превращению открытых автостоянок в закрытые. После началось увлечение кооперативным строительством, едва не обернувшееся судимостью благодаря алчным компаньонам, решившим пожульничать со стройматериалами… Тогда-то впервые он разобрался в разнице между частными устремлениями и государственной системой снабжения, дающей заманчивые лазейки для легкой наживы… Да и лазейки ли? Не год и не два в стране цвело благодушие: пропадали вагоны с готовой продукцией, ниагарами лился налево госбензин, к припискам относились едва ли не как к политически оправданной акции, успехи производства определялись фактором количественным и в очень малой степени — качественным; понятие «зарплата» приобрело оттенок анекдотический. И, конечно, деловые своего тут не упускали. Они драли бешеные деньги за то, чего жаждали неделовые, то есть за дефицит. Созидались состояния. Предприимчивые люди ухватились за простенькие методы обогащения: спекуляцию, взятки, хищения. Ценностей ими не создавалось. Ценности либо умело добывались и перепродавались, либо наживались паразитированием на государстве — на людях неделовых. Образовывались круги, касты, шайки, присасывающиеся к дойной корове державы и лихорадочно набивающие карманы. С уверенностью своей безнаказанности, ибо стоящие выше охотно «брали», а значит, молчали. Задача была, таким образом, проста: нахапать в расчете на все взлеты цен в течение, по минимуму, полувека. И с ними, с этими зажиревшими «деловыми», Ярославцеву приходилось сталкиваться изо дня в день. Часто он шел на поводу у них только из-за того, чтобы выжить, удержаться на ногах. Но исповедовал он иной принцип: надо зарабатывать, создавая товар доступный, конъюнктурный, высшего качества. И он пытался делать это, что было не так уж и сложно; куда труднее оказывалось обуздать жадность исполнителей, свирепея от контроля, они видели в нем уже своего врага, едва ли не прокурора, не дававшего воровать.
Можно ли создать экономику внутри экономики, не нарушив закона? Поначалу он думал и верил: можно. Оказалось — нельзя. И в один прекрасный день вдруг уяснил себе всю мощь гигантской машины, чей кпд падал день ото дня, и поднять его Ярославцев не мог: машина стала неуправляемой. Он же превратился в символического ее Хозяина, а вернее, в уважаемого создателя, получавшего свои «пенсионные» блага в любом желаемом размере. Он предпочитал размер более чем скромный, но время шло, и перед законом этот размер достиг высших пределов… И тогда пришел страх. Ибо ему глубоко верилось в неотвратимость перемен и напрочь не верилось в долгое процветание жуликов с их всесильными, переварившими заодно с обильными деликатесами все принципы и идеи, покровителями. И — грянули перемены, и посыпались с насиженных мест «деловые» с ожиревшими мозгами — перепуганные, ничего не соображающие: почему, как? — и казавшееся незыблемым рухнуло, и канули в никуда покровители, сметенные свежими ветрами, столь желанными и необходимыми. Он, Ярославцев, искренне радовался им, хотя понимал: и для него тоже наступила развязка, предтеча краха. Да, желал он наступления нового времени, но, когда время настало, внезапно открылось: не его это время, он там — в прошлом, с людьми прошлого; там его компания, идеология, приемы… Созданную им самим систему теперь он расценивал как формацию промежуточную, неоправдавшуюся и подлежащую распаду. Существовала вполне реальная угроза расплаты за самодеятельный эксперимент… Означавшая тюрьму, долгий срок и, вероятно, конец жизни…
Ступив в болото, он ловко лавировал по кочкам и вдруг, оглянувшись, увидел позади себя сплошную трясину, и такая же трясина лежала впереди… Куда? Виделись еще несколько кочек, он вовремя приметил их, но что будет там, за ними, не знал. Возможно, трясина еще более страшная…
И о сегодняшнем своем крахе он знал заранее. Думая о нем, как о некоей вероятности, но все же выстраивая свои комбинации через Матерого — основное связующее с машиной звено. Полной конспирации такой метод, конечно, не гарантировал. Вокруг крутилось множество людей, кому в мысли не заглянешь, за чьи поступки не поручишься. И потому оставалось одно уповать на судьбу и в любой момент быть готовым перескочить на спасительную кочку… Спасет ли? А если без аллегорий, то завяз ты, Ярославцев, незаметно, но прочно в компромиссах, противоречащих с законодательством, и, вероятно, очень скоро придут в твою квартиру люди с серьезными и враждебными лицами и скажут тебе: собирайтесь, гражданин… А этого произойти не должно. Вот почему в последнее время остро понадобились тебе деньги, борец за идею… Чтобы не голым уйти до прихода непримиримо настроенных к тебе людей. Вот и вся сущность твоя: не просто голым спастись, а сытеньким, благополучным. Плохо это, скверно, хотя и логично…
— Какая досада! — нагрешил не ко времени, — сказал он и пошел на обгон по встречной…
ИЗ ЖИЗНИ АЛЕКСЕЯ МОНИНА
— …Ну, и что делать будем, товарищ воспитатель? — Человек в форме вытащил папиросу, замял узловатыми пальцами ее мундштук. — Два побега, драки нескончаемые — этого вот, Котова, сегодня изувечил, поведение вызывающее… Опять изолятор?
— Ну, да и Котов не херувим! — Собеседник — полный, с залысинами, в мешковатом костюме — выдернул глубоко скрывшуюся под рукавом пиджака манжету застиранной рубашки. — А Монин… Наша тут вина, кажется. Ключа не подберем. Мальчишка он дерзкий, конечно, злой, но чистый…
— Чи-истый! — протянул человек в форме не то насмешливо, не то раздумчиво. — Вы что, его личное дело забыли? Ограбление магазина, вооруженное сопротивление милиции, сержанта ранил! В пятнадцать-то лет! Волк растет!
— Ну, а детство какое? Война.
— А у меня какое детство? — Человек в форме резко поднялся со стула. Машинально оправил ремень. — Отца в гражданскую убили, нас у матери пятеро. Деревня, голод, я за старшего… А у вас? Тоже не во дворце с пианинами… — Замолчал.
В дверь постучали. Вошел подросток, крепкий, большеголовый, насупленно-сдержанный, в громоздких, с побитыми носками ботинках. Враждебно-затаенный взгляд скользнул по комнатке, ушел в себя, глубоко.
— Присаживайся, Монин, — вздохнул человек в форме, внимательно рассматривая дымящуюся папиросу. — Куришь, поди? — спросил вскользь.
— В рот этой отравы не беру, — прозвучал ответ. — Не дурак, чтобы потом гноем отплевываться.
— А я, выходит… — начал военный изумленно.
— Ну, вот что, Алексей, — вступил человек в гражданском. — Я как воспитатель должен в последний раз тебя предупредить: если…
— Если, если… — Парень вскинул яростно блеснувшие глаза. — За дело я Котову впечатал, гниде! Кого хотите спросите. Разжирел на кухне, силы от харчей поднабрался, куролесит, падла, в миски харкает, кто ему слово скажет, обирает всех… И чтобы я ему койку заправлял и пятки чесал…
— Вывернул ему стопу, избил зверски, — констатировал военный. — Табуретом! Сотрясение мозга, губу зашивали, два ребра сломано, врач говорит: в больницу надо везти, в город. Это же преступление, Монин! Он тебя… хоть пальцем тронул?
— Других тронул.
— Ишь… защитник! Адвокат! — Военный притушил папиросу. — Робин Гуд!
— Чего? — переспросил парень.
— Чего… Книжки надо читать, а не табуретом размахивать…
— Монин! — Воспитатель коротко оглянулся на военного, и тот замолчал, вновь разжигая папиросу. — Монин… дай слово, что больше такого не повторится. Слово мужчины.
— Не дам.
— Почему?
— Потому. Котов — мразь, — убежденно повторил парень. — Вот выйдет отсюда, вырастет, точно завмагом станет. Крыса. Его только пусти, где сытно, все сожрет. Давить таких буду.
— Пойдешь в изолятор, — тяжело дыша, сказал военный, стиснув плечо воспитателя — мол, помолчи. — Понял? Пойдешь… если не понимаешь человеческого…
— Испугали! — Парень сплюнул в угол. — Мне и в карцере есть чем заняться.
— Ты у меня поплюйся! — угрожающе вздыбил плечи военный.
— Чем же ты собираешься заниматься в изоляторе? — тихо спросил воспитатель.
— А я там бегаю. — Парень зевнул. — Бегаю, приседаю… Отжимаюсь. — Помолчал. — Сплошная физкультура. Устану посплю. Проснусь — по новой…
— Спортсменом хочешь стать? — спросил военный неожиданно миролюбивым тоном.
— Не-а, — лениво сказал парень. — Хочу таких, как Котов ваш, с одного удара валить. Без табурета.
— Дура ты, — проронил военный устало. — Думаешь, крепким кулаком все в жизни решишь?
— Вы умный, — отрешенно парировал парень.
— Погоди, Алексей. — Воспитатель, засунув руки в карманы, неуклюже прошелся по комнате, внимательно осматривая грубые потеки масляной краски на стенах, хлипкие стулья, решетку на окне, будто запоминая все это. — Вот ограбил ты магазин. Кому хуже сделал, ежели из чистого принципа исходить? Продавцам, которых за жуликов, посчитал?
— Ну. — Парень поднял на него уверенный взгляд. — Ревизия там потом была, одного посадили, точно знаю.
— А в милиционера зачем стрелял? Милиционер-то не чета жуликам, верно?
— Оборонялся. Или я его, или он меня… Чего непонятного?
— Так. — Воспитатель с силой потер затылок. — А награбленное куда бы дел?
— Себе взял. — Парень не раздумывал — Заработанное, чай.
— Заработанное? Чем же? Трудом?
— Шкурой. — Ответ прозвучал резко. — Риском. Кто как умеет. Один — руками, другой — башкой, а третий — и тем, и другим, а еще — волыной. Так вот!
— Слабенькая у тебя позиция, Монин, — сказал воспитатель. — Слабенькая и плохонькая. Один ты против всех. А вокруг либо жулики, по твоему разумению, либо враги заклятые. Ну, а ты в мечтах своих самый из жуликов сильный, самый отважный, да? И потому есть у тебя право стрелять, людей калечить… Котов же ведь никого не…
— А трус потому что, — лениво перебил парень. — Срока боится, карцера, фрайер…
— Ты слова подбирай, слова, — сказал военный напряженно.
— Ну чего, макаренки? — весело спросил парень, поднимаясь. — Спать хочу, организм требует… Куда мне? На койку отпустите или в изолятор?..
— У тебя наряд сегодня, Монин, — сказал военный. — Вне очереди. В ночь. Так что с койкой обождать придется.
— Сортир, значит, драить? — Парень потянулся. — Не, другого ищите. Котов вот с больнички возвратится… По нему дело!
— Ты себя что… лучше других считаешь? — Воспитатель повысил голос.
— Лучше.
— Монин! Ты сейчас же отправишься в наряд… — отрывисто, на звенящей ноте приказал военный.
— Ясно, — кивнул парень утомленно. — Значит, в изолятор… — И вышел за дверь, пискнувшую провисшей петлей.
— Во экземпляр, — обреченно качнул головой воспитатель. — Придется, значит, ужесточить… меры.
— Страха в нем нет, — отозвался военный задумчиво. — Стенкой закончит, до упора пойдет, знавал таких…
— Так мы же его остановить должны…
— Должны-то должны… — Военный перевел взгляд на серую, растрескавшуюся штукатурку потолка. — Да попробуй переломить его… Ты читал, как он на следствии себя вел? Ведь насчет оружия серьезно его крутили, без скидок, что малолетка, а ничего не вышло: нашел и нашел, где — не помню.
— Он действительно в изоляторе это отжимается? — недоуменно спросил воспитатель.
— Угу, — угрюмо подтвердил военный. — Как заведенная машина. На хлебе-воде а все равно — до трех потов. Воля! Не на то дело употреблена только. Кабы в другое русло ее.
— Кабы! — сказал воспитатель.
ДЕЛА ПОВСЕДНЕВНЫЕ
Забавная была карикатура в газете, веселенькая: два дружка шагают по улице мимо пиццерии, и один говорит другому в подтексте выделяя итальянское наименование учреждения: не ходи, мол, Вася, туда в пиццерию — там мафия!
Он свернул с дороги прямо на тротуар обогнул здание и поставил машину сбоку от пиццерии. И подумал до чего же обманчиво мироощущение обывателя! Как падок он на некие тайны, как увлекают его термины «мафия», «бизнес», слухи о дерзких преступлениях, вообще все подпольное! Обыватель живет в домыслах и сплетнях, не зная главного: зарабатывать деньги преступным путем скучно. Ибо заработать много можно не на разбойно-хулиганской стезе, а на хозяйственно-экономической, где нет никакой романтики.
Ярославцев был уверен — в этой пиццерии не погорит никто. Каждый здесь зарабатывал в день столько, сколько без смущения мог бы предъявить при выходе кому угодно. Не наглея, на излишках излишков. И того хватало. Коллектив был дружный, на авантюры не падкий, работающий во благо клиента. Люди нормально трудились, и он с удовольствием помогал им практически на общественных началах.
Невзирая на томившуюся у входа очередь, он подошел к двери, постучал. Толпа не пикнула, сразу разгадав в нем начальственную стать.
Человек в униформе помог снять пальто.
Ярославцев прошел к стойке бара. Виталий коротко посмотрел на него, поправив «бабочку» на белоснежной, с короткими рукавами, рубашечке, кивнул в корректном приветствии.
— Перекусите?
— Обязательно.
— Тогда утоляйте аппетит и заодно поговорим. Пиццу сейчас принесут. Такую испекут — в Риме не попробуете.
Пиццу и впрямь принесли отменную: ароматную, с грибами. Потягивая ледяную пепси, он завтракал, обсуждая дела в неторопливой беседе с Виталием.
— Барменом в валютный бар мальчика пристроим? — спрашивал Виталий уважительно-вкрадчиво. — Документы в полном порядке, опыт есть, классный рюмпен-пролетарий… Я слышал, в «Интуристе» освободилось местечко…
— И почему ты меня обижаешь? — Ярославцев медленно отер рот салфеткой. — Что сам не способен решить эту проблемку? Не надо… обращаться ко мне по подобным кадровым вопросам. Или… у тебя есть еще кандидатура уборщицы в Совет Министров?
— Извините. Просто хороший парень… Ладно. Другой вопрос. В тресте туго с поставками. Дефицит идет по чайной ложке. Фирменных напитков мало, а клиент капризный пошел, венгерское сухое за оскорбление принимает, кьянти ему подавай, с ветчиной баночной перебои… Я не от себя прошу, поймите: мне начальство намекнуло: пусть бы твой друг подсобил… Ну а что потребуется — через меня…
— Решим. Но в течение следующей недели. Все у тебя?
— Пиво есть баночное. Загрузить картонку?
— А сигарет найдешь приличных? В смысле настоящих, не лицензионных.
— Блок найду. Я сам через Матерого хотел… — Виталий осекся.
— Сколько сигарет он тебе поставил? — спросил Ярославцев сухо. — Ну? Только не ври, это плохо влияет на мое отношение к людям.
— По мелочи… Пять коробок… Сто блоков. Семечки… да и когда было!
— «Парламент»?
— Ну да.
«Вот что значит — знакомить коммуникабельных негодяев, — отрешенно глядя в лицо собеседника размышлял Ярославцев. Сразу снюхаются, повиляют хвостами и начнут свои собачьи игры у тебя за спиной. Хорошо — игры, а то перегрызутся и ты же будешь виноват…»
— Я пока дожую, — сказал, поморщившись. — А ты, вот ключи, пиво поставь в багажник. Сколько денег надо?
— Меня тоже не стоит обижать, — с достоинством ответил Виталий и, подхватив ключи в воздухе над бокалом, удалился.
Питательная пицца приободрила. Дальнейший хлопотный день, казавшийся невероятно тяжким, легко выстроился в схему: сейчас на станцию, переобуть две покрышки, зайти к директору — ящик дефицитных контактных групп для замков зажигания прибудет к нему послезавтра. Это — начало, первая партия пошла в производство в подсобном цехе одного из захудалых заводиков. И уж эти контактные группы будущих хозяев не подведут — технология их изготовления куда выше импортной. Заводик же с данного подсобного цеха способен начать свое второе рождение — лишь бы духу у директора хватило, да только вряд ли хватит: слабенький хозяйственник, без инициативы, трусоват.
Он вышел из пиццерии, хлопнул по плечу Виталия, дожидавшегося его у машины, и уселся за руль.
Визит в автосервис решил отложить на часок. Неподалеку была еще одна «контора», куда заехать представлялось нелишним.
Остановил машину у старого московского дома, прошел в высокий, с мемориальной доской у входа подъезд. Звонок. Желтая точка врезанного в двустворчатую дверь «глазка» на мгновение потемнела, потом осторожный голос вежливо осведомился: «Кто?» — видимо личность посетителя впотьмах разглядеть не сумели.
— Открывайте, Эдуард, пока свои…
— Тсс… — Лысый сутулый Эдуард, поправив очки — огромные, стрекозиные, приложил палец к тонким губам. — В комнату тихонько пройдем, переводчик там…
Мрачно усмехнувшись, Ярославцев покачал головой. Снял пальто. Тихо как и просил хозяин проследовал в комнату.
То, что увы и ожидалось.
Респектабельного вида переводчик в галстуке, с пухлыми наушниками фирмы «Сони», удобно расположившись в кресле с бокалом аперитива, бубнил в микрофон фирмы «Акай».
— История мира? Да чего ее изучать, я знаю: сначала были динозавры, после они сдохли и превратились в нефть. А потом появились арабы, начали нефть продавать и покупать «мерседесы».
Телевизор фирмы «Джей-Ви-Си» демонстрировал очень сомнительный фильм, а десять видеомагнитофонов, расставленных на полу копировали продукцию. Тут же грудами теснились кассеты разнообразных фирм. Ярославцев уловил еще один нехороший симптом: наклейки с ценой на кассетах указывали на их приобретение в магазине, торгующем на живую валюту.
— Пройдемте на кухню, Эдуард, — шепнул он хозяину на ухо. — Оторвитесь. Времени мало.
На кухне работал лазерный проигрыватель, и с крутившегося на нем серебристого диска копировала еще парочка магнитофончиков.
— Ну я все понял, — сказал Ярославцев. — Аппетиты, Эдик, у вас выросли изрядно.
— Ой, не надо праведных нотаций, — отозвался тот. — На плачевный финал намекаете? Ну… если суждено, судьба, значит.
— Позвольте объяснить вам элементарные вещи, — продолжил Ярославцев, чувствуя, что говорит впустую. — Я понимаю, кассета без записи стоит одно, а с записью — совершенно другое. Наклейки, кстати, сдерите — тут еще и валютными операциями попахивает. Дело выгодное, ясно. Но у каждой кассеты есть свой покупатель. Кассет — сотни. Вероятность прокола…
— Я все сдаю через скупщика.
— Поздравляю. Вероятность уменьшается. Но не исчезает. Потом. Что вы пишете? Я видел названия… Сплошное торжество плоти…
— Люди берут, — со вздохом перебил Эдуард. — А потом… основную массу не увлекает ни Феллини, ни Антониони…
— Может быть. Но зачем сознательно идти на статью? Я же, казалось, убедил вас, появились видеотеки — развивайте дело на государственных принципах.
— Знаете, — Эдик выдержал скорбную паузу. — Я не подвижник. Пробовал — не получилось, извините. Каждый фильм согласовывай, нервы трепи, всякие худсоветы. А цены? Кому нужна пленка на вечер за такую цену? Слева — дешевле. Более того, практически бесплатно человек покупает пленку. С дивной коммерческой картиной. Пусть она у него год в обороте, потом он отдаст ее либо за те же монеты, либо в обмен. Одно слово: вклад! С видом на проценты, кстати. А мне — доход. Да и чего за зарплату ломаться? Вон лазер работает… круглосуточно. Чистейшее воспроизведение. Полсуток — уже зарплата! Так что не надо, не мальчик. Вот если бы вы со своими связями в дело включились…
— Порнографию распространять?
— Мы распространим. Нам материалы нужны, пленка, техника. Я не хочу вас обидеть, поймите… Я знаю, вы смотрите на меня, как на дешевку, но каждый живет своим, и не приставляйте мне собственную голову.
— Сколько магнитофонов пришло сюда через Матерого? — внезапно спросил Ярославцев.
— Ну это… — Эдик замешкался, — это наши дела… простите, конечно.
— Эдик, — произнес Ярославцев с нажимом. — Я понимаю, вы человек независимый, самостоятельный, не любите поучений, но обязан заметить: вам изменяет чувство меры, мой мальчик, в смысле демократии по отношению к старшим.
— Да я ведь… — отозвался Эдик с ноткой испуга, и глаза его за гигантскими стеклами очков моргнули. — Я-то чего? Ну… двадцать, может, тридцать магнитофонов… Только — между нами…
— Именно, — Ярославцев направился в прихожую. Молча оделся.
— Вы правы, — Эдик задумчиво поджал губы. — Понимаю — правы! А… не в состоянии на тормоз нажать! Тут приятеля свинтили… Ну, а жена сдуру и дала показание — да, кое-что смотрела… Не жена даже, сожительница. Центровая девка, понравилась, поселил возле себя. В общем, семейка на чисто общественных началах, если он налево ходил, то она — и налево, и направо. А суд влепил по полной заготовке. За развращение супруги! Она, как услышала, ржать начала — я думал плохо ей будет.
— Плохо будет Эдуард, очень плохо. — Ярославцев затворил дверь.
Ах, Матерый, ах, Лешка… Главное, откуда? Магнитофоны, сигареты, ондатра. С честным взором врал ты о «чистых» источниках, с напором врал! А я, дурачок, если и не верил, то принуждал себя верить, хотел! И пристраивал эти «излишки», списанное якобы, бракованное, негодное. А икра? А рыба? Неодобряемое перевыполнение плана рыбозавода или в море выбрасывать или… Пошел ты на это? Пошел! Деньги получил? То-то. Подумай, Эдик, Виталий — вот уже двое за сегодняшний день, кто, не зная истинную тебе цену верно, о ней догадываются. Первым, конечно, скрутят Матерого, и уж потом только начнется перебор звеньев цепи, так что запас по времени тебе обеспечен. Но каков он, запас? Вопрос неотвязный, ставший уже частью существа, въевшийся в душу.
Ну-ка, давай все взвесим холодно, отстраненно. Кое-что тобою приготовлено, но так, с ленцой, на всякий случай. А не пора ли подготовиться основательно и детально, чтобы достойно встретить свой самый черный день?
Однако еще вопрос: при чем здесь ты и такое высокое, благородное слово «достойно»?
СЛЕДСТВИЕ
Кажется, я делаю карьеру. Три убийства, совершенных из одного и того же «Вальтера», произвели впечатление на начальство, и теперь создана бригада, где оперативную часть работы ведет Лузгин, а следственную — я с многочисленными помощниками, толку от которых, правда, на данном этапе мало. Остальная текучка благополучно сплавлена сослуживцам.
Интересные результаты дала проверка рабочих на стройке. Даже не столько проверка, сколько допрос бульдозериста, заровнявшего траншею. В беседе всплыл факт: оказывается, он, студент, накануне перед убийством отпрашивался на занятия у бригадира. Свидетелей разговора рядом не было, только стояло неподалеку такси, и таксист копался в багажнике. Таксист был в клетчатых брюках, а машина — синего цвета. Не голубого, не фиолетового, именно синего. И вот что характерно: таксист вполне мог слышать разговор бригадира и студента-бульдозериста. Я убедился в этом, выехав на место. Допросил бригадира. Показания бульдозериста подтвердились, но выплыла дополнительная деталь: на заднем стекле у таксиста имелся какой-то обогреватель — аляповатый, самодельный, в виде неровных серебристых полос.
Скоренько проверили близстоящий дом. Таксист в нем проживал, но по данным не подходил: вообще в ту смену не работал, «в ношении клетчатых брюк не замечен» и так далее. Тогда подчиненные Лузгина получили на руки следующую схему: синее такси, серебристый обогреватель, клетчатые брюки, график работы.
— Разврат, а не работа, — сказали они. — Обычно, если такси — то неопределенного цвета, и все данные, а тут — палитра!
Спустя сутки передо мною лежала фотография некоего Коржикова Михаила, который сидел за рулем синего такси накануне убийства, обладал клетчатыми штанами и, наконец, подвозил установленную гражданку в интересующий нас срок к новостройкам по адресу ее постоянной прописки. Личные связи гражданки с Коржиковым после предварительного неофициального выяснения не подтвердились, но подтвердилась версия о наличии данных по Коржикову в наших картотеках, как дважды судимого за спекуляцию автомобилями.
«Волга», на которой ехал преступник, оставив в лесу трупы «гаишников», не соответствовала следам «Волги»-такси, однако, предположение о Коржикове, как пособнике убийцы, представлялось оправданным.
С таксистом я решил работать деликатно, сосредоточив всю имевшуюся в наличии оперативную мощь на его скромной персоне: где живет, с кем дружит.
Выяснилось: Коржиков активно околачивается в гаражном кооперативе неподалеку от дома, где и «шабашит» частным образом. Выездов в другие города не зафиксировано, круг привходящих лиц не установлен.
Последнее — понятно. Пять лет минуло после прибытия Коржикова из ИТК, жалоб на него не поступало, внимание естественным образом ослабилось… Вывод тоже ясен: внимание следует укрепить.
Я заканчиваю совещание оперативно-следственной бригады, люди шумно расходятся, в кабинете наступает тишина… Пора домой. Но уходить не хочется. Какая-то инерция прошедшего дня держит на месте, ощущение чего-то недоделанного.
Покуда Коржиков может пребывать в спокойствии. В причастности его к убийству доказательств — ноль. Лишь косвенные улики. О прямых же и речи нет. А их надо отыскать. Не ориентируясь на личные впечатления, на гипотезы, не конструируя, одним словом. А вот когда конструирование начинается, когда следователь идет по придуманной им же самим схеме, он подобен палачу, неторопливо вывязывающему прочный узел на петле… Знавал я таких… Их кредо — непоколебимая убежденность, будто ошибки неизбежны, а по высшему счету они все равно правы. Бывшие грехи подследственного или же чисто эмоциональная неприязнь к нему — большое подспорье в ведении дела для подобных конструкторов. Результаты же их достижений налицо: от откровенной ненависти безвинно пострадавших до хорошенького общественного мнения о вершителях правосудия в целом. И ведь действительно: встречаешься порой с людьми глубоко порядочными и сталкиваешься вдруг с их явным неприятием тебя как представителя органов, в которых видят они начало не столько правоохранительное, сколько карающее. Причем карающее слепо, чуть ли не механически.
Нагружен следователь, работает урывками сразу над десятком дел. В голове одно: быстрее бы закончить, уложиться по срокам, закрыть, сдать в архив или в суд, и вот получается иной раз: выходит из КПЗ — за недоказанностью, скажем, гордо поплевывая, — откровенный бандюга. А невиновный доказывает, что он не верблюд, лишь на суде или благодаря апелляциям.
А подарочки от подозреваемых или подследственных… Было недавно дело по взятке… Остановили работники ГАИ машину: грязную, битую, начали снимать номера. И сунул им хозяин червонец — отвяжитесь, мол. Тут его за взятку и оформили в ближайшем отделении, пришпилив червонец к протоколу. Отрицал он сначала, говорил — на штраф давал, а после сознался. Но как сознался? «Я же, — сказал, — и подумать не мог, что так обернется… Ведь брали же, и приучали давать… У меня в бюджете уже графа запланированная была: на ГАИ… И вдруг — нате, принципиальные!»
Неприятно мне было этим делом заниматься. Бред какой-то.
Звонит телефон. Звонок нетерпеливый, прерывистый — междугородный. Снимаю трубку. Точно — на проводе Баку.
Управление внутренних дел этого красивого города разоряет свою бухгалтерию на изрядную сумму — разговор длится около двадцати минут. Мне сообщается, что завтра самолетом прибудут очень интересные материалы. Также сообщается, что, послав в УВД фото покойничка, мы подтолкнули к расследованию сразу несколько дел. Убитого звали Лев, фамилия Колечицкий, поставлял в Азербайджан сигареты, бытовую радиоаппаратуру, кассеты, импортные куртки; связан с браконьерами, промышлявшими осетровыми породами рыб, снабжал их необходимой снастью, покрышками от шасси «Ту-154»… Остальное — в материалах, уже мне высланных.
Информация вываливается на меня, как из мешка; мысли путаются: осетровые, куртки, кассеты… Ладно, тут ясно, но при чем покрышки от шасси «Ту-154»? Или лов идет с помощью самолетов? Нет, у меня определенно очень интересная работа…
ИЗ ЖИЗНИ ВАНИ ЛЯМЗИНА
Судьба Вани Лямзина поначалу ничем не отличалась от судеб тысяч его сверстников: детсад, семья и школа. Мама — зав. буфетом на автовокзале, папа — механик в гараже НИИ, дом крепкий, достаток и благополучие. С троечками окончив десятилетку, был Ваня пристроен на службу в НИИ, где трудился отец. На должность лаборанта в головную лабораторию. Нелегко доставались блага бытия юному Ивану в ту пору: зарплата была мизерной, работать заставляли много. И стонал лаборант, размышляя, где бы иное местечко найти хлебное да вольготное, но суровый родитель любые заикания о таких мечтах пресекал, жестко заставляя Ваню трудиться, где указано. Так и трудился Ваня — с вдохновением раба под ярмом, через пень-колоду, замечая между тем любопытных вокруг себя людей, в частности шефа лаборатории — ловкача и пройдоху, лихо обращающего научные изыскания на пользу себе, не вылезающего из заграниц, с «Волгой» и прочими атрибутами благополучия.
И как-то этот шеф поймал Ваню на гнусненькой краже, когда залез тот в сумку одной из чертежниц, похитив четвертной. Ну, подумал Ваня, вот и конец: выгонят и посадят: шеф был не только ловок, но и жесток… Однако шеф не выгнал и не посадил Ваню, даже отцу не нажаловался — то ли потому, что Ванин папа машину ему чинил регулярно и бесплатно, то ли перевоспитать решил, то ли пожалел, ибо младшего неразумного собрата своего в нем узрел. Так или иначе, но стал с тех пор Иван секретарем-машинисткой сильного шефа, мотивировавшего такое назначение, как изоляцию молодого человека преступных наклонностей от коллектива беззащитных тружеников. А Ване — что! Пошла у него жизнь праздная, независимая — начальник появлялся редко. А после поступил Ваня в институт не без помощи шефа — с тайным желанием подобной же карьеры. Так и расстались они навсегда. Однако засело в Ване накрепко: выгодно находиться под сенью человека сильного, работая за зарплату на деликатных услугах. И спокойненько заниматься устройством собственных делишек, дабы скопить капиталец на черный день, на случай, когда сильный вдруг да ослабнет либо попросту решит поменять помощника.
Вскоре умер отец, но мама, зав. буфетом, семью содержала, крепилась. Учеба в вузе с трудом, но продвигалась, и смутные мечты Вани начали принимать конкретный характер: влезть в доверие к академику, директору какого-нибудь КБ, а после действовать по усвоенным схемам бывшего шефа-благодетеля. Но грянула беда. Попался Ваня в институтском гардеробе на краже модных замшевых перчаток. И немедленно из вуза был выдворен. И ждала Ваню армия — искупающая и воспитывающая. Но до призыва предстояло трудоустроиться… А так не хотелось, так не хотелось!..
И тут, словно по заказу, возник возле Вани Сема — толстенький, деловитый человечек с лысиной. Сема распахнул перед Ваней горизонты ослепительные. Прошлая жизнь в их сиянии предстала перед Ваней ничтожной и ошибочной, перспективные планы на будущее — наивными и жалкими. Он во всем оказался не прав. И в том, что рисковал шкурой за четвертаки и модные перчатки, и в том, что стремился достигнуть высот какого-нибудь зав. лабораторией или даже академика…
Сема, человек широкой натуры, предложил Ване зарплату: пятьсот рублей в месяц плюс квартальная премия. Работа же пустяк: раз в неделю, получив дополнительные командировочные, летать по маршруту Москва-Баку. С «брюликами». На Ванин недоуменный вопрос: что есть «брюлики»? — Сема, мудро усмехнувшись, достал маленький пакетик из плотной коричневой бумаги и высыпал в свою пухлую ладошку мелкие, слабо мерцающие камушки. И Ваня понял: «брюлики» — сиречь бриллианты.
— Тащи трудовую, чтоб участковый не цеплялся, — говорил Сема, щедро наливая Ване коньяк и подавая вилку с куском семги. — Истопник, устроит? Зарплату начальнику, сам свободен… Пакетик, взял, пакетик передал. Спецкурьер. Мнешься? Трусишь? Напрасно. Вот я — да, должен бояться. И знаешь чего, в первую очередь? Длинного твоего языка. Вдруг — кому-либо из друзей брякнешь или любимой девушке…
Ваня чистосердечно оскорблялся: неужели он похож на дурака?
— Нет-нет, — качал лысиной Сема, как бы извиняясь, — ты очень умный, я сразу понял…
И через несколько дней Ваня — с томлением и с тайным страхом в груди, однако гордый ответственной и таинственной миссией, вылетел с первой партией «брюликов» в Баку.
Работа ему понравилась. Самолет, комфортабельное кресло, красивый теплый город с пальмами и приморским бульваром, шашлыки из севрюги, сухое винцо, фрукты… И — полминуты на процедуру передачи пакетика в обмен на дензнаки условленному лицу в условленном месте. Высокий класс! Жизнь обрела сладостный оттенок и глубочайший смысл, состоявший, по мнению Вани, в том, что довелось ему, наконец-то, горделиво возвыситься над суетой.
В модной рубашке, импортном костюмчике, он уже по-хозяйски входил в прохладный салон самолета и, со скукой наблюдая за манипуляциями стюардесс, заученно демонстрирующих пассажирам правила обращения со спасательными жилетами под комментарий из динамика: «…так как наш полет проходит над значительной территорией водной поверхности…» — притрагивался к карману пиджака, где лежал очередной пакетик с очередными «брюликами», думая о программе развлечений: пляж, бар, знакомство с дамой, ресторан…
Дураки все! — так думал Ваня.
В семь часов утра позвонили в дверь. Ваня, уже привыкший спать до полудня, очумело вскочил с кровати; даже не спрашивая — кто — открыл дверь…
И они вошли. И все кончилось. Авиарейсы, пятьсот в месяц, премия, шашлыки и возвышение над суетой — последнее было для Вани особенно трагично. Жизнь показала фигу.
Механика расследования сложностью не отличалась: взяли Сему, тот заложил курьера, то бишь Лямзина; взяли курьера, обнаружив в его квартире партию «брюликов».
— Ничего не знаю! — отбивался «наученным» Ваня. — Милиция подкинула! Требую прокурора!
— Ах, милиция… — задумчиво сказал прокурор. — Ах, уж эта милиция! Ну да ознакомьтесь сначала с документами. Прошу акты экспертиз.
Бриллианты оказались меченными изотопами. Ваня, кое-что разумевший в науке — НИИ чего-то стоил! — признал вину… Впрочем, не слишком отчаявшись. Ну, курьер — взял пакетик, передал пакетик… Авось обойдется. Авось неизвестные коллеги- истопники возьмут на поруки, а добренькие дяди из органов примут во внимание молодость, естественно связанные с ней ошибки и, надеясь на армейское перевоспитание, отпустят Ваню по-доброму в солдаты.
Но дни шли, КПЗ становилась привычным местам обитания, и надежды на добреньких дядь потихонечку улетучивались. Тем паче были бриллианты не только мечеными, но и ворованными, а, кроме того, ненастоящими… Толстый Сема, прекрасно осведомленный об истинной цене бриллиантов, не ведал, однако, главного: кому именно они предназначались. Ваня играл роль буфера, должного принять на себя первый удар и дать возможность Семе кануть в безопасное местечко от расплаты одураченных клиентов. Заинтересованным лицом в бриллиантах был служащий одной из японских фирм, он же опытный промышленный шпион, с дальним прицелом создавший сложную цепь подставных лиц и перекупщиков. Толстый Сема и не подозревал, что является всего лишь марионеткой наихитрейшего японца… Водили же за нос Сему не без умысла, ибо иметь какие-либо отношения со статьей «Измена Родине» он бы, конечно, не пожелал, да и Ване бы не посоветовал.
Но рано или поздно все кончается… Компетентные лица, гуманно настроенные даже к иностранцам лукавого нрава, с позором выслали шпиона из страны пребывания, а лысый Сема и остриженный, с оттопыренными ушами Ваня предстали перед судом. И тут-то судьба нанесла Ивану вероломнейший удар. Змей-искуситель, подлый, коварный Сема проходил по делу как мошенник, выдававший заведомо фальшивое за истинное, и получил три года. Услышав такой приговор, Ваня оттаял сердцем: может, обойдется условным сроком — ведь кто он? — мелочь, дурачок лопоухий. Из уст строгого прокурора прозвучало: «Прошу восемь лет…» Суд дал семь.
Так Лямзин столкнулся с превратностями закона. Превратности же заключались в том, что перевозимые бриллианты курьер считал настоящими, а потому совершал преступление, карающееся не как мошенничество, а как нарушение правил валютных операций.
Верховный суд, вняв апелляции гражданина Лямзина, скостил три года, но посидеть все-таки пришлось…
Прибыв по месту жительства, Иван тотчас занялся своим здоровьем: спасаясь от угрозы армейской службы… лег в больницу, откуда с диагнозом «язва желудка» явился в медкомиссию военкомата.
Четыре года исправительного труда выработали у Вани стойкое к труду отвращение, и никому, кроме как самому себе, служить Ваня уже не намеревался. Кроме того, отведав плод нетрудовых доходов, Лямзин, как и подобные ему «гурманы», тянулся исключительно к нему. Однако заработать большие деньги путем безнравственным — с точки зрения официальной морали, разумеется, — идея заманчивая, но и абстрактная. А все абстрактные идеи не приносят ни гроша — это Ваня уяснил. Так что вопрос «сколько заработать?» был не менее важен, как и вопрос «каким образом?».
Поначалу устроился поближе к дефициту — грузчиком в магазине, когда же раздобыл на совесть сработанный умельцем дипломчик — официантом в поезде… Вскоре последовала удачная своим разводом женитьба: супруга, получив компенсацию, прописалась к новому мужу, а Ваня очутился один в просторной двухкомнатной квартире. Пришла пора обустраиваться. По счастью, взяли «халдеем» в хороший столичный ресторан, и начал жить-поживать Лямзин под крылышком директора, очередного покровителя. Бегал Ваня по приватным директорским делам, выбивая себе тем льготы по службе; держал язык за зубами — этой науке он выучился на «отлично» и потому авторитетом и доверием у патрона пользовался заслуженно. Но хорошее, увы, проходит быстро. Грянула в стране борьба за трезвый образ жизни, оскудел поток чаевых, днем клиент сидел смурной в ожидании комплексного обеда, ибо деликатесы под компот — баловство.
Борьба за трезвость сильно Ивана смутила. Но вскоре заметил: начали с открытием ресторана приходить особо смурные — приходить как к оплоту последней надежды и, доверительно дыша перегаром, совать мятые червонцы выручай! И выручал Ваня, нес в нарзанных бутылках прозрачный напиток, куда более целебный для смурных, нежели богатая полезными минеральными солями газированная водичка. И куда как с большим энтузиазмом ходил теперь на работу Иван! Ящики спиртного штабелями стояли в его квартире, и не оскудевали запасы: благо имелись «концы» в трех магазинах с уютными лазейками для избранных.
Счастье, однако, привалило и отчалило. При проверке ресторана органами ОБХСС был Ваня обезврежен буквально «на лету», когда нес в зал, красиво держа мельхиоровый поднос, емкость с псевдо «Ессентуками».
Помотали нервы, погрозили, но обошлось легко: увольнением по статье.
Директор, тоже получивший по шапке за нерадивого подчиненного, все-таки снизошел к проблемам его нового трудоустройства. В приличные места, сказал директор, хода тебе в настоящий момент нет, но так, чтобы на хлеб хватало, пристрою. Есть у меня патрон, Ваня. Ищет себе он надежную шестерку. Пойдешь в шестерки? Тогда замолвлю словечко…
— Хоть шестеркой, хоть джокером, — отозвался уставший от невзгод Иван. — Только чтобы платили как валету по крайней мере.
Так встретился Ваня с Ярославцевым. Не прошло и первых пяти минут разговора с этим человеком, как Лямзин прочно уяснил: вот — босс! И какой! Куда до него прошлому вертопраху ниишному и идолам ресторанным, не говоря уж о хитреньких семах… И потому откровенно изложил Иван всю правду о своей жизни, со всеми ее неудачами и разочарованиями.
— Значит, Иван, так, — выслушав, без смешков, сопереживаний и вопросов, молвил босс. — Дам я тебе зарплату: триста рублей. Будешь бегать по министерствам с бумажками. Свободного времени гарантирую тьму, гонорары тоже устрою от случая к случаю, только работай честно. А дальше, проявишь себя, другое занятие подыщу. Но учти: финтить станешь, в самодеятельность потянет — петля! С гарантией.
И бегал Ваня полгода с бумажками, и зарплату получал исправно, и гонорары перепадали, и зарекомендовал он себя человеком исполнительным и неболтливым.
— Что ж, Ваня, — сказал босс через полгода, — отбегался ты, хватит. Зарплату не урезаю, но дело теперь будет иное… Вернее, два дела. Ты, как понимаю, по складу характера лентяй и домосед. Любишь, нежась на диванчике, глазеть в телевизор и мечтать о лучшей жизни, не выходя из дома… Не спорь, замечал. Вот и получишь работку в соответствии с природными наклонностями. Одно «но», надо, Ваня, научиться немного шить… Это — первое дело. Одновременно — новая полезная профессия. И доходы от нее к «зарплате» отношения не имеют. А то, что за «зарплату» делать придется — через месяц расскажу.
Срочным порядком выучился Лямзин шить зимние ушанки, законно приобретя на то лицензию. А с сырьем — в частности с ондатрой — крупно подсобил босс. Сколько на машинке настрочишь, столько и заработаешь — таков был принцип. Минус, конечно, естественные вычеты и проценты, но сумма прибыли все равно набиралась изрядная.
— Теперь — второе дело, — заявил вскоре босс. — За «зарплату». Одну из комнат в твоей квартире на время займет мой человек. Живи с ним мирно и дружно, к тому же не так часто будет он тебе досаждать своим присутствием… Но помни — каждое слово человека этого, каждый жест должен знать я — твой… шапочный знакомый, понял? Комнатку твою оборудуем соответственно: поставим некоторые механизмы на телефон, на прочее… И все-то ты, Ваня, строча шапочки, обязан фиксировать… За что и платится тебе зарплата. Идет?
— Мне нравится, — сказал Ваня. — Только вот одно: как бы не сесть за шпионаж?
— Исключено, — отрезал босс. — Время пройдет, поймешь, тут дела не внешние, а внутренние, причем не просто внутренние, а мои внутренние… Ты же — в роли частного детектива. А за это не сажают…
Вскоре в квартире появился здоровенный коренастый мужик, представившийся Алексеем. На жизнь Ваня не сетовал, шапки шились, деньги текли, а квартиру сосед навещал изредка, и замки на запертой теперь двери коммунального сожителя Лямзина не смущали. Когда же тот появлялся — бывало, что не один, врубал Ваня хитрую звукозаписывающую аппаратуру, а после его отбытия — из автомата, как условлено, брякал боссу, материал есть!
В сущность вмененных ему обязанностей Иван вник, руководствуясь элементарной логикой, и вник верно коренастый Леша, видимо, ходил в ближайших подручных у общего их руководителя, которому надлежало знать о всех телодвижениях особо доверенных подчиненных… Мысли свои по данному поводу Ваня откровенно высказал Ярославцеву, и тот ответил «Да».
— Значит, я — Ваня-филер, — резюмировал Лямзин. — Одновременно — содержатель конспиративной квартиры. Так! Возникает вопрос. На шапочках, спасибо вам, проживу я теперь без страданий всю жизнь. Так зачем искать приключений за дополнительные триста рублей? Отвечу сам, я вас уважаю, начальник. И знаю — поможете, когда фортуна повернется задницей. Это держит… Но мне нужны гарантии. И — никакого соучастия… За придурка я уже отработал с «брюликами».
— Ты не подставка, Иван, — ответил Ярославцев серьезно. — Ты страховка. Я ее выплачиваю, я ее и сохраню. Мое слово. За одно не ручаюсь: за твои собственные безграмотные начинания…
Иван поверил. Удивительно, но впервые поверил: тут он имеет дело с честным человеком.
СЛЕДСТВИЕ
На квартиру Льва Колечицкого мы прибыли немедленно по получении ее координат, но, едва оказались в прихожей, сразу поняли: искать здесь что-либо бессмысленно: опередили. И работали наверняка методично, без спешки, на совесть. Да и понятно: на себя работали, на безопасность свою и благоденствие. Ценностей, естественно, мы тоже не обнаружили: два тайника пустовали, исчезли несколько картин — пустые рамы валялись на балконе; видеомагнитофон с кассетами тоже был изъят: провода его подключения тянулись от телевизора к пустой нише.
Покойный жил широко. Собственно, этот единственный вывод мы и унесли из бывшей его обители. Опросы соседей ничего не дали: Лев сторонился их, даже на порог к себе не пускал. Перспективным материалом представлялась лишь куча пустых пыльных бутылок с балкона. Если Лев пил не в одиночку, на посуде могли сохраниться кое-какие отпечатки… Во всяком случае, просчет «рубивших концы» здесь виделся, если только не их уверенность, что экспертиза порожней посуды нам ничего не даст. Так или иначе — бутылками я решил не брезговать.
Командировка Лузгина в Ростов оказалась продуктивной: подтвердила личность Колечицкого, обозначила специфику его деятельности по сбыту краденого. Кроме того, шепнул Лузгину тамошний уголовничек, будто имелся у покойного дружок-автомастер, легко достававший любые запчасти и виртуозно производивший сложнейшие ремонты. Некто Толик. Дал уголовничек и общее описание Толика, с которым как-то по пустяковому делу — требовался распредвал «Жигулей» — он встретился, будучи в Москве. Вал был приобретен по спекулятивной цене, но данный факт значения не имел. А вот описание Толика сходилось с портретом человека реального — Анатолия Воронова — хозяина одного из гаражей в кооперативе. И в подручных у него числился Михаил Коржиков, таксист.
Воронова и Коржикова мы бережно пасли — этаких овечек, вернее, волчишек в овечьих шкурах. Понимали: они — всего лишь пешки, но через них открываются пути ко многому, и спугивать волчишек — не резон. Начальство соглашалось с моей осторожной тактикой, но, соглашаясь, напирало тем не менее: надо начинать посадки, покуда не кончилась весна. Объектом требовании такого рода обычно выступал Коржиков. Благодатный объект, действительно. Но недоступный. Прямых улик на него до сих пор не имелось.
Препоручив этих двух голубчиков Лузгину под опеку, я взял билет до Баку.
Местные коллеги из водной прокуратуры — люди щедрые, деликатные и гостеприимные, прислали за мной машину.
С коллегой, назвавшимся Изиком, прошли в один из портовых закутков.
— Ну вот, смотри, дорогой… — Гид откинул брезентовый полог с носа лодки, вытащенной на берег. Даже не лодки скорее баркаса, причем размеров внушительных — на такой посудине в случае кораблекрушения мог бы спастись экипаж эсминца. — На таких плавсредствах наши браконьеры и промышляют. Ничего?
— Больно здорова ладья, — отозвался я.
— Судно на суше — как чайка в клетке, — цветисто возразил Изик. — Специфики не знаешь, к «казанкам», видать, привык. Понятно, у вас — речки, у нас — море, у вас — рыбка, у нас рыба… Знаешь, сколько белуга весит? Центнеры! Отсюда и габариты, чтоб увезти ее. И не просто, а с ветерком! Лично наблюдай с вертолета.
— Ну, коли вертолеты есть, значит… — сказал я.
— Ничего не значит, — вздохнул Изик. — Натянут капроновые чулки на физиономии и жмут себе… Мы летим, они плывут. Снизишься не в меру, могут по бакам пальнуть народ отчаянный — большой риск, большие деньги. Да и море характер воспитывает; капризный у нас Каспий, штормы негаданно налетают, гибнет их, браконьеров, много — снасть-то ведь далеко ставится, километров за двадцать-тридцать, а ходят тянуть ее в ночь… Но я не о том. Тележку видишь?
Тележку… Лодка стояла на массивной, соответствующей ее размерам передвижной платформе. Колесами у платформы служили интересующие меня шасси от «Ту-154» — новенькие.
— Откуда резина, выяснили по номерам?
— Пока нет, но сегодня сообщат… Как, ничего работают, а?
— Да что им, покрышки от грузовой машины сложнее было достать? — в недоумении спросил я.
— Э-э, дорогой, — умудренно качнул головой Изик, — от грузовой машины не тот эффект. Во-первых, нагрузка: лодку, полную рыбы, на берег закатить надо, в укромное место, под крышу, а вес какой?
— А шасси, значит, браконьерам поставлял Лев Колечицкий?
— Он, — подтвердил Изик. — Опознали его наши подопечные. Икру у них брал, рыбу… В следственный изолятор сейчас поедем, сам побеседуешь.
По дороге в следственный изолятор Изик поведал мне интересную историю. Суть ее заключалась в том, что некто Султанов — молодой, но уже злостный браконьер — убил при дележе выручки за икру своего подельника. Убил на глазах свидетелей, сразу же сдался милиции и сразу же признался в убийстве. Дело скоренько передали в суд, а суд вынес суровый приговор: к исключительной мере… Тут-то случилось непредсказуемое: убийца — Султанов сделал заявление: он, во-первых, никакой не убийца, а лицо, взявшее на себя вину своего дяди, который воспитывал его с детства, в доме которого он жил; во-вторых, за признание в убийстве дядя обещал ему полмиллиона, досрочное освобождение и райскую жизнь в колонии с увольнениями на волю. В-третьих, обещания дяди подтвердили как небеспочвенные весьма уважаемые люди, и, наконец, в-четвертых, данный прецедент ссоры двух мелких браконьеров маскировал промышленный лов осетровых, промышленную их переработку и масштабную реализацию продукции налево.
После долгих проволочек, вполне естественных, ибо нелегко следствию и суду признавать ошибки, как бы ни оправдывались они объективностью обстоятельств, голову дурачка Султанова спасли. Дело пересмотрели. Миллионера дядю арестовали, выдал он ценности, сознался в убийстве строптивого «батрака», пытавшегося шантажировать его; поведал о созданных им бригадах рыбаков, о подпольном балычно-икорном цехе, завуалированном под филиал предприятия по ремонту судов на побережье… Убийство, по его словам, он совершил в припадке вспыльчивости, затмения, однако причина убийства, точнее — подоплека, была иной: полнейшая безнаказанность. К этому дяде, и не без оснований, все местные начальники на поклон ходили, искали расположения… Запугать и подкупить свидетелей, заставить заучить их нужные слова труда не составило. Полмиллиона племянничку он отвалил, не моргнув глазом, причем в присутствии некоего должностного лица, подтвердившего: иди, мол, в тюрьму с чистой совестью, не бойся, считай, зарабатываешь этим деньги, а уж там вытащим…
Вот такая история, полностью подтвержденная позеленевшим от пережитого ужаса и спертого воздуха камеры Султановым. Кроме того, в нашем разговоре всплыли детали, касающиеся дела, расследуемого мною. Покойного Колечицкого Султанов знал: пару раз по поручению дяди встречал его в аэропорту, а один раз перегружал из грузовой машины, на которой Лев приехал в Баку, шасси для тележки. Вот и все.
Дядя Султанова дал информацию побогаче: через Леву он поставлял множество вещей на Кубинку — черный рынок города; Лева же частенько брал оптовыми партиями балыки, икру…
Дядя вел беседу со мной очень откровенно — на откровенность, собственно, он теперь и рассчитывал — иного не оставалось… Но главного дядя сказать не мог, не знал: кто именно за Левой стоит.
— Его спроси! — горячо убеждал меня дядя. — Его, шакала, он меня подбивал… Риба, сказал, давай, большим людям надо! От самолет колеса достанут, мотор для лодка… Его спроси, нашалник!
Дядя рекомендовал верные действия, но неосуществимые, ибо должностное лицо, не дожидаясь ареста, решило уйти в мир иной от тюрьмы и позора.
Описание человека тем не менее дядя дал: невысокий коренастый блондин с серыми глазами, физически очень развитой («одын такой лодка без шасси в море затащит!»); лет сорока, одет по-спортивному, но изысканно, держится уверенно, неулыбчив…
Блондин этот, судя по соображениям дяди, подставлял Леву как самостоятельного скупщика, дабы избежать контактов с исполнителями.
— Рэфрижратор приехал, грузим, после — до свиданья. Номер фальшивый, вэрь! — убеждал дядя.
— Рефрижератор? — с тоской вопрошал я, представляя грядущий объем работы…
— Э, для отвод глаз рэфрижратор! — хитро щурясь, махал дядя рукой. — В военный часть тут же, в Азербайджан, а дальше самолет… Туркмения через море, Грузия через гора…
Вечером, ужиная в доме Изика, я поделился впечатлениями от допроса дяди: в частности, непрозрачными его намеками о самолетах «через море»…
— Бывает, — хмуро согласился хозяин, разминая сигарету. — Недавно до ворот части доезжаем, куда голубчики наши за минуту до того въехали, а в воротах — воин с автоматом наперевес. «Кто такие?» Прокурор, говорю, милиция. «А у меня, — отвечает, — приказ: никого не пускать. Что? Командир где? Занят. Политико-воспитательной работой. Опять же приказ: не беспокоить». И автомат поправляет… Ясно, конечно, в армии — не ангелы, потому и военная Прокуратура существует, но пока с ней свяжешься, глядишь — с аэродрома части самолетик поднялся… а-а! — Он в сердцах ткнул сигарету в пепельницу, переломив ее. — Ну, — сказал, — довольно о плохом. Воскресенье завтра, на дачу поедем, к морю…
ОБЪЯСНЕНИЕ
Вначале он решил заехать в коммунальное логово: проверить, все ли на месте, кто звонил. «Сосед» Ванька Лямзин за четвертной в месяц исправно выспрашивал у абонентов, кто есть кто, получая, естественно, имена-пароли: Иваном Ивановичем мог быть Петр Петрович, но дело он делал, а Матерый уж знал, как распорядиться информацией.
По дороге он тщательно проверил: нет ли хвоста? Напряженно всматривался в постовых: не сообщают ли по рациям, глядя вслед его машине, указания другим постам? Впрочем, если до такого дошло, не спасешься…
В дверь «логова» позвонил, как условлено, четыре раза. Дверь открылась, предусмотрительно оказавшись замкнутой на цепочку: Ваня был человеком опытным, к тому же грешил самогоноварением…
После приветствии и пустых вопросов типа «Как жизнь, как дела?» Ваня услужливо передал Матерому листок абонентов: имя-отчество, день, час.
Матерый молча вытащил два четвертных билета.
— Спасибо, — кивнул коротко. — Сразу за текущий и за последующий месяцы.
— Советую, — Ваня поднял палец, — облегчиться еще на одну бумажку. За идею, которая эту бумажку стократ окупит.
— Чего-чего?
— Излагаю, — невозмутимо продолжил вымогатель. — Я, простите, многие превратности на себе испытал, так что с понятием, хотя в чужие вопросы и не суюсь… Итак. Представляем: приходят вдруг… нет, дел я ваших не знаю, не сочтите за грязные намеки…
— Ну, валяй-валяй… — сказал Матерый.
— Ну, а вдруг в натуре?! — повторил Ваня с вызовом. — Приходят люди в серых шинелях и в штатском барахле — и, что характерно, к вам… Я, естественно, могу пострадать за домашний алкоголь…
— По кумполу желаешь, темнила? — миролюбиво спросил Матерый.
— Буду конкретнее, — покорно согласился собеседник. — У вас — шмон, ко мне — вопросы; а что я вообще знаю, кроме таблицы умножения?.. Ась? Когда будет? Не докладывал… Ну, и так далее. Ушли посторонние лица, а я… тоже, вслед за ними. И когда из двери подъезда выходить буду… Впрочем, — Ваня задумался, — может, и не ушли… понимаете? Но я-то — личность свободная. Так ведь, надеюсь?
— Надейся, — сказал Матерый.
— Во-от. Беру я мелок и, выходя из подъезда, закрывая дверь, так сказать, чирк им по двери этой… Вертикальную полоску под самой ручкой… Незаметно. Если «наружка» сечет, все равно не увидит, точно рассчитано. И — в магазин за кефиром… После — обратно, гостей потчевать. Не желаете молочнокислых продуктов? А вы на машине мимо проезжаете и… на дверцу подъезда рассеянный такой взглядик, между прочим…
— На. — Матерый протянул деньги. — Конспиратор. Заработал. — И, открыв дверь своей комнаты, тут же захлопнул ее перед Ваниным носом.
Осмотрелся… Все «секретки» на месте, сюда не входили. Ванька, сволочь, конечно, влезть может, сукин сын, дешевка, но крепится — боится, видать, стукачок… Хозяин его выставил в осведомители наверняка… А почему? Эх, прост вопрос. Тоже обезопаситься желает, тоже за шкуру трясется, тоже не уверен… И винить тут некого, закон таков. Сказать ему, может, что раскусил я фокус с Ваней, с комнатухой этой, с истинными целями благотворительности мол, сюда не придут, дублирующий вариант… Нет, не стоит. Неприятно обоим будет, вот и все. В принципе ведь лучше такую нору иметь, чем дачу под удар подставлять… Так что спасибо, Хозяин. И тебе выгода, и мне. Твой принцип, всегда я его одобрял…
Матерый с тоской оглядел пыль и грязь на свертках и коробках, заставивших комнату. Все это надо переслать Маше, это капитал. Раньше оттягивал с отправкой, лень одолевала, теперь необходимо поторопиться, время не ждет… Сейчас загружайся, немедленно. Сколько увезешь, но загрузи.
Коробки к машине таскали вместе с Ваней, выклянчившем попутно пару дисков для компьютерных игр — основного его увлечения.
С грузом Матерый поехал к Хозяину. Жил тот в аристократическом районе — на широком и гладеньком Кутузовском проспекте, в доме с высокими потолками и длинными коридорами — квартира эта досталась ему в наследство от некогда высокопоставленного тестя — ничего, впрочем, замечательного, кроме квартиры, потомкам не оставившего. Да и что он мог оставить еще после себя?
Встретила гостя жена Хозяина Вероника.
Точно и мило разыграли ритуал встречи — комплимент даме, улыбка, передача пакетика с вином и рыбой; общие вопросы с необходимой толикой юмора; наконец, рукопожатие с Хозяином, твердые, доброжелательные взгляды — глаза в глаза. Все фальшивое!
Посидели у телевизора, ругая штампы массовой культуры Запада и восхищаясь тонким вкусом вина, принесенного непьющим гостем; посудачили о последних новостях внутренней и внешней обстановки; затем Вероника, сославшись на трудный завтрашний день в НИИ, где работала начальником отдела, отправилась спать, и мужчины остались наедине.
Целуя на прощание руку хозяйки дома, Матерый внезапно постиг суть царившей здесь атмосферы — как бы единым озарением, которому предшествовала череда прошлых встреч, разговоров и реплик…
Это уже была не семья. Их, мужа и жену, удерживало вместе лишь прожитое, но не настоящее; и не в том заключалась беда, будто Веронике, воспитанной в определенных традициях, хотелось мужа обязательно при должности и общественном весе, нет; она просто привыкла видеть рядом с собой человека цельного, увлеченного и занятого делом пусть простым, но официально благословленным, принимаемым всеми без исключений. Муженек же, мало что ей объясняя, вертелся непонятно где, водил в дом всякую сытую шпану, жил не по средствам — а значит, нечестно, дурно. И блага, добываемые им, хотя и завораживали Веронику блеском, все равно отталкивали нечистоплотной своей сущностью. Наверняка с годами в ней притуплялось чувство брезгливости… Но Матерый уверен был: хотелось ей правды в устремлениях мужа, а тот постоянно разменивался, как бы ни пыжился казаться дельцом с размахом…
По старой привычке пошли на кухню, располагавшую к разговору тихому и доверительному.
— Чувствую, с проблемами гость явился, — улыбнулся Хозяин, заваривая чай. — И с крупными. Такое вино…
— Точно, — согласился Матерый. — Оставь чайник, присядь и слушай, чего я натворил. Внимательно. Хотя… насчет «внимательно» — само собой, иначе нельзя.
Он рассказал все. О кражах на железной дороге, об уголовничках-подручных, об оружии, некогда найденном в тайнике партизан, о Леве, попытавшемся обрезать концы, о «гаишниках», о том, наконец, как обманывал его, Хозяина, манипулируя на «честных» начинаниях: от дачных строительств до сбыта икры, мехов, сигарет, напитков, всякий раз убедительно обосновывая легальную по степени риска основу товара…
Хозяин откровенно нервничал, однако не перебивал. Изредка позволял себе отвлечься: варенье из холодильника достать, чашки, конфеты… У Матерого порой возникало ощущение, будто тот слушает магнитофон — знакомую, хотя и полузабытую запись, но отнюдь не собеседника, сам же размышляет о личном, давно выстраданном, мучительном, как будто все то, о чем рассказывалось ему, он сам же и совершил — когда-то давно, по глупости, а вот, оказывается, нашелся живой свидетель… И еще странное ощущение возникло у Матерого: исчезни он, замолчи, все равно Хозяин не встрепенется, не удивится, а так же будет конфетки в вазочку ссыпать, кипяток доливать в заварку…
Нет, в чем-то не прав был он, Матерый, рассуждая об отношениях в здешней семье… Не только вещами да деньгами привязал к себе Веронику этот человек, а еще и силой, сутью какой-то глубинной… И его привязал! Потому и сидит он сейчас тут, и щебечет попугаем обо всем без утайки, и ждет спасения — ведь так. Спасения! — веря в мудрость Хозяина, надеясь — есть у того козыри, способные спутать игру охотников и все в ней переиначить. Прощения ждет себе и понимания… Как высшего смысла ждет.
Рассказал. Все.
— Я не хочу тебя обижать, — сказал Хозяин, нарушив долгое молчание, воцарившееся после последних слов Матерого. — Но… Твоя трагедия заключается в том, что всю жизнь был ты, во-первых, романтиком, а во-вторых, мелким жуликом — жалким и недалеким. И пытался одурачить тех, вернее, того, кто желал тебе добра; хотел верить тебе, трудиться с тобой, строить какое-то будущее, искать совместные перспективы для нас обоих… Я безуспешно и глупо стремился перевоспитать бандита. Вижу: Макаренко из меня — никакой… Хотя сравнение идиотское — и по возрасту воспитуемого, и по возрасту века, и конъюнктуры его, и идеалов… Кое-что, однако, мне удалось: ранее для полного счастья и умиротворения ты мечтал красть в день по четвертному, затем — сотню, две, три. Из жулика мелкого стал жуликом средненьким. Вот результаты роста личности и плоды, увы, всей воспитательной работы. Рвач и разбойник так и остался рвачом и разбойником.
— Давай без ярлыков и поучений, — сказал Матерый уныло.
— Давай, — безучастно согласился Хозяин. — Ну, что ты хочешь услышать? Что-либо оптимистичное? Нет, ситуация плохая, неуправляемая и, уверен, безнадежная. Следствие идет, воспрепятствовать ему сложно, хотя есть некоторые… Нет, нереально. Одно скажу: попить чаек спокойно мы сегодня еще в состоянии. Механизм против нас работает неповоротливый, неважно оснащенный технически, с провалами в организационной структуре, но, поверь, хорошо информированный! Это поставлено, как радио, как телевидение: хоть что-нибудь, но каждодневно и в заданном объеме. Сетовать не приходится: такова система, и, согласись, оправданность такой системы несомненна. Вообще-то, — покривился, — беседа с тобой удовольствия мне не доставляет. Ты ведь под крах меня подвел… Но да ладно, истина такова: мы две главные крысы на одном тонущем судне: я умная, ты хоть и сильная, но взбалмошная и дурная.
— Мы же договорились… насчет ярлыков, — привстал Матерый.
— Это аллегории, — отмахнулся Ярославцев. — И не корчи, прошу, оскорбленную невинность… Вспомни лучше эволюцию своих подвигов: сначала грабежи в духе вестернов, затем шантаж богатых жуликов; после, когда уяснил, что такое занятие себе дороже, перешел в авторыночные «кидалы» с одновременным открытием школ каратэ. А когда шуганули твоих сэнсэев и дурачков под их началом, начал девок заезжей публике поставлять… Хороша карьера!
— А куда мне еще было? С биографией такой? — зло спросил Матерый.
— Дела с наркотиками налаживать, — сказал Ярославцев. — Логически оправданный, последний этап. Губить души, как травушку выкашивать, грести сказочные барыши, становиться исчадием ада. И самое страшное — получилось бы у тебя… Хорошо, я удержал. Для людей хорошо, не для меня. Я ведь, прости за наивность, стремился научить тебя жить и поступать честно. Может, порой и вразрез с юридическими формальностями, но честно по внутренней сути. Чтобы и сам зарабатывал, и другим заработать давал, но, главное, чтобы способствовал процветанию — не побоюсь обобщить — общества в целом. Но тебя не устраивал ограниченный, хотя и приличный заработок. Ты хотел хапнуть побольше. А я, дурак, тебе верил… Не скажу, чтобы очень, но на поводу у тебя шел… Внимал легендам и мифам об обреченных на гниение фондированных материалах, о контейнерах — якобы потерявшихся и запоздало, когда были уже списаны, обнаружившихся… Многому другому. Врал ты искусно, доказательства приводил идеальные, аргументы конъюнктурные, хотя, начни я оправдываться ими перед коллегией по уголовным делам, был бы выставлен, как жалкий лгун, оскорбляющий интеллект судей… Короче. Ныне со всеми благими намерениями я очутился, коренным в одной упряжке с уголовным сбродом. А в общем-то… — добавил тихо, — признание твое не открытие. Фактура любопытна и в чем-то внезапна… Но да что она решает? Тем более под сенью наших начинаний много развелось тебе подобных. Грешат они самодеятельностью и так же сводят между собой счеты. Так что не с новостью ты явился, а с подтверждением известного вывода: надо бежать… Об этом мы уже как-то деликатно друг другу намекали.
— Я отдам тебе деньги. Всю твою долю, — сказал Матерый.
— Все зажуленное? — перевел Ярославцев. — Леша, да разве это главное? Жизнь мы с тобой профукали, а ее не компенсировать. Ты как убить-то смог? Ужель и не дрогнул?..
— А просто это. — Матерый поднял на него больные, искренние глаза. — Первый раз сложно. А после — чего терять?
— Так, может, и меня заодно?
— Думал… — Матерый опустил голову. — Но не ты ко мне ведешь, а я к тебе… Несправедливо.
— Гляди, а жизнь-то… страшненькая штука… Быт то есть, — сказал Ярославцев. — Ну, да все равно — спасибо. И тебе я благодарен. Не смалодушничал, не смылся, а пришел и рассказал. Пусть страх тобою двигал, поддержки ты искал, совета, как глубже в ил зарыться, но все же… Совет, кстати, я тебе когда-то дал в шутку. Но его ты, по-моему, воспринял всерьез. Как, стоит уже домик на морском берегу? — Хмыкнул.
— Не пахнет там морем, — отрезал Матерый.
— Хорошо. Значит, в тайге. Но, как бы там ни было, туда не спеши. Паниковать не стоит. Нам надо завершить массу дел.
— То есть ты считаешь…
— Погоди. — Хозяин встал, прошел в коридор, настороженно прислушался. — Тише, жена спит… Я считаю, в бега подаваться рано. Худо-бедно, но превентивные меры всяк по-своему мы продумали. Их надо попросту укрепить уже тем, что диктует конкретная ситуация. Спросишь, почему именно так рассуждаю? Потому что бежать — стыдно. Мы ведь феномен политический, хотя и трансформировавшийся в уголовный… А знаешь, в чем ошибка наша? Не верили мы в перемены, а наступили они, и мы обозначились как символ всех прошлых заблуждений. И лично моя ошибка — не с теми дело начал, не то дело и не так. Теперь реалии: есть уголовники — ты да я, пытающиеся избежать возмездия. Каким образом? В ход следствия не влезешь, выводы его не изменишь. Другое время, да и кровь тут… Значит, надо методично сжигать за собою мосты…
— Огня на них не хватит! — вырвалось у Матерого.
— Да, — кивнул Ярославцев. — За каждым из нас тянется шлейф, сотканный из забытых нами мелочей, которым мы и внимания не уделяли. А Лев… знал тех, с кем мы встречались каждодневно. Конечно, умный следователь выйдет на нас обязательно. Но ошибки бывают и у умных. И счастье бывает у дураков… Улыбнется оно — езжай в свой домик спокойно и чинно, а я тоже что-нибудь себе придумаю. Новое, скажем, занятие… Но сначала закроем все точки, где Лева как-то фигурировал…
— Известные нам точки, — поправил Матерый. — Да, думал. Но как? Подъехать и распорядиться об окончании работ? Кто послушает? Многие своего еще не добрали, многим просто понравилось.
— Перекроем кислород, — сказал Хозяин. — Не будет сырья, механизм застопорится. Не будет лазерных дисков и дешевых оригиналов, конец видеописателям. Не будет леса и кирпича, бросят шабашники пилы.
— Теперь они умные, сами источники найдут. Преобразуются в прогрессивных кооператоров, наконец.
— Найдут, — согласился Хозяин. — Но наступит полоса затишья. А пока ты кое-кого пугнешь — боевичков, кстати, своих, каратистов привлеки, кому-то про закон напомнишь, благо юридически подкован, кого-то исходного материала лишишь или базы… Надо пустить машину хотя бы на холостые обороты… Ясно?
— Скажи, — покривился Матерый, — а чего ты за привычное цепляешься? Семьей дорожишь? Но у тебя же все это прожитое, в золу обращенное. И семья, и работа… все. Тебе заново надо. Это мне — на покой. А тебе — заново. Потому что есть еще порох… И другой вопрос: ты ж как поп был, проповедуя идейность наших мероприятий. Неужто и впрямь в нее верил? Или просто утвердиться хотел, когда за бортом оказался и в одиночку за кораблем поплыл?
— В одиночку? Не скажи.
— Ну, я с тобой рядом барахтался…
— Ты? Ты с другого корабля. С разбитой пиратской бригантины. Разбитой еще в архаическом прошлом.
— Так или иначе, — сказал Матерый, — на борт нас не подняли. В кильватере мы гребли, а сейчас команда винтовки неспешно чистит, чтобы и кильватер тоже свободен был. — Помедлил. — А в принципе все закономерно. И что с ворьем ты связался и что ворью уподобился. Думаешь, нет? А ты бы сейчас себя со стороны послушал… А уж если показать тебя сегодняшнего тебе вчерашнему… у-у! Кошмарный сон. Но и смешной ты кое в чем: хотел тут один корабль на плаву удержать, будучи за бортом…
— Да не за бортом, — протянул Ярославцев раздраженно. — Вцепился, понимаешь, в сравнение. Просто меня разжаловали. И даже не столько люди, сколько обстоятельства.
— Ошибаешься, — возразил Матерый. — Разжалован — значит, шестерка, а шестерка все равно в колоде. А ты откололся. Напридумывал иллюзий и начал ими жить. Нас, сброд, призывал работать на государство! Причем нам — крохи, государству куски. Мы не перечили, да, ты для нас то являл, чему мы подчинялись беспрекословно с детства! И оставался нам лишь обман — привычный. Соглашаясь с одним, втихую творить другое. А нынче ты тоже наш, уголовный, хоть и с завихрениями некоторыми. Потому долю тебе я верну. Долю, понял? Прощай, человек с будущим, которое в прошлом. Как мосты жечь — знаю, не волнуйся.
— Прощай, Леша. Если ты переселился в данную оболочку из флибустьера, то в следующей жизни быть тебе космическим пиратом. Каким бы лучезарным ни явилось будущее. По крайней мере место нам в нем найдется. Тебе уж точно. Волк нужен стаду, он его санитар.
— Для выездной сессии это законспектируй, — буркнул Матерый. — Как обоснование высшей меры. Особый цинизм, скажет прокурор, ярая антиобщественная позиция, гнилая философия подсудимого дает мне полное право просить… И так далее. Ну, пока!
СЛЕДСТВИЕ
С утра состоялся неприятный разговор с шефом, которому, видимо, накрутили хвост наверху. Шеф упрекал в медлительности, отсутствии решимости, говорил, что с Коржиковым пора кончать, и вообще выражал недоумение вялым ведением следственных и оперативных действий. Я выслушивал его хладнокровно, не перебивая. Шеф был не прав он оперировал категориями топорными, сугубо административными, а у меня имелись серьезные контрдоводы, способные привести его в чувство… И я знал фразу, которую выскажу шефу, когда он закончит свои комментарии и наставления. «Ваши пожелания, — скажу я, — играют на руку преступникам». Ох, и оторопеет шеф… Пауза повиснет, первое недоумение в глазах начальства сменится откровенным гневом, а тут я и выложу последние новости.
Но покуда сладостный момент моего триумфа еще не приблизился. Покуда журчала нотация, долгая, нудная, однако дающая мне время еще и еще раз взвесить все «за» и «против».
На днях выявился источник, откуда нумерованные покрышки от шасси «Ту-154» поступили в пользование браконьерам. Встретился я с ответственным хозяйственником одного из столичных аэропортов, который не колеблясь признал: дескать, да, было славное дело — отдали некоему лицу эту резину, однако согласно распоряжению свыше. Устному, увы, распоряжению, но свидетели имеются. Распоряжался же сам Петр Сергеевич, сказав: подъедет от меня человек, которому вы обязаны помочь. В интересах, безусловно, народного хозяйства. Авиация же, добавил хозяйственник, как армия: приказано — закон!
Я, не вступая в спор относительно закона, предъявил хозяйственнику фоторобот блондина, выходившего на связь с должностным лицом в Баку.
— Он! — воскликнул хозяйственник. И спросил затем доверительно: — Мазурик, да?
На прием к Петру Сергеевичу пришлось пробиваться через заслон многочисленных помощников, секретарш, но в итоге рандеву состоялось. Смотрел на меня Петр Сергеевич как на нечто назойливое, мелкое, комарику подобное; указание свое насчет покрышек поначалу не припомнил, но, ознакомившись с показаниями подчиненных, память свою без охоты, но пробудил: да, согласился, просили негодные шасси из некоего учреждения, занимающегося рыбным хозяйством. То ли для ремонта судов, то ли…
— Списанные, негодные шасси, — уточнял он, увлекаясь идеей и экспромтом обогащая ее. — Я… что же? Вник. Возможно, позвонил.
— Позвонили, — уверил я. — И приказали выдать дорогостоящие детали. Без ссылок на их годность или негодность.
— Помилуйте, зачем рыбному хозяйству новые шасси? — заулыбался Петр Сергеевич. — Кстати, — прибавил, внезапно посуровев, — могу дать объяснение вашему начальству… На любом уровне…
— Вашу инициативу ограничить не вправе, — ответил я и, плюнув на весьма вероятные неприятности, вытащил из портфеля бланк протокола допроса.
Бланк произвел на Петра Сергеевича впечатление убийственное. Я даже не ожидал… В ход пошли какие-то невнятные слова, заверения, растерянные угрозы и посулы… Затем, столь странно преобразившись, Петр Сергеевич начал категорически придерживаться версии о негодных шасси и об угодливых подчиненных, совершивших преступление. Выяснился и непосредственный заказчик шасси: некто Ярославцев, консультант одного из министерств, судя по характеристике Петра Сергеевича, человек весьма пробивной и значимый во многих сферах, включая юридическую…
Предъявленный фоторобот блондина Петр Сергеевич не опознал.
— Да он же, Ярославцев, меня вскользь попросил… — твердил он, бредя за мной к выходу из кабинета. — Вскользь… А подчиненные просто неправильно поняли, я разберусь…
— Петр Сергеевич! — Я резко обернулся к нему. — Могу дать вам очень добрый совет. Очень добрый…
— Да-да?
— Петр Сергеевич! Главное сейчас, чтобы некто Ярославцев ничего… вы понимаете… ничего из нашего с вами разговора для себя не вынес…
— То есть… могила! — Заверяюще прижались руки к груди. — Абсолютно!
В искренности последних слов и последнего жеста я не усомнился. Петр Сергеевич определенно был не дурак!
А сегодня с утра Лузгин начал уже отрабатывать данные по Ярославцеву…
Шеф закончил гневную речь, я попросил слова и, отринув приготовленные фразы, сухо доложил о последних результатах работ. Заверив, что в течение самого скорого времени Коржиков будет арестован. Но не по поводу убийства…
— То есть? — озадачился шеф.
— Напролом пойдем — дело погубим, — сказал я, глубоко убежденный в своих словах. — Убийства вас смущают? Кровь взывает к отмщению? Но убийства-то — всего лишь отголоски других историй, нам неизвестных. А для их прояснения нужна информация, а не аресты. Надо терпеливо завести невод в омут. И тянуть его, когда перегородим все выходы. Чем и занимаемся. А потому нужна помощь: много людей и много техники…
— Сначала разберемся с Коржиковым! — Шеф стукнул по краю столешницы ребром ладони. — Каким образом вы…
— Разрешите доложить завтра? — попросил я. — Сегодня Коржиков должен нам крупно помочь. Очень крупно.
— Не морочь мне голову! — Шеф повторил удар по столешнице, на сей раз кулаком. — Сплошные таинства! Чтобы завтра…
Когда я очутился у себя в кабинете, то крепко призадумался об ожидаемых событиях сегодняшнего дня.
Сегодня благодаря кропотливой работе оперативников следствие входило в фазу первого результата.
Таксист Коржиков, крутившийся возле своего работодателя Воронова, был фигурой достаточно примитивной: рвач на подхвате, не брезгующий любым заработком — будь то трояк, будь три тысячи. Деньги олицетворяли его религию и его божество одновременно. Воронов же представлялся типчиком позанятнее. Во всяком случае, благодаря сведениям, грамотно выуженным из старожилов кооператива, путь его социальной эволюции вырисовывался наглядный и в чем-то даже типичный.
Школа, армия, после — завод, где Толя сразу же выбился в передовики, причем по праву: руки, у него были золотые, металл он любил, знал и знание это решил применить для восстановления старенького «Запорожца», приобретенного заодно с боксом в кооперативе на все трудовые сбережения. Специфику автодела освоил походя, и, когда завершил ремонт, знатоки утверждали, будто отличить машину от сошедшей с заводского конвейера было попросту невозможно. Прилежно Толя работал, халтуры не выносил органически… За машину предложили сумму, вполне Толю устроившую. Расстался он с «Запорожцем» без сожаления, хотя всего-то пришлось покататься дважды: от магазина до гаража и от гаража до магазина. Зато появились деньги. И купил на них Толя битые всмятку «Жигули», которые через месяц не отличались от новых…
Началось переоборудование гаража… Затем гараж Анатолия расширился за счет смежного, преобразованного в камеру для сушки-покраски. Шефам кооператива, естественно, выплачивался «налог» за молчаливое согласие, пайщики, зависящие от услуг Толи, тоже не распускали язык, и вскоре стиль жизни новоиспеченного мастера сильно изменился: поработав спустя рукава за зарплату на заводе, он шел зарабатывать деньги…
Имелся у Воронова к настоящему времени собственный автомобиль «вольво», да и не только «вольво», а в кооперативе появились у него разного рода подручные, снабженцы. И стал Толя человеком обеспеченным. И жаден стал невыносимо — так поговаривали о нем сквозь зубы зависимые пайщики. А на заводе в нем тоже изрядную перемену заметили, хотя с выводами не спешили, даже несмотря на факты мелких очевидных краж: инструмента, краски, растворителя, ибо начальство предприятия, также имевшее личные автомобили, ценило Толину дружбу.
Поначалу закралась ко мне мыслишка: тряхнуть, что ли, умельца этого как «несуна»? Но мыслишку я не без помощи Лузгина отверг. И вот почему. Автомобиль «ВАЗ-2106», обнаруженный в лесу поблизости от места убийства «гаишников», принадлежал Льву Колечицкому. Исследуя машину, один из экспертов, завзятый автолюбитель, обратил внимание на несоответствие даты выпуска общему ее состоянию. Машине, судя по всему, было месяцев шесть от роду, тогда как согласно техпаспорту появилась она на свет три года назад. С немалым старанием установили номера кузова и двигателя подлинные, однако вварены как отдельные куски при помощи неизвестных технологичных методов.
Толя? Тогда ай да Толя! Но как доказать? Лева хранил воистину гробовое молчание, а Толю лишь предстояло разговорить. Думали же мы так: опытный водитель, он же опытный уголовник Коржиков угоняет машину, соответствующую по признакам той, что сдается в основательный ремонт, старая техника расчленяется на запчасти и металлолом; довольный клиент платит гонорар мастеру, не вдаваясь в подробности, а потерпевший от угона получает страховку.
Сопоставив эту типовую в общем-то версию с информацией по угонам и с наблюдениями старожилов кооператива о тех машинах, что в последнее время заезжали в гараж Анатолия, я косвенно версию подтвердил. Собрались и прямые улики: Лузгин выявил кое-кого из осчастливленных клиентов…
Угоны профессиональные, спланированные с целью наживы, не так уж часты. Обычно машину заимствуют напрокат из побуждений хулиганских и вздорных. Хулиганов задерживают, как правило, легко и быстро, хотя зуд в своей мятущейся душе они в итоге удовлетворяют — автомобили возвращаются к хозяевам изрядно изувеченными.
Список «пропавших без вести» по городу не ошеломил, не такой уж он был и внушительный. Но Толя за списком вырисовывался…
А вчера позвонил Лузгин и сообщил: Анатолий осматривал седьмую модель «Жигулей», в пух и прах разбитую, восстановлению не подлежащую, однако для ремонта ее запросил максимум неделю. Когда договорились с клиентом, машину вывезли за город, в установленное, как с нажимом подчеркнул Лузгин, место Коржиков доставил ее в крытом кузове грузовика.
Далее наблюдение за Коржиковым не осуществлялось по причинам чисто техническим, но сегодня утром, перед сменой, он заехал в кооператив, где поставил в Толин ремонтный бокс новенькую «семерку» с номерами «семерки» битой.
Справка происшествий по городу подтвердила угон… Так начался день сегодняшний.
В 16.00 Коржиков навестил «установленное место», где хранилась битая машина, и, изъяв из нее некоторые принадлежности, носившие, очевидно, характерные приметы, выехал обратно в город.
В 17.15 заднюю дверцу его такси процарапала боковиной бампера «Волга» с водителем-новичком, и начался разбор происшествия.
В 18.00 Толя Воронов вошел в гараж, плотно закрылся изнутри и включил газовую горелку.
После этого сообщения я запер кабинет снаружи и направился к ожидавшей меня оперативной машине, где находился Лузгин.
В 18.30 сотрудник ГАИ, тоже «новичок», долго и трудно разбиравший простейшее ДТП, отпустил Коржикова, перегрузившего возле таксопарка «характерную мелочишку» в личный автомобиль, на котором в 19.08 проследовал в кооператив…
Выслушав последний доклад по рации, мы с понятыми дружно вышли из машины.
Через пять минут гражданина Коржикова вновь задержит ГАИ и некоторое время будет дотошно проверять его документы. В случае непредвиденных обстоятельств, зависящих от поведения Воронова, Коржикову предстоит пройти оскорбительную проверку на трезвость…
На территорию кооператива мы проникли через забор во избежание объяснений со сторожем — приятелем Коржикова.
Подошли к боксу. Из дверей ядовито тянуло синтетической краской и слышалось шипение кислорода: заканчивались покрасочные работы…
Я постучался в дверь. Шипение стихло. Затем за дверью ощутилось некое встревоженное движение, после — пауза… Наконец звонкий голос произнес:
— Да!
Слово было короткое, но высказали его настолько грубо и презрительно, что невольно подумалось: сюда стучатся обычно либо надоевшие попрошайки, либо такие же, как и тот, находящийся за дверью, хамы.
— Электронадзор, — представился Лузгин строгим деревенским баском. — Открывайте!
— Машина сохнет, не могу, — прозвучало настороженно. — Нечего пыль пускать, гуляйте, нормально тут все, проводка в порядке…
— Зафиксирована утечка, — с купеческой какой-то солидностью изрек Лузгин, а затем пригрозил ОБХСС: вызовем, мол, немедля…
Послышался приглушенный мат, лязгнула щеколда затвора, и мы скопом вломились в гараж.
— Стоять на месте, уголовный розыск, — вяло предупредил Лузгин.
— Та-ак, — выдохнул Толя, сдирая с жилистой шеи респиратор и бросая его на верстак. На предъявленные документы внимания он не обратил, отмахнулся.
Я поднял капот. В нише водостока, на номере кузова, узрел свежую гладь краски. Извлеченный двигатель стоял в углу, прикрытый рогожей. Я стер краем рогожи налет грязи с плоскости блока. Номер был тот, с угнанной машины.
Лузгин тем временем извлек из урны для отбросов вырезанный из краденого кузова кусок с выдавленными цифрами… Затем, вновь защелкнув щеколду на двери, включил вентиляцию. Все, как и предусматривалось планом — гул лопастей не мешал нам вести неслышимую снаружи беседу.
— Душновато у тебя, — мирно обратился Лузгин к Воронову. — Легкие не бережешь, гадостью всякой дышишь… Так и надышишь себе рачок.
— Не пужай, сердобольный доктор, — ответил тот.
— Товарищи понятые… — начал я, но речь мою прервал стук в дверь. Радостный голос произнес с энтузиазмом:
— Толик, змей, открывай калитку! Я это! Ну навонял, ну, трудяга, ну…
Толик покосился в сторону возгласов недоуменно и скучно: мол, кто бы ответил, какого такого дурака принесло?
Лузгин гостеприимно растворил ворота.
Радостная и одновременно заискивающая улыбка на лице Коржикова в одно мгновение при виде нас сменилась бледным ужасом.
— Входите, гостем будете, — пригласил я. В руке Коржикова обвислая сумка с «характерной мелочью» из похищенной машины, но обращать внимание на сумку в наши планы не входило.
— Да я… — промямлил он, — вопрос вот имею к нему… — Указал скрюченным пальцем на Анатолия.
— Какой вопрос?
— Да вот… дверцу поцарапали мне сегодня, — нашелся Коржиков, слегка оживившись. — Краска нужна.
— Ваши документы, — зловеще протянул руку Лузгин, и, словно укушенный залезшим под рубаху насекомым, Коржиков поспешно полез куда-то глубоко за пазуху, причитая:
— Вот день! А? Вот день! — И извлек документы.
Пока документы просматривались с полной, разумеется, серьезностью, корректностью и всякими соответствующими вопросами, я продолжил спектакль.
— Итак, — обратился к Воронову, — зачем, позвольте полюбопытствовать, вы извлекли из краденой машины двигатель? Хотели узнать, что у него внутри? Перефразируя известного литературного героя О. Бендера, спешу пояснить: внутри новая поршневая группа, коленчатый вал без задиров и девственный распределительный вал.
— Правильно, — согласился Анатолий. — Но таково желание клиента протереть все это девственное сульфидом молибдена для пущей прочности…
— А как быть с фальшивым номером кузова?
— Это уже допрос? — резонно заметил Воронов.
— Еще нет. — Я мельком обернулся на Коржикова, уважительно гримасничающего перед Лузгиным.
— Вот… товарищ Коржиков, — надувая щеки, звучно представил его Иван Семенович. — Работник, значит, таксопарка.
— Дверь мне сегодня… — повторился работник жалостливо. — Ну, решил красочкой поразжиться, а тут, чувствую, момент…
— Тут не момент, ситуация, — ответил я. — Не откажетесь, кстати, присоединиться к понятым? С краской осечка вышла, бокс мы опечатаем, судьбу каждого предмета выясним, а вот коли желаете оказать помощь следствию…
Коржиков, встрепенувшись, всем видом выразил глубочайшую заинтересованность и готовность номер один.
Далее, по составлении протокола понятому Коржикову была предоставлена свобода действии, и он поспешил немедленно ею воспользоваться.
Когда же на ворота гаража накладывались печати, подошел сторож кооператива, с места в карьер начавший оправдываться тем, что поставлен следить за порядком, а за беспорядок не отвечает…
По пути в УВД города по рации получаем ту информацию, ради которой, собственно, выпендривались:
«После ухода из гаража Коржиков сел в машину. Ближайший телефон-автомат, находящийся возле кооператива, оставил без внимания. Вторым на углу, возле пересечения с главной дорогой, воспользовался. Номер абонента установлен».
В управлении мы первым делом прослушиваем запись разговора.
— Матерый, приветик… — звучит знакомый голос таксиста.
— Ну!
— Толик сильно приболел. На тачке продуло. Прихожу, а там доктора. Диагноз поставили — один в один!
— Откуда звонишь!
— Да тут все тихо. Из автомата. С улицы. Ни души, даже страшно, хе…
— Похекай-похекай…
— От нервов, ладно те…
— Как было?
— Как, как… Залетаю к нему, там доктора. Меня заодно прослушали. А потом, слышь, потеха — в ассистенты записали… А Толик крепился. Четко. Как дуб под ветрами.
На другом конце провода помолчали. Видимо, неизвестный абонент с хрипловатым баритоном всерьез призадумался. И потому, как призадумался, я понял: соображает — провокация данный разговор или же… Сообразил правильно: провокация нелогична.
— Вот что, Коржик-бублик, — прозвучало озабоченно. — Боюсь, заразит нас Толя, злокачественная у него хвороба. Завтра давай к двенадцати дня греби к Виталику на набережную. Пожуем там и… увидим, в общем.
Гудки. Конец записи.
Лузгин устало оглядел сгрудившуюся возле магнитофона оперативную группу.
— Поработали, ребята, — подытожил тихо. — Теперь всем спать. До шести утра. Действует только служба наблюдения за Бубликом этим. Завтра, вероятно, будем его брать. Свое он нам сегодня отыграл как по нотам.
Опергруппа покинула помещение, а через пять минут Лузгин и я любезно предлагали Анатолию выбрать себе местечко поудобнее.
Допрос я построил не на основе фактов сегодняшнего дня, их обходил, зная, если ими давить, начнется: спать хочу, не имеете права… Пошел по принципу спортивной борьбы: противника поначалу надо легонько толкнуть, вывести из равновесия, а тут уж он на прием и напорется…
Начал со знакомств: кому машины ремонтировались. Услужливо приводил известные допрашиваемому имена. С явным, естественно, попаданием в криминал… Толя то взвинчивался, то замыкался, а я, фиксируя точность попаданий, с шуточками-прибауточками дожимал линию прорыва на откровенность.
— А вот Виталик с набережной, — посмеивался я. — Чего насчет него скажешь? Тоже не знаю, не ведаю?
— А он-то при чем? — искренне возмутился Толя. — Ну, рихтовал я пару раз «форд» его по пустякам — крыло, капот… По-дружески, чтоб пиццей приличной угостил при случае…
— Да откуда у него приличная… — подал я саркастическую реплику.
— Не, у них в пиццерии прилично готовят! — уверил Толя и горько поджал губы, сознавая, видимо, что пиццы теперь ему не видать долгие лета…
«Значит, в пиццерии встреча…»
— Ну, а Коржиков? — продолжил я без интереса. — Он вроде Виталию друг?
Фокус не удался: Толя передернулся, как лошадь, укушенная слепнем, постигая коварную подоплеку вопроса, а затем с вызывающе будничной интонацией произнес:
— Спать хочу. Права вы не имеете в это время…
Я вызвал конвой.
— Спокойной ночи, — механически сказал на прощание Воронову.
А вот тут Толя психанул. Мое пожелание было воспринято им как изощренное издевательство.
— Умри, чучело! — вылупив глаза, заорал он, остолбенев от ярости. — Инквизиторы… иезуиты! Чтоб вас…
— Заткнулся бы ты, парень… — в упор глядя на него тяжелым взглядом, произнес Лузгин, надвигаясь неспешно и грозно.
Воронов замолчал, глядя на нас исподлобья.
— И сообразил бы, как правильно себя вести, — продолжил Иван Семенович. — Дел на тебе повисло — виноградные гроздья. Улики налицо. И помочь нам — прямая выгода. О чистосердечном признании, раскаянии, прочих материях толковать не стану — то не про вас романсы. А вот о выгоде… Ты ее всегда искал. Ищи и теперь.
— Практически рассуждать призываете? — спросил Толя ядовито. — А я и рассуждаю практически. Приду из тюряги гол, бос, к кому путь держать? А к тем, кого сейчас вы сдавать рекомендуете. Положим, сдам за мелкое к себе снисхождение. А после? Кто накормит-напоит, работенку подкинет? Или вы меня в прокуроры устроите?
Конвоир в дверях шумно вздохнул и потоптался нетерпеливо.
— Выйдите пока, — кивнул ему Лузгин и, дождавшись, когда дверь закроется, продолжил: — Верно, Толя, выдадут тебе бесплатную пиццу за твердость позиции, проявленную в казенном доме. Но расплатишься ты за нее в итоге по расценкам лихой ресторанной гулянки. И про благотворительность корешов своих мне не толкуй, и себя ею не тешь. Теперь выдам тебе секрет. Крутим мы историю, в которой много разного — от убийства до хищений. Транспортное обеспечение истории — твоя заслуга. И Коржикова… В общем, смотри.
— А как насчет… подумать? — Воронов пырнул его косым взглядом.
— Не так ставишь вопрос, — сказал Лузгин. — Тебе нужно время набраться смелости и все хорошенько припомнить… Не возражаю. Однако решает следователь…
— Согласен, — сказал я. — Полсуток, надеюсь, хватит. Время пошло.
ПЕРЕЛОМ
Телефон звонил долго, нудно, безжалостно буравя непрочный сон, пришедший к Ярославцеву лишь под утро — всю ночь он промаялся в беспокойстве и безысходности воспаленных мыслей, прочащих скорую беду… И — сбылось предчувствие!
— Это я, — прозвучал голос Матерого, вклиниваясь в парализованное дремой сознание. — Слышь! Все плохо! В Баку гроза, в Ашхабаде… Тольку Воронова помнишь? В клинику отвезли… Началось, в общем. С шасси этими прокол, точно, номерные они… Не случилось чуда! Пора в поход… Еще звонить или как?
— Не надо, — пробормотал Ярославцев слабым спросонья голосом. — Единственная просьба, центральные точки постарайся все же прикрыть.
С минуту он еще лежал с закрытыми глазами, думал. Искал хотя бы тень надежды. После трезво осознал: да, чуда не будет. Грядет гроза. Неумолимо.
Встал, запахнувшись в халат, прошел в ванную.
«Идешь воровать, один иди!» — тупо ударила в виски зазубренная истина. Стоп… Он же не воровать хотел, не воровать!
Очередное утро, столь похожее на все предыдущие. Привычные, милые мелочи повседневного быта. Все кончается. Кончится и это.
Он пил утренний, крепко, до черноты, заваренный чай, рассеянно глядел на кота, воодушевленно дурачившегося с мотком шерсти, гонявшего его из угла в угол, и слушал мягкое, переливчатое треньканье телефона, чья упорная электроника пробивалась, согласно программе, к плотно занятому номеру нужного абонента.
Длинный гудок. Наконец-то!
— Зинаида Федоровна? Ярославцев беспокоит… У нас на ближайшее время в министерстве никаких турпоездок? Румыния? Был, знаете ли… ФРГ? Большая группа? Так, вообще любопытно… Что, осенью круиз? Увы, Зинаида Федоровна, дорого. К тому же до осени еще дожить надо, а вот ФРГ… Ну, запишите. За мной подарок, богиня вы моя… И — без возражений, а то обижусь. Договорились!
Положил трубку. Турист… Авантюрист. Какая еще к чертям турпоездка! Прошу политического убежища, спасаюсь от преследования, как идейный уголовник? Или от нечего делать звякаешь? Соломинки в бушующих волнах под руками нащупываешь? Нервный ты, оказывается.
Он отставил чашку. Обхватил голову руками. Неужели все-таки придется сделать этот шаг, неужели?.. Да, придется. Ты уже много раз мысленно совершал его, ты уже пробовал, насколько прочны нити, и знаешь, как болезненно рвать их — соединяющие тебя и все, чем жив: прошлое твое, землю твою, близких. Но ты сумеешь порвать. Инстинкт самосохранения — волчий, безоглядный — сильнее… Гибнет растение, вырванное ветром и унесенное прочь, но ведь бывает, приживается оно на иной почве, бывает…
Да и что тебя соединяет с этой страной? Люди? Какие? Сослуживцы? Да у тебя их и нет, — они статисты в театре, где ты актер и единственный зритель. Друзья? Их вообще никогда не существовало. Были товарищи. По работе, по делу, по делишкам. Затем — друзей выбирают. А ты раньше выбрать не мог. Тебе вменялось дружить исключительно со своим кругом. Либо с кем-то из круга повыше. Но не с самым верхним, ибо тому кругу с тобой тоже дружить было не положено. Отчасти потому и тянулся ты к Матерому, и помогал ему, и наставлял, вопиющим образом нарушая правила игры и наивно полагая, будто нарушение ненаказуемо…
Жена, дочь? Тут ясно. Вероника выйдет замуж, сохранив туманное сожаление о бывшем супруге-неудачнике и весьма конкретное сожаление о своей загубленной жизни, им, неудачником, конечно, загубленной… А дочь — та вовсе под чужим созвездием родилась, дочери вообще папа на данном этапе без надобности, ей связи его нужны и наследство. И странно, и страшно чувствовать в маленьком, хрупком человечке, не определившемся ни в социальных, ни в нравственных ориентирах, железную хватку и волю уже бесповоротно состоявшегося потребителя. Дочь себя пристроит, за нее волноваться — пустое, ген выживаемости здесь доминирующий, хотя и дурно мыслить так о собственном, любимом ребенке…
Теперь о себе. Уже никогда не подняться. И лучшее, что он мог совершить во имя собственных амбиций после изгнания из рая, — стать консультантом тех, кто сколь-нибудь решает, суфлером десятка театров. И только. Он ничего не значил сам, он исполнял, грамотно корректируя, чужую волю, а проявление воли собственной свелось к уголовщине. Он… прожил жизнь! Нахлынуло безразличие. А после странно и остро захотелось в деревню, на Волгу, где был свой дом на берегу широкого разлива. Побродить бы по исталому лесу, кропотливо и тайно готовящему обновление трав и листвы, вспомнить о радостях прошлого лета, вернуться домой в сумерках, надышавшись хвоей, затопить печь, посидеть возле близкого огня со стаканчиком коньяка, подумать…
Только-то и осталось у него: пустые думы у деревенской печи…
В сознание неожиданно ворвались какие-то голоса и маршевые звуки, доносившиеся из радиотранслятора. Он повернул рычажок громкости до упора, и кухню заполнил, гремя барабанной дробью и пронизывая звонкой медью горнов, пионерский парад, вдохновенно комментируемый взволнованным диктором, призывающим «быть достойными… гордо нести…».
Ярославцев оглушенно прислушался к привычным, впитанным с детства оптимистическим словосочетаниям, подтвержденным ликующей оркестровой какофонией, и вдруг почувствовал, как волосы на голове поднимаются дыбом… Затем, исподволь ужасаясь неудержно нахлынувшему на него сумасшествию, схватил за спинку кухонный стул и пустился с ним в неуклюжее вальсирование, пытаясь попасть в такт бравурных ритмов, доносившихся из неведомых пространств…
Болезненный удар о край газовой плиты заставил его прекратить эту дикую пляску.
Он выдернул шнур ретранслятора из сети, наспех допил чай и спустился к машине.
До фирмы Джимми доехал быстро. Машину оставил в переулке неподалеку; подняв воротник пальто, пошел к офису.
С Джимми он познакомился в той злополучной заграничной командировке, на стройке. Фирма, где Джимми тогда служил, специализировалась на поставке облицовочных материалов, и именно эту фирму Ярославцев когда-то крупно надул, выхватив у нее из-под носа большой заказ и погорев на том заказе…
А после, спустя пять лет, Джимми объявился в Москве, позвонил и сказал:
— Я приехал сюда учиться твоей деловой хватке, Володя. Готов брать уроки…
Встречались они редко, но неизменно сердечно, говорили всегда откровенно, не темня, и цену друг другу знали прекрасно. Сейчас, шагая к подъезду офиса, Ярославцев знал, что здесь может говорить впрямую и поймут его здесь наверняка.
— Дорогой гость… — Джимми, улыбаясь, встал из-за стола, протянул руку. — Какими ветрами и судьбами?
— Слушай, — сказал Ярославцев, всматриваясь в его лицо. — Удивительное дело: иностранца у нас видно сразу. И даже не в одежке дело. У вас непостижимо чужие лица и непостижимо отстраненные глаза…
Джимми степенно поправил густо-синий галстук в мелкую белую звездочку. Застегнул лощеный, с «плечиками» пиджак.
— Отстраненные… от чего?
— От наших проблем, вероятно… Вы живете здесь во имя благ жизни там, может, поэтому… Ты как, не против прогуляться?
— Буду через час, — кивнул Джимми симпатичной секретарше, холодно и приветливо улыбнувшейся шефу, гостю и тотчас спрятавшей лицо в бумаги и в ухоженные рыжеватые локоны.
Медленно побрели по тротуару узенькой старой улочки.
— Боже, — искренне вырвалось у Ярославцева, озиравшегося потерянно на церкви, колонны купеческих особнячков, лепку карнизов. — Все знакомо, и все как впервые. Да и пешком идти, как впервые… Все за рулем, в глазах — асфальт, выбоины-колдобины, разметка, а по сторонам — размытый фон: дома, камни-кирпичи… Ну, думается, и бог с ними, с камнями, быстрее бы к дому, к телевизору…
— Ты, увы, неоригинален, — поддакнул Джимми натянуто.
— Я приехал к тебе по серьезному делу, — упредил Ярославцев недомолвки.
— Я рад.
— Джимми… — Он помедлил. — Однажды, год, да, кажется, год назад, будучи у меня в гостях, ты посетовал на нехватку денег…
— А вот в тот раз был неоригинален я, — отозвался Джимми. — Ибо у денег бывает всего два состояния: или их нет, или их нет совсем…
Сдержанно рассмеялись.
— Джимми, — оборвав смех, с нажимом повторил Ярославцев. — В тот раз ты… намекал на необходимость не абстрактных денег, а рублей, за которые ты готов платить валютой. Коэффициенты не обозначались, фраза вообще была проходной… Я же понял тебя так: в то время подобная операция виделась актуальной для решения незначительных бытовых проблем. Проблем не острых, сиюминутных, сугубо личных; прибыль от операции тоже носила характер бытовой, в рамках улучшения бюджета месяца…
— Со стороны виднее, — неопределенно ответил Джимми. — Однако ныне проблема исчерпана.
— Значит, — сказал Ярославцев, — или ее, проблему, ты решил достаточно долгосрочно, или…
— Владимир, выкладывай дело.
— Извини… У меня есть сумма. Большая сумма. Я заинтересован обменять ее на другие денежные единицы.
— Ты серьезно? — Джимми замедлил шаг. — Впрочем, ты серьезно. Но ты же…
— Да, Джимми, — согласился Ярославцев. — Я никогда не был ни валютчиком, ни жуликом. И… я все объясню. Только сначала ответь.
— Реально… — Джимми узко прищурился, — реально, в долларах, ты можешь рассчитывать на сумму, в шесть раз меньшую. Это уже бизнес, Володя. Большой бизнес. И я должен что-то заработать.
— Сроки?
— В течение трех недель.
— Хорошо. Три недели. Завтра я назову тебе точную сумму, предлагаемую для обмена. Паспорт у тебя с собой?
— Да. — Джимми удивленно скосился на него. — А…
— Джимми, — прошептал Ярославцев, упорно глядя куда-то мимо него, — я должен бежать из страны. Должен! Именно поэтому мне нужна валюта и нужен паспорт… На реальное имя. Иначе не приобрести билет.
— Но паспорт… мой!
— Твой Джимми, твой. Ты дашь мне его на неделю. Всего. Через неделю паспорт вернется. Конечно, не исключены неприятности… Но мы знакомы, я мог выкрасть паспорт, причем незаметно; ты в конце концов сподобился оставить портмоне у меня… был в гостях, портмоне выпало, не обратил внимания, ну, и так далее… Риск? Но это же бизнес, Джимми.
— Что случилось, Володя? — В голосе Джимми прозвучала сочувственная тревога. — Я всегда считал тебя… не обижайся… цельным и честным человеком. Я знал: у тебя хватало недоразумений, но предавать страну… Володя, я не сказал еще одной вещи: да, я в состоянии обменять твои деньги. Но, как понимаю, внушительная сумма вряд ли заинтересует частных лиц… Она заинтересует организацию… Не стану скрывать: мне от того — лишь набранные очки по службе и финансовый доход… А тебе? Это же пойдет против… твоей страны, Володя. Может, ты впервые… торопишься? Ты всегда мне казался.
— Прости, Джимми, — оборвал его Ярославцев. — Прости, что пришлось тебя так разочаровать… Я просто спасаю жизнь. Ничего больше. Итак, паспорт. Думаю, данная услуга войдет в оговоренный, как полагаю, нами процент.
— Услуга! — Джимми невольно хмыкнул. — Да без нее бессмыслен весь предыдущий и дальнейший разговор! Но условие, объяснения со всякого рода властями следующие: паспорт ты выкрал…
— Да. Да. Да.
Простились у машины. Отъезжая, Ярославцев подумал с радостью: все складывается чертовски удачно! Для подготовки тех преступлений, за какие в лучшем случае максимальный срок… Одно успокаивает: через Джимми выход на серьезный канал. Связываться же с валютчиками в таких играх опасно — слишком велики суммы, да и по срокам они не уложатся с обменами.
— Смертельный номер, — пробормотал он себе под нос. — Лица со слабой нервной системой обречены на инфаркт. — И наддал газу, спеша пересечь перекресток на зеленый мигающий свет.
Теперь предстояло заехать к Виктору Вольдемаровичу Прогонову. Весьма одаренный художник-график, реставратор и попутно цинкограф. Волей судьбы неудачник. Художественных открытий Виктор Вольдемарович не совершил, а в узкие врата доходных сфер, где плотно отирались преуспевающие бездари, втиснуться не сумел, несмотря на целую палитру дарований. В то же время один из знакомых Прогонова, способный лишь разнообразно вырисовывать на том или ином фоне профиль вождя революции, занимал ответственные должности, имел две мастерские, учеников и великое множество благ, нисколько не стесняясь ремесленностью своего скудного «кредо». В основе такого процветания лежал своеобразный талант, начисто у Прогонова отсутствующий. И потому жил Виктор Вольдемарович безвестно и скромно до той поры, покуда не уяснил, что государственная служба дает доходы куда более меньшие, нежели те, которые можно извлечь, используя талант приватным образом.
Первые заработки, не обремененные вычетом подоходных налогов, были вполне безвинны: реставрация старинных полотен состоятельным клиентам. Все шло ровно, хорошо, но вскоре один из состоятельных был задержан как спекулянт художественными ценностями… И вот, правда, в роли свидетеля, но довелось посетить Прогонову и кабинет следователя, и народный суд, где со всей очевидностью ему дали понять, что его специальности и таланты могут представлять узкоуголовный интерес. Но круг состоятельных клиентов постоянно возрастал, возрастал и уровень жизни Прогонова, а соответственно и запросы, и потому уже приходилось рисковать сознательно… Впрочем, риск по мелочам Виктора Вольдемаровича более не устраивал. Жаждалось крупного дела, дабы единым махом разрешить финансовые проблемы и обеспечить себе жизнь спокойную, праздную, добычей хлеба насущного не омраченную. И такое дело Прогонова нашло. Судьба свела его с весьма энергичным человеком по имени Алексей, имевшим многозначительную кличку «Матерый». За внушительный гонорар Прогонов исполнил заказ на копию знаменитого итальянского мастера… Фальшивку изготовили правдоподобную фантастически. Затем еще одну, еще… Дурные сны начали сниться Прогонову, нервная экзема обметала руки, но наркотик наживы намертво въелся в кровь, не отпускал. Сны снились не напрасно: вскоре вспыхнул скандал. Возмутился один из одураченных иностранцев. И затрепетал искусник Прогонов в преддверии краха… Чудом пронесло. Имя копииста в показаниях обвиняемых не прозвучало, но волк Матерый, приписав сотворение чуда себе, надел на Виктора Вольдемаровича ярмо раба, потребовав разного рода услуг: производства паспортов, водительских документов и многого другого, в частности изготовления произведений псевдо-Фаберже. И вновь пришлось Прогонову обливаться холодным потом дикого страха. Но в итоге он оценил досконально знающего преступную среду шефа: подделки сбывались на том рынке сбыта, где действовала большая группа аферистов, громко прогоревших и тем самым в потоке своей продукции скрывших маленький, но поистине золотой ручеек прибыли, вырученной Прогоновым и Матерым.
Каждодневный риск становился привычкой, но неприятности обходили Виктора Вольдемаровича стороной, и, хотя пули отчетливо свистели рядом, прикрытием их с фронта и с тыла выступал дальновидный Матерый. Ему Прогонов теперь верил слепо, впрочем, ничего иного просто не оставалось… Осторожность, естественно, соблюдалась неукоснительная: ни денег, ни орудий производства, ни продукции дома Виктор Вольдемарович не держал. А на конспиративную квартиру-мастерскую, снятую у надежного человека, где созидались старинные фламандские и французские полотна, ездил, соблюдая умопомрачительную секретность. Не ведал Прогонов одного: что существовал некий Иван Лямзин, тщательно фиксирующий все переговоры своего соседа с «рукодельником Вольдемарушкой».
— Разрешите пройти, Виктор? — спросил Ярославцев, встав в проеме двери.
— Простите, не имею чести… — низким, бархатным голосом отозвался Прогонов.
— Я от Матерого. — Ярославцев напористо шагнул в квартиру, снял пальто, мельком, в зеркале уследив за выражением лица Виктора Вольдемаровича. Это длинное, лицо с седыми бакенбардами, крупными зубами и длинным носом выражало недоумение и вместе с тем дружелюбие и любезность. Внешний вид хозяина отличался респектабельностью: белая сорочка без галстука, легкие, на тонкой подошве штиблеты, халат с серебряной и золотой ниткой узора…
— Прошу… — Рука Прогонова указала путь в комнату, где в прозрачном блеске паркета отражались чинно расставленные в горках фарфор и хрусталь.
Посреди комнаты, очень не к месту, стояло чучело пингвина, вызвавшее в Ярославцеве нескрываемое удивление. Тем более чучело было обуто в домашние тапочки без задников.
— Птичка-ласточка моя, — произнес Прогонов нежно и взял пингвина за крыло, — ну- ка, проснись, ну-ка ванну прими…
Тут глаз птицы внезапно раскрылся: живой, блестящий… И пингвин, оказавшийся вовсе не чучелом, переваливаясь, вышел вон.
— Живу один, холостякую, — поделился Прогонов, затягивая ловкими, холеными пальцами узел на поясе халата. — Вот… завел животное. Экзотика, понимаете ли…
— М-да, — согласился Ярославцев, — чего-чего…
— Ходит сам в туалет, спускает за собой воду, любит принимать душ и обожает тяжелый рок, — гордо доложил хозяин. — Спит стоя. Очень удобно.
— Признаюсь, удивили, — сказал Ярославцев, усаживаясь в изысканное кресло из карельской березы. — Готов отплатить вам тем же. Не возражаете?
Любезное выражение лица Виктора Вольдемаровича трансформировалось в благожелательную озабоченность. Забарабанил выпуклыми ногтями по ореховому столику с инкрустацией слоновой кости.
— Коньяк? — вопросил галантно.
— Товарищ Прогонов, — начал Ярославцев, игнорируя предложение о коньяке. — Разрешите наконец представиться. Я — Хозяин. Такой пошлой кличкой, увы, меня окрестили дурные люди. Но я тот самый человек, на которого неоднократно ссылался ваш друг Матерый, как на избавителя якобы от прокурорских напастей и милицейских происков.
— Якобы, — вдумчиво повторил Прогонов. — Та-ак. А нельзя ли разъяснить, в чем суть прокурорских напастей и вообще ваших намеков?
— Извольте, — кивнул Ярославцев. — Разъясняю.
Процедура разъяснений оказалась для Прогонова весьма неприятной: от слов собеседника он морщился, как от болезненных уколов, однако в глазах его проявилась готовность, отбросив ложную дипломатию, вести дальнейшие переговоры без затей, напрямик.
— Ну-с, довольно, кажется. — Ярославцев перевел дух. — Теперь — хорошие новости: надеюсь, первая наша встреча окажется и послед… нет, предпоследней. Также надеюсь, что на последней встрече получу от вас несколько необходимых мне документов. Два-три чистых бланка советских паспортов, клише печатей к ним, водительские удостоверения с десятком-другим запасных талонов, а то мои, ваши, вернее, он вытащил из бумажника зеленые, с красной полосой карточки, — уже на исходе…
Мрачная тень легла на лицо Прогонова.
— Нет, — сказал Ярославцев. — Адрес секретного цеха на Пресне мне известен… там просто музей вещдоков… так что это не провокация, а деловой разговор, означающий: за подобные услуги вы получите еще и солидные деньги. Шантажировать же вас своей осведомленностью я не намерен. Эта осведомленность — лишь залог и подтверждение моей благожелательности.
— А что означают, в свою очередь… солидные деньги? — спросил Прогонов с мягким сарказмом.
— Тысяч восемь… десять.
— Солидные? — переспросил Прогонов вежливо. — Вам не откажешь в чувстве юмора, дорогой гость.
— Бросьте паясничать! — Ярославцев рывком приподнялся из кресла.
Облезлые брови Прогонова вздернулись вверх, он засмеялся.
— Ну, право… Что за манеры? Вам-то уж не к лицу… Такой респектабельный господин…
— Вы правы. Извините. — Ярославцев вновь уселся в кресло. — Нервы. И вот еще… Главное. — Он вытащил паспорт Джимми. — Нужна копия. Один в один. Только с иной фотографией.
Прогонов достал из черепахового футлярчика небольшие, в позолоченной оправе очки. Полистал паспорт. Положил его на столик. Затем грустно и коротко заявил:
— Невозможно.
— Не принижайте высоту своей квалификации, — отмахнулся Ярославцев. — И… не вынуждайте меня прибегнуть к грубым приемам.
— Кстати, Матерый тоже сегодня меня навестил, — неожиданно поделился Прогонов. — И тоже — заказы впрок… Не такие, конечно… — Кивнул на паспорт. — Ординарнее, попривычнее… Значит, где-то запахло горелым. Да! — Оживился. — А почему бы Леше не представить вас мне в официальном порядке? И каким образом вы…
— Потому что вы — его капитал, — ответил Ярославцев. — Тайный и неделимый. А каким образом?.. Оперативная работа. А ее методы огласке не подлежат. Хотя какие там методы сплошная импровизация…
— То есть вы совершаете воистину грабительское покушение на чужую собственность? — подытожил Прогонов. — Отличненько. Но почему десять тысяч? Таким, кажется, обозначен гонорар, не ослышался? — Ладонью он бережно накрыл паспорт.
— Постыдитесь, Виктор Вольдемарович, — укорил Ярославцев. — Я ухожу из вашей жизни, оставляя вас в спокойствии и благоденствии. Вам бы уместно мне приплатить!
— Довод. Тогда, простите, вопрос сугубо интимного свойства: зачем вам именно туда? Я, к примеру, очень и очень вскользь наслышан, будто у Леши есть один карманный челюстно-лицевой хирург…
— Мне нравится их пестрая, буржуазная жизнь, — сказал Ярославцев. — Я безоглядно романтичен. Я авантюрист. Достаточно?
— Странно… — позволил себе порассуждать Виктор Вольдемарович, не принимая во внимание подчеркнутую сухость ответа. — Странно… А мне их жизнь… не нравится. Смотрю ее каждодневно по видеоканалам — собственным, разумеется… не нравится. Все деньги, деньги… Еще замечу: бездуховность и наплевательство на ближнего. Так это, так, права наша контрпропаганда. И преступность там — кошмар беспросветный! Не говорю о гангстерах; улицы просто заполонены шпаной! Если бы нашей доблестной милиции на денек такую бы нагрузочку, как тамошней…
— А вот мне как раз не нравится наша доблестная милиция, — сказал Ярославцев. — И прочие органы. Когда надо, а может, когда и не надо, работать они умеют. И возмездие неотвратимо, вероятно, вам знаком подобный афоризм?
— К делу. — Прогонов взял паспорт в руки. — Что значит ваше предложение? Побег за границу, измена Родине. Статья за нумером 64, до смертной казни включительно. Это — о вас. Теперь обо мне, рабе божьем. Соучастие в упомянутом преступлении — раз. Изготовление документика — два. Тоже прилично… А я старый человек и хочу остаток дней…
— Вы старый мошенник, — перебил Ярославцев. — И извольте мыслить сообразно своему статусу. Да, между прочим: напоминаю об одном придурке, месяц назад купившем немыслимую сумму западногерманских марок вашего производства… Очень грубо, извините, но вы меня вынудили… Теперь уясните: я уеду, и все оборвется. Останется достаточно средств, чтобы жить честной жизнью обывателя и испустить последний вздох… не в больнице на зоне, без возврата трупа родственникам, хотя у вас вроде один пингвин — истинно заинтересованное лицо…
— Вы невыносимы! — произнес Прогонов со стоном. — Но вам надо сфотографироваться… И не в ателье, что на углу…
— Когда?
— Думаю, послезавтра.
— Мы очень плодотворно и результативно поговорили. — Ярославцев направился в прихожую. — Срок вам — неделя. Удачи!
— Мне приходится, — Прогонов погладил по голове пингвина, любопытно высунувшегося из ванной в коридор, — пожелать удачи и вам. Удачи и… безвозвратной дороги.
— Одновременно мечтая: эх бы, да сверзился лайнер вместе с тобою из высей поднебесных на самую твердую почву земную! Да?
— Не секрет: люди греховны в своих помыслах, — сокрушенно развел Прогонов широкими рукавами халата. — Вы чудовищно правы…
С тем и расстались.
— Теперь — следующая встреча… — прошептал Ярославцев, поворачивая ключ в замке зажигания. — Тьфу-тьфу, но пока все в полном соответствии с намеченным планом. Перевыполнения его не требуется, а недовыполнение смерти подобно. Приписки же исключены!
СЛЕДСТВИЕ
Арест Воронова оказался в ходе следствия событием переломным. Далее действие развивалось вскачь, бешеным темпом, и я знал: это путь к уже различимому финишу.
Из НТО поступила интересная новость: после особо критической экспертизы удалось идентифицировать смазанные отпечатки пальцев с пыльной бутылки из-под «Байкала», валявшейся среди прочих на балконе покойного Левы, с отпечатками, имевшимися в наличии в наших картотеках, Монина Алексея, кличка Матерый… Сравнив фоторобот «блондина» с фотографиями Монина, я без труда обнаружил сходство…
Встреча Матерого и Коржикова, состоявшаяся в пиццерии, была тщательно зафиксирована; разговор сводился к уничтожению вещественных доказательств по угонам, чем Коржиков впоследствии и занялся, а также к выражению тревог по поводу расследования убийства Колечицкого…
— При чем здесь Лева! — шипел Коржиков, терзая ножом вязкий сыр пиццы.
— А «Жигуль» его? Вдруг — экспертиза? — справедливо рассуждал Матерый. — Почерк Толькин… В общем, заметай следы на базе-складе и отрывайся в бега. Паспортишко у тебя запасной есть, штемпели в порядке…
После встречи с Коржиковым Матерый пиццерию незамедлительно покинул, причем держался крайне настороженно, посему службе наблюдения пришлось резко изменить тактику, пользуясь информацией о маршрутах передвижения объекта через службы ГАИ и других наших коллег… Выявилось несколько адресов, по которым Монин заезжал; «отработка» адресов началась тотчас же.
Коржикова задержали через два часа с поличным на базе-складе за городом. Получив весть о его препровождении в следственный изолятор, я неспешно принялся изучать всю имеющуюся на его шефа — Матерого информацию. Буйная уголовная молодость, где имел место инцидент с применением немецкого оружия — стародавний, до конца не выясненный, но существенный… Очевидно, имелся источник. Где-то в Крыму, вероятно, оттуда все началось. За выцветшими строками архивных дел вставала судьба: изломанная, тягостная, беспросветная… Но не мог я сейчас думать о ней, это сбивало, рассредоточивало, мысли ползли не те, ненужные.
В принципе Матерого можно было брать смело: наверняка в «Волге» его остались улики, связанные с убийством нанятых в Ростове «бойцов», «Волга» же, как установили, — та, с места происшествия; доказательства причастности к рыбно-икорным операциям были неопровержимы. Но и я, и — что удивительно — начальство решили горячку не пороть. И каждый час дня сегодняшнего подтверждал целесообразность такого решения. Любопытные адреса открывал нам Матерый своими визитами, перспективные адреса! Визит первый был нанесен некоему Прогонову — реставратору и цинкографу — фигуре, появлявшейся в зоне повышенного внимания различных административных органов, хотя и не более того. В кругах, близких к криминальным, витали неподтвержденные слухи о подделках им художественных ценностей, о фальшивых дипломах. Но если и грешил Прогонов, то очень и очень втихую, избегая контактов, не реагируя на самые выгодные предложения, оставаясь вне досягаемости закона. Так и жил-поживал тихо-мирно, как инвалид труда, некогда надышавшийся опасной химии на типографском производстве, пенсионером. Пуганой, хитрой вороной таился на отшибе, патронируемый, уверен, проворными, хищными ястребами. Визит Монина к пенсионеру-инвалиду я посчитал событием знаменательным: занервничавшему злодею многое могло потребоваться от мастера — изготовление тех же документов.
Следующий визит был нанесен гражданину Лямзину, надомнику, ранее судимому по валюте. Лямзин являлся абонентом телефонного номера, по которому звонил Коржиков, беседуя тем не менее не с Лямзиным, а с Матерым. Круг знакомств и взаимоотношений, таким образом, начал очерчиваться по характерному радиусу.
При всей осмотрительности Матерый вел себя весьма рискованно. Но риск, полагаю, диктовался недооценкой опасности. Монин питал надежды на начальный этап следствия, арест Воронова сваливал на случайность, а ее, случайность, в свою очередь, ободряюще подтвердила неприкосновенность Коржикова. Словом, спровоцировать его на лобовые действия нам удалось.
В течение дня он дважды заправлялся, оперативные группы едва успевали контролировать его передвижения, то и дело требуя подкрепления. Информация поступала беспрерывно, и по мере поступления ее я с унынием сознавал: дело меняет окраску; оно чудовищно разрастается, и, главное, оно лишь в самом начале, ибо за встречами Монина забрезжило то, чем он занимался не по частностям, а в основном: теневая экономика. И я крепко заколебался в своих способностях и силах, оценивая предстоящую, огромнейшую по масштабам, работу. Матерый виделся как один из участников мощной, разветвленной системы, а какой окажется система в целом?
— Ну вот, приехал домой, — разбитым, севшим голосом доложил мне Лузгин уже ночью. — Еще один такой денек, и хана мне.
— По-моему, это аварийный режим, — успокоил я, в душе сильно лукавя. — В бега они намыливаются.
— Ясное дело. Кстати, новость из прошлого, — поделился Лузгин. — На протяжении долгих лет Монин — персональный водитель Ярославцева. И помяни, Саша, мое слово он, Ярославцев, в этой игре если не ферзь, то уж не пешка. Последние встречи у Матерого сегодня какие, а? Все люди основательные, на хозяйстве. Придется призывать ОБХСС. Одну бригаду как минимум. Давай… пока! Башка разваливается по всем швам черепа. До завтра.
— Разрешите! — В кабинет вошел капитан Кровопусков из УВД, помощник Лузгина. Запыхавшийся, с выбившимся из-под кожаной, на меху куртки мохеровым комом шарфа. Вытащил конверт из кармана. — Только-только фото отпечатали. Ну, когда тот, Монин, по первому адресу приехал, мы тут же, около дома и сломались — с машиной что-то, карбюратор, час ковырялись. А человека, чтоб без дела не сидел, оставили для наблюдения — мало ли?..
— Ну-ну, — сказал я нетерпеливо.
— Вот Монин уехал вскоре, а следом буквально — этот. — Капитан разложил снимки — Любуйтесь. Машина его, дверцу открывает… — Кашлянул в шарф. — Ну мы, конечно бы, за ним, но карбюратор, черт! В общем…
— Техника подвела, — резюмировал я, разглядывая снимки.
После Монина Прогонова навестил Ярославцев…
ЯРОСЛАВЦЕВ
— Миша, сердечно рад видеть тебя… — Ярославцев жестом пригласил присесть рядом с собой в машине полного, дородного мужчину с загорелым, в резких морщинах лицом. — Рассказывай, как живешь, дорогой, какие проблемы…
— Все по-прежнему, — обреченно вздохнул Миша. — По-прежнему нет главного: ума, здоровья и денег. Но… все завидуют, глупые люди.
— Понимаю тебя как никто, — рассеянно улыбнулся Ярославцев. — Э… Ты, конечно, удивлен нашим прямым контактом? Тогда сразу развею двусмысленность: есть срочное дело. Матерый вне его, а мне остро и быстро необходимы деньги.
Миша важно кивнул, подчеркивая полное осознание значимости слов собеседника.
Ярославцев тронул пальцем брелок, прицепленный к связке ключей, торчавших в замке зажигания.
— Знаешь, что за брелочек?
Миша, вытянув губы, мелодично посвистел. Тотчас брелок отозвался переливом мелодии свадебного марша.
— Очень хорошо, — констатировал Ярославцев. — Теперь слушай. Часть пластмассы и микросхем можно приобрести официально. Для подстраховки. Вдруг: откуда, что?..
— Азбука Буратино, — прокомментировал Миша.
— Пластмасса есть. Микросхемы есть. Макет брелока есть. Люди, задействованные на производстве — будущем, естественно, — тоже есть. Все это я готов продать. Ты — цыганский барон, рынок сбыта у тебя свой, надежнее любой сицилианской мафии… По вокзалам и поездам побредут бесчисленные…
— Сколько стоит микросхема? — спросил Миша, раскуривая сигару. — Людишки твои… проверенные, а?
— Ручаться привык исключительно за себя, — мягко ответил Ярославцев. — О цене же так: много не надо, тысяч пятьдесят.
— Столько с собой не ношу… — Лицо Миши озарилось мрачноватой улыбкой. — Куда желаешь, чтобы калым принесли? Когда желаешь? Какого человека желаешь, чтобы принес? Может, симпатичного желаешь?
— Завтра. В два часа дня. У меня дома, — отчеканил Ярославцев. — С людьми к тому моменту договорюсь. Координаты их тебе передадут. Послушание гарантирую безоговорочное.
— Ох, — вздохнул Миша. — Умная у тебя голова, Хозяин. Сколько брелоков подарил этих, как спички дарил — не думал…
— Да если бы и думал. Не в брелоках деньги, а в людях. До свидания, Миша.
— Прощай, Хозяин.
Склонившись понуро над рулем, он стылым взглядом исподлобья провожал грузную, в клетчатом, модного покроя пальто фигуру цыганского барона, усаживающегося на заднее кожаное сиденье своего заграничного лимузина, фыркавшего выхлопом двухсот шестидесяти лошадиных сил.
Все. С мелочами сегодняшнего дня он покончил. Теперь предстояло главное: предстояло совершить насилие над собой… Впрочем, не было ли насилием над собой то, что совершено им сегодня? Да, но он ни перед кем не играл, никого не обманывал, действовал открыто, а вот сейчас начиналось тягостное и порочное…
Анна. Женщина, существующая как некий объект… чрезвычайного стратегического назначения. Объект, требующий неусыпного контроля и вклада средств.
Операция «Анна» началась год назад, когда он впервые ощутил приближающуюся грозу и начал жить ожиданием катастрофы.
Однажды заставил себя встать ранним утром, поехать на противоположный конец города, дождаться, когда из подъезда жилого дома выйдет малопривлекательная сорокалетняя женщина, сядет в «Жигули» и отправится на службу. А он последует за ней и на очередном перекрестке «неловко» перестроится из ряда в ряд, покорежив бампером крыло ее автомобиля.
С этого началось «знакомство». С ее истерических упреков, желания немедленно вызвать ГАИ, сильного душевного волнения, вызывавшего в нем едва сдерживаемый смех…
— Как вы думаете… во сколько обойдется ремонт? — терпеливо спросил он, выслушав ее возмущенные причитания.
— Да тут… на двести рублей…
— Очень хорошо. Вот двести рублей. За моральные издержки. Расход по ремонту тоже беру на себя. Через три часа подъезжайте на станцию в Нагатино и там заберете свою машину.
— Я не могу через три… только вечером!
— Как скажете. А пока моя машина к вашим услугам. Техпаспорт в вещевом ящике.
Вечером, получив обратно идеально отремонтированный автомобиль с попутно устраненными дефектами, дама позволила себе, наконец, представиться Ярославцеву, как Анна, смущенно возвратив двести рублей. Тот долго отказывался, а после весело предложил:
— Данный конфликт заслуживает того, чтобы его отметить где-нибудь, скажем, в «Арагви». Деньги мои, платите вы… Идет?
Отметили. Познакомились.
Так и появился объект… стратегического назначения.
Анна отличалась вздорным характером, благодаря которому растеряла все былые способности привязывать к себе мужчин и замкнулась в работе, обретя в ней смысл и опору. Занимала Анна ответственную должность в финансовом ведомстве Внешторга, связанную с крупными валютными суммами.
Отношения с любовницей развивались именно так, как Ярославцев и предполагал: в Анне все крепла привязанность к нему, и все острее желалось ей женского, обычного: надежного мужа, детей, — при полном, впрочем, понимании неосуществимости такого желания: возлюбленный имел семью, устоявшийся быт, прочный достаток и ничего, помимо тайной связи, не мыслил. Но и тем дорожила увядающая Анна.
С блистательной небрежностью преподносились им сногсшибательные по ценам подарки, играючи разрешались острые житейские проблемки… Одно угнетало Анну: не часто, как о том мечталось, навещал ее любимый, а мечталось… Да, о многом мечталось Анне! И как-то, превозмогая страх, рискнула она все-таки спросить его: могут ли они быть вместе? Как муж и жена. Ответа она ожидала любого, но услышала более чем внезапное…
— Не хочу тебе лгать, — ответил Ярославцев. — А правда же такова: в этой стране я не добился ничего. Короче. Страну я собираюсь покинуть. Ты же со мной не поедешь. Так?
Покинуть страну… Она не могла вымолвить ни слова. На том разговор и закончился. А после были бессонные ночи и какая-то деформировавшаяся реальность повседневности. Привыкла она к Ярославцеву, привыкла, как к наркотику, утрата которого, казалось, лишала жизнь всей прелести и аромата, всей радости и надежды, оставляя лишь голую, накатанную схему ее прошлого, пустенького бытия.
И разговор возобновился. И сказала она: готова идти за тобой куда угодно…
— Милая, — ответил он, — но и это не все… Я тоже еще о многом должен подумать. Ведь сломать судьбу себе — одно, а любимому человеку — другое.
…Сейчас, поднимаясь по узким лестничным пролетам типовой пятиэтажки, он старался настроить себя на бесстрастное продолжение игры, напрочь подавив какие-либо эмоции и вообще нравственность, отбросив такие понятия, как жалость, милосердие, подлость, жестокость… Он обязан воплотиться в робота.
Всю чепуху этих размышлений он оставил за дверью. Начиналась игра. В любовь и трудно скрываемую озабоченность житейскими передрягами. И то, и другое Ярославцев в течение двух часов изображал довольно-таки убедительно.
В итоге сели пить чай на кухоньке, способной по чистоте своей соперничать с операционной.
— У тебя неприятности, да? — посочувствовала она, с нежностью целуя его в шею.
— Присядь… — Он легонько отстранил ее. Выдержал паузу, напряженно и искательно глядя в глаза напротив: преданно-испуганные, как у собачки. — Я начал собирать чемоданы, — сказал, отвернувшись.
— А я?.. — вырвалось у нее растерянно.
— А тебе предстоит решить.
— Но я же решила… Я… Да, но каким образом? — озадачилась она. — Но… я не подавала никаких заявлений…
— И слава богу. — Ярославцев невольно усмехнулся. «Заявлений»! — Аня… Заявлений просто не примут. А билет и паспорт ты получишь… в неофициальном порядке. Это как раз несложно. Сложность в ином: нужны деньги. Уезжать туда голым смысла не имеет.
— Я все продам… — пробормотала она.
— Это пустая трата времени, — урезонил ее Ярославцев. — Золото и деньги не вывезешь. Но имеющимися у тебя под рукой валютными документами ты воспользоваться в состоянии… — Он помедлил. — Да, это очень некрасиво с точки зрения закона и морали… от которых ты уедешь…
Ее глаза были стеклянно-безумны от страха, сомнений и тысяч вопросов.
— Я понимаю, — кивнул Ярославцев. — Те бумажки, что проходят через твои руки каждодневно, не более чем бумажки. И только усилием изощренной фантазии они представляются воплощенными в жизнь: в дом, машины, путешествия, прислугу… Но та, слишком другая для твоего понимания жизнь есть. И тебе в ней тоже найдется место.
Он замолчал. Он мог еще убеждать, живописать, давить, но муторный осадок всех предыдущих встреч неожиданно поднялся, комом встав в горле.
«Что ты делаешь?! — вырвалась обжигающая стыдом и болью мысль. — Опутал бабу, перевернул ей мозги, держишь ее под гипнозом, как удав мышку… Зачем? Это твое падение, не увлекай других. Если бы ты ее убил, и то было бы менее страшно…»
— Я пойду. — Ярославцев встал. — Тебе надо остаться одной и подумать.
Она не ответила, замерев оглушенно.
— Это горько и нехорошо, Аня, — вымолвил он на прощание. — Но все иное… нецелесообразно. Пойми.
СЛЕДСТВИЕ
Надомник Ваня Лямзин усматривался в происходящем фигурой проходной, мелкой, но, несомненно, колоритной. Связь его как с Мониным, так и с Ярославцевым мы установили легко, единодушно придя к мнению, что в их делах он напрямую не участвует, хотя косвенное отношение к ним и имеет. Квартиру Лямзина, судя по всему, Монин-Матерый использовал как запасное убежище. А вообще-то зацепиться за что-нибудь в бытие Лямзина было затруднительным: жил он тихо, шил ушанки, с законом фамильярностей не допускал — разве, как сообщили, увлекался видео, приторговывал вроде бы сомнительными кассетами, а также ошивался возле магазинов «Березка». Но «ошиваться» никому не возбраняется… Тем не менее работа с Ваней представлялась перспективной в разбухавшем, как на дрожжах, деле. Я работал уже в составе бригады следователей прокуратуры; большая группа из ОБХСС взяла в свои руки контакты Ярославцева, Монина и покойного Колечицкого — гения по сбыту. Удивительные открытия следовали одно за другим. Вчера, например, мы посетили скромный кооператив по выращиванию свеклы, оказавшийся при глубоком изучении водочным заводом с собственным сырьем и высокопроизводительной технологией… Организатором кооператива, судя по документам, санкционирующим его создание, выступал тот же Ярославцев, хотя ни одной подписи его на документах не было, да и быть не могло… Санкцию давали высокопоставленные друзья консультанта министра… Техническое руководство осуществлял все тот же неугомонный Матерый…
Итак, мне удалось отойти от руководства следствием, возглавляемым ныне лично заместителем начальника управления. Круг моих задач резко сузился на генеральных фигурах и их ближайшем окружении, в которое входил и Лямзин.
— Прижать его надо, змея, — убеждал меня Лузгин. — Наверняка есть за ним что-то: такая боевая биография и чтобы после тишь да гладь? Расскажите тому, кто не знает!
Лузгин оказался прав. Как вскоре выяснилось, Ваня Лямзин, отираясь среди посетителей «Березки», порою, при установлении с посетителями товарно-денежных отношений, применял специфические, полученные, очевидно, в колонии навыки… Выражаясь жаргонно, Ваня «ломал» чеки. Предприятие доходное и относительно безопасное. Суть же его сводилась к следующему: ловко прикидываясь респектабельным до вопиющей пошлости провинциалом, Ваня терпеливо выслеживал жертву, униженно представлялся ей барменом из южного города, мечтающим приобрести для родного заведения японский телевизор, и просил продать чеки… С любым коэффициентом наценки. Те из жертв, кто только прибыл из-за границы и потому нуждался в отечественных дензнаках, частенько загорались идеей заработать на хапуге из провинции и на сделку шли. Облапошивал Ваня алчных торговцев лихо, «со свистом» и всегда без скандала. Соврубли — специальная пачка, заранее, приготовленная для «слома» — перегнутая, с новенькими купюрами, поступала клиенту из рук в руки; производился пересчет, скажем, тысячи чеков за две тысячи рублей, и при пересчете этом клиент (наипростейший вариант) недосчитывался рублей пятидесяти. Ваня — само недоумение, пересчитывал деньги повторно — прямо клиенту в руки; затем, извиняясь, добавлял недостающую сумму, и с тем расходились. Пугливо и скоро. Однако при повторном пересчете продавец чеков обнаруживал в пачке ровно тысячу рублей: другая тысяча, передернутая, как из колоды, уходила Ване в рукав. Так и получалось: тысяча за тысячу. Все законно. Заявить же на Ваню — признать себя виновным в спекуляции. Побить Ваню — рискованно…
Жуликов, подобных Лямзину, крутилось возле «Березки» немало. В среде валютчиков классифицировались они как «рабочие» — нижайшая ступень иерархии.
…Лузгин, весьма правдоподобно разыгравший роль «шляпы», торговался с Лямзиным отчаянно. Несколько раз переговоры заходили в тупик, однако Ваня, чуя крупную наживу, не отставал. В итоге договорились: три тысячи чеков за семь тысяч рублей. С отчаянием — тоже вполне натурально разыгранным — Лямзин согласился.
— Ты, дядя, кремень, — сказал с уважением. — Кем за бугром прислуживал?
— Шоферю, — отозвался Лузгин неохотно.
— Ну-ну. На машине сейчас? Тогда поехали… недалеко тут. Семь штук — сам понимаешь, не наберу по кармашкам.
Одолжившись, Ваня вернулся в машину. Взяв чеки, пересчитал их. Лузгин пересчитал деньги.
— Все в норме, — кивнул он Ване. — Бывай, парень. — И сунул пачку за пазуху.
— Э, — обеспокоился Иван, — ты… пересчитай давай. Вдруг…
— Все в норме, — повторил Лузгин. — Привет. Я уехал.
— Эй! — оторопел Ваня. — Ты… считал плохо. Вообще… Кажется, лишнее я тебе…
— Все точно, — уверил Лузгин. — Вылезай на тротуар и топай.
Такого грабежа Ваня не ожидал… Клиент был явный лабух, из пожилых, к тому же дубоват, деньги должен был считать, как дни оставшейся жизни… Ничего себе посольский шофер!
— Сказано: освободи салон! — говорил Лузгин, грубо пихая Ваню в плечо.
И открылась Ване истина: его нагло «кинули».
— Назад деньги, сука! — взвыл Лямзин, пытаясь залезть «шляпе» за пазуху.
Милиционеры подоспели вовремя: в «Волге» начиналась потасовка.
Лузгин «раскололся» в содеянном грехе буквально на месте — в ближайшем отделении, куда доставили конфликтную пару. Глубоко изумленный подобными откровениями, Лямзин тут же прочел ему лекцию о юридической ответственности — обстоятельную, с отступными версиями, не стесняясь…
Затем в отделение приехал я. Как полномочный представитель властей для разбора прецедентов данного типа.
— Посмотрел я ваше дело, Лямзин, — начал я без предисловий. — Опять валюта…
— Покупал один к одному! — отбивался Ваня. — Семь на семь. А он мне три тысячи всего сунул… Оттого и скандал! Мошенник он, гражданин начальник! Валютчик! Я телевизор хотел… японский бог!
А вот этакого хода мы не ожидали…
— Ничего вы так… — признал я. — Ничего… сообразили. Но суть не в сегодняшнем событии, хотя в совокупности с прошлыми вашими увлечениями…
— Прошлое я искупил, — сказал Лямзин, с нежнейшим участием взирая на меня.
Умно держался, злодей. Пришлось перейти к аргументам иного свойства…
— Должен заметить: здесь я не случайно, — начал я. — Вестью о вашем задержании обескуражен, и теперь ничего не остается, как напрямик задать непосредственно интересующий меня вопрос: приобретался ли вами два дня назад в том же самом магазине «Березка», где вы побывали и сегодня, видеомагнитофон «Шарп»?
— Пауза будет бесконечной, — сказал Лямзин, заведя глаза к потолку.
— Хорошо, придадим диалогу динамизм. Номер магнитофона и ваша подпись имеются как в документах, оставшихся в торгующей организации, так и в гарантийном талоне… изъятом нами у некоего лица, сознавшегося, что магнитофон вы ему продали по спекулятивной цене. То есть опять-таки валютные махинации. Через бытовую радиоаппаратуру, но по сути…
— Ничего не знаю, — отрезал Ваня. — Настроили всяких «березок», теперь хватаете кого ни попадя… Подпись в талоне… ха! Очень веская улика! Там что Лямзин, что Чарли Чаплин — никакая экспертиза не установит!
— Ну вы и тип, — заметил я невольно.
— Вы Библию хоть раз на сон грядущий почитывали? — спросил Лямзин. — Я так чувствую — нет. Заповедей не знаете, не по-божески инкриминируете. Может, Моисей и кокнул часть Скрижалей, покуда нес их с горы Синай, но в тех, что донес, не сказано «Не продай!» Вы сами загляните, убедитесь… А в Библии все есть… что надо!
— Истинно, истинно говорю вам, — возразил я. — Не стоит спекулировать тем товаром, коего нет в наличии… Имеется в виду ваша набожность. Поехали лучше домой. К вам домой… Постановление о проведении обыска со мной, ознакомьтесь…
Вошли в квартиру. Я показал на запертую дверь. Спросил:
— Почему замки?
— Человек живет, — равнодушно объяснил Лямзин. — Попросился и… живет. Зовут, кажется, Гена. Или Петя… запамятовал. Познакомился по пьянке с ним, кто, чего — не в курсе, в отличие от вас, в чужие дела не суюсь.
Я промолчал. Настроен был Лямзин агрессивно и отчужденно, не трусил. Я искренне удивлялся: откуда такая слепая озлобленность? Ни единого движения к компромиссу? Словно с кровным врагом он столкнулся, которого ненавидел люто, всем существом… Ошиблись мы в Лямзяне. И крупно. Впрочем, будет еще время испытать его…
Пригласили понятых — соседей, начали обыск. Следов «левой» ондатры, краденой с железной дороги, увы, не обнаружилось — видимо, если и находилась она здесь когда-то, то трудами Вани реализовалась.
Находки же не впечатляли. Разве видеокассеты порнографического содержания.
— Мое, — глядя на них, покорно согласился Ваня. — Сознаюсь я патологический тип. Но факт распространения отсутствует, а на личные увлечения карательная сила кодекса не распространяется.
Я вновь проглотил пилюлю.
В шкафу, в одном из ящиков, набитом всякой всячиной гитарными струнами, брелками, старыми замками-молниями, нашлась коробка с патронами от мелкокалиберной винтовки.
— Ваши?
Лямзин молчал.
— Хранение боеприпасов, — сказал я. — Думаете, никчемные придирки? Напрасно. Пусть от «мелкашки» — все равно статья.
— Сидел со мной один, — отозвался Иван. — Тоже за два патрона. Тоже найдены при обыске. Искали, конечно, другое… Но за неимением… В общем, знакомо. Понятны ваши задачи, гражданин начальник.
— Вы полагаете? — усомнился я, обводя глазами комнату. Понятые с суровыми ликами праведников, созерцавших закономерный крах греховодника-соседа, торжественно замерли у стены. Оперативники исследовали недра платяного шкафа. Меня же не отпускало нудное, как зубная боль, ощущение, будто в комнате чего-то недостает. Не хватало в ней некоего логического завершения самой обстановки… Но то ли я устал, то ли сосредоточиться не мог — ощущение оставалось безответным. Стол. Стулья. Сервант. Какой-то нестандартный, с узенькой боковой стенкой… В серванте зеркало, стеклянные полочки, утварь, из которой Ваня наверняка никогда не ел и не пил: аляповатый фаянс, чашечки-наперстки и сувенирные бокалы емкостью более двух литров… Много раз встречал я такие вот бесполезные серванты, словно кичащиеся своей никому не нужной пышностью красивенького содержания…
Низ серванта обрамляли какие-то художественные излишества в виде латунных вензелей и полос. Склонившись, я разглядел в центре одного из вензелей кнопку.
— Что там? — спросил я у Лямзина, приседая на корточки
В глазах Ивана мелькнула тревога, однако он опять промолчал. Я нажал кнопку. И — события последующих двух минут перестали меня занимать.
Сервант оказался именно тем предметом, наличие которого в комнате я неосознанно пытался найти: встроенной в стену кроватью. А его дно в дневные часы и было сервантом. И вот весь этот фарфор, стекло, зеркало, вся эта декорация, введшая меня в заблуждение, обрушилась на мою глупую голову, которую тут же залило кровью от бесчисленных порезов…
ЯРОСЛАВЦЕВ
Он запер машину, прошел в подъезд, вытащил почту из ячейки общего шкафа и, на ходу перебирая газеты, направился к лифту. Внезапно как бы оступившись остановился, вглядываясь в конверт попавшийся среди прочей корреспонденции. Прочел «УВД горисполкома…»
Повестка. Такого-то числа зайти в отделение милиции в комнату номер шесть.
Он почувствовал нервную тошноту как от удара поддых. Заскакали мысли.
«Ну повестка… Наверняка по ерунде… Если что — не вызывали бы… А может хитрый ход?»
Сунув бумажку в карман пальто открыл дверь квартиры. Первой его встретила дочь.
— Пап принес что-нибудь посмотреть? — Имелась в виду конечно же видеоинформация.
— Танюша, деточка, завтра, не до того… — Он разделся. — Да и зачем тебе этот видиот? Жизнь куда более прекрасна нежели…
— Ну а музыкалки? — Имелись в виду эстрадные программы. — И уму и сердцу!
— Ну ладно… завтра. Только напиши что именно.
— Ой! — И радостная дочь помчалась за бумагой и ручкой. — Я записалась на курсы английского — прозвучало уже издалека. — Чтобы… Ну в общем стюардессой хочу стать на международных линиях. У них там пенсия знаешь какая? И всего до тридцати лет работаешь. А потом… — Сколько мечты восторга надежды было в последнем слове…
Ярославцев вздохнул. Не хотел он слышать этого от дочери, другого желалось. А чего другого? Не ты ли пестовал в ней все это? Не ты ли…
— Ужинать будешь? — Появившаяся в прихожей Вероника, повязывавшая цветастый накрахмаленный передничек, чмокнула его в щеку. Красивая, энергичная, сразу видно: все знает, все умеет; а если насчет милых женских слабостей, то и их сыграет в нужный момент безупречно. Партнер надежный.
— Сыт я, — сказал Ярославцев.
— Можешь поздравить: через неделю твоя супруга — начальник отделения института, — поделилась она игриво. — Собственные темы, три поездки в год… А? Ты не рад?
— Видишь, только я у вас иду мимо жизни, — ответил Ярославцев, с удовольствием сдирая тесную петлю галстука. — Потому на вас, женщин с будущим, вся надежда.
— Кстати, о будущем не вредно бы и тебе подумать, — заметила она. — Пока поступают предложения, во всяком случае.
— Выбираю лучшее, — ответил он.
— Володя, дорогой, ты посмотри на свою жизнь… — Она говорила вскользь, мягко, как хороший друг, она всегда впрочем так говорила — на воркующей какой-то ноте участия и совета, не назидательности. — Спишь до полудня, сплошные мотания, заработки непонятные, вообще неизвестно кто таков.
— И все же, полагаю, высокая зарплата министерского чиновника устроила бы тебя менее, — возразил Ярославцев улыбнувшись.
— Ошибаешься. Устроила бы. Я скоро буду доктором, диссертация на подходе… У нас все есть, деньги нужны лишь на текущие расходы…
Разговор велся без накала, как бы между прочим, покуда закипал чай, и Вероника выставляла на стол печенье, конфеты и орешки. Ярославцев же безразлично размышлял: что же его связывает с женой? Взрослеющая дочь? Квартира и мебель? Постель? Или попросту привычка каждодневных встреч друг с другом за чаем и такие вот разговоры?
— Сегодня, надеюсь, пить не будешь? — спросила она с очаровательным юмором в интонации.
— Как изволите приказать, — ответил Ярославцев сухо и подумал: «А выпил бы… Повестка эта… Завтра к десяти утра тащиться — вот черт… испытание. Физическое и моральное. Кстати. В тюрьме встают рано. И ложатся рано. Привыкай. И затей там никаких… Нет, не пережить тюрьмы. Лучше из окна вниз головой!»
— Слушай мне надо все-таки сделать подарок шефу, — ворвался в сознание голос жены. — Мое назначение — исключительно его заслуга.
— И сделай, — пожал плечами Ярославцев.
— Не так просто. Не дай бог, сочтет за взятку! Он знаешь какой!
— Не берет? — спросил Ярославцев с иронией.
— Да о чем ты!
— Ну, положим, дать взятку можно любому. Другое дело: как дать? — Он испытующе поднял на жену глаза. — Может, в чем-то нуждается твой шеф? Услуги, связи?
— Кто знает? — Она озабоченноя, всерьез размышляла. — Слышала дабл-кассетник он сыну ищет…
— Возьми наш, — сказал Ярославцев. — Тот, новенький.
— Да ты что, он же… Я повторяю…
— А ты скажи: знакомые привезли. Цену посмотри по каталогу, там долларов сто. И поясни ему: знакомые эти — люди сродни вам, кристальной честности, хотят за кассетник строго по курсу, так что гоните… сколько там ныне доллар в пересчет на рубли? Ну, девяносто, скажем, рублей. Вот и клюнул твой шеф. Все чинно-благородно до безобразия, даже противно.
— Мысль! — согласилась Вероника, наливая чай мудрому мужу. — Шеф, конечно, не дурак но…
— Милая жена, а теперь вопрос к тебе, — неотрывно глядя на ловкие, ухоженные руки ее, сказал Ярославцев. — Как ты считаешь: что в принципе нас с тобой связывает на день сегодняшний? Уверяю, вопрос без прицела, праздный.
— То же, что и всегда… любовь, дорогой. — Она поцеловала его в макушку. И засмеялась легко и беззаботно.
— Точно, — усмехнулся он. — Очень ты правильно подметила. И главное — я рад, что наши мнения совпадают.
СЛЕДСТВИЕ
— Вынужден писать жалобу прокурору, — задумчиво сказал Лямзин, когда меня извлекли из-под серванта-постели. — Это неслыханно: разбить посуду исторической ценности, причем в таком количестве… при неквалифицированном проведении обыска.
На его реплику я всеми силами постарался не реагировать. По возможности бесстрастно распорядился продолжать обыск и отправился на оперативной машине в ближайший травмопункт накладывать швы на гудящем от ошеломляющего удара черепе.
Участковый инспектор, сопровождавший меня, решительно двинулся к дежурному врачу — уговорить ввиду чрезвычайных обстоятельств принять мою персону вне очереди, а я, сидя на стульчике и прикладывая к ранам скомканные бинты из автоаптечки, оглядывал томившийся в приемном отделении народ — человек восемь. В какой-то момент показалось, что падение кровати серьезно повлияло на мое восприятие действительности и причиной тому был странный факт: люди в очереди переговаривались друг с другом, как старые знакомые, будто всю жизнь свою просидели на стульях в этом коридоре… Ни малейшей стесненности, отчуждения… Прислушавшись к их разговорам, я убедился: нет, со мной все в относительном порядке, а собравшиеся здесь — соседи по подъезду жертвы общей неприятности. Нетрезвый гражданин, ведущий рассеянный образ жизни, в их подъезде проживающий, привел к себе из самых гуманных побуждений бродячего пса и, после совместной с псом трапезы, уснул глубоким сном, забыв запереть входную дверь. Благодарный пес, оказавшийся здоровенной кавказской овчаркой, принялся чутко нести сторожевую службу и, заслышав на лестнице шаги, выскочил из квартиры на площадку, тяпнув за ногу возвращавшуюся с работы соседку. Подъезд огласил дикий вопль, на который сбежались жильцы, а их, надо полагать, пес кусал уже с перепугу. Так или иначе, я в окружении пострадавших, обещавших именно соседу, а не собаке, страшную месть, ощущал себя полным дураком! И о гражданине Лямзине думал крайне негативно, хотя и без видов на сведение с ним счетов. Но каков подлец! Так искусно изобразить замешательство, явно тем спровоцировав меня, самоуверенного кретина, нажать на злосчастную кнопку.
— Кто там с порезами? — выглянула из-за двери кабинета медсестра.
Через полчаса забинтованный, в нашлепках пластыря, невесело размышляя, что стану объяснять начальству и знакомым девушкам о своей изменившейся внешности, я прибыл обратно в квартиру Лямзина. Результаты обыска, к тому моменту завершенного, обнадеживали. На кухне нашли самогонный аппарат, пять литров настоянного на апельсиновых корках «продукта» и… еще кое-какую аппаратуру, назначения очень специфического. Иван, судя по всему, усердно подслушивал все что творилось в комнате «жильца», а кроме того, вел магнитофонную запись его переговоров. Пленок, увы, мы не обнаружили. Оставалась слабая надежда на информацию, заложенную в персональный компьютер, но в продуктивность ее анализа мне не верилось.
— Так зачем все-таки вам подслушивающая система? — лениво спросил я, листая записную книжку Вани.
— Законом не карается, — последовал ответ. — Природное любопытство. Оказавшееся неудовлетворенным, кстати.
— Лямзин, — сказал я. — Призываю вас к откровенности. Вы сели… в лужу, по крайней мере. Патроны, самогон, сомнительные чековые операции.
— Лажа все, — перебил Ваня. — С чеками — оно… да, сомнительно, чтобы доказать. Самогон? Впервые вляпался, значит, штраф. Заплатим, не обеднеем. Насчет патронов — подкинули. Во — соседи! — Он указал на понятых остолбеневших от возмущения.
Внимая этим оптимистическим заверениям, я продолжал листать записную книжку. Ба! Номер Ярославцева! Не ему ли понадобилось обеспечение прослушивания Ваниного соседа? Такая неожиданная мысль здорово меня увлекла!
— Ярославцева знаете? — спросил я.
— У меня много народа шапки покупает. Всех не упомнишь.
— Александр Васильевич, — тронул меня за плечо участковый, — открыли замки в соседней комнате.
Ваня всем своим видом выразил: мол, это уж меня вовсе не касается да и неинтересно…
Интересного и в самом деле было мало: старенькая мебель с засохшими от голода клопами, кое-какая импортная радиоаппаратура, неношеная фирменная одежда, упакованная в большие картонные коробки. Все это напоминало некий склад, перевалочную базу, вернее, остатки ее после капитального вывоза.
Десять спортивных костюмов «Адидас» возвратили мои мысли к железнодорожным погромам — там было что-то, связанное именно с такими костюмами.
Мы аккуратно сложили вещи обратно в коробки. Специалист из отдела криминалистики тщательно запер замки.
— Ну, поехали теперь к нам в гости, Лямзин, — сказал я. — Посмотрите что изменилось там с поры вашей юности.
— Ненавижу вас, — бесцветно, очень устало произнес Иван фразу, которую я слышал десятки раз.
Но по тому, как поднялся он со стула, как пошел к выходу, понял я: будет Лямзин молчать. Упорно и тупо. Ошибся я. Первое его дело с толку сбило, воспоминания тех, кто знал этого Ваню младым и зеленым. Закалился трусоватый шалопай Ваня в превратностях судьбы своей, изменился, выработал, что ни говори, а позицию, утвердился в ней и сдавать ее не желал. Я же на психологию его рассчитывал как на психологию мелкого лавочника, боявшегося потерять приобретенное: хлам свой, жизнь затхлую, но на теплом диване… — и просчитался. Наверное, потому, что такой лавочник перед лицом своего идейного врага превращается в рассвирепевшего быка. И никакие уж тут бандерильи его не устрашат. А может, всерьез воспитали Ваню крутые дяди, привив ему философию неизбежного риска и неизбежных потерь: дескать, жизнь — копейка, судьба — индейка, и вообще: раньше сядешь, раньше выйдешь, а деньги — мусор, и наметет его всегда негаданным ветром…
Выходя из подъезда, Лямзин внезапно попытался оттолкнуть оперативников… Возникла какая-то смятенная сутолока, мгновенно, впрочем, пресеченная.
— Ты мне… фокусы брось! — сурово предупредил Ваню участковый, цепко ухвативший его за плечо.
— Все, начальник, фокус был последним, — с глумливой улыбочкой, необычайно чем-то довольный, согласился Ваня.
Я оглядел улицу: никого… Что это? Сигнал кому-то, предупреждение? — очевидно же, неспроста это…
— Ну, я свободен? — спросил меня участковый, когда Ваню с почетом усадили в наш автомобиль. — Инструкции ваши уяснил, не беспокойтесь…
— Чего он дергался-то? — спросил я озадаченно. — А?
— Психует… — недоуменно вздернул бровь милиционер. — Характер ведь выказать надо…
— Давайте все же покумекайте, — попросил я. — Может… выбросил он чего-нибудь у подъезда?..
— Улики? Мы же смотрели.
— Не нравится мне… Кукольник все же, шулер… Я в прокуратуре сегодня допоздна. Так что, будет повод, звоните.
— Ну… покумекаю, — согласился он, покосившись на дверь подъезда.
МАТЕРЫЙ
Чувство опасности не подводило его никогда. Вот и сейчас противным холодком цепенело все тело, в которое будто бы целились невидимые штыки, и как ни убеждал себя: чушь, нервы, — убедить не мог. Слежки он не заметил, да и как заметишь: занимаются им, Матерым, гвардейцы, а у них и техническая база, и гибкая, без пошлых «хвостов» тактика с секретами и вывертами неведомыми…
Интуиции он верил слепо. Начал вычислять: если прицепились, то когда? Много он успел проколоть адресов? С ужасом понял: невероятно много… И вдруг решил для себя: все, надо резать концы. Одним махом.
Притормозил у дома Прогонова. Подхватив кейс, прошел в подъезд, гадая — «засветил» ли он адрес Виктора Вольдемаровича, или покуда нет? Как бы там ни было — лишь бы не взяли тут, сейчас…
Он расстегнул пиджак, сдвинув легким движением пальца предохранитель «парабеллума», засунутого за пояс. Будут играть милицейские оркестры на похоронах, если затеяли в данную минуту что-либо граждане сыщики…
Нет, осадил себя, давай без излишней уверенности… Вспомни одного большого мастера каратэ, коего на уголовщину потянуло… Предчувствовал мастер арест, но хвастался, кичась силой: мол, поглядим, как они меня брать будут… Я их… в кисель… в компот… А они защемили пустозвона дверью в метро и повязали, как бобика, — тявкнуть не успел. Так что скромнее, Матерый, утихомирься, ты не ухарь-пижон.
Позвонил в дверь. Желто-горящий «глазок» на секунду потемнел. Затем звонко щелкнул замок и показалось настороженное лицо Прогонова.
— Один? — спросил Матерый, холодно впиваясь в лживые глаза Виктора Вольдемаровича.
— Пока… один.
Матерый прошел в комнату, положив на обеденный стол кейс, раскрыл его, вытащил несколько пухлых пачек денег, перетянутых резинками.
— Документы, — потребовал кратко.
Прогонов, вкрадчиво улыбаясь, провел ладонью над деньгами, и те исчезли, словно растворились.
— Минуточку! — попросил учтиво и скрылся в смежной комнате. Вернулся с небольшим свертком. — Прошу, протянув сверток, сообщил сокрушенно: — Как понимаю, твой последний заказ. Выполнен он на совесть, сомнениями не обижай. М-да. Что-то мы все о делах… Может, чаю? Или… хорошее бренди? Отдохнем…
Матерый, не слушая его, сунул сверток в карман пиджака, подошел к окну, вгляделся в темноту. Покачал головой глубокомысленно, прикидывая…
— Слышь, Вольдемарыч, — сказал, не оборачиваясь. — Надеюсь, хвост я за собой не привел, но рисковать не стану. Чую: паленым несет… Гаси свет, открывай окно — тут пожарная лестница вроде рядом…
— У меня же там гортензия! — озабоченно всплеснул руками хозяин. — На подоконнике… Ради всего святого осторожнее… Да, учти — здесь пятый этаж…
— К черту гортензию, — на выдохе процедил Матерый. — Свет гаси, сказал же! Отрываться надо. И портфель… а, себе оставь!
Под завывающие причитания Прогонова он стал на подоконник. Стараясь не смотреть вниз, легко прыгнул в темную пустоту, тут же ухватившись руками за перекладину из ржавой арматуры. Повис, нащупывая занывшей от удара о железо ногой опору…
Улица освещалась слабо, стена дома терялась в темноте, и это его порадовало.
Стараясь не шуметь, спустился вниз. Отер ладонь о ладонь, стряхнув ржавчину и прах старой, облезлой краски.
Затем, скрываясь в кустах шиповника и жасмина, буйно разросшихся на широком газоне, двинулся параллельно улице прочь.
Ну и все. «Волгу» пришлось бросить — плевать! «Волга» ворованная, техпаспорт фальшивый; три года, к тому же, машине — пусть пойдет на запчасти нуждающимся. Через месяц-два от нее остов останется — народ наблюдателен, точно угадывает бесхозное… А может, и выплывет эта «Волга», как довесок к деяниям Анатолия… Но да от него теперь не убудет, как бы ни прибывало…
Он перевел дыхание, глубоко и радостно ощутив внезапное чувство свободы. В воздухе были разлиты запахи молодой травы, первых цветов мая; росистая, бодрящая свежесть…
И вспомнилось: когда-то, точно так же, кустами, таясь, он пробирался закоулками портового города к сладостной неизвестности романтического будущего…
Бедный, нескладный волчонок… Обнять бы тебя, утешить… да только кому?
Это сейчас бросаю всякие «волги», как рухлядь, а тогда мечтал о велосипеде как о чем-то недостижимо-волшебном.
Он зажмурил глаза, с силой тряхнув головой, — как бы отгонял наваждение.
Не расслабляйся, рано. Думай. Ясно, целенаправленно, исключительно по существу. Итак. Куда теперь? Ваню навестить? А если засада там? Тогда… хотя бы возле подъезда пройти — вдруг, да есть на двери знак какой? Допрыгался! Зачем вертелся, зачем петлял, следы путая? Чего добивался? Указание Хозяина выполнял? Ну, кое-кого напугал, приструнил, но толку? Отринуть налаженное дело никто не захотел — даже те, кто клятвенно обещал с испугом в глазах. И понятно — вольготный стиль жизни у людей выработался, достаток и… иллюзорное ощущение безнаказанности. Каждый полагает, будто тайное у него надежно скрыто… А производство лишь до поры упрячешь… Жадность, лень, инертность сгубит всех этих предпринимателей. Ведь дай им даже официальную инициативу, дескать, плати налоги и выпускай продукцию, вряд ли устроит их такое предложение. Кто они ныне? Государственные люди, начальники. План у них, фонды, бумажная привычная волокита и возможность бумажный план выдавать. Отсюда — неучтенные ресурсы, дающие чистоган… Вот и выходит: и общественный статус есть, и зарплата, и льготы за так, за бумажные выкрутасы, и — гонорары «из воздуха», за счет бесплатного сырья и госстанков. А законная инициатива — шалишь! — тут ты в воздухе подвешен, с нуля начинаешь, сам за себя и вообще кто такой? Тут большая смелость нужна, энтузиазм, ум, ответственность…
О чем ты? — вновь остановил он себя. Тебе-то какое дело до всего? Ты свое отыграл… на конкретном отрезке времени. Какие возможности отрезок тебе предоставил, такие и реализованы. Половил в мутной водице рыбешку и вместе с осевшим илом — на дно золотое. Сиди там и пузыри не пускай. Отгородись от мира, спешащего по новым путям к своему будущему, стеной из денег и наблюдай из-за нее осторожненько за дальнейшей свистопляской, обмениваясь репликами с Машей на огороде… Сочинения философов приобрети, позволь такую роскошь, дабы и духовно вырасти… Только бы смыться, только бы!.. В Харькове остановиться недельки на три у Хирурга, преобразовать морду лица до неузнаваемости, наклеить фотографии в документы и — прости-прощай Прогонов, Хозяин, прошлая жизнь и набравший опасные обороты подпольный механизм, остановить который предоставь попытку уже органам…
Он перебрался через железнодорожную насыпь, поблуждал переулками какого-то незнакомого района, поймав, наконец, «левака».
— В центр, — сказал коротко.
— Центр большой, — ответили справедливо.
— Москва, Кремль, — сказал Матерый. — Двигай.
У Манежа действительно стояли «дежурные» «Жигули» — одна из самых первых халтур Толи; машинка старенькая, но надежная. Вот на ней он и уедет на дачу. А дачу он не провалил: очень правильно себя вел, не терял головы. И снова мелькнуло: заехать к Ивану? Нанести последний визит? Вещички кое-какие добрать, но вещички ладно, чепуха, основное — то, что так безвинно, так на виду стоит на подоконнике…
СЛЕДСТВИЕ
Под вечер, одолжив у коллеги Алмазова электрический чайник, заварку и кружки, мы с Лузгиным засели у экспертов-криминалистов, просматривая видеоинформацию, изъятую у Лямзина, и неспешно обсуждая сложившуюся обстановку.
Участковый инспектор, служака дисциплинированный и дотошный, повторно обследовав местность в районе подъезда, ничего не обнаружил, кроме разве некоей отрывистой короткой меловой черты-росчерка на входной двери…
Мелок мы нашли в оперативной машине, на полу. Ваня, упрятавший его поначалу в рукав, согласно отработанной методике, затем бросил мелок под ноги. Таким образом, фокус не удался. Однако ни предъявленный мелок, ни следы его на обшлаге рукава, ни разговоры вокруг Монина и Ярославцева ничего по-прежнему не изменили — Лямзин замкнулся наглухо.
— Молчит, — говорил Лузгин, поглядывая на экран одного из конфискованных телевизоров и дуя на горячий чай. — Пусть молчит! Его право избрать такой метод защиты. А мне лично все ясно без пояснений. Подселил Ярославцев подручного своего к нему с прицелом: мол, когда придут люди в серых шинелях к Матерому, естественно, тут-то Ваня — стук-стук: люди, будьте бдительны. Или мелком по двери — азы конспирации… Аппаратура для подслушивания — тому подтверждение. Матерый, конечно же, не марионетка, к самодеятельности тяготел, как такого помощничка не контролировать? Ну, а Ванюша получал свой агентурный гонорарчик и попивал самогончик, хорошо очищенный, — чем не жизнь?
— Ваню, конечно, есть за что подержать в угрюмых стенах, — сказал я. — И подержим. Соседи насчет каких-либо расспросов о нем проинструктированы, но, боюсь, провалили мы квартиру…
— Едва не провалили, — уточнил Лузгин. — Но Матерый, помяни мое слово, там объявится. И там, думаю, будем его брать. Выносящего коробки. Жаль, основного его лежбища не знаем, за городом оно у него где-то, а отрывается он туда грамотно… Хотел я пустить хвостик — не вышло: по-особенному он туда уходит, к логову, — через объезды лесные, со сменой номеров…
— И техпаспортов, значит, — заметил я. — В чем вижу приложение высокохудожественного таланта маэстро Прогонова.
— Не без того. — Лузгин посмотрел на часы. — У него он, кстати, сейчас… Второй час пошел, как беседу ведут, засиделись. Так вот, — вернулся он к теме, — а узрел бы Матерый знак меловой и — как пуганный пескарь — ф-фить в темную заводь… Объявляй тогда розыск. Почему и не хотел я Ваню тревожить.
— Начальство, — поплакался я, — давит. Народа по делу полк работает, а кто в камере? Воронов? Коржиков? Указание в письменном виде пришло. Сам Сорокин подписал!
— Ха… — отозвался Лузгин. — Ты еще скажи — начальник Сорокина.
— А что… начальник?
— А ничего. Им подписать — как за ухом почесать, а там сами разбирайтесь. Начальник же… тот еще, когда у нас командовал, лепил подпись, не глядя. Он себе постановление об аресте однажды завизировал. Ребята схохмили. Так что, подписал или нет, у тебя у самого башка на плечах. Не согласен — иди к руководству, объясняй лично. В частности про необходимость крайне деликатной следственной тактики в данном вопросе. Мелок сегодняшний — тому пример наглядный. Это дело сперва как бы в общем раскрутить надо, а не от одного к другому брести. Глянь на Матерого: вон как заметался и сколько точек указал, и каких! На каждую следственную бригаду высылать надо. Дачи, отделка квартир, производства всякие: алкоголя, пакетов, часов «под фирму»… да это еще мелочь! А благодаря чему все выявлено? Терпеливость и… тактичные мероприятия, безо всяких «руки вверх». А свинти мы объект с горизонта, сколько бы за кадром осталось?
— То есть будем искать себе работы? — подытожил я, наливая себе очередную кружку.
— А у меня, кроме нее… и нет ничего, — отрезал Лузгин. — Да выключи ты ящик! — Он махнул рукой в сторону телевизора. — Вкусы Лямзина не выяснил? Секс и полицейские похождения.
— Ну, насчет похождений — интересно, — возразил я. — И познавательно с профессиональной точки зрения.
— Все, как у нас, — сказал Лузгин. — В основном уголовные сказочки. А методы… чего познавательного? Агентурная работа, вербовка «на горячем», шантаж… Нагрузки у них, судя по всему, больше, отсюда приемы жестче.
— Юриспруденция у них потоньше, — вставил я, выключая магнитофон.
— Зато сроки больше, — сказал Лузгин. — Юриспруденция!
— Кстати… А как вам… Ярославцев? — спросил я.
— Как… Жулик.
— И всего-то? А я, между прочим, с людьми встречался, беседовал и… не давал бы столь категоричных характеристик. Он ведь тоже… горел работой. И ничего никогда за ним такого…
— Ты, Сашка, давай… без мистики, — оборвал меня Лузгин неожиданно резко. — Горел-то горел, да прогорел. Почему? Шел против установленного. И точка. Ну… хорошо. Прогорел. А ты бы, к примеру, прогорел, ему бы уподобился? Той же стежкой пошел? Молчишь? Вот! А когда на пепелище он свои замки стал возводить, кого в подручные взял? Воров. Или, может, он среди них просветительно-воспитательную работу вел?
— К авантюрам: железнодорожным, рыбным; к убийствам — нет, наверняка непричастен он! — сказал я. — Не верю!
— Все равно, — заявил Лузгин. — Все равно он всех опаснее. Он зло насадил и взрастил. И в белые рясы ты его не ряди! Для таких, как он, и статьи соответственные, и сроки до упора. Подонок что? Нахулиганил, набузил, все на виду, и пошел в зону тихо-мирно на годик-два. Отсидел, затем погулял месячишко, снова или кому-то тарелку с супом в ресторане на голову одел, или три рубля в троллейбусе спер и после отпуска обратно в зону. А такие… Он один страшнее всей шпаны. Он государственные принципы искажает, понял? И что же выходит по этим его принципам? Ты вот вкалываешь, с бандюгами каждый день, сон для тебя — высшее благо. Сплошные допросы, решетки, бумаги, а в месяц столько зарабатываешь, сколько он — за день.
— Да и пусть. Не жалею, не плачу, — сказал я. — Мне хватает. Зависть не гложет. Пусть зарабатывает, лишь бы с пользой для других и законно. Все равно деньги в какое-то дело пустит; социально активные миллионы в чулках не хранят.
— Ты, Сашка, переутомился, — рек Иван Семенович сурово. — Чушь несешь. Мой тебе совет: делай дело, а анализ другим оставь. Идет человек против правил — бери его и применяй меры… Изменятся правила — значит, такова общественная закономерность, признанная законодателями. А покуда не признана — никакого ты права на люфты не имеешь. Иначе… до Ярославцева скатишься.
— Но правила меняет именно частота нарушений…
— Опять глупость сказал! Она их ужесточать обязана. Слушай меня: я всю жизнь прожил слугой закона. Слушай. Не нужна тебе вся эта беллетристика, а только кодекс, комментарии к нему и прочая сопутствующая литература. Потому как ты себе сам такое дело выбрал — жесткое. И еще добавлю… В плане теории. Не надстройка базис меняет, а наоборот. Закончили! Теперь о Ярославцеве. Трогать его сейчас никак нельзя. В ОБХСС на полную мощь заработали, факты потоком прут, а он их нам добровольно, можно сказать, подбрасывает. Только бы в бега не подался! Ни он, ни Матерый. А подадутся — припомнит нам начальство всю деликатность и выдержку… Вот о чем думать следует! Привет! — Лузгин встал. — По домам. Завтра опять… попытки объять необъятное. Где людей брать? А насчет принципиального жука Лямзина не переживай. Пусть посидит, поскучает на топчане. Многого он не выложит, разве детали какие… В общем, у нас он, никуда не денется. В жерновах.
Когда я заглянул в свой кабинет — проверить, заперт ли сейф, у меня невроз по данному поводу! — звонил телефон. Сообщение оперативной группы обескуражило: Матерый скрылся. Ушел красиво, оставив приманкой «Волгу»; по пожарной, очевидно, лестнице…
ЯРОСЛАВЦЕВ
В комнате за номером шесть, куда, руководствуясь повесткой из отделения, Ярославцев зашел, сидел молодой человек в спортивной куртке и джинсах и оживленно разговаривал по телефону. Узрев посетителя, человек столь же оживленно и спешно разговор завершил и представился оперативным уполномоченным Курылевым.
— Тэк-с, — начал он, скорбно изучив протянутую повестку. — Ярославцев… Неприятности у вас, товарищ… — И устремил скучающий взгляд куда-то в окно. Продолжил: — Навещали ли вы три дня назад известного вам гражданина Докукина?
— То есть? — не понял Ярославцев.
— Заходили ли вы три дня назад к гражданину Докукину домой? — внятно и медленно, будто диктант диктовал, произнес Курылев.
Ярославцев вспомнил… Действительно существовал среди его окружения работник мясокомбината Докукин, с ним связывали деловые отношения по мелочам, в основном быта. И три дня назад действительно заехал он к этому Докукину за своим компьютерным дисководом, одолженным тем на время. Дверь в квартире оказалась незапертой, Ярославцев вошел кликнул хозяина, но тот не отозвался. Дисковод между тем стоял на виду, в нише «стенки». Поскучав минут пять, Ярославцев написал записку хозяину: мол, все в порядке, технику я забрал, а дверь зря открытой держишь, и отправился восвояси.
— Ваша записочка? — Курылев вытащил из папки, лежавшей на столе, клочок бумаги.
— Моя.
— Когда, при каких обстоятельствах…
Ярославцев рассказал.
— Значит, об ограблении вам ничего неизвестно? — выслушав, спросил Курылев. — Квартирку-то потрясли, — сообщил он грустно. — Вот так вот. Потому и дверь открыта была. А украли ценную картину. Целенаправленно, значит…
— Но при чем здесь… — начал Ярославцев.
— А при том, — с нажимом перебил Курылев. — Странно вы как-то все объясняете, товарищ. Чудно… Я, конечно, не следователь — тот болен, я по его поручению тут с вами… беседую; но чудно… Входите в чужую квартиру, не удивляясь отсутствию хозяина, тому, что дверь настежь… Берете аппаратуру.
— Так свою же аппаратуру!
— Правильно. Насчет нее состава нет…
— Спешил я, поймите!
— И доспешились. — Курылев насупился. Помолчал, крутя в пальцах авторучку. — А гражданин Докукин, между прочим, утверждает, будто на картину вы неоднократно и напряженно заглядывались и купить картину предлагали так же неоднократно… Есть свидетели…
— Ну… крепостной художник, помню… Портрет девушки; милое лицо, живые глаза… Да, предлагал… и что же?
— А то, что гражданин Докукин на вас очень серьезную бочку катит, — сообщил Курылев. — Полную… резко негативных о вас высказываний.
И тут Ярославцев вспомнил: Докукин был должен ему три тысячи. С долгом тянул уже год… Может, посчитал экспроприацию картины как акт погашения долга и оскорбился, накляузничал?
— Но я же не брал, клянусь! — воскликнул Ярославцев с горячностью и замолк, потрясенный нелепостью всего происходящего, унизительностью обстоятельств и неимоверной их глупостью. — Ерунда какая-то, — произнес, озлобляясь.
— Хорошенькая ерунда… — усмехнулся Курылев беззлобно. — Сейчас задержим вас за нее на трое суток, а после посмотрим, о какой такой ерунде вы речь поведете… На работу сообщим…
— Доводы! — признал Ярославцев. — Потому давайте думать. Итак. Картину похитили. Полагаю, и в самом деле с прицелом и с умыслом. Значит, возвратить ее силами вашего отделения будет нелегко, так?
— Интересно излагаете, — произнес Курылев. — С удовольствием послушаю дальше.
— Докукина я знаю весьма поверхностно, — продолжил Ярославцев и замолчал: в памяти всплыла забавная сцена: он и Докукин едут по какому-то пустяковому делу на машине Докукина; заворачивают на заправку гостранспорта, и Докукин, прихватив батон ворованной с мясокомбината колбасы, идет на переговоры с заправщицей, повергая Ярославцева в беспросветную удрученность от своей сопричастности к какому-то жалкому проходимцу…
— …знаете поверхностно, — напомнил Курылев.
— Да. Но кое-что в характере его для меня очевидно: жаден, расчетлив и, видимо, используя ситуацию, желает из меня что-нибудь да выжать. Так?
— Ну, на такие вопросы мы ответов не даем, — важно отозвался Курылев, выпятив нижнюю губу. — Но бочка катится, учтите.
— А если так я ему компенсирую и с концом дело! — взвинчиваясь, предложил Ярославцев. — Не до того мне, чтобы еще в склоку со всякой мразью лезть… Пусть назначает цену.
— Героический вы! — одобрил Курылев с удивлением. — Только… дело-то не с концом! В начале дело, в периоде расследования. И закрыть его могут лишь в следственном отделе района при отсутствии, дополню, состава преступления или его события… Что решает исключительно прокурор. Дошло? — Он пристально вгляделся в Ярославцева, как бы постигая сущность собеседника и характер его. — А может, произнес полушепотом, опуская глаза, — у вас с Докукиным договоренность имелась о продаже картины, а? Он вам доверял, а потому и ключи у вас были… там замок чистенько вскрыт, н-да. Ну, а про договоренность Докукин подзабыл или на всякий случай милицию вызвал, поскольку к вам дозвониться не сумел… А после — все утряслось. Поговорите с Докукиным, авось, вспомнит чего… Следователь — женщина благожелательная… В общем, зайдите ко мне сегодня вечерком после разговора с потерпевшим!..
С гудевшей от злости и досады головой Ярославцев прямо от отделения позвонил сволочному потерпевшему домой. Тот оказался на месте.
— Ты что же творишь, пакостник? — начал Ярославцев.
— А ты чего творишь? — донесся грубый ответ. — Чего по квартирам шастаешь?
— Короче, ищешь крайнего, на милицию не надеешься?
— Почему? — раздалось в трубке лениво. — Я заявление подал, пусть разбираются, у них служба такая.
— Но меня-то зачем приплел? Хорошо. — Ярославцев закусил губу. — Возможность договориться есть. Сколько ты хочешь за мазню?
— За старинное полотно я хочу десять тысяч советских рублей, — молвили рассудительно и чеканно.
— Подумаю.
Он повесил трубку. А потом словно очнулся. Да о чем он заботится, в конце концов! О сохранении престижа — как бы на работе не прознали, в какое дело ненароком вляпался? Или следствия испугался? Да эти же волнения — из прошлого, из другой, навсегда другой жизни. Да, можно и на своем стоять, можно и договариваться как-то… И опер Курылев, и женщина-следователь, конечно же, поймут его, не поверят, что способен на такую дешевку, да оно и видно: сразу, вполглаза, и играть не надо в честного и благородного; образ убедителен сам по себе, а масштаб образа тоже виден издалека… Остановись в суете, Володя. Прояви хотя бы немного уважения… к собственной личности. И договариваться с хищненькой крыской Докукиным, равно как и с милицией, вынужденной охранять интересы потерпевшего, не стоит, когда-то стоило, теперь — нет. Только бы потянуть время. Вообще, конечно, некстати, ох, как некстати все!
И еще о суете… Куда теперь-то ты собрался, мил человек! В министерство! А зачем? Инерция, да! Общественное ты все же животное, Вова, и даже, когда все законы общества для себя сломал, все-таки пытаешься им следовать, смешной человек… Другой вопрос — неудобно, ждут тебя там…
Он опустил еще одну «двушку».
— Привет, старина, — произнес механически. — Как вы там без меня, не скучаете?
— Ты где? — донеслось испуганно.
— Пока — на свободе, — сказал Ярославцев грустно.
— Слушай, брось дурака валять! У нас неприятности… Тебя, что, вызывали уже?
— О чем ты! — насторожился Ярославцев.
— Ну, приезжай, не по проводам же…
Разговор в министерстве подтвердил старую истину: беда не приходит одна. Сигналы были тревожны: вся документация по «перспективным» производствам изучалась ОБХСС, кое-кто из знавших механику создания производств приземлился на нары следственного изолятора, но самое главное — им, Ярославцевым, интересовались.
Он вышел из министерства и вдруг заметил ту же машину, что стояла около отделения милиции, — «Москвич»-фургончик с окрашенным черной нитроэмалью бампером. Или совпадение?
Сел в «Жигули», тронулся с места. «Москвич» следом не поехал. Совпадение, наверняка…
Соберись, подстегнул он себя. Сегодня куча дел: Джимми, Прогонов, Анна; вечером к Курылеву наведаться надо — вот же где споткнуться привелось, расскажи, не поверит никто! Или все закономерно? Коли пошел поперек закона, он тебя всюду своим мечом достанет, и если не поразит, то уколет.
И вдруг нахлынуло дремотное безразличие. Предстоящая кутерьма дел представилась настолько тягостной и беспощадно опустошавшей душу, что ввязываться в нее он не мог просто физически. И вместо того, чтобы ехать в центр, круто развернулся и двинулся в сторону кольцевой автодороги, за город.
В конце концов кончался быстротечный, волшебный май. И он хотел видеть, как наливается зеленью трава, ощутить запахи веселого солнечного леса, которого, вероятно, не доведется навестить уже никогда. Тюрьма пахнет цементом, затхлостью и смертью, а сказочная западная жизнь… наверное, тем же самым, что и тюрьма. Для него по крайней мере. Но этого леса там не будет, точно. Да и не до леса там.
С шоссе свернул на бетонку, проложенную через сосновый бор; въехал на пригорок, и оттуда вольготно и радостно открылась знакомая картина: излучина реки, скопление домиков за одинаково крашенным в зеленый цвет штакетником — он завез сюда и штакетник, и краску. Для всех.
Дачи у него не было. Считал, не стоит вклада нервов и сил в пустое. Матерый — тот да, обстоятельно сооружал себе загородные хоромы — с бильярдной, винным погребком, облицованными мрамором каминами и бархатной мебелью — зачем только, спрашивается? И для кого? Он же, Ярославцев, купил дом в деревне — просторный, крепкий, с русской печью; перевез туда старую мебель, холодильник, утварь и тем ограничился.
Население деревни — старики, кое-как подрабатывающие в совхозе, и единственная молодая пара, выращивающая на ферме бычков. Вот, собственно, все жители. Зависело же от них многое, пусть и по мелочам: у одного в бане попариться можно, другой навоз на огород подвезет, третий в теплице форточки раскроет, когда парит, а хозяина нет дома; четвертый подсобит с дровами… И Ярославцев в долгу не оставался. Доставал нуждающимся лесоматериалы, цемент, возил продукты из города; и заключал кое с кем деликатные трудовые соглашения — весьма выгодные обитателям деревни: кто траву на дворе выкосит, кто грядки прополет… Возиться самому с огородом — времени не находилось, а местных такой труд не обременял. И заработок от него не лишний, особенно у кого лишь пенсия в кармане, а досуг — лавочка перед палисадником…
Ворота он открывать не стал; остановил машину напротив ограды, прошел через калитку во двор.
Дом встретил его стылой затхлостью: вымерз за зиму в шубе снега и льда, отстоял нетопленым…
Он нежно провел ладонью по гладким, словно отполированным, бревнам стены горницы, плотно проложенным мхом.
Открыв закопченные заслонки печи, сложил шалашиком дрова, плеснул керосин из бутылки… Пламя с шипением пыхнуло; пелена дыма, качнувшись, нехотя устремилась в трубу — не ослабла тяга за зиму, не сдала печь. Грустно стало до боли. Чего топить… да и зачем он приехал сюда? Говорят, перед смертью люди обходят дорогие им места… Правильно говорят, наверное, есть в том необходимость… А какая? Чтобы вспомнить и осознать? Пройти от истока к устью? Вновь? Отдать дань прожитому перед собственным судом? Но к чему судиться даже и с самим собой перед обращением в ничто? Или… есть перспектива?
Он как бы осекся на этой мысли. Перспектива. Какая же перспектива у него? Сбежать, предать все, себя предать! — подставив под удар женщину, любящую его слепо, истово… И дальше? Ну, сбежит. А там, в чужедальней жизни? Приспосабливаться, химичить, прозябать паразитом с уворованным капитальцем — так ведь, так! А что остается? С повинной? А он не чувствует себя виноватым! Да, он пошел против каких-то установок, да, не хватило ума вовремя проанализировать ошибки… Теперь же — держи ответ! Ну, можно, конечно, подготовить блистательную речь перед высоким судом — убедительную, проникновенную… Но что сейчас у печки речь произноси, что где-то, разница невелика.
Прогнувшись, скрипнули половицы в сенях.
— Наше почтение! — На пороге, ухватившись натруженными пальцами за выступ притолоки стоял Константин — скотник с фермы, молодой, плечистый парень.
— Привет, — выдавил Ярославцев.
— А я гляжу — пропал. — Константин шагнул в избу. — Ну, думаю, завертелся, значит, в делах…
— Дела, дела, — подтвердил Ярославцев механически.
— Ну, думаю, огород вскопаю, посажу там… ну, как в прошлом году, — огурчики, помидорчики, понимаешь…
— Спасибо, Костя, — сказал Ярославцев. — Если какие расходы…
— Во! — Костя со скрипом почесал крепкий затылок. — Рассада, то-се, в общем, вышел из бюджета. Поможешь?
— Сколько? — Столь же механически, как и говорил, Ярославцев достал бумажник.
— Ну, замена полиэтилена на теплице, семена… Огурцы, между прочим, отборный сорт! Потом кинза эта, как заказывал… Чего ради только? Она ж вонючая, дух такой, аж…
— Спасибо, Костя. Сколько?
— На стольник за все про все потянет, верняк! — выпалил Константин с торопливой убежденностью.
— Сто рублей. — Ярославцев положил на стол деньги.
— Премного благодарствуем. — Деньги исчезли в Костиной телогрейке. — Да, бензинчик тут есть по дешевке… — Он смущенно закряхтел. — Смотри, я б договорился… А то туда-сюда, ездишь, как заведенный, а тут вроде за полцены…
— Ворованный?
— А? Ну… естественно, не свой же, ты даешь! Не, ну цены заделали, да? Будто у нас расстояния, как в Монте-Карло каком!
— Не надо, Костя. На бензине не сэкономишь. Мазаться… в канистры переливать… противно. Да канистр нет.
— Ну… — Костя помялся, подыскивая предмет для дальнейшего разговора. — Это… Я тут с бабой-то своей вспоминал… Помнишь, телек ты привозил с приставкой, кино глядели… Так я того, соображаю, может, подсобишь приобрести?
— Костя. Это дорого. И пленки дорогие.
— Да мне б пару всего… позабористее, понимаешь? — Костя присел на скамью. — Ты б одолжил мне, а? Ну, не за бесплатно, ясное дело. Я в момент… в общем.
— Окупил бы, да? — кивнул Ярославцев. — Мужичков бы собрал, с каждого по десяточке…
— Да если стоящее чего — и по четвертному бы отвалили!
Ярославцев почувствовал запойную какую-то усталость. О чем говорит этот человечек? О чем?! Ведь был же парень, как парень. Щедрый, работящий, любящий землю и крестьянское дело. А кто сейчас? Хам, рвач, сволочь в самом естестве. Что по замашкам, что по сути. А кто сделал его таким? Ты, Ярославцев, ты! Платил, не считая денег, Косте за мелкие услуги и за восхищение его перед интеллектом твоим, щедростью и возможностями… Да еще и учил его, дурачка, не как хозяйство вести, а как дензнаки заколачивать. Бросил после такой науки Костя свой трактор, устроился скотником, взвалив на жену-напарницу рабочие обязанности, и, отстроив теплицы, растит теперь тюльпанчики для рынка, ничем не обеспокоенный. Корову продал — на черта корова, когда у соседней бабки молока взять можно, а тюльпанчики куда меньше времени отнимут, чем рогатые да хвостатые. Знай считай барыши… А уж на молочко хватит, чтобы раскошелиться…
— Из бюджета, значит, вышел, — вздохнул Ярославцев.
— Ну да! То-се, баба шубу купила… из норки. Ну, как насчет телека-то?..
— С телеком, Костя, тебя посадят, — ответил Ярославцев. — И выбрось из головы свои… забористые идеи.
— Кхэ. — Костя обиженно крякнул. — Коли отказываешь… другие есть… люди. У лесника у сына тоже имеется… Но дорого просит, черт!
Ярославцев, отдернув занавеску, поглядел в окно. Мыча, вдоль деревни шли на дневную дойку коровы, разбредаясь по дворам. В деревне было тихо, солнечно и как-то по-особенному уютно. Раздражал только деловито бормочущий голос Кости.
— Так что тут с тебя еще пятерочка, — донеслось до Ярославцева.
— Ну, запиши в долг. — Он встал. — Давай. Поехал я. Дом цел, убедился… слава богу. Поливай грядки. Счет оплатим.
— Карбонатику бы… — заскулил Костя. — А? Я б тебе тоже удружил, знаешь меня…
«Вот бы кого с Докукиным свести…» — подумал Ярославцев.
— Самому надо карбонатик сочинять, — отрезал он, с силой вгоняя печные заслонки обратно в пазы. — Подумай, кстати. Хорошее дело. Денежное.
Такой идеей Костя не проникся, сказал: «за падло!» — то бишь, чересчур трудоемко, но дальнейшие его слова Ярославцев уже не воспринимал. Он был захвачен иным: видом этой деревенской улицы, ее вековой тишью и убогой красотой, таившей в себе некую непознанную тайну… Но почему убога она? Почему покосились дома? Отчего смертной тоской вырождения веет? Не так все надо, не так!
И вспомнились предместья Праги и Берлина, Брюсселя и Лондона: просторные коттеджи, где каждый цементный шов в кладке выверен до миллиметра, где, глядя на фасад, ощущался свободный объем интерьера; где наконец вспоминалось о больших городах как о чем-то весьма непривлекательном… Малые страны? Уклад другой? Культура? И в этом дело. Но главное — в инерции страны-гиганта и в торопливости ее скроить что-то и как бы, лишь бы успеть в основных «показателях» — подчас голых до схематизма…
Так размышлял он, подъезжая к городу. И снова подумал: ну, уеду. Вольюсь в жующее стадо среднего звена… И приветик? Все?
Решение. Оно полыхнуло зарницей, высветив в кромешной тьме безнадежности единственное для него приемлемое.
Сначала он усомнился, но сомнение растаяло, не успев окрепнуть. И тут же выстроился план — единственно приемлемый…
Из первого же телефона-автомата позвонил Анне. Сказал:
— Слушай внимательно. То, что я говорил, — бред. Полный бред! Не делай глупостей, поняла? И… прости меня. Тогда я был… сумасшедшим.
Она радовалась, пыталась что-то выяснить, уточнить, но он оборвал поток ее слов и возбужденных эмоций.
— Я спешу. Извини. Звонков в ближайшее время не ожидай. — И — повесил трубку.
Задумался. «Москвич»-фургончик. Неужели… Началось, продолжается или мерещится? Будем считать — началось. И продолжается.
Он нанес три визита. Три бесполезных, пустых визита к серьезным людям. Выпил пять чашек кофе и поболтал о пустяках. Так было надо.
Вечером, как условливался с Курылевым, заехал к нему.
— А-а, вы… — поднял тот на него равнодушные, но в глубине чем-то обеспокоенные глаза. — Ну, как? Говорили с Докукиным?
— Пробовал, — сказал Ярославцев. — В принципе он не против… — Замолчал, выжидая, что ответит оперуполномоченный.
Покрутив вокруг да около, оперуполномоченный заявил, что в невиновность Ярославцева верит, с Докукиным более никаких переговоров вести не стоит, вора они найдут, и, когда возникнет необходимость, его, Ярославцева, вызовут. Живите спокойно.
Выйдя из отделения, Ярославцев сказал себе:
— Кажется, продолжается… А когда началось?
МАТЕРЫЙ
Дачу новым ее владельцам передавали вдвоем с колченогим Акимычем, старым бывшим вором, служившим на даче ныне в сторожах. Законный уже хозяин — известный композитор, стеснительно предлагал отобедать, затем, спохватываясь, выспрашивал упущенные подробности относительно эксплуатации отопительной системы и водопровода, после снова возвращался к предложению перекусить в честь, так сказать… Композиторская жена вела себя иначе: подчеркнуто отчужденно, обеда не предлагала и к общению не стремилась.
— Достал ты ее ценой, — глядя на нее, шепнул Акимыч Матерому.
Тот снисходительно усмехнулся.
Наскоро попрощавшись с покупателями, сели в машину, и вот в последний раз мелькнула за ветвями яблонь знакомая крыша…
— На квартиру-то меня подбросишь? — спросил Акимыч, жавшийся на заднем сиденье к своему скарбу — двум потертым чемоданам и холщовому мешку с одеждой.
— Акимыч… друг! — сказал с чувством. — Есть просьба. Не хочу тебя подставлять… сам еле вроде ушел от ментозавров, чтоб они повымерли, от челюстей их ненасытных… Но кой-чего в городе осталось. На одной квартиренции. Просто жаль терять, Акимыч.
— А квартиренция простреливается? — ожесточенно проскрипел старик.
— Вот не знаю… Телефон у соседа молчит, а почему?.. Вдруг уехал, вдруг запой… Ваней его кличут, соседа. А задача, Акимыч, такая. Дам я тебе ключики, войдешь в квартирку; если Ваню застанешь, скажи, просил тебе Матерый передать: все барахло, что в комнате, в коробках, твое, Ваня, в подарок. А если нет там Вани, а другие люди околачиваются, скажешь, человек на улице за троячок намылил меня вернуть ключи хозяину…
— Как лысого причесывать, не учи, — огрызнулся Акимыч.
— Прости, родной, — Матерый засмеялся. Ему в самом деле было весело и отдохновенно. Будто всю предыдущую жизнь выделывал он какую-то затейливую, изматывающую работу, а теперь — конец работе, ну, разве часок еще последний остался, а там, дальше, — долгий век беспечности, свободы и солнца. — Войдешь в комнатку. На подоконнике — кактус. А возле кактуса — леечка. Маленькая пластмассовая… Худая — по шву разошлась. Моя фирма делала, — цокнул языком, припомнив. — Возьмешь ты леечку, бросишь ее в пакетик, а после поблуждаешь по городу, отрываясь от возможного.
— Камушки в леечке? — спросил старик. — В пластмассу заварил? Ясно… Боюсь: стар я стал…
— Акимыч… Сделай, родной. Я бы тебе леечку на сохранение оставил, но чего уж — давай откровенно: не двадцать тебе годиков… А я в этот город теперь ни ногой, сукой буду. На риск, думаешь, толкаю? Есть такой момент, да. Но так он всегда есть — вон на машинке сейчас катим, а колесико вдруг да отскочи…
— Тьфу, дьявол, типун тебе… — заерзал старик. Матерый вновь рассмеялся. Громко и чистосердечно, аж в легких захолонуло — отдохнуть надо, к морю надо, ветрами солеными отдышаться… Море. Вспомнил, как еще мальчишкой, после колоний, барачных ночей, заборов в колючей проволоке с бастионами вышек, вернулся к морю. В каком-то давнем июле. Спокойно оно было тогда, прозрачно и тихо. И он вошел в искрящуюся золотом лазурь воды — в одежде, в ботинках. И погладил море… Как старого, верного пса у дома, к которому вернулся из скитаний, боли, тьмы. Море! Сколько же веков он не видел его… Вот на Каспии был недавно, а не видел. Сутолока вокруг мешала, людишки, дела, разговоры-беседы. А где-то вдалеке, декорацией, синь… из которой денежки качались в виде балыков и икорки.
— Ну, а коли засыплюсь? — спросил старик осторожно.
— Да тебе-то что? — отмахнулся Матерый. — Криминала на тебе никакого. И, по-моему, — посерьезнел он, — чисто там. Вчера проезжал — чисто. Знак на подъезде в случае провала должен быть: меловая черта. Ан нет черты.
— Э-э, где наша не пропадала! — согласился Акимыч. — Только домой сначала давай, барахло сброшу.
Матерый кивнул, сосредоточенно насвистывая разухабистый мотивчик.
Через три часа на условленном месте Акимыч вручил ему заветную леечку.
— Квартира пустая, никого, — доложился старик. — Ну, взял вот… А после по городу… до седьмого пота петлял, аки лис от гончей стаи. Но вроде от страху петлял, не от нужды.
— Спасибо, Акимыч. — Матерый стиснул его плечо. — Не поминай лихом. Будет судьба — свидимся.
— Да уж… простились, Лешка! — Старик толкнул дверь машины. — Чего там… Осторожно езжай только, спеши в меру… Далеко ведь собрался, знаю…
Матерый проводил его взглядом — старого, хромого, такого одинокого в оживленно спешащей, обтекающей его толпе.
Прощай, Акимыч!
А теперь — уходи прочь, пролетай за стеклом, проклятый город-ловушка, город страха и тягостных будней, город-убийца, город-кошмар — да, ты вернешься еще во снах и не раз заставишь вскочить среди ночи с постели с испуганно бьющимся, как птица в силках, сердцем…
На выезде из города у поста ГАИ стояло пять машин — видимо, шла какая-то проверка. Двое инспекторов на обочине пристально высматривали в потоке машин одним им только ведомые цели.
Пронесет? Нет… Лейтенант указал жезлом — принять вправо! Матерый отстегнул ремень безопасности, палец под куртку, привычным движением спустил предохранитель с «парабеллума». Некстати вспомнился перевод названия пистолета: «готовься к войне».
— Ваши документы… — козырнул лейтенант. Принял водительское удостоверение и техпаспорт, бегло просмотрел их. Вернул. — Идите на пост, отметьтесь, — буркнул, отворачиваясь.
— Зачем? Не ночь же.
— Идите на пост, отметьтесь, — раздраженно повторил инспектор. — Ночь, день, какая разница? — И вновь отвел в сторону жезл, останавливая теперь уже «Волгу».
Ну, гады! Матерый прошел в стеклянный куб помещения, осмотрелся — коротко и чутко: двое, очевидно, водители, стояли за спиной капитана, сидевшего возле пульта и переписывающего их данные из документов в журнал. Трое сержантов толклись посередине, обсуждая со смешками и прибаутками какой-то эпизод из служебной практики. Еще один — пожилой, в штатском, но по всему чувствовалось — не гаишник, опер — опытный, битый, сидел на стуле в углу, невнимательно листая брошюрку.
Больно, невыносимо больно кольнуло в груди… Что-то горячее медленно обволокло сердце, прошибло потом. Но не это занимало Матерого, другое: в том, как стояли и сидели здесь люди, в том, как беседовали, возились с бумажками, листали брошюрку, увидел он голую, беспощадную схему.
— Вы тоже с документами? Давайте… — едва обернувшись в его сторону, протянул капитан, оторвавшись от журнала.
Вот пальцы капитана, вот касается их серая книжечка техпаспорта, а вот его, Матерого, кисть, а к ней стремительно приближается ловко выпорхнувшая из рукава одного из «водителей» клешня наручника…
Он видел все происходящее в каком-то замедленном темпе, и точно так же неторопливо и густо окутывала сердце жгучая, скручивающаяся волна…
Щелк — наручник плотно охватил запястье. Милиционеры разом бросились на Матерого сзади, «водители» повисли на руках…
— Черта с два… — прохрипел он, наливая все мышцы не силой, уходящей уже, сломленной, — ненавистью.
Обвиснув на «водителях», ударил ногами сержантов, целя каблуками в переносицы. Двое рухнули. Лейтенант за столом выхватил пистолет из кобуры, потянул затвор, но он Матерого не пугал, пока еще успеет пальнуть… Локтями отбился от сержантов, настырно устремленных к нему, не то угрожавших, не то увещевавших. Или увещевал тот, пожилой, главный? Мир потерял все звуки. Матерый бил — резко, беспощадно и точно. Бил этих коварных врагов, а они неотвязно цеплялись и цеплялись, а ненависть уходила и уходила, лишая его всех шансов, в груди уже была какая-то холодная, погасшая пустота, будто вырвали оттуда все начисто и теперь ничего, кроме зиявшей пустоты, там не существовало.
И вдруг в сумятице лиц, рук, милицейских погон он отчетливо, как в фокусе, различил лицо пожилого — жесткое, неумолимое. Он, пожилой, наверняка и рассчитал, как его, Матерого, брать, чтобы все чисто произошло, без зазоринки. Он — главный волкодав. И, последним усилием сбросив с себя тяжкую, пригибающую к полу массу, он перекатился к стене и, изогнувшись, выхватил «парабеллум».
Мир окончательно сузился. Ныне в нем было лишь напряженное лицо главного врага, мушка и… неуловимо дрогнувший от выстрела ствол оружия. И мысли вот вам — хитрые, организованные овчарки, идущие по следу, истребляющие меня — санитара этого стада, выгоняющие неизменно на флажки закона, не дающего ни двигаться, ни дышать, ни жить. Мне! Да, пусть только мне, но я тоже целый мир, тоже! И стреляю сейчас в ваш мир, всегда меня изгонявший и не приемлющий мой…
А после ничего не стало.
СЛЕДСТВИЕ
Следствие пошло наперекосяк после внезапного исчезновения Монина из квартиры Прогонова, за что больше всех нагорело Лузгину. Ему ставилось в вину ослабление контроля, и удрученный Иван Семенович ночами не спал, безуспешно отыскивая потерянный след. В итоге, казалось бы, повезло: на тщательно опекаемую квартиру Лямзина прибыл гость. Далее дело стояло лишь за четкостью оперативных мероприятий, проведенных блестяще, но в самом финале случился сбой: при задержании Матерого Лузгин был убит, двое оперативников получили серьезные травмы, Монин же, по заключению судебно-медицинской экспертизы, умер от инфаркта. Предвидеть такую развязку не мог никто.
Гибель Лузгина меня потрясла, хотя я и сознавал: так, очевидно, и надлежало ему закончить свою жизнь. В схватке. Может, жестоко рассуждаю, но иных утешений не нахожу.
Выбил меня из колеи этот непредсказуемый финал, но расслабляться было нельзя: дело подходило к концу. Главным объектом теперь являлся Ярославцев. «Вел» его неутомимый Кровопусков, но спокойной жизни ни ему, ни мне главный объект не давал. Порою казалось все, хватит, пришло время ареста, но тут же следовала либо очередная его встреча с невыявленной группировочкой предпринимателей, либо еще какой-нибудь сюрприз. В частности, установили, что гражданин Ярославцев по паспорту иностранного торгового деятеля, находящегося в настоящий момент в столице, приобрел авиабилет по маршруту Москва — Лондон. Немедленно перепроверили документы иностранца — как выяснилось, состоявшего с Ярославцевым в давнем знакомстве… Документы в наличии у иностранца имелись, а потому сразу же родилась версия о дубликате-подделке. Прогонов? Навещал ведь его Ярославцев… Авиабилет он взял заранее, не торопился, что-то его здесь держало. Это «что-то» мы пытались прояснить, готовя одновременно систему будущих допросов с железными доказательствами, а их накопилось вагон и тележка… для перевоза, скажем, лодок, набитых севрюгой. Тяжелее всех приходилось Кровопускову: с одной стороны, наблюдение предписывалось вести неотрывно, с другой — будоражить Ярославцева тоже не рекомендовалось, поскольку поводов для беспокойства у него и без того имелось в избытке. Прерванная связь с Мониным и Лямзиным, сигналы с разгромленных баз, звонки начальствующих деятелей, задетых за живое. Хорошо, вовремя удалось вмешаться в деятельность районного отделения, имевшего, полагаю, какие-то виды на нашего подопечного.
Судя же по поведению Ярославцева, готовился им вывоз за рубеж значительного количества ценностей, и препятствовать ему в их собирании не стоило. В общем, решили предоставить ему возможность подойти к последней черте и дать ее перешагнуть. Мы занялись проведением плановых операций, и вскоре с постановлением о проведении обыска, с понятыми и милицией я позвонил в дверь квартиры Прогонова.
Визит наш хозяин воспринял спокойно: дескать, бывают ошибки, тревожат приличных людей по пустякам, но да приличным людям беспокоиться не о чем — заходите, гости нежеланные, располагайтесь, спрашивайте — отвечаем, отчего же не выяснить отношения?
На бланки паспортов, водительских документов, фальшивых печатей, обнаруженных в машине Матерого, Виктор Вольдемарович взирал с недоуменным высокомерием: не мое, не знаю… Монин? Да, просил несколько раз расчистить не представляющие художественного интереса иконки, заходил на чай…
Уверенно держался, скучаючи. Знал: с опытным преступником дело имел и за здорово живешь мастера своего он не сдаст; мастер — капитал непреходящий.
Обыск тоже не дал никаких результатов.
— Гражданин Прогонов, — начал я доверительно, уединившись с допрашиваемым в уголке комнаты, возле журнального столика, — знакомо ли вам понятие измена Родине?
— Никогда… — торжественно привстал Прогонов.
— Значит, — сказал я, — вы добросовестно заблуждаетесь. Возьму на себя труд повысить ваш уровень правовых знаний. Так вот. Недавно некто Ярославцев, он же Хозяин, принес вам интересный и в полном смысле заграничный паспорт.
— Какой еще…
— Вы уж не перебивайте.
Прогонов возмущенно засопел, но уши его просто-таки оттопырились от внимания к последующим моим словам.
Я вкратце ознакомил его с перспективой очутиться на скамье подсудимых как соучастника государственного преступления.
— …это именно побег за границу с целью избежания наказания за совершенные преступления, — вещал я. — Побег, не какой-нибудь незаконный переход… Контрабандой Ярославцев не занят, любимой девушки или же родственников в странах с иной общественной системой не имеет.
— Такую, с позволения сказать, лекцию я мог бы прочесть и вам, молодой человек, — перебил меня Виктор Вольдемарович. — Увы, ни одного юридического открытия… Ладно, продолжайте.
— Ярославцев еще в стране, под нашим плотным контролем, — уверил я. — Билет Москва — Лондон им уже заказан. Посему… вам имеет смысл повиниться…
— Очень хорошее слово! — поддержал Прогонов, подняв палец. — Но представим теперь идеальный, хотя и отвлеченный вариант, я оказываю, причем добровольно! — как жертва шантажа этого ужасного государственного преступника — помощь следствию… Более того — никакие причины в дальнейшем не побудят меня к совершению аналогии…
— Виктор Вольдемарович, — перебил на сей раз я. — Вы чересчур многого хотите. Нет. С паспортом разберемся подобру-поздорову, за остальное придется пострадать. Ярославцев же покрывать вас не станет, не надейтесь. Преступление слишком серьезное, чтобы мы позволили ему умолчать. Да и кто вы для него? Так, эпизод. Кстати, с подоконничка следы стерли?
— Паспорт… было! — после длительной паузы выдавил из себя Прогонов. — Очень нехорошо, понимаю… Мы… как? — Растерянно огляделся. — Придется пройти или…
— Сожалею, Виктор Вольдемарович… Принес вам несчастье. Такая работа.
— Тогда — звонок любимой женщине, чтобы присмотрела за пингвином. Родное существо…
— Существо придется сдать в зоопарк. По крайней мере до окончания следствия.
— Молодой человек… не надо столь лукаво обнадеживать. — Прогонов вздохнул. — Следствия… До окончания срока. — Он приподнялся со стула. — Просьба номер два, у меня в холодильнике мясо, знаете, икорка… Разрешите? Прощальный ужин…
— Конечно, Виктор Вольдемарович, конечно. — Я проглотил слюну, вспомнив, что не успел сегодня ни пообедать, ни поужинать. Домой заявлюсь за полночь, разогревать что-либо будет лень, опять сухомятка и сон…
Сопроводив Прогонова до машины, я отправился в УВД. У Кровопускова новостей для меня не имелось. Вечером Ярославцев явился домой, и, видимо, надо ожидать следующего утра.
Следующий день тоже яркими событиями не отличался. Ярославцев квартиру не покидал, к телефону не подходил, а жена его, Вероника, всем интересующимся, в том числе младшему лейтенанту Курылеву, отвечала, что у мужа приступ повышенного давления, он отдыхает и в переговоры вступать не намерен. Так несуетно минули еще одни сутки. Болезнь Ярославцева даровала нам некоторое затишье и возможность передохнуть в преддверии дня решающего, когда в международном аэропорту нам надлежало задержать некое лицо, под чужой личиной пытающееся незаконно покинуть страну.
За три часа до объявления вылета я выехал в аэропорт. План действий был отрепетирован, люди расставлены. Таможенный и паспортный контроль Ярославцев минет беспрепятственно, все его возможные контакты уже здесь, в порту, будут строго учтены; арестуют же его на подходе к трапу.
Еще не началась регистрация пассажиров, когда и пришло настораживающее известие — из дома объект так и не выходил… Мы немало переполошились, предчувствуя внезапный поворот событий. И — состоялся такой поворот!
Прошла регистрация, паспортный контроль, в течение которого каждый пассажир проверялся особо тщательно, но в итоге самолет улетел в Лондон с одним с пустующим местом…
Ломая головы, кинулись обратно, в город, оставив на всякий случай двух сотрудников в порту, но зная: без пользы оставив…
Разговор с женой Ярославцева все прояснил. В тот в вечер, когда в последний раз зафиксировали его возвращение на место жительства, он собрал чемодан, сообщив жене, что поздно ночью должен уехать в командировку в Сибирь. Всем, кто будет звонить, просил отвечать про пресловутое давление, мотивируя просьбу такого рода разными служебными хитростями и интригами с начальством… Послушная жена в точности исполнила наказ мужа. Личной машиной тот не воспользовался, вышел из дома, вероятно, в гриме — тут, впрочем, существовало много вариантов…
По справочной Аэрофлота выяснили той же ночью вылетел Ярославцев в Красноярск. В гостинице не останавливался. И, едва успела взволнованная его супруга сообщить нам, что в Красноярске живут его старинные, еще по институту друзья, как оттуда пришло сообщение о гибели ее благоверного…
Я срочно вылетел в Сибирь. И уже через несколько часов был посвящен в подробности довольно-таки странной истории.
Институтские друзья хором утверждали следующее: Ярославцев прибыл в Красноярск, дабы утрясти, как он туманно выразился, некие животрепещущие проблемы, касающиеся деятельности местных предприятий — каких именно, не уточнил, лишь сообщил день спустя, будто поставленные перед ним задачи выполнены. Затем же уговорил большую компанию вспомнить — благо, приблизились выходные дни — бытовавшую ранее традицию сходить в тайгу, в поход, на берег одной маленькой речки, впадающей в Енисей, и сплавиться по ней на плоту.
Погода стояла теплая, тайга цвела и пахла; в общем, убедил Ярославцев компанию без труда.
Речка, с течением стремительным и бурным, извивами огибавшая поросшие хвоей бесконечные сопки, была живописна; единственное, что мертва благодаря долгим годам молевого лесосплава. Лесорубы работали справно, и неслись, кружа в водоворотах, бесчисленные бревна — часть из которых топляками устлала со временем дно, часть же гнила по берегам… Но плотогонов-любителей несшиеся по соседству вековые стволы сосен не смущали, напротив, это приносило им, судя по всему, еще какие-то острые ощущения игры, риска, необходимости быть настороже.
На одном из порогов громоздкий плот, несший компанию, сильно тряхнуло, и зазевавшийся Ярославцев очутился в воде… Его скрыли следовавшие за плотом бревна; никто не успел даже вскрикнуть, не то чтобы прийти на помощь…
Плот погнало дальше, за поворот, а причалить к берегу удалось лишь через пятнадцать минут…
Из шести свидетелей необъективными могли быть трое; остальные Ярославцева прежде не знали и… что говорить, внушали доверие. Работник районной прокуратуры, дав мне для ознакомления дело «Об утонутии гр. Ярославцева…», справедливо сказал: повинна стихия, а не страсти людские. И еще сказал: если в отстойники труп прибило — тогда труба дело!
Посмотрел я и на отстойники — зрелище угнетающее: тысячи огромных стволов, напирающих друг на друга в зоне впадения реки.
В чемодане Ярославцева, изъятого из квартиры его приятеля, у которого он остановился, мы обнаружили авиабилет Москва — Лондон и заграничный паспорт — последний шедевр Прогонова. Впрочем, не последний. Последним, видимо, будет плакат для внутренней агитации колонии «На свободу с чистой совестью!». Желать Прогонову этой творческой удачи я мог с полным основанием.
Итак, возник естественный вопрос: было ли утонутие? Если нет, тогда надо отдать должное: игру вел Ярославцев тонкую: давал нам контакты, оттягивая арест, приобрел с провокационными целями билетик, заставив уверовать нас в свой побег в чужедальние страны… Но имелись аргументы и за «утонутие». Во-первых, несмотря на все изящество, риск игры превышал уровень крайней ее опасности. Во-вторых, фактически Ярославцев ушел в никуда голым… К примеру, что стоило ему захватить с собой деньги, обнаруженные нами в тайнике, оборудованном под газовой плитой в его квартире, деньги, о которых и жена-то не знала…
— Как-то он хитренько смылся в эту Сибирь, — сказал я шефу. — Не нравится мне… И труп не обнаружен… Розыск объявлять?
— Хитренько, — согласился тот. — И что ж? Дела утрясать уезжал. Какие вот?.. А труп… тебе же насчет отстойников объяснили… Потом это не речка-вонючка в нашем пригороде, а приток могучего Енисея, сурового и глубокого. Маловато оснований для розыска… я так считаю. Тем паче… — Шеф как-то странно помедлил, отвернувшись. — Умер он. Так или иначе. Не будет уже Ярославцева. Того Ярославцева. Умерь пыл, в общем.
Вот, собственно, и все. Осталось огромное бумажно-хозяйственное дело, которое еще предстояло разбирать и разбирать… И я принялся вместе с другими разгребать эту гору, состоящую из десятков дел… Выделенных, как у нас говорят, в отдельное производство. Но какой-то осадок остался… Подобный тому, какой, вероятно, бывает у ловца, подстрелившего вроде бы дичь, но так и не нашедшего ее в сумрачных топях…
Спустя два месяца меня навестил энергичный Кровопусков, крепко получивший по шапке за необеспечение бдительного наблюдения, халатность и тому подобное.
— Тебя-то гложет досада? — спросил, ища сочувствия.
— Ну, так… — сказал я.
— Тогда слушай. Недавно на речке этой обнаружили труп утопленника… Нет, — покривился, — не Ярославцев… Какой-то тип бичующий, без документов, судя по всему, по пьяному делу в реку сверзился… Личность, несмотря на грандиозные старания, не установлена… — Он выдержал паузу. — Похороны, поскольку тело сильно пострадало, будут производиться в закрытом гробу. А тут на одном кладбище есть постоянно просматриваемое местечко… Насчет же «постоянно» я позабочусь. Со сторожем там… Мой вопрос, короче. Ну, как считаешь? Ты бы навестил свою могилу?
— Жутковато, наверное…
— Не, давай без лирики, — напирал Кровопусков. — Он, конечно, мужик ушлый…
— Если он еще в книге жизни, то, наверное, придет, — сказал я. — Но проблема эффективности…
— Спорно, да, — кивнул Кровопусков. — Но — гложет меня, понимаешь…
— Точно, — высказался присутствующий при нашей беседе коллега Алмазов. — Должен прийти. Комары вон… на утюг летят… Инстинкт слеп. Лично наблюдал, — кашлянул он и замолчал, вращая глазами в поисках слов.
— Ну… типа того, — подтвердил Кровопусков, внимательно посмотрев на моего коллегу.
— Богатая мысль, — в свою очередь, сухо сказал я.
…Он вошел в купе, забросил чемодан наверх и отправился покурить в тамбур. Поезд тронулся — неслышно и плавно. По вагону проводница разносила чай, приглушенно играла музыка в динамиках, неслась в оконцах синяя темнота подступавшей ночи, редко прорезанная огнями. Дела он сделал, поездка, кажется, оказалась удачной, им будут довольны.
Исподволь вспомнил могильный обелиск. Чего-то в нем на хватало… Эпитафии, может быть? А какой? Какой именно?
— Кто ответит? — пробормотал он, отгоняя от себя пустое, ненужное раздумье.
Кто ответит?



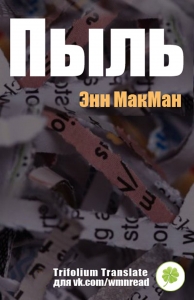




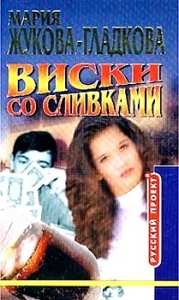

Комментарии к книге «Кто ответит?», Андрей Алексеевич Молчанов
Всего 0 комментариев