Андрей Таманцев (Виктор Левашов) Рискнуть и победить (Убить демократа)
Вы все хотели жить смолоду,
Вы все хотели быть вечными, -
И вот войной перемолоты,
Ну а в церквах стали свечками.
А.ЧикуновГлава первая. Детектор лжи
I
«Это я, это я, Господи!
Имя мое — Сергей Пастухов.
Дело мое — воин.
Твой ли я воин, Господи?
Или Царя Тьмы?..»
* * *
Суки.
На этот-то раз куда меня занесло? И куда еще занесет? Еще вроде не очень далеко.
И не слишком глубоко. Хочется в это верить.
А занесло пока вот куда — в старинный немецкий, а со времен Потсдамской конференции российский портовый город К.
Балтика. Первые числа ноября, но довольно тепло. Туманы. Сгустки фонарей по ночам. Такое впечатление, что город тесный, с замысловатыми переулками, с готикой медных и черепичных, потемневших от времени и вечной сырости крыш. Но когда с рассветом ветер-шелоник слизывает туман, открываются длинные унылые улицы с тяжелыми, сталинской постройки домами-комодами, с безликими просторными площадями, приспособленными скорей для посадки вертолетов, чем для жизни людей.
Память Великой Отечественной. В январе 45-го в ходе Восточно-Прусской операции (мне она как раз на госэкзаменах в училище досталась) бомбардировщики Белорусского фронта перемололи в крупу всю древнюю готику, а потом пленные немцы возвели на старых, частью сохранившихся еще с XIII века фундаментах этот памятник социалистического градостроительства. А поскольку коренные жители из тех, что не успели эвакуироваться в Германию, остались в развалинах, а почти все остальные были без огласки перемещены в Северный Казахстан и в Восточную Сибирь, освободившееся пространство заселили народом из Архангельской и Вологодской областей, с Витебщины, Могилевщины, из соседней Литвы. Так и смешались в городской речи поморско-прибалтийско-белорусские говоры.
Только пригороды остались почти нетронутыми, да в центре чудом уцелело несколько десятков старинных домов. Они-то и сообщали городу еле уловимый ганзейский дух.
Они и еще, пожалуй, немецкая чистота на улицах.
Я уже почти неделю торчу здесь. С утра от корки до корки прочитываю все местные газеты, потом шляюсь по продутым тяжелыми балтийскими ветрами улицам, терпеливо выстаиваю на предвыборных митингах или высиживаю в заводских клубах и домах культуры на встречах местного электората с кандидатами в губернаторы этой старинной прусской, а ныне российской земли. А вечером возвращаюсь в просторный однокомнатный люкс гостиницы «Висла» и включаю огромный «Панасоник», вылавливая из ежевечернего телеменю все общественно-политические программы.
Ну, и между этими делами занимаюсь еще кое-чем. Я бы так сказал: ищу иголку в стоге сена. А точнее, черную кошку в темной комнате. Постепенно теряя уверенность, что кошка в комнате есть. Но главное — вот это добросовестное, хотя и совершенно пассивное участие в общественно-политической жизни города К. Не столько слушаю кандидатов и их доверенных лиц, сколько присматриваюсь к участникам предвыборных сборищ. При сем присутствую.
Почему? Потому. Условие контракта. Они сказали: вникайте и думайте, это единственный путь.
Это меня и раздражает. Несоответствие цели и средств. Цели, которая передо мной поставлена: вникать и думать. И средств, которые были затрачены для того, чтобы я согласился на это невинное занятие. Невинное — по крайней мере, на этом, первом этапе. А до второго, судя по всему, вряд ли дойдет. Причем, говоря «средства», я имею в виду не только бабки. Хотя и бабок немало. Но кроме них — очень внушительный комплекс спецмероприятий. Очень.
Поэтому я и говорю: суки. Потому что не понимаю.
Пока я понимаю только одно. Я торчу здесь потому, что в этом балтийском городе некоторое время назад произошло событие, которое я для себя определил так: предварительное убийство.
Не сразу определил. Пройдя по смысловой лестнице:
— обыкновенное убийство;
— обыкновенное заказное убийство;
— странное заказное убийство;
— очень странное заказное убийство.
Больше скажу: чрезвычайно странное заказное убийство.
* * *
Ранним вечером 12 октября 1997 года на крыльце своего дома в пригороде К., застроенном не слишком богатыми, но ухоженными каменными и бревенчатыми особнячками под красными черепичными крышами, двумя выстрелами (один — прицельный, метров с шести-семи, другой — контрольный — в голову, в упор) был застрелен человек, у которого было столько же шансов стать жертвой профессионального заказного убийства, сколько выиграть миллион долларов по автобусному билету.
Николай Иванович Комаров. Пятидесяти пяти лет. Вдовец. Кандидат исторических наук. Доцент местной гуманитарной академии, бывшего пединститута. Не имеющий никакой собственности, кроме приватизированной половины особнячка, в которой он жил вместе с семьей своего тридцатилетнего сына. Не имеющий врагов. Да и особо близких друзей, кажется, тоже. Любитель покопаться в своем крошечном огородике, выращивать редкостные сортовые тюльпаны, луковицы которых он сдавал в местную фирму «Цветы» по довольно скромным ценам.
Лишь одно выделяло его среди трехсот с небольшим тысяч жителей этого областного центра: при поддержке малозначительного умеренно-демократического объединения «Социально-экологический союз» он выдвинул свою кандидатуру в губернаторы на предстоящих в ноябре выборах, собрал необходимое количество подписей и был официально зарегистрирован в областной избирательной комиссии.
Он не успел провести даже первой встречи с избирателями, со студентами и преподавателями своего института. В тот вечер, когда он собирался на нее — вышел из дома и запирал дверь, он был убит.
На первый взгляд здесь просматривался мотив: убрали соперника. Но в том-то и дело, что Комаров не был соперником ни одному из кандидатов в губернаторы, представляющих куда более мощные общественно-политические силы — от «Нашего дома — Россия» и КПРФ до ЛДПР и «Яблока». Он никому не был соперником, потому что даже при самых оптимистических прогнозах его шансы пройти во второй тур выборов были равны нулю.
Нулю. Где здесь мотив?
А убийство было очевидно заказным. И выполнено профессионалом. Пистолет скорее всего с глушителем. Потому что соседи ничего не слышали, а было-то всего лишь начало шестого. Попадание с шести-семи метров точно в основание черепа в осенних сумерках и при слабом свете лампочки над крыльцом. Контрольный выстрел опять же.
Ствол, правда, не бросили. Но это вовсе не говорило о том, что работал любитель.
Чтобы забрать с собой ствол, у исполнителя могло быть много разных причин.
Уважительных, если здесь можно употребить это слово.
К определению «чрезвычайно странное заказное убийство» я пришел довольно быстро.
А вот следующий логический шаг дался мне гораздо трудней. Но я его все-таки сделал.
Предварительное убийство.
В самой этой формуле была несвершенность. Или недовершенность. Словесная неточность определения меня не смущала. Меня смущал смысл. Предварительность подразумевает завершение. Или сначала продолжение и только потом завершение.
Предварительное убийство.
Промежуточное убийство.
Окончательное убийство.
Да не мерещится ли мне все это в тумане медленно остывающей и переходящей в зиму Балтики, древнего Варяжского моря, все пространство над которым густо насыщено прошлым — недавним, давним и очень давним?
Как Москва, над разгуляями и лубянками которой все еще словно бы звучат колокольцы загульных купеческих троек, бодрые марши физкультурных парадов и ночные моторы энкавэдэшных «воронков».
«Там, где неизвестность, предполагай ужасы».
Я часто вспоминаю эту надпись на полях старинной русской лоции, которую когда-то, очень давно, увидел в Ленинградском военно-морском музее. И запомнил.
И правильно сделал, потому что мореплаватели в стародавние времена понимали кое-что в жизни. Не меньше нашего. А может, и больше.
И еще я накрепко запомнил правило, которое вдалбливал в нас инструктор на курсах выживания: «Забрался в болото — вернись по старому следу».
Похоже, пришло время мне это сделать. Вернуться к началу. И вновь — мысленно — пройти путь, который привел меня в город К. Пройти, не беззаботно сбивая прутиком головки одуванчиков, а всматриваясь в каждую мелочь.
Чтобы понять.
Что понять?
А хрен его знает!
Ну, хотя бы вот что: как я оказался втянутым в это дело?
II
По обе стороны от КПП, по всему периметру трехметрового забора из серых бетонных плит весело трепыхались на свежем октябрьском ветерке флажки с российским триколором. Такое же трехцветное полотнище реяло и над плацем. Так что слово «краснознаменное» в полнопарадном титуле моего училища выглядело неким анахронизмом. Или архаизмом. Как и слова «ордена Октябрьской революции», а равно имени всесоюзного старосты.
Если бы все эти исторические прибамбасы убрать, осталась бы суть: «Высшее училище ВДВ». Воздушно-десантных войск. Не убрали, однако. Верность традициям?
Ну, традиции — это традиции. Какими бы они ни были. Все лучше, наверное, чем никаких. Остались же «Московский комсомолец» и «Комсомольская правда». Да и «Правда» осталась. С уточнением «Правда-5». Четыре «правды» незаметно проехали.
Как ночные Клин, Дмитров, Тверь и Бологое на «Красной стреле». Прокемарили под стук колес. А тут уже и чай несут.
Или «стрела» уже тоже не красная, а трехцветная? Не знаю, очень давно не ездил.
Альма-матер, в общем.
«Краснознаменное… ордена… имени…» имеет честь пригласить Вас на военно-спортивный праздник, посвященный 50-летнему юбилею училища».
Надо же, вспомнили. С чего бы? Ни разу не вспоминали. Правда, с момента моего поступления в училище до сего дня круглых дат не было. 40-летие было в 87-м, я как раз среднюю школу заканчивал. По два раза в неделю ездил из своего Затопино в Долгопрудный на вечерние подготовительные курсы в физтех. Три часа туда, три обратно. И думать не думал ни о каких краснознаменных. На вступительных экзаменах набрал 19 баллов из 20. Только одну ошибку сделал в сочинении в слове «участвовать». Или «учавствовать»? Точно: «участвовать». Так с тех пор каждый раз на этом слове и запинаюсь. Конкурс, однако, прошел. Но тут события развернулись неожиданным образом. Когда батя узнал, что я стал студентом такого шибко научного вуза, на радостях он слегка. Это самое. На три недели. В самый разгар силосования. И уж в какой дружбе он ни был с тогдашним председателем колхоза Семеном Фотиевичем Бурлаковым, а все же пришлось тому разжаловать батю с начальника кормоцеха в простые скотники. А там уж совсем недалеко было и до родовой нашей профессии, от которой и фамилия наша пошла — Пастуховы.
Почтенная профессия. Уважаемая в деревне. Но сыну с нее шибко научное образование не дашь.
И потому не прошло и трех месяцев, как я оказался не в Большой физической аудитории в Долгопрудном, а километров на сто подальше. И в такой же вот солнечный, чуть морозный и ветреный октябрьский денек уже бухал кирзой по этому вот самому плацу и с остервенением рявкал: «А для тебя! Р-радная! Есть почта!
Пал-левая! Пращай, труба зовет! Сал-даты! В пах-ход!»
Только флаг над плацем был тогда соответствующим названию училища. Красным.
«Имеет честь пригласить…»
Сначала я не хотел ехать. Ни к чему это. Только душу зря бередить. Но тут взбунтовалась Ольга. Неужели тебе не хочется повидать однокурсников? И вообще.
Мы скоро мхом зарастем. У тебя уже стружка из ушей торчит. В этом роде.
Насчет мха это была, конечно, чистой воды гипербола. А насчет стружки не очень.
В стружке и в древесной крошке я был с головы до ног. Третий день пытался наладить шипорезный станок. Нашей, отечественной конструкции. Дурак платит дважды. Правильно однажды какие-то японцы сказали: «Лучшее у вас — дети. А все, что сделано руками, ужасно». Про СССР сказали. Но Россия недаром правопреемница этого новоявленного исторического архаизма. Или анахронизма. А насчет однокурсников… Конечно, очень бы мне хотелось повидаться с ребятами. Были, однако, сомнения, что мне это удастся. Были, к сожалению, были.
Но тут и Настена мать поддержала, запрыгала: ура, едем!
Поодиночке-то я с ними справляюсь, а с двумя — трудновато. Ну, я не стал и пытаться. Едем так едем.
В общем, приятно, конечно, побриться не наспех, а с чувством, с толком фирменным «жиллетом», надеть хороший костюм, сесть в хорошую машину и катиться по свободному воскресному шоссе, высушенному ночным морозцем. Всем вместе.
Праздник, который всегда с тобой. И которого не ценишь. Как раз потому, что он вроде всегда с тобой… Часа через два мы свернули с Ленинградского шоссе, прошелестели гудьировскими шинами по бетонке, разрезавшей сосновый бор, и влились в другой праздник.
Веселое трепыхание маленьких триколоров на ограде, гостеприимно распахнутые ворота КПП. Легковушки, автобусы, празднично одетый люд: родители, друзья, невесты. Не все, конечно, невесты, но все равно приятно. У мамаш пудовые сумки в руках — подкормить курсантиков. У папаш и дружков тоже кое-что имеет быть. А у прапоров на вахте глаза волчьи и словно бы песок на зубах скрипит. Ну, не ваш это день, ребята, не ваш.
Ясно, что начальство училища решило совместить празднование краснознаменного юбилея с присягой салабонов. Приятное с полезным.
Я поставил свою тачку в ряд «жигулят» и «волжанок», мы смешались с толпой. На входе стояла группа старших офицеров при полном параде и встречала гостей. Узнал я только двоих. Один — начальник училища, генерал-лейтенант Нестеров. Я учился на втором курсе, когда он пришел к нам после Афгана, отлежав больше года в госпитале. И хотя с тех пор прошло почти десять лет, на его худом лице все еще словно бы сохранялся афганский загар. Как будто не от солнца, а от пороховой гари пополам с пылью. Другого, полковника Митюкова, я предпочел бы вообще не узнавать. Но невозможно было забыть его ряшку, похожую на поросячью задницу. Как и его коронную фразу, с которой он начинал свой курс: «Научный коммунизм — это стройная система знаний». Собственно, это и все, что я знаю о научном коммунизме. Но знаю основательно. В мое время Митюков был замполитом и бессменным секретарем партбюро, а как его должность теперь называется, я не знал. И знать не хотел. Но как раз он-то заметил меня, узнал и окликнул:
— Пастухов! А ты почему не в форме?
Я вообще-то не гордый, меня все в деревне зовут на «ты». Но все же есть какие-то границы, которые, по-моему, переступать не следует. Полковнику Митюкову, в частности. Поэтому я приветливо улыбнулся и ответил:
— Здравствуйте, полковник. Извините, не узнал вас. Я был уверен, что вы давно уже генерал.
Вот так. Умылся?
Ольга укоризненно на меня посмотрела. Я сокрушенно развел руками. Ну, неблагородный я человек. Сам знаю. Борюсь с собой. Упорно. Но пока безуспешно.
— А в штатском я по очень простой причине, — продолжал я тем же светским тоном. Видите ли, меня — как бы это получше сказать? — вышибли из армии без права на ношение формы. И на получение пенсии. Даже не знаю, что обиднее.
— Вышибли? — удивился он. — Ты же был капитаном! Уже через три года после выпуска!
— Через два, — уточнил я.
— Надо же, — равнодушно посочувствовал он. — А чем теперь занимаешься?
— Да так, кручусь по мелочам. Разрешите, полковник, представить вам мою жену. Познакомься, Ольга. Это полковник Митюков, я тебе о нем много рассказывал. Доктор исторических наук. Он читал нам научный коммунизм. Это был мой самый любимый предмет. После строевой подготовки.
— Кандидат, — поправил Митюков и переключил внимание на Ольгу. — Очень приятно познакомиться. Мне знакомо ваше лицо. Я мог вас где-нибудь видеть?
— Запросто, — сказал я. — В Большом зале консерватории.
— Вы певица?
— Да ну, что вы, — снова вмешался я. — Обыкновенная деревенская домохозяйка. Хотя по профессии музыковед.
— А ты обыкновенный деревенский плотник, — парировала Ольга.
Я решительно возразил:
— Ничего подобного. Столяр.
— Это, наверное, большая разница? — не без иронии предположил Митюков.
— Принципиальная, — подтвердил я. — Как между полковником и генералом.
И снова виновато глянул на Ольгу. Ну вот такая я сука. Нужно было смотреть, за кого выходила замуж. Я и тогда не притворялся выпускником дипломатической академии.
— Не обращайте на него внимания, его шутки далеко не всегда удачны, — проговорила Ольга и с улыбкой прикоснулась рукой к локтю Митюкова. Эдак доверительно. Как бы умоляя о снисхождении. Рукой в туго натянутой белой лайковой перчатке по локоть. Выпростанной из-под небрежно наброшенного на плечи норкового полупердяйчика. Когда этот шнурок из «Ле Монти» хотел мне сообщить, сколько это стоит, я едва рот ему не заткнул. Дал ему кредитную карточку «Виза» и сказал: «Сунь ее куда следует, а мне ничего не говори. Вообще ничего. Понял? Может, мне повезет и я так до конца жизни этого не узнаю. Потому что покупать такие вещи — грех. Как чревоугодие. А оно, между прочим, в православии считается самым тяжким грехом. Вторым после уныния». Он понял. И Митюков, судя по его физиономии, понял. Он взглянул вниз, на Настену, которая деловито посыпала песочком его сверкающие штиблеты, и не слишком естественно улыбнулся.
— Какое прелестное дитя! Вся в маму! И как нас зовут?
Прелестное дитя посмотрело на него снизу и спросило:
— А у вас автомат есть?
— Нет, — честно признался Митюков.
— А у папы был, — сказала Настена и потеряла к нему всяческий интерес.
Полковник повернулся к начальнику училища и отрекомендовал ему Ольгу. А затем небрежно представил меня:
— Ее супруг. Пастухов, наш выпускник. При этих словах какой-то довольно молодой штатский в коротком светлом плаще, стоявший рядом с генерал-лейтенантом, быстро взглянул на меня и тут же отвернулся, продолжая созерцать праздничную толпу, вливавшуюся через ворота на территорию училища.
Нестеров суховато-любезно поклонился Ольге и протянул мне руку:
— Здравствуйте, Сергей Сергеевич. Спасибо, что приехали.
— Спасибо, что пригласили, — ответил я. — Вы что, всем выпускникам разослали приглашения? Не боитесь, что места не хватит?
— Нет, только тем, кто закончил училище с отличием.
— Тогда хватит, — сказал я.
Он хмуро покивал:
— Что делать! Такова жизнь.
— Да, — согласился я. — Такова.
Тут в ворота училища вкатились три черные «Волги», утыканные антеннами, младшие офицеры кинулись к ним открывать дверцы, а начальствующий состав с приличной неспешностью двинулся встречать высоких гостей.
Только штатский, который стоял рядом с начальником училища, остался на месте.
Будто это его не касалось. И может быть, действительно не касалось. А что, интересно, его касалось?
Мы снова влились в праздничную толпу. Ольга внимательно посмотрела на меня:
— Ну? В чем дело?
— Что ты имеешь в виду?
— То. «Такова жизнь». Какова?
— Ты же сама слышала. Такова. Боюсь, не удастся мне встретиться с однокашниками. Из нашего выпуска красные дипломы получили шестеро. Трое в Чечне остались. Один в Абхазии. И один в Таджикистане.
— Как остались? — не поняла она.
— Ну как. Насовсем.
Она помолчала и предложила:
— Хочешь уехать?
— Почему? Раз приехали на праздник, давай праздновать. Ты же хочешь посмотреть, как я жил?
— Очень, — сказала она. — Да, очень. Пока готовилась торжественная часть, я показал Ольге казарму, в которой прошли лучшие годы моей молодой жизни, кухню, на которой тоннами чистил картошку по нарядам вне очереди. Правда, сортир, который драил по тем же нарядам, показывать не стал. Зато с особенным удовольствием показал «губу», обитель размышлений.
— Ты сидел на «губе»? — поразилась Ольга.
— Здравствуйте. Какой же нормальный человек не сидел на «губе»?
— И часто?
— Сейчас точно скажу. Сколько у Бетховена симфоний?
— Девять.
— Правильно, девять. На все девять у нас был абонемент в Зал Чайковского. И еще одна симфония Малера. Очень длинная.
— Пятая.
— Возможно. Хорошая симфония. Но явно затянута. Я опоздал из увольнения ровно на два с половиной часа. Десять «губарей» получается, так? И еще была симфония Гайдна. Где музыканты свечи гасят. Закончил свою партию, погасил свечу и тихонько ушел.
— «Прощальная».
— Она самая. Очень красивая симфония. Я вспоминал ее ровно семь суток.
— Семь суток?!
— А как ты хотела? Это была четвертая самоволка за месяц. Мог и под трибунал загреметь.
— В ту ночь ты первый раз остался у меня.
— Об этом я тоже вспоминал. Семь суток и всю остальную жизнь. И сейчас вспоминаю, — добавил я.
В общем, удалось мне ее отвлечь. Мы посмотрели торжественную часть, поаплодировали приветствию президента, которое огласил какой-то сановный штатский валуй, из тех, что прикатили на черных «Волгах», посмотрели присягу и парад салабонов. Потом объявили перерыв, и на курсантиков набросились мамаши, впихивая в их желудки содержимое сумок. Папаши наверняка пытались зарядить чад и другим припасом, покрепче. И если кто дрогнул, то я тому не завидую. Прапоры, они народ терпеливый. Как крокодилы. Своего часа дождутся.
Потом действие переместилось на стадион, где старшекурсники показывали свое мастерство. Пока они выкладывались на штурмовой полосе, а потом под ахи, охи, визги и аплодисменты зрителей крушили ребрами ладоней кирпичи, ломали доски и швыряли друг друга оземь, как цыган шапку, я попытался собраться с мыслями.
В самом факте персонального приглашения меня на этот праздник молодости, силы и красоты не было ничего необычного. Среди публики я заметил нескольких знакомых ребят с младших и старших курсов — одного майора, трех или четырех капитанов, пару старлеев. Наверное, и они закончили училище с красными дипломами.
То, что меня сразу узнал Митюков, тоже было нормально. Уж ему-то я крови попортил. А сколько он мне — об этом и не говорю. И даже то, что меня узнал Нестеров, было, в общем, вполне объяснимо. Тем более что Митюков меня представил, хоть и через губу. Другое было необъяснимо. Каким образом Нестеров мог вспомнить, что мое имя Сергей? Да не просто Сергей, а Сергей Сергеевич.
Училище ВДВ — не то место, где к курсантам обращаются по имени или по имени-отчеству. «Курсант Пастухов, три наряда вне очереди!» «Есть, товарищ сержант!» «Курсант Пастухов, в следующий раз я не смогу спасти вас от трибунала. И вряд ли захочу. Вы все поняли?» «Так точно, товарищ генерал-лейтенант!»
Сергей Сергеевич. Это просто узнать. Нужно всего лишь затребовать из архива училища мое личное дело. Не проблема. Но чтобы его затребовать, нужно иметь для этого какую-то причину.
Какую? С каких фигов начальнику училища интересоваться личным делом давно выпущенного курсанта, да к тому же уволенного из армии вчистую? Об этом он, кстати, не знал. Или знал?
Поднакапливалось вопросов.
А главное — этот штатский.
Лет тридцати пяти. Вряд ли больше. Среднего роста. Плотный. Но не тяжелый. Не накачанный, как бычок. Черные, с ранней проседью волосы. Короткая стрижка.
Жестковатое лицо. Давний белый шрамик на лбу, над левым глазом. Хорошо, видно, кто-то ему врезал. Левая бровь чуть изломана этим же шрамиком. От этого на лице постоянное словно бы слегка насмешливое выражение. Светло-серый приличный костюмчик. Голубоватая рубашка, аккуратный галстук в тон. И что важно — несуетность. Человек, который знает себе цену. И цена эта, видно, немаленькая.
Все нормально, в общем-то.
Кроме одного. Не нравятся мне такие штатские, которые смотрят не на Ольгу, а на меня. И при этом скрывают, что смотрят. И очень даже умело скрывают. Он смотрел на меня затылком.
Ладно. Как любит говорить один мой знакомый хирург, экс-капитан медицинской службы Иван Перегудов, по прозвищу Док, понаблюдаем.
Ольга повернула ко мне раскрасневшееся от свежего ветерка и азарта лицо:
— А ты тоже умеешь кирпичи разбивать?
— Конечно, умею.
— Рукой?!
— Зачем рукой? Кирочкой. Такой молоток с плоским концом. Ну, видела, когда я фундамент выкладывал.
— А рукой? Как они?
— Когда-то умел. А сейчас вряд ли.
— А доски ломать умеешь? Тоже рукой?
— Доски я предпочитаю пилить. Пилой. И лучше электрической.
— Да ну тебя! — отмахнулась она и снова уставилась на современных гладиаторов.
И даже Настена повизгивала от восторга.
О, женщины!
Я присмотрелся к тому, что происходило на стадионе. Ну, неплохо ребята работали.
Старательно. И двигались грамотно. Только один был на порядок выше. И с ходу даже не скажешь чем. Очень хорошо уходил. Просто чуть смещался, и эти бычки свистели мимо него. Ему оставалось только слегка подкорректировать их свободный полет. Он явно всех переигрывал и уверенно набирал очки. И главное — не работал на публику. Просто работал. А публика ревела от восторга при каждой яростной атаке бычков. Правильно, наверное, говорит один мой знакомый актер, в прошлом старший лейтенант спецназа Семен Злотников, по прозвищу Артист: публика дура.
— А теперь — гвоздь нашей программы! — объявил судья-капитан тоном циркового шталмейстера. — Бои на звание «рейнджер года»! Прошу всех перейти вон туда, к кирпичной стене, там я вам все объясню! Такие бои можно увидеть только в двух местах: у нас и в Техасе!
Надо же. А я-то думал, что этот аттракцион давно прикрыли. Нет, оказывается.
— Что такое рейнджер? — поинтересовалась Ольга, пока мы вместе с публикой переходили с трибун стадиона к развалинам на заднем дворе гарнизона.
— Так в Америке раньше называли конных полицейских, а теперь называют коммандос. Ну, Чак Норрис, кто-то там еще. И вот в училище раз в год устраивают соревнования на лучшего рейнджера.
— Какие соревнования? — встряла Настена. — Вроде как форт Байярд?
Юное телевизионное поколение.
— Сейчас вам все подробно расскажут, — пообещал я.
Пока капитан довольно толково объяснял почтеннейшей публике правила игры, я отыскал пролом в кирпичной стене и заглянул внутрь.
Когда-то давно здесь была свиноферма подсобного хозяйства училища. Блок из рыхлого от времени силикатного кирпича длиной метров в сто и шириной метров в двадцать. Когда я поступил, ферма уже несколько лет не функционировала.
Почему-то свиньи дохли, как осенние мухи, все разом. Уж кого только не вызывали: ветеринаров из московской «тимирязевки», знатных свиноводов с ВДНХ. Без толку. В конце концов ферму построили в другом месте, а эта понемногу разваливалась, портя вид военного городка и вызывая неудовольствие инспектирующего начальства.
Вышел приказ: снести это безобразие к чертовой матери. Стропила и деревянные переборки попросту выжгли, приступили уже к стенам, но тут кого-то осенило. Ну, если говорить без ложной скромности, — меня. На этот раз скромность можно отбросить, потому что за свою догадливость я едва не оказался в дисбате.
В те годы видаки были даже на гражданке большой редкостью, но училищу повезло: какие-то шефы премировали нас японским «Фунаем» за наши подвиги на ихней картошке. Видак приставили к телевизору в клубе, и пошла такая ночная жизнь, что за первый месяц пьянство среди курсантов снизилось в четыре раза. Среди кассет попался и фильм про это дело, про соревнования рейнджеров. Смысл их был в том, что рейнджер с кольтом на изготовку должен пройти какое-то расстояние, при этом перестрелять всех гангстеров на пути и самому не подставиться. И не подстрелить какого-нибудь случайного прохожего, почтальона или домохозяйку. Причем все фигуранты возникали неожиданно: они были нарисованы на фанерных силуэтах и выскакивали, как чертики. То ли на пружинах, то ли их кто-то за веревки дергал.
Выигрывал тот, кто доберется до цели быстрей других без условных дырок в собственном организме и без случайных жертв.
И поехало! На фанерках изобразили вероятных противников. Кто в те романтические восьмидесятые был вероятным противником? Ну, «зеленые береты» США. «Краповые береты» Ее Королевского Величества. Десантники фээргэшного абвера. Французские легионеры. А, вот кто еще — израильские коммандос. Еще двух япошек изобразили в виде ниндзя. И штук пять-шесть случайных прохожих, в том числе двух полицейских непонятной национальной принадлежности, но со звездами американских шерифов.
Причем один из них появлялся с обнаженным кольтом. От него нужно было просто уйти в развалины и не дай Бог подстрелить — сразу пятнадцать очков долой.
Сначала стреляли из учебного просверленного ПМ. Как дети, языком: «Бах! Бах!»
Надоело это дело быстро, слишком много возникало споров: успел — не успел.
Уломали начальство выдавать нам холостые патроны. Пошло веселей, но творческая мысль продолжала работать. Наточили резиновых пуль. Ну, тут уже про видак совсем забыли. На наше счастье, Митюков в ту пору был в академическом отпуске на предмет написания докторской диссертации по насущным проблемам научного коммунизма в преломлении к идеям перестройки, прежний начальник училища болел, а начальник штаба, сорокалетний подполковник Могилевский, сам так втянулся в эту забаву, что самым жлобским образом, нагло злоупотребляя своим служебным положением, норовил встрять без очереди. И встревал.
В общем, когда какая-то сука все-таки настучала и появились поверяющие, они обнаружили, что курсанты доблестного краснознаменного и орденоносного имени всесоюзного старосты не по мишеням резиновыми пулями лупят, а друг по другу, катаясь в сухом свинячьем дерьме и маскируясь всяческим подсобным материалом. И как мы ни убеждали инспекторов, что делается это исключительно в интересах повышения боевой подготовки и что стреляем мы до минимума уменьшенными пороховыми зарядами, а на головы надеваем мотоциклетные шлемы (что было, конечно же, полной туфтой), Могилевского как начальника штаба, меня как главного закоперщика и еще двух комвзводов засунули на «губу» и стали готовить дело к передаче в военную прокуратуру.
Но тут начальником училища назначили Нестерова, он приказал продемонстрировать ему все наши игры и сказал, что так-перетак, а дело это полезное, и если бы ребята перед Афганом проходили такие же тренировки, то цинков под шифром «груз 200» было бы намного меньше. Через неделю по его приказу снабженец привез откуда-то четыре автомата для пентбола и такие запасы пуль с красной краской, что их хватило до моего выпуска и еще осталось. А поскольку пентбольные автоматы были все же оружием вшивеньким, мы с благословения Нестерова приспособились заряжать пулями с краской табельные «Макаровы» и ТТ. Так что условия, в которых проходили наши игры, заметно приблизились к боевым.
И как знать, не выручило ли это многих из нас, когда на нашу долю выпала Чечня.
Меня-то уж точно выручило.
Когда Митюков, закончив труды праведные по обогащению научного коммунизма и получив их объективную оценку в свете событий августа 91-го, вернулся к исполнению служебных обязанностей, его чуть кондрашка не хватила от этих нововведений. Он начал было со страшной силой писать, но прежние ответственные адресаты в ГлавПУРе исчезли вместе с ГлавПУРом, иных адресатов не объявилось, и он сообразил, что выгодней поддержать новый опыт обучения молодых офицеров-десантников, чем подставлять себя под тяжкую длань бывшего афганца генерала Нестерова. Единственное, с чем он не мог смириться, так это с тем, что игра, как ни крути, была все же американская, блин, и никаких аналогов ей в русских молодецких забавах не усматривалось. Я хотел ему подсказать, что есть вполне национальное российское развлечение, которое называется «гражданская война», но решил не осложнять себе жизнь. Как-то не улыбалось мне оставаться без увольнительных, а эту пакость он всегда мог мне устроить.
С тех пор свиноферма преобразилась. Ее раза в два удлинили, расширили, натаскали бетонных глыб, нарыли окопчиков, приволокли два списанных танка и три БТРа. Ну, Грозный и Грозный после первого штурма. Или, может быть, какой-нибудь Кандагар, где мне побывать не пришлось, а генералу Нестерову очень даже пришлось.
Полигон со всех сторон обнесли высоким забором, снаружи приспособили приступочки для зрителей, оборудовали НП для судей за бронированным стеклом, наладили механику для мгновенного появления мишеней. В общем, сделали все по уму. В пристроенной каптерке хранились отпечатанные в типографии силуэты-мишени. Это меня и заинтересовало: кто же нынче у нас вероятный противник?
Коллекция наводила на глубокомысленные размышления. Никаких тебе «зеленых беретов», никаких еврейских штурмовиков. Лица кавказской национальности всевозможных видов и одеяний, исламские террористы с клетчатыми, как у Арафата, платками на шеях и головах. Боевики ИРА в темных беретах. Какие-то финно-угорские подозрительные типы. Ну, и случайный народ — милиционеры, пожарники, просто прохожие.
Да, негусто у нас, оказывается, с предполагаемым противником. Если так и дальше пойдет, нужно будет печатать афишки с шахтерами и монтерами. Вот и реформируй тут армию, о чем столько разговоров идет. А как ее реформировать, если противника нет? Эти недавние дела насчет расширения НАТО на Восток — может, это и есть попытка хоть как-то обозначить неприятеля и тем самым придать ускорение военным реформам?
Размышлениям на эту тему я и предавался, пока судья-капитан давал пояснения и шли первые бои. Публика вела себя, как на футболе. Советы так и сыпались сверху на игроков: «Там он, за танком!», «Не гуляй туда, Жора!», «Миха, гаси его, гаси!»
Судья сделал несколько попыток навести порядок, но в конце концов только рукой махнул.
На благоустроенных трибунках возле щита судьи разместились Нестеров, Митюков и чины из Москвы. Там же был и штатский, на которого я еще раньше обратил внимание. Краем глаза я заметил, как он что-то сказал на ухо Нестерову, тот с некоторым недоумением вздернул брови, потом наклонился к судье и что-то ему приказал. Тот не понял. Генерал растолковал. Понял.
После финального боя, в котором, как я и предполагал, победил тот самый понравившийся мне парнишка, судья неожиданно объявил в матюгальник:
— Дорогие друзья! Только что мы приветствовали лучшего рейнджера нынешнего года. Такой успех выпадает нашим курсантам только раз в жизни. Нет ни одного человека, который стал бы рейнджером дважды. Но!
Твою мать. Только этого мне не хватало. Как чувствовал — не нужно было сюда ехать. Но это, пожалуй, вряд ли что-нибудь изменило бы. Это я уже понимал.
— Но есть человек, который сумел стать лучшим рейнджером три раза, — июньским соловьем разливался судья. — Три, друзья мои! Вы не ослышались! Три года подряд был лучшим из лучших выпускник нашего славного училища, молодой офицер-десантник Сергей Пастухов! И он сейчас среди нас! Поприветствуем его!
Сука ты, капитан. И больше никто. Я встал. А что было делать? Раскланивался, как клоун.
Ольга и Настена вместе со всеми восторженно аплодировали и гордо поглядывали по сторонам.
Ну, женщины!
Судья поднял руку, требуя тишины. Трибуны нехотя угомонились.
— Дамы и господа! — продолжал он. — У меня есть для вас прекрасный сюрприз. Вот здесь, рядом со мной, сидит еще один выпускник нашего замечательного училища. Правда, пятнадцать лет назад, когда он получил диплом и первый офицерский чин, еще не было этого полигона и конкурс на звание лучшего рейнджера не проводился. Но он прошел другую школу в горячих точках и стал одним из самых опытных офицеров-десантников. Разрешите представить — подполковник Александр Егоров! Аплодисменты, друзья мои, аплодисменты!
Этот долбаный капитан явно ошибся в выборе профессии. Ему бы в ведущие какого-нибудь телешоу.
Штатский со шрамом встал и раскланялся. Подполковник, значит. Неплохо для его лет. Очень даже неплохо.
— Сегодня мы видели бои наших лучших курсантов, — выпевал судья. — А хотите увидеть бой настоящих профессионалов?
— Хотим! — вразнобой загудела публика.
— Не понял! — объявил капитан. — Хотим или не хотим?
— Хотим! — дружно грянули в ответ.
— Теперь понял. Тогда давайте попросим Сергея Пастухова и Александра Егорова показать нам, что такое настоящий бой! Попросим, друзья мои, попросим!
И сам захлопал, показывая пример.
Вот это и называется — попасть в расклад. И не отнекаешься. Все равно уломают. И получится, что кокетничал.
Поэтому я без спора отдал Ольге свою «сейку» и бумажник (на всякий пожарный, чтобы в каптерке не сперли) и вместе с моим нежданным соперником направился в раздевалку. Начальник вещсклада, старшина Сан Саныч, который служил здесь едва ли не с момента создания училища, выдал нам камуфляжку, спецназовские ботинки с высокой шнуровкой и черные вязаные шапки типа «ночь» с прорезями для глаз.
Егоров переоделся быстрей меня, кивнул: жду. И вышел из раздевалки.
— В каком году он закончил нашу школу? — спросил я у Сан Саныча. Для того и тянул с переодеванием, чтобы спросить.
— Ни в каком, — буркнул тот. — Я его первый раз в жизни вижу.
— Точно?
Сан Саныч даже не посчитал нужным ответить. А я не стал переспрашивать. Уж если он сказал, что видит этого типа первый раз в жизни, так оно и есть. Он мог пожаловаться на печень, источенную местной самогонкой во время борьбы за всеобщую трезвость, но на память он пожаловаться не мог. Он даже мой размер не спросил. Может, конечно, на глазок прикинул. Но вполне возможно, что помнил. А у Егорова, кстати, спросил.
Когда мы подошли к судейской трибуне, судья объявил:
— Сейчас участники боя выберут оружие!
На столе было разложено штук пять ТТ, «Макаровых» и даже невесть откуда появившиеся в арсенале училища две «длинные девятки» — «Беретта-92Р8», которую лет десять назад американцы приняли на вооружение, переименовав в М9. Я не смог отказать себе в удовольствии побаловаться такой классной игрушкой и взял «беретту». Егоров последовал моему примеру.
Капитан объявил: первый этап — проход через «опасную зону». Второй этап — собственно бой. На каждый этап участникам выдается по восемь патронов.
По жребию первым в зону вошел Егоров. Шестнадцать минут. Неплохо. И всего пять штрафных очков. Не успел выстрелить в моджахеда с ручным пулеметом, но успел увернуться. Очень неплохо.
Я прошел зону за тринадцать минут, но с пятнадцатью штрафными очками: пристрелил мента, который выскочил на меня с пистолетом. Я был уверен, что пристрелил этого мента правильно, но не стал спорить. Ну, проиграл первый тур. На втором отыграюсь.
Перед вторым туром судья перезарядил наши «беретты», вставил по новой обойме.
Мне выпало входить в зону с дальнего конца, Егорову с ближнего. Перед тем как нам разойтись, он приостановился и негромко сказал мне со странноватой усмешкой:
— В обоймах по одному боевому патрону. Не первый и не последний. Учти.
После чего натянул на голову «ночь» и скрылся в проломе.
Первым моим движением было разрядить пистолет и проверить обойму. Но правилами это запрещалось: участник боя должен помнить, сколько в его магазине осталось патронов. Вообще-то плевать я хотел на все правила. Но тут происходило что-то не совсем обычное и мне совершенно непонятное. А я не люблю, когда чего-то не понимаю. И не было другого способа выяснить, что к чему, кроме как принять участие в игре по навязанным мне правилам.
Я не стал натягивать «ночь». В случае чего отмоюсь. А кое-какие преимущества мне это давало.
Ударом гонга судья подал сигнал к началу боя. И я сразу услышал выстрел. Он был явно неприцельным — между нами лежал еще весь полигон. Значит, первый заряд он истратил впустую специально: я могу решить, что второй боевой. Напрягает, сука.
Ну, напрягай, напрягай.
У меня и мысли не возникло последовать его примеру. Во-первых, не верил я, что в обойме есть боевой патрон. Смысл? Он меня хочет убить? На глазах у полутора сотен зрителей? Теоретически это было вполне возможно. Ну, случайно попался среди учебных боевой патрон. Мало ли, все бывает. Даже в школах иногда вместо бутафорских оказываются боевые гранаты, о таком случае однажды в газетах писали.
Но на кой хрен ему меня убивать? А мне его — тем более. Значит, проверка по форме 20. На вшивость.
Ладно, поглядим, у кого как с этим делом. Я нырнул под танк, проскользнул между бетонными блоками, сделал еще пару перебежек, заходя ему в тыл. И тут же ощутил все преимущества от того, что не натянул «ночь». Сверху на меня обрушился хор советчиков:
— Справа он, справа! За бэтээром сидит! К тебе ползет! Сейчас побежит! Стреляй, Серега, стреляй!
И так далее. За меня болели. Всегда болеют за того, кто не прячет лица. Как в старинных рыцарских поединках: с открытым забралом. Эти бесплатные советы мне, конечно, ничуть не помогали, но ему мешали — и здорово. Я подобрал какую-то палку, надел на нее «ночь» и лишь чуть-чуть, на полсекунды, высунул из-за укрытия. Тут же грохнул выстрел — в край «ночи» плюхнуло красным. Публика зааплодировала. Я сменил позицию и выглянул. Вот оно, егоровское плечо. Рука моя автоматически дернулась, но я для чего-то, не отдавая себе отчета для чего, успел сдержать руку. Через минуту ситуация повторилась. Он меня прокачивал — это было совершенно ясно. А раз так, то и моя тактика стала ясна. Во-первых, показать, не перебарщивая, что я давно потерял форму. А во-вторых, прокачать его. Конечно, Ольга и особенно Настена огорчатся моему проигрышу, но тут было, похоже, не до мелкого тщеславия.
Этим я и занялся. И уже минут через пять понял, что Сан Саныч совершенно прав: никогда он не учился в нашем «краснознаменном…» «ордена…» «имени…». И, пожалуй, ни в каком другом училище ВДВ. Где же он, падла, учился?
Он еще раз подставился. Тут я понял, что обязан стрелять, иначе он просечет, что я играю с ним в поддавки. Я сделал два выстрела подряд. Долго кому-то придется отстирывать его камуфляжку.
Затем сам подставился. И немедленно получил в локоть. Классный был выстрел, ничего не скажешь.
«Альфа»? Нет, пожалуй. И не «Зенит».
А если «Вымпел»? Ну надо же! Хорошая школа. Даже очень хорошая.
Публика прямо осатанела. Уже начали болеть за него.
Все же Артист не прав. Публика не дура. Публика сволочь. Потому что всегда болеет за сильного. Пора было и мне что-нибудь показать. Сначала я обозначился.
Он клюнул. Я перекатился за танк. Он выстрелил. Мимо. Третий заряд истратил. И все были с краской — по звуку слышно.
Агрессивен. Это уже кое-что.
Под прикрытием орудийной башни я вполз на корму танка. Он тоже сменил позицию.
Ну, а что ты на это скажешь? Я прыгнул с передним сальто. Он не мог не открыться. И открылся. И получил заряд краски как раз в свою «беретту». Краска, конечно, не пуля, пистолет не вышибла, но руку сбила, его заряд ушел в воздух.
Второй раз выстрелить он не успел, я уже ящеркой скользил по траншее.
Судья объявил:
— Боец в «ночке» ранен в правую руку, имеет право стрелять только левой.
Вот засранец. Да из чего же он может стрелять? Из пальца? Если бы это была не краска, а 9-миллиметровая пуля, его «беретта» летела бы сейчас со свистом хрен знает куда.
С трибун заорали:
— Судью на мыло!
Понимающий кто-то нашелся.
Ладно, хватит экспериментов. Я начал работать по школе. Грамотно. Но не более того. А он наоборот — максимально активизировался.
Ничего не понимаю. Кто кому и что демонстрирует? Может быть, он кому-то показывает, какой он крутой?
А ведь и в самом деле крутой. Ни единого шанса не упускал. Три заряда у него осталось. А у меня пять. Не верил я, что среди них есть боевой патрон. Не верил ни на грош. А все же давило. А вдруг? Поэтому я и стрелял не на поражение. Хотя пару раз он серьезно приоткрылся. Без поддавков.
Боевой опыт у него, конечно, был. И немалый. Афган, возможно. Или Чечня. Все эти надолбы и траншеи он задействовал так, будто знал их наизусть. Этому ни в какой школе научить нельзя. Перекаты у него были просто на загляденье. Рывки тоже ничего себе. Ну, и реакция, само собой. Только вот вертикаль плохо использовал.
А на полигоне было полно разных стеночек. Не говоря уж про бронетехнику.
Интересная мысль, стоит проверить.
А ведь и в самом деле не умеет работать на вертикали.
Я тут я наконец понял, кто он.
Боевой пловец.
Точно.
«Пираньи» — так они себя иногда называют.
Ух ты! Это серьезные ребята. Несерьезные там до подполковников не доживают. Не Афган, значит. И не Чечня. Если бы он работал в Чечне, я бы его знал. Какая бы степень секретности ни была, такого специалиста не скроешь. Обязательно проявится. Пусть не сам, но дела подскажут. В Чечне я всех серьезных ребят знал.
И меня знали. И не только наши, к сожалению, но и чеченцы.
Так-так. Боевой пловец, значит. Очень похоже. Йемен, Мозамбик, Ангола. Или Балтика и скандинавские фиорды, где в 80-х вода кипела от таинственных подлодок и прочих неопознанных плавающих объектов. Никакие не ВДВ, выходит. ГРУ. Или СВР.
Сюда-то какими течениями тебя занесло?
Ух, нахалюга! Хотел перехватить меня на противоходе. И чуть не перехватил. Ну, очень хочется ему победить.
— До конца раунда осталось пять минут! — объявил судья.
Хватит, пожалуй. Не было у меня никакого желания растягивать это удовольствие еще и на второй раунд. Хочет победить? Пусть побеждает. Только это нужно сделать чисто. Я и сделал. Рванул через открытое место, оступился и покатился по земле, дотягивая до стеночки. Дотянул. Но он успел высадить в меня три оставшихся заряда. И все три раза попал. Публика замерла. Вся моя камуфляжка была залита красной пентбольной краской. Краской все-таки. Все-таки краской. Вот сука.
— Бой окончен! — объявил судья. — Победа чистая! Выиграл подполковник Егоров!
Аплодисменты победителю!
Аплодисменты были обвальные. Но и свистели тоже. Кого-то я, видно, разочаровал.
Я сел на землю и выпустил в ближний бетонный блок все оставшиеся заряды. Краска, конечно.
Егоров протянул мне руку, помог подняться. Усмехнулся:
— Я пошутил.
— Хорошая шутка, — оценил я и захромал вслед за ним к судейской трибуне.
Пока награждали дипломом и чествовали победителя, Ольга с тревогой ощупывала мою ступню.
— Да ничего страшного, — успокоил я ее. — Просто легкое растяжение.
В душевой я внимательно разглядел своего счастливого соперника. Так и есть. Тело белое, а лицо и шея с глубоким загаром. Не свежим, но въевшимся намертво. Ни следа от плавок. Ну, понятно, не на пляжах же они валяются, а работают в гидрокостюмах.
— А ты, парень, ничего, — одобрительно заметил он, когда мы одевались в предбаннике. — Этот выстрел с сальто был просто люкс. Ничего, ничего. Честно сказать, я ожидал худшего.
— Где уж нам тягаться с «пираньями»!
Он быстро взглянул на меня:
— О чем это ты?
— Да так, к слову пришлось, — объяснил я, не вдаваясь в подробности. — Не люблю проигрывать. А вы любите?
Он похлопал меня по плечу:
— Страви давление. Согласен, шутка была не из лучших. Но мне нужно было посмотреть, как ты ведешь себя в нештатной ситуации.
Он так и сказал: «нужно было». Не «хотел», а именно «нужно».
— Посмотрел? — поинтересовался я.
— Посмотрел.
Он протянул мне листок размером с визитную карточку. На нем был телефонный номер.
— Позвони мне по этому номеру. В любое удобное время. Есть разговор.
— Так говори.
— Не сейчас. Извини, дела. Я пожал плечами и сунул листок в карман. Дела так дела. Интересные они у него, судя по всему. Хотелось бы еще знать, какие именно.
И уже тогда у меня появилось странное ощущение, что я это узнаю.
Чуть раньше. Или чуть позже. На выходе нас перехватил запыхавшийся вестовой:
— Пастухова просит к себе генерал-лейтенант Нестеров! Он сейчас проводит начальство и будет в своем кабинете.
— Пока, рейнджер! — кивнул мне подполковник Егоров и направился к черным «Волгам», в которые уже грузились высокие московские гости.
* * *
Ольгу и Настену я оставил возле дощатого пятачка в гарнизонном скверике, где наяривал специально приглашенный эстрадный оркестрик и народ разминался кто как умел, а сам направился в кабинет начальника училища, не забывая прихрамывать.
За время учебы в этом кабинете я был всего два раза, и каждый раз не по самым приятным житейским поводам, поэтому и сейчас не ожидал ничего хорошего. Хотя очевидных причин вроде бы не было. Но такое уж свойство у памяти.
В кабинете сидели Нестеров и Митюков с видом людей, покончивших с докучливым, но необходимым делом.
Митюков сразу начал возить меня мордой по столу:
— Опозорил ты нас, Пастухов! В такой день! Не сумел защитить честь училища! А мы так на тебя рассчитывали!
— При чем здесь честь училища? — удивился я. — Егоров тоже наш выпускник.
— Ну, это конечно, конечно, — поспешно согласился Митюков. — Но и от тебя мы ожидали большего. Трижды рейнджер! А так обосрался!
— Слушая вас, я снова чувствую себя курсантом, — сделал я ему комплимент и обратился к Нестерову:
— Вы так же считаете?
— С судьей не спорят, — уклончиво отозвался он. — Я бы засчитал тот выстрел с лету.
— А первый тур? — не сдался Митюков. — Скажешь, не просрал? Милиционера подстрелить! А если бы это было в реальной обстановке?
Нужно было, конечно, смолчать. Но почему-то его слова меня зацепили. Я вспомнил, сколько свиданий с Ольгой не состоялось из-за этого говнюка, и не сдержался.
— Прикажите принести сюда афишку с этим ментом, — попросил я Нестерова.
— Зачем? — удивился он.
— Объясню.
— Распорядитесь, — кивнул генерал Митюкову.
Тот скорчил недовольную рожу, но послушно вышел.
— Скажите, Пастухов, почему вы ушли из армии? — спросил Нестеров. — Вы подавали большие надежды.
Я пожал плечами:
— Меня уволили.
— Это я знаю. Но не знаю другого — почему.
— Вы могли бы навести справки.
— Пытался. Никакой информации о вас нет. Только личное дело в архиве Минобороны. Но в нем нет ничего о причинах вашего увольнения. Лишь приказ, подписанный заместителем министра. Формулировка расплывчатая: «За невыполнение боевого приказа». Что произошло?
— Это не мой секрет.
— Вы не хотели бы вернуться в армию?
— Нет.
— Уверены?
— Более чем. Да никто меня и не возьмет. Сами сказали, что приказ подписал замминистра.
— Его уже нет. Как и самого министра. А с новым руководством этот вопрос, думаю, можно будет решить.
— Это вы так думаете? — уточнил я. — Или кто-то другой?
— Я приветствовал бы такое решение, — уклонился он от прямого ответа. — Я бы хотел, чтобы вы служили в нашем училище. Ваш боевой опыт будет очень полезен курсантам.
Я даже засмеялся:
— Извините, но Митюкова с меня хватит на всю оставшуюся жизнь.
— Митюков не вечен.
— Вы ошибаетесь. Это я не вечен. И вы. А Митюков вечен.
— Но вы все же подумайте.
Я пообещал. Просто чтобы не размазывать кашу по столу. Но даже и не собирался об этом думать.
— Если позволите, у меня к вам тоже вопрос. Вас попросили пригласить меня на этот праздник?
— Вас бы и так пригласили.
— Но вас просили об этом, верно? Подполковник Егоров?
— Да.
— И он же дал понять, что вопрос о моем возвращении в армию может быть решен? Кто же он такой?
— Этого я не знаю. Меня попросил оказать ему содействие один из высокопоставленных руководителей.
— Министерства обороны?
— Нет. Прошу извинить, но больше ничего я вам сказать не имею права.
— А я больше ничего и не спрашиваю.
Появился Митюков с афишкой, расстелил ее на столе.
— Ну? Что ты хотел объяснить?
— А сами не понимаете? Посмотрите внимательно на этого милиционера.
— Ну, посмотрел, — сказал Митюков, — И что?
— Вы тоже ничего не замечаете? — спросил я у Нестерова.
Тот внимательно рассмотрел рисунок и покачал головой:
— Нет.
— И в реальных условиях вы не стали бы в него стрелять? — спросил я у Митюкова.
— Разумеется, нет.
— Вам повезло, что обстановка условная. Иначе сослуживцы уже собирали бы деньги вам на венок. Это же ряженый! Неужели не видите? У настоящих милиционеров на шинели по три пуговицы в два ряда. А у этого сколько?
— И вправду! — поразился Митюков. — По четыре. Ну, это просто художник ошибся.
— Может быть. Но в реальной обстановке я не стал бы об этом долго раздумывать.
Нестеров с усмешкой взглянул на озадаченного Митюкова. Потом как-то очень по-светски предложил:
— Я надеюсь, Сергей Сергеевич, вы останетесь на наш небольшой товарищеский ужин? Моим офицерам доставит огромное удовольствие общество вашей очаровательной супруги. И нам с полковником тоже.
— Спасибо, но мы с дочкой. А добираться до дому больше двух часов.
— Отправьте Сергея Сергеевича домой на моей машине, — распорядился Нестеров. Я открыл было рот, чтобы отказаться, но он не дал мне этой возможности:
— Мне приятно было увидеть вас, Пастухов. Надеюсь, это не последняя наша встреча. Желаю здравствовать.
— Всего хорошего, товарищ генерал-лейтенант.
— Сейчас уже чаще говорят «господин генерал», — заметил Нестеров.
— Да? В таком случае всего доброго, ваше превосходительство.
Я пожал ему руку и пошел к выходу.
— А твоя нога? — окликнул меня Митюков. — Уже прошла?
Черт. Совсем про ногу забыл.
— Нога? — переспросил я. — В самом деле. Прошла, как видите. Ну да. Надо же!
Нестеров и Митюков переглянулись.
Я обругал себя предпоследними словами. Прокол. Роли нужно доигрывать до конца.
Что-то я от мирной деревенской жизни совсем расслабился. Как бы мне это боком не вышло.
Вот еще когда я об этом подумал.
Точно. Еще тогда.
* * *
Пока я извлекал Ольгу с Настеной из толпы танцующих, Митюков вызвал к КПП черную «Волгу» и приказал водителю:
— Отвезешь этих господ. И сразу назад. Ясно?
— Так точно, товарищ полковник.
— Отставить, — сказал я.
— Почему? — удивился Митюков.
— Потому что у меня есть машина.
Я вышел за ворота и через две минуты подкатил к Ольге и Настене на своем вседорожнике «ниссан-террано». Про «патрол» была когда-то реклама: «Крепкий, как скала». А про какой-то другой джип: «Мощный, как танк». Так вот все это можно было сказать и про мой «террано». Эдакий с виду скромняга. Но не для тех, кто понимает. Водитель «Волги», судя по всему, понимал.
— Ух ты! — уважительно проговорил он.
До Митюкова тоже дошло.
— Почем брал?
— Около двух с половиной миллионов иен.
— Почему иен?
— В Японии брал.
— Сколько же это на нормальные деньги?
— Штук двадцать. Или чуть больше, — небрежно отозвался я. — Точно не помню.
— Рублей?
— Ну, полковник! Рублей! Баксов, конечно.
Я засунул Настену в салон, передав ее Ольге в руки, потом забрался сам и, помахав Митюкову, выехал из гарнизона, с нечестивым злорадством наблюдая в зеркало заднего вида, как Митюков стоит возле КПП, смотрит мне вслед и ошарашено чешет в затылке.
— Я и не подозревала, что ты такой тщеславный, — заметила Ольга.
Я возразил:
— Я не тщеславный. Я мстительный. Как верблюд.
— Разве верблюды мстительные?
— Еще какие! Попробуй обидеть верблюда. Он тебя обязательно оплюет. Хоть через год.
— Ты переплюнул верблюда. Оплевал бедного полковника через пять лет.
— Бедного? — переспросил я. — Ты бы видела его дачу на Истре!
— А ты видел?
— Я строил на его даче забор. Еще в бытность салагой.
Некоторое время мы ехали молча. Потом Ольга спросила:
— Ты ничего не хочешь мне объяснить?
— Про что?
— Почему ты проиграл бой этому Егорову?
— И после этого ты говоришь, что я тщеславный?
— Не увиливай. У тебя была возможность попасть в него не меньше трех раз. А ты не стрелял. Я сверху все видела.
— Ну, знаешь! Со стороны всегда все видней.
— Ну хорошо. А зачем ты сделал вид, что подвернул ногу?
— Сдаюсь, — сказал я. — Ему очень хотелось выиграть. А мне на это было в высшей степени наплевать. Не веришь?
— Верю, пожалуй. Но не понимаю. Ты всегда был очень азартный.
— А я и сам не все понимаю, — признался я. И я действительно не понимал.
Практически ничего. А когда начал понимать, было уже поздно.
— Странный он, этот подполковник Егоров, — помолчав километров пять, заметила Ольга. — Чем-то похож на тебя.
— Вот как? Чем?
— Вы из одной казармы.
Вот этим он меня и купил. Да, из одной казармы. Как я ни злился на него за эту проверку по форме 20, но он мне нравился. Он был свой. Он был из моей прошлой, но не забытой жизни, из которой я был вышвырнут волей паскудно сложившихся обстоятельств. Запах кожи офицерских портупей, оружейной смазки, острый озноб ночных диверсионных рейдов, сама атмосфера насмешливости, постоянных взаимных подначек. Он нес на себе печать этой жизни. И я ему, если честно, завидовал.
Потому и злился.
Подполковник Егоров. Хрен с бугра. Человек, который не любит проигрывать. А кто любит?
Я вспомнил про телефон, который он мне дал, и выбросил бумажку в окно.
Не собирался я звонить по этому телефону.
Нужно будет — сам позвонит. И номер моего сотового узнает. Если нужно.
Я не ошибся. Он позвонил через три дня.
III
«Я, Пастухов Сергей Сергеевич, заявляю, что согласен добровольно, без принуждения, пройти проверку на полиграфе. Мне объяснили процедуру проверки, я не имею возражений по существу ее проведения. Настоящим я полностью освобождаю специалиста, проводящего обследование, от всех претензий и исков с моей стороны в связи с этим и не возражаю против передачи результатов проверки заинтересованной стороне. Мне было разъяснено, что никто не может заставить меня проходить данную проверку. И я могу прервать ее по собственному желанию в любой момент…»
— Снимайте курточку. Садитесь в это кресло. Устраивайтесь поудобней. Этот бандаж — на грудь. Не жмет? Если нужно ослабить, скажите. Этот — на живот. Все нормально? Поднимите правую руку. На средний и безымянный палец укрепляем датчики. Они замеряют кожно-гальваническую реакцию организма. А теперь попрошу левую руку, средний палец. Этот датчик — для замера температуры и скачков кровяного давления. Вы когда-нибудь проходили обследование на детекторе лжи?
— Нет.
— Объясняю. Сейчас я вам задам несколько вопросов, на которые вы должны отвечать «нет». Независимо от того, правда это или не правда. Только «нет». Вы поняли?
— Нет.
— Пожалуйста, будьте внимательны. Я буду задавать вопросы, самые простые. А вы должны отвечать «нет». Теперь понимаете?
— Нет.
— Сергей Сергеевич, это же очень просто. Вы должны отвечать «нет» на любой мой вопрос.
— Я и отвечаю.
— В самом деле? Прошу извинить. Я не предупредил, что проверка еще не началась.
— Так начинайте.
— Начинаю. Ваша фамилия Пастухов?
— Нет.
— Ваше имя Сергей?
— Нет.
— Вам двадцать семь лет?
— Нет.
— Вы женаты?
— Нет.
— Вашу жену зовут Ольгой?
— Нет.
— Вашу дочь зовут Настей?
— Нет.
— Ей четыре с половиной года?
— Нет.
— Вы живете в деревне Затопино под Зарайском?
— Нет.
— Вы мужчина?
— Нет.
— Вы женщина?
— Нет.
— Ваш рост метр семьдесят пять?
— Нет.
— Ваш вес семьдесят килограммов?
— Нет.
— Вы шатен?
— Нет.
— Спасибо. Первый тест закончен. Я продолжу вопросы. Вы должны отвечать на них только «да» или «нет». Вам понятно?
— Да.
— Ваша фамилия Пастухов?
— Да.
— Вы курите?
— Нет.
— Вы пьете?
— Нет.
— Вы употребляете наркотики?
— Нет.
— Вы убивали людей?
— Нет.
— Вы умеете убивать людей?
— Нет.
— Вам нравится убивать людей?
— Нет.
— Вы воевали в Чечне?
— Да.
— Вы были капитаном спецназа?
— Да.
— Летом 96-го года вы были на Кипре?
— Да.
— Вы были там для выполнения специального задания?
— Нет.
— Осенью 96-го года вы были во Флоренции?
— Да.
— Вы выполняли там специальное задание?
— Нет.
— Летом прошлого года вы участвовали в ралли «Европа — Азия»?
— Да.
— Вы участвовали в ралли с целью выполнения специального задания?
— Нет.
— Вы участвовали в ралли для собственного удовольствия?
— Да.
— Вы богатый человек?
— Нет.
— Вы бедный человек?
— Нет.
— У вас джип «ниссан-террано»?
— Да.
— Вы купили его за двадцать тысяч долларов?
— Да.
— В деревне Затопино вы строите новый дом?
— Да.
— Это стоит немалых денег?
— Да.
— Вы получили эти деньги за выполнение специальных заданий?
— Нет. Я выиграл их в казино. И хватит, доктор. Это совсем не так интересно, как я думал.
— Но мы еще не закончили обследования. Вы согласились на него добровольно. И подписали обязательство.
— Там сказано, что я могу закончить проверку в любой момент. Я это и делаю. А если господам, которые следят за нами по монитору, хочется меня о чем-то спросить, пусть прямо и спросят. Если захочу, отвечу.
— А если не захотите?
— Не отвечу.
— Кроме полиграфа есть и другие способы узнать правду.
— Можно и мне задать вам вопрос? Отвечайте на него только «да» или «нет». Вам нравится, когда вам угрожают?
— Нет.
— Мне тоже.
IV
В просторном, обставленном современной мебелью кабинете на втором этаже подмосковного военного госпиталя, как раз над комнатой, в которой проходило тестирование на полиграфе, включился микрофон селектора, и голос оператора, проводившего обследование, спросил: «Разрешите зайти?» Подполковник Егоров вопросительно взглянул на человека в наброшенном на плечи белом крахмальном халате, который, нахохлившись, сидел за письменным столом. Узкий плоский череп без единого волоска и крупный нос с горбинкой придавали ему сходство со старым, но все еще сильным грифом, грозно сидящим на скале и оглядывающим подвластные ему выси и низины. Ему было немного за шестьдесят, но ни следа дряхлости не проступало на его хмуром властном лице. На молчаливый вопрос Егорова он лишь коротко покачал головой.
— Вас вызовут, — бросил Егоров в микрофон и выключил селектор. Немного выждал и спросил:
— Что скажете. Профессор?
Человек, которого Егоров назвал Профессором, не ответил. Он молчал, углубившись в какие-то свои мысли и не обращая ни малейшего внимания на взгляды, которые незаметно бросал на него подполковник Егоров.
Он впервые увидел Профессора всего две недели назад, когда был срочно вызван в Москву и включен в операцию чрезвычайной, как ему было сказано, важности. Этот человек очень его интересовал, но Егоров старался не выдать своего интереса.
— Что скажете. Профессор? — повторил он и вновь не получил никакого ответа.
Профессор несомненно услышал вопрос, но мысли его были сейчас заняты другим.
Подполковник Егоров догадывался чем. В этот подмосковный закрытый госпиталь Профессор приехал из Кремля, после разговора с одним из высших руководителей России. Разговор, как мог судить Егоров, был очень тяжелым, и атмосфера этого разговора, атмосфера того неведомого высокого кабинета словно бы воцарилась и здесь, среди этой современной легкомысленной мебели, высоких зеркальных окон и желтеющих берез на аллеях окружавшего санаторий парка. Подполковнику Егорову никогда не приходилось участвовать в подобных совещаниях, на таком уровне, но он даже по мрачности Профессора понял, какого рода был этот разговор. В тех высоких кабинетах никогда не ругались и редко называли вещи своими именами. Там нельзя было задать прямой вопрос и получить на него такой же прямой ответ. Это был не первый разговор Профессора с высоким начальством.
После первого подполковник Егоров позволил себе поинтересоваться, о чем шла речь. На что Профессор вполне серьезно ответил:
— Даже если бы я счел нужным вам рассказать, вы все равно ничего не поняли бы. Там никогда не говорят прямо. И никогда не говорят того, что думают. Там говорят только то, что необходимо для уяснения поставленной цели. Это особый язык. Его можно изучить только на практике. Когда вы достигнете моего положения, то окончательно поймете, что я имел в виду.
Подполковника Егорова не очень волновали разногласия Профессора с высоким начальством. Он знал свою задачу, не видел препятствий к ее выполнению и ждал лишь прямого приказа начать операцию. Этот приказ должен был отдать Профессор, но тот почему-то медлил, и это вызывало у Егорова легкое недоумение и даже раздражение, которые он, разумеется, не демонстрировал. Вместе с тем он был особенно осторожен в словах и в проявлениях чувств, так как понимал, что эта операция, в которую он оказался включенным, в общем, случайно, может стать переломной во всей его карьере, что она может вывести его в такие сферы, куда никакой усердной службой не пробьешься. И этот мосластый старик с орлиным профилем и властным лицом был тем человеком, который мог решить всю его судьбу.
Его никто не представил Егорову, ни он сам, ни другие не назвали его имени, из осторожных расспросов знакомых контрразведчиков Егоров выяснил только то, что не стоит вести об этом человеке никаких расспросов — ни явных, ни скрытых, даже сверхосторожных. Из этого Егоров заключил, что Профессор является одной из ведущих фигур в высшем руководстве спецслужб России и стоит сделать все, чтобы этому суровому старику понравиться. Но он также понимал, что понравиться ему можно не улыбками и обхождением, а только делом. Поэтому Егоров с таким нетерпением и ждал начала операции. Началом операции могло послужить утверждение кандидатуры Пастухова, которого Егорову не без труда удалось вытащить на беседу и уговорить пройти проверку на полиграфе. И хотя проверка сорвалась, Егоров все же считал, что большая часть дела сделана и теперь нужно довершать остальное.
Но у Профессора, видно, были свои соображения на этот счет.
— Все ли фигуранты этой операции известны и есть ли в отношении каждого из них полная ясность? — спросил наконец Профессор.
— Так точно, все, — по-военному ответил подполковник Егоров. — Ясность — тоже. Есть небольшие пробелы, но они несущественны.
— Не появлялась ли где-нибудь на периферии, чисто случайно, возможно, фигура не из нашей колоды? Я прошу вас забыть про логику и включить свое ассоциативное мышление. Вдруг — где-то, что-то — странное, случайное, настолько не вписывающееся в окружающее, что хочется сразу забыть, чтобы не забивать себе голову? Отнеситесь внимательно к моему вопросу.
Егоров подумал и твердо ответил:
— Нет. Никаких странностей. Никаких несуразностей. Вы кого-то хотите вычислить, Профессор? Если вы скажете кого, я, возможно, смогу вам помочь.
— Вы правы, хочу вычислить. Вот ориентиры. Два немца, сейчас им лет по 29—30. Специалисты высшего класса по компьютерам. Пять лет назад их звали Николо Вейнцель и Макс Штирман. И еще один человек. Сейчас ему пятьдесят четыре года. Пять лет назад его звали Аарон Блюмберг. Весной девяносто третьего года пришло сообщение, что он погиб во время морской прогулки на малой моторной яхте, но я этому сообщению не верю.
— Почему?
— По многим разным причинам. Первая из них та, что Блюмберг страдал морской болезнью и терпеть не мог моря. А вторая — другая. На яхте было обнаружено пол-ящика джина, а в крови погибшего большое количество алкоголя. Для немецкой полиции этого оказалось достаточно, но дело в том, что человек, о котором мы говорим, терпеть не мог джина и пил, когда была возможность, только портвейн «Кавказ».
— «Кавказ»? — переспросил Егоров. — Да это же такое…
— Мы сейчас говорим не о достоинствах вин, а о доказательствах. Ни одной бутылки «Кавказа» на борту моторки обнаружено не было. Как и в гостинице, где приезжий останавливался. Это заставляет меня предположить, что Аарон Блюмберг не погиб, а подставил вместо себя кого-то другого. Или использовал удобный случай, чтобы исчезнуть.
— Вас тревожит возможность его появления?
— Она меня не тревожит. Его появление будет попросту означать, что наша операция провалена. И никакими силами не сможет быть доведена до конца.
— Кто этот человек?
— Этого я вам не скажу.
— Как он сможет узнать о нашей операции?
— Он узнает.
— С какой стати ему в нее вмешиваться?
— А вот на это я попытаюсь ответить, — проговорил Профессор. — Тем более что эту тему я все равно хотел затронуть в разговоре с вами. Вы очень быстро и эффективно действовали в обстановке форс-мажора, которая сложилась в интересующем нас городе. Ваша разработка обнаруживает у вас остроту и современность оперативного мышления. Это, кстати, и побудило меня настаивать на привлечении вас к операции в качестве ведущей фигуры. Руководство согласилось.
— С неохотой? — поинтересовался Егоров. Профессор словно бы выпростал голову из плеч и посмотрел на него грозным взглядом проснувшегося грифа.
— Нет, — сказал он. — Нет. И знаете почему? Плевать им на то, кто будет руководить операцией. Им важно только одно: чтобы дело было сделано. Ваш успех откроет перед вами блестящую карьеру. Но есть одно «но». Сейчас это может показаться вам незначительным, только позже, возможно, вы поймете, что я был прав. Отдаете ли вы себе отчет в том, что разработанная вами операция от начала до конца не просто аморальна, а преступна по всем законам — и людским, и божьим?
Такого поворота в разговоре Егоров не ожидал.
— Не спешите, подумайте, — предложил Профессор. — Можете закурить. Я люблю, когда при мне курят.
Егоров жадно затянулся «Мальборо» и проговорил:
— Она была аморальна с самого начала.
— Согласен. Но к ее началу ни вы, ни я отношения не имели. Ее начинали другие люди. Я спрашиваю о сегодняшнем дне. Только вы не мне отвечайте, а себе.
— Да, понимаю, — подумав, кивнул Егоров. — Но я, в сущности, выполняю приказ. Я никого не вынуждал принять мой план. Теперь он стал директивой.
— Без «но». Сейчас — без «но», — перебил его Профессор. — Понимаете — вот что важно. В силу служебного положения и своего понимания долга перед Россией мы вынуждены делать вещи, с которыми не может мириться наша совесть. Но забывать о том, что нам приходится делать именно такие вещи, мы не должны. Это единственное, что может спасти наши души. Все это вам может показаться странным, но нравственность даже в таком, урезанном, положении дает человеку силы, о которых он порой не подозревает. Это, кстати, как ни странно, относится и к продвижению по службе. Если у вас ничего нет за душой, кроме желания ухватить очередную звезду на погоны, вы никогда не продвинетесь дальше полковника или в лучшем случае генерал-майора. Для человека, о котором мы говорим, Аарона Блюмберга, понятие нравственности абсолютно, бесспорно и неделимо. Поэтому для него не существует препятствий. И Боже вас сохрани оказаться на его пути.
— А вас? — спросил подполковник Егоров.
Профессор вздохнул, снова усунулся в плечи и ответил:
— Да, и меня. Я бы этого не хотел. Я не хотел бы этого больше всего на свете. Вызывайте оператора.
Подполковник Егоров бросил в микрофон селектора: «Зайдите, доктор!»
Появился оператор в белом докторском халате и в белой шапочке, положил на стол листы компьютерной распечатки. В ответ на обращенные к нему взгляды неопределенно пожал плечами:
— Слишком мало данных.
— А по тем, что есть? — спросил Егоров.
— Реакции неадекватны.
— То есть? Врет?
— Смотрите сами. Вот реакция на вопрос: «Вы убивали людей?» Точно такая же, как на вопрос: «Вы курите?» Но ведь он же действительно не курит.
— Чушь! — своим скрипучим голосом бросил Профессор. — Два года в Чечне. Капитан спецназа. Он что, цветочки там поливал?
Вопрос не требовал ответа. В тоне, каким это было сказано, звучал не вопрос, а выражение недовольства. Но ни Егоров, ни оператор не чувствовали за собой никакой вины, поэтому оба промолчали, как бы давая возможность начальственному недовольству рассеяться по кабинету, как дыму от сигареты Егорова.
— А реакция на вопрос, умеет ли он убивать людей? — спросил, помолчав, Профессор.
— Насчет этого вам и без полиграфа скажу, — ответил Егоров. — Умеет.
— А реакция отрицательная, — заметил оператор.
— Как это может быть? — не понял Профессор. — Психологический блок?
— Не думаю. У меня есть другое объяснение. Это только гипотеза. Потому что, повторяю, данных для анализа мало. Посмотрите на эти графики. Ответы на вопросы:
«Вы богатый человек?» и «Вы бедный человек?» Кривые совпадают. А теперь я эти кривые совмещаю с реакцией на вопросы, убивал ли он людей и умеет ли убивать людей. Полная идентичность.
— Ни черта не понимаю! — бросил Егоров. — Вы свой полиграф на пол случайно не роняли?
— Прибор ни при чем. Он фиксировал восемнадцать параметров. Ответ в другом. Обследуемый об этом не думает.
— О чем именно? — уточнил Профессор. — Богатый он или бедный?
— Да. Для него этих вопросов не существует. Точно так же, как вопросов об убийствах.
— Фрейдистские штучки? — с иронией поинтересовался Егоров. — Замещение, вытеснение, подмена?
— Нет. Реакция на такого рода раздражители принципиально иная. Дело проще и одновременно сложней. Это для него работа. И только.
— Убийца-автомат? — предположил Профессор.
— Исключено. Мы проводили обследование наших летчиков, бомбивших Грозный. Для них это тоже была работа. Более того, служба. А кривые там метались, как молнии в грозу. Моральный фактор.
— А здесь, выходит, морального фактора нет?
— Есть. Но он позитивен. Иными словами, объект верит в правильность того, что делает.
— А сразу не могли так и сказать? — раздраженно спросил Егоров.
— Вы бы мне не поверили.
— Я и сейчас не верю. Так не бывает.
— Бывает. В психологии не меньше тайн, чем, скажем, в истории.
Профессор жестом прервал перепалку.
— Что из этого следует? — спросил он. Оператор снова пожал плечами.
— Вы не объяснили мне цели обследования. Но если вы хотели узнать, является ли он наемным убийцей, могу твердо ответить: нет. И в будущем на роль киллера не годится.
Профессор откинулся на спинку кресла и некоторое время молчал, нахохлившись.
Потом сказал:
— Спасибо, доктор. Проводите его сюда. Минут через десять.
Оператор собрал графики и молча вышел.
— Вы уверены, что вам следует с ним встречаться? — поинтересовался Егоров.
И вновь ответ последовал не сразу.
— Я ни в чем не уверен. Поэтому, должен на него посмотреть.
Егоров включил монитор:
— Смотрите.
На экране появилась комната с полиграфом и компьютерами. Возле окна, спиной к камере, сложив руки за спиной и слегка покачиваясь на носках кроссовок, стоял молодой человек в джинсовом костюме.
— Хорошо держится. Спокойный парень, — заметил Профессор. — Даже не пытается заглянуть в бумаги на столе. Что было бы вполне естественно.
— Он же просек телекамеру.
— Как вы на него вышли?
— Я представил отчет.
— Повторите.
— Через отдел кадров училища. Невольно подсказал бывший замполит, полковник Митюков. Он следит за успехами выпускников. Даже оборудовал стенд «Наша гордость». Довольно безобидный вид показухи. Этот парень сначала заинтересовал меня из-за слома карьеры. Это хорошо ложилось в нашу разработку. Но решающим фактором, конечно, стала его поездка в Японию. На юбилее училища я на него посмотрел. Подходит.
— Мы не знаем причины слома его карьеры.
— Я надеялся, выясним.
— Не выяснили. «Невыполнение боевого приказа». За этим может быть что угодно. Зато выяснили чертову дюжину странностей. Откуда у него такая дорогая машина, деньги на строительство дома? На какие шиши и за каким чертом он раскатывает по Европам? Участие в евразийском ралли для собственного удовольствия. Это как прикажете понимать? — Профессор помолчал и с нескрываемым раздражением закончил:
— И главное, все эти вопросы встают тогда, когда человек практически уже включен в нашу комбинацию!
Егоров напомнил — не оправдываясь, но словно бы возвращая Профессора к реальности:
— Времени было в обрез. Но не поздно и переиграть.
— Я вас не обвиняю. Я пытаюсь понять, что происходит и что необходимо предпринять. Отменять операцию мы не можем. Об этом и речи нет. Нам не могли его подсунуть? Этот ваш Митюков?
— Он такой же мой, как и ваш. Исключено.
— В нашей работе исключать нельзя ничего. И никогда. Вы знаете об этом не хуже меня.
— Об операции известно только вам и мне. Или это не так?
— О деталях — да, так.
— А в целом?
Профессор недовольно поморщился:
— Не задавайте таких вопросов.
— Тогда не о чем беспокоиться, — подвел итог Егоров. — Подсовывают серых воробышков, а не таких экзотических фруктов — с новым «террано» и женой в норке. Он, кстати, и не делает тайны из своего образа жизни. Это лучшая гарантия, что он не подставка. Вас что-то смущает?
— Конкретно — ничего. Мне он даже нравится. Да, нравится, — повторил Профессор, разглядывая на экране монитора Пастухова, который уже начал нетерпеливо поглядывать на часы. — Нормальный молодой человек. Настолько нормальный, что невольно ищешь серьгу в ухе. Или в ноздре. Экзотический фрукт, говорите? Вы правы, пожалуй. Таких не подсовывают. А это, в конце концов, главное. Что ж, давайте с ним поговорим.
На экране монитора было видно, как в комнату вошел оператор, что-то сказал Пастухову. Тот довольно равнодушно кивнул и вышел из процедурной.
Егоров выключил телевизор.
Через несколько минут оператор ввел в кабинет Пастухова и остановился в дверях, выжидающе глядя на Профессора.
— Можете быть свободны, — кивнул тот.
— Слушаюсь, — сказал оператор и вышел.
— Садитесь, Сергей Сергеевич. Мне хотелось бы задать вам пару вопросов. Не возражаете?
Пастухов оглянулся на подполковника Егорова:
— Вы нас не познакомили.
— Называйте меня Профессором.
— Профессором чего?
— Это важно?
— Интересно.
— Социологии, — подсказал Егоров.
— Понятно.
— Что вам понятно? — заинтересовался Профессор.
— То, что вы хотите остаться инкогнито. До свиданья, Профессор. Всего хорошего, подполковник. Позвоните на вахту, чтобы меня выпустили.
— Вы хотите уйти? — спросил Профессор.
— Я не люблю иметь дело с таинственными незнакомцами.
Профессор нахмурился.
— Не выступал бы ты, рейнджер, а? — посоветовал Егоров.
— Так я могу уйти? — повторил Пастухов.
— Разумеется, — кивнул Профессор. — В любой момент. Но я попросил бы вас не спешить. Как знать, не окажется ли наше предложение для вас интересным. Что же до инкогнито — вы правы. Но есть ситуации, когда, чем меньше мы знаем друг о друге, тем лучше.
— Это игра в одни ворота. Обо мне вы хотите знать все. Поэтому и предложили проверку на полиграфе.
— Ты же согласился, — напомнил Егоров.
— Просто хотел понять, что вас интересует.
— Понял?
— Это было нетрудно.
— Ну, хватит, — поморщился Егоров. — Полиграф — это был лишь способ проверить твою откровенность. Мы и без него знаем о тебе все.
— Рад за вас. Тогда переходите к делу.
— Не торопитесь, подполковник, — проговорил Профессор. — Сергей Сергеевич совершенно прав: все о человеке не знает никто. Даже он сам. Мы знаем о вас далеко не все. И кое-что хотели бы узнать.
— Спрашивайте.
— На какие средства вы живете?
— Работаю. Сейчас, например, заканчиваю оборудовать столярную мастерскую. Буду делать оконные рамы, дверные блоки. Без заказов, рассчитываю, не останусь.
— Не сомневаюсь, что вы разбогатеете, — проговорил Профессор. — Но это в будущем. На что вы живете сейчас?
— На трудовые сбережения.
— Накопил в Чечне? — с иронией поинтересовался Егоров. — Сэкономил из офицерского жалованья?
— Я и после армии не сидел без дела.
— Пас деревенское стадо. Прибыльное занятие, а? Настолько, что позволил себе слетать в Японию за «ниссан-террано»!
— Брать машину на заводе-изготовителе — почти вдвое, если не более того, дешевле, чем у московских дилеров. И можно самому выбрать комплектацию. Без кондишен и квадрозвуков. Это тоже снижает цену.
— Учту. Когда заработаю хотя бы на вшивенькую «хонду». Не подскажешь, как это сделать?
— Вы всегда плаваете кругами? Почему бы вам прямо не спросить, откуда у меня трудовые сбережения.
— Вот именно. Откуда? — спросил Егоров.
— Я выполнил пару конфиденциальных поручений. Мне за них заплатили.
— Это уже лучше. Каких поручений? Чьих?
— Вы не расслышали? Я сказал. Конфиденциальных.
— Иными словами, вы не хотите сообщить нам об этом, — вмешался Профессор. — Не будем настаивать. Тем более что наши вопросы преследовали другую цель: выяснить, нужны ли вам деньги.
— А они кому-нибудь не нужны? — удивился Пастухов.
— Кто-нибудь нас не интересует. Нас интересуете вы.
— Нужны, конечно. Весь вопрос, какие это деньги. И за что.
— Вот мы и подошли к сути, — констатировал Профессор. — Объясните, подполковник, нашему гостю, в чем будет заключаться его работа.
— Но после этого ты уже не сможешь дать задний ход, — предупредил Егоров. — Согласен?
— Нет. Я не играю втемную.
— Но бабки-то тебе нужны? Сам сказал.
— У меня есть работа. И она мне нравится. Через неделю запущу столярку. На жизнь заработаю.
— Не пудри нам мозги. И себе тоже. Работа у него есть! — пренебрежительно повторил Егоров. — И она ему нравится! Только не пытайся нас убедить, что тебе не хочется заняться серьезным делом. Себя убеждай. Если сможешь. Не сможешь, рейнджер. Мы уже отравлены этим до печенок. Почище любого алкаша или наркомана. И ты сам это прекрасно знаешь. Я же видел, как ты брал в руки «беретту»!
— Возможно, — кивнул Пастухов. — Но втемную на серьезные дела подписываются только придурки. Вы сами бы подписались?
— Если бы доверял заказчику.
— А я могу вам доверять?
Егоров вопросительно взглянул на Профессора. Тот кивнул:
— Без конкретики. В самых общих чертах.
— Дело не слишком сложное, но требует определенных навыков, которыми ты обладаешь, — начал Егоров. — В некоей области в ноябре будут проходить выборы губернатора. Область не входила в так называемый «красный пояс», но сейчас ситуация может измениться. Причины стандартные: спад производства, задержка зарплаты и пенсий. И так далее. Было зарегистрировано пять кандидатов. Но реальные шансы только у двух. Один — нынешний губернатор, его поддерживает «Наш дом — Россия». Другой — кандидат от КПРФ. Дальше разная мелочь. Надеюсь, ты уже понял, что мы заинтересованы в победе демократического кандидата, то есть прежнего губернатора?
— Тем самым вы хотите сказать, что представляете какую-то правительственную структуру? — уточнил Пастухов.
— Ты правильно понял, — подтвердил Егоров. — Наша задача — обеспечить все условия для свободного волеизъявления. Полный и абсолютный порядок на выборах.
— Это задача милиции и прокуратуры, — напомнил Пастухов.
— Правильно. Но есть нюансы. Мы получили информацию, что будет предпринята попытка сорвать второй тур выборов, если окажется, что шансы демократического кандидата предпочтительнее. Ты имеешь представление, как это можно сделать?
— Нет. В этих делах я разбираюсь не больше, чем любой телезритель.
— Объясняю. Если перед вторым туром один из кандидатов снимет свою кандидатуру, что будет?
— Победит оставшийся кандидат, — предположил Пастухов.
— Нет, выборы будут отменены. Так как станут безальтернативными. И будут назначены новые выборы. Все с нуля. Это понятно?
— Да. Непонятно другое. С какой стати кандидату отказываться от борьбы накануне решающего тура?
— Разные могут быть причины. Может заболеть. Может попасть в автомобильную аварию. Или даже в самолетную катастрофу. В жизни все бывает.
— И могут убить? — предположил Пастухов.
— Могут и убить, — согласился Егоров.
— Убьют демократа, если его шансы окажутся лучше?
— Наоборот, — поправил Егоров. — Убьют коммуниста. И выборы будут сорваны. И не просто сорваны. Не понимаешь?
— Нет.
— Какой партии на новых выборах прибавит популярности убийство демократического кандидата?
— Демократической?
— Верно. НДР и всем, кто с ними блокируется. А убийство коммуниста?
— КПРФ?
— Вот ты и сам все понял.
— Я слышал, что политика — грязное дело, — заметил Пастухов. — Вы лишь подтверждаете, что это и впрямь так.
— Вы не правы, — возразил Профессор. — Любое дело может быть грязным. Политика — не исключение. Важней другое. Политика — это дело огромное. И чрезвычайно сложное, с множеством подводных течений. То, что вы видите на экранах телевизоров, — итог противоборства глубинных сил. В политике есть только один критерий. Результат. Какими средствами он достигается — вопрос второй. Политика — не рыцарский турнир. А наши противники — не рыцари с открытым забралом и цветами прекрасной дамы на плюмажах. Нет, не рыцари. Это заставляет нас действовать адекватно. Такова реальность. И мы вынуждены с ней считаться. Прошу извинить за эту небольшую лекцию, но я был принужден ее прочитать. Продолжайте, подполковник.
— Отсюда вытекает и твое задание. У губернатора есть охрана. Так что с ним все в порядке. Главная наша задача — обеспечить надежную охрану кандидата от КПРФ. Как это ни странно.
— Ничего странного, — снова вмешался Профессор. — Наша задача — защита конституционных прав и жизни всех граждан. Каких бы убеждений они ни придерживались. Я хотел бы, Сергей Сергеевич, чтобы на этот счет у вас не было никаких сомнений.
— На этот счет у меня нет сомнений.
— Мы сформировали для красного кандидата, как его там называют, неплохую команду, — продолжал Егоров. — Все профессионалы. Он не знает, что это наши люди. Они оформлены сотрудниками одного из московских охранных агентств, а оплата проведена через коммерческий банк, который якобы сочувствует коммунистам.
— Стоит сказать, что возглавляет эту команду лично подполковник Егоров, — добавил Профессор. — Но формально начальником охраны будете считаться вы.
— Тогда я не понимаю, что мне там делать, — сказал Пастухов.
— Сейчас поймешь, — пообещал Егоров. — Я и мои ребята в городе уже засветились. И чем дальше, тем будем засвечиваться все больше. Город небольшой, через неделю-другую нас будет знать каждая бабка. Нужен человек никому не известный, человек, который контролировал бы ситуацию со стороны. Ты и будешь этим человеком. Твоя задача — вычислить киллера и обезвредить его.
— Как?
— Абсолютно надежно. Для этого есть только один способ. И ты его знаешь.
— В момент покушения?
— До.
— Вот как?
— Сам факт покушения или попытки покушения — уже реклама.
— Значит, не будет никакого следствия, никакого суда?
— Вот именно, — подтвердил Егоров.
— Это убийство.
— Если называть вещи своими именами — да.
Пастухов встал.
— Спасибо за внимание, господа. Вы ошиблись. Эта работа не для меня. Для убийства вам следует нанять убийцу.
— Сядьте, Сергей Сергеевич, — кивнул Профессор. — Это был всего-навсего тест. Мы хотели проверить ваши психоморальные установки. Меня устроили результаты проверки. Нам не нужен убийца. И убийство не нужно. Ваша задача заканчивается раньше. И формулируется проще: вычислить киллера и предотвратить покушение. Лучше — на стадии подготовки. И лишь в крайнем случае — в момент покушения. Согласитесь, что ваши действия в этой ситуации, какими бы они ни были, никто не сможет квалифицировать как убийство. Даже вы сами наедине со своей совестью. Вы согласны со мной?
— Допустим, — подумав, сказал Пастухов. — Вам остается назвать город.
— Иначе наш разговор закончится? — уточнил Профессор.
— Да.
— Он закончился. Извините, что побеспокоили вас. Без доверия невозможно сотрудничество. Мы не говорим вам многого в ваших же интересах. Лишняя информация обяжет вас к согласию. А насильственное согласие нам не нужно. Значит, мы будем вынуждены изолировать вас. Как минимум, на время проведения операции. Вы понимаете, надеюсь, чем это продиктовано?
— Понимаю.
— На том и расстанемся. И забудем про эту встречу. А вообще-то я разочарован. Я редко ошибаюсь в людях. Не думал, что ошибусь в вас. Очень жаль. Нам нужны такие люди, как вы. Молодые офицеры, которые еще не забыли, что такое честь и долг. Мы знаем, что вас уволили из армии за отказ от выполнения боевого приказа. Не спрашиваю, какой приказ вы отказались выполнить и почему. Уверен только в одном: не из-за трусости. Чечня — это Чечня. Грязная и бессмысленная война. Она многое изменила в наших понятиях. Невыполнение приказа всегда было воинским преступлением. Сейчас это может быть и проявлением гражданского мужества. Странное время. В новом обществе рождается новая мораль. Она и предопределит все будущие законы. В том числе и воинские. Проводите нашего гостя, подполковник.
Профессор вновь откинулся к спинке кресла, прикрыл глаза и снова стал похож на старого грифа, нахохлившегося на вершине скалы.
— Когда вы сказали «нам нужны такие люди», кого вы имели в виду? — спросил Пастухов.
Профессор равнодушно посмотрел на него и так же равнодушно ответил:
— Россию.
Вот тут бы мне встать и уйти. Но я не ушел.
— Значит ли это, что ты согласен с нами работать? — спросил Егоров.
— Пожалуй, да.
— Это не ответ.
— Да.
— Прекрасно, — слегка оживился Профессор. — Я все-таки не ошибся в вас. Когда мы примем окончательное решение, подполковник введет вас в курс дела. А нам сейчас остается обсудить последний вопрос. Размер вашего гонорара. Мы предлагаем вам за эту работу десять тысяч долларов. Плюс расходы по факту.
— Пятьдесят, — сказал Пастухов.
— А не подавишься? — изумился Егоров.
Пастухов обернулся к нему:
— Будешь хамить, заставлю порезать.
— Не понимаю, — проговорил Профессор. — Что означает ваша фраза?
— Это из анекдота, — объяснил Пастухов. — Новый русский приходит в магазин и просит взвесить десять граммов сыру. Продавщица спрашивает: «А не подавишься?»
Он ей и отвечает: «Будешь хамить — заставлю порезать».
— Это смешной анекдот, — согласился Профессор. — Но сейчас не самое подходящее время для шуток.
— А я не шутил. Вы назвали свою цену, я свою.
— Ваша цена не соответствует работе.
— Мне придется рисковать жизнью. Потому что вычислить киллера — это одно дело. А обезвредить — совсем другое.
— Я склонен согласиться, — подумав, сказал Профессор. — Вы правы. За риск нужно платить. Десять тысяч — аванс, остальное после выполнения задания. Продиктуете подполковнику реквизиты вашего банка.
— Никаких авансов. Все сразу, наличными и вперед.
— А теперь ты хамишь, — заметил Егоров.
— Нет. Это был тоже небольшой тест. Мне хотелось понять, как вы сами оцениваете сложность задания. И связанный с ним риск.
— И что вы поняли?
— Что я мог бы запросить вдвое больше. И вы бы согласились.
— Вы намерены это сделать? — уточнил Профессор.
— Нет. Я назвал свои условия. Если вы их принимаете, будем считать, что контракт заключен.
— Окончательное решение мы примем чуть позже. Но думаю, мы согласимся на ваши условия.
— Тогда у меня только один вопрос. А если ваша оценка ситуации не соответствует действительности и киллер вообще не появится в городе?
Профессор и подполковник Егоров переглянулись.
— Скажите ему, — разрешил Профессор.
И Егоров сказал:
— Он уже появился. И сделал первый выстрел.
V
Вот так. Появился. И уже сделал первый выстрел. И нужно защитить красного кандидата. И для этого некие представители некой правительственной структуры, предпочитающие оставаться неизвестными, платят пятьдесят тысяч баксов. И даже были готовы заплатить вдвое больше.
Давно мне не вешали на уши столько лапши.
Но понял я это гораздо позже. А тогда, закончив обсуждение деталей, попрощался с Профессором и подполковником Егоровым, вывел свой джип с территории госпиталя и медленно поехал по асфальтовой дороге, связывавшей госпиталь с Минским шоссе, поглядывая на панель японского магнитофона. Красный светодиод горел, цифры на дисплее медленно сменяли одна другую. Значит, запись шла.
Я подавил желание сразу включить звук. Уж если я догадался оставить «жучка» в кресле, на котором сидел, беседуя с Профессором и Егоровым, нельзя было исключать, что такой же чип воткнули и в салон моего «террано», пока он стоял перед парадным входом в госпиталь. Впрочем, этот богатый комплекс за высоким бетонным забором был скорее не госпиталем, а закрытым санаторием или реабилитационным центром для узкого круга лиц. Для очень узкого. Потому что, проходя по застланным ковровыми дорожками коридорам и уютным холлам, я не увидел ни одного раненого в коляске или на костылях. Вообще никого не увидел.
Через полкилометра я заметил съезд с шоссе, продрался по старой грунтовке и спрятал «террано» в еловом подлеске. А сам вернулся поближе к дороге. Минут через двадцать в сторону Москвы просвистела темно-серая «Ауди-80» с затемненными стеклами и милицейскими мигалками на крыше. Я записал номер и вернулся к своей машине.
Ну, посмотрим, с кем мы имели Дело.
Я снял боковую обшивку багажника и извлек небольшую «соньку». Детектор для обнаружения чипов. Крайне необходимый инструмент для деревенского столяра. Как ни странно, нуль-эффект. Быть такого не может. Или может? Я включил магнитолу и начал понемногу прибавлять звук. Ага, запищало. Все-таки запищало. Значит, «голосовик»: чип, дающий импульс лишь при определенном уровне громкости. Я обнаружил его под передней панелью. Неслабо. Не чета моему. На какое же расстояние эта таблетка может подавать сигнал? На десять километров? На сто?
Поразмыслив, я оставил ее на месте. Пусть будет. Незачем раньше времени настораживать моих контрагентов. Пусть думают, что контролируют обстановку. А там посмотрим.
Пока я возился с детектором, светодиод на моем магнитофоне погас. Не померк, как бывает, когда слишком далеко удаляешься от передатчика, а выключился.
Это могло значить только одно: что мой чип обнаружили. И уничтожили или блокировали. Я предусматривал эту возможность. Неприятная была возможность.
Нехорошо подслушивать чужие разговоры. И главное, никаких сомнений в том, откуда в кабинете Профессора появился «жучок», не могло и возникнуть. Но теперь, когда я нашел и у себя такой же подарок, совесть моя успокоилась. Ну, квиты.
Я извлек магнитофон из машины, отошел в сторонку, перемотал пленку и включил воспроизведение. Свой чип я активизировал только перед самым уходом. Во-первых, потому что разговор, который шел в моем присутствии, мне ни к чему было записывать. А главное — из опасения, что «жучок» обнаружат при мне. И тут было бы полное «ай-я-яй».
С минуту в динамике стоял лишь шелест фона. Потом раздался голос подполковника Егорова:
— Лихо, Профессор. Я бы на такой блеф не решился. «Проводите нашего гостя». А если бы он ушел?
— Вы считаете, что я блефовал? — прозвучал скрипучий голос Профессора.
— А нет?
— Вы циник, Егоров.
— Я практик.
— Ошибаетесь. Мы сегодня уже говорили об этом, но вы, вероятно, не поняли. Вы облечены высшим доверием. А значит, вы политик. Хотите того или нет. А политик должен верить в то, что делает. Иначе грош ему цена. И ни на какую серьезную карьеру он не может рассчитывать. Ваши впечатления?
— Крутой паренек. Пятьдесят штук снял — и глазом не моргнул. Если у него такие гонорары, чьи же конфиденциальные поручения он выполнял? И какие?
— Незачем гадать. Важно другое. Это ложится в легенду. Наемник. А кто его нанимал и для чего — второй вопрос. Когда он был в Японии?
— С седьмого по шестнадцатое октября. Вылетел в Токио прямым рейсом из Шереметьево-2. Вернулся через Осаку автомобильным паромом до Владивостока. Там погрузил купленную машину на платформу и сопровождал ее в рефрижераторе до Москвы. Договорился с водителями рефрижератора, «рефами». За бабки, конечно. Боялся, как бы тачку по пути не раздели. Так что все складывается как надо.
— Эти «рефы» смогут его опознать?
— Смогут, конечно. Но кто их будет искать и допрашивать?
— Ну, допустим. Сколько ему лет?
— Двадцать семь.
— Ощущение, что старше. Не внешне. По сути характера.
— Чечня. На войне люди быстро взрослеют.
— Вас что-то смущает?
— Кое-что. Честно сказать, если бы не Япония, я бы его заменил. Хоть это и очень сложно.
— В чем дело?
— Вчера я ездил в училище. Узнать у Нестерова, как наш фигурант отреагировал на предложение вернуться в армию.
— Как?
— Никак. Не согласился.
— Мы на это и не рассчитывали. Предложение свою роль сыграло. Психологическая подготовка на дальнем обводе. Что вас насторожило?
— Перед отъездом я разговорился с полковником Митюковым. Трепло и стукач. Он работал на Второе Главное управление КГБ.
— Воздержитесь, подполковник, от таких оценок. Он выполнял свой долг. Так, как его понимал.
— Слушаюсь, Профессор. Так вот, он рассказал, что Пастухов бой мне попросту сдал. На соревнованиях рейнджеров.
— Помню. Вы говорили про выстрел, который судья не засчитал.
— Он и первый этап сдал. Оказывается, на мишени был изображен милиционер в не правильно нарисованном мундире. С четырьмя пуговицами вместо трех. Поэтому он в него и выстрелил.
— Как он успел заметить?
— Выходит, успел. И второй этап — тоже сдал. Сделал вид, что оступился. А когда выходил из кабинета Нестерова, не хромал.
— Что это значит?
— Вот я и думаю. Могут быть проблемы.
Пауза.
Голос Профессора:
— Заменяем?
— Очень сложно. До выборов меньше месяца. И главное — Япония. Где мы найдем такое благоприятное сочетание обстоятельств?
— Вы отвечаете за оперативную часть. Поэтому решение я предоставляю вам. Справятся ваши ребята?
— Справятся.
— Это ваши проблемы, подполковник. Вам придется их решать, а не мне.
Голос Егорова:
— Я рассказал вам об этом только потому, что мы оба отвечаем за операцию.
— Я это понял. Значит, менять ничего не будем. Времени — ноль. Строго придерживайтесь плана. Схема надежная, должна сработать.
— А если будет осечка?
— Я даже думать об этом не хочу. И вам не советую. Все, поехали. Звук шагов.
Стук двери.
* * *
Я выключил магнитофон. Не засекли. Удачно. Но почему же он перестал работать?
Я снова пустил запись. С минуту шел фон. Я уже хотел выключить, но тут в динамике раздался какой-то шум, грохот передвигаемой мебели и возбужденные голоса:
— Здесь! Где-то здесь, точно! Ищи, Шурик! Ищи, твою мать, не стой! Сюда давай локатор!
— Ничего нет.
— Ты на стрелку смотри, козел! «Ничего нет»! Яйца нам пооткручивают!
— Стой! Где-то здесь. Переверни кресло!
— Точно. Вот он!
— Голуба-мама!.. Когда пошел сигнал?
— Минут шесть. Или семь.
— Или десять?
— Ну, не десять… Я только вышел сигарету стрельнуть.
— На, кури… Что будем делать?
— Нужно доложить.
— О чем, твою мать? Ты думаешь, что несешь? О чем доложить? Что ты за сигаретой пошел, а я в буфет? В этом же кабинете сам был! Кранты нам, Шурик.
— А как же?..
— Не ссы. Вот как. Дави его. И не было ничего. Ничего не было, понял? Во время смены никаких происшествий не зафиксировано.
— Слышь, Степаныч…
— Чего тебе еще?
— Он же, сука, это самое… Он же и сейчас работает. Стрелка — смотри!
— Дави!!!
Резкий треск. Конец связи.
* * *
Я вывел «террано» на асфальт и через четверть часа свернул на Минку. Из магнитолы неслось: «It's my life».
Железная дисциплина. Великая сталинская мечта. Вот тебе и железная дисциплина!
Спасибо, неведомый Шурик и неведомый Степаныч. Вы поступили как настоящие советские люди. На вашем месте так поступил бы каждый. Во время смены никаких происшествий не зафиксировано. Смену сдал, смену принял. И пошли бы все в ж… Все в порядке, Профессор. Все о'кей!
Так я ерничал про себя, чтобы не думать о том, что узнал. А что я узнал? Ничего хорошего. Кое-что, покрытое флером тайны.
«Там, где неизвестность, предполагай ужасы».
Через два дня я вылетел в город К.
Но накануне, гуляя с Настеной и двумя нашими собаками, молодыми московскими сторожевыми, добрел до Выселок и зашел в нашу церквушку — сельский храм Спас-Заулка.
Шла утренняя воскресная служба. Читали из Премудростей Соломона:
«И я человек смертный, подобный всем, потомок первозданного земнородного. И я в утробе матерней образовался в плоть в десятимесячное время, сгустившись в крови от семени мужа и услаждения, соединенного со сном. И я, родившись, начал дышать общим воздухом и ниспал на ту же землю, первый голос обнаружил плачем одинаково со всеми…»
Вел службу молодой священник отец Андрей. Я издали поклонился ему, потом купил семь свечей и поставил их.
Две за упокой души лейтенанта спецназа Тимофея Варпаховского и старшего лейтенанта спецназа Николая Ухова, по кличке Трубач[1].
И пять во здравие, перед Георгием Победоносцем, покровителем воинов.
Во здравие бывшего капитана медицинской службы Ивана Перегудова, по прозвищу Док.
Во здравие бывшего старшего лейтенанта спецназа Дмитрия Хохлова, по прозвищу Боцман.
Во здравие бывшего старшего лейтенанта спецназа Семена Злотникова, по прозвищу Артист.
Во здравие бывшего лейтенанта спецназа Олега Мухина, по прозвищу Муха.
И за себя.
«Это я, это я. Господи!
Дело мое на земле — воин.
Твой ли я воин, Господи?
Или Царя Тьмы?..»
Вот так это и началось. Для меня. Так я вошел в эту реку. И лишь позже узнал, что исток всех событий, подхвативших меня и завертевших, как легкую плоскодонку, таится в прошлом.
Все началось ранней весной 1992 года, когда в России вдруг выяснили, что производить ядерные боеголовки гораздо дешевле, чем их уничтожать и хранить, и когда повсюду в мире творилось черт знает что…
Глава вторая. «Никаких комментариев!»
I
Ранней весной 1992 года, когда в России вдруг уяснили, что производить ядерные боеголовки гораздо дешевле, чем их уничтожать и хранить, когда повсюду в мире творилось черт знает что, а яйцеголовые профессора Колумбийского университета и эксперты-советологи госдепартамента скребли затылки в недоумении, куда бы приспособить несказанные мощности «Голоса Америки» и «Радио Свободы» ввиду их очевидной никчемности в новой исторической обстановке, — в эти весенние дни 1992 года в столице Земли Северный Рейн-Вестфалия, старинном немецком городе Кельне, произошли события, оставшиеся практически не замеченными не только широкой публикой, но и теми экономическими обозревателями и аналитиками, которые делали неплохие деньги на предсказании всяческих экономических катаклизмов.
Предсказания, особенно в последние два-три года, были мрачными, поэтому почти всегда сбывались. А если не сбывались или сбывались не полностью, это объяснялось простым везением, счастливой случайностью и никак на репутации современных компьютеризованных кассандр не отражалось.
Была лишь одна тема — табу, ее старались не затрагивать ни при каких обстоятельствах. Тема эта была — Россия, вновь, после семи десятилетий отсутствия, явившая себя на мировом рынке. И добро бы одна Россия. А страны с непривычной аббревиатурой СНГ? О каком учете их воздействия на мировые процессы, о каком прогнозе могла идти речь, когда даже президенты этих стран не знали, что творится на их границах! Нет, подальше и от СНГ, да и от России тоже. Подальше, подальше. Спокойнее будет.
Репутация дороже.
Поэтому так и получилось, что во всей Западной Европе, от Альп до Скандинавии, нашелся всего один человек, который проявил к разворачивающимся в городе Кельне событиям профессиональный интерес.
* * *
Звали этого человека Аарон Блюмберг.
* * *
Москвич по рождению. Израильтянин по гражданству. Экономический эксперт по профессии (так, во всяком случае, значилось в его визитной карточке). Немец по месту жительства.
Он постоянно жил в Гамбурге, в одном из старинных красно-кирпичных домов в рукавах Нордер-Эльбы, то ли слегка подкопченных бомбежками союзнической авиации в конце второй мировой войны, то ли потемневших естественным образом от времени и вечной сырости гамбургского порта.
В этом доме господину Блюмбергу принадлежала сравнительно небольшая (всего на две спальни) квартира. Однако дом был в очень дорогом районе, а кроме того, представлял собой историческую ценность (его относили к XIV веку), так что, вздумай господин Блюмберг расстаться со своей собственностью, отбоя от покупателей у него не было бы.
Но он об этом и думать не думал. Во всяком случае, фрау Гугельхейм, супруга уважаемого господина заместителя начальника линейных теплосетей, которая раз в неделю наводила порядок в его «холостяцкой берлоге», ни разу не слышала от него даже намека на такие мысли.
За все годы, которые фрау Гугельхейм занималась уборкой его квартиры (а она занималась ею с первого дня), он не разрешил ей выбросить ни единой, даже самой пустячной вещи — ни фотоальбома с чужими фотографиями, ни кушеточек и этажерочек, изобретенных врагами человечества лишь для того, чтобы на них копить пыль, ни даже единого тряпичного половичка — точно такого, какими мать фрау Гугельхейм подрабатывала на жизнь в трудные послевоенные годы. Более того, если бы господин Блюмберг не был интеллигентным человеком и имел бы привычку прямо высказывать свои желания (как некоторые, не будем показывать пальцем), он вообще запретил бы фрау Гугельхейм хотя бы даже стул переставить с места на место. При этом его ничуть не остановило бы то соображение, что под ножкой стула могло скопиться столько бактерий (фрау Гугельхейм привычно именовала их бациллами), что их хватило бы для заражения всего мира.
Но до этого, слава Пресвятой Богородице, не доходило. После уборки квартира господина Блюмберга сверкала и блестела, но все вещи в ней были точно на тех же местах, как и до уборки. И господин Блюмберг был не из тех, кто на такие мелочи не обращает внимания. Нет, не из тех. Как некоторые (не будем показывать пальцами). Уже на третий раз он выдал фрау Гугельхейм двойную оплату за качество работы и в знак особого расположения налил три четверти бокала вина со странным для немецкого уха названием portwein «Kavkaz».
При первом глотке фрау Гугельхейм едва не потеряла сознание, потом ей удалось разлепить рот и сказать, что такое экзотическое вино она хотела бы приберечь для рождественского торта. На что господин Блюмберг только рукой махнул: делайте, мол, что хотите, что с вас, немчуры, возьмешь.
Но самое поразительное было в том, что каждую среду (а уборки проходили по средам) фрау Гугельхейм вытаскивала на мусорную свалку по несколько бутылок из-под этой жидкости. И не было, увы, никаких поводов думать, что господин Блюмберг морит этой жидкостью разную пакость вроде тараканов.
Нет. Нет и еще раз нет! Он пил эту гадость сам. И после этого по утрам садился в свой автомобиль или поднимался на мансарду в свой офис.
И вид у него был вполне нормальный.
Будем откровенны: даже более нормальный, чем у супруга госпожи Гугельхейм, уважаемого господина заместителя начальника линейных теплосетей, после очередного собрания пивного клуба, членом которого состоял еще его дед.
Непостижимы дела твои, Господи! Воистину непостижимы!
* * *
У людей, увидевших господина Блюмберга впервые или мельком, складывалось не самое благоприятное впечатление о его внешности. Однако фрау Гугельхейм имела больше времени присмотреться к нему.
Да, на первый взгляд это был неказистый, плешивый еврей среднего роста, с некрасивым асимметричным лицом, с чуть искривленным, как у бывшего боксера, носом и седыми бровями. Ему можно было дать и сорок лет (когда он выходил из хорошей парикмахерской), и шестьдесят — когда количество «Кавказа» за неделю переваливало за известный предел.
Одевался он в хороших магазинах, но как-то словно бы небрежно, не придавая этому никакого значения. Любил клубные пиджаки, цветные платки вместо галстуков, мог появиться возле своего респектабельного дома в джинсах, порванных до голой коленки, — ну, тинэйджер, и все тут. Но однажды, при праздновании юбилея тепловых сетей, на которых ее супруг отслужил больше тридцати лет, фрау Гугельхейм оказалась там, где обычная жительница Гамбурга может не побывать ни разу за всю свою жизнь, — в ресторане «Четыре времени года», лучшем ресторане Европы.
И то, что она там узнала… Позже, обдумывая увиденное, она мысленно рассортировала впечатления по порядку.
Порядок был такой.
Сначала она увидела за круглым столиком бара двух очень красивых и очень дорого одетых (только не нужно спорить об этом с госпожой Гугельхейм, не нужно) дам.
Да, скажем так — дам. Это будет правильно. Именно дам, а не тех порочных и легкомысленных созданий, которых вовлекает в свои дьявольские сети ночная жизнь больших городов.
Это были две молодые женщины лет по 24-25. Обе жгучие брюнетки испанского типа.
Потом кто-то заслонил их спиной, а уже в следующее мгновение, когда все сели за столик, фрау Гугельхейм констатировала (просто констатировала, зафиксировала без всякой эмоциональной оценки), что этот третий — смугловатый, подтянутый, средних лет господин в черном смокинге и с белой хризантемой в петлице — есть не кто иной, как господин Аарон Блюмберг, ее жилец (хотя это и не совсем верно, ее работодатель — более коряво, но точнее).
И этот господин Аарон Блюмберг свободно болтает с красавицами испанками на каком-то иностранном языке, дает прикурить от тонкой золотой зажигалки, делает распоряжения официанту и вообще ведет себя, как… Как английский лорд, вот как!
И все у него получается не хуже, чем у английского лорда!
Или даже лучше.
Фрау Гугельхейм не имела объекта сравнения, не пришлось ей в жизни познакомиться с английским лордом. Но то, что манеры господина Блюмберга были не хуже манер любого родовитого отпрыска какого угодно дворянского рода, а лучше, — в этом фрау Гугельхейм могла бы присягнуть на Библии. Не нужно иметь в знакомых королевскую кузину, чтобы в таких вещах разбираться. Достаточно посмотреть, как ведут себя с человеком официанты и метрдотель. Только нужно уметь смотреть.
Фрау Гугельхейм умела.
И очень быстро сделала выводы.
* * *
Есть ситуации, в которых проявляется какое-то главное психологическое различие между мужчиной и женщиной. Увидев в толпе знакомого, мужчина обязательно заорет на всю площадь: «Эй, Мишка! Это я! Это же Мишка, Мань, не видишь, что ли?..»
Женщина поступает совершенно иным образом. Она незаметно кивает на человека, который показался ей знакомым, и спрашивает спутника: «Тебе не кажется, что он чем-то похож на твоего приятеля Мишку?»
Фрау Гугельхейм поступила еще тоньше. Она очень незаметно, быстрым взглядом показала мужу на заинтересовавшую ее троицу и небрежно спросила:
— Тебе никого не напоминает этот господин? По-моему, он похож на какого-то известного актера.
И только минут через пять, когда до ее супруга дошло наконец, что он видит перед собой в черном смокинге не известного актера, а жильца из дома по Нордер-Эльбе, фрау Гугельхейм приказала быстрым, но четким шепотом:
— Мы не видели ничего. Тебе ясно? Ничего мы не видели. Это не он.
Трудно сказать, чем она в тот момент руководствовалась, но в глубине души фрау Гугельхейм понимала, что делает правильно. И не ошиблась. Недели через три ее супруг получил должность господина начальника линейных теплосетей в обход нескольких более перспективных своих коллег. Без труда удалось выяснить, что назначение это произошло по просьбе господина Блюмберга, который в свое время оказал господину мэру кое-какие услуги и сейчас тоже оказывает содействие бурно развивающемуся городскому хозяйству.
Господин новоиспеченный начальник теплосетей рвался купить шампанского и завалиться к благодетелю с дружескими объятиями. Но фрау Гугельхейм удержала супруга. Она выждала до среды, произвела уборку и в конце ее, как всегда бывало, вернула ключи господину Блюмбергу.
— Я хочу сказать вам огромное спасибо за все, что вы для нас сделали, — произнесла она заранее заготовленную фразу, чувствуя, что краснеет, как школьница на выпускном экзамене.
Блюмберг удивленно посмотрел на нее и покачал головой:
— Понятия не имею, о чем вы говорите. Ни малейшего понятия. — Он чуть подумал и добавил на другом языке, возможно — на испанском:
— Ни хрена не врубаюсь!
* * *
Фрау Гугельхейм поняла, что все сделала правильно. Она и понятия не имела, какую услугу оказала этому человеку, не узнав его в ресторане. Она вообще не думала, оказала ли ему услугу, но внутренним женским чутьем понимала: все правильно.
II
Офис господина Аарона Блюмберга (официально его фирма называлась Коммерческий аналитический центр) располагался в мансарде того же старого дома на Нордер-Эльбе, что и его квартира.
Эти две сдвоенные комнаты с наклонными мансардными стенами и окнами назвать офисом можно было только с очень большой натяжкой. Если бы не два суперсовременных компьютера, подключенных ко всем существующим в мире телекоммуникационным системам, эту мансарду правильней было бы назвать старой библиотекой, а еще вернее — чуланом, где нашли свой последний приют самые разные старые веши.
Заваленные книжными томами старые шкафы, развалы книг и пыльных журналов по углам, заляпанное воском зеленое сукно ломберного стола, чудом уцелевший кусок бильярда с одной ногой и совершенно целой лузой — всего этого старья в мансарде было так много, что среди него терялись и два современных офисных стола, а сами компьютеры с мониторами, принтерами и сканерами казались странными экспонатами, еще не нашедшими своего места в этом музее вечности.
Разве что потолок хозяин не смог оставить в первозданном виде. Современные машины требовали кондиционирования воздуха, поэтому пришлось старые балки затянуть современным пластиком с многочисленными вентиляционными отверстиями.
Старый корабль дал крен, но все еще оставался на плаву. И это был еще большой вопрос, кто победит в этой схватке: хрупкая пластмасса или мореный дуб и кожа старинных переплетов.
Сотрудников Аналитического центра Блюмберга только в первые дни смущало несоответствие антуража мансарды и суперсовременной ее начинки.
Потом смущаться стало некогда.
А еще позже — незачем.
* * *
Их было двое.
Николо Вейнцель, один из самых талантливых молодых ученых Берлинского университета, 24 лет, похожий в своих очках и с космами плохо причесанных волос на студентов-отличников всего мира. И Макс Штирман, один из лучших аспирантов профессора Майнца из Гейдельбергского университета. Это был здоровенный розовощекий крепыш, в любое время суток жующий какую-то жвачку.
Сам Аарон Блюмберг не умел пользоваться компьютером даже на уровне самого зеленого юзера, но эти двое ребят были лучшими хакерами Германии или даже всего Старого Света.
Блюмберг почти год присматривался и едва ли не принюхивался к тому и другому, прежде чем сказал прямо:
— У меня есть деньги на две суперклассные машины — лучшие из всех, что существуют в мире. Больше ни на что у меня денег нет. Зато у меня есть голова, цену которой я знаю. У вас тоже нет денег, но есть головы, цены которым вы пока не знаете. А узнать можно только одним способом: попробовать. Это я и предлагаю вам — попробовать. Судьбы мира сегодня решает информация. У нас есть к ней доступ. И самое главное — я знаю, к какой именно информации этот доступ нам нужен.
Макс Штирман выдул из своей жвачки классный, просто для «Книги рекордов Гиннесса», пузырь и спросил:
— Мы можем подумать?
— А как же! — охотно отозвался Блюмберг. — Кто же такие решения принимает с бухты-барахты?! Думайте, ребята, думайте! У вас есть примерно по две с половиной минуты.
Пузырь на губах Макса от изумления лопнул.
— А если мы скажем: «нет»? — спросил он.
— Или попросим на раздумья сутки? — добавил Николо на своем берлинском диалекте.
Блюмберг посмотрел на свои часы.
— У вас осталось по две минуты. Или я услышу «да», или вы меня больше никогда не увидите. У вас в жизни будет много увлекательных предложений. Но вы всегда будете помнить о моем. Не хотелось бы вас шантажировать, но это не очень хорошая перспектива. Потому что в жизни что самое противное? Упущенные возможности.
* * *
Уже первые опыты показали, что Блюмберг не переоценивал свою голову. Как и головы своих компаньонов — а они действительно с самого первого дня стали не сотрудниками, а компаньонами. В отличие от консалтинговых фирм, которые, в сущности, торговали прогнозами, он сам вмешивался в дела или вел биржевую игру через третьих лиц. И не было случая, чтобы он оказался в проигрыше. У него был поразительный, крысиный нюх на запах рынка. У Николо и Макса иногда возникало ощущение, что шефу и не нужно просматривать материалы, собранные и подготовленные для него во время круглосуточных дежурств у компьютеров. Он просто кладет руку на папку, а потом извлекает из груды бумаг нужную — самую важную.
При этом характер Аарона Блюмберга был вздорным до невозможности, любая мелочь могла привести его в неописуемую ярость. Правда, у него хватало ума и такта позже извиняться за свои вспышки, но на первых порах это вносило в отношения компаньонов немалую нервозность.
Однако по мере того, как росли банковские счета Макса и Николо, они все меньше внимания обращали на сумасбродства шефа. У него на плечах была голова. А остальное неважно. Молодое поколение выбирает не эмоции, нет.
Оно выбирает мозги.
* * *
Коммерческий аналитический центр Аарона Блюмберга не имел ни приемной, ни парадного входа. Почта поступала на абонентский ящик, городской телефон был кодирован и известен лишь чрезвычайно узкому кругу деловых знакомых Блюмберга, были засекречены и личные телефоны — как самого Блюмберга, так и его компаньонов.
Подняться в офис можно было только из подземного гаража, причем лифт был единственный, а ключи от него были лишь у самого Аарона, Макса и Николо. А ключи от квартиры Блюмберга — вообще лишь у него. Только перед уборкой он оставлял их фрау Гугельхейм и затем тотчас же забирал. Так что, если вверху хлопала дверь лифта, можно было без труда понять, что появился кто-то из своих.
В этот день, 4 мая 1992 года, дежуривший у компьютера Макс, выйдя подышать свежим воздухом и полюбоваться веселящими глаз древними зелеными крышами старого Гамбурга, увидел сверху, как во двор вкатывает канареечного цвета «ситроен» Блюмберга выпуска девятьсот лохматого года. Даже с высоты мансардного этажа было видно, что он ободран со всех сторон, откуда только можно. Поскольку сам Макс ездил на новеньком «порше», а Николо недавно купил себе «альфа-ромео», несоответствие машин хозяина агентства и его сотрудников невольно бросалось в глаза. Но Блюмберг нашел объяснение, которое, в общем-то, всех устроило:
— А на кой мне, мать-перемать (это у него были такие придаточные слова, не имеющие никакого смысла ни в русском, ни в немецком языке), ваш сраный «порше»? Мне что эту тачку бить, что «мерседес» — все равно. Эту даже дешевле.
Довод был неотразимым.
Причем бил Блюмберг свою машину обо все, что неосторожно попадалось на его пути — от мусорного контейнера до сорокатонного асфальтового катка. И бил не потому, что не умел ездить, а просто ему неинтересно было следить за такими мелочами, как дорожные знаки и прочая ерунда. Ездить же он умел. Однажды после случайной драки с водителями-дальнобойщиками Блюмберг так провел огромный «вольво» — рефрижератор по глинистому откосу, что потом местная полиция все выпытывала у него, не выступал ли он на евроазиатских или других подобных ралли.
Но сегодня шеф, похоже, был настроен вполне благодушно. Он всего-навсего рассыпал в стороны картонные коробки на въезде и вкатил в подземный гараж, лишь слегка ободрав дверцу. А еще через десять минут Макс услышал гул лифта и хлопанье дверей — сначала лифтовой, а потом и мансардной.
Пауза. Сейчас должна упасть вешалка. Из тех старинных, с чугунной основой и облицовкой из старого дуба. Ага, упала. И, кажется, не слишком удачно. Удачно — это когда она била рогом по голове. А неудачно — когда чугунной станиной по колену или по голени.
Н-да, неудачно.
Минут пятнадцать шеф обнаруживал свое присутствие лишь возгласами типа «мать-перемать», потом начал появляться сам. Частями. Сначала в дверном проеме показалась плешивая голова хорошо и с разных сторон повидавшего жизнь человека.
Потом показались плечи в сером пиджаке с клетчатым шарфом. Потом появилось ушибленное колено Блюмберга, которое он волочил за собой, как раненый солдат ногу. Затем появилось здоровое колено Блюмберга, а с ним и весь шеф в виде несколько помятом и скукоженном от боли в колене, но вполне нормальном. Вполне.
После всех этих передвижений Блюмберг с ногами забрался в старинное кресло-качалку, которое невозможно было выбросить по причине его необыкновенной тяжести и прочности, немного покачался и сказал, предварив немецкую фразу некоторым количеством вводных слов типа «мать-перемать»:
— Что у нас, мать-перемать, происходит в Тампельсдорфе?
Макс удивился. В Тампельсдорфе, мать-перемать, не происходило ничего. Там ничего и не могло происходить. Это был небольшой гражданский аэродром, оборудованный для внутренних перевозок. Там стояло несколько личных спортивных и полуспортивных самолетов местных жителей, тройка вертолетов, а также располагались аэродромные службы, которые обеспечивали движение на этой далеко не самой оживленной линии Вестфалии.
Но Макс не стал пререкаться с шефом. Он вошел в терминал Тампельсдорфа, вполне, кстати, открытый, взял необходимые данные, сделал распечатку и протянул экземпляры Блюмбергу.
Тот выхватил их так, как рвут газету с сенсацией из рук уличного продавца.
— «Четвертое мая, 16.30, — прочитал он. — Приземлился частный самолет типа «Сессна» компании «Лиетува». Четвертое мая, 18.20. Приземлился частный самолет типа ДС — «Дуглас» компании «Даугава». Все?
— Все, — подтвердил Макс, не чувствуя за собой ни тени вины за скудость информации, которая была извлечена из компьютера.
Но Блюмберг был настроен совсем не миролюбиво.
— Ладно, мать-перемать, — сказал он. — Про тебя я уже все понял. На коленку ты мне не то что компресс не положишь, ты ее пальцем не тронешь. А если тронешь, так только для того, чтобы прижечь ее горячим утюгом. Про то, чтобы поднять эту гребаную вешалку в прихожей, я и говорить не буду. Потому что ты просто не поймешь, о чем это я с тобой толкую. С этим все ясно. Но две вещи ты для меня все-таки сделаешь! Всего две. Понял? И попробуй, перемать, не сделать!
— Первую я уже сделал, — с усмешкой отозвался Макс и протянул шефу почти полный стакан темного липкого вина под названием «Кавказ».
По глубокому убеждению Макса и Николо Вейнцеля, к которому они пришли каждый самостоятельно, своим путем, пить это вино (или подобное, если такое вообще где-нибудь в мире существует) может только Блюмберг. И при этом не добровольно, а как бы в отместку себе или во искупление какого-то своего давнего и очень-очень тяжкого греха. И грех этот, судя по всему, такой давний, тяжкий и неизбывный, что напиток этот Блюмбергу специально доставляли из России, и он очень ревниво следил, чтобы запасы его не истощались.
Блюмберг принял от Макса стакан «Кавказа» и даже «спасибо» не сказал, что вообще-то было на него не похоже, а могло свидетельствовать лишь о сильном волнении, в котором он находился. Причин этого волнения Макс не понимал и потому слегка удивился приказу, который Блюмберг отдал, покончив со своей искупительной чашей:
— Залезь во все компьютеры Тампельсдорфа. Пассажиры, экипажи, маршрут. — И, немного подумав, добавил:
— И вообще во все местные авиалинии.
Макс помедлил. Большая часть информации, которую хотел получить Блюмберг, была незаконной. Но в немце, как и в любом человеке, понятия «законно» или «незаконно» перемешиваются с другими понятиями: «поймают» или «не поймают».
Макс Штирман знал о компьютерах все, что может знать человек, и даже немножко больше. Разве что Вейнцель знал столько же — да и то с другой, со своей стороны.
Они вполне преуспели в своем деле. Ни для Макса, ни для Вейнцеля не представляло особой проблемы войти в компьютеры НАСА или бундесвера, а не делали они этого лишь потому, что Аарона Блюмберга не интересовали тайны американского космического агентства или система тяжелых вооружений бундесвера. Что выбросит следующей весной на рынок Карден — другое дело. Как отразится противостояние ООН и Хусейна на цене нефти — тоже интересно. Как мировые биржи отреагируют на победу красных в российской Госдуме — и здесь было над чем подумать. А лезть в секреты НАТО — кому оно нужно?
Так что размышления Макса носили в данный момент не профессиональный, а как бы морально-этический характер.
Еще в первые дни их сотрудничества Блюмберг заявил:
— Мы не собираемся красть никаких секретов. Мы вообще ничего не собираемся красть. Есть подсчеты, которые рисуют любопытную картину. Практически девяносто процентов всей разведывательной информации добывается из материалов открытой печати. И только десять — запомните, юноши, эту цифру — только десять! — добывается так называемым агентурным путем. И большая половина из этих десяти оказывается на поверку или «липой», или — хуже того — дезой, дезинформацией. Наш путь — открытые источники информации. И у нас достаточно мощные машины, чтобы выловить все, что нам нужно.
Влезть в терминалы Тампельсдорфа или других маленьких аэродромов — это было совершенно безопасно. Но вопрос был в другом. И Макс его задал:
— Значит ли это, что мы переходим пограничную линию?
Блюмберг понял, о чем он хочет спросить. Разговоры на эту тему возникали и раньше. Еще года три-четыре назад, когда Аналитический центр Блюмберга только делал первые шаги, компьютерный рынок даже не определился еще как рынок. Его попросту не существовало. Не было и законов, регламентирующих его деятельность.
Только в последние годы начали прорисовываться понятия «законно» и «незаконно».
И теперь молодой сотрудник напрямую спрашивал своего шефа, насколько законной окажется их дальнейшая совместная деятельность.
Ответ Блюмберга показался Максу совершенно неожиданным и нелогичным:
— Ты когда-нибудь видел, как горит тайга?
— Что такое тайга? Это лес, так?
— Да, лес. Много леса. Очень много. И сухого. Так вот, когда горит тайга, даже стрелки с вышек слезают. И перестают существовать любые границы. — Он подумал и добавил:
— И любые законы.
— Вы хотите сказать, что сейчас горит тайга? — уточнил Макс.
— Прежде всего я хочу узнать сам — так ли это? А что, когда и кому я буду говорить — это другие вопросы. И если ты сейчас же не включишь свое железо, то получишь этой бутылкой по своей белобрысой башке. Копфен. Понял, хрен мамин?
— Яволь, герр капитан! — дурашливо козырнул Макс, манипулируя кнопками клавиатуры.
— Герр капитан! — презрительно повторил Блюмберг, прикладываясь к горлышку «Кавказа». — Зови уж просто: герр оберст. Или совсем просто: господин полковник.
И хотя ничего больше Блюмберг не сказал, а Макс не спросил, молодой немец вдруг понял, что этот потрепанный жизнью еврей не врет: он действительно полковник. И не просто полковник. Ох непросто! И еще как непросто!
* * *
Минут через пятнадцать Макс положил перед шефом распечатку данных по всем аэропортам местных линий Германии. Блюмберг искупил свой тяжкий грех еще одним стаканом «Кавказа» и затребовал данные по всем небольшим пассажирским компаниям севера Германии.
Макс возмутился. Глупей приказа не придумаешь. Что можно оттуда выловить? Уж лучше влезть в сервер «Плейбоя» и полюбоваться на тамошних отборных красоток. Но Блюмберг был похож на охотничьего пса, охваченного горячкой погони. Не позой.
Поза-то как раз у него была, как у дворняги, изнывающей от зноя и блох, но внутри все словно бы подрагивало в напряжении. Поэтому Макс лишь пожал плечами и выполнил эту муторную и дурную работу.
Через полчаса белоснежные листки распечаток лазерного принтера заполнили все свободные углы комнаты. Блюмберг едва ли не рвал из пасти принтеров готовые оттиски, в секунду прочитывал их и либо бросал на пол, либо откладывал на стол, который подтащили к качалке.
Еще через час этой дурной, по твердому убеждению Макса, и совершенно бессмысленной работы Блюмберг вновь уютно устроился в качалке и внимательно просмотрел все отобранные материалы. Потом протянул их Максу, как бы милостиво разрешая и тому порадоваться успеху общего дела.
Но Максу этого не удалось. Как ни вглядывался он в имена людей, приплывших или прилетевших в Германию за минувшие день-полтора, сколько ни повторял про себя, по-школьному шевеля толстыми губами, названия судов, типы самолетов и пароходные компании, в голове не складывалось ничего.
В голове было то же, что и во всей мансарде, — бумажная каша.
Блюмберг все более и более уныло поглядывал на молодого компаньона, который даже про жвачку свою забыл, потом заявил:
— Последний шанс. Нет — значит, нет. А чего нет, того нет и быть не может. — Сформулировав этот странный и требующий длительного обдумывания афоризм, Блюмберг каким-то иным образом сложил лежавшие перед ним документы и протянул Максу:
— А так? Говорит это тебе что-нибудь?
Ничего это Максу не говорило. Хоть тресни.
— Последняя подсказка, — заметил Блюмберг. — Но это — точно последняя, клянусь мамой Ривой. Вчера во Франкфурте-на-Майне приземлился самолет Люфтганзы, следующий из Москвы. Среди пассажиров первого класса было два человека. Одного ты не знаешь и знать не можешь. А другого не можешь не знать. Вот он!
И Блюмберг жестом фокусника бросил перед Максом номер иллюстрированного журнала, на первой странице которого какой-то вполне обычный с виду, средних лет и довольно респектабельный господин обменивался рукопожатиями с встречавшими и принимал первые робкие тюльпаны.
— Я не видел его в Интернете, — сообщил Макс.
— Сдвинулись вы на своем Интернете, — отмахнулся Блюмберг. — Я его там тоже не видел. Я просто притормозил у киоска и купил журнал. Тебе не приходит в голову, что сохранились и такие вот простые способы добывания информации?
Макс внимательно всмотрелся в человека на снимке.
Да, он его знал. Его знал весь мир.
Потому что это был один из самых могущественных людей России — один из первых вице-премьеров, курировавший экономический и топливно-энергетический комплексы, Андрей Андреевич Шишковец.
* * *
Только тут до Макса начало кое-что доходить.
— Переговоры, — предположил он.
— Еще один такой же ответ, и я налью тебе целый стакан «Кавказа», — пообещал Блюмберг. — Клянусь мамой Ривой.
От этой перспективы Макса слегка перекосило, но он все-таки мужественно продолжал:
— Тайные.
— Но у всех на виду, — подхватил Блюмберг. — И от этого еще более тайные. Предмет переговоров?
— А «Кавказом» не будете угощать? — опасливо поинтересовался Макс.
— Так и быть, — ответил шеф, не выпуская из рук бутылки. — Раз не ценишь, зачем продукт переводить? Ну?
Макс перебрал бумажки с фамилиями пассажиров маленьких самолетов и судов, полученные из местных компьютеров. Из них выбрал шесть:
— Министр финансов Латвии. Министр морского транспорта Литвы. Председатель национального банка Эстонии. Министр морского транспорта России. Остальное — мелочь: немцы, финны, шведы, датчане. Практически — ни одной ведущей фигуры. Уровень: члены экспертных групп, не больше. Шеф, если вы еще раз приложитесь к этой бутылке, я наблюю прямо вам на колени.
Аарон Блюмберг с нескрываемым сожалением посмотрел на остатки «Кавказа» и отрешенно махнул рукой:
— Ладно, давай твой джин, чтоб ему вместе с тобой… Только без тоника, без тоника! Себе тоник лей — хоть в штаны. Совсем молодежь обнаглела. Мало того, что им джин подавай, так еще и тоником норовят разбавить. — Он немного подумал и добавил:
— А некоторые извращенцы — еще и льдом!
Макс не очень понимал, почему лед и тоник в джине — извращение, еще меньше он понимал, почему он должен лить тоник себе в штаны. Но уступка шефа с «Кавказом» была в известном роде историческим событием, и Макс решил не омрачать своего торжества мелкими бытовыми подробностями. Единственное, что его серьезно огорчало: то, что Николо Вейнцель не поверит, будто шеф согласился отменить царское угощение. Нет, не поверит. А сам шеф не подтвердит, гордость ему не позволит. Так что придется этому успеху радоваться в одиночку.
Но голова Блюмберга была занята более существенными вещами.
— Предмет переговоров ты определил правильно — Балтика, — констатировал он. — Уровень участников — тоже. Теперь предскажи итог, и клянусь, что никогда больше не потрачу на тебя ни капли «Кавказа».
— Итог — нуль, — почти не задумываясь ответил Макс.
Блюмберг молчал.
— Итог и не может быть другим при таком составе участников. Первый вице-премьер России и мелкая сошка от финнов или прибалтов. Эти переговоры были обречены на провал изначально.
— Почему?
— Этого я не знаю, — признался Макс.
— Что из этого следует?
— Для кого? — не понял Макс.
— Для того бардака, который называется мировым экономическим сообществом, — это раз. Для России — два. И наконец, для нас с тобой, мой юный и пытливый друг.
— Для нас с вами из этого не следует ничего, — твердо ответил Макс, одновременно понимая, что за словами его шефа стоит какая-то другая правда: более масштабная, обесценивающая его маленькую и вроде бы верную правду.
И оказался прав.
Блюмберг с отвращением отхлебнул джина и сказал:
— А вот в этом ты лажанулся.
III
Макс и Николо давно уже привыкли к экстравагантным выходкам своего шефа. Но в этот вечер он превзошел самого себя. Приказав Максу срочно вызвать в офис Николо (и не по сотовому телефону, а по уличному таксофону, с соблюдением всех предосторожностей), для начала усадил обоих своих молодых сотрудников за компьютеры и приказал войти во все телесистемы аэродромов и портов, из которых Макс днем получал информацию, и самым тщательным образом проверить, не осталось ли там их следов.
Глупость была несусветная. Да какая разница, остались там их следы или нет?
Системы-то открытые, все законно, зачем делать эту трудоемкую и — главное — пустую работу?! Но Блюмберг в объяснения даже вдаваться не стал. Он лишь коротко сказал: «Приказ». И поскольку к такой форме обращения со своими сотрудниками он прибегал лишь в исключительных случаях, им ничего не оставалось, как взяться за работу.
Следующему приказу предшествовал вопрос:
— Каким образом можно проверить, отслеживает ли охранная служба телесистем случаи несанкционированного вторжения?
Макс и Николо лишь руками развели. Что значит: каким образом?
— Вам прямо сейчас начать объяснения, шеф? — поинтересовался Макс. — Или можно завтра с утра?
— Сколько они займут?
— Года три, — подумав, ответил Макс.
Николо возразил:
— Нет, не меньше четырех. Если вообще получится.
Блюмберг уже понял, что сформулировал вопрос не правильно, но он был не из тех, кто в таких вещах легко признается.
— Что значит «если»? Ты хочешь сказать, сопля зеленая, что я вообще понять этой хренобени не смогу? — хмуро уточнил он.
— Правильно, магистр! — радостно подтвердил Николо. — Вообще. Ничего. И никогда.
— И ни за какие деньги, — рассудительно добавил Макс.
— Отставить базар! Формулирую вводные: можно ли проверить отслеживание случаев несанкционированного вторжения?
— Яволь, герр оберст, — отрапортовал Макс.
— Натюрлих, магистр, — подтвердил Николо.
— Так вот и займитесь этим, сукины дети, вместо того чтобы издеваться над старым человеком, который из сил выбивается, чтобы дать вам заработать на маленький штюк вашего, мать-перемать, брота.
— Объекты, магистр? — уточнил Николо.
— А те же, где вы лазили. Аэропорты, пристани.
— Все? — ахнул Макс.
— Ну да, все, — безмятежно подтвердил Блюмберг.
— Да это же на всю ночь! — завопил Макс и тут же перебил себя:
— Давай его убьем, а? Утопим его в его любимом «Кавказе», а? Ну, дадут нам года по два. Мы же будем в состоянии повышенной возбудимости, правильно? Зато два года лежать на тюремной койке и ничего не делать. Как, Николо?
Но Вейнцель с ходу уловил в поведении шефа нечто, сразу его насторожившее.
Поэтому он жестом прервал Макса и спросил:
— Это так серьезно, шеф?
— Серьезно? — переспросил Блюмберг. — Нет, малыш. Это не серьезно. В немецком языке нет такого слова, чтобы определить, насколько это серьезно. В русском есть, но ты все равно ни хрена не поймешь. Оно не переводится. А поэтому кончайте ваньку валять и включайтесь в работу.
— Горит тайга? — догадался и Макс.
— Горит, — подтвердил Блюмберг. — И сейчас только от вас зависит, успеем ли мы выскочить из огня.
* * *
В начале четвертого утра Макс хрипло, от долгого молчания, воскликнул:
— Есть! Тампельсдорф! Включены все мощности!
— У меня тоже, — отозвался Николо. — Рейнгард. Все мощности.
— Франкфурт-на-Одере!
— Бремен!
— Исланд! Что происходит, шеф?
— А вот то, Никола, и происходит. Про которое в русском языке есть слово, а в других языках мира нет. Не засекут нас?
— Исключено, — заверил Макс.
— Активность поиска по зонам фиксируется?
— Нет ничего проще. Автоматически.
— Вот и ставьте машины на автоматику и немного подождем, — подвел итог Блюмберг.
— Посмотрим, что к чему. Можете трескать свой джин, а «Кавказу» — хрен вам. Самому мало. И запасы пополнять будет сейчас, судя по всему, не так просто.
— Судя по чему? — попытался уточнить Макс.
— Судя по международной обстановке, сынок.
— Это вы так шутите? — спросил Николо.
— Ребята, я никогда в жизни не был таким серьезным, как в этот час, — заверил своих компаньонов Аарон Блюмберг и сковырнул пластмассовую пробку с очередной бутылки «Кавказа».
* * *
Около четырех утра сквозь просторные окна мансарды внутрь проникли первые свежие лучи зябкого майского солнца, завозились воробьи в старинных медных желобах и загукали голуби. Макс Штирман поднял от стола словно бы налитую свинцом голову, мельком глянул на мониторы, отметив, что они по-прежнему работают в автоматическом режиме, и начал снова пристраиваться подремать на плоской и скользкой столешнице, но тут его взгляд неожиданно упал на кресло-качалку, рядом с которым прямо на коврике безмятежно дрых Николо.
В качалке полулежал Блюмберг. В той же позе, что и раньше, — в позе облезлого дворового пса, одолеваемого мухами и блохами. Но что-то заставило Макса насторожиться. И лишь стряхнув сонную одурь парой крепких затяжек «Мальборо», Макс понял, в чем дело: Блюмберг был совершенно трезв. Да, трезв. Это при том, что усыпанный пустыми бутылками «Кавказа» пол вокруг качалки вызывал мысль о мощной артподготовке, которая была только что проведена артиллерийским дивизионом.
* * *
Макс и Николо давно заметили за шефом эту особенность.
Блюмберг никогда не напивался.
Независимо от того, пил ли он свой любимый «Кавказ» или хорошие рейнские вина на приемах, сначала он становился слегка расслабленным и добродушным. Но чем больше алкоголя он в себя вливал, тем меньше от этого добродушия оставалось. Пока не наступал наконец момент, которого Макс и Николо панически боялись: Аарон Блюмберг был готов на любой подвиг.
От серьезных случаев Господь пока хранил, но до драк дело доходило не раз, причем Блюмберга не только не смущало численное или физическое превосходство противника — оно его словно бы возбуждало.
При этом у Блюмберга появлялись не просто злость и кураж разогретого выпивкой человека. Нет, он словно бы перерождался: ничего не оставалось от траченного жизнью еврея, которому с похмелья можно дать шестьдесят лет, а после хорошей парикмахерской сорок. Он превращался в полную свою противоположность, совершенно в другого человека. Будто менял свое обличье. Вместо разболтанного, слегка фатоватого, неряшливого, немолодого и не очень здорового человека с засыпанными перхотью плечами вдруг появлялся хладнокровный зрелый боец, владеющий всеми видами боевых искусств, умеющий стрелять из всего, из чего можно и нельзя, умеющий превратить в оружие любой случайно попавшийся под руку предмет. Боец, не делающий ни единой ошибки, потому что ставка его была не на драку с непонятным исходом, а совсем на другое: или ты победил, или ты погиб. Третьего нет, третьего просто не существует в природе.
От памятной стычки с водителями тяжелых грузовиков, которым, конечно же, не стоило высказывать своих соображений о машине Блюмберга, в сознании Макса осталось лишь одно смазанное воспоминание — как от фотоснимка, сделанного в движении со слишком большой выдержкой. Сначала на площадке перед придорожным кафе были они трое в окружении двух десятков дальнобойщиков, при этом грузный Макс и щуплый Николо прикрывали спинами шефа. Потом их почему-то оказалось всего трое, а дальнобойщики валялись возле огромных колес своих грузовиков, а один висел на кабине. Потом вдруг выяснилось, что Макс и Николо молотятся головами обо все выступы кабины, безуспешно пытаясь хоть как-то закрепиться, а за рулем сидит Блюмберг и на скорости километров сто двадцать ведет «вольво» с вагоном-рефрижератором сначала по самой кромке глинистого оврага, потом по жутко крутому откосу, потом под колесами раздался треск бревен старого, давно никем не используемого мостика и «вольво» одного из злосчастных дальнобойщиков оказывается на другой стороне реки в полной недосягаемости и от двух других грузовиков дальнобойщиков, снаряженных в погоню, и — главное — от трех патрульных машин полиции, вызванной хозяином кафе в самом начале драки.
Нужно отдать должное Аарону Блюмбергу: он нечасто доводил себя до такой кондиции. Но его молодым компаньонам пришлось провести немало часов в наблюдениях за ним и в обсуждении особенностей его характера.
Как и всем молодым немцам (или даже как всем молодым людям вообще), Максу Штирману и Николо Вейнцелю было в высшей степени наплевать на особенности характера и образ жизни их старшего компаньона. Он давал хорошо (и даже очень хорошо) зарабатывать им, они давали так же хорошо зарабатывать ему. Этими служебными по существу и внешне доброжелательными отношениями все могло бы и закончиться, если бы Макс и Николо не понимали, что они в гораздо большей степени зависят от Блюмберга, чем он от них. Блюмберг мог найти других программистов, они другого такого шефа — нет. И потому их разговоры о Блюмберге были столь же глубокомысленны и внутренне напряженны, как разговоры о судьбах русской культуры на московских кухнях.
Но едва они всерьез задумались и заговорили о шефе, как тут же выяснилось, что весь Блюмберг — одна сплошная загадка. Один большой Fragezeichen — вопросительный знак.
Где он родился, когда, в какой семье? Почему, будучи гражданином Израиля и обладая несомненно семитскими именем и фамилией, он пишет в официальных документах о своем русском происхождении? Откуда он свободно знает пять европейских языков, не считая русского, польского и болгарского? Где и как он учился искусству биржевого маркетинга? Откуда у него такие связи, что при необходимости он в полчаса может мобилизовать до нескольких десятков миллионов долларов? Откуда в нем хладнокровие «зеленого берета»?
Да и вообще, доннер-веттер, кто он такой, этот, как он себя и других называет, хрен мамин? И почему, кстати, мамин, а не папин?
Не было ответов на эти вопросы. Как и на многие другие. Не было этой фамилии ни в базе данных Пентагона и Лэнгли, ни в компьютерах израильской армии и «Моссада», ни даже в бывшем КГБ, код которого поддался стараниям Макса и Николо с наибольшим трудом не потому, что он был слишком сложным, а потому, что они долго вообще не могли разобраться во всех этих дикарских аббревиатурах: ФСК, ФСБ, МВД, ФАПСИ, ФНП. Последнее было выяснить трудней всего, а делом оказалось пустым. Под этими буквами скрывалась Федеральная налоговая полиция России, к которой Блюмберг при всем своем желании не мог иметь никакого отношения. И не имел.
В конце концов Макс и Николо смирились. Шеф по-прежнему вызывал у них жгучее любопытство, но они ограничивались раздумьями, наблюдениями и обсуждениями. И хватит, хватит.
Немцы — благоразумный народ. И проявляется это уже с младых ногтей.
* * *
И теперь, очень ранним утром 5 мая 1992 года, увидев шефа совершенно трезвым.
Макс удивился не тому, что тот трезв, а совсем другому — тому, насколько он трезв. Блюмберг был в таком состоянии, в каком Макс шефа никогда не видел. Он лишь догадывался, что тот может быть и в такой собранности — собранности бойца, которому предстоит решающая схватка. При этом он все так же наперекосяк полулежал в качалке, покачивал ногой, иногда трогал рукой отросшую за ночь седоватую щетину и осуждающе покачивал головой, как бы укоряя себя за то, что ему лень пойти в ванную и побриться. Но и при этом было ясно: шеф в любое мгновение может прыгнуть с мансардной крыши без всякого вреда для себя или выкинуть что-нибудь такое, что можно видеть только в самых крутых американских боевиках.
— Очухался? — поинтересовался Блюмберг, заметив взгляд Макса. — Хватит, поночевали. Буди Николу.
Но сколько Макс ни тряс компаньона, тот лишь мотал головой, мычал, но глаз упорно открывать не желал. Блюмберг решил проблему просто. Он принес из кухни двухлитровый ковш холодной воды и вылил на голову несостоявшегося светила Берлинского университета. Тот раскрыл глаза и сказал:
— Гутен морген.
При помощи Макса и Николо Блюмберг выяснил, что активные поиски несанкционированных входов в базы компьютерных данных малых аэропортов и пристаней начались около трех часов утра и активно продолжались до пяти.
Непонятно, какой вывод сделал Блюмберг из этого ничего не означающего, по убеждению Макса и Николо, факта, но он приказал переписать данные на дискету, зашифровать и отправить дискету на хранение в сейф Национального банка, в котором агентство Блюмберга арендовало ячейку. С поручением послали Макса. Когда он вернулся, то обнаружил, что во всей мансарде нет ни одного свежего клочка бумаги, все порезано в специальной машине, а обрезки вынесены к мусорному фургону турок, самолично Николо погружены и сопровождены до мусоросжигающего завода.
Но последний приказ, отданный Блюмбергом, заставил не только Макса, но и более доверчивого Николо Вейнцеля подумать о том, не подействовал ли таинственный «Кавказ» на умственные способности их шефа. Блюмберг приказал вынуть из всех машин жесткие диски, уничтожить их, отключить все порты компьютеров от питания и сетей, все обесточить и придать помещению такой вид, будто сюда не заглядывали уже лет пять.
И при всем внешнем спокойствии и даже благодушии вид у Блюмберга был такой, что даже у незнакомого человека язык не повернулся бы ему возразить.
Когда все было приведено в соответствующий вид, Блюмберг приказал сотрудникам съездить домой и привести себя в приличный вид, а сам спустился в свою квартиру.
Через полтора часа он встретил обоих у въезда в подземный гараж.
На Блюмберге был артистический серый сюртук от Сен-Лорана, серый цилиндр и серые замшевые перчатки в руках. Туфли напоминали гамаши начала века, они не завязывались на шнурки, а застегивались сбоку на кнопки. Чуть набриолиненные волосы облегали лысину мудреца благородно-серым венцом, в лице была молодящая испанская смуглинка, а контактные линзы превратили тусклые глаза флегматичного финна в яркие, излучающие любопытство и тонкий вкус к жизни глаза испанца чуть-чуть в летах, но еще ого-го.
Это и сказал Макс, первым увидев шефа:
— Ого-го! Такое впечатление, что вы собрались на дипломатический раут!
— Примерно туда я и собрался, — кивнул Блюмберг. — А ты меня отвезешь. Я, конечно, и сам могу на твоей тачке доехать…
— Нет!!! — завопил Макс. — Только не это! Отвезу! И привезу. И буду целый день возить. И еще на чай дам, только не трогайте мою тачку!
— Я почему-то так и думал, что ты согласишься, — проговорил Блюмберг. — Тебе, Николо. Сегодня в полдень в «Президент-отеле» Кельна начинаются пленарные заседания так называемого Балтийского клуба. Найми съемочную группу, сиди с ними в зале, и пусть снимают все подряд. Все, понял? Без единой купюры! Предупреди режиссера: никакого монтажа, кассеты мне нужны в первозданном виде. Иначе ни шиша не заплачу.
— Это на него подействует, — согласился Николо, садясь за руль своего фиалкового «альфа-ромео» в тайной надежде, что шеф не передумает и не покусится на него.
Но Блюмберг и не думал об этом. Он рассеянно постучал сложенными перчатками по атласным полям цилиндра, как бы вспоминая, не забыл ли чего, и удовлетворенно кивнул:
— Кажется, все в порядке. Поехали.
— Куда? — полюбопытствовал Макс.
— В Кельн. А там сначала — в Балтийский клуб. Потом, может быть, в российское консульство. Но скорее всего — в Кельнский собор. Если быть точным, его следовало бы назвать Домским. Так он и называется. Но я как-то привык, что Домский собор — это в Риге, а в Кельне — Кельнский.
— Вы собираетесь слушать в соборе мессу?
— Нет. Во-первых, сегодня будни и никаких месс не служат. А во-вторых… Видишь ли, я намерен встретиться там с одним человеком и объявить войну России.
Макс едва не врезался в мусорные баки — те самые, мимо которых никогда равнодушно не проезжал Блюмберг.
— Как? — переспросил он. — Объявить войну России? Я вас правильно понял?
— Ну, не объявить, ладно. Но предупредить, что в случае чего объявлю. Ты бы поаккуратней рулил, а? А то мне в порванном сюртуке на прием являться как-то не совсем…
— Объявить войну России, — изумленно повторил Макс. — Да кто вы, мать-перемать, такой?!
Блюмберг усмехнулся, причем усмехнулся, как машинально отметил Макс, не своей обычной полуухмылкой, а усмешкой родовитого графа или князя, к которому обратились с комичным вопросом.
— Кто я такой? Это сейчас неважно, сынок. Важно совсем другое: что она из себя представляет, эта Россия…
IV
Как и было указано в пресс-релизе, разосланном во все информационные агентства и крупнейшие газеты Европы, пленарные заседания Балтийского делового клуба начались 5 мая 1992 года в конференц-зале «Президент-отеля», весьма помпезного и суперсовременного сооружения, для которого жители Кельна после горячих дискуссий отвели место не в центре города, как в большинстве европейских столиц, а на окраине, в зоне парков. Решение оказалось удачным во всех отношениях. И не перла в глаза суперсовременность, к которой не сразу привыкают коренные жители города, и город шагал в ногу со временем, и модерновые крылья «Президент-отеля» как-то сгладились окружающим парком, усмирили свою агрессивность. Да и место было удобное для заседаний и конференций: тихо, спокойно, никаких уличных демонстраций и пикетов. Про ВИП и других состоятельных постояльцев и говорить нечего: за новым отелем сразу же укрепилась репутация одного из самых удобных и спокойных отелей Германии. Хоть и далеко не самого дешевого. Очень недешевого.
Очень.
Поэтому, вероятно, участники Балтийского делового клуба жили кто где — в городских пансионатах и небольших отельчиках, в консульствах, а на заседания их доставляли микроавтобусы и автомобили знакомых или других сотрудников консульств. Только два члена Балтийского клуба жили в самом «Президент-отеле» — вице-премьер России Шишковец и адмирал Кууляйнен, президент клуба. Апартаменты отеля полагались ему по статусу.
Открытие Балтийского клуба, на котором были оглашены приветственные телеграммы президента России и канцлера Германии, было отмечено строкой-двумя в вечерних новостях и на страницах утренних газет. И в тот же день всех журналистов как корова языком слизнула. Лишь одна съемочная группа Кельнского телевидения трудилась с необычной старательностью, записывая все выступления подряд. Это сообщало заседаниям клуба хоть какую-то значительность, заставляло выступавших говорить убедительней, доказательней. Каждый понимал: говорит для истории.
Непонятно, правда, для какой, но все равно — не в пустоту равнодушного зала, а на пленку, для вечности.
Никто, конечно, и знать не мог, что эту пленку просматривает всего один человек — президент Коммерческого аналитического центра господин Блюмберг. Да и просматривает в основном на скорости, лишь изредка останавливая мелькание видеоряда, чтобы прослушать заинтересовавшую его фразу.
Уже после первого дня заседаний это занятие можно было с чистой совестью прекратить, потому что картина прорисовывалась предельно ясная — даже и не для такого опытного аналитика, каким был Блюмберг.
Разыгрывалась «балтийская карта». Предоставив независимость прибалтийским республикам, Москва неожиданно для себя обнаружила, что осталась практически без выхода в Балтику. Ленинградский порт и порт города К. — вот и все, что сохранилось от некогда прорубленного Петром Первым окна в Европу. Две маленькие форточки. Основной поток грузооборота приняли на себя гораздо более выгодно расположенные и технически лучше оснащенные порты Таллина, Риги, Вентспилса, Лиепаи. Москва использовала ежегодный съезд Балтийского клуба, чтобы предъявить свои претензии конкурентам. Она хотела иметь свою долю в мощном балтийском товаропотоке, который давал жизнь всей Северной Европе еще со средних веков. Но аргументы ее были ничтожны. Их практически не было. Все они были на уровне детсадовских разборок: вот мы вам независимость дали, а вы… Западные партнеры, перевозчики из Германии и Скандинавии, заняли нейтральную позицию: мы не занимаемся политикой, мы занимаемся бизнесом. Мы будем работать с теми партнерами, условия которых нас больше устроят. А тут и Польша попыталась всунуться со своим малым каботажем, чем вообще перемешала все карты и превратила Балтийский клуб в нечто вроде международной туристической ярмарки.
Ощутив, вероятно, бесперспективность замысла, вице-премьер Шишковец уехал в Гейдельберг, где училась его дочь, а российскую делегацию возглавил министр морского транспорта. Кроме него в российскую делегацию входили еще четыре эксперта и две переводчицы.
Всех их Блюмберг хорошо знал: рассматривал в разных ракурсах и на пленке, и в зале из ложи прессы, где он первые три дня появлялся в своем сером костюме, цилиндре и в перчатках, вызывая удивленно-настороженные взгляды участников Балтийского клуба. Глава российской делегации и переводчицы Блюмберга не интересовали, трое экспертов тоже, а вот четвертый интересовал — и очень.
Настолько, что Блюмберг приказал отснять телекамерой целую пленку о нем и дважды внимательно ее просмотрел, ни разу не ускорив изображения.
На пленке был высокий, сутуловатый человек лет шестидесяти, с плоским голым черепом, с крупным носом с горбинкой, с властным хмурым лицом. При этом чувствовалось, что властность его не показная, а сидящая где-то в самой глубине его натуры. Внешне же он выглядел скромно одетым пожилым человеком среднего достатка, предупредительным, внимательным к собеседнику, немногословным и благодарным слушателем.
И все-таки эту властность было не скрыть. Она проявлялась в любой мелочи: в нетерпеливом взгляде, который он бросал на кого-либо из членов делегации, когда человек медлил с ответом или слишком долго искал нужные ему документы, в полном выпадении из зоны его внимания водителя и консульских охранников, которые сопровождали делегацию, — они для него просто не существовали как физические объекты. Мало кто решался подойти к нему с каким-либо вопросом, когда он сидел задумавшись в своем кресле. И в этой самоценности его раздумий тоже была властность, пропитавшая всю суть этого человека. В обращении с министром транспорта, официальным руководителем делегации, он был вежлив и прилично почтителен, но у того волосы прилипали ко лбу, когда ему приходилось о чем-либо долго говорить с этим жилистым стариком, а поговорив, он отходил в сторону с видимым облегчением.
* * *
Профессор — так обращались к нему все члены российской делегации.
* * *
Первые три дня Профессор добросовестно, от звонка до звонка, просидел в конференц-зале «Президент-отеля», внимательно слушая выступавших и даже делая пометки в узком черном блокноте, но после первого же перерыва на четвертый день, когда трибуна Балтийского клуба стала напоминать лестничную площадку, на которой выясняли отношения соседи-прибалты, он не вернулся в зал заседаний. Выйдя на улицу, он сел в микроавтобус российского консульства и что-то приказал водителю.
Появившийся вслед за ним Блюмберг небрежным жестом подозвал Макса, все эти дни исправно служившего ему личным водителем, бросил перчатки в цилиндр, а цилиндр на заднее сиденье и приказал:
— За ним. На хвост не садись, я знаю, куда они едут.
— Куда? — спросил Макс.
— Сегодня день, когда исполняются мечты, — подумав, ответил Блюмберг.
— Мать-перемать! — вырвалось у Макса. — Шеф, вы когда-нибудь отвечаете прямо на тот вопрос, который вам задают?
— А о чем ты спросил?
— Куда они едут. Этот вот хрен мамин в задрипанном «мицубиси» с двумя охранниками. Куда они едут? Вот и все, что я спросил!
— А! — словно бы с легким разочарованием протянул Блюмберг. — И столько волнений из-за такой ерунды. В Кельнский собор!..
* * *
Как и всегда в начале сезона, когда еще действуют льготные цены на чартерные авиарейсы и «зеленые», пониженные тарифы в многочисленных городских и пригородных полупансионах, древний Кельн был под завязку набит туристскими автобусами едва ли не всех фирм Европы и Ближнего Востока. Только на площади перед Домским собором, рыбьей костью торчавшим в свежем майском небе, базарно-праздничная суета словно бы стихала. Здесь тоже было очень много автобусов со звездами на бортах, обозначающими количество предоставляемых компанией услуг (одна — туалет, две — туалет и бар, три — туалет, бар, душ), но они как бы рассасывались, принижались и рассеивались, становились незаметными в сени серой стремительной готики собора (147 метров в высоту, сообщали почтительно гиды, а туристы почтительно записывали), точно бы подчиняющей себе окружающее пространство, уравнивающей с собой, каждому предмету указывающей его истинные размеры и место.
Истинные размеры ближнего моста через Рейн и торговых «хаусов» соседней Шпиллерштрассе были ничтожны, разноцветных и разномастных туристских автобусов попросту не существовало, мерой Домского собора были только человек и Бог. При этом меру своей ничтожности определял сам человек. Бог Кельнского собора был милостив, поэтому человек не был раздавлен наполненной солнцем высотой сводов и сиянием цветных витражей, он просто оставлял за воротами собора спесь и тщету, как «роллс-ройсы» и многозвездочные туристические чудовища, и входил сюда как путник после долгой и трудной дороги.
Слева от входа в главный зал огромным кубом серела бетонная нашлепка. Из верхней ее части выглядывал фюзеляж авиабомбы. Для гидов туристских групп это была отправная точка маршрута. Они вполголоса объясняли туристам, что во время второй мировой войны сюда угодила бомба. Было решено не ремонтировать поврежденный угол собора, а оставить как есть — на память и в назидание будущим поколениям. И эта старая рана, бомбовый хвостовик и серый бетон, словно бы еще больше сближали в соборе человека и Бога. Бог был уязвим, Бог был раним. Бог был близок, как один человек может быть близок другому.
Если захочет.
И если сможет.
* * *
Человек, которого все члены российской делегации на Балтийском клубе называли Профессором, миновал главный зал, наполненный неназойливым движением людей, прошел в дальний полутемный неф и сел на церковную скамью, которые в католических храмах располагались рядами, как кресла в театральных залах или в залах ожидания на вокзалах.
Через минуту на полированный дуб скамьи через кресло от него опустился Аарон Блюмберг.
Профессор словно и не увидел его. Он рассеянно-властно из-под кустистых седых бровей оглядел малолюдный зал, темные хоры и мерцающие трубы малого органа и негромко произнес, обращаясь скорее к хорам, чем к сидевшему рядом Блюмбергу:
— Похоже, что сегодня день, когда сбываются мечты.
— То же самое, почти слово в слово, я сказал полчаса назад своему драйверу, — помедлив, ответил Блюмберг.
— Драйверу? — переспросил Профессор.
— Я хочу быть правильно понят. Для этого нужно быть точным во всех словах. Этот человек выполняет роль моего водителя, но он не мой водитель. Поэтому я его так и назвал.
— Что ж, здравствуй, полковник.
— Здравствуйте, учитель.
V
Шишковец ткнул толстым пальцем в кнопку «Stop» на диктофоне и непонимающе, а от этого словно бы раздраженно взглянул на Профессора:
— Почему он назвал вас учителем?
— Потому что он мой ученик. Я работал с ним больше десяти лет. Начиная с последнего курса академии КГБ.
— Он всегда называл вас учителем?
— Никогда. Сегодня — первый раз. Никому не чужды человеческие слабости. Сентиментальность — одна из них. А она всегда несколько высокопарна. Так что не будем придираться к словам.
— О каких сбывающихся мечтах у вас шла речь?
— Двадцать три года назад мы с ним встретились в этом же соборе, в том же боковом нефе. Он вызвал меня на встречу, чтобы объявить, что уходит на Запад. В разговоре сказал, что мечтает о том дне, когда мы снова встретимся в этом же соборе и просто посидим и послушаем малый орган. Там на хорах, даже когда нет службы в большом зале, всегда играют органисты. То ли студенты консерватории, то ли ученики органиста, не знаю. Вот он и сказал, что мечтает о том дне, когда мы будем просто сидеть и слушать музыку и не думать о том, сколько агентов задействовано в операции его перехвата и секретного изъятия. Был тогда такой термин. Старый термин, введенный в обиход еще со времен Дзержинского.
— Вы уже знали, что он уйдет?
— Да. Он встретился со мной, чтобы передать кое-какие документы и сформулировать свои условия.
— Сколько же агентов было задействовано в операции?
— Много.
— И не сумели перехватить?
Профессор помедлил с ответом. Он вызвал звонком дежурного консульского пункта связи, в помещении которого шел разговор, попросил принести чашку кофе покрепче, без молока и без сахара, и только после этого ответил своему сановному собеседнику:
— Нет.
— Почему?
— Мелкое и вполне простительное в моем возрасте человеческое тщеславие подмывает меня ответить: потому что я был хорошим учителем. Но это не так. В лучшем случае не совсем так. Нет. Главное в другом. В том, что он был хорошим учеником.
— Не скромничайте, Профессор! Если человек двадцать лет уходил от лучшей разведки мира — а разведка КГБ ведь считалась лучшей разведкой, не так ли? — тут мало быть хорошим учеником. Тут и учитель нужен незаурядный.
— Спасибо за комплимент, но вы не совсем правы. Он от нас не уходил. Он даже не очень и прятался. Просто он делал так, что при всей его доступности и открытости мы не могли его взять. Дело в том, что у него всегда было больше информации, чем у нас. И хотя после ухода он не сдал ни одного нашего нелегала…
— Позвольте! — перебил Шишковец. — А все международные связи КПСС? А система финансирования братских партий и национально-освободительных движений? В то время я заканчивал Академию общественных наук и прекрасно помню, какой разразился скандал!
— Я сказал, что он не сдал ни одного нелегала, резидента. А этих… Да, престижу партии был нанесен серьезный урон. Вы и сейчас осуждаете его за это?
— А вы? — быстро спросил Шишковец. Андрей Андреевич Шишковец был крупным сорокалетним мужиком уральской закваски, начинал в Свердловске, во время горбачевской травли своего уральского шефа поддержал Ельцина без всяких расчетов и задних мыслей, активно проявил себя, будучи депутатом Верховного Совета РСФСР, и после путча 1991 года неожиданно для многих, в том числе и для самого себя, стал одной из самых влиятельных фигур в российском правительстве. Он был острым полемистом, опыт митингов, предвыборных собраний и парламентских зубодробительных стычек укрепили его веру в себя. Не прошло даром и его пребывание на вершинах властных структур. Однако сейчас Андрей Андреевич ощущал, что ему трудно разговаривать с этим Профессором, который на самом деле был никаким не профессором; он все время чувствовал какую-то принижающую его властность и даже снисходительность в тоне собеседника, в неспешных длиннотах, которые позволял себе Профессор, даже во взглядах, которые он бросал исподлобья, поднося ко рту чашку кофе. И потому вопрос Шишковца прозвучал резче, чем того требовали обстоятельства, — ему просто нужно было переломить психологический настрой разговора, и тема давала для этого удачный повод.
Да, давала. Шишковец был связан с КПСС только формально: был, состоял, участвовал. Как все. И не более того. Он не сделал никакой партийной карьеры, хотя связи отца, второго секретаря обкома, давали ему эту возможность. Всего, чего он в жизни добился, он добился сам. В отличие от Профессора, который всю жизнь просидел в КГБ и внешнеполитическом отделе ЦК и лишь в финале драматических событий августа 1991-го предпринял какие-то меры для блокирования частей КГБ, подготовленных для штурма Белого дома. Что это были за меры, Шишковец не знал, о таких вещах не принято было расспрашивать, но президент очень высоко ценил Профессора и прислушивался к его мнению даже тогда, когда ни к кому не прислушивался. И все-таки нужно было поставить этого старого грифа на место. Поэтому Шишковец повторил:
— А вы?
— Я был уверен, что он сделал благое дело, — добродушно, как говорят о погоде, ответил Профессор. — Во-первых, сэкономил стране миллионы долларов, которые мы скармливали этим дармоедам, то есть дружественным компартиям. Во-вторых, дал возможность Интерполу, ЦРУ и «Моссаду» ликвидировать самые опасные гнезда международного терроризма, которые создавались под видом центров национально-освободительного движения.
И не столько его слова, сколько этот благодушный тон окончательно вывел Шишковца из себя.
— Благое дело, говорите? Прекрасно! Вы были в этом уверены? Прекрасно! Есть только один вопрос: как вы были в этом уверены — вслух или про себя?
— Я доложил о своих соображениях Юрию Владимировичу Андропову. В то время он возглавлял КГБ. Он согласился со мной.
— Как?! — вырвалось у Шишковца. — Вы доложили Андропову, и он…
— Да, он согласился со мной. И информировал о моем докладе кое-кого из секретарей ЦК. К сожалению, его позиция не нашла поддержки.
— Погодите, погодите! Вы хотите сказать, что Андропов уже тогда…
— Я не хочу его ни хвалить, ни ругать. Но он был профессионалом. И уже тогда понимал, что нужно немедленно что-то предпринимать, если мы не хотим того положения, которое имеем сегодня. И какое будем иметь завтра.
— Какое же положение мы будем иметь завтра? — сдерживаясь, поинтересовался Шишковец.
— Чтобы поговорить об этом, я и попросил вас прервать свое общение с дочерью и срочно приехать сюда. И для начала послушать эту пленку. Но прежде я хочу закончить тему. Так вот, полковник не сдал ни одного нелегала, хотя знал практически всех. Это было его условием. Мы не трогаем его семью, а он не мешает работать нам. Он и сегодня может провалить всю нашу сеть от Европы до Канады. Он свои условия выполнил. Мы своих, к сожалению, нет. Его жена, пятнадцатилетний сын и мать погибли в автомобильной катастрофе. Это было около десяти лет назад. Я был резко против такого решения.
— И после этого…
— Он продолжал держать слово. Он понимал, что ребята, разведчики, тут ни при чем и что решение принимал не я. Не знаю, как бы я поступил на его месте. Право, не знаю. Хочу надеяться, что так же. Но не очень в этом уверен…
— Почему он вообще решил уйти на Запад?
— После вторжения наших войск в Чехословакию. Пражская весна, если помните. Что я всем этим хочу сказать? Только одно. Полковник — человек, слову которого можно верить. И если он говорит: это серьезно — это действительно серьезно. Теперь вы разрешите мне включить запись?
— Включайте. Впрочем, еще секунду. Почему вы называете его полковником? Насколько я знаю, он разжалован, лишен всех наград и заочно приговорен к смертной казни. Приговор не был отменен, просьбы о помиловании не поступало. Какой же он полковник?
Профессор улыбнулся:
— Вот вы — политик. Если вас завтра назначат дворником, вы перестанете быть политиком? Нет. Просто вашей аудиторией будет не Госдума, а метлы и мусорные баки. Можно человека разжаловать, можно расстрелять. Но если он по духу своему полковник, а особенно полковник-разведчик, им он и останется. Даже мертвый. Из этой же категории и полковник Аарон Блюмберг. Это у него сейчас такая фамилия.
— А настоящая? — спросил Шишковец.
— Арон Мосберг.
— О Господи!
— Это одна из самых старых и уважаемых чекистских фамилий. Отец Арона был расстрелян, мать отсидела двенадцать лет, сам он воспитывался в специнтернатах для ЧСИР. Знаете эту аббревиатуру? Член семьи изменника Родины. У него могла быть блестящая карьера в КГБ. Просто феерическая. Он был самым молодым полковником в истории советской разведки. Но он выбрал другой путь. И я сейчас даже не могу сказать: к сожалению или к счастью.
Шишковец нахмурился. Профессор явно позволял себе лишнее. К тому же он все время вел свою линию в разговоре, легко игнорируя попытки собеседника перевести речь в другую плоскость. И это тоже раздражало Шишковца. Пора было наконец поставить Профессора на место.
— Давайте будем придерживаться общепринятых терминов, — мягко предложил он. — Мы можем как угодно относиться к деятельности этого Блюмберга или Мосберга, но для России, которая объявила себя правопреемницей Советского Союза, он — преступник, осужденный на смертную казнь за измену Родине. Воспримем это как данность. Вы меня поняли? И давайте больше не возвращаться к этой теме.
Профессор допил кофе, вынул из диктофона кассету, сунул ее во внутренний карман своего коричневатого, бугрящегося на крупных мосластых плечах пиджака. Потом вызвал дежурного, приказал:
— Линию с Москвой, срочно.
Он назвал номер линии. Шишковец знал этот номер. Это был прямой канал связи с одним из ближайших помощников президента.
— И билет до Москвы на первый утренний рейс, — продолжал Профессор. — В туристский класс. Спокойной ночи, Андрей Андреевич. Извините, что попусту вас потревожил.
— Вы хотите сказать, что улетаете в Москву?
— Да.
— Но… заседания Балтийского клуба не закончились. И вы должны… Профессор усмехнулся:
— Пытаюсь припомнить такой же дурацкий разговор за последние хотя бы года три — нет, не припоминается. Я вам, голубчик, ничего не должен. И вы мне ничего не должны. Не знаю, как у вас, а у меня кредитор всего один. Я должник России. И только. Ваше положение выше моего. И вы можете отдать мне приказ. Но сделать это сможете единственным способом. Обратиться к своему руководству, оно обратится к моему, а мое руководство, если сочтет нужным, отдаст мне приказ. Вот этот приказ я буду обязан выполнить. И никакой другой. Разумеется, кроме прямого приказа президента. Я пригласил вас на эту встречу, чтобы вы из первых рук получили информацию огромной, стратегической важности. Вас она не интересует. Что я могу сказать? Ничего. Полагаю, в Москве есть люди, которые менее озабочены собственными амбициями. А если таковых и там нет, мне придется уйти в отставку и с деревенской завалинки смотреть, как распадаются остатки того, что было когда-то великой Россией.
Шишковцу недаром прочили большое будущее. Он умел правильно оценивать ситуацию и быстро принимать решения. Он вдруг ощутил себя мальчишкой-первокурсником перед этим старым жилистым грифом, в котором чувствовались такая сила и уверенность в своих силах и правах, которым не было логического объяснения, но которые были основой этого человека. Более того, Шишковец ощутил, что такие люди, не мелькающие на телеэкранах и газетных полосах, не известные никому, — они-то как раз и есть настоящие властители государства, какие бы должности они ни занимали.
Они действительно служили России, верили в это, и эта вера давала им фактическую, а не назывную власть в стране. На их фоне даже самые известные и авторитетные политики выглядели не более чем марионетками, которых заставляет двигаться скрытый за кулисами кукловод. Одним из таких кукловодов и был этот жилистый, мосластый старик. И Шишковец понял, что сейчас решается его будущее. А в таких случаях уязвленное самолюбие плохой советчик, его лучше на время запрятать поглубже в карман.
Это Шишковец и сделал.
— Прошу меня извинить, — сказал он. — Я не придал должного значения срочности и серьезности вашего вызова. Я слушаю вас очень внимательно.
Профессор сунул в щель диктофона кассету и нажал кнопку «Play».
* * *
На хорах произошло какое-то движение, зажегся неяркий свет над органным пюпитром, прозвучали первые, не очень уверенные аккорды. Несколько минут Профессор и полковник Блюмберг молча слушали, потом Профессор спросил:
— Что это?
— Не знаю. Какой-то хоральный прелюд, скорее всего. Мне так и не хватило времени послушать серьезную музыку. Вам тоже?
— Да.
— Диктофон лучше вынуть и положить между нами на кресло. А то мой голос будет резаться, а ваш чрезмерно усиливаться. Зачем давать лишнюю работу расшифровщикам?..
* * *
Шишковец остановил запись.
— Диктофон? — переспросил он. — Откуда он знал, что вы записываете разговор?
Профессор только что не развел в стороны большими мосластыми руками.
— Даже не знаю, как вам ответить. Он просто знал, и все.
— У него был детектор? — предположил Шишковец.
— Какой детектор? При чем тут детектор? Ему не нужен никакой детектор. У профессионала такие вещи просто в крови, в генах. Вы же знаете, в какой момент выкрикнуть лозунг, чтобы его подхватила толпа?
— В общем, да.
— Вам нужен для этого детектор? Подсказчик? Нет. — Считая объяснение законченным и исчерпывающим, Профессор пустил остановленную Андреем Андреевичем запись.
* * *
«Профессор. Я не сомневался, что эта встреча состоится, как только увидел тебя в ложе прессы. Зачем тебе понадобился этот маскарад?
Блюмберг. Почему маскарад? Я экономический эксперт, мое агентство официально аккредитовано в пресс-центре Балтийского клуба. Я просто не мог игнорировать событие такой важности.
Профессор. Это твои телевизионщики пишут там все подряд?
Блюмберг. Да, я нанял эту группу.
Профессор. Зачем?
Блюмберг. Давайте не будем тратить на это время. Сами вы это прекрасно знаете, а тому, для кого предназначена эта кассета, объясните своими словами. Нет у меня никакого настроения читать лекции для ваших толстомясых боссов…»
* * *
«Толстомясые боссы» не очень понравились Шишковцу, но Профессор жестом попросил его не останавливать запись.
* * *
«Блюмберг. Встречный вопрос, коль уж мы затронули эту тему. Как вам удалось поставить на уши все контрольные телесистемы Германии? И меньше чем за сутки. Понимаю: в Союзе, то есть в России, там довольно приказа. Но здесь, в чужой стране?
Профессор. Мы сотрудничаем. У нас много общих врагов. Наркотики, терроризм.
Блюмберг. Значит, под маркой поиска террористов вы и провернули это дело? На пару часов раньше — и вы бы меня засекли. Я как-то и сам не сразу понял, что происходит.
Профессор. Значит, это был ты?
Блюмберг. Мои люди. Все данные о каждом человеке, который имел хотя бы косвенное отношение к переговорам, зафиксированы и хранятся в сейфе.
Профессор. И что ты будешь с этой информацией делать?
Блюмберг. Это будет зависеть от того, что будете делать вы. Давайте, учитель, немного посидим и помолчим. Я мечтал об этой минуте двадцать три года…»
* * *
Странная, глубокая тишина храмового зала. Негромкий орган.
* * *
«Блюмберг. Как вы жили все эти годы. Профессор?
Профессор. Работал. А ты?
Блюмберг. Тоже.
Профессор. Я прочитал обе твои книги. Ну, про нравы нашей конторы я и без тебя знал. А книга про французский Иностранный легион очень понравилась. Как тебя туда занесло?
Блюмберг. Я прослужил там пять лет. Хотел забыть, что я русский.
Профессор. Не удалось?
Блюмберг. Нет.
Профессор. Пишешь еще?
Блюмберг. Нет. Все, что я знал, я написал. А выдумывать скучно и недостойно этого странного и, в общем, высокого ремесла. Занимаюсь бизнесом.
Профессор. И преуспел, насколько я знаю.
Блюмберг. Преуспел? Может быть. Я как-то об этом не думаю. Ну, есть у меня миллионов двадцать. Но знаете, за что бы я их все до последнего цента отдал? Чтобы оказаться с вами во дворе Елисеевского гастронома, взять у грузчиков две бутылки «Кавказа» по трешке и выхлестать их там же «из горла». Как мы однажды с вами и сделали. Помните, надеюсь?
Профессор. Конечно, помню.
Блюмберг. Парадоксально, но даже на разных сторонах баррикады мы работали для одной цели. И самое поразительное другое. То, чего никто из нас не ожидал: мы ее достигли.
Профессор. У нас были разные цели. Ты разрушал систему снаружи, я пытался реформировать и укрепить ее изнутри. Можешь радоваться: ты оказался более прав.
Блюмберг. Рано радоваться. Итог происшедшего не осознан. И не скоро будет осознан. И не поддается прогнозу будущее. Это самое тревожное.
Профессор. Рад, что ты это понимаешь. Ты не хочешь расспросить меня о России?
Блюмберг. Вы знаете о ней не больше меня. При всей вашей информированности. Или даже меньше. Потому что я смотрю на нее снаружи, а вы изнутри.
Профессор. А вот эту вещь я знаю. Это Пассакалья Баха. Помолчим…»
* * *
Пауза. Негромкий орган. Еще пауза.
* * *
«Блюмберг. А теперь переверните кассету и поговорим о деле. Чем были вызваны нынешние переговоры?
Профессор. Никаких переговоров не было.
Блюмберг. Мы говорим сейчас не для средств массовой информации, а для людей, принимающих решения. Переговоры были. Про списки участников я упоминал. Могу добавить, что у меня есть несколько записей встреч российской делегации с прибалтами. Секретных встреч. Если называть вещи своими именами, прибалты послали Россию с ее балтийскими претензиями куда подальше. Без обиняков. Их поддержали, по существу, скандинавы и немцы. Я не говорю сейчас о том, разумно ли и справедливо ли это. Я просто констатирую факт. И вопрос у меня такой: кто инициировал эти переговоры и почему?
Профессор. Я был категорически против.
Блюмберг. Но ваше мнение, как всегда, игнорировали? Вам это не надоело, учитель? Итак, для чего были начаты эти переговоры?
Профессор. Что именно ты хочешь узнать?
Блюмберг. Я хочу понять, что представляет из себя сегодняшняя Россия. Можно ли считать эти переговоры знаком того, что Россия отныне будет выступать с открытым забралом, что ее политика будет прозрачна и моральна и она будет черпать силы из понятия международной солидарности и национального достоинства. Или же эти переговоры просто очередная непродуманная даже на полхода вперед дурь?
Профессор. Дурь…»
* * *
Шишковец остановил пленку.
— Прошу извинить, но мне хотелось бы получить объяснения. Как вы знаете, я был одним из инициаторов этих переговоров… Кстати, откуда он о них узнал?
— Я же объяснил вам, Андрей Андреевич, что он профессионал. Не заставляйте меня повторяться.
— Согласен, профессионал. Но почему переговоры — дурь? И главное: почему вы с этим согласны?
Профессор приоткрыл фрамугу, впуская в прокуренную Шишковцом комнату прохладу весеннего консульского сада, немного постоял у окна, глядя на садовые фонари, и обернулся к вице-премьеру:
— Я отвечу вам словами полковника. Вы уверены, что политика новой России будет основана на полном доверии к партнеру, будет прозрачной и исходящей из общих принципов гуманности, уважения национального достоинства и международного сотрудничества?
— Разумеется, — подтвердил Шишковец. — Мы декларировали такую позицию России и намерены ее придерживаться.
— Все международные рынки тесно поделены между странами-производителями, в их отношениях сформировалась сложная система взаимных компромиссов, позволяющих поддерживать мировой экономический порядок. С чем придет на этот рынок Россия?
— Россия — богатейшая страна. Нефть, лес, алмазы. Мне ли вам говорить об этом!
— Нефть, лес и алмазы у нас будут покупать. По бросовым, минимальным ценам. Сдирая три шкуры за транспорт. Устроит это Россию?
— Нет, разумеется. Мы будем требовать справедливого отношения к себе.
— Вам бы, Андрей Андреевич, родиться лет через пятьсот. К тому времени мировое сообщество, может быть, примет вполне цивилизованный вид. Обратите внимание на оговорку: я сказал «может быть». Сейчас этого и близко нет. Вот вам пример: нынешние переговоры. Хоть кто-нибудь услышал наши призывы к справедливости? Хоть кто-нибудь откликнулся на них? Скажу вам больше: хоть кто-нибудь озаботился тем, что загнанная в угол новая Россия может представлять для мирового сообщества не меньшую опасность, чем Советский Союз? Ответ вы знаете: нет. До нас никому нет дела, все делят свой пирог. Так для чего нам были нужны эти переговоры?
— Такова политика новой демократической России: честность, равноправие, справедливость. Это мы и продемонстрировали на нынешних переговорах. Что заставило вас так глубоко задуматься?
— Вы не похожи на дурака. Нет, не похожи.
— Спасибо, — нервно ответил Шишковец. — Что привело вас к такому выводу?
Не ответив, Профессор нажал на диктофоне кнопку «Play».
* * *
«Блюмберг. А это какая-то часть хорошо темперированного клавира. Вы знаете эту вещь?
Профессор. Практически так же, как все: смутно. Знаю, что это я уже когда-то слышал. И вспоминаю не музыку, а себя в те времена, когда эту музыку слышал. Тогда я был, пожалуй, счастливее.
Блюмберг. А я, пожалуй, нет. Мне было что терять. Сейчас — нечего. Только иллюзии. А они не стоят сожаления. Я помню вашу теорию, Профессор. О том, что если бы после сталинщины страна встала на путь нормального развития, приняла бы участие в плане Маршалла и отказалась бы от своих геополитических притязаний, то не возникло бы никакого кризиса. В то время вы не могли, конечно, знать, какого рода кризис возникнет, что это будет не кризис, а будничное, в один день, исчезновение СССР. Я не без скепсиса относился к вашим теориям. И лишь в памятные дни 91-го понял, что ваши прозрения были поистине пророческими.
Профессор. У меня было больше информации, чем у других. И относился я к ней как к информации, и только. Если бы в Политбюро не поверяли каждое слово идеологией, они сами пришли бы к этому выводу. В нашей стране очень нетрудно стать пророком.
Блюмберг. Вернемся к действительности. У России три пути. Как вы понимаете, я говорю это не для вас, а для тех, кто будет слушать эту кассету. Вы все это и без меня прекрасно знаете. Первый путь — тот, о котором мы говорили. Прозрачная политика, сотрудничество, честная конкуренция. Нужно ли говорить, к чему этот путь приведет?
Профессор. Не нужно. На этот вопрос в состоянии ответить любой идиот. Стоит лишь его задать. Ты задал. Этого достаточно…»
* * *
Шишковец остановил диктофон.
— Как я понял, вы придаете огромную важность этому разговору. Пока я не ощутил этой важности. Но ваш авторитет для меня — гарантия. Поэтому я не хочу пропускать никаких мелочей. Я хочу полной ясности. И полагаю, что имею на это право.
— Безусловно, — согласился Профессор. — Я вам благодарен за это внимание.
— В таком случае разъясните мне, к чему приведет Россию путь открытой политики и тесного международного сотрудничества. У меня есть свое понимание. Я хочу узнать, как это видится вам. Как я понял, тут вы с полковником Блюмбергом единодушны.
— России никто не даст равных возможностей на мировом рынке. Через пять лет она превратится в колониальный придаток Европы, снабжающий другие страны дешевым первичным сырьем и очень дешевой рабочей силой. О внутриполитической обстановке я не говорю, потому что это другая тема, не имеющая отношения к нашему разговору. Истории чужда благодарность. Уже и сегодня мало кто помнит, что мы дали независимость Прибалтике и разрушили Берлинскую стену. А экономика и благодарность — это вещи вообще несовместные. Они существуют в разных измерениях и никогда не пересекаются. Идеализм всегда оборачивается трагедией.
— Вы считаете руководителей России идеалистами?
— Не всех, — подумав, ответил Профессор. — Вы согласны с моим прогнозом по первому варианту?
— Я вынужден согласиться. Нынешние переговоры доказывают вашу правоту. Я соглашаюсь, но делаю это с очень тяжелым сердцем. Да, с очень тяжелым! И я хочу, чтобы вы это знали!
Неожиданно для Шишковца Профессор улыбнулся, вытряхнул в корзину, переполненную окурками, хрустальную пепельницу и поставил ее перед вице-премьером.
— Курите, голубчик, курите! Разговор для вас не из легких, а сигарета отвлекает. Сам-то я не курю уже лет десять, но люблю, когда рядом курят. И дым нюхать приятно, и вообще — как-то противно и одновременно приятно, что сам не куришь. Во всем нашем разговоре мне больше всего понравились ваши последние слова. С тяжелым сердцем. Да, с тяжелым сердцем мы вынуждены признать, что мир не готов принять в свои ласковые объятия доверчивого теленка, который именует себя новой демократической Россией.
Он включил диктофон.
* * *
«Блюмберг. Второй вариант более реален. У России еще есть кое-какие сырьевые резервы, есть и прорывы в высокие технологии, особенно в области вооружений. Мировой рынок полон явных и скрытых противоречий. Умелое их использование может дать России шанс потеснить конкурентов и оттягать свою долю мирового пирога. В России, правда, нет менеджеров, которые умеют работать на мировом рынке, но это вопрос в конечном счете решаемый. Уж знаниями да и самими менеджерами Запад охотно поделится. Для них такой вариант развития России — самый благоприятный. Он безопасен. Как в военном, так и в экономическом отношении.
Профессор. Насколько этот вариант, по-твоему, приемлем с точки зрения российского руководства?
Блюмберг. Вопрос не ко мне, а к руководству. Не думаю, что приемлем. Нет, не думаю. Он обрекает Россию лет на пятнадцать — двадцать полуколониального развития, на роль страны из развивающегося мира, вроде Монголии или Индии. Внутренняя политическая закрутка общественного мнения России слишком сильна, чтобы смириться с этим. Эту закрутку, это мнение несут депутаты всех уровней. Нет, они не пойдут по этому пути. Значит, остается третий…»
* * *
Профессор остановил запись.
— По этому пункту у вас есть вопросы? Шишковец немного подумал и покачал головой:
— Нет. Включите, пожалуйста, продолжение записи…
* * *
«Блюмберг. О третьем пути я буду говорить более подробно. Не потому, что это для вас новость. Не потому, что он новость для людей, которые будут слушать эту запись. Нет, по другой причине. Я хочу, чтобы эти люди ясно отдавали себе отчет в том, что здесь, на Западе, достаточно много людей, которые прекрасно понимают то, что происходит, что они способны просчитать ходы российской стороны даже раньше, чем они были задуманы. И за каждую ошибку придется держать ответ и перед мировым общественным мнением, и перед общественным мнением собственной страны. Российская демократия достигла пока немногого. Но этого она достигла. И это — фактор, с которым отныне придется считаться любому правительству.
Профессор. Продолжай.
Блюмберг. Третий путь имеет ту же цель, что и второй: скорейшую интеграцию в мировую экономическую систему. Но интеграцию более быструю, в пять — семь лет. Можно этого достичь? Да, можно. Но только в одном случае: если играть нечестно. Я скажу больше: преступно нечестно. Незаконная торговля оружием, продажа секретов ядерных технологий и сырья, заигрывание с разными хусейнами и каддафи, грязная биржевая игра, использование разведслужб для выкрадывания технологических секретов и других целей. Я мог бы продолжать перечисления, но не вижу в этом смысла. Список этот бесконечен и не является тайной за семью замками. Тем более для тех, кто будет слушать эту запись. А теперь я выскажу предположение и поставлю самую большую свечу перед ликом Пресвятой Девы Марии, если вы его опровергнете. Вот это предположение: Россия пойдет по третьему пути.
Профессор. Слышите, сейчас снова играют хоральные прелюды.
Блюмберг. Я жду ответа.
Профессор. Тебе не придется тратиться на свечу.
Блюмберг. Так я и думал. Понимают ли это в российском правительстве?
Профессор. Да, понимают. Еще не все, но скоро поймут все.
Блюмберг. Как скоро?
Профессор. Примерно завтра. Когда в Москву поступит отчет о переговорах.
Блюмберг. Если все это так, а я не сомневаюсь, что все именно так, объясните же мне, для чего в таком случае был собран этот Балтийский клуб?
Профессор. Пробный камень. Чтобы потом сказать: вот видите, мы хотели честно и справедливо решить этот вопрос, но нас не услышали. И так далее.
Блюмберг. А то, что этими переговорами вы отрезаете себе решение балтийской проблемы по третьему варианту, об этом трудно было подумать?
Профессор. Я был против совещания именно из этих соображений. Тогда у меня и в мыслях не было, что ты всунешься в это дело. А если бы мелькнуло хоть полмыслишки — я дошел бы до президента, но этих переговоров не было бы. Ты, как всегда, оказался в нужное время в нужном месте. И стал для нас очень большой проблемой…»
* * *
Шишковец остановил запись.
— Мне снова нужны разъяснения. Прошу извинить за непонятливость, но вы взяли на себя неблагодарную обязанность просветить меня, как тупого студента, и вам придется выполнить ее до конца.
— Спрашивайте, — кивнул Профессор.
— Как вы знаете, в российском правительстве я не отношусь к категории ястребов или экстремистов. Напротив, меня часто упрекают в проявлении мягкости там, где нужна жесткость. В то же время, как мне кажется, я достаточно реалистически умею оценивать ситуации, и третий путь, о котором шла речь, не кажется мне исключенным из перспектив российской политики. Как это для всех нас ни огорчительно, Блюмберг прав. Мы не можем плыть по течению, народ слишком взбаламучен происшедшими переменами и потребует от нас решительных действий. Но объясните мне, Бога ради, каким образом нынешние переговоры помешают нам идти по этому третьему пути?
— Вообще — никак. Но в решении проблемы Балтики — самым решительным образом.
Этими переговорами мы продемонстрировали миру свою заинтересованность. И что бы мы после этого ни сделали, наши действия будут связываться с этими переговорами.
А верней, с нулевым для России результатом. Мы заранее расшифровали все свои намерения. Мы сами связали себе руки. Понимаете? И чем более решительные действия мы предпримем, тем хуже будет результат. Тайные операции, каковы бы они ни были, имеют смысл только тогда, когда они остаются тайными.
— Но основные переговоры происходили при закрытых дверях, — напомнил Шишковец.
— А списки участников, которых люди Блюмберга выловили из серверов аэродромов и пристаней? А запись всех выступлений на заседаниях Балтийского клуба? А записи секретных совещаний, про которые он упомянул?
— Это может быть блефом, — предположил вице-премьер.
— Полковнику незачем блефовать, — возразил Профессор. — Вы что, не поняли смысла всего нашего разговора?
— Не до конца, — подумав, ответил Шишковец.
— Тогда дослушайте пленку…
* * *
«Блюмберг. В самом начале разговора я сказал, что хочу быть правильно понят.
Сейчас я повторяю это. Правильно понят вот в чем. Я не дам России пойти по третьему пути. По крайней мере, в решении балтийской проблемы. Вы можете меня спросить почему. Верней, не вы, а те люди, которые будут нас слушать. Вот почему. Стоит России хоть краешком ноги вступить на этот третий путь, как через какое-то время, очень небольшое, это будет уже не демократическая Россия, а Советский Союз в уменьшенном варианте. Если преступником становится власть, то преступной становится сама страна. Благо народа не может служить оправданием. Не будет никакого блага у народа. Будет благо у чиновников, будет благо у воров и преступников. Место партократов займут еще большие хапуги и воры, которые будут прикрываться лозунгами демократии, а не торжества коммунизма. Я пожертвовал всем в своей жизни, чтобы хоть как-то противостоять этому. И сегодня, когда жизнь потеряла для меня прежнюю ценность, я сделаю все, чтобы помешать вам. У меня не слишком много возможностей, но они есть, и я использую их до конца. Запомните это. Я достаточно ясно высказался?
Профессор. Да.
Блюмберг. А теперь давайте помолчим и послушаем эти прелюды. Больше такого дня у нас с вами не будет…»
* * *
Профессор вынул из диктофона кассету и спрятал в карман. Появился дежурный связист, доложил, что абонент на связи. Профессор взял трубку. Он не назвался и никак не назвал собеседника, лишь попросил выкроить из расписания на завтра после полудня двенадцать минут. После этого вернул трубку связисту и поднялся.
— До встречи в Москве, Андрей Андреевич. Спасибо, что приехали и выслушали меня.
Надеюсь, я не совсем попусту занял ваше время. Вы когда улетаете в Москву?
— Завтра вечерним рейсом.
— Один совет. Журналисты будут спрашивать вас о результатах переговоров. Ответ один: «Никаких комментариев». Переговоры шли лишь в рамках Балтийского клуба, а вы в них вообще не участвовали, потому что это был частный визит и вы всего лишь хотели повидать дочь. Что и сделали. «Ноу комментс».
— Вы сказали, что полковник Блюмберг стал большой проблемой, — напомнил Шишковец.
— Это не ваша проблема, — холодно ответил Профессор.
VI
В аэропорт Франкфурта-на-Майне Шишковец приехал на посольском лимузине.
Провожали его лишь посол и человека два-три из мелких служащих, следовавшие за лимузином на микроавтобусе. Шишковец сам настоял, чтобы проводы были максимально скромными.
На подъездной площадке, куда подрулил лимузин, он ожидал увидеть толпу журналистов с видеокамерами и фотоаппаратами, но там стоял лишь роскошный открытый «порше» последней модели, за рулем которого сидел молодой розовощекий немец, а к капоту машины прислонился, покуривая, импозантный, лет пятидесяти человек, одетый так, как одеваются имеющие вес журналисты: меховые полусапожки, меховая, явно очень хорошей фирмы, куртка, белоснежная рубашка и галстук-бабочка. Из-за некоторой смуглости и карих глаз он был похож на испанца.
Дождавшись, пока выгрузят багаж и вице-премьер пожмет руки сопровождающим, журналист подошел к Шишковцу и помахал пресс-картой.
— Коммерческое аналитическое агентство, эксперт Блюмберг, — представился он. — Только один вопрос, господин Шишковец: ваши впечатления от прошедших переговоров?
— Не было никаких переговоров, — ответил Шишковец заранее заготовленной фразой. — Было ежегодное заседание Балтийского клуба. О нем вам лучше расспросить участников заседания. Мой визит был, в сущности, частным: я приезжал повидать дочь-студентку.
— Позиции России на Балтике оказались чрезвычайно ослабленными. Как намерено российское правительство решать эту проблему?
— Никаких комментариев, господин журналист. Ноу комментс.
Блюмберг вынул из внутреннего кармана куртки длинный белый конверт без подписи и передал его Шишковцу:
— Взгляните на досуге. Полагаю, это вас заинтересует. Счастливого полета, Андрей Андреевич.
Едва «боинг» Люфтганзы взлетел и Шишковец остался в относительном одиночестве, он извлек из кармана конверт и вскрыл его. Там была небольшая бумажка — компьютерная распечатка. Прочитав ее, Шишковец похолодел. Это была «платежка» на десять тысяч долларов, переведенных на счет Гейдельбергского университета одной из лондонских фирм за обучение и пансионат его дочери. Лондонская фирма была привлечена Шишковцом к распродаже имущества Западной группы войск, решение о выводе которой вот-вот должно было принять российское правительство.
* * *
Полковник Блюмберг был большой проблемой для Профессора. Теперь он стал очень большой проблемой для вице-премьера России Андрея Андреевича Шишковца. А Андрей Андреевич был не из тех людей, которые любят откладывать в долгий ящик решение серьезных проблем. Они решают их по мере возникновения. Поэтому через три месяца после описываемых событий в бригаде рабочих-мусорщиков, обслуживавших район в рукаве Нордер-Эльбы, появилось трое новых турок, серьезных молодых людей, приехавших в Германию, чтобы заработать немного денег для своих семей. Госпожа Гугельхейм, которой после назначения мужа начальником районных теплосетей больше не нужно было подрабатывать уборкой квартир, не раз замечала этих новых рабочих и возле дома, в котором жил господин Блюмберг, и даже на этаже, где размещалась его квартира. Однажды они стали расспрашивать ее о нем, но она могла сказать лишь то, что знала: господин Блюмберг неожиданно продал свою квартиру, отказался от аренды мансарды, в которой был его офис, и исчез в неизвестном направлении.
Госпожа Гугельхейм не была в претензии на бывшего своего работодателя за то, что он не выкроил минутки, чтобы попрощаться с ней, потому что в своем почтовом ящике она обнаружила чек на весьма солидную сумму и записку с одним словом:
«Данке».
Об этом она любопытным туркам не рассказала. А еще спустя примерно полгода фрау Гугельхейм неожиданно вызвали в полицию и попросили участвовать в опознании трупа, выловленного сторожевыми катерами в устье Эльбы. Труп довольно долго пробыл в воде, очертания лица смазались, но, судя по найденному в кармане брюк водительскому удостоверению, это был господин Аарон Блюмберг. В опознании участвовали еще трое жильцов из дома на Нордер-Эльбе, они после небольших колебаний подтвердили личность погибшего. Госпожа Гугельхейм тоже подтвердила, хотя у нее были очень большие сомнения в том, что этот погибший является Аароном Блюмбергом. Во-первых, он однажды в случайном разговоре признался фрау Гугельхейм, что не переносит даже вида моря, его начинает выворачивать наизнанку только от одной мысли о любом судне. А тут вдруг в одиночку отправился на малой моторной яхте в бурное море на морскую прогулку. Во-вторых, и это главное, погибший был не похож на господина Блюмберга. Чем не похож, госпожа Гугельхейм не сумела бы сказать, но она всем своим существом чувствовала какую-то внутреннюю отторженность от этого обезображенного водой трупа. Он был в одном из клубных костюмов господина Блюмберга, но при всем при этом даже костюм на нем был как бы чужим. Даже супруг госпожи Гугельхейм, господин начальник районных теплосетей, почувствовал что-то неладное. Подчиняясь незаметному, но властному знаку супруги, он покивал головой, подтверждая личность погибшего, а когда они вышли из морга и отошли на приличное расстояние, уверенно заявил:
— Это не он.
На что супруга ответила ему со свойственной ей рассудительностью:
— Если это какой-то случайный бедолага, похожий на господина Блюмберга, мир праху его. А если самому господину Блюмбергу было угодно, чтобы кого-то приняли за него, то Господь ему судья. Но не мы.
В полиции сказали, что для опознания хотели вызвать компаньонов господина Блюмберга Макса Штирмана и Николо Вейнцеля, но почему-то их не нашли по тем адресам, по которым они проживали. Спустя некоторое время фрау Гугельхейм, терзаемая все-таки ощущением незавершенности и неясности этого дела, сама попыталась найти молодых сотрудников Блюмберга. Но в Гамбурге их не было. Не было их и во всей Германии. Так и осталась вся эта история в памяти госпожи Гугельхейм какой-то странной смесью реальности и сказки.
Спустя еще какое-то время трое молодых турок исчезли из бригады мусорщиков, решив, очевидно, что зарабатываемые деньги не оправдывают длительной разлуки с семьями. А еще полгода спустя в одной из наиболее скандальных московских газет появились фотокопии финансовых документов, из которых явствовало, что первый вице-премьер Андрей Андреевич Шишковец оплачивает обучение своей дочери в Гейдельбергском университете за счет взяток, полученных от некой английской фирмы за выгодные подряды. При этом известный московский журналист, опубликовавший документы, не знал, от кого он их получил. Но сами документы были так убедительны и доказательны, что Андрей Андреевич Шишковец счел за благо немедленно подать в отставку и уехать в США для чтения лекций в Массачусетском университете. Российская генеральная прокуратура сделала несколько вялых попыток выцарапать его оттуда или хотя бы допросить, но особой настойчивости не проявила, потому что наступил октябрь 93-го, стянутые к гостинице «Украина» танки прямой наводкой били по Белому дому, а после этого кого уже интересовало, что было в 1992 году!
А что, собственно, было?
Да ничего.
Глава третья. Тень за спиной
I
За два дня до первого тура выборов на местном телевидении города К. состоялся «круглый стол» — теледебаты кандидатов в губернаторы.
Их было всего четверо — от КПРФ, ЛДПР, «Яблока» и НДР. Нетрудно было понять, что это явилось итогом большой селекционной работы. Торговли, попросту говоря.
Мелкие политические группировки, не имевшие никаких шансов на выборах, блокировались с более перспективными, в обмен на поддержку выцыганили для себя какие-то преимущества. Понятия не имею какие. Может быть, портфели в администрации будущего губернатора. Может, что-то еще. Во всяком случае, сторонники генерала Лебедя поддержали «Наш дом», «Трудовая Россия» встала под знамена КПРФ, «Яблоко» оттянуло на себя независимых демократов вроде оставшихся без своего кандидата членов «Социально-экологического союза». Разобрались, в общем.
Передача шла в прямом эфире, вел ее верткий молодой человек с рыжей бороденкой и в маленьких очках с металлической оправой, которые делали его похожим то ли на либеральных петербургских приват-доцентов начала века, как их изображали в революционных фильмах, то ли на проститутку Троцкого. Фамилия его была Чемоданов, а имя Эдуард.
Эдуард Чемоданов.
Нужно быть человеком без комплексов, чтобы с таким именем и с такой фамилией работать на телевидении. А он и был без комплексов. Его бороденка и вызывающе поблескивающие очки почти каждый день мелькали на экране, он комментировал городские события, вел то, что на современном языке называют событийными репортажами, и вообще был в городе фигурой популярной. Его называли Эдиком, ссылались на него в мимолетных дискуссиях, которые возникали иногда в очередях на автобусных остановках. Перед камерой он не выпендривался, не старался казаться умней, чем есть. Этим, вероятно, и нравился.
Наверное, потому ему и поручили вести эти предвыборные посиделки — чтобы привлечь внимание телезрителей к передаче, которая обещала быть беспробудно скучной, как правила пользования общественным транспортом.
Давно прошли времена, когда весь советский народ, и я в том числе, торчал, как примагниченный, у телевизоров, зачарованно наблюдая за перипетиями съездов народных депутатов СССР, а потом РСФСР, не говоря уж о мрачноватых детективчиках под названием ГКЧП-1 и ГКЧП-2. Последний всплеск всенародного интереса к общественно-политическим программам ТВ пришелся, как мне кажется, на президентские выборы 96-го, после чего все уже окончательно поняли, что свободой сыт не будешь, а демократия — это всего лишь новое слово в зазывном жаргоне политических наперсточников.
«Нынешнее поколение будет жить при коммунизме».
«Нынешнее поколение будет жить при капитализме».
И хоть бы кто заявил:
«Нынешнее поколение будет жить».
Суки.
Хрен бы я стал смотреть эту провинциальную бодягу под названием «Круглый стол», если бы это не входило в условия моего контракта. Но оно входило. И потому стал.
Не рассчитывая извлечь из этого занятия ни малейшей пользы. И ошибся.
Ведущий Эдуард Чемоданов (о господи!) тоже, видно, думал над тем, как бы исхитриться и сделать так, чтобы телезрители и они же будущие избиратели уже после первых фраз не переключились на одну из московских, питерских или финских программ, которые принимались в городе К. И придумал. Представив участников «круглого стола», он сразу же устроил небольшой конкурс: читал пункты предвыборных программ и предлагал кандидатам ответить, какая партия выдвигает этот пункт. А поскольку все одинаково пеклись о благе народа, то сразу выяснилось, что все четыре кандидата ставят перед собой одни и те же цели.
— Господа кандидаты! Так в чем же все-таки разница между вами?! — вопросил Чемоданов.
После чего на экране возник рейтинг кандидатов, исчисленный в результате исследования, проведенного местными социологами накануне эфира, и было сообщено, что после передачи будут обнародованы данные блицопроса, по которым можно будет судить, какой эффект на избирателей произвели выступления кандидатов на «круглом столе».
Это придало мероприятию некоторый спортивный интерес, кандидаты подсобрались, как спринтеры перед финальным забегом.
Первым дали старт «яблочнику», довольно моложавому, бородатенькому, как и Чемоданов, и не слишком солидно выглядевшему доктору экономических наук, заведующему лабораторией или кафедрой местного Технического университета, бывшего Политехнического института. Вероятно, как явному аутсайдеру — по предварительному прогнозу за него были готовы отдать голоса всего девять процентов электората. Да и этого, по-моему, было для него многовато. Плохо я представляю себе избирателя, которого вдохновила бы программа, которую он излагал. Она, возможно, была и хорошей, но, чтобы разобраться в ней, нужно было иметь как минимум высшее экономическое образование. И излагал он ее так, будто выступал на международном экономическом симпозиуме, все время вставляя в свою речь «как всем известно», «совершенно очевидно, что» и «естественно вытекает».
Оно, конечно, для кого-то, может, и естественно вытекает необходимость дифференцированной интеграции в какую-то многофункциональную макроэкономическую хренобень, но я, избиратель, предпочел бы чего попроще: вот уж, вот еж, а все вместе — колючая проволока.
Вторым выпустили мордастого и горластого кандидата ЛДПР с его двенадцатью процентами. Этот сразу понес по кочкам и Ельцина, и Госдуму, и местную проворовавшуюся администрацию, и завлабов, которые рвутся ставить экономические эксперименты над беззащитным народом, и позорное соглашательство коммунистов.
Эдуард Чемоданов попытался умерить его полемический пыл, напомнив, что телезрители хотят услышать от него конструктивные предложения, но тут же схлопотал про продажное телевидение, которое лижет задницу власть имущим и разлагает общество порнографией.
Ну, Жириновский — он и в Африке Жириновский. Мне стало даже интересно, наберет ли этот Владимир Вольфович местного розлива хотя бы пару очков в результате своего лихого забега.
Третьим слово получил кандидат от КПРФ, респектабельный господин лет сорока пяти по фамилии Антонюк. Я был почти на всех его предвыборных встречах и знал, что родом он из бедной крестьянской семьи, прошел путь от простого портового докера до второго секретаря обкома КПСС в этом же городе К., с этой высокой должности был снят еще в 1987 году за то, что выступил против коррупции, разъедавшей переродившееся партийное руководство. Из чего следовало, что он не несет никакой ответственности за грехи руководящей и направляющей, а представляет истинных коммунистов, простых тружеников и народную интеллигенцию, интересы которых нагло преданы так называемыми демократами, развалившими Советский Союз и разваливающими сейчас Россию по указаниям ЦРУ и Международного валютного фонда.
По предварительному рейтингу у него было двадцать восемь процентов, а у нынешнего губернатора, кандидата от НДР, всего двадцать три. И тот факт, что ему дали слово третьим, а не последним, как раз и говорил, видно, о пресмыкании телевидения и лично Эдуарда Чемоданова перед власть имущими.
Антонюк был, конечно, фигурой куда более серьезной, чем «яблочник» и сокол Жириновского. Как и сам Зюганов среди своих московских политических соперников.
Но сущность его была та же — сучья. Я не причисляю себя к сторонникам так называемых демократов, хоть и голосовал в свое время за Ельцина, а еще раньше, в августе 91-го, был в оцеплении вокруг Белого дома в составе роты добровольцев нашего училища, которой командовал сам генерал-лейтенант Нестеров. Но когда я слушаю господ вроде Зюганова или Антонюка, во мне пробуждаются какие-то самые темные чувства.
Да как у тебя, падла, язык поворачивается говорить о народном благе после всего, что твоя партия наворочала в оплакиваемой тобой России! И на чем, главное, спекулируют — на нищете, на разоре, на воспоминаниях стариков и старух о благостных, как сейчас им кажется, временах, когда колбаса была по два двадцать.
Да где она была, эта колбаса? В Москве, куда со всей России высаживались продовольственные десанты?
Чья бы корова мычала!
И эту суку я должен защитить от покушения. И даже, если нужно будет, себя подставить. Ну, подписался!
Не без труда дослушал я Антонюка, хоть и говорил он вроде бы дельные вещи: про бардак в акционировании порта, про разбазаривание госсобственности, про воровство и взяточничество на таможне. Говори, говори. Хотел бы я посмотреть, что ты сам будешь делать, когда станешь губернатором.
Если станешь.
Последним на телестарт вышел нынешний губернатор, Валентин Иванович Хомутов. Лет пятидесяти с небольшим. Высокий, худощавый, с темными мешками под глазами. Из строителей, раньше был начальником какого-то крупного треста. Хомутова я тоже слушал раза три на предвыборных митингах и собраниях. Слушал, конечно, не очень внимательно, потому что, как и на митингах Антонюка, занимался своим основным делом — контролировал обстановку со стороны. Но, в общем, программу его знал.
Если вынести за скобки все общие слова, что и сделал в начале «круглого стола» Эдуард Чемоданов, оставался комплекс чисто хозяйственных мероприятий: то же акционирование торгового и рыбного порта, коммунальная реформа, реорганизация налоговой службы. Мне трудно о его программе судить, в этих делах я мало что понимаю. Но одно понял совершенно четко: не выиграть ему этих выборов. Это был вымотанный, затравленный, затраханный человек, который дотягивал свой воз до места с единственной мыслью — скорей бы все это кончилось. На собраниях, где я его видел, он был гораздо активней. Сам, правда, говорил не очень много, гораздо больше говорил о нем какой-то энергичный функционер НДР по фамилии Павлов, доверенное лицо Хомутова. Но и сам Хомутов дельно отвечал на вопросы, даже незатейливо и довольно удачно шутил. В общем, производил приятное впечатление.
Что это, интересно, с ним случилось?
По тому, как переглядывались другие участники «круглого стола» и как хмурился Эдуард Чемоданов, я понял, что и для них это состояние губернатора было неожиданным.
Двадцать три процента. Сколько же у него останется после этого выступления?
Во второй части передачи были ответы кандидатов на вопросы будущих избирателей.
Причем вопросы были сняты на пленку заранее. В порту, в цехах вагоностроительного и судоремонтного заводов, на улицах. Задержка зарплаты, развал производства, нищенские пенсии. Обычные нынешние дела.
Антонюк было взмыл орлом, но Эдуард Чемоданов довольно жестко напомнил, что кандидаты должны говорить не о причинах этих бед, а о путях, которые они предлагают для выхода из кризиса. «Яблочник» снова занудил про инфраструктуру, Антонюк с жириновцем про справедливое перераспределение, а Хомутов вообще не стал отвечать, заметив, что он уже все сказал, излагая свою программу. Не думаю, что это прибавило ему очков.
Когда с ответами на вопросы было покончено, Эдуард Чемоданов дал каждому из кандидатов по три минуты, чтобы повторить основные положения своих предвыборных программ. Они и повторили. Губернатор — словно бы через силу. Антонюк и кандидат от ЛДПР — вдохновенно. А вот «яблочник» преподнес небольшой сюрприз. Он сказал, что использует свои три минуты для того, чтобы напомнить телезрителям о человеке, который сегодня по праву присутствовал бы на этом «круглом столе», если бы не стал жертвой политического убийства, чудовищного по своей бессмысленности и жестокости.
— Я говорю о кандидате от «Социально-экологического союза» Николае Ивановиче Комарове. Он был вдумчивым ученым, прекрасным педагогом и мужественным, кристальной честности человеком. И хотя наши взгляды по многим проблемам расходились, я считаю его смерть огромной потерей для нашей молодой демократии.
Благодарю за внимание.
После сорокаминутного перерыва, заполненного выпуском городских новостей, рекламными роликами и музыкальными клипами, Эдуард Чемоданов объявил результаты экспресс-опроса.
Губернатор потерял два процента. Было двадцать три, стало двадцать один. Ну, не так много, мог больше.
Антонюк прибавил три процента. Было двадцать восемь, стало тридцать один.
Жириновец остался при своих двенадцати процентах.
А что же «Яблоко»? Было девять процентов. А стало? Ух ты! Семнадцать. Вот это да. Плюс восемь. Почти вдвое.
Эдуард Чемоданов пожелал успеха всем кандидатам, напомнил, что после нынешней полуночи всякая предвыборная агитация, согласно закону, запрещается, и призвал избирателей к активности.
«Голосуйте сердцем».
«Выбирай, а то…»
Я выключил телевизор.
Плюс восемь. Это как же понимать? Что могло дать «яблочнику» такой скачок?
Во всяком случае, не его программа. Во-первых, в городе ее знали: и афишки по всем тумбам расклеены, и в газетах о ней было, и на собраниях он выступал.
Во-вторых, на «круглом столе» излагал он ее так, что в студии все мухи передохли бы, если бы они там водились. Значит, остается что — его слова о Комарове?
А если бы их произнес Антонюк? Или сокол Жириновского?
Да ну, у них язык бы сломался сказать: «для нашей молодой демократии». А просто по-человечески выразить сожаление не догадались. И губернатор не догадался. А мог бы. Эти восемь процентов ему бы очень не помешали. Или ему уже все до феньки?
Что же из этого вытекает? Только одно: демократы могут идти отдыхать, не дожидаясь даже первого тура выборов. А подполковник Егоров может забирать свою команду и возвращаться в Москву. Не нужна красному кандидату Антонюку никакая охрана.
Не будет на него покушения.
Незачем.
* * *
С улицы донесся приглушенный бой курантов с башни «Миша-маленький». Так переименовали жители города К. один из немногих сохранившихся памятников старины — замковую башню «Klein Bar». Город сдал ее в долгосрочную аренду какому-то российско-германскому СП, внизу устроили шикарную прусскую пивную (ее тут же окрестили «Берлогой»), отреставрировали башню и заодно восстановили куранты, молчавшие больше полувека.
Полночь.
Я подошел к окну. Мой номер был на двенадцатом этаже. Далеко внизу расплывались пятна уличных фонарей, возвращая российской город К. в его глубокое ганзейское прошлое.
Туман.
И тут раздался телефонный звонок.
— Привет, рейнджер! — услышал я голос подполковника Егорова. — Телевизор смотрел?
— Смотрел.
— В десять утра спустись в холл. Заеду.
— Понял.
Я положил трубку и еще немного постоял у окна.
Туман.
II
Утро выдалось пасмурным, тихим. Не смытый ветром туман осел тяжелыми водяными каплями на крышах и голых ветках, залил низины парным молоком весеннего половодья. В нем плыли дома и подворья предместий, черный ельник на всхолмьях; обнаруживали себя розоватым свечением затопленные туманом заросли краснотала.
Дорога была обсажена столетними липами с полутораметровыми в обхвате стволами, и наш темно-синий «фольксваген-пассат» летел по этой аллее, как по тоннелю, а когда посадки закончились, шоссе словно бы зависло молом над мелководным заливом.
Подполковник Егоров держал под сотню, но не потому, что спешил, а просто эта скорость, похоже, была для него привычной, соответствовала его внутреннему ритму. Дорога была пустынной, редко-редко навстречу проходила какая-нибудь легковушка с прицепом — то ли местный крестьянин на базар припозднился, то ли дачник вез домой урожай картошки. Но регулярно, каждые пятнадцать — двадцать секунд, Егоров бросал взгляд в зеркало заднего вида — немножко не так, как делают это обычно водители. А так, как профессионалы проверяют, нет ли сзади хвоста.
С той минуты, как мы встретились в холле гостиницы и обменялись ничего не значащими «Привет, как дела», он не сказал ни слова — ни куда мы едем, ни зачем.
Рулил, покуривал, переключал кнопки на магнитоле, когда незатейливая попса сменялась трепотней диск-жокеев. А сам я не спрашивал ни о чем. Придет время — скажет. Лишь машинально, тоже скорей по привычке, чем по необходимости, отмечал, что сначала мы ехали на запад, а потом взяли на север и держим вдоль побережья: справа от шоссе было лесисто, сосны, а слева просторней, сосны реже и ниже, дюны. Мелькали названия поселков и указатели поворотов: безликие Приморские, Светлые, Зеленогорские. Наверняка в прошлом какие-нибудь Раушендорфы и Грюневальды.
Через час пятьдесят Егоров свернул на узкую асфальтовую дорогу, обозначенную табличкой «PRIVAT» и разъяснением по-русски: «Частные владения. Въезд запрещен».
Километра через два этот асфальт привел к просторной усадьбе на берегу моря.
Бетонный забор метра в три с колючкой поверху, два сторожа в штатском со сворой служебных немецких овчарок на вахте, стальной щит ворот с электроприводом.
Внутри пара двухэтажных корпусов, похожих на санаторные; какие-то кирпичные боксы, котельная, капитальный пирс, уходящий далеко в море. Тройка яхт класса «Дракон», еще несколько штук помельче.
Все это напоминало бы яхт-клуб, если бы не сторожевик у причала и не два вертолета в дальнем конце усадьбы, прикрытые маскировочной сеткой.
Это был не яхт-клуб. Это была база отдыха. Или, как сейчас говорят, реабилитационно-восстановительный центр. Силы здесь восстанавливают.
И я уже догадывался кто.
На вахте Егорова знали. «Пассат» покружил по вымощенным красной кирпичной крошкой дорожкам и остановился возле одного из санаторных корпусов с плоской пристройкой, напоминающей школьные спортзалы.
— Приехали.
Егоров вылез из машины и потянулся, разминаясь после дороги. Его кожаная, подбитая мехом курточка разошлась, открыв моему нескромному взору черную рукоять пистолета Макарова, торчащую из наплечной кобуры.
— Чувствуешь запах? Балтика. Любишь Балтику, рейнджер?
— Понятия не имею. Никогда об этом не думал.
— А я люблю. Ни с чем не сравнить. Все южные лужи воняют. А Балтика дышит. Свободно. Чисто. Слышишь? Как любимая женщина!
Сравнение не показалось мне удачным, но для Егорова в нем был, вероятно, какой-то смысл. Во всяком случае, судя по тому, как он оглядывал, чуть щурясь, туманное мелководье, по которому шли и шли к берегу длинные плоские волны, здесь он чувствовал себя свободно, спокойно. Дома. С его лица даже исчезла привычная насмешливость, которую ему придавала изломанная шрамом бровь.
Ну конечно же. Никакой он не подполковник. Капитан второго ранга. Кавторанг.
— Пошли, познакомлю тебя с ребятами, — кивнул он. — Они сегодня отдыхают.
— Зачем? — спросил я. — Я их и так знаю.
— Пусть и они с тобой познакомятся.
— Зачем? — повторил я.
— Ну как? Ты все-таки считаешься их начальником.
Я промолчал.
— Подчиненные должны знать своего начальника. Не так, что ли? — не без некоторого раздражения привел Егоров решающий аргумент.
У меня на этот счет были свои соображения, но я не стал спорить. Лишь попросил:
— Не нужно называть меня рейнджером.
— Неужели обиделся?
— Нет. Не хочу, чтобы меня расшифровали.
— По такой-то зацепочке? — удивился Егоров. — Это кто ж такой умный?
— Вы привыкли иметь дело с дураками? Какой же дурак, интересно, едва не раскроил вам череп?
Он машинально потер шрамик на брови и кивнул:
— Убедил. Как мне тебя звать?
— Сергеем.
— Договорились. Серега. Годится?
— Годится, кавторанг, — подтвердил я. Он нахмурился:
— А вот этого не надо. Не надо этого. Не спрашиваю, как ты это вычислил…
— Была зацепочка, — объяснил я.
— Какая?
— Маленькая.
— Какая? — повторил он.
— Вроде рейнджера.
— Ну и зануда ты, Серега!
— Зануда, Санек, — согласился я. — Потому до сих пор и жив.
— Санек, — повторил Егоров, будто пробуя слово на вкус. — Санек. Давно меня так не называли. Ладно, пусть будет Санек.
Он открыл дверь в пристройку.
— Пошли!..
Как я и думал, это был просторный спортивный зал. Но в отличие от школьного нашпигован он был всем, что только придумали люди для истязания собственной плоти. О назначении некоторых тренажеров я не смог даже догадаться. Зал был рассчитан человек на сорок, но работали в нем всего пятеро. Всех их я знал, это были ребята из охраны красного кандидата Антонюка. Народ серьезный, лет по тридцать и даже старше. Только один, маленький, барахтавшийся на татами с грузным спарринг-партнером, был помоложе, лет двадцати пяти. Двое таскали железо, третий лупил макивару. Работали, чувствовалось, в охотку. В зале стоял острый запах горячего мужского пота. Я и сам не отказался бы размяться после ходячей, сидячей и лежачей жизни, но Егоров привел меня сюда не для этого.
Он трижды хлопнул в ладоши, как тренер, требующий внимания. Ребята побросали свои дела и обернулись к нам.
— Все ко мне! — приказал Егоров. — Познакомьтесь со своим начальником.
Четверо пошли, одергивая кимоно и вытирая полотенцами потные лица и шеи. А маленький вдруг пару раз подпрыгнул на месте, как тугой баскетбольный мяч, и издал резкое, как крик чайки, «Йеа!».
— Миня! — прикрикнул Егоров, но маленький уже летел на меня, будто выпущенный из арбалета, мелькали руки-ноги во фляках, доли секунды оставались до момента, когда моя шея будет в захвате его ног и хрустнут вывернутые позвонки.
Коронный номер одного моего знакомого, бывшего лейтенанта спецназа Олега Мухина по кличке Муха.
Хорошая, конечно, вещь атмосфера офицерской казармы и особенно тренировочного лагеря, где тебя постоянно проверяют по форме 20. Но вблизи это не так уж и романтично, как кажется в воспоминаниях. Все-таки довольно утомительно все время быть в напряге. И не по делу, а так, традиции ради. Отвык я от этого. И не намерен был привыкать. Поэтому сделал перекат через спину, единственный способ уйти от захвата, а между делом слегка врезал Мине по яйцам. А когда он шмякнулся на пол, отскочив от шведской стенки, возле которой мы стояли, присел возле него на корточки, взял за плечо (есть там такая болевая точечка) и попросил:
— Не нужно больше так делать, Миня, ладно? Не будешь?
— С-сука! — промычал Миня.
— Не сука, а голубчик, — поправил я в традициях тех самых курсантских тренировочных лагерей. Может, конечно, не везде, но у нас это выражение было в ходу.
И поскольку Мине в этот момент было не до пионерских обещаний, вместо него ответил один из четверых, постарше:
— Не будет. Здравия желаем, начальник. Давно нам хотелось на тебя посмотреть.
Капитан-лейтенант Козлов, — представился он, пожимая мне руку.
— Отставить! — приказал Егоров. — Вы охранники из частного агентства, а не капитаны и лейтенанты!
— Понято. Тогда просто Гена.
— Здорово, Гена, — ответил я и представился в свою очередь:
— Серега.
Назвались и остальные: Костик, Толян, Борис. А с Миней я уже был знаком. И он со мной тоже.
— А где шестой? — спросил я.
— Какой шестой? — удивился Егоров.
— Смуглый, с приплюснутым носом, лет тридцати. Работал на дальних подходах.
Ребята с искренним, как показалось мне, недоумением переглянулись. Егоров покачал головой:
— Не врубаюсь, о ком ты. Это не наш. Нас здесь всего шестеро. Ребята и я.
Смуглый, говоришь?
— Да. Лет тридцати, с приплюснутым носом, — повторил я. — Не со сломанным, как у бывших боксеров, а просто слегка приплюснутым.
— Это кто-то не из наших, — повторил Егоров так убедительно, что я ему поверил бы, если бы не засек пару раз контакт этого смуглого с Егоровым. Контакт был быстрый и носил явно деловой характер. Я ожидал от Егорова простодушных предположений, не является ли этот таинственный шестой тем самым киллером, которого мы пытаемся вычислить, — и это было бы вполне естественно. Но Егоров, видно, так растерялся от неожиданности, что счел за благо перевести разговор на другую тему.
— А теперь послушаем, как оценивает вашу работу в охране специалист, — предложил он. — У него было время понаблюдать за вами со стороны.
Я пожал плечами:
— Какой из меня специалист! А насчет работы… Вы сами ее оценили.
— Кто? — не понял Гена.
— Ты, Гена.
— Когда это я ее оценил?
— Только что. Когда сказал, что вам давно хотелось на меня посмотреть. У вас была эта возможность. На двух митингах Антонюка и на четырех его встречах в залах. Усы я не наклеивал, в задних рядах не прятался. Так что, если бы я был киллером, вашего подопечного уже бы похоронили.
— А как бы ушел? — не без запальчивости спросил очухавшийся Миня.
— Это проблемы киллера, а не охраны.
Ребята переглянулись. Такой подход к теме был для них, судя по всему, неожиданным. Они, по-моему, даже расстроились. Я решил, что стоит их успокоить.
— Не берите в голову. Все в порядке, ребята. Меня Саша Егоров пас. И плотно. Он бы не дал мне выстрелить. Верно, Санек?
Они снова переглянулись, на этот раз с недоумением, и уставились на Егорова, ожидая, как он отреагирует на мою фамильярность.
— Все свободны, — хмуро объявил Егоров. — Отдыхайте. Завтра начнется запарка.
И они отправились отдыхать — к своему железу, татами и макиваре, а мы с Егоровым прошли в другой конец базы, спустились по лестнице в подвал какого-то склада или хозблока и оказались в подземном тире.
Тир был небольшой, всего с пятью постами и двадцатипятиметровой дистанцией, но оборудован качественно: с автоматикой для мишеней, стендом для пристрелки стволов, фирменными наушниками и всем остальным. И, судя по запаху, не простаивал без дела. Несмотря на вентиляцию, все же чувствовалась пороховая гарь. Причем не застарелая, а свежая, будто здесь всего час назад работали.
Волнующий запах, пробуждающий воспоминания. Запах из моего курсантского и офицерского прошлого.
Егоров ненадолго отлучился куда-то и вернулся с двумя небольшими свертками. В одном оказалась подмышечная пистолетная кобура, новенькая, из желтой свиной кожи, в другом — ТТ, знаменитый «тульский Токарева», в венгерском варианте «Токагипт-58» под 9-миллиметровый парабеллумовский патрон. «Тэтэшник» был б.у., но выглядел прилично, с невытертым рифлением на светло-коричневой пластмассовой рукоятке. Только маленькая царапинка на стволе.
— Твой, — сказал Егоров, выкладывая пистолет на дубовый барьер. — Проверь. Можешь пристрелять, если хочешь.
Я повертел ТТ в руках и положил на место.
— Имеешь что-нибудь против «тэтэшника»? — поинтересовался Егоров. — Дал бы «длинную девятку», да нету. Чем богаты.
Против ТТ я ничего не имел. Некоторые пренебрегали, предпочитали «Макарова». И зря. Надежная машинка. Простая и точная. Недаром — где-то я об этом читал — он был в чести в подразделениях американского OSS — Управления Стратегических Служб, предшественника ЦРУ. Он и нынче был популярен в определенных кругах. У братвы — потому что стоил недорого. И в спецслужбах узкого профиля (а бывают ли, интересно, спецслужбы широкого профиля?) — потому что за минувшие с его рождения десятилетия их столько наклепали, что выяснить происхождение ствола, даже зная номер, было практически невозможно.
Я поинтересовался:
— Зачем он мне?
— Даешь! — удивился Егоров. — Начальник охраны без пушки. Это как?
— Ходил же без пушки. И ничего.
— А теперь возможно «чего». Вот разрешение на ствол. А это — твоя официальная ксива. Как говаривали когда-то в здешних краях: аусвайс.
Он выложил на барьер тощую красную книжицу, вроде комсомольского билета, с золотым тиснением «КПРФ» на обложке и гербовую бумагу с печатями. Я просмотрел документы. Разрешение на ношение и хранение огнестрельного оружия было выдано московской милицией. Содержание книжицы гласило, что гр-н Пастухов С.С. является начальником охраны кандидата в губернаторы гр-на Антонюка Л.А.
— Я все еще начальник охраны Антонюка?
— А почему нет? — не понял Егоров. — Есть вопросы?
— Поднакопилось.
— Смогу — отвечу, — пообещал он. Я укрепил «тэтэшник» на стенде и отстрелял обойму. В хороших руках была пушка. Не знаю в чьих, но в хороших. Я перезарядил пистолет и спросил:
— А где глушитель?
— Ну, Серега! То вообще брать не хотел, теперь глушитель требуешь. Нет для него глушителя. И не было никогда. Зачем тебе?
— Мало ли.
— Мало ли что?
— Мало ли все. Знать бы.
— Ладно, пошли обедать. Потом поговорим.
Мы вышли из тира. Туман исчез. В насыщенных рассеянным светом облаках скользило неяркое солнце.
Сосны. Дюны. Бесконечные плоские волны, с легким шипением набегающие на песок.
Егоров с удовольствием огляделся:
— Балтика!..
* * *
— Давай свои вопросы.
— Чья это база?
— Проехали. Следующий.
— Зачем ты меня сюда привез?
— Не вопрос. Познакомить с ребятами.
— Зачем ты меня им засветил?
— Чтобы знали в лицо и не пристрелили в случае чего. Теперь ясно?
— Почему в охрану Антонюка набраны люди, которые понятия не имеют об этой работе?
— Они не хуже, чем охрана губернатора.
— Они лучше. Но это не ответ.
— Это мои люди. Ответ?
— Кто такой смуглый?
— Выбрось из головы. Тебе показалось.
— Зачем ты меня пасешь?
— Проехали.
— Зачем меня пасет этот смуглый?
— Про него я тебе уже все сказал.
— Какие сигареты ты куришь?
— Это имеет значение?
— Ни малейшего.
— Для чего же спросил?
— Чтобы получить ответ. Хоть один.
— Считаешь, не получил?
— Пока нет.
— «Кэмэл».
— Теперь получил. Один.
Егоров ткнул сигарету в пепельницу и внимательно на меня посмотрел. Как всегда, словно бы насмешливо — из-за излома брови. Но в этот раз насмешливость можно было не брать в расчет. Это была форма. А содержание его взгляда было другим. Я не сразу понял каким. Потом понял. Отсутствующим. Вот так он на меня и посмотрел — внимательно-отсутствующим взглядом. Как будто мысленно был где-то совсем в другом месте, и ему понадобилось некоторое время, чтобы вернуться в реальность, в которой за просторным, во всю стену, окном не в лад покачивались мачты «Драконов» и терся бортом о причальные сваи серый сторожевик.
Мы сидели в небольшом холле на втором этаже одного из санаторных блоков, в цоколе которого располагалась столовая. Правильней сказать — уютное, оформленное в прибалтийском стиле кафе. Только столы были длинные, каждый человек на десять.
И официанток не было. Каждый подходил к стойке, набирал что хотел, наливал борщ из фарфоровых супниц и располагался за столом. Скатерти, хорошая посуда, мельхиоровые приборы, эти супницы. Флотские дела. И бутылки без этикеток — с белым и красным сухим вином.
Обедали шумно, с завидным аппетитом, вполне естественным для молодых здоровых мужиков, от души поработавших в спортзале. На меня не то чтобы не обращали внимания, но словно бы предоставили самому себе. Хотя поглядывали с интересом.
Особенно Миня. С Егоровым тоже держались свободно, но с заметной уважительностью. Примерно как флотские офицеры держатся за обеденным столом с капитаном. Так что Егоров не соврал, когда сказал о них: «Мои люди». Только вот про этого смуглого он не мог бы сказать: «Один из них». За этим общим столом он был бы неуместен, как волк в веселой собачьей стае.
— У меня тоже есть пара вопросов, на которые ты не ответишь, — проговорил наконец Егоров. — Или рискнешь?
Я кивнул:
— Попробую.
— Зачем ты ходил на митинги губернатора?
— Интересовался его программой.
— Зачем?
— Чтобы оценить его шансы.
— Твоя забота — Антонюк, а не губернатор.
— Моя забота — киллер. Если его не вычислить, Антонюка не уберечь.
— Ты три раза уходил от хвоста.
— Четыре.
— Да? Мне доложили — три.
— Твои проблемы.
— С кем ты встречался?
— Ни с кем.
— Тогда зачем уходил?
— Проверить. Смогу ли уйти, если понадобится.
— Сможешь?
— От тебя смогу. От смуглого трудней. Но я постараюсь.
— Хвостов больше не будет.
— Да ну?
— Я тебе говорю.
— Зачем они были нужны?
— Страховка.
— А теперь спроси, какие сигареты я курю.
— Ты же не куришь.
— Правильно. Вот так бы я тебе и ответил. И в нашем разговоре это был бы не единственный честный ответ. По крайней мере, с моей стороны.
На лице Егорова вновь появилось его обычное насмешливое выражение. Он похлопал меня по колену:
— Расслабься, Серега. И давай о деле. Завтра первый тур выборов. Пятьдесят процентов плюс один голос не наберет никто. Это, думаю, ты уже понял. Второй тур — через две недели. Вот тут и разгорятся страсти.
— Какие страсти? — удивился я. — У Антонюка тридцать один процент. У губернатора двадцать один.
— Плохо считаешь, — возразил Егоров. — Во втором туре губернатор получит голоса «Яблока». Двадцать один и семнадцать. Тридцать восемь.
— А Антонюк — голоса жириновцев. Тридцать один плюс двенадцать. Сорок три.
— Во-первых, пять процентов разницы — мизер. Во-вторых, все эти рейтинги — фуфло. Их нужно принимать с большой поправкой. На все. Даже на погоду. Заштормит Балтика — на выборы вообще никто не придет.
— Избиратели Антонюка придут. Народ закаленный. И не забывай, что впереди — 7 ноября.
— Это неудачно совпало, — согласился Егоров. — Но все меры будут приняты. Погасят всю задолженность по пенсиям и зарплате. А это главное.
— А раньше нельзя было?
— Откуда мне знать? Что я — Минфин? В общем, за две недели много чего может случиться.
— Губернатор все равно не выиграет. Он не хочет выигрывать.
— Ты тоже заметил? Похоже на то.
— Что с ним могло стрястись?
— Не наши проблемы. У нас дело простое — засечь киллера.
— Очень простое, — подтвердил я. — Особенно, если его нет.
— Вот как? — переспросил Егоров. — Кто же убил Комарова?
Я покивал:
— Это интересный вопрос. Даже очень.
— Твои действия?
— Я обязан докладывать?
— Угорел я от тебя, Серега. Говорить с тобой — как вдоль кювета идти. Весь в репьях. Ничего ты не обязан. Это я обязан тебя прикрывать. И быть у тебя на подхвате. Что я и делаю. Держи. Ключи от «пассата». А это техпаспорт и доверенность.
— Зачем мне машина?
— Блядей катать. Антонюк будет в области выступать — на автобусе за ним ездить? И еще. Зайди к нему. Он уже несколько раз спрашивал, где его начальник охраны.
Тут уж я не выдержал:
— А по телевизору мне не нужно выступить? Чтобы меня каждая собака в городе знала?
— Твои дела. Не хочешь — не ходи. Но согласись: выглядит странновато, что Антонюк с тобой не знаком. Не находишь?
— Ему не нужна охрана.
— Не умничай. Тебе не за то заплатили. Если с Антонюком что-нибудь случится, счет тебе будет выставлен по полной программе. Сам знаешь, как расторгаются такие контракты.
— Догадываюсь. Хотя в моей практике таких случаев не было.
— Таких случаев много и не бывает. Первый — он же последний. У меня все. У тебя ко мне?
— У меня к тебе и не было ничего.
— Возвращайся в город. Связь через Гену. Больше мы с тобой не встретимся. По крайней мере, до конца операции.
— Я буду по тебе скучать.
— Поди-ка ты — знаешь куда?
— Уже в пути.
Поговорили, в общем. Да, жизнь быстротечна, но воспоминания сохраняют нам молодость. Как там еще? А, вот как: мертвые остаются молодыми.
…На следующий день, в воскресенье вечером, телеведущий Эдуард Чемоданов объявил предварительные результаты выборов. В них приняло участие более 60 процентов избирателей, имеющих право голоса. Следовательно, выборы можно было считать состоявшимися.
Приглашенный Эдуардом Чемодановым в прямой эфир председатель областной избирательной комиссии ознакомил уважаемых телезрителей с последними данными, поступившими с участков, предупредив, что цифры эти не окончательные, но — как показывает практика — достаточно точно отражающие расстановку сил.
Кандидату от ЛДПР отдали свои голоса 12 процентов жителей города и области, принявших участие в выборах. Опять при своих. «Яблоко» набрало 14,7 процента.
Кандидат движения «Наш дом — Россия», губернатор области Хомутов, получил 20,6 процента, а кандидат от КПРФ Антонюк ровно на 10 процентов больше — 30,6.
Несложный подсчет показывал, что если «Яблоко» отдаст свои голоса НДР, а соколы Жириновского перепорхнут на жердочку КПРФ, то отрыв Антонюка от Хомутова составит 7,3 процента.
Хватит их ему для победы? Не факт. Особенно, если спешно подбросят бабок на погашение долгов по пенсиям и зарплате.
Да, не факт. Что из этого вытекало? Только одно: пришла мне пора распрощаться с ролью стороннего наблюдателя.
III
Офис Фонда социального развития, президентом которого был руководитель областной организации КПРФ и кандидат в губернаторы Лев Анатольевич Антонюк, располагался в здании бывшего Дома политического просвещения — объемистой стекляшке, какие мне приходилось видеть везде, где случалось бывать. Даже в Грозном. Там, правда, от нее остались только осколки и покореженный фугасами каркас. Но в городе К. Дом политпросвета был пока цел. Один этаж занимал фонд Антонюка, на других гнездились разнообразные АО, ТОО, «лимитеды» и «интернейшнлы», а внизу сверкала золотом на черном Лабрадоре вывеска банка «Народный кредит» и кучковались охранники в черных костюмах и при галстуках, разводя ля-ля-тополя с голенастыми младшими менеджерами.
Так что, если бы я был киллером, я не стал бы доставать «красного кандидата» Антонюка на его рабочем месте. Хлопотно, наскочит случайно какой-нибудь младший менеджер, визгу не оберешься. Я бы поинтересовался, где он живет.
Я и поинтересовался.
Он жил в старой части города, на пятом этаже семиэтажного дома послевоенной постройки, реконструированного, как мне рассказали, в начале 80-х годов и приведенного в соответствие со скромными требованиями, которые предъявляли к своему жилью ответственные партийные и советские руководители, нуждавшиеся после трудов в спокойном отдыхе. Расположение дома на краю старинного дубового парка как нельзя лучше отвечало этому условию. Дом был длинный, вместительный, на шесть подъездов. Из чего можно было сделать вывод, что партийно-хозяйственное руководство областью требовало немалого количества номенклатурных специалистов.
Немалого, но, видно, все-таки недостаточного. Потому что со временем для ответработников были построены новые дома повышенной комфортности, но этот по старой памяти так и называли обкомовским. В нем жили люди, карьеры которых достигли пика как раз к моменту распределения здесь квартир, а выше не двинулись, потеряли энергию, как артиллерийский снаряд на излете. Так что они испытывали, должно быть, чувство неполноценности, вспоминая о временах, когда в подъездах круглосуточно дежурили милиционеры, а к площадке перед домом подкатывали черные «Волги» и неразговорчивые водители разносили по квартирам увесистые пакеты с продовольственными заказами.
И только новые времена вернули им ощущение собственной значимости. Что ни говори, а дом был основательный, в прекрасном месте, с видом на дубовые и липовые аллеи. Сюда потянулись удачливые бизнесмены, на площадке перед домом засверкали шикарные «мерседесы» и 940-е «вольвешники». Милиции в подъездах не появилось, но замаячили амбалы-телохранители, сопровождавшие новых хозяев жизни.
«Фольксваген-пассат», выделенный в мое распоряжение Егоровым, был не последней модели, но выглядел вполне достойно. Я оставил его возле глухого торца дома, рядом с лестницей под жестяным козырьком, ведущей в подвал, а сам прошел в первый подъезд, поднялся на лифте на пятый этаж и несколько раз позвонил в одну из двух квартир, выходивших на лестничную площадку.
Как я и ожидал, на звонок никто не ответил. Жена Антонюка и их взрослая дочь с грудным ребенком жили на взморье на капитальной зимней даче, он уезжал туда на субботу и воскресенье, а в будни ночевал в городской квартире. И иногда, между нами, девушками, не один, а с симпатичной рыженькой молодой женщиной, учительницей соседней школы. Не знаю, чему она учила школьников, а вот курсантов милицейских школ вполне могла бы кое-чему научить. Больно уж ловко и незаметно, лисичкой, умудрялась она юркать в квартиру Антонюка и исчезать из нее. У нее были свои ключи, а у меня нет, но замки оказались из тех, про которые один мой знакомый, бывший старший лейтенант спецназа Дмитрий Хохлов, по кличке Боцман, уважительно отзывается: «Говна пирога».
Я вошел в квартиру и аккуратно запер за собой дверь. Прислушался. Квартира была живая, дышала спокойствием и уютом, но никого в ней не было. На всякий случай я обошел, подсвечивая себе узким лучом фонарика, все четыре комнаты, образовавшиеся от соединения двух соседних квартир, заглянул на кухню, которую правильней было бы назвать столовой. Так и есть, никого. По-видимому, Антонюк на финальном отрезке предвыборной гонки решил не рисковать своей репутацией примерного семьянина.
Вернувшись в просторную прихожую, я ощупал карманы одежды, висевшей в стенном шкафу, потом проверил трюмо. И не зря. В верхней ящике лежал здоровенный газовый револьвер типа кольт. Я разрядил его и вернул на место. После чего прошел в гостиную, уселся в кресло, развернув его в сторону прихожей, и принялся ждать.
Антонюк должен был вернуться домой около восьми вечера. Он всегда возвращался примерно в это время, когда у него не было предвыборных мероприятий. Так и оказалось. Не успели напольные часы в гостиной отбить последний удар, как послышался гул лифта и лязганье металлической двери. Я приник к глазку. Из лифта вышел Антонюк, за ним было двинулись Гена и Миня из команды Егорова, но Антонюк остановил их небрежным жестом:
— Все в порядке, друзья мои. Спасибо. До завтра.
Снова хлопнула дверь, кабина покатилась вниз.
Ну, твою мать, охрана!
Я вернулся в кресло. Антонюк разделся в прихожей, вошел в гостиную и щелкнул выключателем.
И увидел меня.
Если бы он был сердечником, я бы, конечно, не пошел на этот эксперимент. Но он не производил впечатления нездорового человека. Напротив, оставлял впечатление вполне здорового. Крепенький, белобрысый, лысоватый, с летним загаром.
Килограммов десять лишнего веса было, конечно, но тут уж, видно, ничего не поделаешь. Презентации, приемы. Положение обязывает. Но по утрам бегал трусцой по парку среди прекрасных старых дубов по засыпанным золотыми листьями аллеям — показывали в каком-то предвыборном рекламном ролике. Так что насчет его сердца я мог не беспокоиться.
Я и не беспокоился.
— Кто вы такой? Что вы тут делаете?
Я намерен был ответить на эти вопросы, но не сейчас.
Поэтому лишь молча пожал плечами. Он быстро сунул руку в карман.
Я укоризненно покачал головой.
— Никогда так не делайте. Не суйте руку в карман. Тем более — быстро. Я-то знаю, что в кармане у вас нет оружия, а другой может не знать. И это плохо кончится.
— А вы-то откуда знаете? — спросил Антонюк, несколько обескураженный моим назидательным тоном.
— Понятия не имею. Знаю, и все. От человека с оружием исходит другое излучение. Если вы понимаете, о чем я говорю. Другой тон. Запах. Цвет. Ну, не знаю. Но что-то исходит. От вас не исходит.
— Ладно, я больше не буду быстро совать руку в карман.
— Прекрасно, — одобрил я. — Один полезный урок из нашего общения вы уже извлекли. Еще бы парочку, и все было бы в полном порядке.
Антонюк был не робкого десятка, нужно отдать ему должное. Он довольно быстро освоился и резко спросил:
— Что это значит?
А вот к ответу на этот вопрос я был вполне готов.
Я нацелил в него указательный палец и сказал:
— Это значит, что вы убиты.
Он отступил в прихожую.
— Не нужно. Лев Анатольевич. Поздно. — Я бросил на пол патроны от его газовика.
Они весело заскакали по буковому паркету. Он посмотрел на них и перевел взгляд на меня:
— Убит, значит? Очень интересно. Позвольте полюбопытствовать — из чего? Из вашего пальца?
Ничего не скажешь, крепкий мужик. Он даже начал мне нравиться. Не каждый сможет взять себя в руки в такой ситуации. Но отпускать ему комплименты не входило в мою задачу. В мою задачу входило совсем другое. Поэтому я извлек из подмышечной кобуры «тэтэшник» и передернул затвор, досылая патрон в казенник. Причем не спеша, с чувством, с толком, с расстановкой. Давая ему возможность оценить тусклый блеск вороненой стали, упругое клацанье ухоженного и хорошо смазанного механизма, мое любовное и умелое с ним обращение. После чего встал и приставил ствол к его лбу.
Тут вот он Побледнел. Побледнеешь. Я бы и сам побледнел.
— Вот из чего, — объяснил я, хотя никаких объяснений не требовалось. — Один выстрел в лоб. Потом, когда вы упадете, еще один выстрел в голову. У нас, профессионалов, он называется прощальным. Иногда говорят — контрольным. Но я предпочитаю говорить «прощальным». По-моему, это гораздо правильней. — Я сел и поинтересовался, поигрывая «тэтэшником»:
— У вас еще есть вопросы?
— Выстрелы услышат. Вы не успеете уйти.
Да что они, сговорились?
— Это мои проблемы, а не ваши, — терпеливо объяснил я то, что совсем недавно объяснял Мине. — Ваши проблемы закончились. Все. И личные. И общественные. Все. Понимаете?
— Чего вы от меня хотите? — спросил он.
— Попробуйте угадать. Это не очень трудно. Но требует другого взгляда на ситуацию.
— У меня нет ни денег, ни ценностей.
— Да ладно вам прибедняться! Как говорил в таких случаях один мой знакомый по кличке Артист: «Не верю».
— Это говорил не ваш знакомый бандит, а Константин Сергеевич Станиславский! Если вам что-нибудь напоминает это имя! — довольно нервно поправил меня Антонюк.
— Серьезно? Надо же. Вот засранец. А выдавал эти слова за свои. Буду знать. Только он не бандит, он и в самом деле артист. С незаконченным театральным образованием. И мечтает сыграть Гамлета. Но вряд ли когда-нибудь сыграет. Знаете, почему? Для него не существует вопроса: «Быть или не быть?» Он сначала стреляет, а потом начинает над этим раздумывать. Но недолго раздумывает. Нет, недолго.
Антонюк вынул из внутреннего кармана пиджака пачку баксов в банковской упаковке и бросил мне на колени.
— Пять тысяч. Берите и уходите.
— А говорили, что у вас денег нет. Или это для вас не деньги?
Он вытащил еще пачку.
— Десять. Забирайте и проваливайте. И забудьте обо мне.
— Не могу, — честно признался я. — Я обязан все время о вас помнить. За это мне заплатили. И гораздо больше.
— Пятьдесят! Вы получите пятьдесят тысяч долларов!
— Столько мне и заплатили.
— Значит, договорились?
— А мои обязательства? Исполнение договора в натуре. Так вроде пишут нынче в контрактах? Неустойка. Упущенная выгода. Да со мной ведь и контракт-то заключили не коммерческий. А такой, за неисполнение которого отвечают вовсе не бабками.
— А чем?
— Жизнью.
— Моей?
— Моей, Лев Анатольевич. Как, по-вашему, мне это надо?
Он помедлил и хмуро кивнул.
— Пойдемте!
И направился в кухню.
Я бросил баксы на стол и пошел следом. Антонюк вытащил из морозилки пластмассовый кювет с заиндевевшей клубникой, извлек из-под нее увесистый пакет в плотной обертке. Не говоря ни слова, перенес пакет в гостиную и положил на стол.
— Сто. Здесь ровно сто тысяч баксов. Этого, надеюсь, хватит?
— Ни хрена себе! — удивился я. — Они у вас что, скоропортящиеся?
— Больше у меня нет. Ни копейки. Остальное — в деле, в акциях.
— В каких?
— Какое ваше собачье дело? В акциях порта, верфи. Для вас может быть важно только одно: они неликвидны. Я не могу вынуть их и положить на стол! И уберите, наконец, свою пушку! Или хотя бы поставьте на предохранитель!
— Вы так хорошо разбираетесь в оружии? — удивился я. — Не ожидал. Вы правы. Это венгерский вариант ТТ. Он действительно с предохранителем. У обычных «тэтэшников» нет предохранителя. Не раз пытались приделать. Как правило, неудачно. Например, в китайской девятимиллиметровой модели «213». Потом научились. У венгров хорошо получилось. Китайцы в конце концов тоже справились. У их «ТУ-90» вполне нормальный предохранитель. Почему убили Комарова?
— Откуда я, черт возьми, знаю?! Не в свое дело сунулся!
— В какое дело мог сунуться безобидный историк?
— История, мой молодой друг, не такая уж безобидная штука! Вы пришли рассказывать мне об оружии? Или слушать мою лекцию об истории?
— С интересом послушал бы.
— Хватит болтать! Берите доллары и исчезайте. Можете не проверять — банковская упаковка. Больше вы ничего не выжмете из меня, даже если разрежете на куски. Обещаю, что о нашей встрече никто не узнает.
— Как же вы объясните исчезновение ста штук?
— Мне не нужно никому ничего объяснять. Это черный нал. Избирательный фонд.
— Надо же! Не из дешевых, оказывается, удовольствие!
— Вы и понятия не имеете, насколько не из дешевых! Знаете, сколько стоит минута эфира? А ролик?
— Нет. Сколько?
— А митинг? За один предмет требуют уже по двадцать баксов!
— За какой предмет? — не понял я.
— За любой! Знамя, лозунг, плакат.
— Сделать?
— Поносить! Просто в руках подержать! Каких-нибудь два часа! Совсем обнаглели!
Умело он затягивал разговор. Не пережимая. Не выходя из роли. Хорошо на меня реагируя. Опытный политик, если искусство политика заключается в умении быстро сориентироваться и выбрать верную тактику поведения. Должно быть, именно в этом оно и заключается. А в чем еще?
— Интересно с вами разговаривать, — сказал я. — Но времени больше нет. Минуты через три здесь будет СОБР. Или ОМОН. Они и так что-то задерживаются. А в другой раз. Лев Анатольевич, вы все-таки так не делайте. Бабки, конечно, большие, но жизнь дороже. Вы согласны со мной?
— Чего я не должен делать? — хмуро спросил он.
— То, что сделали, когда сунули руку в карман. Давать сигнал тревоги. Если за вами гонятся, сели на хвост вашей машине, лупят по колесам из «АКМов» — тогда да. А уж попали в такой расклад, лучше не дергаться. Представьте: ворвутся, пальба. Киллер вас не прикончит, так собровцы могут зацепить. Что там у вас в кармане? Фишка? Брелок? Покажите.
Он показал. Брелок. Новейшая разработка «Америкэн ВИП секьюрити». Сигнал поступает на милицейский пульт, компьютер выдает координаты объекта с точностью до метра. Для отлова угнанных машин подобная система уже довольно давно действует. А для особо важных персон только вводится. У нас, по крайней мере.
Сообразили наконец, что машина не дороже жизни. И до города К., выходит, дошло.
А что — богатых людей на душу населения здесь не меньше, чем в Москве. Или даже больше: граница, порт, импорт-экспорт, лимитед-интернейшнл.
Я посмотрел на часы.
— Даже странно. Где они застряли? Заправиться, не иначе, заехали.
В этот момент из-за окна донесся приглушенный стеклами вой милицейских сирен. Я выглянул. С шоссе к обкомовскому дому сворачивали две «Волги» с мигалками.
В густом тумане, среди дубов.
Фары, мигалки, сирены. Эффектное зрелище.
— Этот-то фейерверк зачем? — вырвалось у меня. — Можете мне объяснить?
— Нет, — ответил Антонюк. — А как нужно?
— Точно так же, только втихую. И без заезда на заправку. А где оцепление? В двух «Волгах» — максимум восемь оперативников. Если большое начальство не увязалось. А чтобы такой дом оцепить, нужен взвод!
— Я смотрю, вы в этих делах хорошо разбираетесь, — заметил Антонюк.
— В этих делах я разбираюсь на уровне учебного спецкурса. Но по сравнению с вашими ментами я, судя по всему, академик. Пойдемте, Лев Анатольевич.
— Вы не берете деньги?
— Нет.
Тут он снова побледнел.
— Быстрей! — поторопил я и показал стволом «тэтэшника» на выход.
— Куда мы? Куда вы меня?
— Вы спросили, как я уйду после того, как вас прикончу. Сейчас покажу.
Внизу уже захлопали двери. Я вызвал лифт, втолкнул в кабину Антонюка и нажал кнопку верхнего, седьмого этажа. Они, конечно, ринутся по лестнице на своих двоих, но этажи в этом доме были высокие, не «хрущоба». Пять этажей — две с половиной минуты даже в хорошем темпе. Да еще застрянут у квартиры. Пока вышибут дверь, пока то да се. Можно было даже особенно не спешить. Но и зря время терять тоже было не резон.
С верхней площадки мы поднялись на чердачный полуэтаж, загодя подобранным ключом я открыл врезной замок обитой оцинкованным железом двери, запер ее за собой и провел Антонюка в дальний конец чердака, подсвечивая ему под ноги и вверх, чтобы он не саданулся головой о балку. Здесь все повторилось в обратном порядке. Мы спустились на лифте в цокольный этаж, из двери в дверь вошли в бойлерную, пересекли мастерскую сантехников, которая даже в темноте дала о себе знать мощным пиво-водочным перегарным дыхом, и через три минуты вышли на улицу из торцевой двери — как раз к моему «пассату». Перед тем как вывести Антонюка из подвала, я высунулся и внимательно огляделся. Тихо. Лишь какой-то прохожий приостановился в стороне, закуривая. Но он не сделал никаких попыток вмешаться в происходящее, чем и избавил меня от лишних телодвижений. Ничего похожего на оцепление. Ну, подарки. — Вот так бы я и ушел, — сказал я Антонюку, залезая в машину и заводя движок. И добавил:
— Вы бы поспешили домой. А то дверь взломают, а на столе баксы свежемороженые. Мало ли!
Он воспользовался моим советом с такой поспешностью, что едва ли успел заметить номер «пассата», хотя я предусмотрительно включил габариты. Ну, тачку-то он сможет описать, не «жигуль».
IV
А теперь мне следовало поторопиться. У меня было минут двадцать, пока они сориентируются и введут план «Перехват». Без всяких помех я вырулил на шоссе и двинулся в сторону автовокзала. И только минут через пять навстречу мне, вереща сиреной и озаряя туман мигалкой, продребезжал милицейский «рафик». Вот оно, оцепление. Очередь, наверное, была на заправке.
На автовокзале я открыл ячейку в автоматической камере хранения и загрузил в нее полиэтиленовый пакет с «тэтэшником» и кобурой. А разрешение на ствол, поразмыслив, сунул в багажник «пассата» за обивку. Разрешение было по всей форме, с подписями и печатями, номер ствола даже в цифирке не перепутали, так что беспокоиться вроде было не о чем. Но я резонно рассудил, что, пока менты разберутся, что к чему, я могу поиметь серьезные неприятности. Ни к чему мне были лишние неприятности. Вполне хватало и тех, что есть.
После автовокзала я уже никуда не спешил, да и спешить в тумане было чревато.
Навстречу мне пролетела пара гаишных «Жигулей», на моей стороне трясли какой-то «опелек», но на «пассат» пока никто не обращал внимания. Антонюк, видно, все-таки не запомнил номер или не слишком разбирался в иномарках, чтобы точно назвать модель. Допрут, конечно, но когда это будет?
В гостиницу возвращаться мне было не с руки. «Собры» там такой тарарам поднимут, что потом все на меня пальцем будут показывать. Да и есть хотелось, целый день на ногах. Поэтому я оставил тачку на стоянке возле замковой башни с курантами и вошел в «Берлогу». Здесь я уже пару раз бывал, заходил перекусить и поглядеть, что к чему, так что не удивился предложению, которое сделал вежливый молодой человек в раздевалке, принимая у меня плащ:
— Если у вас есть оружие, советую сдать. Оно полежит в сейфе, а потом вы его заберете. Поверьте, это в ваших интересах.
— Охотно верю, — ответил я.
— Мое дело — предупредить. Seid herzlich will kommen! Добро пожаловать в настоящую прусскую Bierstube! Сто сортов настоящего немецкого пива!
Сервис, бляха-Fliege.
Настоящее немецкое пиво меня не интересовало, но колбаски по-бранденбургски здесь были неплохие. Их я и заказал и в ожидании принялся ненавязчиво осматриваться в надежде заметить что-нибудь такое, не знаю что (чем я, собственно, и занимался с первого дня пребывания в городе К.). Но ничего не заметил. Все кругом были свои, знакомые между собой, как бывают знакомы люди в небольшом, в общем-то, городе. Никаких таинственных чужаков не просматривалось.
Ну, может быть, кроме меня. Да еще крепкие пареньки, отдыхавшие в углу обшитого темным дубом зала, явно, по-моему, не последовали совету вежливого гардеробщика сдать на временное хранение свои стволы. Но это были не мои проблемы. Может, они чувствовали себя без них не совсем одетыми? Всякое бывает.
Да что ж они, суки, не едут? Сколько мне еще ждать?
Ладно, еще чашку кофе. Нет, пива не надо, я за рулем. Ну и что, что они тоже за рулем? Я за другим рулем. И получите сразу. Не сбегу, но может так случиться, что очень быстро уйду. Сколько-сколько?! Я тут что, свадьбу заказывал? А, обычные немецкие цены. Тогда другое дело. Ладно, сдачи не надо. И вам филь данке.
Эта настоящая прусская пивная задумывалась явно с реваншистскими целями. Попытка коварных немцев перекроить в свою пользу границы послевоенной Европы. Оттягали у россиян сто квадратных метров родины с помощью обычных немецких цен и обрадовались. Рано радовались, господа ползучие реваншисты. Когда речь идет о хорошем пиве и возможности без пальбы и мордобития оттянуться… Из холла в зал ворвались человек пять омоновцев в «ночках» и с десантными «калашами» под предводительством милицейского капитана с открытым забралом и ПМ в руке.
— Всем оставаться на местах! — приказал капитан. — Проверка документов!
Наконец-то.
По-моему, ребятишки в углу почувствовали себя неуютно.
Но на этот раз им ничего не грозило.
— Чей автомобиль марки «фольксваген-пассат» номер такой-то? — вопросил капитан.
Я поднял руку, как школьник, и сказал:
— Мой.
И уже через пару секунд лежал на дубовой столешнице с заломленными за спину руками. Мордой в кофе. Правым ухом, точнее. А лик мой оказался обращенным в сторону углового стола, так что я имел возможность видеть ошарашенные физиономии местных братков. Один из них изумленно сказал:
— Ну, облом! За говенный «пассат», а? Не, ты вникни! А если в у него был «мерин» или «чероки»?
Браслетки. Шмон с головы до ног. Прямо скажу, не слишком деликатный. Потом меня рванули вверх, в прорезях «ночки» я увидел чьи-то бешеные глаза, хриплый голос спросил:
— Где пушка?
— Не понимаю, о чем вы, — вежливо ответил я и тут же схлопотал по левой скуле автоматной ложей. Наотмашь. От всей души. Была когда-то такая передача на ЦТ.
Так можно и челюсть сломать. Ну ладно хоть плашмя, а не торцом. И на том спасибо.
— Где пушка, сука? — повторила «ночка», дыша мне в лицо смесью водки, табака и жвачки «стиморол», слегка профильтрованной черной шерстяной тканью.
— Снял бы «ночку»-то, жарко, — посочувствовал я ему и понял, что сейчас еще раз схлопочу. И, возможно, уже торцом приклада. Но тут вмешался капитан:
— Погоди, лейтенант. Может, не он?
— Чего годить, чего годить?! Тачка его, номер тот, мужик у дома твердо сказал! И по приметам он! Где пушка, пидор?!
— Отставить! — приказал капитан. — В машину! В горотделе разберемся!
Меня сняли со стола и почти понесли к выходу. Гардеробщик вежливо остановил процессию:
— Момент, господа! Ваш плащ.
Он набросил на меня плащ и мягко укорил:
— Я же вас предупреждал! — И, подумав, добавил:
— Приходите к нам снова.
Омоновцы загоготали:
— Ага! Придет! Лет через десять!
В отделении меня сначала сунули в обезьянник, выкинув оттуда пару бомжей. Но не успел я как следует ощупать языком распухающие щеку и губу и порадоваться, что хоть зубы целы, снова выдернули и привели в кабинет, где я увидел давешнего капитана, пожилого милицейского майора и красного кандидата Льва Анатольевича Антонюка. Майор сидел за письменным столом, перед ним лежал бумажник с моими документами.
Капитан жестом показал Антонюку на меня:
— Он?
Антонюк подтвердил:
— Он. — И поинтересовался у меня:
— Ну что? Доигрался, красавец?
— Так… Пастухов… Женат, дочь… Прописан в деревне Затопино Зарайского района Московской области… Судимостей, судя по отметкам в паспорте, не имел. Ну, это надо проверить.
Майор еще полистал мой паспорт и бросил его на стол.
— Пастухов? — переспросил Антонюк. — Почему-то мне знакома эта фамилия.
— Ничего удивительного, — ответил майор. — Не Иванов, но и не Вайсмахер. Давай, Пастухов, сразу к делу. Где оружие, которым ты угрожал гражданину Антонюку?
«Ночка» снова дохнула мне в ухо сложным парфюмом.
— Колись, падла! Сразу колись, а то хуже будет!
Майор недовольно поморщился:
— Отставить, лейтенант. И снимите с задержанного наручники.
— Стоит ли, товарищ майор? А вдруг он какое-нибудь кун-фу? Возись потом.
— Выполняйте.
Браслетки слетели с моих запястий, первым делом я потрогал щеку и покачал зубы.
Вроде бы не шатались.
— Свободны, — кивнул майор. Омоновцы вышли, брякая автоматами.
— Садись, Пастухов. Еще раз спрашиваю: где пистолет, которым ты угрожал господину Антонюку?
— Я не угрожал господину Антонюку пистолетом. Подтвердите, Лев Анатольевич.
— Вот как? — искренне удивился он. — А что же вы делали?
— Вы спросили, из чего я мог бы вас застрелить. Я показал. Разве не так?
— Не валяй дурака, Пастухов, — посоветовал майор. — Мы здесь и не таких видели.
— Послушайте, господин майор. Я понимаю, ребята были в запарке, горячее дело и все такое. Но, может, кто-нибудь все-таки обыщет меня как следует?
Для убедительности я встал и расставил в стороны руки.
— Обыщи, — кивнул майор капитану. Тот ощупал меня со всех боков.
— Чисто. Чего искать-то?
— В джинсах. В правом заднем кармане, — подсказал я.
Капитан послушно склонился к моей заднице. Из-под его кителя выглянула кобура с ручкой табельного ПМ.
Я балдею от этих ребят. Бери «макарку» и клади всех на пол. Или мочи. И никакого кун-фу не надо. А ведь предупреждал их лейтенант в «ночке»! Было у меня искушение показать им, что к оперативникам, которые работают на земле в гуще народных масс, стоит прислушиваться. Но я сдержался. Могут не правильно понять.
Да и не мое это дело воспитывать командный милицейский состав.
Капитан извлек из тесного кармана моих джинсов книжицу с тиснением «КПРФ» на обложке и раскрыл ее. После чего впал в некоторую задумчивость.
— Что там такое? — нетерпеливо спросил майор. Капитан положил перед ним удостоверение.
Майор внимательно ознакомился с содержанием и тоже впал в задумчивость.
— Ничего не понимаю! — признался наконец он и показал книжицу Антонюку. — Здесь сказано, что он начальник вашей охраны. Вы что-нибудь понимаете? Это ваша подпись?
— Моя, — подтвердил Антонюк. — Да, моя. Пастухов. Вот почему эта фамилия у меня на слуху! Ну, конечно же! Так-так. Значит, вы и есть начальник моей охраны? А мне рекомендовали вас как серьезного и ответственного профессионала. Да, вы профессионал, это я понял. Но в том ли вы профессионал, в чем надо? Что означал весь этот спектакль?
— Если это был спектакль, — вставил майор тоном, не предвещающим мне ничего хорошего. Я лишь пожал плечами.
— Мне передали, чтобы я к вам зашел. Я и зашел.
— Таким образом?! — взвился Антонюк. — Да вы что, издеваетесь надо мной?!
— Над нами! — снова вмешался майор.
— Успокойтесь, Лев Анатольевич. Я отвечаю за вашу безопасность. И намерен ее обеспечить. Я должен был проверить систему вашей охраны. Что она ничего не стоит, я убедился. И хотел, чтобы убедились вы.
Антонюк едва не подпрыгнул.
— А просто сказать? Да! Просто! Языком! Как люди общаются тысячи лет! И будут общаться всегда! Потому что другого средства общения не придумали! И никогда не придумают! Его нет! Просто нет! Понимаете? Нет!
Я понимал другое — что из него со свистом выходит пар. Но все-таки решил, что нужно его поправить:
— Почему нет? Есть.
Антонюк уставился на меня, как прапор на вдруг заговорившего салабона.
— Да? Есть? Сделайте одолжение, просветите.
— Музыка, например. Ведь что такое музыка? Это внеречевое средство общения.
— Это вы сами придумали?
— Да ну! Жена рассказала. Она музыковед, кончила «Гнесинку». Есть и другие внеязыковые средства общения. Живопись. Балет.
— Балет? Понимаю. И вы мне станцевали про то, какая у меня система охраны. А воспользоваться традиционным средством общения, обыкновенным русским языком, не могли. Слишком просто, да?
— Мог. Но мне было нужно, чтобы вы не узнали это, а прочувствовали. На собственной шкуре, извините за резкость. Надеюсь, мне это удалось.
— Да, черт возьми, удалось. Ничего не могу сказать, удалось. А если, быть совершенно откровенным, вы напугали меня до смерти!
Я удовлетворенно кивнул:
— Это и было моей задачей.
Капитан смотрел на меня, как на иллюзиониста Копперфильда.
— Ну, москвич! — пробормотал он.
Но майор был настроен совсем не миролюбиво.
— У вас есть претензии к задержанному Пастухову? — обратился он к Антонюку.
— Как ни парадоксально, но…
— Если можно — простым русским языком, — попросил майор. — Без музыки и балета. И без живописи. Да или нет?
— Нет, — сказал Антонюк.
— А у меня есть! — взревел майор. Теперь и из него начал выходить пар. — Весь город поставить на уши, это как? Это двести шестая, часть вторая! Злостное хулиганство! От одного до пяти лет! Понял?
— Так точно, господин майор.
— Гражданин майор!
— Слушаюсь, гражданин майор!
— Ладно, не будем усугублять. Но пятнадцать суток ты, парень, получишь! Умник, тра-та-так-перетак, тра-та… И считай, что дешево отделался! — примерно через полминуты закончил он. — Есть вопросы?
— Есть. Ваша опергруппа прибыла на место через двадцать четыре минуты после вызова. А оцепление вообще минут через сорок. А это как?
— Вам, москвичам, хорошо рассуждать! — возмутился капитан. — Вам Лужков новые «форды» покупает! А мы на чем ездим — видел? Скоро на рейсовые автобусы пересядем!
— Сколько у вас абонентов в системе охраны ВИП? — поинтересовался я. — Человек сто?
— Больше, — уточнил капитан.
— Вот и пусть скинутся на пару полицейских «фордов» и микроавтобус. Для себя же.
— Они скинутся! — проговорил майор.
— Прекрасная мысль, — вмешался Антонюк. — И своевременная. Мой фонд поддержит. Проведем работу. Помогая милиции, помогаешь себе. Очень хороший лозунг. Короткий и понятный. Считайте, майор, что у вас есть эти машины.
— А у вас — голоса благодарной милиции, — подсказал я.
— Мы не покупаем голоса избирателей. Мы призываем голосовать за нас своими делами.
— Ладно, — снизошел майор. — Пусть не пятнадцать. Но пять суток ты у меня отсидишь! Оформи, капитан.
— Вы оставляете меня без охраны, — возразил Антонюк.
— У вас целая толпа охранников.
— Пастухов показал, чего они стоят.
— А мне какое дело? Это не наши люди. За них я не отвечаю.
— Значит, вам до этого нет никакого дела? — переспросил Антонюк. — Вы отдаете себе отчет в том, что сказали?
— Но вы и меня поймите! Как я объясню губернатору это ЧП? Оно уже в сводке! А если есть хулиганство — должен быть и хулиган. И к нему должны быть приняты меры!
— Какому губернатору? — негромко поинтересовался Антонюк. — Губернатору, который пальцем не шевельнул, чтобы помочь милиции? Который за четыре года не сделал для города ничего?
— Не мое дело оценивать губернаторов, — огрызнулся майор. — Станете вы — буду подчиняться вам. А пока я подчиняюсь ему.
На принцип пошло. Дело серьезное. Я решил, что стоит майору помочь. Помогая милиции, помогаешь себе.
— Оформите ЧП как учебную тревогу. Проверка боеготовности личного состава в условиях, близких к реальным.
— И не забудьте отметить, что эта самая боеготовность оказалась нулевой, — язвительно добавил Антонюк.
— Почему? — возразил я. — Вы живы. Преступник задержан. Опыт учебной тревоги будет всесторонне проанализирован и сделаны выводы.
— Понял, как в Москве работают? — обратился майор к капитану и снова повернулся ко мне. — Тогда хоть объясни нам, на кой черт ты всю эту петрушку затеял?
— Хотел познакомиться с вами. Мало ли, как дело пойдет. Может, у вас ко мне вопросы возникнут. Или у меня к вам.
А теперь и майор уставился на меня, как космонавт на лунатика. Потом встал, одернул китель и доложился:
— Майор Кривошеев. Олег Сергеевич. Заместитель начальника областного управления внутренних дел. — Немного подумал и представил капитана:
— Капитан Смирнов. Иван Николаевич. Уголовный розыск.
— Очень приятно, — сказал я. — Пастухов. Сергей Сергеевич.
— Скажи, Сергей Сергеевич, ты всегда все делаешь через жопу?
— Когда как. Мне было нужно, чтобы Лев Анатольевич беспрекословно выполнял все мои предписания, — объяснил я.
— Какие? — спросил Антонюк.
— Может, мы обсудим это наедине?
— Если можно, при нас, — попросил майор. — Учиться так учиться..
— Я не скажу ничего нового.
— Тем более.
— Пожалуйста. Первое: наглухо заварить дверь на чердак. Второе: поставить в квартиру бронированную дверь с кодовым замком. Завтра же. Третье. Никому никаких ключей. Никому. Вы меня понимаете, Лев Анатольевич?
— Да, — буркнул Антонюк.
— Каждый день менять маршрут и время возвращения домой. По вам часы можно проверять. Сейчас это не достоинство. Не прощаться с охраной в лифте. Больше того. Двое постоянно должны находиться с вами. Даже ночью. Пусть один спит в гостиной, а другой на раскладушке в прихожей.
— Ну, знаете! — запротестовал Антонюк.
— Хотите еще раз встретиться с киллером? На этот раз с настоящим?
— Сдаюсь. Что еще?
— Наймите охрану на дачу. Двух или трех человек. Сойдут и местные, только не пьянь. Когда едете на дачу, никаких телефонных предупреждений. Вообще о своих поездках по телефону не говорить.
— О моих предвыборных встречах знает весь город.
— Встречи и митинги — моя забота. И до конца избирательной кампании — никаких ресторанов, никаких дружеских посиделок и никаких утренних пробежек трусцой по парку.
— Черт знает на какую жизнь вы меня обрекаете!
— Вы сами себя на нее обрекаете. Станете губернатором — расслабитесь. После этого поздно будет вас убивать.
— А сейчас — не поздно?
— Вы лучше меня разбираетесь в ситуации.
— Кто может меня убить?
— Это вы у меня спрашиваете? На эту тему можно много рассуждать.
Но мне не удалось уйти от этого идиотского разговора.
— Так рассуждайте! — прикрикнул Антонюк. — За это вам деньги платят!
Тот еще будет губернатор. Обкомовская, видно, школа. Или он в свое время до второго секретаря допер именно потому, что от природы была в нем эта бульдожья хватка? Если так, то до губернаторского кресла вполне допрет. Человек, который умеет получать ответы на свои вопросы.
Ну, получи.
И я сказал:
— Тот, кто убил Комарова.
В кабинете воцарилось многозначительное молчание.
— Дела, твою мать! — констатировал майор. — Новые времена — новые песни. — Он обернулся к капитану:
— А ведь и верно, никаких америк нам москвич не открыл. Все давным-давно известно.
— Я вам скажу еще кое-что из известного. Хотите? — предложил я.
— Было бы любопытно, — не без настороженности согласился майор.
— Я бы не стал гонять на операции с мигалками и сиренами.
— Так ведь туман! — заорал капитан. — Туман, понимаешь? Мы бы час ехали!
Я развел руками:
— Ну, если туман, тогда да.
— Так где все-таки пушка? — спросил майор.
— В камере хранения на вокзале, — ответил я, не уточняя, на каком вокзале.
— Разумно, — подумав, кивнул майор. — Разобрались, выходит. Да, дела! У вас есть претензии к лицам, производившим ваше задержание? — перешел он на официальный тон.
Я потрогал распухшую скулу. Тот еще будет фингал. Особая примета. Но это был свершившийся факт. А его, как известно, не может отменить даже Господь Бог.
Поэтому я только рукой махнул:
— Чего уж там. Дело житейское. На их месте так поступил бы каждый. Вот если бы еще «сейку» мою вернули, был бы полный порядок. Я к ней как-то привык.
— Какую «сейку»? — не понял майор. А капитан понял. Он быстро вышел, минут через пять вернулся и молча протянул мне часы, сдрюченные с меня в азарте горячего дела шустрыми омоновцами города К.
Тут и майор понял. И даже Антонюк.
— Так-так, — проговорил он.
— Примите наши извинения, — хмуро сказал майор.
— Нет проблем, господин майор.
— Ну и прекрасно.
* * *
Для Антонюка майор Кривошеев выделил оперативную «Волгу», а мой «пассат» уже подогнали к горотделу. Но перед тем как сесть в машину, Антонюк отвел меня в сторону.
— Как я понял, условие вашего контракта — сохранить мою жизнь, а не отнять ее.
— Вы только сейчас это поняли?
— И вам обещали заплатить за это пятьдесят тысяч долларов?
— Мне уже заплатили.
— Кто?
— Вероятно, те, кто заинтересован, чтобы вас не убили.
— И чтобы я стал губернатором, — добавил Антонюк. — Не люблю таинственных доброжелателей. Лучше, конечно, чем таинственные враги. Но все-таки. Вероятно, после выборов мне предъявят счет. Потребуют каких-то услуг.
— Если вы победите.
— А вы сомневаетесь?
— Семь процентов отрыва — не слишком много. Антонюк снисходительно усмехнулся:
— У вас плохо с арифметикой. Не семь. Я получу голоса ЛДПР, а НДР голосов «Яблока» не получит. Они призовут своих избирателей голосовать «против всех».
— Вы уверены?
— Это их позиция. Сегодня они ее подтвердили на закрытом заседании.
— Оно было, наверное, не очень закрытым, раз вы об этом знаете?
— Неважно. Важен сам факт.
— Лев Анатольевич, машина вас ждет, — деликатно поторопил капитан Смирнов.
— А вот он умеет считать. Лучше, чем вы. И лучше, чем майор, — отметил Антонюк.
— В процессе нашего вынужденного, так сказать, общения невольно выяснились некоторые подробности, не рассчитанные на широкую огласку. Вы понимаете, о чем я говорю?
— Меня интересует только то, что связано с вашей безопасностью.
— Вы мне определенно нравитесь, молодой человек. — Антонюк не без торжественности пожал мне руку. — Спасибо. Это был жестокий урок, но полезный. Я выполню все ваши предписания.
— Сейчас я в этом не сомневаюсь.
Капитан Смирнов проводил «Волгу» с будущим губернатором и помахал мне:
— Счастливо, москвич. Ты вообще-то поаккуратней. Не ровен час. Ладно, все обошлось, и слава Богу.
Я отъехал от горотдела и свернул к автовокзалу.
Туман сгустился. Редкие машины плыли в нем многоглазыми световыми фантомами.
Туман уравнивал «мерседесы» и «Жигули».
Бестелесный свет.
Огни на болоте.
* * *
«Обошлось».
Твою мать.
Это для тебя, капитан, обошлось. А для меня не обошлось. Потому что мужик, который прикуривал у торца дома и который сообщил оперативникам номер «пассата», был тот самый.
Смуглый. С приплюснутым носом.
В зале ожидания автовокзала было немноголюдно. Редкие пассажиры, опоздавшие на вечерние рейсы, дремали в жестких креслах. В камере хранения вообще не было ни одного человека.
Я набрал шифр и открыл ячейку.
В ячейке не было ничего.
Совсем ничего.
Пусто.
Пусто, как… Как. Никак. Просто пусто, и все.
Это означало, что кому-то очень недолго осталось жить.
И я уже догадывался кому.
Но это было не мое дело.
Не касалось оно меня.
Ни с какой стороны.
Ну, разве что… Суки.
Глава четвертая. Фигура умолчания
I
Юрий Комаров, сын убитого историка Комарова, был по природе своей человеком недоверчивым и осторожным. Смерть отца обострила в нем эти качества до высшего предела. Поэтому Пастухов с первых фраз телефонного разговора понял, что уговорить его встретиться можно только одним способом. И он воспользовался этим способом. Он сказал:
— Я занимаюсь расследованием смерти вашего отца. Помочь в этом можете только вы.
Если вы скажете «нет», я немедленно уезжаю, но в том, что смерть вашего отца останется нераскрытой, будете виноваты только вы. И никто другой.
Это подействовало. Комаров-младший назначил встречу у себя на квартире, но просил при подходе к дому привлекать как можно меньше внимания. Пастухов пообещал, но обещания не выполнил. Оставив «пассат» за пару кварталов от дома, он прошелся по улице Строителей (их оказалось три: просто Строителей, Первая улица Строителей и Вторая улица Строителей), по пути спрашивая у встречных прохожих, как пройти к дому номер 17, где жил Комаров. Ему подробно объясняли, а напоследок обязательно спрашивали:
— А вы к кому? К Комаровым, что ль?
Время для визита Пастухов выбрал не раннее и не позднее — начало шестого вечера.
Как раз в это время и был убит Комаров. Он отмечал довольно плотные сумерки, сгущенные наползавшим с Балтики туманом, тусклый и словно бы радужный свет уличных и домовых фонарей — свет, в котором идти-то было трудно, а уж про стрельбу и говорить нечего. Всеобщий интерес прохожих к нему, чужому человеку, разыскивающему дом Комаровых, сначала не вызвал у него никакого удивления, более того, вообще не задержал его внимания.
Едва ли не в первый же день по приезде в город Егоров по настоятельной просьбе Пастухова принес ксерокопию уголовного дела, где были собраны все материалы по убийству Комарова, и теперь Пастухов словно бы сверял то, что он знает, с тем, что он видит. Все свидетели (а их набралось с десяток) в один голос твердили, что как раз в это примерно время они возвращались с автобусной остановки и никого постороннего на улице не видели. Следователь прокуратуры не придал особого значения этим показаниям. Слишком уж очевидно профессиональным был почерк убийцы. А таких профессионалов на улице Строителей, да и во всем городе К., по убеждению следователя прокуратуры, не было. Для очистки совести следствие перетряхнуло все базы данных, запросило Зональный информационный центр, но и там ничего не нашли. Картина вырисовывалась отчетливая и безнадежная для следствия: нанятый киллер прилетел или приехал, сделал свое черное дело и скрылся.
Оставался открытым вопрос о мотиве, но и здесь нашли выход. Его подсказал сын убитого, заявивший, что Комарова убили по ошибке — должны были убить его, а не отца, убийца просто спутал. Они были примерно одного роста, оба грузные, основательной стати, оба носили похожие серые плащи, а «дипломаты» у них и вообще были совершенно одинаковые: их по случаю (и с большой скидкой) купила жена Юрия — для мужа, а заодно и для свекра. Мотивов же для покушения на Юрия было предостаточно: он успешно занимался бизнесом, имел дело с портом, покушение на него могло быть результатом внутренней бандитской разборки.
Это заявление сына потерпевшего было подарком для следователя. Он с чистой совестью сунул папку в сейф на ту полку, где томились «висяки» или «глухари» — дела зависшие, практически не имеющие шансов быть раскрытыми. Пресса поуспокоилась, начальство не дергало, понимая, что к чему, так что можно было спокойно заниматься другими делами, которых здесь, в портовом балтийском городе, было предостаточно.
Материалы следствия не помогли Пастухову представить картину происшедшего.
Во-первых, он далеко не сразу понял смысл милицейских протоколов, написанных таким языком, что болтовня его Настены на их фоне казалась поэмами Пушкина.
Сбивали с толку и многочисленные ссылки на статьи Гражданского и Уголовного кодексов, с которыми Пастухову до этого не приходилось иметь дела. Он не отбросил документы, нет, он их самым внимательным образом изучил, разобрался в канцеляризмах протоколов, даже почти во всех упоминаемых статьях Кодексов, и в конце концов общие выводы следствия показались ему правильными. И только вот теперь, когда он шел от автобусной остановки к дому Комарова и каждый встречный объяснял ему дорогу самым подробным образом, а заодно пытался выведать, к кому и по какому делу он идет, у Пастухова не то чтобы зародилось сомнение в правильности этих выводов, но как бы крошечная заноза попала в руку — совсем крошечная: жить можно, но все-таки беспокоит, все-таки что-то не совсем так.
Уже подойдя к аккуратному особнячку Комаровых, Пастухов вдруг вернулся к автобусной остановке и еще раз повторил путь, который уже проделал: дотошно выспрашивая прохожих об адресе, охотно отвечая, к кому он идет. Он даже придумал историю о дальнем родственнике Комаровых, с которым Пастухов недавно виделся во Владивостоке и который при случае просил передать своякам привет. Он понял только одно, но понял твердо: не было здесь никакого приезжего киллера. Его обязательно увидели бы и приметили. А это означало, что убийца — местный, свой.
На него никто не обратил внимания именно потому, что он был свой, примелькавшийся и потому не вызвавший никакого интереса.
В следственном деле, которое просматривал Пастухов, это предположение не игнорировалось. Но сыщики города К. единодушно пришли к выводу, что киллера такой квалификации в городе нет.
Они перетрясли весь уголовный контингент, связанный с «мокрыми» делами, но там каждый раз присутствовали разбой, тупые бандитские нападения, не говоря про пьяную поножовщину. А тут работал холодный точный профессионал. Не было такого в городе К. Не было, хоть ты застрелись.
* * *
На звонок Пастухову долго не открывали, смотрели из глазка, таились за дверью. И лишь когда он напомнил, что договаривался о встрече по телефону, возня в прихожей усилилась, звякнуло железо, и Пастухов оказался в уютном просторном холле, украшенном деревянной прибалтийской резьбой и уставленном картонными коробками самых разных размеров. Жена Юрия Комарова, маленькая остроносая пигалица, поздоровалась с гостем и шмыгнула в соседнюю комнату. По тому, что в двери осталась щель в ладонь, Пастухов понял, что она не хочет пропустить ни слова из разговора мужа с этим незваным гостем.
Коробки, частью упакованные и обклеенные скотчем, а частью еще не закрытые, полунаполненные, загромождали и гостиную, куда Юрий ввел гостя.
— Уезжаем, — коротко объяснил он царящий в доме беспорядок. — Дочь уже отправили. А теперь вот и сами.
Он, вероятно, ожидал вопроса, куда они уезжают, и внутренне напрягся, готовясь как можно убедительнее соврать, но Пастухов не стал ни о чем спрашивать.
— Если ваша жена хочет знать, о чем мы говорим, пусть зайдет, — предложил он. — Нет — нет. По крайней мере я буду точно знать, от кого уходит информация.
Юрий вышел в соседнюю комнату и через минуту вернулся.
— Она не хочет ничего знать. Она боится.
— Тогда действительно ей лучше ничего не знать, — согласился Пастухов. — Покажите мне последние фотографии вашего отца.
Снимков было немного, с десяток. На них Николай Иванович Комаров был запечатлен со своими студентами в день выпуска, дома на огороде и на крыльце. Единственное, чем он походил на сына, — это была тучность. Причем у обоих это была некая природная особенность организма, а не следствие переедания или лени.
— Есть еще видеокассета, — вспомнил Юрий. — Одно время я увлекался съемками.
— Покажите, — попросил Пастухов. На кассете Николай Иванович был запечатлен с сыном, невесткой и внучкой, но больше всего — со своими сортовыми тюльпанами.
Юрий называл эти сорта, названия были похожи на названия духов или дорогих французских вин, но Пастухов ни одного из них не запомнил. Его интересовало совсем другое.
— Пройдитесь по комнате, — попросил он, когда кассета закончилась. — Просто пройдитесь. Взад и вперед.
Несколько удивленный Юрий выполнил просьбу.
— А теперь у меня к вам еще одна просьба, — продолжал Пастухов. — Сейчас мы выйдем и вы запрете входную дверь так, как обычно запирал ее Николай Иванович, уходя из дома. И как он запирал ее в тот вечер. Наденьте тот же плащ, возьмите в руки тот же «дипломат».
От волнения Юрий не сразу попал ключом в замочную скважину.
— И что теперь? — спросил он.
— Спускайтесь с крыльца, — скомандовал Пастухов, хотя это было явно лишним: пуля-убийца настигла Николая Ивановича именно в тот момент, когда он запирал дверь.
— Все. Достаточно. Спасибо. Они вернулись в дом.
— Вы из ФСБ? — спросил Юрий.
— Нет. Но расследование этого убийства входит в мои служебные обязанности, — ответил Пастухов, почти не соврав. — Вы не замечали последнее время странностей в поведении отца?
— За последние полгода или даже чуть больше в его поведении не было ничего, кроме странностей. Он был историком. И по образованию, и по профессии, и по складу характера, и по образу жизни. У него были свои радости, свои огорчения, но они не выходили за рамки его кабинета или библиотеки, в которой он работал. С миром его связывали только внучка и тюльпаны. Особенно после смерти жены. Мама умерла восемь лет назад от сердечного приступа. Грустно в этом признаваться, но мы не были с отцом душевно близки. Когда пришли трудные времена, вся эта либерализация и так далее, я занялся челночным бизнесом. И довольно удачно. Отец и понятия не имел, сколько я зарабатываю и, вообще, что сколько стоит. Он отдавал в дом всю свою зарплату, как делал всю жизнь, остальное его не интересовало. Единственным предметом его расходов были книги. Когда его привлекала какая-то книга, найденная у букинистов, он без всяких сомнений влезал в долги, а потом месяцами давал грошовые уроки немецкого языка, чтобы расплатиться. Жаль, не могу вам показать, большая часть книг уже упакована, но в его библиотеке есть инкабулы, которых нет даже в Лондонской королевской библиотеке, не говоря про Ленинку. Чтобы у вас было представление о библиотеке, могу вам сказать одно: когда нам понадобились деньги, под залог библиотеки отец без труда получил почти двести тысяч долларов.
— Зачем вам понадобились такие деньги? — поинтересовался Пастухов.
— Возникла необходимость, — ушел от прямого ответа Юрий.
— В чем же проявлялись его странности? — вернулся Пастухов к теме разговора.
— Во всем. Он словно бы вылез из своего архива и кабинета, изумился происходящему и развил такую бурную деятельность, которой от него не ожидал никто. Для начала он дал мне пару коммерческих советов и настоял, чтобы я им последовал.
— Вы последовали?
— Да. И не пожалел об этом. Потом он занялся общественной деятельностью.
— Он захотел стать губернатором?
Юрий даже засмеялся:
— Боже сохрани. Отец — губернатор! Да он подал бы в отставку на второй день после выборов. Впрочем, шансы его на выборах были даже не нулевыми, а отрицательными. Экология — это, конечно, важная вещь, но город волнует сейчас совсем другое.
— Для чего же он влез в предвыборную кампанию?
— Об этом я все время спрашиваю и себя. И не нахожу ответа.
— У вас была возможность спросить об этом отца.
— Я спросил. Он ответил: сынок, есть вещи, которых тебе лучше не знать. Занимайся своим бизнесом и ни о чем не думай. Я еще несколько раз заходил с разных сторон, но ответа так и не получил. Притом, что отец, в общем, был очень открытым человеком и ценил мое внимание к его делам.
— С кем он был близок и мог быть откровенным?
— До конца, пожалуй, ни с кем. Можно сказать, что он дружил с Игорем Борисовичем Мазуром. Это председатель объединения «Яблоко» в нашем городе. Он тоже завзятый библиофил, хотя его библиотека, конечно, и в сравнение не идет с библиотекой отца. Последнее время они часто встречались и спорили о предвыборных программах «Яблока» и «Социально-экологического союза». На выборы они хотели идти в блоке, но потом что-то между ними разладилось, и они разделились. На мой взгляд, это не имело ни малейшего значения, потому что ни у «Яблока», ни у «Социально-экологического союза» не было ни малейших шансов пройти даже во второй тур выборов. И вообще, я считаю, что все это глупые игры, которыми тешат себя взрослые люди. Застарелая болезнь «шестидесятников». Не доиграли в детстве. Теперь наверстывают упущенное.
— Почему разошлись «Яблоко» и «Социально-экологический союз»?
— Понятия не имею, — не без раздражения ответил Юрий. — Я знаю только одно. Отец хотел, чтобы «Яблоко» включило в свою программу один из его пунктов, а Мазур был против. На этом они и разошлись. После этого отец проявил совершенно неожиданную для него энергию, собрал необходимое количество подписей и зарегистрировался как кандидат в губернаторы от «Социально-экологического союза». Отец — губернатор! Этого невозможно представить. Впрочем, все это было из области фантастики… Чаю? Или кофе? Или чего-нибудь выпить?
— Спасибо, — отказался Пастухов. — Не нужно ничего. С меня достаточно, что вы отвечаете на мои вопросы.
— Я делаю это, чтоб выполнить долг перед отцом. И только. У меня нет никаких иллюзий. Убийца не будет найден. Вы человек здесь чужой и просто не представляете, какие деньги и силы здесь задействованы. Сотни миллионов долларов. Я говорю о порте. Если бы у нас были предвыборные тотализаторы, я бы разбогател, потому что со стопроцентной уверенностью могу сказать, кто станет губернатором.
— Кто? — спросил Пастухов.
— Хомутов. Нынешний губернатор, представитель движения НДР.
— Рейтинг у него — всего 21 процент.
— Вы верите во все эти рейтинги? А я верю в реальность. Хотите пари?
— Нет, — отказался Пастухов. — Я спорю только тогда, когда уверен в успехе. А в успехе я уверен, когда владею ситуацией. Сейчас же для меня все как в тумане. Почему вы считаете, что губернатором станет Хомутов?
— Это очень просто. Для развития порта и вообще промышленности нашего города, как и всей России, нужны иностранные инвестиции. Извините, что говорю вам такие банальные вещи. Деньги могут дать только немцы. А если на выборах победит коммунист, наш город, и вообще Россия, не получит от них ни пфеннига. Я не считаю себя ни демократом, ни коммунистом, но на их месте я поступил бы точно так же. Демократы разворуют часть денег. Увы, это факт. Но часть все-таки пустят в дело. А коммунисты часть разворуют, а остальное расфукают на социальные программы. Им же придется выполнять предвыборные обещания. А где на это взять деньги?
— Имел ли Николай Иванович какое-нибудь отношение к порту?
Юрий задумался и ответил не сразу:
— Скажем так: он видел порт в исторической перспективе.
— Какую программу он хотел предложить «Яблоку»?
— Этого я не знаю. Он не объяснял, зная мое нелюбопытство к таким вещам, а я не спрашивал.
— Давайте перейдем к последним дням, — предложил Пастухов. — Я знаю, что это самые тяжелые воспоминания, но вам придется вспомнить все до последней мелочи.
— Это мой долг перед отцом, — согласился Юрий. — Спрашивайте.
— Когда у Николая Ивановича возникла мысль баллотироваться в губернаторы?
— Незадолго до конца регистрации кандидатов. До этого он ничего об этом не говорил и даже, по-моему, не думал. Потом произошло одно событие, которое его не на шутку взволновало. Более того, он был возбужден так, как я никогда в жизни не видел. Вообще-то он был спокойным и даже несколько флегматичным человеком.
— Что это за событие?
— По форме оно очень простое. Утром он вышел к калитке, чтобы взять газеты.
Среди газет оказался довольно плотный пакет в коричневой бумаге без обратного адреса и, по-моему, вообще без марок. Отец всегда читал газеты у себя наверху, в кабинете. Так было и в этот день. Но вдруг он спустился вниз и сказал мне:
«Кажется, сбылись мои самые худшие предположения». Я спешил на работу, поэтому не стал расспрашивать, а вечером отец ни на какие мои вопросы не отвечал. Этого конверта у него я больше не видел. Что было в нем — понятия не имею. О каких худших предположениях он говорил — тоже. Я знаю только одно: в тот вечер он был у губернатора — у Валентина Ивановича Хомутова. Причем в неурочное время, вечером. Хомутов принял его, потому что они были очень давно знакомы и у отца учились оба сына Хомутова.
— В каком состоянии он от него пришел?
— Я бы сказал так: в угнетенном.
— Пакет был с ним?
— Нет.
— Выходит, он отдал его губернатору?
— Получается так.
— Он не сказал вам, что было в пакете?
— Нет. Потом последовала серия оживленных переговоров с Мазуром. И только после этого отец решил выставить свою кандидатуру в губернаторы.
— Кто принес пакет — неизвестно?
— Нет. Я расспрашивал почтальоншу, она говорит, среди газет никакого пакета не было.
— После смерти отца вы наверняка разбирали его вещи. Нашли вы этот пакет?
— Нет.
Пастухов внимательно посмотрел на собеседника. Не врет. Нет, не врет. Устал, да, разговор был тяжелым. Но не врет.
— А теперь давайте вернемся к последнему дню. Извините меня за настойчивость, но только у вас есть ключ к убийству. Ни вы, ни я не знаем даже примерно, как выглядит этот ключ. Но он есть. У вас большой бизнес в порту?
— Нет. Я арендую два лесовоза и два танкера. По сравнению с тамошними китами — сущая ерунда. Поэтому меня и не трогают. — Юрий подумал и поправился:
— Не трогали. Ну, и шесть процентов акций порта есть. Немного, но все-таки. Это сегодня очень дорого стоит.
— Кто держит порт?
— Я вам скажу, но это должно остаться между нами. Есть там такой — Кэп. В сущности, бандит, но деньги заставили его стать политиком. Он больше всех заинтересован в контракте с немцами. Поэтому я и сказал, что на выборах выиграет Хомутов. Вообще-то с портом ситуация сложная. Пятьдесят один процент, контрольный пакет акций, остается пока у государства. Большую часть пакета придется выставить на торги. Ну и, сами понимаете, новый губернатор сумеет создать своим доброжелателям льготные условия тендера. Поэтому борьба за губернаторское кресло — акция не политическая, а прежде всего финансовая. Тем более поразительно, что отец, прекрасно все это понимая, все же туда полез!
— Как мне кажется, Николай Иванович был человеком, не способным на спонтанные поступки, не способным потерять голову из-за ерунды?
— Да. Он был спокойным и рассудительным человеком. Даже, я бы сказал, несколько флегматичным. Впрочем, об этом, по-моему, я уже говорил.
— И все же он ввязался в предвыборную борьбу, не имея ни малейших шансов. Не видите ли вы в этом противоречия? — спросил Пастухов.
— Вижу. Но объяснить не могу. Я очень много об этом думал. Нет, я не нахожу никакого объяснения.
— Вернемся к последнему дню. Это нелегкое испытание, Юрий Николаевич, но вам придется его пройти.
— Я понимаю. Я готов. Утром у отца были две лекции, потом он встречался с членами орггруппы «Социально-экологического союза» — в этот день расклеивали листовки с объявлениями о его встрече с избирателями в актовом зале института.
Около четырех вечера, когда мы с женой вернулись домой, он был в своем кабинете, наверху, готовился к выступлению. Он попросил мою жену погладить его, лучший серый костюм и белую рубашку. Выступление было назначено на шесть часов вечера, но в начале пятого, точно времени не помню, вдруг раздался телефонный звонок.
Звонила женщина, причем явно секретарша или, как сейчас говорят, референт или менеджер. Она спросила, нельзя ли ей поговорить с Николаем Ивановичем Комаровым.
Я крикнул отцу, чтобы он взял трубку, а свою здесь, внизу, положил на место, поэтому разговора не слышал. Минут через тридцать возле нашей калитки остановился автомобиль — из дорогих, тяжелый, иностранной марки. Возможно, «мерседес», я в этом мало понимаю. Гость зашел к отцу, и они минут тридцать разговаривали. После чего гость уехал, а отец переоделся и отправился на выступление.
— Кто был этот гость?
— Этого я вам не скажу.
— Кэп? — попытался догадаться Пастухов, но Юрий только что руками не замахал:
— Ни Боже мой. Совсем другой человек. Совсем! Но скажу то, что вам, пожалуй, следует знать. В тот день, когда отец получил пакет, и перед тем, как ехать вечером к губернатору, он приехал в мой офис в пароходстве и попросил разрешения воспользоваться моим ксероксом. Он умел им пользоваться, потому что у них в институте стоит точно такой же. Я, разумеется, разрешил. Работал он минут сорок, потом сказал «спасибо» и уехал.
— Что он переснимал? — спросил Пастухов.
— Не знаю. День был суматошный, задерживалась загрузка двух наших лесовозов, так что мне некогда было отвлекаться.
— Ваша секретарша могла увидеть, что он переснимает?
— Вряд ли. Во-первых, аппарат стоит в моем кабинете. А во-вторых, секретарша все время висела на телефоне, ей не до этого было. Я же говорю, что день выдался просто сумасшедший.
— Не допускаете ли вы, что отец делал копии тех самых документов, которые получил утром?
— У меня была эта мысль. Но на выступление он вышел с несколькими листочками тезисов. И все. После убийства при нем никаких документов не оказалось.
— Их могли взять из кармана плаща, — предположил Пастухов.
— Могли, — согласился Юрий. — Если бы хотели убить его. Но хотели убить меня.
— Какой разговор был между гостем и вашим отцом? — продолжал расспросы Пастухов. — С криками, угрозами? Вы могли это слышать снизу.
— Нет. Обычный спокойный разговор. И провожал его отец совершенно спокойно, а на пороге пожал руку. Они не ругались и не ссорились, нет.
— Вы так и не скажете мне, кто был этот гость?
— Не скажу. Но объясню почему. Может быть, ваше расследование будет удачным. Но, скорее всего, нет. А последствия его выйдут боком мне и моей семье. А я люблю свою семью и хочу ее оберечь. Не осуждайте меня за это.
— Я вас не осуждаю, — сказал Пастухов. — Напротив. На вашем месте я поступил бы точно так же. Ну, разве что использовал бы все свои возможности, чтобы поквитаться с врагами.
— У вас этих возможностей, вероятно, больше, чем у меня. У меня их попросту нет. У вас есть еще вопросы?
Пастухов поднялся.
— Нет. У меня есть один совет. Не нужно вам никуда уезжать. Вам нравится здесь?
— Да, — ответил Юрий.
— Ну и живите на здоровье. Никто вас не тронет. Потому что вы никому не нужны. Вы вбили себе в голову, что хотели убить вас. Нет, Юрий Николаевич, хотели убить не вас, а вашего отца. И убили.
— Вы в этом уверены?
Пастухов мог бы объяснить этому большому, загнанному в угол своим страхом человеку, что ни один профессионал даже в густой темноте не перепутал бы его с отцом, будь даже на них одинаковые парики. Человека рисуют не одежда и внешность, а гораздо в большей степени — психофизика его движений: походка, манера сутулиться или распрямлять плечи, еще тысячи малозаметных деталей, которые для любого профессионала очевидны, как крупный текст в детской книжке.
Но он не стал ничего объяснять. Лишь повторил:
— Да, уверен.
— Почему-то я вам верю, — подумав, проговорил Юрий.
— Потому что я говорю правду. А правду не нужно подкреплять доказательствами. Она говорит сама за себя. Проводите меня.
Туман на улице сгустился так, что фонари были словно бы окружены радужными оболочками. Юрий погремел замками, отпирая калитку, и выпустил гостя.
— Спасибо вам, — сказал он, протягивая широкую крепкую руку.
Пастухов задержал его ладонь в своей и быстро спросил:
— Гостем Николая Ивановича в тот вечер был губернатор?
Юрий помолчал и ответил:
— Да, Валентин Иванович Хомутов.
II
Пастухов не стал придумывать никаких фокусов, чтобы добиться встречи с губернатором. Он попросту появился в его секретариате во второй половине дня и предъявил старшему референту книжечку с тиснением КПРФ на обложке.
— Начальник охраны Антонюка, — представился он. — Мне нужно поговорить с губернатором.
Золотой карандашик старшего референта застыл над блокнотом:
— О чем?
— О вопросах его безопасности.
— Вы не могли бы более подробно изложить тему своего разговора, чтобы я могла передать ее шефу?
— А вы в этом что-нибудь понимаете? — спросил Пастухов.
Сложная прическа на голове старшего референта качнулась и едва не рассыпалась от возмущения. Но она овладела собой.
— Чтобы сообщить шефу тему вашей беседы, вовсе не обязательно быть специалистом в вопросах охраны. Итак?
— Передайте, что я хочу обсудить с ним проблемы блокирования объекта угрозы на дальних обводах, — вежливо сказал Пастухов.
Она сделала несколько стенографических загогулин в блокноте и величественно уплыла в кабинет, отделенный от приемной массивной дубовой дверью с бронзовыми ручками.
Резиденция губернатора размещалась в бывшем здании обкома КПСС. Несмотря на современную мебель и какие-то экзотические многолетние цветы, расставленные в торцах коридоров и в приемных, в здании был неистребим какой-то казенный дух, дух присутственного места, враждебный любому вошедшему. Не потому, что человек вошел с каким-то делом, которое может отвлечь обитателей этого места от их важных обязанностей, но уже само появление постороннего, человека с улицы, вызывало волны враждебности. Любой посторонний, будь он проситель или предлагатель чего-то полезного, был враждебен каждому сантиметру этого здания.
Он был неуместен здесь. Несмотря на то что милиционеров у входа давно уже заменили прилично одетые и вежливые охранники и не меньше двух или трех раз сменились все секретарши и начальники канцелярий, этот дух враждебности к каждому вошедшему с улицы человеку все же не выветривался, он незримо присутствовал в атмосфере губернаторской резиденции, невольно заставляя вспомнить времена, когда перед входом в это массивное здание красовалась вывеска «Областной комитет КПСС», а на шпиле над зданием реял красный флаг.
Через минуту старший референт выплыла из кабинета и сообщила Пастухову, стоя у открытой двери в кабинет:
— Заходите. Валентин Иванович вас ждет.
При этом вид у нее был такой обескураженный, что две другие секретарши (или младших менеджера) сделали вид, что крайне заняты своими бумагами — настолько, что им некогда даже взгляда поднять на свою начальницу.
Только два телохранителя губернатора как полулежали в креслах в углу приемной, перемалывая мощными челюстями жвачку, так и остались в той же позе, никак не прореагировав на происшедшее.
Губернатор сидел за массивным, сталинских времен письменным столом — высокий сухощавый пятидесятилетний мужчина в свежей крахмальной рубашке и с распущенным узлом галстука. Поддернутые белоснежные манжеты были скреплены красивыми запонками из какого-то уральского самоцвета в серебряной или мельхиоровой оправе. Подглазья набухли и были темными, как у людей, страдающих почками.
Пастухов обратил внимание, что пишет он не шариком, а красивой, с золотой отделкой самопиской. И это ему почему-то очень понравилось, хотя сам он писал мало и ему было в высшей степени все равно, чем писать — лишь бы писало.
Увидев посетителя, губернатор поднялся из-за стола, вышел навстречу гостю и пожал ему руку.
— Даже думать не хочу о той чуши, которую вы сказали моему референту. Но если начальник охраны моего соперника просит о встрече — значит, у него есть на то причины. Излагайте. Кофе? Чай?
— Спасибо, ничего, — отказался Пастухов.
— Тогда пойдемте сюда, — предложил губернатор. Он открыл небольшую дверцу в торце своего кабинета, и они оказались в небольшой комнате, обставленной как столовая или гостиная: с буфетом, диваном и обеденным столом на шесть персон.
Пастухов понял, что это была комната отдыха, какие, как он слышал, являлись обязательной принадлежностью кабинетов большого начальства. Впрочем, слышать-то слышал, но бывать в них ему не приходилось ни разу.
Губернатор достал из буфета початую бутылку коньяка и два хрустальных фужера, щедро налил в оба и жестом предложил Пастухову не стесняться.
— Спасибо, я не пью, — отказался Пастухов.
— На работе? — уточнил губернатор.
— Нет, практически вообще. Ну, глоток на поминках…
— Почему?
Пастухов понял, что должен искренне отвечать на все вопросы, даже пустяковые, если он хочет получить искренние ответы на свои.
— У меня отец от водки сгорел.
— Боитесь повторить его судьбу?
— Не боюсь. Не хочу, — уточнил Пастухов. — Есть и еще причина. Когда я выпью, во мне поселяется как бы другой человек. И он мне не нравится. Он мне мешает жить, думать, делать свое дело.
— Спасибо за откровенный ответ. А вот мне этот другой человек нравится. Он свободен, весел, раскован. Может легко позволить себе то, чего я в нормальном состоянии позволить себе не могу. Да, нравится. Поэтому я и пью. — И в доказательство губернатор одним махом опрокинул в себя содержимое фужера. — Давай выкладывай. Зачем начальнику охраны Антонюка понадобилась встреча с губернатором?
— У меня есть несколько вопросов. Но прежде — один совет. Немедленно смените ваших мордоворотов. Я имею в виду охрану.
— Почему?
— Перед тем как встретиться с вами, я прошел два поста. Один — на входе. Ладно, не будем к ним придираться, хотя заметить, что у человека оружие, — для этого никакого металлоискателя не нужно. Для опытного человека. Второй пост — на этаже возле вашего лифта. Та же картина. И наконец, двое ваших охранников в приемной. Но они-то должны были хотя бы обыскать посетителя. Тем более что посетитель незнакомый. Я не принес с собой сюда оружия только потому, что оно мне не нужно. А если бы было нужно?
— Ты считаешь, что моей жизни угрожает опасность?
— А вы считаете — нет? Тогда просто увольте лишних людей.
— Ты не ответил на мой вопрос.
— Да, считаю, — сказал Пастухов. — Поэтому ваших охранников я не уволил бы, а сменил.
— Где я возьму других?
— Я вам пришлю пару моих ребят. Из Москвы. Они придут и скажут, что от меня.
— Твоих — что это значит?
— Мы вместе воевали в Чечне.
— Я так и подумал, что ты из военных. Кем ты был?
— Капитаном спецназа.
— Тебе же не больше 27—28 лет.
— Двадцать семь. Чин капитана я получил в двадцать пять.
— Так-так. Тем более интересно с тобой поговорить. Твои ребята с меня небось три шкуры сдерут?
— Нет, всего по пять тысяч долларов.
— За две недели работы?! — изумился Хомутов.
— Когда вы нанимаете специалистов экстракласса, вы удивляетесь, что у них высокие расценки?
— А они экстра-класса?
— Таких в России не наберется больше десятка.
— Убедил, — подумав, сказал Хомутов. — Да, убедил. Почему-то я тебе верю. Столько же тебе платит Антонюк?
— Это не тема нашего разговора. Тем более что платит не он.
— А кто?
— Этого я не знаю. И до вчерашнего дня не хотел знать.
— Что случилось вчера?
— Я разговаривал с сыном Комарова. Он рассказал, что за полчаса до убийства вы беседовали с Комаровым у него дома.
— Да, я встречался с ним.
— Дня за три до этой встречи он отдал вам некий пакет.
— Допустим.
— Что было в этом пакете?
— Ты никогда об этом не узнаешь. Есть вещи, которые остаются тайной на десятилетия. Это — одна из таких вещей. И не потому, что я этого хочу. Нет, это диктуется логикой государственного развития. Ты понимаешь, о чем я говорю?
— Понимаю. Но мне плевать и на государственное развитие и на его логику. В этом пакете — тайна гибели Комарова. И я узнаю ее. Иначе я просто не смогу выполнить работу, для которой меня наняли. А я привык добросовестно относиться к своей работе.
Губернатор плеснул в свой фужер еще коньяка, выпил без закуски, с удовольствием закурил и проговорил, благожелательно щурясь сквозь дым на Пастухова:
— А ты мне нравишься, парень. В молодости я был такой же. Есть цель — ее нужно достичь. Все остальное не суть важно. Лишь позже я понял, что все остальное может быть важней сути. Ты этого пока не понял. Ну и ладно, поймешь. Про пакет я могу тебе только одно сказать. Даже если я тебе его дал бы, ты все равно бы там ничего не нашел. Там нет причины смерти Комарова. Верней, она есть, но далеко за рамками документов, которые находятся в этом пакете. Скажу тебе больше. Если бы этот пакет попал в руки любого другого человека, то вообще ничего бы не произошло. Трагическое стечение обстоятельств. Комаров оказался в нужное время в нужном месте. Это и стало причиной его гибели.
— Вы согласны, что его убили?
— Кто же с этим не согласен?
— Что убийство было заказным?
— Об этом мне говорили в управлении МВД.
— Что оно было выполнено профессионалом высокого класса?
— И об этом был разговор.
— Кто вместе с вами ездил к Комарову?
— Я был один. Он специально попросил об этом. Был только водитель, но он не выходил из машины.
— В разговоре с Комаровым вы не достигли того результата, которого добивались. Кого и как вы информировали о том, что разговор фактически закончился ничем?
— Да ты, никак, меня обвиняешь в убийстве Комарова? — благодушно предположил губернатор.
— Не вас. Но того, кто был с вами. Или того, кто, к примеру, стоял в кустах сирени и ждал вашего знака.
Губернатор нахмурился:
— Ты выстроил у себя в мозгу какую-то схему и ищешь под нее доказательства.
— Помогите мне ее разрушить.
— Не очень понимаю, почему я вообще трачу время на разговор с тобой.
— Я вам скажу, — предложил Пастухов. — Хотите?
— Попробуй.
— Потому что вы честный человек. Вы действительно напрямую не задействованы в убийстве Комарова, но косвенную вину все-таки чувствуете и стараетесь всеми способами от нее отделаться. И разговором со мной, и коньяком.
Губернатор махнул рукой, обтянутой накрахмаленной манжетой с красивыми запонками:
— Убирайся. Мне больше не о чем с тобой разговаривать. Уверяю, что я никому ни полслова не сказал о разговоре с Комаровым и о том, чем он закончился. Ни полслова. Это я тебе говорю. А любой другой человек в городе подтвердит, что моему слову можно верить.
— А пакет с документами?
— Я в первый же день передал его в Москву.
Пастухов встал.
— Я все равно узнаю, что было в том пакете, — предупредил он.
— Да не было там ничего. Ничего, понимаешь? Там были бумаги пятилетней давности, которые к нынешним делам практически не имеют отношения. Если бы я мог тебе дать этот пакет, то через пять минут ты отложил бы всю эту макулатуру в сторону.
— Почему вы не хотите снова стать губернатором? Это желание пропало у вас после встречи с Комаровым или раньше?
— Хватит, нахлебался. Я строитель. Понимаешь? Всю жизнь я строил дома для людей. Перед сдачей дома обходил все квартиры, смотрел, не криво ли наклеены обои, хорошо ли закрываются форточки и балконные двери. У меня и на секунду не было сомнений в правильности и праведности моего дела. А здесь всего за четыре года я хлебнул столько говна, сколько другой и за всю жизнь не нахлебается. И главное — все зависит не от меня. Зарплату задерживают — Минфин денег не перечисляет. А виноват кто? Я. Производство останавливается. Кто виноват? Я. Область одна из первых в России по сбору налогов. А что мы имеем от этих налогов? Дырку от бублика. И кто виноват? Тоже я. Я всегда был демократом. А сейчас я даже не знаю, кто я. Полукоммунист, полуфашист, полулиберал, полукапиталист.
— Я был на ваших предвыборных встречах. Вы не производили впечатления человека, который поставил крест на своей карьере, — заметил Пастухов.
— А сейчас произвожу?
— Да. Что вы узнали такого, что отбило вам руки?
— Все, парень. Закончен наш разговор. Больше я тебе ничего не скажу. Сам сможешь что-то узнать — дам подтверждение. Не сможешь — извини. Это не моя тайна. Да и тайны тут нет. Ребят, которых обещал мне в охрану, пришлешь?
— Обязательно.
— Вот за это спасибо.
Губернатор проводил Пастухова до двери кабинета, пожал ему руку и вернулся в кресло, на спинке которого висел его пиджак.
— Секунду! — сказал Пастухов старшему референту и снова всунулся в кабинет.
— Валентин Иванович, последний вопрос. После разговора с Комаровым вы дали кому-нибудь какой-либо знак?
— Я не слышал этого вопроса. И вообще больше тебя не видел, — ответил Хомутов.
Пастухов вышел на просторную площадь, ощущая освобождение от той тягости, которую нормальный человек всегда испытывает в казенном доме.
* * *
Разговор с губернатором дал даже больше, чем Пастухов ожидал. Теперь он не сомневался, что ключ к разгадке убийства Комарова, а следовательно, ко всей истории — в документах, о которых говорили Юрий Комаров и губернатор. Что это за документы пятилетней давности, какого рода — об этом Пастухов понятия не имел.
Кто-то передал их Комарову. Кто? Кстати, почему именно Комарову, а не кому-то другому? Комаров попытался как-то их использовать. Возможно, в разговорах с главным здешним «яблочником» Мазуром, а решающий шаг сделал, встретившись с губернатором. Сразу после последней встречи с губернатором Комаров был убит. Что произошло? Какую роль во всем этом сыграли злосчастные документы? А они непременно сыграли какую-то роль — таких случайностей просто не существует в природе. И ученый Комаров недаром же вызвал к себе домой губернатора, и недаром же тот приехал, хотя мог назначить встречу у себя в резиденции и в более удобное время. Значит, что-то поджимало? Что?
И сами документы. Копии их исчезли. А они были, Юрию незачем врать. Значит, убийца вынул их из кармана плаща Комарова?
Все было туман, непроницаемая водяная мгла, наползающая на город с Балтики.
Туман. Сплошной туман.
И вот еще какая мысль копошилась в мозгу Пастухова, пока он осторожно вел «пассат» к гостинице «Висла». Когда переговоры губернатора с Комаровым закончились безуспешно, как вел себя губернатор? Плюхнулся на сиденье, хлопнул дверцей, закурил и скомандовал: «Домой» или «На работу»?
Мог ли водитель по его движениям и настроению понять, что шеф недоволен, а следовательно — что разговор был неудачным?
Губернатор понравился Пастухову. Он верил в это сразу возникающее расположение к людям. Случалось, он ошибался, когда испытывал настороженность и даже неприязнь к тем, кто оказывался в конечном счете нормальным и даже приятным. Но ни разу в жизни не оказался негодяем человек, который ему сразу понравился. Ни разу. Это не означало, что Пастухов сразу лез с объятиями и откровениями, напротив — он долго к этому человеку присматривался и, лишь когда убеждался в своей правоте, делал шаг к сближению.
Так он набрал команду, лучшую в спецназе Чечни. В Чечне были ребята и посильней членов команды Пастухова и его самого, но такой слаженной, сработанной и поэтому способной выполнить самое сумасшедшее задание группы не было ни у кого. Вообще не было.
Так он отбирал и друзей. Не друзей — друзьями его были только Док, Артист, Боцман и Муха да погибшие Тимоха с Трубачом, — но людей, которых он допускал в свой круг общения.
Поэтому он сразу отмел причастность губернатора к организации убийства Комарова.
Не тот человек. Нет, не тот. Но кто-то же дал знак убийце? Отмашку, жест, наклон головы. Не было ни малейших сомнений в том, что знаком к убийству послужили неудачные переговоры губернатора с Комаровым. Причем к убийству не случайному, не спонтанному, а тщательно и профессионально подготовленному.
Убийство произошло за полчаса до первого публичного выступления Комарова перед своими избирателями и минут через пятнадцать после того, как от дома Комарова отъехал губернаторский «мерседес».
Кто мог дать сигнал убийце?
Только водитель.
III
На следующий день, после полудня, в городе К. появились прилетевшие дневным рейсом из Москвы два молодых человека.
Один лет 26, маленький, подвижный, быстрый в движениях и в словах.
Другой чуть старше, лет 28—29, подобранный, смугловатый, среднего роста, степенный не по складу характера, а словно бы сдерживающий в себе незримо накопленную силу и энергию, которые сами по себе требовали выхода. Со стороны это вполне могло показаться природной застенчивостью. Поэтому он был даже чуть медлительней, чем того требовали обстоятельства, очень аккуратен с людьми, с которыми его сталкивала людская толпа. В автобус, доставлявший пассажиров из аэропорта в город, он вошел одним из последних, когда вся сумятица и толкотня у входа закончились, хотя младший его товарищ держал для него место и едва ли не матерился оттого, что напарник медлит.
В городе они остановились в небольшом пансионате с претенциозным названием «Европа», где их уже ждал номер — то ли снятый для них кем-то, то ли заказанный из Москвы. Дежурному администратору они предъявили российские паспорта на фамилии Хохлов и Мухин.
Цель приезда в город К. в анкете оба обозначили одинаково: бизнес. Дежурный не стал выспрашивать, каким именно бизнесом они занимаются. Это было не принято и даже считалось неприличным. Одно он отметил про себя: приезжие были не похожи на челночников, наводнивших ярмарки города К. дешевым ширпотребом из Польши и Турции, Не походили они и на солидных бизнесменов, иногда удостаивавших город К. своим посещением из-за порта, приобретавшего все большее значение на Балтике, и из-за российских железных дорог, свозивших лес и нефть к терминалам порта. Если эти двое и занимались бизнесом, то это было нечто не очень значительное, скорее всего продукты или какие-нибудь изделия российских заводов, еще окончательно не рухнувших под бременем взаимных неплатежей.
Единственное, что слегка насторожило и озадачило администратора, когда он внимательно (а он всегда это делал чрезвычайно внимательно) рассмотрел документы приезжих, так это то, что оплата проживания новых гостей была проведена через Городской банк. А Городской банк, как было известно всякому, кто такими вещами интересовался, осуществлял все расчеты администрации губернатора. Но дежурный не стал задавать никому никаких вопросов. У него была хорошая, спокойная, хоть и не очень денежная работа, и он не хотел ее терять. Хорошую работу нынче поищи, три пары ботинок износишь!
К вечеру того же дня, плотно пообедав в кафе пансионата, приезжие надели под плащи теплые свитера (из-за тянувшего с Балтики сырого ветра) и ушли из отеля, сказав, что хотят прогуляться по городу. И хотя прогулка в наползающем на площади тумане выглядела странно, администратор, как истый патриот своего города, порекомендовал им заглянуть в настоящую прусскую пивную в замковой башне «Миша-маленький», а прогуливаться в старой части города, где еще сохранился дух прежних времен.
Дежурный администратор пансионата «Европа» чрезвычайно удивился бы, если бы узнал, как последовали приезжие его советам. Они им не последовали никак. Едва свернув за угол отеля, они сели в поджидавшую их старенькую «тойоту», за рулем которой сидел какой-то молодой человек в темных очках и в черной вязаной шапочке, натянутой ниже ушей. При появлении пассажиров он не сказал ни слова, столь же немногословны были и они. Машина сорвалась с места, покрутилась по пустынным с наступлением темноты и тумана улицам и остановилась возле одного из домов повышенной комфортности — не того обкомовского, где жил Антонюк, а более нового, современного, изящно вписанного в предместную дубовую рощу.
Здесь им пришлось ждать часа полтора. Наконец на подъездной площадке возле дома появился 500-й «мерседес» губернатора, охранники провели шефа до дверей квартиры, потом вернулись, и машина резко, будто потеряв свой вес и значительность, взяла с места.
— Он высадит их на площади Победы, а сам поедет в гараж.
Это были единственные слова, которые произнес водитель за все время.
— А потом? — спросил маленький.
— Поедет домой. Будет ловить попутную тачку. Вот тут вы и подвернетесь.
— А если другую поймает? — засомневался высокий.
— Оглянитесь. Много вы видите других тачек?
Двое огляделись. Других машин не было вообще. В такие туманные вечера местные водители предпочитали сидеть дома у телевизоров. И даже те, кто промышлял частным извозом, не утюжили попусту улицы, а кучковались там, где возможен был клиент — в аэропорту, на вокзале и возле гостиницы «Висла».
Они немного отъехали, притормозили в глухом переулке.
— Счастливо, — сказал водитель и вышел из машины. — Схему связи знаете. А мне ни к чему светиться.
И он исчез в темноте переулка.
Волнения пассажиров «тойоты» оказались напрасными. Оставив губернаторский лимузин в гараже, водитель вышел из ворот и остервенело замахал руками перед капотом «тойоты».
— Ребята, полтинник до седьмого квартала! Тут ехать шесть минут!
— Ты лучше покажи нам, как до Липок доехать, — ответил маленький. — А то мы уже час крутимся. И спросить не у кого.
— И никакого полтинника не нужно, — добавил высокий.
— Сейчас все оформим в лучшем виде, — заверил водитель, залезая на заднее сиденье. — Давай пока прямо!
Больше ничего он сказать не успел. Что-то слегка щелкнуло у него в районе шеи, и он надолго потерял сознание.
* * *
Когда он очнулся (а очнулся он от ведра воды, вылитого на него сверху), то обнаружил, что сидит на обыкновенном табурете, ничем к нему не привязанный, а перед ним — простой верстак, обитый белой оцинкованной жестью, совершенно пустой. Комната, в которой он находился, напоминала подвальную мастерскую, царство не то столяров, не то сантехников. В комнате не было ничего угрожающего, даже ножа на столе. И эти двое, к которым он по дурости влез в «тойоту», тоже мирно сидели тут же на лавках, ожидая, когда он очухается.
Водитель был комплекции крупной, нрава не очень мирного, но у него даже мысли не мелькнуло оказать хоть какое-то противодействие своим похитителям. В их позах, манере двигаться, даже сидеть было нечто такое, от чего хотелось забиться под лавку, как хочется обыкновенному человеку убежать куда-нибудь подальше из комнаты, в которой разгуливают два тигра или две рыси.
— Ресницы подрагивают — очухался, — констатировал маленький, вглядевшись в лицо водителя. — Хватит придуриваться, открывай глаза.
Водитель открыл глаза. Руки-ноги были целы, ничего не болело, нигде никакой крови, одежда мокрая, но целая. Только возле левого уха чуть побаливала какая-то точечка — с ее помощью, видно, его и отключили.
— Олег Мухин, — представился маленький. — Прозвище, естественно. Муха. Ну, а какое другое прозвище может быть у человека с такой комплекцией и с такой фамилией? — И сам же ответил:
— Никакого. А это Дима Хохлов. Прозвище — Боцман. Потому Боцман, что когда-то начинал в морской пехоте. До такого высокого звания, как боцман, он, конечно, там не дослужился, но мы уж его так зовем по привычке и из уважения. Потому что если бы он подольше там послужил, обязательно стал бы боцманом. Или даже старшим боцманом, он у нас очень способный, очень.
— Кончай трепаться, — довольно добродушно прервал Хохлов.
— Во-первых, я не треплюсь, а говорю чистую правду, — возразил Мухин. — А во-вторых, нужно же о чем-то поговорить с человеком, прежде чем переходить к делу. А то он может черт-те что подумать про нас. А я не люблю, когда про меня думают черт-те что, а тем более несправедливо. И ты не любишь. Вообще никто не любит. И наш друг Костя Зайончковский тоже не любит. Я правильно произнес твою фамилию, ничего не перепутал?
— Правильно, — подтвердил водитель.
— Вот мы и начали приличный, вежливый разговор, — обрадовался Мухин. — Извини, Костя, что не можем предложить тебе закурить. Твои сигареты размокли, а своих у нас нет. Ни я, ни Боцман не курим. Отучил нас один наш друг. Доказал, что курить вредно. А знаешь как? Навьючил на каждого килограммов по шестьдесят разного скарба, ну — взрывчатки, того-сего, и прогнал два броска по тридцать километров.
По горам. А теперь, сказал, можете курить сколько влезет. И почему-то никому не захотелось. Только один из наших выдержал и закурил. И до сих пор курит. У него прозвище Док. Потому что он медик, хирург. Мы его хотели с собой взять, но ему куда-то на курсы повышения квалификации понадобилось — пришлось ехать без него.
Но тебя, Костя, больше всего волнует сейчас, наверное, только один вопрос. На кой хрен мы рассказывали тебе, как нас зовут. Я тебе отвечу. Мы очень рассчитываем, что станем с тобой друзьями. И по работе, и так. Мы просто обязаны стать с тобой друзьями и единомышленниками. Потому что другого выхода у нас просто нет. Верней, он есть, но о нем лучше не думать. Я, например, и не думаю. А ты, Боцман?
— Я тоже.
— Вот водишь, и он не думает, — радостно подхватил Муха. — А если он что говорит, то этому можно верить. На все сто. Я говорю это тебе как человек, которому он три раза спасал жизнь. А я ему только два раза. Итак, Костя, нас чрезвычайно интересуют события, которые произошли вечером 12 октября, а также чуть раньше и чуть позже. Иными словами, все события, которые имеют хоть какое-то отношение к вечеру 12 октября сего, 1997 года.
— А что было вечером 12 октября?
Маленький укоризненно покачал головой.
— Не нужно. Костя, начинать с ошибок. Плохая примета. Твои слова не выдают в тебе человека выдающегося ума. Нет, не выдают. Потому что любой умный человек сразу бы понял: раз мы спрашиваем о событиях 12 октября, значит, мы знаем о них достаточно много. А раз мы спрашиваем о них тебя, мы, следовательно, уверены, что и ты о них знаешь достаточно много. И ты в самом деле знаешь о них много. И я не сомневаюсь, что ты поделишься с нами своими знаниями. Весь вопрос только в том, какие методы придется применить, чтобы убедить тебя сделать это.
Слова о методах очень не понравились водителю губернаторского «мерседеса», поэтому он решил дать задний ход:
— А, двенадцатого октября! — воскликнул он. — Это когда Комарова убили? Конечно, помню. Сразу бы сказали — сразу бы вспомнил. А так — думай. Цифры — они безликие. События — дело другое.
— Я запомню этот афоризм, — пообещал маленький. — И как-нибудь использую. Не возражаешь? Цифры безлики, и только события сообщают им жизнь. А теперь очень подробно расскажи нам, что ты делал 12 октября.
— Ну, что делал? Утром пришел в гараж, проверил тачку.
— Все было в порядке? — поинтересовался высокий, которого маленький назвал Боцманом.
— В полном. Тачке всего год, что с ней может случиться? Это же «мерин», «мерседес» то есть, а не вшивая «Волга». Потом заехал за хозяином домой, привез его на работу. Часа в два с двумя какими-то иностранцами, немцами похоже, ездили на стройплощадку нового жилого комплекса. Около четырех вернулись. Я пообедал и устроился в приемной ждать, пока шеф поедет домой. Но неожиданно в начале шестого он вышел из кабинета и велел отвезти его на улицу Строителей.
— Прервемся, — вмешался Мухин. — Входил ли кто-нибудь до этого к нему в кабинет?
— Нет, только старшая секретутка.
— Ты уверен в этом?
— А то нет? Все же мимо меня проходили. Если бы кто посторонний шел, я бы обязательно его приметил. Вы охранников можете спросить — они подтвердят.
— Пока мы спрашиваем тебя. Что было дальше?
— Мы подъехали к дому номер семнадцать по улице Строителей, шеф велел мне остаться в машине и ждать.
— А где были охранники? — поинтересовался Боцман.
— Он их не взял с собой.
— А обычно берет?
— Обычно берет. Он довольно долго звонил в калитку, потом вошел. Его не было примерно тридцать минут. Потом хозяин проводил его до калитки, пожал ему руку, и мы вернулись в резиденцию.
— Ждал его там кто-нибудь?
— Нет, — уверенно ответил водитель. — Секретутка передала срочные факсы, сказала про пару важных звонков, и он ушел к себе в кабинет. Около семи вышел, и я отвез его домой, как обычно. Вот и все.
— Когда он вышел из калитки, было у него что-нибудь в руках? — спросил Боцман.
— Не помню. Вроде нет. Да нет, я бы заметил. Вот и все.
— Нет, Костя, не все, — мягко поправил маленький. — Ты забыл сказать нам две вещи. С кем ты встречался до этой поездки и с кем ты встретился после этой поездки.
— Да когда? — как можно более искренне возмутился водитель. — У меня и времени не было с кем-то встречаться! Сами прикиньте!
— Ты мог встретиться не 12 октября, а раньше. И это так скорее всего и было. С кем?
— Ни с кем я не встречался! — угрюмо повторил водитель. — А вы, парнишки, влезли не в свое дело. И как бы для вас это плохо не кончилось.
— Он нас пугает, — констатировал маленький. — Даже интересно. Давненько, Боцман, нас никто не пугал. Даже не помню, когда последний раз это было.
— В начале девяносто шестого в районе Ак-Су, — напомнил Боцман. — Иса Мадуев грозил нам яйца отрезать и в рот засунуть.
— Нет, ты все перепутал, — возразил маленький. — В ущелье Ак-Су Иса Мадуев и все восемь или девять его обалдуев лежали спеленутые, как грудные младенцы. Они не то что грозить, просто «мама» сказать не могли. А яйца тебе грозил отрезать Махмуд-хан, когда мы брали его на живца. И ты как раз был живцом.
— Не напоминай мне об этом, — попросил Боцман. — Не напоминай, ладно? А то и я припомню тебе кое-что, что вызовет у тебя не очень благодушное настроение.
— Извини, не буду. Просто к слову пришлось. Итак, Костя нас пугает. На всякий случай. А вдруг испугаемся. Потому что не такой же он идиот, чтобы думать по-другому, а? Если мы его захватили и привезли сюда, значит, у нас были для этого какие-то серьезные основания. И будущие опасности сейчас для нас — как урожай следующего года. То ли он будет, то ли погниет, то ли от засухи сгорит.
Нам сейчас нужны некие сведения, а Костя не хочет с нами ими поделиться.
Современная наука изобрела много средств для того, чтобы человек говорил то, о чем его спрашивают. Есть, например, полиграф — детектор лжи. Еще вкалывают особый наркотик, который растормаживает соответствующие центры. Но в нашем распоряжении нет ни полиграфа, ни наркотика. Придется обходиться старыми методами. Какой тебе кажется наиболее удачным. Боцман?
— Если бы у Махмуд-хана ты был живцом, а не я, ты бы таких вопросов не задавал.
Элементарно. Зажимают яйца в дверях и начинают понемногу закрывать дверь. Больше трех минут никто не выдерживает. Я выдержал шесть, но только потому, что понял, что у вас какая-то задержка.
— Не скромничай. Боцман. Ты выдержал ровно двенадцать с половиной минут. И еще выдержал бы — сколько нужно.
— Заткнись, — попросил Боцман. — Я же тебе сказал: заткнись. Это не самое приятное воспоминание в моей жизни.
— Извини, больше не буду, — охотно согласился маленький. — Просто мне хотелось сделать тебе комплимент.
— Потом будем комплиментами обмениваться. Когда дело закончим. Приступай.
Маленький подошел к водителю и буднично предложил:
— Вставай. И снимай штаны.
— Ребята! Да вы что?! Я и не думал вам грозить. Я просто предупредил вас об опасности, о которой вы, возможно, не знаете. А так я готов! Спрашивайте!
— Начнем с середины, чтобы тебе было легче, — проговорил маленький. — Губернатор провел разговор с хозяином дома номер семнадцать по улице Строителей. Кто это был?
— Николай Иванович Комаров, преподаватель института.
— Откуда ты знаешь?
— Случайно. Слышал, как секретутка сказала, когда созванивалась с ним.
— Губернатор пожал хозяину дома руку и сел в машину. Как он сел?
— Ну как? Нормально.
— Сколько лет ты возишь губернатора?
— Скоро четыре.
— Значит, успел изучить его привычки, манеру поведения?
— В общем, да.
— Вот и вспомни, как он после того разговора сел в машину. Дверцу сильно захлопнул?
Водитель глубоко задумался и решил, что откровенность в этом постороннем вопросе не сможет принести ему вреда, но подтвердит его искренность.
— А ведь и верно! — воскликнул он. — Так саданул дверцей, что я даже удивился. Обычно он закрывает — ну, нормально. И сразу закурил. Обычно он в машине не курит, старается только в кабинете. И сразу скомандовал: езжай.
— А как обычно говорит? — спросил Боцман.
— Домой. Или в контору. Или еще куда. А тут сказал: езжай. И все. Только минут через пятнадцать приказал: на работу.
— Значит ли это, что губернатор остался недовольным результатами разговора с Комаровым? — спросил маленький.
— Пожалуй, да, — покивал водитель. — Да, недоволен. Это точно. Хмурый он был.
— И ты обратил на это внимание?
— Водители — народ приметливый. Если четыре года ездишь с одним и тем же человеком, невольно узнаешь его характер.
— Зафиксируем достигнутое, — предложил маленький. — Губернатор остался недоволен разговором с Комаровым, а ты обратил на это внимание.
— Но не придал значения, — уточнил водитель. — В один день у человека может быть одно настроение, в другой день другое.
— Ты мог и не придать значения настроению губернатора, потому что был не в курсе его дел. Но некто, назовем его пока мистер X., был в курсе и этим настроением чрезвычайно интересовался. И этому человеку ты дал знак о том, в каком настроении находится шеф. А конкретно — о том, что переговоры были безуспешными. Скажу больше: ты подал этот знак в течение примерно пятнадцати минут после того, как губернатор сел в машину и вы отъехали от дома Комарова. Ты мог сразу мигнуть фарами или подфарником, мог сделать это или нечто такое же позже, но ты это сделал. И если ты сейчас назовешь этого человека, будем считать, что самая трудная часть нашей беседы уже позади.
— Понятия не имею, о чем ты говоришь, — заявил водитель.
И тотчас, без всякой задержки, маленький как-то странно махнул рукой, и на голову водителя обрушилась такая лавина боли, какой он не испытывал даже тогда, когда попал в аварию и его зажатую искореженным железом ногу вырезали автогеном.
При этом он не терял сознания, каждая крупица боли находила свое место и не исчезала, пока не источала свою силу. Он не знал, сколько продолжался этот ад — десять минут или час. Но скорее всего — не больше трех или пяти минут, потому что за это время его собеседники никак не сменили своих поз.
Когда боль наконец отпустила и он получил возможность все видеть и слышать, маленький заметил, обращаясь к высокому:
— Извини, Боцман. Я знаю, что ты не сторонник таких методов. Я тоже. Но это гораздо эстетичнее, чем зажимать яйца в дверях, а иногда оказывается и эффективнее. Страшна не боль. Страшен страх боли. Он его испытал. И испытает еще, если будет продолжать нести чушь, а не давать прямые и точные ответы на наши вопросы. Что успокаивает мою совесть? Я тебе скажу. Если бы мы попали в его руки, он не озадачивался бы морально-этическими проблемами. Нет, не озадачивался. Но в данный момент, Костя, повезло нам, а не тебе. Поэтому кончай строить из себя Зою Космодемьянскую, если ты знаешь, о ком я говорю, и отвечай на наши вопросы. Коротко и точно. И правдиво, разумеется. Итак, когда ты подал знак?
— Сразу, как только отъехали.
— Какой?
— Мигнул левым подфарником. Хотя поворачивали мы направо.
— Сигнал был заранее оговорен?
— Да.
— Кому ты подал сигнал?
— Не знаю.
— Это не текст в нашем разговоре. Костя. В нашем разговоре не может быть слов «не знаю».
— Но я действительно не знаю! Было почти темно, туман. Я и понятия не имею, кто увидел мой сигнал.
— А кто должен был увидеть?
— Этого я тоже не знаю. Маленький обернулся к товарищу.
— Боцман, выйди на три минуты, а? Не могу я издеваться над твоей изнеженной психикой. Клянусь, я не сделаю ему слишком больно. Я сделаю только так, чтобы он вспомнил, что такое боль. Заодно принеси полведра воды. Она может понадобиться.
— Нет! — сказал водитель. — Нет! Пожалуйста, не нужно! Я все скажу. Все, что знаю. Я действительно не знаю, кому подал знак, когда мы отъехали от дома Комарова. От меня ничего и не требовалось. Лишь мигнуть не повороте левым подфарником, если переговоры закончатся неудачей.
— Кому ты подал сигнал — не вопрос, — заметил маленький. — Ты подал сигнал убийце. Через двадцать минут Николай Иванович Комаров был застрелен.
— Я не имею к этому никакого отношения! — воскликнул водитель. — Клянусь жизнью моих детей! Клянусь всем, чем только можно!
— Я склонен поверить, — заметил Боцман, когда водитель перестал бить себя в грудь.
— А у меня и сомнений на этот счет не было, — ответил Мухин. — Нерационально. Для чего вводить в горячую схему лишнего человека? Его использовали для другого. И практически втемную. А вот кто использовал — это он знает и сейчас нам подробно расскажет. Ну, Костя? В какой-то из дней накануне убийства Комарова, а еще вернее — за неделю или даже за две, ты встретился с человеком, с которым раньше никогда не встречался. И встреча эта произошла по его инициативе, хотя и могла выглядеть совершенно случайной. Чтобы ты не перенапрягал свою память, подскажу, что именно этот человек приказал тебе дать сигнал, о котором мы только что говорили. Ты помнишь, конечно, этого человека?
— Да. Но я не знаю, кто он. Он никогда не представлялся и не называл себя. И губернатор его не называл. Однажды, примерно за неделю до всех этих событий, он вызвал меня и сказал: «Поговори с этим человеком». Мы спустились в холл первого этажа и поговорили.
— О чем? — спросил маленький.
— Разговор был пустой и дурацкий. Он спросил, нравится ли мне эта работа. Я сказал: да. А что? Зарплата нормальная, под машиной ночами не нужно лежать. А что не подхалтуришь — ну, сейчас с халтурой негусто, столько частников навалило, что по улицам не проехать. Он спросил, понимаю ли я, что на должности водителя губернатора должен быть человек, проверенный во всех отношениях. Я сказал: проверяйте. Сидеть я никогда не сидел, прав по пьянке не лишался, всего одна серьезная авария была в жизни, да и то не по моей вине. Принимаю тоже в меру, и с этой стороны ко мне не подкопаешься. Он сказал, что речь идет не о прошлом, и по биографии ко мне никаких претензий нет. Речь о будущем. Губернатор — серьезная политическая фигура, и он может стать объектом внимания криминальных группировок и даже западных разведок.
— Таким образом он дал понять, что представляет ФСБ? — уточнил Мухин.
— Вот именно — дал понять, — подтвердил водитель. — Никаких документов не показал, ни на кого не сослался.
— А ты не спросил его документы?
— Нет. Как-то неловко было. К тому же представил ему меня сам губернатор. Как я мог ему не доверять?
— Продолжай, — кивнул Боцман.
— А нечего продолжать. Побазарили и разошлись. Я пообещал сообщать ему, если замечу вокруг губернатора что-нибудь подозрительное.
— Он тебе дал телефон?
— Нет. Сказал, что сам будет звонить.
— Звонил?
— Нет. За неделю — ни разу. А потом пошла эта катавасия.
— Какая?
— Ну, выборы. Собрания, митинги, выступления по телевидению.
— Когда он тебе позвонил?
— Этот день я хорошо помню. Когда Комаров был зарегистрирован кандидатом в губернаторы. Все в конторе ходили и хохотали. У него не было ни одного шанса.
— О чем тебе сообщил этот человек?
— Попросил о встрече. Мы встретились в парке, в глухом месте. Он приказал мне отслеживать все, что связывает губернатора с Комаровым. И вообще, все, что у нас станет известно о Комарове. Я пообещал. А мне что? Это же не военная тайна, верно?
— Что ты ему сообщал?
— Ну, время от времени он звонил мне домой или в служебку, и я передавал то, о чем у нас треплются — больше и нечего было. Ну, а дня за три до того дня он приказал мне быть наготове и выполнить приказ, который он мне передаст — либо сам, либо через посредника.
— Приказ о сигнале?
— Да.
— Он передал его сам?
— Да.
— Опиши его, — вмешался в разговор Боцман. — Рост, вес, телосложение, особые приметы.
Водитель задумался. У него была хорошая зрительная память, и он неплохо запомнил таинственного незнакомца. Беспокоило его сейчас другое: стоит ли рассказывать про него этим парням, несущим в себе какую-то опасность, гораздо более серьезную, чем морду набить или даже покалечить в драке. Водитель всем своим опытным нутром чувствовал, что столкнулся с тем, с чем в жизни никогда не сталкивался, и самое разумное было дистанцироваться от этой опасной странности, вернуться в мирный и безопасный быт. Что для этого лучше: соврать этим парням или сказать правду?
— Лучше не врать, — словно бы угадав его мысли, подсказал маленький. — Во-первых, нехорошо. А во-вторых, опасно. Мы же узнаем правду, согласен?
И водитель решился. Да что он мне, брат или сват? Опасность, исходящая от незнакомца, была мнимая: ну, формальности в анкете будут копать, да копай, копай! А опасность, исходящая от этих парней, была настолько очевидной, что и думать о ней нечего было. Их дела — не анкеты и туманные разговоры про иностранные разведки. Их дела вот они, тут, в метре — боль и смерть. Да еще какая, твою мать, смерть! Если они не врали про этого Махмуд-хана, а очень не похоже, что они врали… Нет, не врали. По очень простой причине: им незачем врать. И если так… — Записывайте, — сказал водитель.
— Мы запомним, — успокоил его Боцман.
— Лет тридцати пяти, самую малость выше среднего роста, среднего телосложения, очень хорошо тренирован. Не накачан, как нынче молодежь, а по-настоящему тренирован.
— Почему ты так решил? — спросил маленький.
— Просто я видел, как он перепрыгнул через поваленный ствол липы. Я говорил, что первый раз мы встречались в парке. Так вот, он эту липу не стал обходить. Он просто взмыл над землей с места без всякого разбега и оказался на другой стороне. Потом, после встречи, я вернулся к этой липе. Раз пять разбегался, чтобы перепрыгнуть через нее — ни хрена. А он — одним движением.
— Вооружен?
— Да, что-то под мышкой торчит. Что — не знаю.
— Вам с губернатором приходится бывать в МВД, в ФСБ. Видел ты его там хоть раз? — задал вопрос маленький.
— Нет, ни разу. Даю дальше приметы, — продолжал водитель. — Темноволосый, с легкой сединой, довольно коротко постриженный. Одежда обычная, не ширпотреб, но и не фирма. И есть особая примета, из-за которой его ни с кем не спутаешь. На левой брови — небольшой шрамик. И как бы продолжение этого шрамика — на верхней левой губе. От этого у него всегда словно бы слегка насмешливое выражение. Такое, знаете, снисходительное. Думаю, что шрам на брови и на губе одного происхождения. Даже не знаю, чем можно так садануть человека, чтобы оставить такие памятки. Вот и все, что я знаю.
Маленький некоторое время пребывал в задумчивости, а потом весело похлопал водителя по плечу.
— Молоток, Костя. Ты сделал правильный выбор. Теперь только один, последний, вопрос, и уже ничто не сможет омрачить нашу дружбу.
— Давайте, — кивнул водитель.
Он уже не боялся никаких вопросов. Этого, со шрамом, как-то связанного с убийством Комарова, он уже сдал и чувствовал, что очень правильно сделал, а частные неясности, какие у этих ребят оставались, его ничуть не тревожили. Но вопрос, который он услышал от Боцмана, заставил его помертветь:
— Кому, кроме этого малого со шрамом, ты сливал информацию о губернаторе?
— Клянусь, никому!
— Не клянись, — предупредил маленький. — А то будет очень больно. Гораздо больней, чем в прошлый раз.
— Никому! — с трудом шевеля губами, повторил водитель.
— По-моему, ты не понял главного, — рассудительно проговорил маленький. — Ты пропал, Костик. Понимаешь? Пропал. Ты сейчас полностью зависишь от нас. Если у нас будет достаточно информации, мы выиграем эту игру, и ты останешься цел и невредим. Если нам не хватит информации, мы проиграем, и тебе тогда — кранты. Без вариантов. И у тебя сейчас только один выход: работать на нас без отгулов и выходных дней. Я даю тебе две минуты, чтобы осмыслить свое положение и принять решение. Добавлю: фигура, о которой я тебя спрашиваю, кажется тебе очень крупной. Но это не так. В этой игре задействованы такие тузы, что по сравнению с ними твой фигурант — просто таракан. И он будет раздавлен. Такова участь всех тараканов. А теперь думай. Даю тебе две минуты.
Ровно через две минуты водитель сказал:
— Согласен. Вы не даете мне выбора.
— Не даем, — подтвердил маленький. — Потому что и у нас самих выбора нет. Кто же он?
— Кэп.
— Кто такой Кэп?
— Кличка. Но его все так зовут. Когда-то очень давно он был капитаном траулера. Сейчас он держит весь порт и практически все железные дороги. Ему нужно знать, что происходит вокруг губернатора, потому что его бизнес напрямую связан с политикой. Поэтому я и давал ему информацию. Думаю, не только я. Но кто еще — этого я не знаю, честно, даже не спрашивайте. Так оказалось, что моя жизнь напрямую связана с вашей. Но я дам вам совет: не связывайтесь с Кэпом. Вы даже не представляете, какая у него власть. И у нас, и в Москве. На предстоящих выборах Кэп ставит на Хомутова. И Хомутов выиграет, что бы там Эдик Чемоданов ни говорил в своей программе «Голосуй сердцем».
— А что он говорил?
— Что «Яблоко» решило призвать своих последователей во втором туре выборов голосовать «против всех». Значит, у НДР — минус почти пятнадцать процентов избирателей «Яблока». И губернатор остается со своим двадцать одним процентом против Антонюка и ЛДПР. Завтра в вечерней программе Мазур объявит о позиции «Яблока» всем телезрителям.
— Расклад не в пользу губернатора, — заметил Боцман.
— Я же вам сказал, что на губернатора ставит Кэп! Вы никак не въедете, что это за фигура. Вы таких и у себя в Москве не видели. Не связывайтесь с Кэпом, ребята. Даже не пересекайтесь. Это и совет, и просьба, как угодно. Я хочу жить. Вы молодые, тоже хотите. А связаться с ним — конец только один.
— Скажу тебе честно. Костя, — проговорил Мухин. — У нас нет ни малейшего желания усложнять себе жизнь. А тем более связываться с каким-то могущественным и таинственным Кэпом. Извини, что мы тебя слегка облили и самую малость помяли. Ну, сам виноват, нужно было вникать в ситуацию сразу. Поехали.
— Куда? — растерянно спросил водитель.
— Ты — домой, а мы в пансионат «Европа», мы там остановились. Мы тебя довезем, только ты потом подробно расскажешь нам, как вернуться. Завтра на работе встретимся. Все никак въехать не можешь? Все очень просто. Костя. Все разговоры, которые мы сегодня вели, они так и остались в этом полуподвале. Понял? Все. А мы — новые охранники губернатора. И с завтрашнего дня приступаем к исполнению служебных обязанностей. Меня можешь звать Олегом. Его — Димкой или Дмитрием. Можно и Боцманом, но он предпочитает, чтобы так его звали только свои. Есть вопросы, Костя?
Вопросов у водителя было воз и маленькая тележка, но он счел за благо оставить все их при себе. Задал лишь один:
— А старые охранники куда денутся?
— Ну, Костик! — укоризненно проговорил маленький. — Хороший охранник всегда найдет себе работу.
— А не очень хороший?
— А не очень хороший на хрен никому не нужен. Потому что охранник — как скрипач: или он умеет играть, или нет. Среднего не существует.
На той же «тойоте» Мухин довез несколько ошалевшего от множества неожиданностей этого вечера водителя до его дома, потом загнал машину на стоянку пансионата «Европа». Но ни он, ни Боцман вылезать не спешили.
— Мало нам этого хрена со шрамом, так тут еще и Кэп вылез, — заметил Мухин.
— Лихо ты его с этим Кэпом прокачал, — одобрительно проговорил Боцман. — Я бы не допер. Поделись опытом.
— А хрен его знает! Я чувствую: боится он чего-то. Даже больше всех этих губернаторских дел и фээсбэшника, если он действительно фээсбэшник. Нутром чую: боится. А чего — понять не могу. Пришлось блефануть. Если бы он был уже не в такой кондиции, могло и не получиться.
— Даже не знаю, хорошо это, что получилось, или плохо.
— Информация никогда не бывает лишней. Даже плохая. Или тем более плохая, — поправился Мухин. — Проверь запись.
Боцман пощелкал кнопками диктофона, кивнул:
— Нормально.
— По телефону связываться с Пастухом нам нет резона, — подумав, заключил Мухин.
— Мы просто не знаем, что тут важно, а что нет, а он разберется. Значит, пленку нужно передать ему сегодня же. — Он немного подумал и добавил:
— Сейчас же.
«Тойота» вырулила со стоянки и минут через пять притормозила возле уличного телефона, у которого каким-то чудом не был раскурочен аппарат и не была оборвана телефонная трубка.
Глава пятая. Чужак
I
Политикой в городе К. занимались му… Трейлер резко затормозил. Я ушел вправо, и «чероки» впечатался в литой бампер.
Куда хотел впечатать меня. Слева мелькнула серебристая бочина трейлера, мой «пассат» швырнуло на каменистой обочине и выбросило на открытое шоссе. Я вбил педаль газа в пол.
Сто.
Сто десять.
Сто двадцать.
Сто тридцать.
«Яблочник» оглянулся на быстро удалявшуюся морду трейлера и закончил фразу, которую начал километра четыре назад:
— …гораздо сложней, чем кажется. — И только после этого спросил:
— Что это было?
…Поэтому я и говорю: политикой в городе К. занимались мужественные люди.
— Коробочка, — объяснил я. — Это когда вашу тачку блокируют спереди и сзади. А если еще и с боков, то это называется сундук. Или гроб.
— Очень выразительно, — подумав с полкилометра, сказал он.
Надо же. Антонюк оказался крепким мужиком.
А теперь вот и «яблочник».
Игорь Борисович Мазур. Белорус. Уроженец города К. Сорок четыре года. Женат, двое детей. После армии закончил экономический факультет МГУ и заочную аспирантуру. Доктор наук. Заведующий кафедрой экономики КГТУ — Государственного технического университета города К.
Там я его и отловил. Последняя лекция у него заканчивалась в 14.30, а его выступление в программе Эдуарда Чемоданова «Голосуй сердцем» было назначено на 17.20.
Сто пятьдесят.
Сто пятьдесят пять.
Сто шестьдесят.
Из-за трейлера вырвался наконец красный «понтиак» и начал быстро сокращать разрыв. «Чероки» не было видно. Похоже, приехал. «Понтиак» пер под двести.
Низкая посадка, длинная хищная морда. Пятилитровый движок, турбонаддув. А из «пассата» уже ничего не выжмешь. Нет, выжималось.
Сто шестьдесят пять.
Давай, милок, давай!
Сто семьдесят.
Ну, и за это спасибо.
— В вашей машине можно курить? — спросил Мазур.
— Это не моя машина.
— А чья?
— Банка «Народный кредит». Мне дали ее на время. Покататься.
— И мы катаемся?
— Вроде того.
— Тогда я, с вашего позволения, закурю. Он охлопал карманы, извлек мятую пачку «Примы» и закурил. «Прима». Надо же. Редко кто сейчас курит «Приму». Работяги.
Но не интеллигенты. Особенно такие, как Мазур. Он был интеллигентом даже не внешне, хотя тут все было на месте: неухоженная бородка, криво подстриженные усы, взлохмаченная шевелюра. Нет, по внутреннему устройству мозгов. Такой никогда не скажет «нет» или «да». Он скажет: «боюсь, что нет», «полагаю, что да». Он так и сказал мне, когда я перехватил его на выходе из главного корпуса университета, втолкнул в «пассат» и шустрой весенней куропаткой выпорхнул из-под морды «гранд-чероки», пока его водила пялился на ляжки студенток:
— Вы уверены, что мне следовало садиться в вашу машину?
А чуть позже, когда «чероки» и «понтиак» гнали меня по городу, как борзые зайца, поинтересовался:
— Вам не кажется, что мы не совсем корректны по отношению к другим участникам дорожного движения?
Вот тогда я его и спросил, почему он так сложно объясняет свою предвыборную программу. Чтобы отвлечь от мелочей жизни. И он охотно отвлекся.
А вот курил он совсем не как интеллигент. Сигарету держал не между пальцами, а как бы в горсти. И затягивался коротко, быстро.
Ничего не понимаю. «Зеки» так курят. Из диссидентов? Но в его биографии, напечатанной в предвыборных листовках, ничего про это не было. А такое не скрывают. На нынешнем политическом рынке отсидка за клеветнические измышления, порочащие советский государственный и общественный строй, — знак качества.
«Понтиак» доставал. И дорога, как на грех, была пустая. Двое. И в «чероки» было тоже двое. По колесам будут палить? Или не по колесам? Раньше не могли, было много машин. Теперь смогут.
— Я не до конца ответил на ваш вопрос, — проговорил Мазур, аккуратно погасив окурок в пепельнице. — То, что наша экономическая программа гораздо сложней, чем я ее излагал, это лишь часть ответа. Важней другое. Мы намеренно не хотим ее упрощать. Безнравственно заигрывать с простым народом. Кухарка не может управлять государством. Это уже поняли. Но не до конца. Все еще жива иллюзия, что вот придет тот, кто все знает. Не придет. Потому что его нет. Экономика больна. Болезнь тяжелая, с множеством осложнений. Только шарлатан может сказать, что он знает, как вылечить эту болезнь. Мы не знаем. И честно об этом говорим.
Мы знаем лишь подходы к лечению… Сто пятьдесят метров разрыва.
Сто.
— Но чтобы эти подходы реализовать… Пятьдесят.
…Боковое стекло «понтиака» опустилось. Высунулся локоть в черном кожане. Потом плечо. Сейчас и ствол появится, если я хоть что-нибудь понимаю в жизни.
Двадцать.
— Держитесь!
Я дал по тормозам. И тут же по газу. «Пассат» запнулся и рванул вперед.
«Понтиак» вильнул, но в кювет не вылетел, надежду на что я лелеял в глубине души. Лишь встал поперек дороги. И ни одной машины навстречу. Такая жалость.
Одно утешало: за рулем был не Михаэль Шумахер. Явно не Шумахер. Как, кстати сказать, и за рулем «чероки».
У «понтиака» так крутанулись передние ведущие, что задымилась резина. Разрыв пошел нарастать. Ненадолго, но все-таки.
— С такими подходами вы никогда не станете губернатором, — заметил я. — А ваш главный «яблочник» — президентом России.
— Станем. Когда люди объедятся простыми решениями. Сейчас для нас гораздо важней укрепить позиции в законодательной ветви. Потому что пока не созданы макроэкономические предпосылки…
Далеко впереди появилась какая-то каракатица. Самоходный комбайн с высокой будкой. Льноуборочный. Здесь, видно, тоже лен выращивают, как и в наших краях.
Он трюхал, приподняв над дорогой жатку и теребилку, заняв ими всю проезжую часть, Похоже, это был мой единственный шанс. Я сбросил скорость. «Понтиак» стремительно приближался. Мазур оглянулся и спросил:
— Что это за автомобиль?
— Спортивный «понтиак». Восемь цилиндров. Четыреста лошадиных сил.
— Быстрая машина, — оценил Мазур.
— Пригнитесь. И держитесь покрепче. Вовремя я это сказал. В заднем стекле появилась дырка. Пуля застряла в обшивке потолка. И снова: дзинь — шмяк. Из чего же он, сволочь, лупит? Не ПМ. И не ТТ. Начальная скорость пули будь здоров.
Иначе триплекс осыпался бы, а тут стоит себе, только сквознячок загулял по салону.
«Понтиак» пошел на обгон. Запас скорости у него был приличный. Но и у меня было кое-что в резерве. Снова грохнуло. Уже слева, почти в упор. И еще. Сука. Я только успевал пригибаться. Боковые стекла «пассата» тоже заискрились пробоинами. Водилу «понтиака» эта пальба наверняка отвлекала. Ну как, интересно же, блин.
Сто шестьдесят.
Сто шестьдесят пять.
Комбайн стремительно вырастал в размерах. Я до упора всадил педаль газа в пол и начал отжимать «понтиак» влево.
Сто семьдесят.
Водила «понтиака» быстро все понял. Но поздно. Рывка у него уже не было, а отстать я ему не дал. Он крутанул руль вправо. Заскрежетало железо о железо.
Нет, не Шумахер.
Быстрая машина «понтиак». Но легкая.
…— Можете подняться, — сказал я Мазуру.
— А где «понтиак»? — спросил он.
— Сейчас посмотрим.
Я развернул «пассат» и погнал к городу. «Понтиак» был где надо. Под комбайном.
Крышу ему начисто срезало. Ножами жатки. И не только крышу. А комбайнер даже не успел вылезти из своей будки. Верней, пытался, но не мог. От удара будку перекосило и заклинило дверцу.
Я обогнул комбайн, не снижая скорости.
— Вернитесь! — запротестовал Мазур. — Им, возможно, нужна помощь!
— Им уже не нужна. А вам в семнадцать двадцать выходить в эфир.
— Мы обязаны немедленно сообщить милиции!
— О чем? — спросил я.
— О том, что видели!
— А что вы видели?
— Я слышал выстрелы!
— Серьезно? А я не слышал. Значит, вы твердо намерены призвать своих избирателей голосовать «против всех»? Вас не останавливает, что это откроет путь в губернаторы Антонюку?
— На все вопросы я отвечу в передаче, — сухо сказал Мазур.
— С интересом послушаю.
Он некоторое время молчал, потом спросил:
— После передачи мы снова поедем, как вы это называете, кататься?
— Нет. После передачи вам уже ничего не будет грозить.
— Вы полагаете, мне что-то грозило?
Достал он меня своими «полагаете». Поэтому я ответил резче, чем, наверное, следовало:
— А вы полагаете — нет?
— Что? — спросил Мазур.
— Это уже неважно.
— Я предпочел бы более конкретный ответ.
— Вас могли изолировать. В лучшем случае — до конца выборов.
— А в худшем?
Я промолчал.
* * *
Мы снова въехали в вековую липовую аллею, которыми были обсажены все загородные шоссе.
Машин стало больше. Я пристроился в правом ряду, а сам все посматривал налево. А вот и трейлер — «ситроен» с двадцатиметровым изотермическим кузовом. А вот и гаишник оформляет аварию. А вот и водила с напарником чешут репы, разглядывая лужу тосола, вылившегося из разбитого радиатора «чероки».
Мазур не обратил на это внимания — был слишком погружен в раздумья.
— У вас больное воображение, — сказал наконец он.
— Возможно, — согласился я и кивнул на дырки в триплексе. — Знаете, что это такое? Это плод моего больного воображения.
Впереди слева над красными черепичными крышами предместий обозначилась игла телебашни. Вершина ее была скрыта низкими клочковатыми облаками. Езды до телецентра было не больше получаса. Поэтому я свернул к какому-то придорожному кафе и заглушил движок. Объяснил Мазуру:
— У нас есть в запасе немного времени. Вы не могли бы объяснить мне некоторые детали нынешних выборов? Я здесь чужак, мне многое непонятно.
— Вы не производите впечатление человека, которого интересует политика, — заметил Мазур.
За ним прямо хоть записывай. А потом вставляй в интеллигентной компании. «Не производите впечатление человека, которого…» Нужно будет запомнить.
— Верно, — подтвердил я. — Меня интересует практика. С какой программой шел на выборы «Социально-экологический союз»?
— Обычная программа «зеленых». С местным коэффициентом. На Балтике, как вы знаете, базы военно-морского флота. В том числе и атомных подводных лодок. Хранение отходов, опасность радиоактивного заражения побережья. Вас, мне кажется, не «Социально-экологический союз» интересует, а Комаров. Я не ошибся?
— У них были разные программы?
— Нет. Одинаковые. Но у Комарова была своя идея-фикс. Ее он и хотел озвучить в ходе предвыборной кампании. Для этого, собственно, он и организовал свое выдвижение в кандидаты. Проявив при этом энергию, которой от него никто не ждал.
До этого экологи никогда не выступали в качестве самостоятельной силы.
— Какая идея?
Этот простой, как мне казалось, вопрос заставил Мазура надолго задуматься.
— Кто нас преследовал? — наконец спросил он. — На джипе и «понтиаке».
— Не знаю, — почти честно ответил я.
— Я по-другому спрошу: спецслужбы?
— Если спецслужбы, то не российские.
— Почему?
— На этот вопрос вы сами ответили.
— То есть?
— Джип «гранд-чероки», даже не очень новый, стоит тысяч тридцать баксов. А спортивный «понтиак» не меньше пятидесяти.
— И что? — спросил Мазур.
— Игорь Борисович, вы же экономист.
— Вы хотите сказать, что наши спецслужбы находятся на госбюджете и у них нет денег на такие машины? Но мы не знаем, какими бюджетными средствами они располагают. Или вы знаете?
— Большими, — согласился я. — Точно, конечно, не знаю, но думаю, что большими. Или даже очень большими. Для реализации конкретных программ. Но не для того, чтобы раскатывать на спортивных «понтиаках» и таких джипах.
— Но ведь кто-то раскатывает.
— Раскатывал, — уточнил я. — Другие продолжают раскатывать. В городе много элитных тачек. Даже слишком много для скромного областного центра.
— Кто вы такой?
Наконец-то он задал этот вопрос. Раньше интеллигентность не позволяла. Или сам пытался понять.
— Начальник охраны Антонюка, — с готовностью объяснил я. — Показать документы?
— Я и так верю. Но не думаю, что этим исчерпываются ваши функции.
Не, в натуре. Нужно записывать. Все не упомнишь.
— Игорь Борисович, а ведь я задал вам очень простой вопрос. Какая идея-фикс была у Комарова? Всего-то.
— Это вам он кажется простым. Его идея была такого рода, что если бы я не знал Николая Ивановича добрый десяток лет, я решил бы, что у него, как говорят мои студенты, крыша поехала. Откровенно говоря, у меня были на этот счет сомнения. До сегодняшнего дня. Есть вещи, которые не укладываются в рамки обыденного сознания. Но это не значит, что их нет. Они есть. Сегодня я в этом убедился. — Он поковырял пальцем пробоину в стекле на пассажирской дверце и повторил:
— Да, убедился. Я до сих пор не могу поверить, что моей жизни угрожала опасность. Но ваши действия — сколь бы сомнительными они ни были с правовой точки зрения — вынуждают меня быть с вами откровенным. — Он подумал и добавил:
— Кем бы вы ни были. В конце концов, я ничего не утверждаю. Это лишь мои предположения. И только.
— Взлетайте, Игорь Борисович, — поторопил я. — Так вы весь керосин сожжете на старте.
— Вы помните карту северо-запада России?
— В общих чертах.
— Этого хватит. Когда-то Петр Первый прорубил здесь, как мы еще в школе учили, окно в Европу. Сталин довершил его дело, захватив Прибалтику. Сейчас от этого окна у России остались только порт в Санкт-Петербурге и наш. Таллин, Рига, Клайпеда, Лиепая, Вентспилс — все это уже заграница. Причем наш порт на семьсот миль ближе к Западной Европе, чем петербургский. Это больше тысячи километров. Возьмите это себе на заметку. А теперь о Комарове. Он был историком. Не только по образованию и профессии. По складу ума. Специализировался на истории Балтики, Варяжского моря. Он знал, сколько гривен стоил пуд меда на новгородском торжище, и не знал, сколько стоит килограмм меда на нашем рынке. Историю он рассматривал сквозь призму балтийского товарообмена. Кандидатскую защитил по средним векам. В докторской подбирался к нашему времени. Тему, естественно, зарубили. Слишком очевидными выглядели причины добровольного вхождения Прибалтийских республик в состав СССР. Но тему легко зарубить. Мысль остановить трудней. Хотя и можно.
— Если ее вышибить вместе с мозгами, — подсказал я.
— Это я и имел в виду. Так вот. У меня такое ощущение, что все пертурбации с развалом Советского Союза и прочими делами прошли как-то мимо него. Когда же он однажды вынырнул из исторической библиотеки и оглянулся окрест, то увидел то, чего мы не видели. Верней, видели, но не осознавали в исторической перспективе.
Наше видение было одномерным. Что он увидел? Противоестественность положения, при котором огромная Россия не имеет границы с индустриальной Европой. Россия заперта. Украиной, Белоруссией, Балтией. Закупорена, как бочка, в которой нарастает огромное внутреннее давление. Нефть, лес, уголь, руда, металл. И чем больше оживает наша промышленность, тем выше это давление. Вы не обратили внимание на шум вокруг идеи союза с Белоруссией?
— Обратил, но не понял.
— Это была одна из попыток правительства раскупорить Россию. Какой, по-вашему, вывод сделал из этого Комаров?
— Какой? — послушно повторил я, чувствуя, что его лекция уносит меня в выси геополитики, которая в данный момент меня меньше всего интересовала.
— Очевидный. Что так долго продолжаться не может.
— За это не убивают, — попытался я вернуть его на грешную землю.
— Не спешите, молодой человек. Эту очевидность он интерпретировал совершенно неожиданным образом. Чего не смог сделать даже я, экономист. Он, в частности, настоял, чтобы его сын начал скупать акции нашего пароходства. Его только что приватизировали, и порт, по существу, бездействовал. Весь грузопоток шел через Эстонию и Латвию. У сына был небольшой магазин, челночный бизнес. Все продали и вложили деньги в акции. Николай Иванович был настолько убежден в своем прогнозе, что даже взял большой кредит под залог своей половины дома и уникальной библиотеки, которую собирал всю жизнь. Под очень высокие проценты.
— И не сумел вернуть? — предположил я.
— Вы ищете простые решения. В том-то и дело, что сумел. Сейчас его сыну принадлежит компания «Интербалт». Лесовозы и танкеры. Оборот — около миллиона долларов в год. Мелочь по сравнению с другими воротилами. Но важен сам факт.
Акции нашего пароходства скакнули почти в пятьсот раз. Практически за один день.
Соответственно обесценились акции таллинского порта. Потому что произошло событие, которое Комаров предугадал. Скажем так: он предугадал не это событие, а возможность очень крутого поворота ситуации. Неизбежность этого поворота. Я почему это знаю — он брал у меня сводные данные.
— Что же это за событие?
Мазур снова закурил «Приму». Уже не спрашивая у меня разрешения. И курил так же — из горсти, быстрыми жадными затяжками.
— Здесь мы подходим к главному. Вы слышали о взрыве автопарома «Регата»? Чуть больше года назад. Он шел из Таллина в Гамбург.
— Что-то слышал, — подтвердил я.
— Не могли не слышать. Об этом целую неделю все газеты писали. И по телевизору передавали. Двести десять погибших. Причины взрыва не установлены. Это и было то событие, которое предугадал Комаров.
— Минутку. Вы хотите сказать…
— Я ничего не хочу сказать, — перебил меня Мазур. — Я не подсказываю вам никаких выводов.
— Но вы сами сказали, что причины взрыва не установлены.
— Конкретные. Версий множество. Бесспорно одно: взрыв произошел в трюме. У Николая Ивановича не было никаких фактов. И не могло быть. Но он задал вопрос:
«Cui prodest?» «Кому выгодно?» Вы не были у нас в порту?
— Нет.
— Съездите, посмотрите. Поучительное зрелище. Еще год назад там можно было снимать фильмы про великую американскую депрессию. Сейчас такие фильмы можно снимать только на одной половине порта. А на другой уже нельзя. Половина акций находится у государства, а половина — в частных руках. Но и при этом наш порт уже второй по грузообороту после Питера. И будет первым. Это неизбежно. Именно потому, что он на семьсот миль ближе к Европе. А каждая лишняя тонно-миля делает фрахт золотым.
— Ничего не понимаю, — признался я. — Какую все-таки идею Комаров хотел озвучить в предвыборной кампании?
— Я могу только предполагать. Зная его нравственные установки. Аморально строить свое благополучие на чужой крови. Это общеизвестно. Но он пошел дальше. Он считал, что любая антигуманная политика в конечном счете оборачивается не только крахом правителей, но и трагедией для всего народа. Подтверждений хватает. Сталин, Гитлер, далее везде. С позитивом трудней. Разве что Господин Великий Новгород времен Марфы Посадницы. Николай Иванович очень любил это время.
Я завел движок.
— Поехали, Игорь Борисович. А то вы на передачу опоздаете.
— Заглушите. У нас есть еще несколько минут. Ладно, я скажу прямо. Он хотел потребовать от Президента России провести расследование причин взрыва «Регаты» и возможности причастности к нему российских спецслужб.
Однако!
— Это могли быть бандитские разборки, — сказал я первое, что пришло в голову.
— Вы плохо представляете себе, о чем идет речь. Огромный автомобильный паром. Водоизмещением больше ста тысяч тонн. Сотни машин, полторы тысячи пассажиров. И затонул в открытом море, в двухстах милях от берега.
— Загнать в трюм «рафик» с взрывчаткой. Часовой механизм или радиовзрыватель. И все дела.
— Вы в этом, похоже, разбираетесь лучше меня. И лучше Комарова.
— А заявление написать?
— Он писал. Даже в Москву ездил. Без толку.
— Ничего удивительного. Для такого обвинения нужны доказательства.
— Вы не поняли меня. Он никого не обвинял. Он хотел потребовать самого тщательного расследования, чтобы подтвердить подозрения или окончательно их рассеять.
— Чьи подозрения?
— Вопрос «Кому выгодно?» задавал себе не только Николай Иванович. В Таллине тоже об этом думали. И до сих пор, вероятно, думают. Эта мысль была для него невыносима. Он очень доверчиво, как-то даже по-детски, воспринял демократические идеалы новой России. Мы много говорили об этом. Он предлагал мне включить этот запрос в нашу предвыборную программу.
— И вы отказались?
— Я в это не верил.
— Антонюку и жириновцу он тоже предлагал?
— Исключено. Они для него не существовали.
— Губернатору?
— Возможно.
— И тогда он решил, что заставит себя слушать, — заключил я. — Вам и сейчас его подозрения кажутся бредом?
Мазур только развел руками.
— Cui prodest? Это наводит на очень серьезные размышления.
— Есть еще кое-что, что наводит на размышления, — заметил я.
— Что?
— Убийство Комарова.
— Боюсь, что вы правы.
— Еще один вопрос. Показывал ли вам Николай Иванович какие-либо документы, которые могли иметь отношение к взрыву? Пусть не прямое, а косвенное.
— Документы? — переспросил Мазур. — Нет. Я же говорю, что у него не было и не могло быть никаких документов.
— Некто неизвестный передал Николаю Ивановичу пачку документов в большом коричневом конверте. Я не знаю, что это за документы, но думаю, что они были причиной смерти Комарова. Вы видели их у него?
Мазур подумал и уверенно покачал головой:
— Нет. Я не видел у него никаких документов. Можете положиться на мое слово. Никаких. И ничего он мне о них не говорил. А теперь, прошу вас, поедем. Если можно, быстрей. Мне не хотелось бы опоздать. Это очень ответственная для нас передача.
* * *
Без трех минут пять я высадил Мазура у проходной телестудии. А перед этим спросил:
— Вы где служили, Игорь Борисович? Десант? Морская пехота?
— Нет. Во внутренних войсках. Под Сыктывкаром. В лагерной охране.
Так вот откуда у него привычка так курить. Что «зек» в зоне, что «попка» на вышке. И снег тот же. И дождь тот же. Надо же, на всю жизнь сохранилась. Или он так курит, только когда волнуется?
— А почему вы спросили? — поинтересовался Мазур.
— У вас завидная выдержка, — объяснил я.
— Выдержка? — переспросил он. — Да когда вы впихнули меня в машину, я попросту о…л!
— Как?! — поразился я.
— Да так. Просто о…л, и все.
А вот тут и я. То же самое.
— Откуда у вас такой синяк? — уже выйдя из машины, спросил он. — Когда я садился, его вроде не было.
— Был, Игорь Борисович, был.
От проходной к нему уже бежал Эдуард Чемоданов, возмущенно поблескивая своими левоэсеровскими очочками.
— Вы меня режете! Через двадцать минут эфир! Бегом в гримерку!
Они проскочили проходную и потрусили через асфальтированный двор к приземистому зданию телецентра, стоявшему чуть поодаль от вышки.
Оба с бороденками.
Как два козла.
II
Cui prodest.
Как говорил таких случаях один незнакомый, но глубоко симпатичный мне охранник по имени Степаныч: «Голуба-мама!»
Странно как-то эта «шестерка» стоит. Все «москвичи» и «жигулята» телевизионщиков сгрудились у проходной, а эта в сторонке. Будто специально выставлена для угона.
Вохровец ее захочет — не увидит. Даже когда открывает ворота. Как сейчас, перед «газелью» с синим тентом и надписью на боках «Продукты».
«ВАЗ-2106». Светлый беж. Не по здешнему климату цвет. В тумане ее даже днем не сразу разглядишь. А уж вечером, да если туман… И тут меня словно садануло под дых.
И включился хронометр.
Какие цифры бегут на дисплее, я не знал. Знал только, что они мелькают, как сотые доли секунды на олимпийском табло в финале спринтерского забега.
И идут на убыль.
А в конце — ноль.
Я перемахнул через борт «газели» и плюхнулся на железный пол между картонными ящиками и молочными флягами. А когда «газель» въехала на территорию и остановилась на грузовом дворе с тыльной стороны телецентра, соскочил и вбежал в здание.
Сердце у меня молотило, как… Где тут что?
Ну не учили нас штурмовать телецентры!
Ткнулся в одну дверь. Заперто. В другую. Лестница. Взлетел на второй этаж.
Длинный тусклый коридор с одинаковыми дверями по сторонам. Одна открыта. Мотки киноленты, стол с экраном. Монтажная? Никого. У двери тележка на резиновом ходу с плоскими жестяными коробками. Синий халат на ручке. Азбука выживания: все, что движется, съедобно, попал в сортир — маскируйся говном. Натянул халат поверх плаща. Маловат, но тут не «Ле Монти». Рванул по коридору, толкая перед собой тележку.
Еще одна лестничная клетка. Проскочил. Стоп, кто-то там был. Точно. Девица в белом халате. Курит. Странное что-то курит. Испугалась, спрятала сигарету за спину. Травку, что ли? Похоже на то. И морда наглая от испуга. Ну, Амстердам.
— Миленькая, где здесь гримерка?
— Да тебе никакая гримерка не поможет. — Вот зараза. Но снизошла:
— Прямо, направо, в другом конце от эфирной. Новенький, что ли?
Знать бы еще, где эта эфирная.
Еще коридор. Такой же длинный и тусклый. Прямо фильм ужасов, а не телестудия.
Да где же эта проклятая гримерка?
Гримерку я так и не увидел. Зато увидел, как из-за угла вывернули Мазур и Чемоданов и трусцой двинулись мне навстречу. Я быстро отвернулся, наклонился к коробкам. Пропустил их и покатил следом. Благо пол был покрыт ковролином, а они слишком спешили, чтобы оглядываться.
Впереди загорелось табло над большой дверью: «Микрофон». Это, видно, и была эфирная.
Мазур и Чемоданов перешли на рысь. Я подтянулся метров на пять.
Где-то здесь. И сейчас. Если я хоть что-нибудь понимаю в. жизни. Не эта дверь. И не эта. И не… Эта.
Приоткрыта. Чуть. На три пальца.
Мазур и Чемоданов пробежали мимо.
Отсчет — ноль.
Дверь дернулась. Я с размаху всадил в нее тележку. Захлопнулась. Коробки покатились по коридору. Мазур и Чемоданов скрылись в студии. Я рванул дверь на себя и нырком ушел вниз. Пока катился по полу, позади шмякало — пули шли в ковролин. А сверху чпокало.
Чпок-шмяк.
Восемь.
Девятым был щелк.
Самый паскудный звук, когда его издает твой «Макаров» или «калаш». И самый прекрасный, когда не твой.
Кач — фляк — сальто. У Мухи это лучше, конечно, получалось. И у егоровского Мини неплохо. Но и у меня получилось.
Он бы ушел, если бы сразу бросил пушку. Но он решил, что успеет сменить обойму.
Почти успел.
Я выбрался из-под сразу ставшего тяжелым тела и кинулся в коридор. Елки!
Коробки. Наткнется кто — сразу заглянет в комнату. А мне ни к чему, чтобы раньше времени поднялся переполох. Сначала нужно самому разобраться, что к чему. Втащил коробки вместе с тележкой. Запер дверь изнутри. Вот теперь можно и осмотреться.
Похоже, я слегка погорячился. Но при таких скоротечных, научно выражаясь, контактах лучше пере-, чем недо-. Полезней для здоровья. Не учебный бой на татами, прием не обозначается, а проводится до конца. До точки.
Так и есть. Глаза у него были открыты, а из угла рта текла струйка крови.
Странно все-таки. Сломана шея, а кровь идет изо рта.
Короткие черные волосы.
Низкий лоб.
Приплюснутый нос.
Тот самый.
Голуба-мама!
Какая-то слишком бурная жизнь у меня пошла. Почти две недели груши околачивал, а тут на тебе.
Документов, конечно, никаких. Ни в одном кармане, ни в другом. А в джинсах?
Есть. Права и техпаспорт.
Матвей Галиевич Салахов.
Вот, значит, ты кто. Матвей.
Автомобиль «ВАЗ-2106». Номер местный. Цвет: светлый беж.
Тот самый цвет. Неподходящий для туманного балтийского климата. Но очень подходящий для слежки.
Как же я не просек? А ведь чуял. Холодело в затылке. И возле обкомовского дома.
И на автовокзале.
Сведения о владельце. Местожительство: город К., ул. Первая Строительная.
Ну, это я уже знал. Почти наверняка. Еще после визита к Юрию Комарову. Конечно, Первая Строительная. И этого Матвея народ знает с пеленок. И потому никто даже внимания на него не обратил.
Я сунул документы на место.
Теперь пушка. Она так и осталась в руке Матвея.
Глушачок. Как же без него.
Ух ты! А пушечка-то знакомая. Ну, конечно же. «Токагипт-58». И царапинка на стволе.
Так-так.
Было у меня ощущение, что этот «тэтэшник» ко мне вернется. Вот он и вернулся. Но забирать его я не спешил. Сначала нужно было понять: уходить или вызывать милицию.
Раздумывал я целую вечность. Секунд восемь. Пока не спохватился: да что ж это я торчу, как… Без вариантов. Сначала уходить, а потом думать. Потому что если сначала думать, то потом уходить будет поздно.
Ну и как же ты, Матвей, хотел уходить?
«Сто часов теорию отхода слушает в училище пехота». Не помню, чьи стихи. Не очень складные, но правильные. У нас тоже было часов сто. Если не двести.
Я огляделся.
Комната была большая, с письменными столами, заваленными бумагами. Компьютер на одном. Редакторская?
Включенный монитор в углу с застывшей заставкой «Голосуй сердцем».
И восемь дыр в полу, затянутом серым ковролином.
…Подряд, как короткая автоматная очередь.
Похоже, мне здорово повезло. Тьфу-тьфу, чтоб не сглазить.
Так что гильзы можно не собирать. Бесполезно. Пули из пола мне все равно не выковырнуть. Оперативники выковырнут. И отправят на баллистическую экспертизу.
Разрешение на ствол выдано в Москве. Вопрос: отстреливали его? Если да, то он есть в картотеке. И я имею шанс в самом близком времени снова встретиться с капитаном Смирновым и майором Кривошеевым. И услышать вопрос: каким образом у гражданина Салахова, убитого в здании телецентра, оказался ваш пистолет марки «Токагипт-58» номер такой-то. И тут уж не пятнадцатью сутками пахнет. Возможно, мне удастся доказать, что я не верблюд. Но далеко не сразу. Через полгода примерно. Или через год. Сидя в местном СИЗО, А у меня не было в запасе года. У меня было меньше двух недель.
Как-то не очень ладно все складывается. Но «токагипт» придется забрать. А заодно уж и запасную обойму. И кобуру. Чтобы не озадачивать капитана Смирнова и майора Кривошеева лишними вопросами. Кобура есть, дырки в полу есть, гильзы валяются, а пушки нет. Это как?
Ладно. А это что за дверь?
Еще одна лестница. Тут у них везде лестницы.
Вниз.
Похоже, технический ход. В какие-нибудь аппаратные. А оттуда наверняка во двор.
А там в дырку в заборе. Не через проходную же он собирался идти. Через дырку, а потом бочком-бочком вдоль ограды к «шестерке» цвета светлый беж. Незаметной в сгущающихся сумерках. И в наползающем с моря тумане.
Вот это и был его маршрут отхода.
Придется воспользоваться, выбора не было. В коридоры не сунешься. Не заблужусь, так засвечусь. С моим-то фингалом. Пока можно было надеяться, что любительница травки не свяжет мое появление с хипежем, который поднимется после того, как в редакторской обнаружат труп, что — по оптимистичным моим прикидкам — произойдет завтра утром. А про прикидки пессимистические лучше было вообще не думать.
Я и не стал думать. Завернул «токагипт» в какой-то драный полиэтиленовый пакет, чтобы не оставить на нем свои пальцы (лишняя осторожность еще никому не мешала), сунул пакет за пазуху, старательно протер дверные ручки и ручку тележки и вышел в заднюю дверь.
И уже с порога услышал:
«Дорогие друзья, сегодня в нашей программе — лидер областной организации «Яблоко», доктор экономических наук Игорь Борисович Мазур. Обратите внимание на часы в студии. Семнадцать часов двадцать три минуты. Это означает, что мы в прямом эфире…»
Господи, вразуми.
Твой ли я воин?
Или Царя Тьмы?
III
«Обратите внимание на часы в студии. Семнадцать часов двадцать три минуты. Это означает, что мы в прямом эфире…»
Я взглянул на свою «сейку». 23.30. Это означало, что передача идет в записи.
Повтор. Для тех, кому разные срочные дела помешали посмотреть передачу в прямом эфире, но кто непременно хочет ее увидеть.
Для таких, как я.
Срочных дел сегодня у меня было два. Первое: незаметно выбраться из телецентра, что я и сделал, воспользовавшись очень грамотно выбранным Матвеем маршрутом отхода. Это заняло у меня ровно шесть минут. Еще минуты четыре ушло на то, чтобы завалить лестницу разной тарой от видео- и радиотехники.
Второе дело оказалось гораздо более затяжным: нужно было привести в порядок «пассат». Не хотелось ездить по городу с ободранной и примятой при знакомстве с «понтиаком» левой бочиной и особенно с дырками в стеклах. Не лето. И не только в стеклах. При ближайшем рассмотрении и в Левой задней дверце обнаружилась дырка.
Все это не простудой от сквознячка грозило, а очень неприятными вопросами, которые мог задать мне любой гаишник. Как раз такими, какие выразились на лице менеджера техцентра по ремонту иномарок, к подъездной площадке которого я подогнал тачку в робкой надежде, что световая реклама «Для вас открыто всегда» соответствует истине.
Соответствовала, блин. На площадку вышел вызванный охранником менеджер, здоровенный слесарюга в синем фирменном комбинезоне и кепке с длинным козырьком, задумчиво обошел «пассат», сунул палец в дырку на заднем стекле, потом в дырку на дверце и посмотрел на меня, как бы говоря: «Мы не имеем права принимать такие машины в ремонт без справки из милиции, так как не вызывает сомнения, что автомобиль побывал под легким автоматным огнем».
В ответ я только развел руками, как бы отвечая:
«Понятия не имею, о чем это вы говорите».
После чего извлек зеленую бумажку с портретом Бенджамина Франклина и показал ему, как бы говоря: «Не кажется ли вам, что эти пробоины сделаны не автоматным огнем, а всего лишь охотничьим оружием во время случайных выстрелов? Сами знаете, как это бывает. Поехали на охоту, слегка это самое, то да се, а?»
Он с сомнением покачал головой, как бы отвечая: «Я готов согласиться, что это не автоматные пробоины, а пистолетные. Что же до вашей версии об охотничьем оружии, то она не кажется мне убедительной, так как сезон охоты на водоплавающую дичь уже закончился, а охота на диких копытных животных еще не разрешена».
Второй стольник поколебал и эту его убежденность, а третий заставил признать, что пробоины вполне могли быть сделаны из охотничьей одностволки, но очень, очень небольшого калибра. Совсем маленького.
Забрав баксы, он красноречивым жестом велел мне отогнать тачку в дальний темный угол площадки, сам скрылся в проходной и через десять минут появился с небольшой кувалдой в руках. Под ударами этой кувалды продырявленные стекла «пассата» превратились в стеклянную крупу. Менеджер посмотрел на дело рук своих, сокрушенно покачал головой и сказал:
— Ну, народ! Не могут спокойно видеть, как кто-то ездит в хорошей машине. Хулиганье, да и только! Нет, что вы ни говорите, а при коммунизме такого не было! — И разрешил:
— Загоняй.
* * *
Как выразился однажды примерно в такой же ситуации Артист:
— Вот за что мне нравятся новые времена: людям стало гораздо легче понимать друг друга.
Бабки как внеречевое средство общения. Не менее выразительное, чем музыка, живопись или балет. И чем их больше, тем меньше слов требуется.
Впрочем, за хорошие бабки и при коммунизме взаимопонимание достигалось довольно быстро.
* * *
Ремонт грозил затянуться часа на три, а то и на все четыре. Помозолив всем глаза в цехе и в курилке, где свободные от работы и до изумления трезвые слесаря забивали «козла», я отыскал на заднем дворе техцентра грузовой выезд, тормознул «левака» и немного покатался по городу. Вместе с короткой остановкой у автовокзала и более продолжительной у «Макдональдса» это заняло у меня минут сорок. Так что, когда я тем же порядком вернулся в техцентр, мне пришлось слоняться еще не меньше двух часов. Но всему приходит конец. Я заплатил по счету еще шестьсот баксов в рублевом эквиваленте и получил свой «пассат» с новыми стеклами и вполне прилично отрихтованными и покрашенными бочиной и дверцей.
Потом поездил по окраине, пока не убедился, что хвоста нет, и вернулся в гостиницу как раз к повтору передачи «Голосуй сердцем».
…«Прежде всего я хочу поблагодарить тех из вас, кто в первом туре выборов отдал свои голоса избирательному блоку «Яблоко».
День у меня выдался не из легких, поэтому я включил телевизор на полную громкость и залез в роскошную мраморную ванну-джакузи, расслабиться в горячей хвойной воде и одновременно послушать выступление Мазура. А в голове, как всегда бывает после горячего дела, мелькали картинки с выставки. Есть такой цикл то ли у Чайковского, то ли у Мусоргского. Ольга, конечно, хорошо потрудилась над моим музыкальным образованием, но пробелы остались. Или у Римского-Корсакова?
Так вот, картинки с выставки. Не все, конечно. А те, в которых были неясности.
«За нашу программу проголосовал почти каждый седьмой избиратель. Для нас это большой успех. Он означает, что все больше людей понимают невозможность разрешить стоящие перед страной проблемы кавалерийским наскоком, отвергают популизм и экстремизм любого окраса — от красно-коричневого до сине-красно-белого».
Картинка первая.
Спортивный «понтиак» и джип «гранд-чероки». Такие тачки не посылают на дело.
Посылают проще, неприметнее. И стволы дают не такие. «Калаши» дают. Или «узи». И драйверов не таких посылают. Шумахеров, конечно, не напасешься, но могли найти кого-нибудь и покруче. Если бы задались такой целью. Значит — что? Значит, не задались. Значит, все это было — экспромт. Как говорят шахматисты, цугцванг:
Вынужденный ход. Трейлер наверняка тоже экспромт. Не могли они знать, на какое шоссе я выскочу. Я и сам не знал. Значит, задача у них была остановить меня. И только потом переориентировались. То ли сами, то ли получили приказ по мобильному телефону. Последнее вероятней. От кого? Вопрос.
«В то же время мы вполне отдаем себе отчет в том, что «Яблоко» получило почти вдвое больше голосов, чем мы рассчитывали, еще и потому, что наши сограждане таким образом выразили протест против разгула преступности, которая стремится распространить свое влияние и на политику, о чем свидетельствует убийство кандидата «Социально-экологического союза» Николая Ивановича Кома…»
Картинка вторая.
Я ушел из телецентра за шесть минут. Не зная маршрута. Матвей ушел бы быстрей.
Минуты за четыре. Через сколько в эфирной хватились бы Мазура? Стоп. А ведь не только Мазура. Но и…
* * *
Телевизор молчал. Что за фигня? Я вылез из ванны, натянул белый махровый халат с синим вензелем и надписью «Hotel Wisla» и прошлепал в гостиную.
Телевизор был выключен, а в гостиной у меня были гости.
Что-то не помню, чтобы я кого-нибудь приглашал. Точно, не приглашал. Больше того, специально запер дверь на защелку. Но мои гости были, похоже, не их тех, для кого служат препятствием блокированные замки дверей.
Ну что за жизнь. В ванне покайфовать не дадут. И телевизор послушать. И спокойно подумать, кто же эти нынешние картинки с выставки сочинил.
Их было трое. Все в хороших черных костюмах. Даже в очень хороших. Двое при галстуках, а третий с темно-красной, с искрой, «бабочкой». Из кармана его пиджака высовывался угол такого же темно-красного, в тон «бабочке», платка, а на правой руке блестел золотой перстень с печаткой. Почему-то на указательном пальце.
Они были похожи на посетителей дорогого валютного ресторана гостиницы «Висла», которые поднялись в номер к партнеру, чтобы обсудить с ним требующее особой конфиденциальности дело.
Но мои гости не за этим сюда пришли. Нет, не за этим.
Потому что один из них, белобрысый громила, стоял у двери, нацелив на меня здоровенный «магнум» с длинным черным глушителем, держа его обеими руками.
По-американски, двойным хватом. Челюсти его медленно двигались, как у коровы, жующей жвачку. Жвачку он и жевал. Какой-нибудь «Стиморол» или «Орбит». Без сахара. Другой, чернявый, шустро рылся в моих шмотках. И только третий, с «бабочкой», спокойно сидел в кресле, удобно вытянув ноги и рассеянно поигрывая телевизионным пультом.
С первыми двумя все было ясно сразу. А третий был босс. Респектабельный джентльмен. Лет пятидесяти. Среднего роста, полноватый. Круглое веснушчатое лицо. Маленькие белесые глаза. Никакие. Рыбьи. Редкие светлые волосы, аккуратно уложенные на пробор.
Похож на прибалта.
При моем появлении в широкой арке, отделяющей ванную и туалет от гостиной, он успокаивающе помахал рукой с перстнем:
— Мойтесь, мойтесь, мы не спешим.
— Вруби телевизор! — сказал я. Он непонимающе поморщился.
— Телевизор вруби! — повторил я. И, видя, что он медлит, прошлепал к «Панасонику» и нажал кнопку.
Гостиную вновь заполнил голос Мазура:
«Да, мы приняли решение призвать наших сторонников во втором туре выборов голосовать «против всех». Почему? Попробую объяснить».
— И не вырубай! — предупредил я и направился в ванную.
Громила преградил мне дорогу. «Магнум» он держал уже в одной руке. И если бы не глушитель, небрежно крутил бы его на пальце, как ковбои в американских вестернах. Напарник за его спиной проскользнул в арку и обшмонал мои джинсы и куртку, висевшие в просторном предбаннике. Вернувшись, бросил на журнальный столик извлеченный из куртки бумажник.
— Больше ничего. Пушки нет.
Громила отступил в сторону, открывая мне путь в ванную и снисходительным движением ствола приглашая продолжить водные процедуры. Что я и сделал.
* * *
«Как все вы знаете, во втором туре президентских выборов 96-го года «Яблоко» поддержало кандидатуру Ельцина. Вместе со всеми демократически настроенными гражданами России мы были поставлены перед нелегким выбором. Альтернатива Ельцину была лишь одна — господин Зюганов. Что изменилось за минувшие полтора года?»
Я ополоснулся под душем и принялся вытираться перед зеркалом красной махровой простыней, одновременно прислушиваясь и к тому, что происходило в гостиной, и к объяснениям Мазура. В гостиной вроде бы не происходило ничего, а объяснения «яблочника» на этот раз не были пересыпаны «макроэкономическими интеграциями».
Так что я вполне улавливал смысл, несмотря на некоторую отвлеченность внимания.
«…Как ни странно, довольно многое. Не буду сейчас говорить о том, что изменилось в лучшую сторону, а что в худшую. Принципиально важно другое. Стала очевидной необратимость выбранного Россией пути. Стало ясно, что уже нет такой силы, которая смогла бы повернуть нашу страну вспять. Кто бы ни встал у власти. Это и открывает перед каждым из нас возможность свободного, не вынужденного выбора».
Из зеркала на меня смотрела несколько осатаневшая физиономия начинающего забулдыги в той стадии стремительного запоя, когда водяра не расслабляет, а накачивает мышцы и мозги бешеной энергией, требующей бурного выхода. Слегка затекший левый глаз и лиловый, приятного дымчатого оттенка синяк во всю скулу свидетельствовали об уже достигнутых результатах, а правая сторона была открыта для новых свершений.
Что бы, интересно, сказала Ольга, если бы меня увидела?
Но я тут же запретил себе думать об Ольге. Не было Ольги. Не было Настены. Не было Затопина и Чесны, над подмерзшими отмелями которой уже, наверное, струилась поземка.
Ничего не было. Все это осталось в прежней жизни. И если повезет, будет в новой.
А сейчас не было ничего.
«И поэтому сегодня мы говорим «нет». Поэтому сегодня мы призываем наших сторонников голосовать «против всех». Мы больше не намерены нести ответственность за глупости, которые будут сделаны людьми, получившими мандат при нашем согласии».
Я оделся и даже причесался, хотя всклокоченная шевелюра гораздо больше соответствовала моему нынешнему имиджу. Я не спешил. Куда мне было спешить? Они не спешат, а мне тем более некуда.
В монолог Мазура вклинился Эдуард Чемоданов:
«Пресс-служба ЛДПР распространила сообщение о поддержке господина Антонюка. Своим решением «Яблоко» фактически вручает ключи от губернаторской резиденции коммунистам. Полагаю, вы отдаете себе в этом отчет?
— Какой бы выбор ни сделали наши сограждане, это будет их выбор. Мы примем его так, как подобает настоящим демократам.
— Как, господин Мазур?
— Стиснув зубы, господин Чемоданов. Стиснув зубы».
* * *
Я вышел в гостиную, выключил телевизор, уселся в кресло и спросил:
— Ну? Чего надо? Выкладывай и вали.
Мой визави нахмурился.
Громила предложил:
— Окоротить его, Кэп?
Кэп. Значит, это и есть Кэп. Его я, честно сказать, не ждал. Думал, что пришлет кого-нибудь из своих подручных. Но явился сам. Значит, важное дело. Очень важное.
Я обернулся к громиле:
— Ты, педрила! Я тебе сейчас твой «магнум» в жопу засуну и выстрелю. Понял? Окоротит он меня!
От такой наглости он даже перестал двигать челюстями.
— А нормально поговорить мы не можем? — спросил Кэп с легкой брезгливостью. — Как приличные люди. Нет?
Точно прибалт. Эстонец или латыш. Или литовец. По интонации чувствуется.
— Нормально, да? — переспросил я. — Это, блин, как? Ты вламываешься ко мне с двумя холуями, да? У одного громобой сорок пятого калибра с глушаком, у другого тоже какая-то пукалка, да? И третий небось в коридоре за дверью, мля! И хочешь нормально поговорить, блин?
Не густо у меня со словарным запасом. «Мля», «блин». Что там еще есть? А, вот что: бляха-муха.
— Давай говори. А то мне спать пора, у меня режим, — сказал я и добавил:
— Бляха-муха.
Он явно не мог сообразить, какой взять со мной тон. Из чего я заключил, что они не мочить меня пришли, а что-то выяснить. Скажем, так: сначала выяснить, а уж потом, может, и замочить. Недаром же глушачок прихватили. Понял-то это я сразу, а сейчас только убедился, что понял правильно. И решил, что пора сбавить обороты.
— Эй, шнурок! — обратился я к напарнику громилы, который вывалил на диван содержимое моей сумки и прослушивал аудиокассеты, по очереди вставляя их в плеер. — Ты сюда пришел кайф ловить? Принеси шефу выпить. Там, в мини-баре. Чтоб он не думал, бляха-муха, что здесь отморозки живут!
Тот вопросительно взглянул на хозяина.
— Что там есть? — спросил Кэп.
— Битлы. Би Би Кинг. Старье. Только это вот хрен знает что. — Он протянул боссу плоскую черную коробочку с маркой «Сони». — Дисплей, светодиод. Вроде пейджера. Но не пашет.
— Это что? — спросил меня Кэп.
— Прям щас. Лекцию буду читать твоим холуям. Ты принесешь шефу выпить или ему самому идти?
Кэп повертел «соньку» в руках и положил на стол рядом с моим бумажником.
— Принеси. Хозяин угощает, неприлично отказываться.
Шнурок поставил на журнальный стол два пузатых бокала, свинтил крышку с бутылки виски и плеснул в бокалы примерно на палец. Немного подумал и чуток долил.
Видно, хорошо знал дозу хозяина. Кэп приподнял свой бокал.
— Прозит.
— Будь, — разрешил я.
Он прищелкнул пальцами и показал на мой бокал:
— А?
Ну никак не мог решить, на «ты» со мной или на «вы». «Вы» для меня было слишком высоко, а «ты» для него низко. «Ты» низводило его до меня. Джентльмен никому не говорит «ты». Он вообще не общается с теми, кому нельзя говорить «вы».
— Не пью, — объяснил я.
— Давно? — не без иронии поинтересовался Кэп.
— Минут пятнадцать, — встрял громила и захохотал.
Кэп усмехнулся, но глаза его по-прежнему оставались рыбьими.
— Мы немножко пошутили. Теперь хватит. На кого вы работаете?
Все-таки выбрал «вы»
— Ты Кэп, да? Не успел мои ксивы глянуть? Я начальник охраны вашего будущего губернатора, блин. Понял?
— Ну, задвинул! — восхитился громила. Вот еще какое слово есть: в натуре.
— В натуре, Кэп! — сказал я. — Я с тобой разговариваю? Или с твоим быком?
— Не мешайте, Симо’н, — вежливо приказал Кэп громиле. — Он в самом деле есть начальник охраны Антонюка.
У того даже пасть раскрылась. Симо’н. С такой-то мордой. Он был такой же Симо’н, как я Серж.
Кажется, я понял, кто мой собеседник.
Не знаю, правда ли, что самые добропорядочные жены получаются из проституток (не путать с блядями), но уверен, что самые респектабельные отечественные джентльмены образуются из ворья (не путать с бандитами). Раньше — из партийного ворья. Нынче — из обыкновенного. Но крупного. Столько нахапавшего в мутных водах экономической свободы, что вполне могли позволить себе не снисходить в житейскую грязь, где люди говорят друг другу плебейское «ты». Ну, разве что в крайнем случае. Когда ж… припечет. Как сейчас.
Вот таким и был этот Кэп.
— Итак, кто вас нанял? — спросил он.
— Не в курсе, — нагло соврал я.
— Так не может быть.
— Прикинь. Когда ты берешь человека для дела, он тебя знает?
— Какое дело?
— Щас. Так я тебе и сказал.
— Можно так. Можно не так. Вам придется сказать. Чем быстрей вы это начнете понимать, тем будет лучше для вас, так.
Он мне грозил. А? Этот тухлый судак мне грозил. И одновременно давал понять, что чистосердечным признанием я еще могу смягчить свою незавидную долю. В том смысле, что меня могут сразу пристрелить или сначала яйца отрезать.
— Не нужно, Кэп, — попросил я. — В ваших глазах я уже прочитал свой приговор.
— Как? — спросил он.
— В натуре, — подтвердил я.
— Я спрашиваю с другой стороны. Зачем вы увезли от моих людей господина Мазура?
— Так это были твои кадры? Иди ты! То-то, гляжу, фейсы знакомые! Это ты, педрила, рулил в «чероки»? А этот шнурок рядом сидел? Точно! Ну, драйверы! Морду-то сильно расшиб?
— Кто, я? — огрызнулся громила. — Или ты?
— Не про тебя речь! Про тачку! Сильно, спрашиваю, в трейлер вмазался? Ремонту, блин, на пару штук, а?
— В «понтиаке» были тоже мои люди, — бесстрастно проговорил Кэп.
— Да?
Во блин. Мля. Бляха-муха. В натуре. Странные дела, Кэп. Оказывается, словарный запас напрямую связан с головным мозгом. Я только попробовал обходиться примерно двенадцатью словами, а уже мозги съежились. А ведь многим двенадцати слов на всю жизнь хватает. Ну, тринадцати. Не считая мата и междометий. Сколько же у них извилин?
Мой гость внимательно посмотрел на меня, но не ответил. Видно, посчитал мой вопрос риторическим.
— Я отвечу на все ваши вопросы. Но сначала вы ответите на мои, — предложил я. — Согласны?
— Вы ответите на все мои вопросы, так? — уточнил Кэп.
— Да, на все.
Он немного подумал и кивнул:
— Спрашивайте.
— Для чего вы приказали выкрасть Мазура?
— Я не приказал выкрасть. Я приказал пригласить. Я послал за ним автомобиль, достойный самого уважаемого человека. «Понтиак». Джип был послан для сопровождения.
— А на чем вы сюда приехали?
— На «линкольне».
— Значит, «чероки» и «понтиак» были не последними в вашем гараже? Рад за вас. А когда поняли, что с приглашением не выгорело, приказали убить его. А заодно и меня. Так?
— Мне не нравится тон ваших вопросов.
— А смысл?
Он не ответил. Верней, не счел нужным ответить. Он был выше моих бестактных намеков.
— Ладно, продолжим, — сказал я. — Для чего вам нужен был Мазур?
— Я хотел убедить его отказаться от заявления, которое он сегодня сделал по телевидению. Его выступление очень многое осложнило. Очень, так. Оно создало большую проблему там, где была небольшая проблема. Было бы лучше для всех, если бы он не выступил. Для всех. И для вас тоже.
— Он бы не согласился.
— Есть разные способы убеждать.
— И вы знаете все?
— Так. Все.
— Извините, Кэп, но вы не производите впечатления человека, горячо приверженного демократическим идеалам. — Плагиат, конечно. Но Мазур, надеюсь, меня простит. — Какая вам разница, кто станет губернатором: Антонюк или Хомутов?
— Меня не интересует политика. Меня интересует бизнес. Разница есть. Антонюк не станет.
— Вы уверены?
— Так. Уверен. Этому не помешает никто. Очень большой бизнес. Вы даже не можете представить, какой большой. В большом бизнесе нет мелочей. Поэтому к вам пришел я. Вы не есть мой уровень. Но я пришел, потому что сам хочу знать, кто вы и чей заказ выполняете.
— Не спешите, Кэп. Вы еще не ответили на мои вопросы. Вы хотите, чтобы губернатором остался Хомутов? Или все равно кто, лишь бы из партии власти?
— Лучше Хомутов. В России всегда были две стихийных беды: пожар и новый генерал-губернатор. Старый сытый, дети сытые, все его люди сытые. Новых нужно кормить, покупать. Лишние деньги, лишнее беспокойство. Но сейчас это не есть важно. Сейчас все равно кто. Кроме Антонюка. Вам хочется спрашивать еще?
— Да. Чем может помешать вашему бизнесу Антонюк?
— Его фонд контролирует банк «Народный кредит». Банк «Народный кредит» имеет блокирующий пакет акций порта. Двадцать пять процентов.
— А половина у государства? — уточнил я.
— Так. Пятьдесят один процент. Контрольный пакет. Большая часть его будет выставлена на торги. Если Антонюк станет губернатором, «Народный кредит» получит весь порт. Все пароходство. Поэтому он не станет.
— Убьете?
— В большом бизнесе не убивают. В большом бизнесе решают проблемы.
— Эту проблему вы не решите.
— Эту проблему мы решим. Чего нельзя сделать за деньги, можно сделать за большие деньги. Чего нельзя сделать за большие деньги, можно сделать за очень большие деньги. Антонюк не может быть в бункере. Политик — публичный человек. Поэтому никакая охрана не есть препятствие.
В этом он был прав. Твою мать. Прав, конечно. Они решат эту проблему. За мой счет. Суки. И я был не в том положении, когда можно, как в преферансе, бросить карты, сказать «пас» и выйти из игры. А раз так, то не хрена и думать, нужно идти до конца.
— Кто убил Комарова? — спросил я.
— У вас еще есть много вопросов?
— Кто заказал Комарова?
— Все?
— Почему заказали Комарова?
— Хватит. Теперь мы пересядем местами. Я спрашиваю — вы отвечаете. Кто вас нанял?
«Внимание. Занять исходные».
Я будто въявь слышал слова команды. Словно бы у меня в ухе сидела таблетка микрофона и по нему транслировалось то, что происходит где-то в коридоре отеля, недалеко от моего номера.
Слова, впрочем, могли быть и другими. Каждый пользуется своей лексикой. Важно, что суть была правильна.
— Итак, кто вас нанял? — повторил Кэп.
— Он не назвался, — с готовностью ответил я. — Просил называть его Профессором.
— Он профессор?
— Нет. Он академик.
— Кто он?
— Могу сразу сказать. Но будет лучше, если вы пройдете этот путь вместе со мной.
— Не понимаю.
— Потом поймете, — пообещал я.
— Продолжайте, — кивнул Кэп.
— Он встретился со мной в подмосковном военном санатории. Я выяснил, что это бывший реабилитационный центр Главного разведывательного управления. Кому он сейчас принадлежит — не знаю. Я и не старался узнать. Если интересует, сами узнайте. У вас есть люди в Москве?
— Есть.
— Это по Минскому шоссе. Воинская часть… Вы уверены, что хотите это знать?
— Да, я уверен. Говорите.
«Исходные заняты».
— Вы смелый человек, Кэп. Ну, записывайте. Я назвал номер воинской части и сказал, на каком километре Минки она находится.
Кэп кивнул шнурку. Тот достал блокнотик и записал. Секретарь-референт. Он же телохранитель-официант.
— Кто этот человек, академик, узнали?
— Я записал номер его машины. «Ауди-80». Из гаража… Лишнее спрашиваете, Кэп. Лишнее. Честное слово, лучше нам разойтись и забыть об этом разговоре. Давайте так и сделаем, а?
— Хватит вертеть вола! — рявкнул Кэп. — Говори, падаль, или с кишками выну!
Прорезался все-таки.
— …из гаража администрации президента, — сказал я и назвал номер машины.
«Готовность один. Открыть подход».
Кэп нахмурился:
— Президента чего?
— Не банка. Нет, Кэп, не банка. Президента России. Ельцин его фамилия. Борис Николаевич. Слышали?
Похоже, до него начало кое-что доходить.
— Блеф! — заявил он.
— Проверьте. Номер машины знаете. Не слишком трудно будет узнать, за кем она закреплена.
— За кем?
«Подход открыт».
Я назвал фамилию. Он не знал ее. Я любезно объяснил ему, что эту фамилию вообще мало кто знает. Человек десять у нас. И человека два в ЦРУ. Или три. Вряд ли больше.
— Кто он?
— Советник… «Готовность — ноль».
Я сказал, чей он советник. Вот тут он и прибалдел. Как и я сам в свое время.
— Я вам не верю.
— Вы спросили, я ответил.
— Такой человек не мог встретиться с вами!
— Вы же встретились.
— Кто вас прикрывает?
— Люди из охраны Антонюка.
— Эти люди из московского частного агентства. Мы проверяли.
— Эти люди, Кэп, боевые пловцы. Если ваша кличка хоть что-то значит, вы должны знать, что это такое. Иногда они называют себя «пираньи». Такие маленькие рыбки. Очень быстрые. Они обгладывают буйвола до костей. За минуту.
Похоже, знал. Но все еще не мог поверить.
«Готовность — ноль».
Я добавил:
— Их база — на 136-м километре, возле поселка Светлый. На въезде «кирпич» и надпись: «Приват».
Кэп обернулся к шнурку и что-то спросил по-эстонски или по-латышски. Тот ответил. Они довольно нервно поговорили, потом Кэп подтвердил:
— Да, это есть база военно-морской контрразведки.
Но он все еще не мог въехать. Даже встряхнул головой, как бы отгоняя дурное видение. Но оно не отогналось. Только прическа испортилась.
— Нет! Я не могу этого понимать! Какой интерес может быть у… у такого человека к Антонюку?!
Он даже фамилию не назвал. Просто: «у такого человека».
Табу.
И хотя его вопрос был из разряда риторических, я все же ответил:
— Прямо противоположный вашему.
«Готовность — ноль».
Кэп резко встал. Громила взвел курок. Шнурок тоже вытащил из-за спины какую-то пукалку. И тоже с глушителем. Хорошо подготовились.
Что-то в его шкале иерархических ценностей все-таки сдвинулось. Поэтому он не сразу приказал замочить меня, а сначала счел нужным объясниться. Как это принято между нами, джентльменами.
— Я сожалею, но вы уже слишком много знаете.
«Готовность — ноль».
— Вы тоже.
— Вы что-то этим хотите высказать?
— Сядьте, Кэп. Вы же никуда не спешите. Я хочу вам кое-что показать. Ты, шнурок! Спрячь пушку и возьми эту «соньку». Открой плашку с надписью «Open». Открыл? А теперь вытащи бумажку из-под контакта батарейки. Вытащил? А теперь нажми кнопку.
Смелей, не взорвется.
«Готовность — ноль».
Он нажал. Не взорвалось. Но для Кэпа и его холуев это было бы безопаснее.
Загорелся красный светодиод, заработала пищалка.
— Это детектор, — объяснил я. — Для обнаружения чипов. Прослушки. Цифры на дисплее — расстояние в метрах до микрофона. А звук усиливается, когда к нему приближаешься. Пошарь, шнурок. Но я и так скажу: «жучок» в люстре.
— Что это есть значит? — слегка осевшим голосом спросил Кэп. Как-то сразу чуть подзабыл русский.
— Это есть значит, что нашу беседу кто-то с интересом слушал. И записывал.
«Готовность — ноль».
— Кто?
— Не знаю. Но догадываюсь. Думаю, очень скоро узнаем. И вы, и я. А теперь быстро. Сбросьте опасную информацию. Кто взорвал паром «Регата»?
«Пошли!..»
Кэп молчал.
— Идиот! — заорал я. — Рожай! Скажешь — нас двоих придется мочить! Нет — тебя одного! Понял?
Он, может, и понял бы. Но. Вряд ли прошло больше трех секунд. Ну, три с половиной. Воздух как бы сгустился, а потом из этого сгустка материализовался капитан-лейтенант Гена Козлов и спросил:
— Ты в порядке, начальник?
Громила по имени Симо’н уже нюхал ковер, на нем сидел Миня и деловито вязал морские узлы. Голову шнурка держал под мышкой Толян. А Кэп лежал в кресле, рот его был заклеен скотчем, глаза уж точно стали судачьими, а извлеченный из его кармана плоский австрийский «Глок» поблескивал в лапище Гены. Еще через пару секунд появился Егоров, свалил на пол третьего охранника Кэпа — того, что был на стреме снаружи, аккуратно закрыл дверь и отряхнул руки.
— Повторите, ребята! Всего разок! — попросил я. — А то я ничего не успел увидеть!
IV
Для начала Егоров вылил в унитаз содержимое фужера Кэпа, хотя тот из него даже не отхлебнул. Потом налил в мой фужер на три четверти виски и выплеснул его в рот, даже не заглянув в мини-бар, где было полно разной закуски. После этого взял «соньку» — детектор и начал усердно топтаться на ней, превращая все хитроумные транзисторы в мелкую крупу, а изящную коробочку в бесформенные обломки пластмассы. Ребята в это время были заняты тем, что куда-то транспортировали из люкса соответственно упакованных моих гостей во главе с Кэпом. Так что помешать занятиям Егорова было некому, а я решил не вмешиваться, понимая, что человеку после такой психологической нагрузки нужна разрядка.
Покончив с «сонькой», он выпил еще полбокала виски и закурил «Кэмэл».
Я понял, что теперь с ним можно поговорить. Я сказал:
— Фужер Кэпа ты выбросил совершенно зря, он к нему даже не притронулся. Я к своему тоже. Но мне приятно, что я вызываю у тебя меньше брезгливости, чем этот тип. Теперь о «соньке». Я ее купил на Кипре в городе Никосии и отдал за нее около шестисот долларов. Эту сумму я намерен поставить в счет расходов. И ты не можешь не согласиться, что я имею на это право. Я понимаю, что тебе нужно было на чем-то сорвать злость, но ты мог бы выбрать что-нибудь подешевле. Я и без всякого детектора знал, что мой номер прослушивается. И машина тоже. А положение машины в каждый момент фиксируется. Мне даже на вашу базу не нужно было ездить для этого и смотреть на все ваши космические антенны. Это — азбука. И я ее знаю. Даю тебе честное слово, что я не проверял на предмет чипов ни номер, ни «пассат». Ну, разве что «жука» в люстре нашел. Но он просто на виду торчал. Я и не хотел бы его найти, так все равно бы нашел. А больше и пальцем не шевельнул. Какой смысл? Ну, найду один-два, а там еще десять. Так что, Саня, признай, что ты слегка погорячился, а «соньку» мы спишем как утраченную в ходе оперативных мероприятий…
— О чем это ты говоришь? — спросил он. Ну, не такими аккуратными словами, но в этом смысле.
— О быте, из которого складывается вся жизнь.
— Ты специально назвал ему имя и должность Профессора?!
— Для тебя это тоже была новость?
— Кое в чем.
— Вынужден признать: да, специально.
— Ты понимаешь, что я теперь должен сделать с этим Кэпом и его холуями?
— У тебя богатый выбор. Автомобильная авария. Авиационная катастрофа. Крушение яхты. Убийство с целью ограбления. Просто заказное убийство. И еще с десяток способов. Грех жаловаться, Санек.
— Мудак! — заорал он, как резаный. — Ты понимаешь, что теперь я его должен убрать?! После всего, что ты ему рассказал?!
— Извини, Санек. Но он мне мешал. И очень. Так что мне пришлось воспользоваться услугами твоих ребят. Тем более что они под рукой, а у меня никакой команды нет.
— Чем он тебе помешал?
— Выполнению моего задания. А именно: охране жизни Льва Анатольевича Антонюка. Ты же сам слышал. Антонюк ни в каком варианте не станет губернатором. А остановить его можно только одним способом. Этот способ Кэп и имел в виду. Ему очень не повезло, что вы дали мне задание, прямо противоположное его интересам. Я просто выполнял свою работу, и все. Верно? Не жалей о нем, Саша. Он нехороший человек. Точно тебе говорю, нехороший. А таким не стоит слишком долго на свете жить.
— Для чего ты собирал информацию о Профессоре?
— Я просто очень любознательный человек. И люблю знать, на кого работаю.
— Я, по-твоему, менее любознательный?
— Ты человек служивый. И чем меньше знаешь, тем для тебя лучше.
— У кого ты получил информацию о Профессоре? Только не заливай мне про гараж и номер машины. Машину он меняет каждый день, а в гараже о нем ничего не знают. Ну, у кого?
— Этого я тебе, Санек, не скажу. У каждого из нас свои источники информации. Верно? Важно ведь не то, откуда я брал информацию. Важно другое: насколько она правдива. А информация о Профессоре правдива на все сто, не так ли? Иначе ты бы не дергался.
— Что ты еще знаешь о Профессоре? — спросил Егоров.
— Больше ничего, — вполне честно ответил я. — Все, что я знал, я рассказал Кэпу. Ну, и по трансляции — тебе.
Егоров налил еще полфужера виски, выпил снова без закуски и после некоторого молчания сказал:
— Я не могу взять на себя решение проблемы с Кэпом. Мне нужны санкции.
— Профессора? — уточнил я.
— Да.
— Что же, лети в Москву. Но думаю, что после этого ты сюда не вернешься. Получишь срочное направление в какой-нибудь дальневосточный морской гарнизон. Или, если повезет, в балтийский или черноморский. И будешь остаток жизни дослуживаться до каперанга. Я не часто встречался с людьми типа Профессора. Может, всего раз или два. Но психологию их понял. Психология такая: раз приказ отдан — они ждут только доклада о его выполнении. Мелочи и детали их не интересуют. Для них это не более важно, чем раздавленный тобой в припадке гнева детектор марки «Сони» за шестьсот долларов. И если ты хоть что-нибудь понял из общения с ним, ты согласишься со мной.
— Но Кэп готов был вложить в реконструкцию порта до двухсот миллионов долларов! И с ним были готовы сотрудничать немцы!
— Да ну? — поразился я. — Вот так прямо и вложить? Ты веришь, что такой человек способен вложить в любое дело хоть рубль, если не знает способа заработать потом на этом рубле пятерку? Или Профессор ошибается в своем контрагенте? Так твоя прямая задача, Саня, разъяснить ему его ошибку. Начальство этого ужасно не любит. Но это семечки по сравнению с тем, что разразится потом, когда выяснится де-факто, кто такой Кэп.
— Чтобы ввести порт в оборот, нужны огромные вливания. На иностранцев трудно рассчитывать. Приходится ориентироваться на своих. Кто бы они ни были. Кэп давно уже отошел от преступной деятельности и занимается только бизнесом.
— Я бы охотно согласился с тобой, если бы не разговор, который состоялся в этой же комнате десять минут назад. И если бы не тот арсенал, который перекочевал из кармана Кэпа и его громил в руки твоих шустрых ребят. Если это не признак преступной деятельности, то я просто не понимаю, о чем мы говорим. Кстати, могу сделать тебе комплимент. Если ты готовил эту команду, то я перед тобой преклоняюсь. Мои, например, не умеют так работать. У меня ребята — бойцы. А твои — чистильщики, райнеры. Я сначала принял их и тебя, кстати, за боевых пловцов. Возможно, они и были боевыми пловцами. И наверняка неплохими. А ты не думай, что я, сухопутная крыса, в этом ничего не понимаю. Нагрузка на боевого пловца раза в четыре больше, чем на спецназовца. При прочих равных условиях. Но твои ребята сейчас — не боевые пловцы. Они — оперативники суперкласса. Их можно с вертолета выбросить в десятитысячную толпу, они сделают все, что нужно, и уйдут так, что никто ничего не заметит. Единственный вопрос, который я себе при этом задаю, простой и, возможно, глупый: зачем тебе такая команда?
— Кэпу пришлось быть агрессивным, потому что ты его к этому вынудил. Если бы ты не украл Мазура, ничего бы и не было.
— Кроме того, что Мазура нашли бы дней через десять на какой-нибудь отмели в Балтике, — мирно заметил я. — А если бы вы столь эффектно не появились, в бойлерной лежал бы не Кэп, а я. Ты по-прежнему считаешь Кэпа добропорядочным гражданином, с которым государство может сотрудничать в деле восстановления дееспособности порта города К.?
— Ни хера ты не врубаешься, — заявил Егоров. — Ни хера. Понял? А лезешь, твою мать!
— Санек, это просто потому, что мы плохо понимаем друг друга, — терпеливо объяснил я. — Перед нами поставлены разные задачи. Я играю какую-то роль в вашей игре, а ты с Профессором ведешь эту игру. Решай сам. Но учти, я не привык быть подсадной уткой. И я тебе скажу, почему вы проиграете.
— Не очень понимаю, о чем ты говоришь, но скажи, — согласился Егоров.
— За вами — огромное государство, десятки спецслужб, разных важных и неважных учреждений. Государство, в общем. А это значит, что ни один человек не принимает самостоятельного и окончательного решения. Даже президент. У него штат советников, кабинет министров и все такое прочее. Что дает шанс одиночке выиграть у государства? Да только то, что он свободен и принимает решения сам. И мгновенно, по мере обстоятельств. В длительной игре, связанной с многолетними расследованиями, поисками доказательств, государство может выиграть у одиночки. В быстрой игре — нет. А у нас сейчас, как я понимаю, очень быстрая игра. Передай это Профессору, если увидишь его.
— Не знаю, увижу ли я его, — ответил Егоров. Я удовлетворенно покивал.
— У людей есть способность лезть к другим со своими советами. Но я заметил, что советы эти так и остаются пустым сотрясением воздуха, очень редко кто им следует. Из твоего ответа я понял, что ты серьезно задумался над моим советом. И это вызывает во мне чувство глубокого удовлетворения. Только не звони. Решишь доложить — явись и доложи лично. Человек как-то по-иному воспринимает неприятности, когда другой человек говорит ему о них не по телефону, а глаза в глаза. В Чечне, например, я пользовался этим без зазрения совести. Когда у нас срывалась какая-нибудь операция, я приходил к нашему полковнику и все ему докладывал. После чего он говорил: «Пошел ты…» Ну, в общем, догадываешься, в какое место он меня посылал. И на этом для нас все заканчивалось. Какие уж доводы он приводил высшему начальству, не знаю. Однажды ему даже вкатили выговорешник, но он его пережил.
— И часто у вас срывались операции? — поинтересовался Егоров.
— Два раза.
— Где ты был сегодня с двух часов дня до пяти часов вечера?
— Катался по пригородам. И беседовал с Мазуром. Игорь Борисович, председатель местного отделения «Яблока». Очень интересный человек. Не знаком? Рекомендую. Он ввел меня в курс местной политической жизни и рассказал о своей программе. Хорошая у них, оказывается, программа. Умная и дальновидная. На будущих выборах я буду голосовать за «Яблоко». И тебе советую.
— Что ты делал после семнадцати часов?
— Ремонтировал «пассат» в «Евросервисе». Поцарапал случайно бочину. И сменил стекло, было с трещиной, она начала расходиться. Но это я в счет не поставлю, мои дела.
— Что ты делал от семнадцати до семнадцати двадцати?
— Да ничего. Высадил Мазура, он уже опаздывал на передачу, к нему даже подбежал Чемоданов. Посидел немного в машине и поехал искать сервис.
— Зачем ты сидел в машине?
— Санек! Если ты был за рулем почти три часа, нужно же просто немного посидеть и отдохнуть! И подумать о том, что тебе рассказал умный человек. Не так, что ли? В семнадцать двадцать началась передача «Голосуй сердцем». Сейчас вот смотрел ее в повторе. Правда, эти козлы помешали сосредоточиться… Без двух или трех минут пять я подвез Мазура к телестудии. Это тебе подтвердят и сам Мазур, и Чемоданов, и охранник на вахте. Из твоих настойчивых расспросов я заключаю, что между семнадцатью и семнадцатью двадцатью что-то случилось. И в причастности к этому происшествию ты подозреваешь меня. Нам будет, возможно, легче разговаривать, если ты скажешь, что случилось и в чем ты меня подозреваешь.
Вошел Гена Козлов, доложил:
— Все в порядке. Объекты на месте.
— Можешь нормальными словами, — кивнул Егоров.
— В бойлерной. Там до понедельника никого не будет. Ключи у нас.
— Сколько они выдержат?
— Да пару дней запросто, — заверил Козлов. — Ну, похудеют немного. Так это им только на пользу. Что будем с ними делать?
— Пока не знаю, — подумав, ответил Егоров. — Свободен.
— Слушаюсь, — ответил Козлов и вышел.
— У тебя нет двух дней, Санек. Знаешь, какой вопрос начальство любит больше всего не свете? «Почему не доложили немедленно?» И тут оправдывайся не оправдывайся, все без толку. Обязаны были доложить немедленно. При этом у меня такое впечатление, что даже не слишком важно, что случилось. Любому происшествию, любой неудаче можно найти оправдание. А вот когда тебя спрашивают:
«Почему не доложили немедленно?» — тут стой столбом и молчи. Потому что нечего сказать. Поэтому выбор у тебя небольшой: или докладывать немедленно, или вообще не докладывать. Ну, возникли шероховатости в проведении операции. Ну, мы их, это самое, устранили. Мне, конечно, трудно давать тебе конкретные советы, потому что я не в ситуации, но я от всей души рад поделиться с тобой крохами мудрости, накопленными за жизнь. Что и делаю. Лично для меня, конечно, был бы камень с души, если бы Кэп попал в какую-нибудь автомобильную или любую катастрофу. Но окончательное решение принимать тебе. И отвечать за него, Санек. Сколько я себя помню, народ у нас никогда не отвечал за свои поступки. За простого человека отвечал начальник. А за начальника — другой начальник. А за другого начальника — вообще никто. И только сейчас мы начинаем понимать, что за каждый свой шаг отвечаем мы сами. Полной мерой. Сделал ошибку — плати. По-моему, это самый трудный опыт, который мы приобретаем. Тебе так не кажется?
Я вообще-то не большой любитель болтовни. Но тут трепался, как полковник Митюков на вводной лекции по научному коммунизму. Во-первых, мне нужно было приглушить подозрения, которые шевелились в душе Егорова. (Хорошая интуиция, твою мать, ничего не скажу!) А главное, пожалуй, — хоть немного разрядиться, снять напряжение этого дня. Я, может быть, наделал за сегодня кучу ошибок. Но то, что день был напряженным — этого никто не сможет отрицать. Поэтому я и молол что ни попадет на язык, отмечая между делом, как хмурится Егоров. Я-то свои дела сделал, пусть это были и ошибки, а ему нужно было принимать решения. И важные, так скажем. Да и в самом-то деле — служить в Москве в каком-нибудь элитном разведуправлении (а они, по-моему, все элитные) или тянуть лямку командира морского дивизиона где-нибудь на Камчатке — есть разница? А речь шла именно об этом. Егоров мог хмуриться на мои слова, но он не мог не понимать, что я совершенно прав.
Я не сомневался, что Кэп и все его холуи сразу же станут трупами, как только узнают, кто такой на самом деле Профессор. На это я, честно говоря, и рассчитывал. На кой хрен, спрашивается, мне такой серьезный источник угрозы? Тем более что убрать его можно чужими руками.
Но медлительность, которую проявлял Егоров, меня озадачивала. В чем-то я ошибся.
В чем? Может быть, Кэпу отводилась какая-то особая роль в комбинации? Но в операциях разведки крайне редко использовались криминальные элементы, практически никогда не использовались.
Внимание на это обратил еще генерал-лейтенант Нестеров в своем спецкурсе. Он объяснил это так. В криминальном элементе, как и в проститутке, разрушены все основы нравственности. Это означает, что он в любой момент может быть перекуплен, перевербован и начнет работать против вас, когда вы об этом даже подозревать не будете. Он был убежден и внушал нам, что самое эффективное свойство человеческой психики, пригодное для вербовки надежного сотрудника, это даже не деньги, а честолюбие. Каждому человеку кажется, что жизнь ему чего-то недодала. Он охотно идет на секретное сотрудничество со спецслужбами именно потому, что обретает внутреннее превосходство над другими, пусть и неявное, тайное, но все равно — он выше других, значимее. Если это качество подкрепляется идейной убежденностью (как у знаменитой лондонской «пятерки» или у того же Кима Филби) или патриотизмом — цены такому сотруднику нет. К сожалению, слово «патриотизм» генерал-лейтенант Нестеров в своих лекциях был вынужден брать почти в кавычки, потому что в то время уже никто, в том числе и он сам, не знал, что это такое.
Поэтому я не верил, что Кэп задействован в комбинации Профессора и Егорова. И нужно было понять, что к чему. А для этого у меня был только язык. Потому я и болтал, как телевизор. И кое-что удалось все-таки с помощью этой болтовни выудить. Ну, например, что Егоров знал, сколько мой «пассат» стоял у проходной телестудии — ровно двадцать минут, и что перед этим три часа болтался по пригородам. Но его не эти три часа интересовали. Его интересовали двадцать минут у телестудии. Стало быть, что? Стало быть, он знал, что как раз в это время в редакторской телецентра был убит Матвей Салахов. А задача Матвея была очевидна, как желание моей Настены получить «киндер-сюрприз». Задача его была: пристрелить Мазура, чтобы он не оттягал почти пятнадцать процентов избирателей у губернатора, а заодно и Чемоданова, который сопровождал Мазура от гримерки до эфирной. Чемоданова Матвею, конечно, никто не заказывал, но так складывались обстоятельства. А обстоятельства слишком часто сильнее нас. Что дальше?
Да очень просто. Матвея сдают или пристреливают (да, это верней, мертвый как-то молчаливее, лишнего не скажет), расследование выясняет, что он воспользовался для убийства пистолетом «токагипт-58», закрепленным за начальником охраны красного кандидата Антонюка, после чего со мной тоже происходит какой-нибудь несчастный случай со смертельным исходом. Заодно выясняют, что Комарова тоже убил Матвей (а я в этом уже нисколько не сомневался), демократическая пресса устраивает жуткий шум по поводу того, что коммунисты используют наемных террористов для достижения своих политических целей. И что? А ничего. В итоге Хомутов становится губернатором. Что и требовалось доказать.
Я немного подумал над выстроенной в мозгу схемой и понял, что ошибаюсь. Слишком сложно. Если бы Кэп изолировал Мазура, то и никакого убийства не было бы нужно.
Это я своей самодеятельностью немного смешал им карты, и им пришлось действовать в условиях форс-мажора. Не сунься я не в свое дело, ничего бы и не было… Привет, не было! А украденный «тэтэшник»? Это для чего? Просто так? А я вообще для чего?
Тоже просто так? Эти ребята из спецслужб не платят по пятьдесят тысяч баксов за просто так. А тут отдали и не охнули.
Профессор опять же. Что это значит? Это значит, что здесь какая-то крупная игра.
Очень крупная. Государственного значения. Потому что люди типа Профессора не из тех, кто занимается мелочью и текучкой.
Более того, он счел необходимым лично встретиться со мной, сверить свои впечатления от моей личности с той ролью, которую я в операции должен сыграть.
Нет, все здесь не так просто. Большие беды возникают часто от того, что исполнители усложняют простое. Но не меньшие, наверное, и от того, что они упрощают сложное. Вот тут и крутись, как знаешь!
Было и еще кое-что, что в мою простую схему просто не влезало. Документы, которые получил Комаров. Как с ними быть? Проигнорировать? Сделать вид, что ничего не было?
И еще одно. Взрыв «Регаты». Двести десять погибших. Тоже ничего не было? Я не о том сейчас говорю, кто виноват. Хотя есть кто-то, вполне конкретный, кто виноват. Я специально зашел в городскую библиотеку и перечитал все, что об этой «Регате» писали в газетах. Версий было множество. От взрыва в трюме до самопроизвольного открытия какой-то трюмной задвижки. И о том, что крушение парома было связано с криминальной борьбой за обладание портом Таллина, тоже писали. Все версии выглядели правдоподобно, так как ни одна из них не была подтверждена бесспорными фактами. Конечно, и задвижка могла открыться. Но с чего бы ей открываться после двадцати с лишним лет безаварийной эксплуатации парома?
Ни одна из газет не посмела высказать предположение о причастности к взрыву российских спецслужб, хотя многие отмечали, что эта трагедия оказала благоприятное для России влияние на проблему перераспределения балтийского грузопотока и открыла большие перспективы для развития порта города К. Поэтому я и не задавался сейчас вопросом, кто виноват или что виновато. Я говорю о самом факте. Был он? Был. Вписывается он в мою схему? Нет. Значит, схему можно повесить в сортире на гвоздь. Это и есть ее настоящая цена.
Из этих рассуждений видно, что я человек самокритичный. Но это не значит, что я человек доверчивый и миролюбивый. Нет, я не миролюбивый. У меня небольшая семья — Настена да Ольга, но я их опора. Без меня они пропадут. В Чечне мы воевали, выполняя воинский долг. Сейчас я воюю, защищая себя и свою семью. Ну, и немного — честь России. Так, как я ее понимаю. Я бы даже сказал, что это не понимание, а ощущение. Я не знаю, что такое нынешняя Россия. И никто, по-моему, не знает.
Соответственно я не знаю, в чем заключается ее честь или бесчестье. Христианские заповеди для меня тоже пока еще (хочется верить, что пока) — грамота за семью печатями. Я, например, уже понял, что Бог есть, но какие у меня с ним отношения должны быть и будут — нет, этого еще и близко не понял. Ну, не брать же в серьезный расчет свечи, которые я ставлю за ребят перед заданием и после него.
Это, если быть откровенным, скорее суеверие, но не вера.
О том, что меня хотят использовать в какой-то своей, сложной и важной игре, я понял еще во время того разговора с Профессором и Егоровым в подмосковном военном санатории, когда они согласились выплатить мне пятьдесят штук баксов и, как я понял, готовы были заплатить вдвое больше. Почему я согласился, хотя и видел, что играю втемную? Бабки? Бабки мне, конечно, были нужны, но не настолько. А согласился я потому, что мне стало вдруг интересно, вся моя столярка вдруг представилась каким-то скучным и нудным делом. Егоров был прав: я, как и он, был отравлен уже всем этим не хуже какого-нибудь наркомана, и без риска, без постоянного внутреннего напряжения уже и жизнь становилась не в жизнь.
И был еще важный момент: в этом старом грифе или орлане, не знаю уж, как эти птицы называются, сидело такое мощное понимание России — не в ее географическом, а в высшем, духовном смысле, что даже и мысли не мелькнуло о том, что меня могут использовать не на пользу России, а ей во вред. А я хотел быть полезным моей стране. Да, хотел. Я был солдатом России и видел в этом свое высшее и даже единственное предназначение.
Это меня и заставило сказать «да». А когда уже сказал «да», поздно говорить «нет». Ступил на дорогу — пройди ее до конца. Куда бы она ни вела. Только вот беда: дорога, на которую я волей случая ступил, вела не к храму. Нет. Не к храму.
Что ж, вот я и получил то, что хотел. Выше крыши. Хлебай — не хочу. Правда, сейчас тебя уже никто и не спрашивает, хочешь ты или не хочешь.
Раздумывая над всем этим каким-то краешком мозга, который, как я заметил, всегда бывает свободен для раздумий, я нес какую-то ахинею, пытаясь втравить в болтовню и Егорова. Но тот хмуро молчал, курил, пил виски без всякой закуски и наконец скомандовал мне:
— Заткнись! — После чего достал трубку мобильного телефона, набрал какой-то номер и приказал:
— Первый транспортный рейс в Москву. Передайте Первому, что я вылетаю.
И отключил телефон.
— Тебя, конечно, мое мнение не интересует, — заметил я. — Но я бы сделал по-другому.
— Как? — хмуро спросил Егоров.
— Я сначала довел бы операцию до конца, пользуясь теми полномочиями, которые у тебя есть, а потом уж докладывал бы.
— Спасибо за бесплатный совет, — буркнул Егоров.
— Не за что, — сказал я. — Тем более что ты им не воспользовался.
Он допил виски, поднялся и пошел к выходу.
— Приказания? Особые пожелания? — спросил я.
— Занимайся своим делом. Вот и все пожелания. И если сможешь, не лезь туда, куда тебя не просят. Если будут особые пожелания, завтра к вечеру я тебе их передам.
— Ты все-таки рассчитываешь вернуться сюда?
— Да, рассчитываю. Ты просто не представляешь себе всего размаха операции. Поэтому и даешь дурацкие советы.
— Больше не буду, — пообещал я.
* * *
Когда Егоров ушел, я запер дверь на все замки и задвижки, нашел среди кассет Би Би Кинга, отмотал две трети и включил плеер. На эту кассету я записал разговор, который вели Профессор и Егоров после моего ухода в кабинете военного госпиталя.
Я запрятал запись среди других кассет вполне намеренно. И, как выяснилось, не напрасно. Если бы ее обнаружил шнурок Кэпа — это бы еще ничего, Кэп просто не понял бы, о чем речь, а вот если бы запись нашли при негласном обыске люди Егорова, — объяснить появление у меня этой записи было бы трудновато.
Я уже прослушал ее раза три. Бесполезно. У меня было слишком мало информации, чтобы понять, о чем идет разговор. Сейчас, когда информации у меня прибавилось, можно было сделать еще одну попытку. Я и сделал.
* * *
«Егоров. Лихо, Профессор. Я бы на такой блеф не решился. «Проводите нашего гостя». А если бы он ушел?
Профессор. Вы считаете, что я блефовал?
Егоров. А нет?
Профессор. Вы циник, Егоров.
Егоров. Я практик.
Профессор. Ошибаетесь. Мы сегодня уже говорили об этом, но вы, вероятно, не поняли. Вы облечены высшим доверием. А значит, вы политик. Хотите того или нет. А политик должен верить в то, что делает. Иначе грош ему цена. И ни на какую серьезную карьеру он не может рассчитывать. Ваши впечатления?
Егоров. Крутой паренек. Пятьдесят штук снял — и глазом не моргнул. Если у него такие гонорары, чьи же конфиденциальные поручения он выполнял? И какие?
Профессор. Незачем гадать. Важно другое. Это ложится в легенду. Наемник. А кто его нанимал и для чего — второй вопрос…»
* * *
Я выключил плеер.
Легенда. Какая легенда? Та, что разработана для меня, но мне не сообщена.
Вероятно, та, что будет использована тогда, когда я сам буду задействован в главной своей роли.
Что это за роль?
Знать бы. Тогда и все другие вопросы исчезли бы сами собой.
Наемник. Почему это кажется им важней того, кто именно меня нанимал и какие поручения я выполнял? А вдруг я работал на криминал или даже на иностранные разведслужбы? Неважно им это? Выходит, так. Им важно, что я наемник. А чей — они об этом даже говорить не стали. Какая-то здесь фигня. Так не бывает. Профессор, конечно, — человек с нестандартным мышлением. Да и Егоров тоже, хотя и в гораздо меньшей степени. Но они же живут на нашей грешной земле, не в облаках витают. А не задались элементарными вопросами, которыми задастся любой лейтенант контрразведки. Почему? Случайность? Не многовато ли случайностей набирается?
Я снова пустил запись.
* * *
«Профессор. Когда он был в Японии?
Егоров. С седьмого по шестнадцатое октября. Вылетел в Токио прямым рейсом из Шереметьево-2. Вернулся через Осаку автомобильным паромом до Владивостока. Там погрузил купленную машину на платформу и сопровождал ее в рефрижераторе до Москвы. Договорился с водителями рефрижератора, «рефами». За бабки, конечно. Боялся, как бы тачку по пути не раздели. Так что все складывается как надо..
Профессор. Эти «рефы» смогут его опознать?
Егоров. Смогут, конечно. Но кто их будет искать и допрашивать?..»
* * *
Я снова остановил запись.
Япония. При чем тут Япония?
Я немного прокрутил текст вперед и нашел еще одно важное место.
* * *
«Профессор. Заменяем?
Егоров. Очень сложно. До выборов меньше месяца. И главное — Япония. Где мы найдем такое благоприятное сочетание обстоятельств?..»
* * *
«Стоп».
Далась им эта Япония! Почему, черт возьми, моя невинная поездка в Японию — это благоприятное стечение обстоятельств? Причем редкое. Для них, понятно. При чем тут «рефы», в вагоне которых я действительно сопровождал «ниссан-террано», чтобы по дороге местные умельцы не сдрючили с него все, что можно сдрючить? Почему этих «рефов», как называют себя механики и экспедиторы рефрижераторных секций, нужно или не нужно искать и допрашивать?
Из этой своей поездки я не делал никакого секрета. Да и не было в ней никакого секрета. Поэтому их информационная служба без труда выяснила, когда я вылетел в Токио, когда вернулся во Владивосток и как добрался до Москвы.
Почему же вдруг эта поездка становится делом первостепенной важности? Такой важности, что мельчайшими деталями ее интересуется не кто-нибудь, а сам Профессор?
Я еще немного покрутил пленку в разных концах беседы и выключил плеер. Нет, не понимал я сути разговора. Видно, еще слишком мало получил информации. Пойму, конечно. Со временем. Когда знать буду больше. Вопрос тут, как всегда, был только один: не будет ли это слишком поздно?
* * *
Был второй час ночи. Гостиница притихла. Даже ресторанный оркестр умерил свой пыл и был практически не слышен. Я осторожно выглянул в коридор: никого. Если за моей дверью и следили, то не из коридора, а со стороны лифтов. Да и вряд ли, пожалуй, следили. У Егорова и его ребят и без меня было сегодня довольно забот.
От меня он уже никаких выкрутасов не ждал. Но осторожность никогда не бывает лишней. Поэтому я зашел в ванную, сбросил всю свою обычную одежду, в любой шов которой мог быть вшит чип (а они сейчас бывают какой-угодно формы, даже ниткообразные), переоделся в шмотки, купленные вчера на одной из городских ярмарок, натянул до ушей черную вязаную шапочку, стараясь по мере возможности скрыть синяк, расползшийся на всю левую щеку, напялил светозащитные «хамелеоны» и выскользнул из номера. Но спустился вниз не лифтом и не по лестнице, а пешком по служебному ходу, которым в этот ночной час никто не пользовался.
У парадного входа отеля «Висла» стояли две-три машины такси, да пара частников, но я не рискнул привлекать к себе их внимание. Поэтому почти полчаса я перся пешком в тумане до железнодорожного вокзала, а там уж поймал случайную тачку.
Услышав, что нужно ехать за город, водитель сначала закапризничал. Но я положил на приборный щиток две сотенные (очень неплохие бабки даже для портового города), и он сдался.
Через сорок минут он высадил меня на окраине пригородного поселка Зеленодольский, а дальше я уж знал дорогу сам. Еще через четверть часа я стоял возле дачи, казавшейся сейчас, в ночи, совершенно необитаемой. Но после пары мелких камешков, брошенных в одно из стекол второго этажа, окно осветилось изнутри, а еще через несколько минут на крыльце появилась высокая, хорошо знакомая мне фигура.
Еще бы не знакомая — почти три года вместе пробыли в Чечне, да и после Чечни нечасто надолго расставались.
На крыльце стоял бывший старший лейтенант спецназа Семен Злотников по кличке Артист.
Не задавая мне никаких вопросов, он ввел меня в комнату на втором этаже, коротко пояснил, что старики, хозяева дачи, беспробудно спят внизу после снотворного, а звукоизоляция в этих старых немецких домах такая, что лучше не бывает. После этого сел против меня за квадратный обеденный стол и спросил:
— А теперь объясни: зачем ты убил Комарова?
Глава шестая. Промежуточное убийство
I
Я вызвал в город К. Артиста раньше, чем Муху с Боцманом, — через три дня после своего приезда, когда убедился, что меня плотно, круглые сутки, пасут подполковник Егоров (или кавторанг, хрен его разберет) и смуглый малый с приплюснутым носом. И если кавторанг позволял себе некоторые вольности вроде получасовых отлучек по неотложным делам (а ему же нужно было и командой своей управлять, куда от этих неотложных дел денешься), то смуглый, которого, как выяснилось позже при весьма нерядовых обстоятельствах, звали Матвеем Салаховым, никаких вольностей себе не позволял. Он прекрасно знал город, все проходные дворы и проезды, я чувствовал в нем природное волчье чутье, какое никакой практикой не внедришь в психику человека. Матвей Салахов был очень опасным человеком, ему бы еще чуть выучки — цены бы не было такому контрразведчику. Но с выучкой у Матвея было неважно — общепехотное училище, не более того, а до всего остального он добирался сам. Наблюдая, как он работает, я иногда лишь головой качал: в мою бы команду такого. Впрочем, так я думал только в первые дни. А потом понял, что не взял бы Матвея к себе, кто бы мне это ни приказывал. Это был по сути своей волк, ненавидящий жертву и вызывающий ответную ненависть, почти всегда даже неосознанную. А это не боец в команде. Убийца — да. Умелый и дерзкий диверсант-одиночка — да. Но в команду он не вписывался. Ни в какую.
Артист поселился в некотором отдалении от меня, в небольшом пятизвездочном отеле «Мрия», где успешно выдавал себя за московского кинорежиссера. И на второй же день он просек и Егорова, и смуглого. А на третий преподнес мне сюрприз: оказывается, егоровская «наружка» снабжена еще и машиной сопровождения. И это не просто «рафик». А «рафик», начиненный самой современной радиотехникой. Понятное дело, он не мог подробно рассматривать эту радиотехнику, но то, что она была современной, не требовало доказательств. Какой же смысл было использовать технику вчерашнего или даже позавчерашнего поколения?
Все это заставило меня крепко призадуматься, но никаких выводов я сделать не смог. Кроме того, какой уже сделал: меня ввели в какую-то комбинацию и не намерены посвящать в ее суть. Более того, намерены использовать втемную. Для этого, собственно, я и понадобился.
Что из этого следовало?
Неизвестно.
На всякий случай я приказал Артисту перебраться из «Мрии» куда-нибудь в ближний пригород, на дачу, сменить бросающийся в глаза имидж преуспевающего кинорежиссера и плотно сесть на хвост смуглому. Где живет, что делает, с кем встречается. И Боже сохрани засветиться. Моим решением Артист остался крайне недоволен. Ему нравилось жить в роскошном отеле с бассейном, тренажерным залом и прекрасной европейской кухней. Но он не стал спорить. Понимал, что это не моя прихоть. Он лишь выторговал себе пару дней, чтобы его отъезд не показался внезапным. Я согласился. И позже, когда думал о том, что произошло, понимал, что это была самая большая наша удача.
Общеизвестно, что случайную удачу запланировать невозможно. Случайность — на то она и случайность. Но люди опытные знают, что можно создать условия для возникновения счастливой случайности, незапланированной удачи. Чем меньше людей знают об операции, чем уже их частные знания, чем более люди функциональны, тем меньше шансов, что эта счастливая случайность вдруг вторгнется в строго разработанную схему. И слишком много говорить тоже нельзя, еще неизвестно, что хуже: утечка оперативной информации или отсутствие незапланированной удачи. В этом и заключается искусство аналитика-разработчика: обеспечить максимальную секретность операции и в то же время не пережать, дать возможность вторгнуться счастливой случайности. А они гораздо чаще случаются в жизни, чем это принято думать, гораздо чаще.
Впрочем, давая Артисту два дня на прощание с роскошным образом жизни, я не думал ни о каких счастливых случайностях. Просьба разумная? Разумная. Выполнимая?
Выполнимая. Ну, пусть повыпендривается, если ему так хочется. Вот и все, что я подумал. Но получилось совсем по-другому.
В день отъезда, когда у подъезда отеля уже ждал заранее заказанный лимузин и Артист стоял у конторки менеджера, дожидаясь, пока тот оформит компьютерную распечатку счета, он от нечего делать разболтался с портье, похвалил кухню и обслуживание отеля и упомянул, что недаром его друг рекомендовал ему этот отель и теперь он сам будет с чистой совестью рекомендовать его всем своим знакомым, кого судьба занесет в город К. Портье, средних лет дама, очень дорожащая, судя по всему, своим местом, расплылась от такой похвалы и спросила — тоже, как понял Артист, от нечего делать и от желания продолжить разговор, — кто этот друг и давно ли он здесь жил.
— Пастухов, — без всяких задних мыслей ответил Артист.
Во-первых, я и в самом деле дня четыре прожил в этом отеле, пока не понял, что просторные окна на втором этаже — это не самое большое достоинство жилья.
Во-вторых, я действительно посоветовал Артисту поселиться в этом отеле, так как он вполне соответствовал выбранному Артистом имиджу кинорежиссера.
— Пастухов? — неожиданно включился в разговор менеджер, возвращая Артисту кредитную карточку. — Сергей Сергеевич? Да, у нас жил этот господин. И, кстати, не оплатил один междугородний телефонный разговор.
— Пастухов?! Не оплатил разговор?! — вполне искренне изумился Артист. — Этого не может быть!
— Представьте себе, было, — возразил менеджер. — Секунду, сейчас найду.
Он пошелестел клавиатурой компьютера и положил перед Артистом распечатку, из которой следовало, что господин Пастухов разговаривал три минуты с российским городом с таким-то кодом и этот разговор не был оплачен.
— Мы могли бы позвонить ему и попросить оплатить счет, — объяснил менеджер. — Но это не в наших правилах. Счет небольшой, клиент мог просто забыть, а наш звонок заставил бы его подумать о том, что мы подозреваем его в мошенничестве. Так что будем считать, что ничего не случилось.
— Нет, я не согласен! — заявил Артист. — Получите с меня за этот звонок. А счет отдайте. Он человек не просто порядочный, а даже щепетильный, и ему будет неприятно знать, что он не оплатил свой звонок. И не спорьте со мной.
Менеджер и не спорил. Он получил с Артиста около двадцати тысяч, аккуратно дал сдачу и вместе с деньгами протянул ему листочек компьютерной распечатки со штампом «Оплачено». Возле лимузина Артист остановился и внимательно всмотрелся в счет. Он не сразу понял, что его насторожило. И только когда перечитал его внимательно еще раз, до него дошло: оказывается, мой разговор из отеля «Мрия» с каким-то российским городом состоялся 12 октября 1997 года.
* * *
Как раз в тот день, когда я погрузил во Владивостоке свой новенький «ниссан-террано» на железнодорожную платформу, договорился с «рефами» и двинулся в путь до Москвы.
И как раз в тот день, когда в городе К. был убит Николай Иванович Комаров.
Этим же вечером Артист вылетел во Владивосток. И вот, вернувшись наконец из своей поездки, он спрашивал меня:
— А теперь объясни: зачем ты убил Комарова?
* * *
Он хотел поставить чайник, но я возразил: некогда, Сеня, давай рассказывай, мне нужно как можно быстрей вернуться в гостиницу.
— Тогда слушай, — кивнул Артист. — Одиннадцатого октября в десять тридцать утра ты прибыл во Владивосток на автопароме из Осаки. В тот же день ты погрузил «ниссан-террано» на платформу и договорился с «рефами», что поедешь с ними.
Состав отправился в Москву в шесть утра двенадцатого октября. Но тебя с «рефами» не было.
— То есть? — не понял я. — Как это не было?
— А очень просто. Ночью ты сел на рейс Владивосток — Москва и в шесть тридцать утра был уже в столице. Рейсом в восемь тридцать ты вылетел в город К. Вечером двенадцатого октября ты закончил там свои дела и ночью вернулся в Москву. После чего сел в самолет и через три часа оказался в Тюмени. Там ты дождался подхода грузового состава, который вез твой «террано», и присоединился к «рефам». И вместе с ними прибыл в Москву. Это не мои предположения. Вот доказательства.
Копия твоего авиабилета из Владивостока до Москвы. Копия твоего билета от Москвы до города К. Обратный билет от К. до Москвы. И наконец — копия твоего авиабилета от Москвы до Тюмени. А это, кстати, телефонный счет за разговор, который ты вел из отеля «Мрия» с Затопино. Как раз двенадцатого октября. Только не спрашивай меня, как мне эти билеты удалось раздобыть. Это было непросто и недешево.
Я внимательно рассмотрел копии авиабилетов. Подлинные, без вопросов. Ни о какой подделке не могло идти и речи. Это были настоящие компьютерные копии настоящих авиационных билетов.
— Вопрос только один, — продолжал Артист, когда я отложил документы. — Для чего тебе понадобилось создавать себе такое алиби? Я думаю, ответ как раз в том, что произошло в городе К. двенадцатого октября. А двенадцатого октября был убит историк Комаров. Убит весьма профессионально. Тебе не кажется, что этот костюм сшит точно на тебя? И сшит первоклассным портным. Как влитой сидит, нигде ни одной морщинки.
— Двенадцатого октября я не мог звонить из «Мрии» в Затопино, — заметил я. — Хотя бы потому, что я жил в «Мрии» в начале ноября.
— Это ты говоришь мне или следователю прокуратуры? — поинтересовался Артист. — Ты мог и не жить в «Мрии». Просто зашел и позвонил из холла. И не оплатил счета, что характеризует тебя как человека не слишком порядочного.
— Зачем мне убивать Комарова?
— Заказ.
— Из чего я его убил?
— А это мы выясним в процессе следствия.
— Что ты еще раскопал?
— «Рефов», с которыми ты ехал из Владика.
— Они подтвердили, что я ехал с ними?
— Они не могут ничего подтвердить, потому что оба разбились на машине вскоре после возвращения из этой поездки. Еще я нашел помощника машиниста в Хабаровске. Он помогал тебе подтянуть крепеж твоего «террано». В Хабаровске как раз менялась тепловозная бригада.
— Он жив?
— Да. Но только потому, что о нем никто не знает. Кроме нас с тобой. У тебя потрясающая способность оказываться в самом неподходящем месте в самое неподходящее время. Я тебе уже об этом говорил?
— И не раз. Как им удалось вставить эти билеты в компьютеры аэропортов?
— Не проблема. Даже для средней руки хакера. А для самой захудалой спецслужбы — тем более. А здесь, между прочим, не захудалой спецслужбой пахнет. Тебе не кажется? Что все это значит, Сережа?
— Пойму — скажу, — пообещал я.
— Пока не понимаешь?
— Только начинаю. Туман, но кое-что уже проясняется.
— У меня для тебя есть еще подарочек, — проговорил Артист. — Не знаю только, прояснит он что-нибудь или еще больше запутает…
Он выложил на стол разрешение московской милиции на «Токагипт-58». (Я передал его Артисту перед самым его отлетом.) — Вот твоя ксива. Не думаю, что тебе стоит ею размахивать на всех перекрестках. Потому что это фальшивка. Разрешение на этот ствол никому и никогда не выдавалось. Она сделана профессионально, на настоящей бумаге, на подлинном оборудовании, но от этого ее суть не меняется. Этот ствол грязный, Сережа. И тебе его для чего-то подсунули. Думаю, не очень ошибусь, если предположу, что как раз из этого «тэтэшника» был убит Комаров. Меньше стало тумана или больше?
— Меньше, — подумав, сказал я. — Намного меньше.
…Да, начало проясняться. Не все, но многое. Вернувшись в гостиницу, я отмотал начало кассеты с Би Би Кингом и еще раз внимательно прослушал запись разговора Профессора и Егорова. Ну вот, теперь почти все стало на свои места. Все понятно, кроме одного: зачем?
Но сейчас меня больше всего волновало другое: Кэп.
II
Подполковник Егоров прилетел на военный аэродром Чкаловский около семи утра на военно-транспортном «Ане». На КПП его уже ждали. Двое молодых людей в штатском, но с явно военной выправкой попросили его предъявить удостоверение и показали на черную «Волгу», которая стояла на подъездной площадке. Примерно через час «Волга» остановилась у неприметного особнячка в старой части Москвы, штатские передали Егорова двум другим молодым людям, тоже штатским и с такой же выправкой, те провели его в здание, и через несколько минут подполковника пригласили зайти в кабинет, перед которым была всего лишь крошечная, с хрущобную шестиметровую кухню, приемная, оснащенная, впрочем, новейшим компьютером и другой оргтехникой, о назначении которой Егоров мог только догадываться.
В тесноватом и очень просто обставленном кабинете за обыкновенным письменным столом сидел Профессор. Он был в своем коричневом, топорщившемся на плечах и груди костюме, жилистая шея была втянута в плечи, большой нос с горбинкой и узкий череп придавали ему, как всегда, сходство со старым, но еще сильным грифом.
Он молча кивнул на жесткое полукресло, стоявшее возле приставного столика, и коротко приказал:
— Докладывайте.
Доклад Егорова занял около двадцати минут. Он еще в самолете решил ничего не скрывать и ни о чем не умалчивать. Ситуация складывалась неопределенная, нельзя было исключать, что любая мелочь вылезет наружу, а Профессор был не из тех, кто прощает вранье. Он мог простить неудачу, но не вранье. И в этом Егоров был с ним вполне согласен. Решит Профессор отстранить его от операции и отправить служить в какой-нибудь дальний гарнизон — ну, так тому, выходит, и быть. Но попасться на мелком вранье — это было противно сути Егорова. Он и от своих подчиненных всегда требовал предельной честности, и сам был честен с начальством. Это было заложено в самом понятии флотской чести, которая была для капитана второго ранга Егорова самой высокой, самой емкой нравственной категорией.
Профессор слушал, не перебивая и не уточняя деталей. Просто сидел, как старый гриф на скале, и слушал. И лишь когда подполковник закончил доклад, произнес:
— Вы правильно сделали, что прилетели и доложили. Это был трудный выбор?
— Не слишком, — ответил Егоров. — В операции появились проблемы, которые я не имел права решать. Операция не того масштаба, чтобы я мог принимать окончательные решения. Поэтому я и прилетел.
— Как я понимаю, от нашего первоначального плана не осталось ничего?
— Почти ничего, — согласился Егоров. — Кроме общей идеи. Все карты перемешаны, и я уже не очень понимаю, какая идет игра и по каким правилам.
— И сделал все это наш фигурант Пастухов.
— Так точно, — подтвердил Егоров, хотя в тоне Профессора не было никакого вопроса.
— Значит, вы были правы, когда сомневались, нужно ли его задействовать. Я не прислушался. А зря. Но ничего страшного, подполковник. Ничего страшного. Вы сами прекрасно знаете, что ни одна операция не идет по заранее намеченному плану. Всегда что-нибудь мешает. Всегда что-нибудь не так. И самое глупое — это переть быком в намеченном направлении. Наша задача — достичь конечной цели. А как мы будем менять свою тактику по ходу дела — это никого не интересует. Давайте отсюда и танцевать. Меня волнуют три аспекта. Первый. Как Пастухов узнал, кто я такой.
— Не могу знать, — по-военному ответил Егоров. — Не от меня. И не от моих людей. Я сам не знал, кто вы. Верней, знал, но очень немногое. Необходимый минимум. А мои люди о вас понятия не имеют. Они вообще не знают, что вы существуете.
— У меня и мысли не было вас обвинять. В разговоре с этим Кэпом Пастухов сказал, что меня знают человек десять у нас в стране и человека два-три в ЦРУ. Я правильно вас понял?
— Так точно.
Профессор поморщился:
— Оставьте вы эти «так точно» и «не могу знать». Вы же не с адмиралом разговариваете, а с человеком, можно сказать, вполне штатским. Насчет Лэнгли он, возможно, прав. Человека два-три там меня знают. И то больше догадываются, чем знают.
— Пастухов не может быть человеком ЦРУ. Не та биография, не та психофизика, все не то. Даже методы его действий чисто русские.
— Согласен, — кивнул Профессор. — Именно потому, в частности, что он знает обо мне больше, чем ЦРУ. Насчет того, что у нас в стране меня знает не больше десяти человек, — тут, я думаю, Пастухов или ошибся или соврал намеренно. Меня знают человек двадцать. И я знаю всех, кто меня знает. Информация обо мне к Пастухову могла уйти только от них. И у меня есть возможность проверить, от кого именно. Я это сделаю. Так что этот аспект проблемы, будем считать, закрыт. Он бы и не имел решающего значения, если бы Пастухов не поделился этими знаниями с Кэпом. При этом вполне отдавая себе отчет, что разговор прослушивается вами или вашими людьми. Он не сомневался, что после этого вы уничтожите и Кэпа и его охрану?
— Он был в этом уверен на все сто. Он сам мне об этом сказал.
Профессор покачал своей голой головой старого грифа.
— Остроумное решение. Интересный парень. Досадно, что мы вынуждены использовать его в этой роли. Как он воспринял ваше решение не спешить с определением участи Кэпа?
— Попытался давить.
— Как?
— Намекнул, что для меня лучше сначала закончить всю операцию, а потом докладывать о ее ходе. И о том, что я могу оказаться где-нибудь в дальневосточном морском дивизионе.
Профессор засмеялся:
— Не дурак. Очень не дурак. Его ошибка в том, что он не знает истинных масштабов операции.
— Об этом я ему и сказал, — проговорил Егоров.
— А вы их знаете?
— В полном объеме — нет. Поэтому и прилетел к вам с этим докладом.
— Давайте сначала решим первую проблему, а потом займемся другими, — предложил Профессор. — Кэп. Никаких акций. Немедленно освободить и предоставить возможность действовать по его собственному усмотрению. Извиняться не обязательно.
— Но он уже знает, кто вы, — предупредил Егоров. — И что вы руководите всей операцией.
Профессор отмахнулся:
— Не имеет значения. Об этом он будет молчать, как мертвый. И сам найдет способ заставить молчать своих охранников. К сожалению, он нам нужен. Вы понимаете, почему я говорю «к сожалению»?
— Да, понимаю, — подтвердил Егоров.
— Грязное дело. — Профессор поморщился. — Но мы вынуждены работать с тем материалом, который у нас есть. Это не доставляет удовольствия ни вам, ни мне. Но кто-то должен делать это дело. Выпало нам. Примем это с достойным смирением.
Профессор вызвал, из приемной помощника и приказал связать Егорова с его людьми в городе К.
Через три минуты в трубке раздался голос капитана-лейтенанта Козлова:
— Слушаю, шеф. У нас полный порядок, объекты на месте.
— Можете говорить открытым текстом, линия защищена, — подсказал Профессор.
— Всех освободить, — приказал Егоров. — Проводить до их «линкольна», и пусть валят на все четыре. Извиняться за причиненные неудобства не нужно.
— Это приказ? — уточнил Козлов.
— Правильно понял.
— Ну, хоть за то, что не нужно извиняться, спасибо. А морду напоследок набить нельзя?
— Раньше нужно было, — буркнул Егоров. — Пастухов?
— Всю ночь был в номере, сейчас тоже. Спит. Машина его на месте, на стоянке. Никого постороннего в номере не было, ни с кем по телефону не говорил. Данные наружного наблюдения подтверждены с базы телеметристами. Так что никаких сомнений.
— Все, до связи, — проговорил Егоров и отключил селектор.
— Продолжим, — предложил Профессор. — Салахов. Что же все-таки с ним случилось?
— Второй день ломаю над этим голову и не могу понять, — признался Егоров. — Был найден мертвым в редакторской комнате телецентра. Сломана шея. По заключению судмедэксперта, очень необычным и профессиональным приемом. Смерть наступила мгновенно. Ориентировочно между семнадцатью и семнадцатью сорока. Минут без пяти семнадцать ведущий Чемоданов вышел из редакторской и направился к проходной, чтобы встретить Мазура. Он опаздывал на передачу в прямом эфире. Передача началась в семнадцать двадцать и закончилась в семнадцать сорок одну. Вместе с Мазуром он пришел из студии в редакторскую, и тут все и обнаружилось.
— Подробнее. Что? — уточнил Профессор.
— Я не был на осмотре места происшествия с оперативниками. Это привлекло бы ко мне ненужное внимание. Но позже ознакомился и с местом происшествия, и со всеми материалами уголовного розыска. Оперативники в полном недоумении. В полу обнаружено восемь отверстий от пистолетных пуль калибра 9 миллиметров, найдено столько же гильз, плюс пустая обойма. Но нет никаких признаков того, что кто-то этими выстрелами был ранен. Ни капли крови, ничего. Не обнаружено самого пистолета. Можно предположить, что Салахов пытался защищаться, но нападавший оказался проворнее.
— И намного, — заметил Профессор.
— На порядок, — подтвердил Егоров. — Это притом, что Салахов был настоящим профессионалом.
— Он не выполнил задания.
— Да. Для нас это самое неприятное. Нейтрализация Мазура и Чемоданова могла решить все наши проблемы уже сегодня. Я не отношу себя к людям, которые склонны свои ошибки перекладывать на других, но здесь мне не в чем себя обвинить. Вся схема была продумана и просчитана: либо Мазура нейтрализует Кэп, либо Салахов.
— Это было сильное и острое решение, — проговорил Профессор. — Поэтому я и сказал вам однажды, что вы хорошо, на современном уровне, умеете думать. У меня другая школа. Но все, что произошло, заставляет меня усомниться в эффективности новых методов. Слишком часто они зависят от случайности. Слишком часто. Как и на этот раз. Вы сказали, что Салахов изъял пистолет Пастухова из камеры хранения на автовокзале?
— Да. Он мне об этом сообщил. И он должен был из этого пистолета стрелять в Мазура и в Чемоданова.
— Где же этот пистолет?
— Много бы я дал, чтобы это узнать.
— Хороший ответ, — отметил Профессор.
— Он только одним хорош, — хмуро отозвался Егоров. — Тем, что он откровенный.
— Пули в редакторской — из этого пистолета?
— Пока неизвестно. Послали на экспертизу. Думаю, что да.
— Если подтвердится?
— Для нас — без последствий. Что там произошло — пусть уголовный розыск голову себе ломает. Хуже другое. Баллистики могут установить, что из этого же ствола был убит и Комаров.
— И что? — спросил Профессор.
— В общем, тоже ничего. Но мы теряем очень сильную позицию — смерть Комарова. Получается, что все это время мы работали впустую.
— Не расстраивайтесь, не впустую, — счел необходимым приободрить собеседника Профессор. — Ваша комбинация не сработала — да. Но все было сделано правильно. И вы очень быстро и правильно сориентировались в обстановке. Скажите, нет ли у вас ощущения, что последнее время нам все время мешает какая-то третья сила?
— Нам все время мешает Пастухов, — без обиняков заявил Егоров. — Он все время лезет не в свои дела и портит нам все комбинации.
— И даже с убийством Салахова в телецентре?
— Исключено. Это было первое, о чем я подумал. Нет, исключено. Я проверил все по минутам. Охранник телецентра утверждает, что Пастухов вообще не вылезал из своей машины. Подвез Мазура, передал его с рук на руки Чемоданову, посидел и уехал. Я предположил, что охранник отвлекся. Но сами посудите: на все про все у Пастухова было меньше двадцати минут. Проникнуть в здание, найти редакторскую, убить вооруженного Салахова и незаметно исчезнуть? Да я там по коридорам полчаса ходил, прежде чем нашел эту редакторскую! Из этой редакторской был, правда, рабочий выход — в аппаратные и в подвал, а оттуда во двор. Но там на лестнице столько старого барахла навалено, что ноги переломаешь, прежде чем выберешься. Следователи из уголовного розыска опросили всех самым жестким образом. Никого постороннего в телецентре не было. Что это значит? Значит, нападение на Салахова было подготовлено заранее. И потому удалось. А вот кем — на этот вопрос я не могу ответить. Какая-то третья сила? Возможно. Но это не Пастухов.
— Где же этот злосчастный пистолет?
Егоров только руками развел:
— Со временем, возможно, узнаем.
— А прямо спросить у Пастухова, где его оружие?
— Не рискнул, — признался Егоров. — В этом случае он сразу бы догадался, что мы имеем отношение к исчезновению ствола.
— Вы правы, возможно, — подумав, сказал Профессор. — Что ж, у нас остается в запасе третий вариант. По нему и будем работать. Справятся ваши ребята? Задача сильно усложняется, даже чисто технически. Работать придется на людях, в толпе. И все должно быть проведено без единой шероховатости. Руководство МВД будет ориентировано соответствующим образом, но ваша работа должна быть абсолютно чистой. Вы уверены в своих людях?
— Вы ведь знаете, Профессор, как они работали. С тех пор они не стали слабее. Я в себе могу быть не вполне уверен, но в них — на все сто.
— К сожалению, у меня нет людей, про которых я могу так сказать. Я уверен только в себе. Что ж, возвращайтесь и продолжайте. Могу вам сказать, что вчера принято решение правительства выплатить все задолженности по зарплате и пенсиям жителям города К. и области. В пятидневный срок. Как раз накануне второго тура выборов. Только не спрашивайте, чего мне это стоило.
— А чего вам это могло стоить? — удивился Егоров. — Они что, не понимают, что к чему и зачем все это делается?
— Кто-то не понимает, кто-то делает вид, что не понимает, — уклончиво ответил Профессор. — Все рвут себе, своим регионам, своим отраслям. Я не скажу, что это глупые люди и не знают, что из ямы мы можем вылезти только общими усилиями. Но это знание так и осталось знанием поверхностным, не стало основой мировоззрения.
Поразительно, как уроки истории быстро забываются. Как вылезла из жуткого кризиса послевоенная Германия с помощью пресловутого плана Маршалла? Очень просто. Выбиралась наиболее перспективная отрасль и туда бросались все средства. И все инвестиции. А продукция бесперспективных отраслей просто закупалась на стороне — там, где это было дешевле. Порт города К. — это же золотое дно.
Оффшорная зона, железнодорожный узел и порт — это и есть тягач, который в состоянии вытащить из трясины половину России. Трясемся над копейками, а теряем сотни миллионов долларов. В общем, выбил я решение. Скажу вам откровенно, подполковник: я заявил, что немедленно уйду в отставку, если это решение не будет принято. И ушел бы… Так что вся наша операция висела на волоске.
— Я уважаю вашу преданность идеалам, Профессор, — проговорил Егоров вполне искренне. — Я рад, что мне привелось работать с вами. Я не знаю, сумею ли оправдать ваше доверие, но сделаю для этого все, что в моих силах.
Профессор усмехнулся:
— Я прощаю вам вашу высокопарность. Потому что сам невольно спровоцировал ее. Что еще произошло в городе К. из того, что вы не упомянули в докладе?
— Существенного — ничего, — ответил Егоров. — Губернатор сменил охрану. Приехали два молодых человека из Москвы. Одному лет 26, другой чуть старше.
— Откуда? Кто? Узнали?
— Да. Бывшие спецназовцы. Один лейтенант, другой старший лейтенант. Одна деталь, наводящая на размышления: они служили в команде Пастухова в Чечне. И одновременно с ним были уволены из армии. Формулировка та же: «За невыполнение боевого приказа». И больше никакой информации.
— Вы хотите сказать, что это его люди?
— Похоже на то, — согласился Егоров.
— Могут они представлять собой проблему для ваших людей?
— Нет. Их всего двое. А у меня пятеро. Не считая меня. И подготовка их не может быть слишком серьезной. Война в Чечне — это одно дело, а работа чистильщиков — совсем другое.
— Это все?
— Нет. Из Германии, из компании «Фрахт интернейшнл» поступила заявка на участие в тендере по продаже акций порта. Официально начало торгов еще не объявлено, но прием заявок уже начался.
— Что это за компания?
— Германская. Офис — во Франкфурте-на-Майне. Зарегистрирована на острове Мэн, в оффшорной зоне. Генеральный директор некто Заубер. Деятельность вполне законна, активы солидные. По нашему заданию проведена проверка. Есть подозрения, что этот Заубер — лицо подставное, зицпредседатель. Но доказать это не удалось. И даже если так, к деятельности компании претензий нет. Ей принадлежат двенадцать процентов акций порта К.
— Как у них оказались эти акции?
— Они давно участвуют в русских делах. Очень осторожно, правда. Купили, когда акции были не в цене. Это еще скромный пакет. Акции порта давно стали ликвидными, гуляют из рук в руки. Обычная биржевая игра.
— В чем суть их заявки?
— Они предлагают двести сорок миллионов долларов за тридцать шесть процентов акций. Плюс те, что у них есть, — практически контрольный пакет. Это очень серьезное предложение.
— Есть и другие? — уточнил Профессор.
— Есть, но гораздо более мелкие. И стартовая цена намного ниже, чем предлагают эти немцы.
— Как прореагировали в администрации губернатора?
— Им сейчас не до этого. Ждут второго тура выборов. И их нетрудно понять.
— Это все?
— Да.
— Я задам вам еще раз вопрос, который уже задавал. Вы уже почти две недели работаете в городе К. по этой операции. Не обратили ли вы внимание на какие-либо странности? Пусть они не имеют никакого отношения к делу. Просто странности, не стоящая внимания ерунда? Нечто, выходящее за рамки обыденного сознания?
— Вас по-прежнему интересуют два молодых немца, специалиста по компьютерам, и человек с еврейской фамилией, который любит портвейн «Кавказ»? — уточнил Егоров.
— Да, — подтвердил Профессор. — Его фамилия пять лет назад была Блюмберг. Аарон Блюмберг. А еще раньше он был полковником КГБ Ароном Мосбергом.
— Тот самый Мосберг? — поразился Егоров.
— Нет, не тот самый. Тому было бы сейчас под восемьдесят. Но он не дожил и до пятидесяти. Это его сын. Двадцать с небольшим лет назад он ушел на Запад.
— Вы имели о нем информацию?
— Да. Он не давал нам забывать о себе.
— И вы опасаетесь появления его сейчас в городе К.?
— Да.
— В связи с нашей операцией? — счел необходимым уточнить Егоров.
— Да.
— Откуда он может о ней узнать?
— Он о ней знает. И, возможно, узнал даже раньше, чем вы принесли мне свой оперативный план. В доказательство я приведу только один аргумент. Документы, которые получил от неизвестного лица историк Комаров, могли быть только у Блюмберга.
— Вы упоминали об этих документах, но ничего не сказали мне об их содержании, — напомнил Егоров.
— Это были материалы заседаний так называемого Балтийского клуба. Протоколы и открытых, и секретных переговоров нашей делегации с прибалтами. Мы хотели честно получить какую-то компенсацию за утерю выходов в Балтику. Нам недвусмысленно дали понять, что мы не получим ничего.
— Какую ценность эти документы могут представлять сегодня? — спросил Егоров.
— Смотря для кого. Когда вы узнали, о чем именно хочет говорить Комаров на своей первой встрече с избирателями, вы сочли необходимым принять срочные меры. Представьте на секунду: если бы в руках у него были те самые документы, пусть даже копии… Как вы думаете, прозвучало бы его требование к президенту провести расследование взрыва парома «Регата» гораздо убедительнее?
— Но ведь у Блюмберга наверняка остались копии этих документов, — напомнил Егоров.
— Бесспорно, — согласился Профессор. — Но нет человека, который смог бы их озвучить. Так, как мог Комаров. Назовите мне политика, который на это решится. Не сможете. Даже среди самых яростных экстремистов. А то, что думают об этом в Прибалтике, да и во всем мире, нас мало волнует. Они вольны думать что угодно. Я вижу, вы хотите задать какой-то вопрос, но не решаетесь. Задавайте. Сегодня у нас откровенный разговор. Не уверен, что он повторится в обозримом будущем.
— Хорошо, спрошу, — проговорил Егоров. — Этот вопрос меня действительно очень волнует. Взрыв парома «Регата» — чьих рук дело?
— Давайте уточним формулировку, — предложил Профессор. — Если называть вещи своими именами, вы хотите узнать у меня, кто взорвал паром — мы или не мы. Правильно?
— Так точно, — ответил Егоров. — Да, именно это.
— Вероятно, вы удивитесь моему ответу, — заметил Профессор. — Я не скажу вам ни «да», ни «нет». Я мог бы сказать, что при всем своем высоком положении я все-таки не являюсь руководителем всех спецслужб и спецподразделений России, и потому решение о такой операции могло пройти мимо меня. Но я и этого не скажу. Я предлагаю вам подумать о другом. Допустите на секунду, что этот вопрос наш президент задал бы премьер-министру. «Мы или не мы взорвали паром «Регата»?» Что ответил бы президенту премьер-министр?
— Полагаю, что правду, — не слишком уверенно проговорил Егоров, не без оснований подозревая в словах Профессора какой-то подвох.
— То есть: да или нет? — уточнил Профессор.
— Думаю, что так, — согласился Егоров.
— Нет, голубчик, совсем не так. Премьер-министр на этот вопрос не ответил бы президенту ничего. Почему? Потому что президент никогда не задал бы такого вопроса. Точно так же, как этого вопроса сам премьер-министр не задал бы никому из вице-премьеров или силовых министров. А те, в свою очередь, своим высокопоставленным подчиненным. Я приведу вам более простой пример. Почему началась чеченская война? Нет, наверное, газеты и в России, и во всем мире, с полос которой не кричал бы этот вопрос. Его задавали в Госдуме и вообще черт-те где. А теперь скажите мне: хоть кто-нибудь ответил на этот вопрос? Президент? Премьер-министр? Министр обороны? Министр иностранных дел? Может быть, я невнимательно читал газеты и пропустил этот ответ? Так скажите мне его! Не можете. Потому что не знаете. Потому что на этот вопрос не ответил никто. Тот вопрос, который вы задали, из той же области. Этих вопросов не задают. На эти и подобные вопросы не отвечают. Вы у меня ничего не спросили. И я вам, соответственно, ничего не ответил. Вы меня поняли?
— Да, Профессор.
— А теперь вернемся к нашим делам. Я повторяю вопрос: странности, несуразности, любые события, выбивающиеся из обыденности?
Егоров подумал и решительно покачал головой:
— Нет. Все в норме. Я специально за этим слежу еще с прошлого нашего разговора. Я даже проверил, поставляется ли в город портвейн «Кавказ» и кто его покупает. Нет, не поставляется, про него уже все забыли, а если вспоминают, то с содроганием.
— Что ж, будем надеяться, что на этот раз судьба не сведет нас с Блюмбергом. Я сказал: будем надеяться. Но сам в это не слишком верю.
— Почему? — поинтересовался Егоров.
— Документы, которые попали к Комарову. Это его рука, тут нет никаких сомнений.
— Но это и все, что у него было.
— Вы его плохо знаете. А я его знаю слишком хорошо.
Вошел помощник Профессора, доложил:
— Город К. на связи, просят подполковника Егорова. Срочно. Пятый канал.
Профессор щелкнул тумблером на селекторе и протянул Егорову трубку:
— Говорите.
Он включил громкую связь, и голос капитан-лейтенанта Козлова заполнил все тесное пространство кабинета:
— Командир, вы будете смеяться, но Кэпа прикончили.
— Докладывайте, а не ерничайте! — прикрикнул Егоров.
— Слушаюсь. По вашему приказу мы освободили Кэпа и трех его охранников и вывели из бойлерной. Миня даже отряхнул костюм Кэпа от грязи. Мы подвели их к «линкольну», он еще со вчерашнего вечера стоял у гостиницы, и сказали, что они могут ехать, куда захотят. Громила сел за руль, сам Кэп в салон на заднее сиденье, и машина тронулась. Проехали они метров сто, мы уже шли к подъезду в гостиницу, как раздался взрыв мощностью примерно в полкило пластита. От «линкольна» не осталось практически ничего. От пассажиров — еще меньше.
Несколько машин на стоянке покорежило, вылетели стекла в нижнем этаже соседнего здания, никто из случайных прохожих не пострадал — время было довольно раннее, народу еще немного. Я предугадываю ваш следующий вопрос и сразу на него отвечаю.
Мы с Миней немедленно поднялись в номер Пастухова. Он был раздет и стоял у окна, пытаясь понять, что там рвануло. Полное ощущение, что он к этому делу никакого отношения не имеет. Сейчас на месте взрыва копаются эксперты МВД. Говорят, что скорее всего был использован радиовзрыватель, но окончательные выводы будут сделаны позже. У меня все. У вас есть вопросы?
— Вопросов, пожалуй, нет, — подумав, сказал Егоров.
— Приказания?
— Работайте, как и работали. Вернусь к вечеру. До связи.
Профессор протянул длинную мосластую руку и щелкнул тумблером селектора.
— Вот он и появился.
— Кто? — не понял Егоров.
— Полковник Блюмберг.
III
Примерно через год после крушения парома «Регата» и за полгода до того утра, когда взрывное устройство разнесло в клочья «линкольн» — лимузин одного из крупнейших бизнесменов города К., по кличке Кэп, а вместе с ним его самого и троих его охранников, на маяке в порту города К. появился новый смотритель.
Прежний смотритель, прослуживший в порту около двадцати лет, литовец по происхождению, неожиданно получил на своей бывшей родине небольшое наследство, купил дом в пригороде Вильнюса и перебрался туда вместе со своей многочисленной семьей. А его место занял немолодой, но вполне еще крепкий человек, лысоватый, с живым лицом явно еврейского типа и чуть искривленным, как у бывшего боксера, носом. Впрочем, фамилия у него была вполне русская — Столяров Александр Иванович и во всех анкетах он писал: «русский». Из документов, представленных им в отдел кадров пароходства, явствовало, что он полжизни проплавал на разных торговых судах, занимая должности от боцмана до старпома, в молодости служил на флоте, а последние два года жил под Москвой, работал снабженцем в какой-то фирме. Но работа не нравилась, потянуло к морю. И хотя зарплата смотрителя была намного меньше той, что он получал в фирме, он решил все-таки перебраться сюда, узнав случайно об открывающейся вакансии. Он уже немолод, семьи у него нет, денег ему много не надо, а работа смотрителя да спокойная, привычная обстановка — это дороже любых денег.
Кадровик, оформлявший Столярова, понимал, что все тут не так-то просто.
Должность в условиях наползающей на город К. безработицы, и особенно среди портовиков, была заманчивой, от кандидатов отбоя не было, но начальник пароходства дал указание оформить именно этого Столярова. Вряд ли из-за взятки, скорее из-за какого-то звонка сверху.
Но в неделю все было оформлено, и новый смотритель приступил к своим обязанностям.
Маяк, кроме смотрителя, обслуживали еще двое рабочих. Одного Столяров сразу выгнал за беспробудную пьянку, вместо него где-то нашел другого. Он в короткое время навел на маяке идеальный порядок, добился смены изношенного оборудования, при этом умудрялся закупать новые прожектора и галогеновые лампы по ценам в два-три раза ниже обычных, какие платило пароходство фирмам-поставщикам. А порядок держал настоящий, морской, точный. Минута в минуту включались софиты и ревуны, не гасла ни одна лампочка на створных огнях, обозначавших фарватер. Даже когда в городе случались перебои с электричеством, а они последние годы случались довольно часто, маяк города К. продолжал работать, показывая подходившим судам путь в тумане — стараниями нового смотрителя резервная дизельная электростанция была капитально отремонтирована и могла в любую минуту начать работу.
Новый смотритель не ограничился тем, что навел порядок на маяке. Он потратил немало времени и энергии и добился, чтобы и на судах все светотехническое оборудование было в полном порядке. А поскольку капитаны лесовозов, контейнеровозов и танкеров, приписанных к порту города К., в упор не видели какого-то там смотрителя маяка, Столяров пробивался к руководителям многочисленных частных транспортных компаний, поделивших после акционирования половину порта, и грозил страшными карами за малейшие нарушения безопасности мореплавания. Кар этих никто не боялся, штрафы, которые могли вчинить, были ничтожны, но Столяров так достал всех своим занудством, что всем капитанам был дан приказ беспрекословно выполнять указания смотрителя маяка.
Так и получилось, что уже через три-четыре месяца его знали все и он знал всех, он стал в порту своим человеком и знал все дела так, как их мало кто знал.
Жил Столяров в просторной комнате в каменном цоколе маяка. К ней примыкали еще две комнаты, в которых раньше жило семейство смотрителя, а теперь лишь изредка ночевали рабочие. Через некоторое время после своего внедрения он привез откуда-то из России молодого человека, представил его своим внучатым племянником, студентом, который остался без родителей, эмигрировавших в Штаты да там и затерявшихся без следа. В пароходстве ничего не имели против того, чтобы племянник смотрителя жил на маяке — комнаты все равно пустовали, да и по традиции они принадлежали родственникам смотрителя маяка и рабочим. Племянник Столярова поселился в одной из небольших комнат с обычным убранством, не претендующим ни на что, кроме основательности. Узкая дверь, заставленная шкафом, вела из его комнаты в чулан, где обычно держали метлы, лопаты для уборки снега и рабочую одежду. Но если бы кто-нибудь из посторонних случайно заглянул в этот чулан, всегда прикрытый шкафом, он был бы потрясен. Никаких лопат и спецуры в чулане и в помине не было. Стены и потолок были затянуты светлым пластиком с вентиляционными отверстиями, а на столе стоял мощный японский компьютер последней модели со всеми возможными прибамбасами. Более того, при внимательном осмотре маяка опытный человек мог бы заметить замаскированную на крыше небольшую светлую тарелку. И лишь очень опытный человек мог бы определить, что это не что иное, как космическая антенна. А это значило, что маяк имеет постоянную связь со всем миром через коммерческий спутник, которых за последние годы расплодилось несчитано. Но никому не было до этого дела. Посторонние на маяке не появлялись, рабочие делали свое дело и возвращались в город к своим семьям и обычным делам либо по молу на полуразбитых «Жигулях» Столярова, либо на моторке, пришвартованной у пирса.
* * *
Молодой человек, работавший за компьютером, не был племянником смотрителя маяка и давно уже не был студентом. Он был выпускником Бауманского технического университета, специализировавшимся по компьютерам, получившим диплом с отличием и неожиданно отвергшим все предложения остаться в аспирантуре или перейти на работу в крупные престижные фирмы.
Смотритель маяка тоже не был тем, за кого себя выдавал и за кого его все принимали.
Это был бывший полковник КГБ Арон Мосберг, он же — бывший президент Коммерческого аналитического центра Аарон Блюмберг, погибший — по данным германской полиции — в начале 1993 года в устье Эльбы во время морской прогулки в штормовую погоду.
* * *
Известие о трагедии с паромом «Регата», больше недели занимавшее самое видное место на страницах всех газет мира и в новостях телестудий, ввергло Аарона Блюмберга в отчаяние. Он нанял трех лучших частных детективов Германии и отправил их в Таллин. Там же работали и следователи страховой компании Ллойда, и сыщики Интерпола. Но расследование не дало практически никаких результатов. Не удалось документально подтвердить ничего. Тем более что правительство Эстонии не благоволило к работе следователей и создавало им всевозможные препятствия, мотивируя это тем, что расследованием обстоятельств трагедии официально занимается Генеральная прокуратура республики.
Для этого были очень серьезные причины. Если бы выяснилось, что взрыв автопарома «Регата» — дело рук России, это поставило бы правительство Эстонии в чрезвычайно сложное положение. Исходом могла быть только отставка всего кабинета министров и серьезнейший политический кризис. Ибо что можно было сделать? Устроить международный скандал? Что бы он дал? Российское правительство заявило бы, что ничего не знает об этой акции, а выводы следователей есть просто провокация. А эстонское правительство использует эту провокацию, чтобы оправдать дискриминацию русского населения Прибалтики. При существовавшем накале страстей это вполне могло бы привести к серьезным беспорядкам на национальной основе. И в перспективе, вполне реальной, — гражданская война… Да, отчаяние — именно в этом состоянии находился Блюмберг. Он не хотел верить, что взрыв «Регаты» — дело рук российских спецслужб. Не было ни одного доказательства этого. Но не было и против. Однако Блюмберг слишком хорошо знал своих бывших коллег по КГБ и нравы, царившие в этой некогда всесильной конторе.
Ничего не изменилось. Вся жизнь оказалась выброшенной псу под хвост. Все оказалось напрасным — и все жертвы, и все лишения. Одних большевиков сменили другие, но продолжалась та же грызня за власть, только более явная. Россия становилась маленьким, урезанным Советским Союзом. Ну, разве что ядерным оружием перестала бряцать, да и то — надолго ли?
Блюмберг недолго предавался отчаянию. Он не был религиозным человеком, но одно знал твердо: отчаяние — грех. Жизнь дана человеку для того, чтобы он выполнил свое предназначение. Каково это предназначение — человек определяет сам. Он может ошибиться, но уклониться от своей доли — это недостойно человека. Пусть он не может многого сделать, пусть даже он не сможет сделать ничего, но он должен хотя бы попытаться сделать все, что может.
И Блюмберг начал готовить свой отъезд в портовый город К.
* * *
Месяца через три после этого решения и примерно года через полтора после того, как Коммерческий аналитический центр Аарона Блюмберга прекратил свою деятельность, а сотрудники его исчезли в неизвестном направлении, в одной из комнат солидного офиса компании «Фрахт интернейшнл», арендующей пол-этажа в одном из самых престижных зданий в деловой части Франкфурта-на-Майне, собрались три человека, которые официально числились экономическими экспертами компании, но по странному обычаю, заведенному в этой молодой, но весьма преуспевающей фирме, не были подотчетны ни генеральному директору компании господину Зауберу, ни его заместителям.
Более того, господину Зауберу было предписано беспрекословно выполнять все указания, которые будут поступать от этих экспертов. Герр Заубер был опытным человеком, он понимал, что его назначение на этот высокий и весьма высокооплачиваемый пост вызвано стремлением истинных хозяев фирмы остаться в тени. Он ничего против этого не имел. В его возрасте (а ему было чуть за шестьдесят) при всех его знаниях и безупречной репутации трудно было найти работу, которая оплачивалась бы столь высоко и позволяла бы ему занимать видное место в деловой элите не только Франкфурта, но и всей Германии. Он негласно провел тщательную аудиторскую проверку всех активов фирмы и не обнаружил ничего противозаконного. Пребывая на своем посту, он очень тщательно отслеживал все операции компании, прекрасно понимая, что при любом нарушении закона первым пойдет под суд, но все дела компании велись вполне законно.
Некоторые из операций вызывали сомнения герра Заубера своей не то чтобы рискованностью, но неопределенностью результата, но спустя некоторое время он с удивлением отмечал, что был не прав. Да, истинные хозяева компании лучше него разбирались в конъюнктуре современного рынка. Герр Заубер принял это как данность, тем более что финансовая деятельность фирмы никак не отражалась на его жалованье, она отражалась лишь на премиальных. А они всегда были достаточно высоки. Даже крупномасштабная скупка акций российского порта города К., которую компания провела по приказу старшего из экспертов, господина Герберта Штеймана, нелепая по сути своей — кто же играет на повышение, когда акции валятся? — к изумлению герра Заубера, обернулась возможностью колоссальной прибыли. Крушение таллинского автопарома «Регата» круто изменило всю ситуацию, акции порта города К. скакнули в сотни раз. Тут бы самое время выбросить их на рынок и получить разницу, но герру Зауберу было предписано ничего не делать. Он лишь пожал плечами, но подчинился. И только покачивал головой, следя по сводкам, как медленно, но верно падает котировка акций порта К. Но хозяева компании знали, что делают. Во всяком случае, ему хотелось в это верить.
Впрочем, герра Заубера все это не касалось. Его советов не спрашивали, а сам он был достаточно опытным человеком, чтобы давать их людям, которые в них не нуждаются.
* * *
Экспертов, собравшихся в тот день в офисе фирмы «Фрахт интернейшнл», было трое.
Двоим из них было лет по тридцать, третий постарше, немного за пятьдесят. Их имена были Георг Блейкман, Марио Камински, а старшего звали Герберт Штейман. На самом деле это были Макс Штирман, Николо Вейнцель, за минувшие годы приобретшие лоск бизнесменов крупного полета, и сам Арон Блюмберг, полысевший, поседевший, но не растративший внутренней энергии, присущей его характеру. Разговор он начал без всяких предисловий:
— Если вы ничему не научились за время нашей совместной работы, кроме как нажимать кнопки на своем сраном железе, то бесполезно и начинать. Но я так думаю, что кое-чему вы все-таки научились. И сможете вести дело без меня.
Изредка я буду давать вам советы. И, возможно, попрошу вашей помощи. А теперь наши пути расходятся.
— Куда вы направляетесь, шеф? — поинтересовался Макс Штирман, который теперь именовался Георгом Блейкманом.
— В Россию. В город К. Но это я говорю только вам. Во-первых, потому что именно оттуда я, возможно, буду связываться с вами. А во-вторых, потому, что вы, как мне кажется, научились держать язык за зубами.
— Это опасно, шеф, — заметил Штирман.
— Все в нашей жизни опасно. Макс. Сама жизнь — это источник угрозы. Но даже зайцу не удается отсидеться в кустах. А человек все же не заяц.
— Мы с вами очень хорошо зарабатываем, шеф. Мы могли бы спокойно продолжать.
— Вот и продолжайте. Сами. Наливай своего сраного джина, сынок, выпьем на прощанье. Как в России говорят: стремянную. Даже не буду пытаться объяснить вам, что это значит. Все равно не поймете. На дорожку, в общем.
Разговор происходил в той комнате офиса «Фрахт интернейшнл», куда не имел права заходить даже генеральный директор компании, а связь с ней осуществлялась по интеркому, и звонить имел право лишь сам господин Заубер или его заместитель.
Вспыхнувшая на пульте лампочка свидетельствовала о том, что на линии господин Заубер.
— Слушаю, — бросил в микрофон Блюмберг.
— Прошу извинить, но я только что получил информацию из России, — прозвучал в динамике голос Заубера. — Она касается города К. На конец октября или начало ноября этого года назначены выборы нового губернатора. Аналитики предсказывают победу депутата от коммунистической партии. Биржи отреагировали на это падением курса акций порта и пароходства. Падение пока незначительное, но эта тенденция будет усугубляться. Не считаете ли вы, что нам следует освободиться от пакета акций, которым мы владеем? Промедление может грозить нам большими потерями. Гораздо большими, чем сейчас.
— Нет, не считаю, — ответил Блюмберг. — Сколько сейчас у нас акций порта?
— Около двенадцати процентов.
— Прикупите еще. Процентов до шестнадцати. Небольшими партиями и через независимых брокеров. Никто не должен знать, что акции скупаем мы.
— Я все понял, господин Штейман. Будет исполнено.
Блюмберг отключил интерком.
— Заубер прав, — заметил Николо Вейнцель. — Мы прогорим на этих акциях, если не сбросим их немедленно.
— Я покупаю ваши доли. По сегодняшнему биржевому курсу, — заявил Блюмберг. — Идет? Вейнцель подумал и сказал:
— Нет. Мы всегда рисковали вместе. Не будем нарушать традицию. Да и не верю я, что вы можете просчитаться в русских делах.
— Согласен, — кивнул Макс. — Но если бы вы хоть чуть-чуть объяснили нам свою позицию, нам спокойней было бы спать. Речь все-таки идет о десятках миллионов долларов.
— Так и быть, объясню, — отозвался Блюмберг. — Порт К. находится на семьсот миль ближе к Центральной Европе, чем санкт-петербургский, и на сотни миль ближе Таллина и Риги. Это — первый фактор, который еще скажется. Пусть не сразу. К порту сходятся все северо-западные железные дороги России — это второй фактор.
Промышленность России оживает, товарооборот возрастает — это перспективы развития. Как только Россия реконструирует порт, он станет главным в балтийском товарообороте. И никакие Таллины не составят ему конкуренцию. Прибалтам нечего возить. Они могут возить только российские грузы. Они пойдут на огромные уступки, чтобы получать фрахты. Иначе они просто загнутся. Все это, конечно, не завтрашний день. Но мы ведь не в покер играем, верно? Большие деньги никогда не бывают быстрыми. А тут речь идет об очень больших деньгах.
— А эти выборы губернатора, на которых победят коммунисты? — напомнил Вейнцель. — Они могут кардинально изменить конъюнктуру.
— На этот счет не могу вам ничего сказать, — ответил Блюмберг. — У меня есть кое-какие предположения. Но это только предположения. Чтобы проверить их, я и еду туда. И хватит о делах. Налил, Никола? Прозит, коллеги!
Блюмберг сделал глоток джина и поморщился:
— И как вы его пьете?
Николо Вейнцель раскрыл вмонтированный в стену офиса холодильник и достал оттуда бутылку, обернутую плотным пергаментом. Не говоря ни слова, он развернул пергамент и поставил на стол перед Блюмбергом самую настоящую бутылку «Кавказа»
— с обычной пластмассовой пробкой и с криво наклеенной этикеткой. Ну, разве что она была вымыта до блеска и не липла к рукам.
— Нет, — сказал Блюмберг. — Не верю. Не может быть. Нет.
— Я берег ее для какого-нибудь торжественного момента, — объяснил Николо, довольный произведенным эффектом. — Похоже, этот момент наступил. Я знаю, шеф, что ваши запасы этого вина давно закончились. Надеюсь, эта бутылка доставит вам удовольствие. Ее привез по моей просьбе один наш партнер, турок, он часто бывает на Кавказе. Он сказал, что потратил немало времени, чтобы найти там это вино.
Блюмберг обнял тощего Николо и похлопал его по спине.
— Вот теперь я понимаю, что такое настоящее уважение к партнеру. Спасибо, Никола, ты меня растрогал. А меня непросто растрогать. Совсем непросто.
— Скажите, шеф, почему вы пьете это… вино? — поинтересовался Макс Штирман.
Макс хотел сказать «дерьмо», но решил не портить торжественность момента.
— Скажу. Однажды с моим учителем мы провели… ну, скажу так: блестящую операцию… в одной из европейских столиц. Это была операция, которая позже вошла во все специализированные учебники. По ходу дела я спас жизнь моему учителю. Не скажу, что от отваги или особого умения. Скорей — по дурости и везению. Но что было — то было. За эту операцию наш начальник получил чин генерал-лейтенанта и орден Ленина, а нас премировал. Выдали по половине месячного оклада жалованья. Ну, зарплаты, если тебе это понятнее. Так вот, мы получили эту премию, поехали в один магазин в Москве и купили у грузчиков две бутылки «Кавказа». И тут же, во дворе этого магазина, выпили их из горла. Мы были молоды, счастливы и любили друг друга, как братья. Скажем так: как младший и старший брат, потому что он был старше меня на десять лет. Нам было до феньки, что нас обошли званиями и наградами, с нас хватало сознания, что мы сделали для своей страны большое и нужное дело. Так нам тогда казалось. И этого было вполне достаточно. Только не спрашивайте меня, почему мы купили это вино у грузчиков и почему пили во дворе, а не в ресторане. Я мог бы это объяснить, но на это потребуется года три, и вряд ли вы все до конца поймете. Это, уверяю вас, посложней устройства ваших сраных компьютеров. Лучшие умы России и даже всего мира бились над этими вопросами. И к чему пришли? «Умом Россию не понять». И только. Но я сейчас говорю о другом.
Вкус этого «Кавказа» с того дня — это вкус родины, молодости и настоящей мужской дружбы.
Блюмберг сковырнул пластмассовую пробку, понюхал вино и вылил его в раковину, а пустую бутылку небрежно бросил в корзину для мусора.
— Что это значит, шеф? — ошеломленно спросил Николо.
— Это значит, сынок, что ничто не стоит на месте. Уже нет той родины, за которую я без малейших раздумий готов был отдать жизнь. И нет той дружбы. И молодости нет тоже. А раз так, то не хрена и травить себя такими воспоминаниями. Тем более что вино, между нами, полное дерьмо. И со временем не становится лучше. Все, друзья мои, я исчез.
И он исчез.
* * *
Во второй половине того дня, когда неизвестными злоумышленниками был взорван лимузин Кэпа, к Пастухову, наблюдавшему со стороны за предвыборным митингом Антонюка, подошел немолодой человек в обычном сером плаще и в поношенной кепке, вежливо поинтересовался, который час. Услышав ответ, поблагодарил и скрылся в толпе. И только через несколько минут, случайно сунув руку в карман куртки, Пастухов обнаружил там маленькую записку.
В ней значилось:
«Сегодня, 18.30, порт, маяк. У начала мола вас встретят. Записку уничтожьте».
Подписи не было.
Пастухов зашел в платный туалет, кстати оказавшийся по соседству, и дважды перечитал записку. Потом порвал ее на мелкие кусочки и спустил в унитаз.
В начале седьмого он подъехал на своем «пассате» к зданию пароходства, оставил машину на стоянке и пешком, никого ни о чем не расспрашивая, а ориентируясь только на огни маяка, подошел к началу мола.
Из потрепанных «Жигулей» 13-й или даже 11-й модели, приткнувшихся к молу, вышел тот самый человек, что спрашивал про время, и коротко кивнул:
— Садитесь. Поедем.
— Куда? — спросил Пастухов.
— Ко мне в гости.
Машина продребезжала по каменистой дороге, проложенной по середине мола, и через десять минут остановилась у маяка.
IV
Этот человек озадачил меня с самого начала. Остановив «жигуленка» у подножия маяка, который вблизи оказался недосягаемо высоким и таинственным из-за равномерного мелькания проблесковых огней, он коротко посигналил и кивнул мне:
«Вылезайте, приехали». Из какой-то двери в мощном каменном цоколе маяка появился худосочный молодой человек. В руках у него было что-то вроде маленького миноискателя. Он провел им вдоль моего тела и кивнул:
— Есть. Три.
— Спасибо. Можешь идти. Молодой человек исчез.
— Вы напичканы радиозакладками, как еврейская щука-фиш луком и вареными яйцами. Вы это знаете?
Я об этом догадывался. Но не стал ни подтверждать, ни отрицать. Если я действительно начинен «жучками», не было никакого резона обнаруживать, что мне это известно. Поэтому я промолчал, делая вид, что с интересом осматриваю маяк и подступающую к нему черную балтийскую воду, по которой стлался туман, как по утреннему лугу у нас в Затопино.
— Зовите меня Александром Ивановичем. Моя фамилия Столяров. Я смотритель этого маяка, — представился этот человек. — Вы можете, конечно, не реагировать на мои слова, но это не имеет никакого значения. Все чипы в районе маяка блокированы. Не буду объяснять как, я и сам в этом не очень разбираюсь, но важен сам факт. Так что мы можем говорить совершенно свободно. Для этого, собственно, я вас сюда и привез. Мне было интересно, придете ли вы на эту встречу. Вы пришли. Из этого я делаю вывод, что у вас есть масса вопросов и мало возможностей получить на них ответы. Поэтому вы не упускаете даже такого рискованного варианта, как встреча с совершенно неизвестным вам человеком. Я думаю, что наш разговор будет обоюдополезным. Потому что у меня тоже есть масса невыясненных вопросов. И вы сможете на многие из них ответить.
— Вы уверены, что я захочу это сделать? — спросил я.
— Да, — кивнул этот человек, который назвался смотрителем маяка Столяровым. — Чуть позже я объясню почему. А пока — одно предупреждение. Вчера в половине второго ночи вы покинули гостиницу «Висла» через черный ход и таким же незаметным образом вернулись в нее в начале пятого утра. Вы были в этой же одежде, что и сейчас?
— Нет, — сказал я. — Я был в обычных барахольных шмотках.
— Разумно. Очень разумно, — покивал Столяров. — Вам было известно о чипах?
— Догадывался.
— Значит, о вашей отлучке из гостиницы знаю только я. А люди, которые начинили вашу одежду, ваш гостиничный номер и вашу машину «жучками», об этом не знают. И не узнают. Во всяком случае, если и узнают, то не от меня. Но нам все-таки нужно слегка подстраховаться. Ваша поездка в порт зафиксирована. Вас могут спросить, что вы делали сегодня в порту с 18.30 до того времени, когда наш разговор будет закончен. Что вы ответите?
— Ничего. Это никого не касается.
— Не лучший ответ. Нет, не лучший. Если вы, конечно, специально не хотите возбудить излишних подозрений. А этого, как я понимаю, вы не хотите. Вы не сможете сказать и то, что были здесь по каким-то своим делам и разговаривали со знакомыми. Потому что все чипы молчат. Остается один вариант. И он кажется мне даже элегантным. Вы приехали в порт, оставили машину на стоянке возле пароходства, подошли к берегу моря в районе маяка и просто сидели на камне, глядя на маяк, слушая ревун и успокаивая нервы шумом волн. Есть люди, которые очень любят молча и подолгу сидеть на берегу моря. Вы любите?
— Возможно. Или нет. Не знаю, — ответил я.
— А я не люблю, — заметил смотритель. — Больше скажу. Терпеть не могу моря. Я в детстве жил в Сибири и люблю лес. А от одного вида волн меня тянет блевать.
— Зачем же вы здесь работаете?
— Это очень удобное прикрытие. Во всех отношениях.
— Но вам же приходится плавать и на моторках, и на катерах.
— Увы, — со вздохом согласился Столяров. — Вы хотите спросить, как я борюсь со своей водофобией? А никак. Иногда блюю перед тем, как залезть в моторку. Иногда после. А чаще — во время всей поездки. Вы хотите разговаривать здесь или пройдем в дом?
— Наш разговор записывается?
— Нет. Технически это элементарно, но не вижу в этом никакой необходимости. У меня хорошая память, и все важное я запомню, а вам иметь запись нашего разговора попросту опасно — ее могут обнаружить. И это вызовет массу вопросов, крайне нежелательных. Как для вас, так и для меня. И даже особенно для меня.
— Тогда давайте останемся здесь, — предложил я. — В конце концов, я приехал посидеть у моря и посмотреть на волны. И послушать дыхание Балтики. Скажите, в самом деле пахнет свежим лесом или мне кажется?
— Нет, не кажется. Минут пятнадцать назад в Копенгаген прошел лесовоз. Это запах свежеразделанной сосны. Он очень устойчив в тихую погоду. Это единственное, что меня чуть-чуть примиряет с морем.
Он подвел меня к каменной скамье на самом берегу и закурил.
— Вам не предлагаю, поскольку вы не курите. Выпить тоже не предлагаю, так как вы не пьете. Сам бы я с удовольствием выпил, но у нас не так уж много времени, чтобы отвлекаться. Вас удивило, что я знаю о вашей вчерашней тайной отлучке из гостиницы? Как раз в это время в «линкольн» Кэпа можно было заложить взрывчатку и поставить радиовзрыватель. Собственно, именно в это время так и было сделано.
— Вы думаете, что это сделал я?
Столяров улыбнулся и слегка покачал головой:
— Нет, не думаю. Кто-то мог бы и подумать. Но я даже мысли об этом не допускаю.
— Почему? — спросил я.
— По очень простой причине, — ответил Столяров. — Потому что это сделал я.
Нечасто слышишь такие заявления. Мне потребовалось некоторое время, чтобы обдумать его слова хотя бы в самых общих чертах. Столяров правильно понял причину моего молчания.
— Вас интересует: зачем? Я объясню. Чуть позже. Пока же могу сказать, что я слышал все, что происходило в вашем номере. И разговор с Кэпом. И даже ваш последующий разговор с подполковником Егоровым.
— Каким образом?
— Там, где стоят десять чипов, может появиться и одиннадцатый.
— Его могут найти.
— Мне понравились ваши слова о том, почему одиночка может выиграть у самого могучего государства. Потому что он принимает решения сам и очень быстро, по мере необходимости. Могу дополнить вашу мысль. Спецслужбы пользуются тем, что им дают. А одиночка — тем, что ему нужно. Мой чип из нового поколения. Он саморазрушается при любой попытке локации или блокирования. И по сигналу из центра связи. Этого чипа в вашем номере уже нет. Он превратился в никчемную пластмассовую труху, назначение которой не сможет определить даже самый опытный эксперт. Я решил, что ничего серьезного в вашем номере больше происходить не будет. И думаю, что я прав. Вы понимаете, для чего я вам обо всем этом рассказываю?
— Да. Вы хотите вызвать меня на ответную откровенность.
— Совершенно верно. У меня нет другого способа. Есть только одна проблема, которая может помешать нашему взаимному доверию. Вы обо мне не знаете почти ничего, а я знаю о вас достаточно много. Не все, но много.
— Что вы знаете обо мне?
— Вы — Сергей Пастухов. Считаетесь начальником охраны Антонюка. Воевали в Чечне, были капитаном спецназа и начальником одной из самых сильных оперативно-диверсионных групп. Причины увольнения из армии вас и ваших друзей мне неизвестны, выяснить не удалось. Здесь на вас работают три человека из вашей бывшей команды. Двое — в охране губернатора. Их фамилии Мухин и Хохлов. Третий — Семен Злотников. Некоторое время он жил в отеле «Мрия» и изображал из себя кинорежиссера. Потом на какое-то время исчез. Теперь, предполагаю, появился снова. Думаю, что на встречу с ним вы и ездили вчера ночью. Но это всего лишь мои предположения. Добавлю, что некоторое время Злотников плотно вел некоего Матвея Салахова, убитого при невыясненных обстоятельствах в здании телецентра. Могу сказать, что Злотников работал очень профессионально. Очень. Если бы я не обладал определенным опытом в этой области, я не сумел бы ничего заметить.
— А вы этим опытом обладаете? — уточнил я.
— Да, — подтвердил Столяров. — Да вы и сами это уже поняли. Зачем вы внедрили своих людей в охрану губернатора?
Я помедлил с ответом. Зачем? Я и сам не знал. Просто мне понравился губернатор, а его охламоны могли бы защитить его разве что от какого-нибудь пьяного забулдыги. Подумав, так я и ответил Столярову.
Он недоверчиво на меня посмотрел:
— И только?
— Ну, и немного заработать ребятам не помешает.
— И все? — повторил он с тем же недоверием.
— Да, все, — подтвердил я.
— Плохо дело. Это означает, что вы знаете гораздо меньше того, что должны знать. Опасная ситуация. Очень опасная.
— А вы знаете то, чего я не знаю? — спросил я.
— Возможно. Я предлагаю вам тот же метод, который вы вчера вечером предложили Кэпу. Сначала я отвечаю на все ваши вопросы с предельной откровенностью. Потом на мои вопросы отвечаете вы.
— С такой же откровенностью?
— Хотелось бы на это рассчитывать.
— Давайте попробуем, — согласился я. — Кто вы такой и почему активно вмешиваетесь в дела, которые смотрителя маяка не могут касаться ни с какой стороны?
— На первую часть вопроса я вам не отвечу, — подумав, сказал Столяров. — А на вторую попробую. Не прямо, но достаточно ясно. Вы были заинтересованы, чтобы Кэп отправился в мир иной?
— Да.
— Я тоже. Хоть и несколько по иной причине. Вас беспокоила безопасность вашего подопечного Антонюка, а для меня Антонюк — просто мелкая пешка, не стоящая внимания. Но важно другое. На этом этапе наши цели совпали. И я сделал то, чего не могли сделать вы.
— Это могли сделать люди Егорова. Он специально полетел в Москву, чтобы получить разрешение на проведение этой акции.
— Он его не получил. Ему было приказано отпустить Кэпа и его людей. Его команда выполнила приказ. Поэтому мне пришлось взрывать машину практически в центре города, подвергая риску жизни посторонних людей. Это была неприятная перспектива, но выбора у меня не оставалось. К счастью, все обошлось. Запрет на акцию по ликвидации Кэпа дал Профессор. Хотя приказ передал по телефону сам Егоров. У меня есть записи его переговоров.
— Не держите меня за дурака, — попросил я. — Эти линии защищены, вы не могли их прослушивать.
— Да? Тогда я задам вам другой вопрос. Откуда вы узнали, кто такой Профессор? Даже если вы связаны с какой-то спецслужбой, чего я не исключаю, вы не могли получить там информацию о Профессоре. Даже крохи. Я скажу, что вам помогло. Новейшая техника. Не буду даже говорить какая, хотя догадываюсь. Почему же вы думаете, что у меня техника хуже? Показать запись? — предложил он.
— Не нужно, — отказался я.
— Значит, в этом мы сошлись. Наши цели совпадали. Думаю, что они и дальше будут совпадать. Проблема только в том, что вы не знаете своей цели. И я ее не знаю. Зато я знаю свою. Задавайте вопросы.
— Чем вам помешал Кэп? Антонюк для вас пешка. Губернатор, как я понял, тоже не очень вас интересует. Что вас интересует?
— Вы мыслите только в плоскости выборов. Будущий губернатор, кто бы им ни стал, фигура, конечно, весьма значительная, член Совета Федерации и все такое. Но в данной ситуации это не имеет ни малейшего значения. Имеет значение только одно: кому достанется порт. А еще конкретнее — контрольный пакет акций, который пока находится у государства, но который обязательно будет выставлен на торги. Если губернатором станет Антонюк, он сумеет передать большую часть пакета своему банку «Народный кредит» на весьма льготных условиях. Здесь множество лазеек, и все их Антонюк знает. Если губернатором останется Хомутов, контрольный пакет окажется у Кэпа, который связан с несколькими крупными германскими фирмами. Это обеспечит приток иностранных инвестиций, в которых так заинтересован город да и вся Россия.
— Кэп — бандит. И Профессор знает это не хуже нас, — заметил я.
— Согласен, — кивнул Столяров. — У меня тоже вызвали сомнения слова Егорова о том, что Кэп давно уже легализовал свой бизнес и может рассматриваться как равноправный партнер. Для немцев он, возможно, и равноправный партнер, но мы-то знаем, кто он такой. Поэтому я его и убрал.
— Значит, у немцев больше нет в городе партнера и альянс рассыпается? — предположил я.
— Вот именно, — подтвердил Столяров. — В городе больше нет человека, который мог бы аккумулировать такие средства. А за наследство Кэпа сейчас начнется такая борьба, что мало кто останется после нее в живых.
— Значит, и в случае победы нынешнего губернатора, и в случае его поражения город все равно не сможет рассчитывать на иностранные инвестиции?
— В случае победы Антонюка — нет. Ни один разумный человек на Западе не даст сегодня даже пфеннига коммунистам. Нынешние демократы тоже не вызывают особого восторга, но под них деньги дадут.
— Кто?
— Я.
— Вы? И сколько же вы сможете вложить в дело?
— Сейчас у меня около шестнадцати процентов акций порта. У меня есть потенциальные партнеры, которые смогут вложить в реконструкцию порта до полумиллиарда долларов. В сумме это будет больше контрольного пакета.
— Вам нужен именно контрольный пакет и ничуть не меньше?
— Совершенно верно. Он позволит отдать дело в руки иностранных менеджеров, которые умеют работать, а не воровать.
— Знает ли об этом варианте Профессор?
— Полагаю, что да. Мы дали импульс. Некая фирма «Фрахт интернейшнл» подала заявку на покупку тридцати шести процентов акций за двести сорок миллионов долларов. Между нами, это моя фирма.
Все это, конечно, выглядело абсолютной фантастикой. На каменной скамье у самой кромки мола сидит плюгавый человек в задрипанном плаще и приплюснутой кепке и спокойно, как о погоде, рассуждает о сотнях миллионов долларов. Но я почему-то ему верил. Была в нем какая-то внутренняя убедительность. А может, дело было в том, что он не пытался меня убеждать, а просто раскрывал передо мной то, что оставалось за кулисами внешних событий, в вареве которых я крутился. Ну, и то, что он обладал совершенно уникальной информацией, тоже чего-то стоило. Кто же он? Это был единственный вопрос, который у меня оставался, но я понимал, что не получу на него ответа.
— У вас есть еще вопросы? — спросил Столяров.
— Нет, — сказал я. — Ваша очередь спрашивать.
— Спасибо. Я начну с мелочей. Впрочем, сейчас трудно сказать, что мелочь, а что не мелочь. Но все-таки. Вы знакомы с командой подполковника Егорова?
— Да.
— Что вы о них думаете? Я слышал, что вы о них сказали Егорову после захвата Кэпа. Это был комплимент?
— Нет.
— У меня такое же мнение. Я присмотрелся к тому, как они ведут себя на митингах Антонюка. Райнеры. Чистильщики чрезвычайно высокой квалификации. Вы правы: в прошлом, возможно, боевые пловцы. Вы задали Егорову вопрос, оговорившись, что он, возможно, глупый: зачем ему такая команда. Не думаю, что этот вопрос глупый. Вы нашли на него ответ?
— Нет. А вы?
— Тоже. Надеюсь — пока. Вторая частность. Некоторое время ваш человек, Злотников, следил за Салаховым. Потом вы сами обходили дома на Строительных улицах. Что вы хотели узнать?
— Кто убил Комарова.
— Узнали?
— Да. В милиции и прокуратуре уверены, что работал приезжий киллер, чужак. Нет, работал свой. Его все видели, но никто не обратил внимания. Именно потому, что он свой. Его даже допрашивали в милиции как свидетеля, и он тоже подтвердил, что никаких чужаков в этот вечер не видел.
— Кто же он? — спросил Столяров. — Салахов?
— Да.
— Откуда у него такая квалификация?
— В Афгане он был снайпером. Потом был ранен, лечился в госпитале под Москвой. Думаю, что там на него и обратили внимание люди из ФСБ. Он выполнял их спецзадания. Они не исключают, что параллельно он работал и на криминальные структуры. На этом, видимо, его и прижал подполковник Егоров. Егорову срочно нужен был исполнитель. Вряд ли Салахов по собственной воле или даже за большие деньги согласился бы работать не просто в родном городе, где его все знают, а по соседству с собственным домом. Слишком большой риск. Его заставили.
— Это ваши предположения или есть такая информация?
— Есть и информация, — ответил я.
— Полагаю, вы не сообщите, откуда она получена?
— Правильно, не сообщу.
— Кто убил Салахова в телецентре?
— Я.
— Почему?
— По той же причине, по которой вы убрали Кэпа. Он мне мешал.
— Мне кажется, что вы со мной откровенны, — подумав, заметил Столяров.
Я подтвердил:
— Да. В разумных пределах.
— А теперь расскажите мне, как на вас вышел Профессор. Вы не блефовали, когда сказали Кэпу, что он беседовал с вами в подмосковном военном госпитале?
— Нет.
— Я так и подумал. Откровенность иногда бывает очень сильным оружием. Гораздо более сильным, чем скрытность и ложь. Расскажите мне об этой встрече и о вашем разговоре. Я попрошу: очень подробно. Максимально подробно. Я объясню почему. Дело в том, что я знаю Профессора больше тридцати лет. И в разговоре могли быть детали, на которые вы не обратили внимания. А я могу обратить именно потому, что знаю его очень хорошо. Как он выглядел?
— Высокий, седой, в очках с золотой оправой. Коротко стриженые волосы, седые небольшие усы.
Столяров усмехнулся:
— Вы осторожный человек. Это похвальное качество. Ну почему не устроить небольшую проверку, если есть такая возможность? Думаю, что я поступил бы точно так же. Нет, Сергей. Он действительно высокий, мосластый, с узким, совершенно лысым черепом, с орлиным носом, с жилистой шеей. Похож на старого грифа. Он никогда не носил ни усов, ни очков. Не курит, говорит чуть скрипуче. Умеет произносить слово «Россия», и это не звучит в его устах фальшиво. Как ни странно. Таким он, во всяком случае, был пять лет назад, когда мы последний раз виделись. Это было в Кельне. Не думаю, что за это время он сильно изменился. А теперь я вас внимательно слушаю.
И я рассказал ему все, что знал. Ну, почти все. Во всяком случае, весь разговор с Профессором и Егоровым пересказал дословно. Я не знал, кто этот человек, но он вызывал доверие. Доверие доверием, но были и факты, которые и впрямь позволяли мне думать, что у нас может быть общая цель. Кэпа-то все-таки он убрал. И была еще одна причина моей откровенности. Уж больно я запутался во всех этих фокусах вокруг моей поездки в Японию, неизвестно для чего возникшем вдруг моем алиби наоборот и прочей чертовщине, которая сопровождала мое сотрудничество с Егоровым. Нужен был какой-то другой взгляд на ситуацию, взгляд извне. У этого смотрителя маяка мог быть такой взгляд. И у него могла быть информация, которая, сложившись с моей, даст общую картину.
— Повторите, — попросил Столяров, когда я закончил рассказ. — И так же подробно.
Я повторил. Он слушал очень внимательно, изредка перебивал, задавал уточняющие вопросы. А потом снова сказал:
— Повторите еще раз. Это не моя прихоть, Сергей. Я должен ощутить себя там, в кабинете этого военного госпиталя. Иначе я могу чего-то важного не понять.
Довод был резонный. Хотя все это больше походило на допрос, когда заставляют по десять раз повторять одно и то же и вылавливают нестыковки, по которым можно судить, что человек врет. Еще один повтор моего рассказа занял минут двадцать.
После него Столяров не задал ни одного вопроса. Он докурил сигарету, взглянул на часы и сказал:
— Долго же вы любовались морем. Расстанемся — посидите на камне еще минут пять. Чтобы при необходимости точно могли все описать. Давайте пройдем пешком.
Мы молча прошли по молу, озаренному вспышками маяка. У конца мола Столяров остановился.
— Метров через двадцать заканчивается зона блокирования ваших чипов. Поэтому дальше я не пойду. Вы верите в удачу?
— Да, — кивнул я. — Но специально никогда на нее не рассчитываю.
— Я тоже. Но согласимся, что наша нынешняя встреча была настоящей удачей. Вы все поняли?
— Кое-что. Но далеко не все.
— А я, кажется, практически все. Первое. Задача операции — привести к победе кандидата от НДР. Но для этого будет убит не Антонюк, нет. Будет убит Хомутов. И таким образом эти выборы будут сорваны, а при новом их проведении победит НДР. И самое главное. Знаете, кто убьет Хомутова?
— Кто? — спросил я.
— Вы.
V
Второй тур выборов губернатора города К. и области был назначен на воскресенье 16 ноября, а в пятницу 7 ноября, в 80-летний юбилей Великой Октябрьской социалистической революции, в сберкассах и на предприятиях города К. и области началась выдача пенсий и ликвидация задолженности по зарплате, которая на некоторых заводах не выплачивалась по полгода. И хотя день никто официально не объявлял праздничным, ни о какой работе не могло идти и речи. Возле сбербанков и касс предприятий выстраивались длинные плотные очереди, от каких уже как-то отвыкли; всех халявщиков, норовивших проскользнуть вперед, быстро и умело ставили на место. В очередях было настроение не то чтобы праздника, но некоторого душевного подъема, победы, одержанной непонятно как и непонятно над кем. Те, кто успел получить пухлые кипы денег, не спешили домой, а оставались ждать товарищей, и с заводов выходили вместе, большими группами, шли в центр города и тут попадали на митинг, который по случаю 7 ноября проводили на площади Победы коммунисты и поддержавшие их ЛДПР, «Трудовая Россия» и всякая политическая шелупень вроде Русского национального единства и тереховского Союза офицеров.
Время для проведения митинга оказалось очень удачным, вся площадь была заполнена людьми, подходили все новые и новые. На площади собралось не меньше пятнадцати тысяч человек — успех для сравнительно небольшого областного города несомненный.
Антонюк очень умело построил свою недлинную, но эмоционально насыщенную речь. Из его слов явствовало, что выплата задолженности по зарплате и пенсиям — это победа прогрессивных общественных сил города К. над прогнившим ельцинским режимом, победа эта знаменует неспособность правительства противостоять требованиям народных масс — требованиям социальной справедливости и уважения к личности трудящегося человека и ветерана, отдавшего десятилетия своей жизни для создания ценностей, которые были основой социалистического государства. Антонюку горячо поаплодировали, всем другим тоже хлопали, хотя лозунги, которые ораторы выкрикивали через установленные на площади резонирующие микрофоны, толпу мало затрагивали, может быть, из-за их невнятности. Но понятны были пафос и страсть.
Победа, победа. Даже Балтика в этот день притихла, ветер подсушил город, над крышами светило блеклое осеннее солнце в легкой пелене облаков.
Участники митинга бурными аплодисментами выразили готовность поддержать КПРФ на предстоящих выборах, в торжественном молчании выслушали Гимн Советского Союза, исполненный воинским оркестром местного гарнизона, еще поаплодировали и рассеялись по лавочкам и магазинам, чтобы превратить отвоеванные у прогнившего ельцинского режима свои трудовые в выпивку и закуску, без которых победа — не победа и, вообще, праздник — не праздник.
Но здесь жителей города К. ожидала полнейшая неожиданность. Все до единой торговые палатки, магазинчики и лавчонки были закрыты. На одних белели бумажки «Учет», на других — «Выходной день», а на большинстве вообще ничего не белело, просто были наглухо задраенные щиты и решетки. Был открыт лишь большой центральный универсам. Но то, что увидели внутри рванувшие туда работяги и пенсионеры, повергло их в шок. Витрины, которые еще вчера ломились от изобилия всяческих продуктов, и отечественных, и импортных, были пусты, как в подзабытые уже 89-й и 90-й годы. На полках стояли лишь пакеты перловки, да кое-где в морозильниках сиротливо торчали тощие хвосты хека. Та же картина была и в винном отделе: пара ящиков местного лимонада «Буратино» и хоть бы какая-нибудь завалящая бутылка или банка пива. Это там, где вчера еще взгляд разбегался от бесчисленного количества водок, джинов, виски и коньяков. Над пустыми полками винного отдела был укреплен плакатик, то ли сделанный недавно, то ли чудом сохранившийся от старых времен: «Трезвость — норма жизни». А над пятидесятиметровой витриной продовольственного отдела алел вполне профессионально исполненный транспарант, гласивший белыми крупными буквами на алом кумаче:
«Мы придем к победе коммунистического труда».
Автор цитаты не был указан. Но посетителей универсама это меньше всего волновало. На шквал возмущенных вопросов продавщицы равнодушно отвечали: «Не завезли», «Не знаю», «Чего вы у меня спрашиваете?» А когда народ начал напирать, эти, вчера еще любезные и предупредительные продавщицы, привычно и даже не без удовольствия перешли на тон, от которого они за последние годы отвыкли, но который, как выяснилось, накрепко сидел у них в памяти. Это не было матом, нет, но лежащий в основе этих текстов заряд пренебрежительности и откровенного хамства не оставлял у вопрошающего покупателя никаких сомнений в том, что о нем думают эти дамы по ту сторону прилавка.
Пока инициативные группы пытались прорваться в кабинет директора, который уехал неизвестно куда и неизвестно когда вернется, пока они пытались дозвониться в администрацию губернатора, откуда им отвечали, что знать ничего не знают и никаких указаний торговле дать не могут, так как все магазины давно уже акционированы и находятся в частных руках или в коллективном владении работников, народ наиболее шустрый и опытный, не забывший еще старых порядков, попытался, просочиться в подсобку и получить искомую бутылку там, где всегда ее получал, — у грузчиков. Но ничего из этого не вышло. Грузчики клялись, что все склады закрыты и опечатаны и они даже себе не могут взять бутылку. Самым убедительным были не эти слова и клятвы, а тот факт, что грузчики были до изумления трезвы. Это лучше всяких слов говорило о том, что дело на глазах у всех разворачивается нешуточное.
Только хлебный и молочный отделы торговали, как и раньше. Но пить в такой день молоко — да что же это такое? Это даже не издевательство, а просто глумление над рабочим человеком и ветераном труда!
Не выгорело и у тех, кто, махнув рукой на затраты, решил разжиться бутылкой в кафе или ресторане. Почти все средней руки кафе были закрыты, работали только валютные бары и ресторан гостиницы «Висла». Но швейцары и разговаривать отказывались насчет бутылки. «Проходите, раздевайтесь, заказывайте, вас обслужат» — вот и все, что они могли сказать. Да это какие же бабки нужно иметь, чтобы позволить себе выпить в таком кабаке! Сунулись в «Берлогу», но и там ничего не вышло. На запертой двери висело объявление на русском языке, но немецкими буквами: «Zakrito na spezobsluyiwanie».
* * *
О том, что происходит в городе, Антонюку сообщили уже через полчаса после окончания митинга, когда он с членами своего предвыборного штаба сидел в просторном кабинете в офисе Фонда социального развития и оценивал воздействие, которое этот митинг должен оказать на исход выборов. Антонюк был доволен.
Демократы проиграли там, где хотели и могли выиграть. Это и есть отличие настоящего политика от дилетанта: умение превратить успех противника в его поражение. Он сумел. И ничто уже не помешает ему одержать во втором туре выборов убедительную победу. У демократов не осталось больше ни одного козыря.
Все складывалось удачно. Все. Последние опросы показывали, что за губернатора будут голосовать не больше двадцати процентов избирателей. Председатель «Яблока»
Мазур очень убедительно выступил по телевидению и обосновал свою позицию: голосовать «против всех». Пусть не все последователи «Яблока» проголосуют как советует руководство, но единицы проблемы не решат. 31 процент КПРФ и 12 процентов жириновцев гарантировали Антонюку победу. 43 процента против 20 — тут не нужно быть опытным социологом, чтобы предсказать результат.
На первые сообщения о том, что в городе закрыты все частные палатки и магазины, Антонюк как-то не обратил внимания. Но дальнейшие сообщения заставили его встревожиться. Особенно обилие прокоммунистических плакатов, развешанных на улицах города без ведома и участия его избирательного штаба. На кинотеатре в центре города видели даже плакат с давними дурацкими словами Хрущева:
«Партия торжественно обещает: нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме».
Это была идеологическая бомба. Антонюк понял: вот почему деньги решили выдавать именно 7 ноября. И еще понял: за всеми этими делами стоял не губернатор и его избирательный штаб. При всей своей власти губернатор не смог бы заставить всех частных владельцев закрыть свои лавчонки и магазины. Мобилизовать милицию и перекрыть все подпольные каналы торговли водкой — это он мог. Но не более того.
Антонюк понял, что нужно действовать — и быстро. Он связался со своим старым знакомым, генеральным директором АО «Ликеро-водочный завод», и предложил полуторную цену за три фуры водки, которую можно будет продавать прямо с машин.
Оплата наличными, из рук в руки. Отгрузка — немедленно. Но генеральный директор АО отреагировал на это чрезвычайно заманчивое предложение весьма странным образом. Он сказал, что склады у него пусты, а линии остановлены, и рабочие распущены по домам по случаю праздника и выдачи зарплаты. Завтра — пожалуйста, сколько захотите, а сегодня — нет. Через полчаса непрерывных звонков Антонюк нашел в области склад водочного завода, в котором имелось достаточное количество водки. Владелец удивился столь необычному предложению, но выразил полное согласие участвовать в сделке. Через час с небольшим к воротам склада подъехали три грузовые фуры, арендованные фондом Антонюка у владельца транспортной конторы. Но при въезде их встретили крепкие серьезные молодые люди в черной коже и настоятельно посоветовали разворачиваться и убираться домой. Экспедиторы, посланные с фурами, были людьми опытными и сразу поняли, что спорить не стоит. А водителям вся эта история вообще была до лампочки. Есть груз — грузи. Нет — нет.
На повторный звонок Антонюка владелец склада что-то забормотал о том, что он ошибся, и весь груз водки уже расписан другим клиентам, и он рад бы, конечно, но… Антонюк бросил трубку. Все происходящее не было случайностью. В игру против него вступила какая-то крупная сила. Только один человек в городе мог обладать такой властью — Кэп. Но Кэп был мертв, и пока у него не обнаружилось сильного преемника, который продолжил бы его дело и его политику. Кэп был человеком осторожным, и никого не наделял достаточной властью, справедливо опасаясь конкуренции. В его ближайшем окружении уже начались разборки, и пара странных убийств, происшедших всего через два дня после взрыва «линкольна» Кэпа, свидетельствовали о том, что осиротевшие бандиты сейчас меньше всего думают о предстоящих выборах. А тем более не замысливают и не осуществляют таких иезуитски-хитроумных комбинаций, как эта с водкой.
Кто? На сегодня это был главный вопрос. Антонюк не сомневался в том, что вся эта акция с магазинами имела своей очевидной и нескрываемой целью напомнить горожанам о тех временах и порядках, которые вполне могут вернуться в случае победы кандидата КПРФ. И не было никаких сомнений в том, что она окажет заметное влияние на результат выборов. Пусть не решающее, но сильное. Люди еще слишком хорошо помнили, как в конце 80-х достать нормальную крупу, не говоря уж о мясе и колбасе, было огромной проблемой. И некто нашел способ напомнить об этом тем, кто начал о недавних временах подзабывать.
Но все же главное было понять — кто?
Это было чрезвычайно важно для самого ближайшего будущего, поскольку неизвестный противник влиятелен и хитроумен и от него можно ожидать новых неведомых неприятностей.
Итак, кто?
Какая сила могла заставить тысячи торговцев безропотно закрыть свои лавчонки?
Здесь не было вопроса. «Крыша». Криминал. И не простой, а из высших авторитетов, из тех, кто мог отдать приказ, обязательный для всех. У Антонюка не было прямых выходов на воротил криминального бизнеса, он намеренно избегал таких контактов, понимая, что любая засветка поставит крест на его политической карьере. Но без криминала не мог сейчас обходиться в России ни один бизнес. А уж что касается раздела порта города К. — тем более. Антонюк никогда лично не встречался с Кэпом. Через посредников им удавалось договариваться о сферах влияния, и каждый добросовестно выполнял свои обязательства. Не потому, что они полностью устраивали договаривающиеся стороны, а потому, что война — это всегда плохо для бизнеса и очень часто вредно для здоровья и нервов.
Криминал-то криминал, но сейчас одних догадок было мало. Нужно было точно знать, откуда у этого дела ноги растут. На МВД и местное отделение ФСБ Антонюк не мог рассчитывать. Они и пальцем не шевельнут для него. Они служат нынешнему губернатору. Эта недальновидность обойдется их руководителям, конечно, очень дорого, когда Антонюк займет губернаторское кресло. Он был не из тех, кто прощает такие вещи. Но это — в будущем. А ответ нужен сегодня, сейчас.
И был, пожалуй, только один человек, который мог ему в этом помочь.
Антонюк отпустил членов своего предвыборного штаба, минут двадцать раздумывал, то усаживаясь в черное кожаное кресло с высокой спинкой, то расхаживая по толстому ковру. Потом вызвал референта и распорядился найти начальника его охраны Пастухова и приказать срочно прибыть сюда.
Да, Пастухов и был тем человеком, в котором Антонюк сейчас больше всего нуждался. Почему — этого Антонюк не знал, но… чуял нутром. А он привык доверять своей интуиции.
* * *
Через полчаса, когда Пастухов приехал в офис Фонда социального развития и вошел в кабинет Антонюка, тот сидел в кресле и мрачно смотрел репортаж Эдуарда Чемоданова о событиях минувшего дня. Оглянувшись мельком на Пастухова, кивнул:
— Присаживайтесь, посмотрим.
Репортаж был добросовестный и внешне вполне аполитичный. Был хорошо, без преуменьшения масштабов, снят митинг на площади Победы, почти без купюр воспроизведена речь самого Антонюка и другие выступления. Камера умело зафиксировала неподдельный интерес участников митинга, их крики одобрения и бурные аплодисменты. Во второй, гораздо более короткой части репортажа было то, о чем Антонюк уже знал: закрытые магазины, бушующая толпа у пустых прилавков центрального универсама. А потом пошли только лозунги, неизвестно кем развешанные по всему городу: от идиотского обещания Никиты Хрущева до таблички на полке винного отдела «Трезвость — норма жизни».
Закончил Чемоданов без единого комментария:
— Таким был этот день в нашем городе. С праздником вас, дорогие товарищи!
При этом смотрел он в камеру сквозь свои троцкистские очочки без всякой иронии и даже немного грустно.
Антонюк выключил телевизор.
— Что скажете? — помолчав, спросил он.
— Что вы хотите от меня услышать? — уточнил Пастухов.
— Ваше мнение.
— Смешно.
— Что?
— Все. Я не очень хорошо помню те времена, когда в нашем сельпо в избытке была только крупная соль, но кое-что все-таки помню. И этот репортаж освежил мои воспоминания. Вы произнесли на митинге хорошую речь. Но она оказалась вывернутой наизнанку. Этот раунд вы проиграли. И с крупным счетом.
— Чего же тут смешного? — с трудом сдерживая раздражение, спросил Антонюк.
— Да все. Особенно эти лозунги в конце репортажа. Согласитесь, Лев Анатольевич, против вас был сделан очень остроумный ход. Я сначала удивился, когда узнал, что деньги начали выдавать 7 ноября. Мне казалось, что со стороны губернатора это было очень неумно. И только теперь понял, что к чему.
— Вы считаете, это идея губернатора?
— Нет. Я разговаривал с моими ребятами из охраны Хомутова. В резиденции губернатора об этом ничего не знали и были, как и все, удивлены поворотом событий.
— Зачем вы поставили на охрану губернатора своих людей?
Пастухов пожал плечами.
— Я хотел дать ребятам немного заработать. Есть и второй момент. Прежние охранники никуда не годились. Представьте на секунду, что кто-то захочет сорвать выборы и не допустить вашей победы. Если губернатор будет убит, все закрутится сначала. И еще неизвестно, как сложится ситуация на новых выборах. Тем более что задолженность по пенсиям и зарплате погашена. Так что можно сказать, что я действовал в ваших интересах.
— Я хочу знать, кто за этим стоит.
— На вашем месте, я тоже очень заинтересовался бы этим вопросом.
— Я хочу, чтобы это узнали вы.
— Каким образом я могу это сделать? Я в этом городе человек чужой.
— Вот что, Пастухов. Не морочьте мне голову. Я кое-что понимаю в людях и не завел бы с вами этого разговора, если бы не был уверен в том, что говорю. Вы можете это сделать. И я скажу как. Вы встретитесь с одним человеком. Это владелец самого крупного в городе ликеро-водочного завода. Я устрою вам эту встречу. Его кто-то заставил закрыть склады и прекратить отгрузку водки. Я хочу знать кто.
— Так спросите.
— Он мне не сказал. И не скажет.
— Почему вы уверены, что он скажет мне?
— Не знаю почему, но уверен. Вы умеете получать ответы на вопросы, которые вас интересуют. Вот и сделайте это. Меня не интересует как. Мне важен результат.
— Вы все перепутали, Лев Анатольевич. Моя обязанность — обеспечить вашу безопасность. Меня не волнует, станете вы губернатором или не станете. Мне важно только одно: чтобы 16 ноября, в день второго тура выборов, вы были бы таким же здоровым и невредимым, как и сегодня. Вам нужен человек для особых, конфиденциальных поручений? Так найдите себе такого человека.
— Ваша работа будет отдельно оплачена. И очень щедро.
— Мне достаточно много заплатили, чтобы я хватался за попутную халтуру.
— В таком случае вы уволены.
— Раньше вы казались мне гораздо более рассудительным человеком, — заметил Пастухов. — Вы не можете меня уволить, потому что не вы меня нанимали. Вы можете запретить мне появляться в офисе и на людях рядом с вами, но свою работу я все равно сделаю. Я объясню, почему я не выполню задания, которое вы хотите мне поручить. И почему его не выполнит никто. Владелец крупнейшего в городе ликеро-водочного завода — фигура очень серьезная, не так ли?
— Да, — подтвердил Антонюк.
— Значит, тот, кто оказал на него давление, тоже не мелкая пешка. Верно? Можно, конечно, вывезти этого водочного короля куда-нибудь в глухое место и сунуть ему в задницу раскаленный электрокипятильник. Расскажет. Но вы не найдете для этого исполнителей, даже если вдруг решите пойти по этому пути.
— У меня и в мыслях такого не было, — буркнул Антонюк.
— Охотно верю. Потому что как только вы свяжетесь с таким низкопробным криминалом, в вашем офисе завоняет тюремной парашей. И вряд ли вообще хоть кто-то, кроме отморозков последнего разбора, подпишется на такое дело. Ибо нормальный человек понимает, что приказ водочному королю отдала фигура настолько значительная, что выступать против нее — не просто глупо, а смертельно опасно. Я не выполню вашего поручения еще по одной причине, — продолжал Пастухов. — Эта фигура, этот человек, кто бы он ни был, может представлять для вас опасность чисто политическую. Потому что, как нетрудно понять, он играет в этой предвыборной игре против вас. И играет, отдадим ему должное, сильно и остроумно. Но вашей жизни от него никакой опасности не исходит. В противном случае я принял бы все необходимые меры и без вашей просьбы.
— Вы говорите о нем так, будто знаете, кто он, — проговорил Антонюк.
— Я не знаю этого, нет, — возразил Пастухов. — Я только догадываюсь. Почти уверен, что в своих догадках я прав. Поэтому и говорю так уверенно.
— Вы не хотите поделиться со мной своими догадками?
— Нет, Лев Анатольевич.
— Я вам очень хорошо заплачу.
— Попридержите свой избирательный фонд. Он вам еще понадобится. Особенно после сегодняшнего праздника.
— Можете быть свободны, — сухо бросил Антонюк.
* * *
Попрощавшись с ребятами из команды Егорова, двое из которых дежурили в приемной Антонюка, а трое других блокировали подходы к лифту, Пастухов сел в свой «пассат» и медленно поехал по улицам, которые вновь затянуло туманом с Балтики.
Он сказал Антонюку правду. Он почти не сомневался, что за всей этой историей с магазинами и лавочками, превратившей торжественный митинг Антонюка в дешевый фарс, стоит смотритель маяка по фамилии Столяров. Человек, который тридцать лет знает Профессора. Человек, который ворочает миллионами долларов. Человек, который до тонкости знает всю предвыборную кухню и финансовую подоплеку борьбы за губернаторское кресло. Полгода в городе (это Пастухов осторожно выяснил в отделе кадров пароходства через Юрия Комарова). При его опыте за эти полгода он мог завязать необходимые связи во всех кругах, которые его интересуют. В том числе и среди крупных уголовных авторитетов. Не сам, конечно, а через посредников, через свою агентуру. И он был единственным, кому по силам было провести эту акцию.
Как скажется на предстоящих выборах эта акция, Пастухов не очень задумывался.
Его мало волновало, кто победит: Хомутов или Антонюк, хотя шансы Антонюка при всем при том были предпочтительнее. Пастухов вообще лишь мельком подумал о смотрителе маяка. Сейчас его гораздо больше волновало другое: что делать с грязным стволом «Токагипт-58», из которого — в этом Пастухов уже не сомневался — был убит историк Николай Иванович Комаров.
* * *
Он уже подъезжал к гостинице «Висла», огни парадного подъезда которой туманно светились в густом тумане, когда какой-то человек средних лет в обычном китайском пуховике сошел с тротуара на проезжую часть и поднял перед «пассатом» руку. Пастухов затормозил. Прохожий открыл дверцу и спросил:
— Не подбросишь, приятель? Мне тут не очень далеко.
Пастухов сказал:
— Садитесь.
А что другое он мог сказать, если этот человек был не кем иным, как полковником Константином Дмитриевичем Голубковым, начальником оперативного отдела Управления по планированию специальных мероприятий — одной из самых секретных спецслужб России.
Глава седьмая. Третья сила
I
Начальник Управления по планированию специальных мероприятий, или УПСМ, генерал-лейтенант Александр Николаевич Нифонтов ходил на службу, как и все в управлении, в штатском, а генеральский мундир надевал либо при официальных торжественных мероприятиях, либо когда его вызывали наверх. Так повелось с первых дней существования управления, созданного вскоре после путча 91-го года.
Причина этой традиции была никому не известна. Может быть, высокое начальство считало, что разговаривать с человеком в военной форме легче, чем со штатским, может — еще почему-то. Но правило это выполнялось неукоснительно. Вернувшись из высоких кабинетов в старый дворянский особняк, на воротах которого висела ничего случайному человеку не говорящая вывеска «Аналитический центр «Контур», Нифонтов переодевался в небольшой задней комнате, примыкавшей к его кабинету, в свой обычный темно-серый костюм, а мундир вешал в шкаф до следующей надобности. Но на этот раз он вызвал к себе начальника оперативного отдела полковника Голубкова, едва переступив порог своего кабинета. И уже по одному тому, что Нифонтов не счел возможным тратить время на переодевание, Голубков понял: произошло нечто из ряда вон выходящее.
— Садись, — кивнул Нифонтов. — Можешь курить.
И закурил сам, хотя не курил уже почти месяц и о каждом дне без сигареты рассказывал с нескрываемой гордостью.
— Что ты знаешь о Профессоре? — спросил Нифонтов, с отвращением давя сигарету в пепельнице и тут же закуривая новую.
— Не больше того, что мне положено знать, — ответил Голубков, не понимая причины волнения, в котором находился его начальник.
С Нифонтовым у Голубкова с самых первых дней совместной работы в УПСМ сложились нормальные, почти дружеские отношения, и они даже называли друг друга на «ты», хотя и по имени-отчеству.
— Давал ли ты кому-нибудь информацию о Профессоре?
— Нет. Никому, никогда и никакой. В чем дело, Александр Николаевич?
— Практически полный объем информации о нем ушел к третьему лицу. Профессор пытается выяснить, от кого произошла утечка.
— Серьезное дело, — подумав, согласился Голубков.
— Он вызывает всех, кто в курсе, и расспрашивает самым подробным образом.
— У нас в Управлении о Профессоре знаем только ты и я. Значит, мы здесь ни при чем.
— Все так, — согласился Нифонтов. — Кроме одного «но». Дело в том, что этот третий человек, который получил о Профессоре почти исчерпывающе полную информацию, — твой Пастухов.
— Сергей Пастухов?! — изумленно переспросил Голубков. — Да он и не подозревал о существовании Профессора!
— А теперь знает. Когда ты имел с ним контакт последний раз?
— Месяца три назад. В связи с китайской темой[2].
— Он расспрашивал тебя о Профессоре?
— Ни полусловом…
— За эти три месяца ты виделся с ним?
— Ни разу. У меня днями были контакты с одним из его людей. Бывший старший лейтенант Семен Злотников. Артист. Не исключаю, что он действовал по поручению Пастухова. Более того, я уверен в этом.
— Содержание контактов?
— Он просил помочь ему получить кое-какую информацию. Проверить по нашим учетам личность некоего Салахова, жителя города К., бывшего афганца. И главное — проверить его по учетам МВД. Я это сделал. Зафиксирована связь этого Салахова с одной из наших спецслужб. И главное — с криминалитетом Москвы. Он был наемным убийцей. Про наши спецслужбы я Злотникову ничего не сказал. Хотя думаю, что он сам догадался. Про криминал — сказал.
— Почему ты дал Артисту эту информацию?
— Ты забыл, Олег Николаевич, сколько эти ребята сделали для нас. Они делали то, чего не мог сделать никто. Понятно, что они работали не за «спасибо», но риск, на который они шли, не окупишь никакими «зелеными». И ты это прекрасно знаешь. Я не видел причин, почему я должен отказать им в этом небольшом одолжении. Если ты считаешь, что я не прав, проводи служебное расследование. Подробный рапорт представлю.
— Погоди ты со своим рапортом! — отмахнулся Нифонтов. — Тут дела посерьезнее. Какую еще информацию ты дал Артисту и почему думаешь, что он действовал по поручению Пастухова?
— Артист попросил проверить через Управление разрешение на ТТ венгерской модели «Токагипт-58». Оно было выдано Пастухову. Он работает сейчас начальником охраны одного из кандидатов в губернаторы города К. Я провел негласную проверку. Разрешение на этот «тэтэшник» никогда никому не выдавалось, а сама бумага оказалась превосходно сделанной липой. Наши эксперты это подтвердили. Я сообщил об этом Артисту. Нет никаких сомнений, что он выполнял задание Пастуха. Ты считаешь, что и в этом случае я превысил свои служебные полномочия?
— И ни слова о Профессоре?
— Ни слова, — подтвердил Голубков.
— Откуда же Пастухов получил о нем информацию?
— Есть очень простой выход. Спросить об этом самого Пастуха.
— Думаешь, скажет?
— Может сказать. Мы всегда доверяли друг другу. Иначе не могли бы вместе работать. А может и не сказать, если у него есть на то причины. Но спросить стоит. Профессор сам сказал, что информация о нем ушла к Пастуху?
— Нет. Сначала он спросил, известна ли мне фамилия Пастухов. Как я понял, он задавал такой вопрос всем, с кем беседовал на эту тему. Я подтвердил, что Пастух — наш человек. После этого он и сказал. Ты давал кому-нибудь наводку на Сергея?
— Ни единой живой душе. Ведь для нас главная ценность этих ребят в том, что из них никто нигде не засвечен.
— Значит, люди Профессора вышли на него сами? — предположил Нифонтов. — Как?
— Об этом нужно спросить Профессора.
— У него спросишь! — проговорил Нифонтов. — Насколько я понял, Пастухов задействован в какой-то их комбинации с городом К. И что-то у них не ладится — в частности, как раз из-за Пастухова. Профессор затребовал все установочные данные на него и все его связи.
— И ты дал?
— Как я мог не дать?
Голубков нахмурился:
— Эти ребята — наши агенты. По сути, секретные сотрудники. А ведь даже в милиции ни один опер не откроет имя своего агента самому высокому начальству!
— Ситуация необычная. Пастухов не просто получил полную информацию о Профессоре, но попытался передать ее третьим лицам. Криминальным авторитетам очень крупного полета. Их пришлось ликвидировать.
— Резонно было начинать с Пастуха.
— Резонно, — согласился Нифонтов. — Но он им зачем-то нужен живым. Есть у тебя предложения?
— Только одно, — подумав, ответил Голубков. — Поскольку мы не имеем права задать даже полвопроса об операции, которую проводят люди Профессора, я вижу единственный выход. Мне самому поехать в этот город К. и поговорить с Пастуховым.
— Думаешь, много скажет?
— Много или не много, но что-то скажет. А остальное сами поймем. А что еще мы можем сделать? Это наши ребята. Мы не имеем права стоять в стороне.
— Имеем, — возразил Нифонтов. — Более того, обязаны. Не мне тебе об этом говорить, но в нашей работе свои законы.
— Сделаем по-другому, — согласился Голубков. — У меня накопилось несколько отгулов. Я хочу их использовать.
— Полетишь в К.? — спросил Нифонтов.
— Может быть. Но я тебе об этом не докладывал. Имею я право на личную жизнь?
— Вылетай ближайшим рейсом. И держи меня в курсе, — подвел итог Нифонтов и пошел наконец в заднюю комнату переодеваться.
* * *
Полковник Голубков был человеком обстоятельным и все делал обстоятельно.
Прилетев в город К. и остановившись в скромном пансионате возле железнодорожного вокзала, он два дня провел в якобы праздных прогулках по городу. На самом же деле он издалека, очень осторожно, присматривал за Пастуховым. Благо предвыборные митинги шли один за другим и специально выискивать Пастухова не пришлось. Голубков отметил мимолетные и внешне вполне безобидные контакты Сергея с Хохловым и Мухиным, служившими в охране губернатора; гораздо трудней ему удалось зафиксировать почти мимолетные встречи Пастуха с Артистом, который был сам на себя не похож, а напоминал почти бомжа с вокзала. Не явного, к каким цепляется милиция, а поизношенного и потертого молодого человека — небольшого бизнесмена, которому не повезло или который не нашел еще своего дела. Знакомства с Хохловым и Мухиным Пастухов не скрывал, свою же связь с Артистом берег пуще глаза — если бы не опыт Голубкова, он бы ее не заметил. Из чего полковник Голубков сделал естественный вывод, что Артист прикрывает Пастуха со стороны.
Но гораздо больше заинтересовали Голубкова ребята из охраны кандидата Антонюка и их старшой — тридцатипятилетний, уверенный в себе человек со шрамом на левой брови и губе. Голубков мог поклясться, что уже видел его. И знал, где видел — в Чечне. И в ситуации совсем не домашней. Наоборот — в чрезвычайной. Это была какая-то операция, которую люди Голубкова прикрывали, а руководил ею этот, со шрамом на брови. И полномочия у него были побольше, чем у начальника контрразведки полковника Голубкова. В таких делах не принято представляться, поэтому Голубков так и не узнал, с кем он имел дело. Да он особо об этом и не задумывался: в Чечне не было времени особо задумываться, только успевай поворачиваться.
И лишь теперь, в городе К., этот малый со шрамом на брови заставил полковника Голубкова включить на полную мощность всю свою феноменальную память, которой он отличался с детства и которая помогла ему сделать не ахти какую блестящую, но все же карьеру. Человек со шрамом был кадром Профессора, не нужно было иметь семь пядей во лбу, чтобы понять это. Равно как и для того, чтобы понять, что именно он является фактическим руководителем того дела, которое здесь затевается. Если в Чечне ему доверяли руководство очень серьезными операциями, то глупо было думать, что сюда его послали в качестве мелкой сошки.
Но внимательнее всего Голубков приглядывался к команде человека со шрамом. Чтобы понять, что это именно его команда, Голубкову и дня не потребовалось. И кое-что в этих ребятах Голубкова серьезно насторожило. Он далеко не сразу понял что. Тем более что вели они себя как нормальные молодые люди, в меру веселые, в меру озабоченные своим делом охраны кандидата в губернаторы Антонюка. Но тридцать лет службы в разведке и контрразведке вырабатывают у человека какое-то особое зрение. Или даже не зрение, а интуитивное ощущение всей ситуации. И это ощущение Голубкову очень не нравилось. Очень.
Что было ясно? Во-первых, что Пастухова используют в чужой комбинации в качестве подставной фигуры. Его употребят в нужный момент в роли, которая с самого начала была для него предназначена. Во-вторых, что руководитель комбинации — этот тридцатипятилетний человек со шрамом. В-третьих, что его команда — это не просто оперативники, а молодые люди с особой подготовкой. Легкая ленца, которая проскальзывала в их движениях, их ненакачанные, но сильные фигуры, мгновенная реакция на случайности, которые происходили на митингах. Они не слишком умело работали в охране, их ошибки и промахи были очевидны. Ну зато они умели кое-что другое. И умели очень даже неплохо. Уже через пару часов наблюдений за ними у Голубкова на этот счет не оставалось ни малейших сомнений.
Что из всего этого следовало? Пастух и его ребята влезли в какое-то дерьмо. В очень серьезное, раз им интересуется сам Профессор. Несомненно, что Пастух в той или иной мере прокачал ситуацию и теперь пытается предпринять контрмеры. Это как понять: Пастух ни с того ни с сего добыл откуда-то информацию о Профессоре и ни с того ни с сего передал ее криминальным авторитетам? Таких случайностей не бывает. Значит, он преследовал какую-то цель? Но какую? Он что, не понимал, что игра с Профессором смертельно опасна?
Вопросов было гораздо больше, чем ответов. Можно было ломать над ними голову до морковкина заговенья. А можно было попробовать ускорить процесс. Иногда простые ходы — самые эффектные.
Голубков перехватил темно-синий «фольксваген-пассат» Пастухова на подъезде к гостинице «Висла», голоснул и спросил:
— Не подбросишь, приятель? Мне тут не очень далеко.
II
— На автовокзал, — сказал Голубков, садясь в машину. Но Пастухов сделал ему знак: «Ни слова» — и сначала заехал в гостиницу «Висла», сменил свою кожаную, подбитую цигейкой куртку на какое-то китайское или вьетнамское барахло, вроде того пуховика, что был на Голубкове. И, проделав все это, повез Голубкова, куда тот просил.
Он притормозил машину возле привокзального кафе, в котором в этот час было совсем немного народа.
— Вот здесь мы и сможем спокойно поговорить, — заметил Пастухов, осмотревшись в уютном зале.
— А в тачке? — поинтересовался Голубков.
— Может — да, может — нет. Маячок на ней стоит, это точно. А чипов вроде не было. Но не исключено, что натыкали. Не хочу рисковать. А вы тем более, верно?
— Дела у тебя тут, смотрю, серьезные, — усмехнулся Голубков.
— А если бы несерьезные, вы бы тут не объявились. Только не нужно мне говорить, что вы прилетели сюда в отпуск полюбоваться осенней Балтикой. Давайте уважать друг друга. А уважать — это прежде всего не врать. Сначала вопросы задаю я. Идет? Прилететь вам сюда приказал Профессор? Или Нифонтов по приказу Профессора?
— Ты можешь не поверить, но я приехал за свои кровные, да еще трачу три дня отгула. Нифонтов не мог отдать мне такого приказа. Потому что это операция не наша и мы не имеем права в нее вмешиваться ни под каким видом. Показать тебе авиабилет? Куплен за наличные, а не по перечислению. Я понимаю, что и это можно устроить, но у меня больше нет доказательств.
— Есть, — возразил Пастухов. — Информация.
— Что тебя интересует?
— Вопрос первый и самый важный. Принимало ли наше управление участие в разработке балтийской операции, связанной с городом и портом города К.?
— Нет, — твердо ответил Голубков. — Я ничего об этом не знаю. А знал бы обязательно. Все подобные операции проходят через мой отдел. И значит — через меня. Это работали смежники.
— А конкретно — Профессор, — подсказал Пастухов.
— Отложим пока вопрос о Профессоре. О нем будет отдельный разговор.
— Вопрос второй. И он важней первого. Кто взорвал паром «Регата»?
— Я слышал об этой катастрофе. Двести с лишним погибших. Неужели ты допускаешь, что к этому могли иметь отношение наши спецслужбы?
— Один местный историк, Николай Иванович Комаров, задал вопрос: «Cui prodest?» «Кому выгодно?» Он не обвинял наши спецслужбы, ни в коем случае. Он просто хотел потребовать от Президента России провести тщательное и гласное расследование причины взрыва. Если виноваты наши — наказать по всей строгости закона. Если нет — объявить и доказать всему миру, что мы здесь ни при чем. Комаров обращался с этим к губернатору, в ФСБ, даже ездил в Москву. Все впустую. После этого он решил, что заставит себя слушать. Выдвинул свою кандидатуру в губернаторы города и уже на первой встрече с избирателями намерен был во всеуслышание задать этот вопрос. Однако на встречу с избирателями он не попал. Минут за сорок до начала избирательного собрания Николай Иванович был убит на крыльце своего дома. Сработал профессионал. Могу представить доказательства, но пока поверьте на слово. В этих делах я кое-как разбираюсь.
Официант принес кофейный сервиз — керамический расписной подносик с чашечками, кофейничком, молочником со сливками; здесь же были два фужера и бутылка минералки. Открыв бутылку, официант с поклоном удалился.
— Кофе рекомендую, — заметил Пастухов. — Настоящий. И делают по особому рецепту. А рецепт держат в секрете. Но я решил, что я буду не я, если не узнаю этот рецепт.
— У тебя сейчас только и дел, что узнавать рецепт кофе, — проворчал Голубков.
— Повторяю вопрос, — проговорил Пастухов. — Взрыв «Регаты» — наши это дела или нет?
Голубков помедлил с ответом. Кофе помог, можно было отвлечься. Кофе действительно был очень хорош.
— Даже если бы я это знал, я не имел бы права сказать. Не только тебе. Вообще никому. Но я тебе честно скажу: не знаю. Хочешь — верь, хочешь — не верь. По идее такая операция не могла пройти мимо управления. Но у нас этих управлений, отделов и спецслужб столько развелось после кончины КГБ, что черт ногу сломит. И второе. Профессор. Он иногда использует наши аналитические разработки, но на моей памяти ни разу — а я уже третий год здесь пашу — не привлекал к работе наш оперативный отдел. И третье. Это уже не по делу, а так — лирика. Я не верю, что это сделали наши. И еще точнее: не хочу верить. Для меня эта мысль просто невыносима. Как на духу говорю тебе, Сережа: я пошел бы под трибунал, а этого приказа не выполнил бы. Ты меня достаточно хорошо знаешь, чтобы думать, что ваньку перед тобой валяю. Есть честь офицера. Есть честь России. Есть, наконец, честь гражданина России. Я и в мыслях не держал дожить до нынешних времен. Все эти замполиты и политбюро казались таким же неизбежным и вечным злом, как российская погода. Но мне повезло: я дожил. И неужели ты думаешь, что я способен на такое? Двести с лишним погибших — да какими государственными благами можно такое оправдать? Мне многое не нравится в нынешних временах. Очень многое. Но они открыли нам, что слово «мораль» — это не архаизм. И слово «грех», если хочешь. — Голубков замолчал и сердито засопел сигаретой.
— Заказать вам выпить? — предложил Пастухов.
— Ну, закажи, — согласился Голубков без всякого энтузиазма.
Через минуту графинчик с коричневым коньяком стоял рядом с расписным подносиком кофейного сервиза. Голубков выплеснул минеральную воду из фужера в цветочницу, опрокинул в фужер содержимое графинчика и выпил коньяк, как пьют неприятное, но необходимое лекарство. Потом попробовал кофе и не без некоторого удивления отметил еще раз:
— В самом деле недурно.
Он взглянул на Пастухова, как бы ожидая ответа. Пастухов понял, что теперь его очередь говорить.
— Ответ, кому выгоден был взрыв «Регаты», очевиден и не требует разъяснений. Он выгоден России, порту города К., в частности. Недаром акции порта после взрыва «Регаты» скакнули в сотни раз, а таллинский порт влачит жалкое существование. Очевидно и другое: мы никогда не узнаем, кто взорвал «Регату». Ну, может, лет через пятьдесят или даже сто. Но знаете, Константин Дмитриевич, что мне больше всего понравилось в вашем ответе? Ваши слова: «Я не верю, что это сделали наши. Для меня эта мысль просто невыносима». Я могу допустить, что наши воспользовались этой трагической случайностью, чтобы упрочить свое положение на Балтике. Но что они это сделали специально — нет. Тут я повторяю ваши слова: «Я не хочу в это верить». И даже мысли такой допустить не могу. Хотя, если говорить откровенно, она все время свербит в виске.
— Ты разобрался в ситуации? — спросил Голубков.
— Да. Остались только местные неясности.
— Прояснишь?
— Нет. Но объясню почему. С другим человеком я бы даже разговаривать не стал. А с вами стану. Я знаю, как вы работали в Чечне. Я знаю, как вы вели себя в других ситуациях. Я верю вам. Вы не способны на подлость, чем бы она ни оправдывалась. Поэтому я хочу, чтобы вы остались живы. Во время нашей первой и последней беседы в подмосковном военном госпитале Профессор сказал, что в новом обществе зарождается новая мораль. И она определит все законы, по которым будет жить страна. В том числе и воинские. Мне дико повезет, если я сумею живым выбраться из этой передряги. Но если даже не повезет, то я хоть буду знать, что есть еще в России люди, которые борются за свои убеждения, не боясь ставить на карту карьеру и, может быть, даже жизнь. И одного из таких людей я знаю: этот человек — вы. Я не скажу вам больше ничего еще и потому, что вы не в силах что-либо предпринять. Игра слишком серьезная и зашла очень далеко. Я рад был вас увидеть, Константин Дмитриевич. Ваше задание было встретиться со мной и задать ряд вопросов. Доложите Нифонтову, что я не ответил ни на один вопрос.
— Спасибо за откровенность, — помолчав, заговорил Голубков. — Отдельное спасибо за комплименты. Я не очень уверен, что их заслуживаю, но слышать все равно приятно. А теперь вот что я тебе, парень, скажу. Ты расскажешь мне все от «а» до «я». По одной простой причине. Если бы речь шла только о твоей жизни, я бы, возможно, согласился с твоим решением. И то не очень в этом уверен. Но в операции задействованы практически все твои ребята. Ты о них подумал? Есть еще и другой момент. Ольга и Настена. А жена и дочь Боцмана? Друг мой любезный, как только начинаешь разбираться в том, что связывает тебя с жизнью, выясняется, что этих связей в десятки и сотни раз больше, чем кажется на поверхностный взгляд. Поэтому ты мне сейчас расскажешь все. Человек никогда не знает своих возможностей. И даже не догадывается, как они могут проявиться совершенно неожиданно в самых экстремальных ситуациях. Сейчас у нас именно такая ситуация.
Не исключаю, что помочь тебе я ничем не смогу. Но уже одним тем, что ты мне все расскажешь, ты сам себе поможешь. Лучше разберешься в ситуации. Давай сначала.
Откуда у тебя информация о Профессоре?
— Из всех ваших вопросов это самый простой, — ответил Пастухов. — Я заметил номер машины, на которой Профессор уезжал из санатория. Остальное было делом техники. В Москве, как вам известно, работает десятка два, если не больше, специализированных фирм, которые занимаются глобальной прослушкой. Линии связи Профессора надежно защищены ФАПСИ, но его окружает огромное количество людей: родственники, водители, помощники, секретари, деловые знакомые и просто друзья.
У всех у них есть телефоны, и они любят по ним разговаривать. Всю необходимую информацию о Профессоре я получил всего за шесть дней. И если вас интересуют подробности — всего за полторы тысячи баксов. При желании самую полную информацию я получу о президенте, премьер-министре, министре обороны. О ком угодно, начиная с неверной жены и ненадежного делового партнера. Это для вас новость?
— Я слышал об этом, но не подозревал, что это так серьезно.
— Одиночка потому и может выиграть у государства, что в его распоряжении техника, которая ему нужна, а не та, что дают со склада. Это не моя мысль, но я полностью с ней согласен.
— Проблема не в том, то ты получил информацию о Профессоре, а в том, что передал ее третьим лицам, которых в итоге пришлось ликвидировать.
Пастухов лишь рукой махнул:
— Я не знаю, что вам сообщили, но можете мне поверить: Кэпа ликвидировали не люди Профессора. Более того, он приказал отпустить Кэпа на свободу и не чинить ему никаких препятствий.
— Кто же его тогда убрал?
— Этого я вам, Константин Дмитриевич, не скажу. Во-первых, потому, что не слишком в этом уверен. А во-вторых, этот человек помог мне, и с моей стороны было бы просто хамством отвечать ему за эту помощь предательством.
— В чем суть операции?
— А вот это я вам, пожалуй, скажу, — подумав, проговорил Пастухов, — в общих чертах. Детали вам не нужны. Речь, как часто бывает в таких случаях, идет вовсе не о политике. Она идет о финансах. О сотнях миллионов долларов. Если победит депутат КПРФ Антонюк, западные инвесторы не дадут нам ни копейки на развитие и реконструкцию порта. Если победит представитель «Нашего дома — России» в блоке с другими демократами, на инвестиции можно рассчитывать. И на очень крупные. Дело в том, что после выборов губернатора с торгов пойдет почти пятьдесят процентов акций порта. Процентов двадцать в общей сложности находится у немцев, почти четверть — у банка «Народный кредит», который контролирует Антонюк. Остальные рассыпаны по мелким владельцам — у кого десять, у кого двадцать, у кого четыре или шесть акций. Теперь вам понятна цель операции: привести к власти демократов.
— Я недолго в городе, но знаю, что губернатор проигрывает Антонюку почти двадцать процентов. Как в этой ситуации Хомутов может победить? Даже недавняя история, когда были закрыты все лавочки, принесет губернатору ну два-три процента, не больше.
— Вы слушали меня не очень внимательно, — заметил Пастухов. — Я не сказал, что победит Хомутов. Я сказал, что победит представитель НДР, кандидат партии власти. И я почти не ошибусь, если назову его фамилию. Это председатель предвыборного штаба НДР некто Павлов. Ничего вам о нем сказать не могу, так как напрямую не имел удовольствия сталкиваться.
— А как же Хомутов? — спросил Голубков.
— Константин Дмитриевич, вы один из лучших аналитиков-разработчиков, а задаете такие вопросы!
— Я их задаю, потому что мне нужны факты. Голые факты, а не догадки. Даже остроумные.
— Хорошо, факты, — легко согласился Пастухов. — 12 октября сего года на крыльце своего дома выстрелом из пистолета с глушителем был убит историк Николай Иванович Комаров, депутат в кандидаты от «Социально-экологического союза». Он хотел блокироваться с местным отделением «Яблока», но в последний момент они не сошлись в программах. Недели через полторы на местном телевидении состоялся так называемый «круглый стол». Ну, обычные предвыборные посиделки. У «яблочника», по предварительным оценкам, было 9 процентов. А после его выступления стало семнадцать. Почему? Потому что у него хватило ума и такта вспомнить на этом «круглом столе» Комарова и сказать о нем несколько добрых слов. А теперь представьте на секунду, что за эти несколько дней, которые остались до выборов, будет убит Антонюк. Выборы, естественно, будут отменены и назначены новые — все с нуля, с выдвижения кандидатов, со сбора подписей и так далее. Кто победит на этих выборах? Кандидат КПРФ. Волна народного возмущения политическим террором экстремистски настроенных демократов плюс неизбежные огрехи Хомутова за четыре года его губернаторского правления предопределят исход выборов. И к бабке можно не ходить. А теперь представьте, что будет убит не Антонюк, а Хомутов. Кто победит на следующих выборах? Конечно, НДР. Что нужно правительству? Иностранные инвестиции в порт города К. Значит, победит НДР. И значит, будет убит Хомутов.
Если в моих логических построениях вы увидели какую-то ошибку, скажите. Я буду счастлив ее признать. Потому что картина, которую я нарисовал для вас в общих чертах, почему-то меня совсем не радует.
— Кто убьет Хомутова? — спросил, помолчав, Голубков.
— Я, — сказал Пастухов. — Это и есть моя роль.
— Ты это сделаешь?
— Нет. Это сделают за меня. Потом на меня повесят. Начальник охраны коммунистического кандидата убил любимого народом демократа, а перед этим еще прихлопнул демократа Комарова. Красный террор, возвращение к методам КГБ. А народ у нас эмоциональный, импульсивный. Сами знаете, что выйдет. К тому же задолженность по зарплате и пенсиям погасили. Все просчитано, Константин Дмитриевич. И просчитано не любителями, а профессионалами суперкласса.
— Как же на тебя смогут повесить убийство губернатора, если ты не будешь его убивать?
— Вы ребят Егорова видели? Ну, такого, в кожаной куртке, со шрамом на брови и губе? — поинтересовался Пастухов.
— Видел.
— Обратили вы на них внимание?
— Ну, посмотрел.
— А я видел их в деле. И в довольно горячем. Я им игру, конечно, немного попортил, но боюсь, что до конца проблему мне не решить.
— Убийство этого историка Комарова — на тебе? — прямо спросил Голубков.
— 12 октября, в вечер убийства, я был где-то между Владивостоком и Хабаровском — возвращался из поездки в Японию за машиной. Но они уже обо всем позаботились, создали мне как бы алиби наоборот: подготовили фальшивые документы, из которых явствует, что 12 октября я был здесь, в К.
— Кто-нибудь сможет подтвердить, что ты был не здесь, а там?
— Могли бы подтвердить «рефы», с которыми я ехал. Но они по счастливой случайности разбились на машине вскоре после возвращения из этой поездки. Есть еще один человек, который может подтвердить, что видел меня вечером 12 октября в Хабаровске. Но я назову его разве что перед самым расстрелом. Да и этого делать не придется. Меня прикончат на месте. Уничтожили террориста — и дело с концом. Я бы не назвал эту схему слишком изысканной, но отдадим должное — она надежна. Кто там в панике будет разбираться, кто в кого стрелял и каким образом в моей руке оказался пистолет, из которого был убит губернатор Хомутов. И все. А уж для профессионалов перебросить пушчонку из одного места в другое…
— Похоже, Серега, ты попал в плохую историю, — подумав, обобщил Голубков.
— Да что вы говорите? — удивился Пастухов. — А я думал: в хорошую. Задание-то у меня — проще не бывает: охрана Антонюка. Правда, заплатили мне за это пятьдесят штук баксов.
— Сколько?! — поразился Голубков.
— Сколько слышали. И выдали наличными и вперед. Плюс, естественно, расходы по факту: гостиницы, машины, самолеты. Еще кофе хотите?
— И коньяку, — буркнул Голубков.
— Вы только не стесняйтесь, Константин Дмитриевич, — уверил Пастухов. — Счет я представлю к оплате — представительские расходы. Все законно. Ну, понятно, если у меня будет возможность представить его к оплате…
— Не нравится мне твое настроение. Понял? — рявкнул Голубков, опрокинув в себя очередную порцию коньяка. — И вообще мне все это не нравится!
— Слово «вообще» — не из нашего лексикона, — уточнил Пастухов.
— Ладно, не вообще. Давай конкретно. Как они заставят тебя стрелять в Хомутова?
— А я и не буду стрелять. Думаю, что будет стрелять кто-то из егоровских ребят. Есть у них там такой Миня — самый маленький и незаметный. После этого кто-то из ребят, скорее всего сам Егоров, пристрелит меня — как нападавшего. После этого в моей руке окажется ствол, из которого прикончили Хомутова. Баллистика, отпечатки пальцев — все на месте. И дело сделано. А уж должность мою каждая собака к этому моменту знать будет: начальник охраны Антонюка.
— А историк Комаров? — поинтересовался Голубков.
— С ним у них ничего не выйдет. Ствол, из которого его убили, оказался у меня. Так что им придется что-то придумывать. Если я первый чего-то не изобрету. Они теряют сильную, конечно, позицию. Красный террор оказывается несколько ослабленным. Но они сейчас не в том положении, чтобы выбирать. Они пойдут до конца и на любой риск, чтобы привести к власти представителя НДР. Больно уж большие деньги здесь задействованы.
— Зачем ты рассказал о Профессоре каким-то уголовным авторитетам?
— Они мне мешали. Я хотел, чтобы люди Егорова их убрали.
— Они убрали?
— Нет, их убрал совсем другой человек.
— Какой?
— По второму кругу пошли, Константин Дмитриевич. Я ведь уже предупредил вас: этого я вам не скажу. Скажу только одно: этот человек знает Профессора около тридцати лет. Можете передать это Профессору. Он его действительно знает. Я провел небольшую проверку, и все сошлось. До мельчайших деталей, до формы носа и жилистой шеи.
— Помолчи, — попросил Голубков. — Помолчи пять минут, мне нужно подумать.
Он неспешно выкурил сигарету, ткнул ее в керамическую пепельницу и произнес:
— Ты хорошо разглядел ребят Егорова?
— Достаточно.
— Ты понимаешь, что у тебя нет против них ни единого шанса?
— Я никогда не переоцениваю своих возможностей. Лучше недооценить. Но сейчас у меня просто нет выбора. А насчет шансов… Ну, мы это еще посмотрим. На полигоне в училище на соревнованиях рейнджеров подполковник Егоров не произвел на меня потрясающего впечатления. Не забывайте, Константин Дмитриевич, что на площади кроме меня будут Боцман, Муха и Артист. Причем Артист — втемную. Четверо против шести. Не такие уж они и нулевые, мои шансы.
— Помолчи, — еще раз попросил Голубков. Немного подумал и решительно произнес:
— Ближайшим рейсом я возвращаюсь в Москву. Я потребую встречи с Профессором. Я докажу ему, что тратить таких людей, как вы, на решение мелких проблем — глупо, нерационально и вообще преступно.
— Он вас не примет. Вы для него слишком мелкая сошка.
— Примет Нифонтова.
— Спасибо, как говорится, на добром слове, но у вас ничего не выйдет. Полмиллиарда долларов — это мелкая проблема? Это крупная проблема, Константин Дмитриевич. Поезд уже разогнался до предельной скорости. Его не в силах остановить и сам Профессор. Поэтому возвращайтесь домой и забудьте обо всей этой истории. Вы были только в одном правы: я поговорил с вами и сам во всем лучше разобрался. И поэтому думаю, сделал правильно, что столько вам рассказал. А теперь пошли. У меня еще много дел. Должность начальника охраны довольно хлопотная, должен признаться.
На выходе из кафе Пастухов неловко столкнулся с пожилым плешивым человеком в сером плаще и приплюснутой кепочке. Тот долго и приниженно извинялся за неловкость, потом спросил у Голубкова, который час, очень вежливо и словно бы тоже униженно поблагодарил и исчез. Голубков только плечами пожал ему вслед.
Пастухов — нет. Оказавшись в машине и прервав какой-то посторонний и пустой разговор, он вынул из кармана глянцевый листок визитной карточки на немецком языке, долго и внимательно рассматривал, потом протянул Голубкову со словами:
— Это вам. И даже не совсем вам.
— А кому?
— Прочитайте.
На глянцевой стороне визитки значилось золотом на веленевой бумаге:
«Коммерческий аналитический центр. Президент Аарон Блюмберг». Тут же стоял гамбургский адрес и какие-то телефоны и факсы. На другой стороне было написано от руки мелким четким почерком, по-русски:
«Уважаемый господин Профессор. Жду Вас завтра в полдень возле памятника воинам-освободителям на площади Победы города К. Чтобы тема нашей беседы не выглядела для вас неожиданной, могу сообщить, что намерен пересмотреть условия нашего очень давнего и много раз вашей стороной нарушаемого соглашения. Цель этой встречи — убедить Вас отказаться от акции, которая должна быть проведена в городе К.
А. Б.»
— Что это за херня? — спросил полковник Голубков, оглядев визитку с обеих сторон.
— Это не херня, Константин Дмитриевич, — ответил Пастухов. — Это как раз тот человек, который знает Профессора тридцать лет. И это означает, что вы должны немедленно мчаться в аэропорт, садиться на первый военно-транспортный борт и сегодня же доставить эту херню Профессору.
— Как я объясню, что делал в городе К?
— Это уже не имеет никакого значения.
— Думаешь, он приедет?
— Нет. Он не приедет. Он прилетит. И не будет дожидаться попутного борта. Он прилетит на специально для этой цели заказанном самолете.
Голубков на минуту задумался и спросил:
— Кто он?
— Этого я не знаю, — признался Пастухов. — Ясно только одно: этот человек слишком много знает. Больше, чем вы и я, вместе взятые.
III
Профессор прилетел спецрейсом в город К., выслушал доклад подполковника Егорова и без двух минут двенадцать прохаживался на площади Победы возле памятника воинам-освободителям, изображавшим двух наших солдат на высоком гранитном постаменте. Один был с автоматом, другой — со знаменем.
Такого рода памятники, как и уже забытые многими лозунги, некогда висевшие где только можно, имеют странное свойство выветриваться из памяти как раз в тот самый момент, когда ты от этого плаката, лозунга или памятника отворачиваешься.
Зная, вероятно, об этом свойстве. Профессор обошел памятник со всех сторон, внимательно его осмотрел с очевидной целью запомнить и ровно в полдень взглянул на часы. И тут же возле памятника притормозили полуразбитые, дребезжащие «Жигули». Смотритель маяка Столяров высунулся из них и гостеприимно пригласил:
— Садитесь, Профессор.
Профессор помедлил. В операции прикрытия было задействовано пять машин и больше десяти человек. И ему не улыбалось остаться один на один с Блюмбергом.
Но Блюмберг лишь усмехнулся:
— Вашей безопасности ничто не угрожает. Неужели вам мало моего слова? Так что отправьте людей отдыхать. Моей безопасности тоже ничего не грозит, но совсем по другой причине. Ни к чему нам. Профессор, этот эскорт. Тем более что работают они из рук вон плохо. Местные?
— Местные, — подтвердил Профессор и по радиотелефону дал полный «отбой». — Как мне тебя называть? — спросил он.
— Так, как сейчас меня называют все. Не будем нарушать общего правила. Я — Александр Иванович Столяров, смотритель местного маяка. Свою старую визитку с именем Блюмберга я послал вам только для того, чтобы вы сразу поняли, о ком идет речь. Но Блюмберга больше нет. Мосберга тоже нет. Есть Столяров. О чем и докладываю.
Еще через полчаса, покрутившись по припортовым подъездным путям, «жигуленок» Столярова въехал на мол и остановился возле массивного каменного подножия маяка.
Перед тем как выйти из машины, смотритель маяка предупредил:
— Я даже не спрашиваю, есть ли на вас «жучки». Но если есть, можете о них забыть. Вся зона вокруг маяка блокирована. Я уже объяснял одному моему знакомому, что понятия не имею, как это делается технически. Сейчас могу только повторить. Так что можно говорить так же свободно, как в Домском соборе Кельна. Впрочем, нет, тогда между нами был диктофон. Сейчас его нет. Вылезайте, Профессор. Вы, насколько я знаю, любите посидеть у воды. Я не люблю, но составлю вам компанию. Не думал я, что нам еще раз придется встретиться. Пришлось. Увы. Я говорю «увы», потому что причина нашей встречи отнюдь не радостна. Отнюдь.
Он стукнул железным кольцом по массивной двери, из маяка появился худосочный молодой человек и застыл в ожидании указаний.
— Ноутбук, сынок, и ту дискету, — распорядился Столяров.
Через десять минут мини-компьютер лежал на каменной скамье между Профессором и смотрителем маяка.
— Вы умеете обращаться с этой хренотенью? — поинтересовался Столяров.
— Более-менее.
— Ну и займитесь. А я так и не научился.
Профессор вставил дискету в приемное устройство, и уже первое, что он увидел на плоском экране компьютера, повергло его в ужас.
Это была схема всей нашей агентурной сети в Западной Европе. Причем не только имена, клички и адреса агентов, но и системы связи, выходы на агентов влияния, структуры резидентур. На других файлах было то же самое: США, Канада, Испания, Италия, ФРГ, Южная Америка, Скандинавия.
Смотритель маяка закурил «Мальборо» и поинтересовался:
— Впечатляет?
Профессор не ответил.
Но смотритель маяка, судя по всему, и не ждал ответа.
— Кое-что здесь, конечно, устарело. Мне, честно сказать, осточертело следить за вашей новой агентурой. Слишком много времени и энергии приходилось на это тратить. Но и того, что есть, хватит. Не так ли? Как вы помните, при уходе на Запад я поставил условие: вы не трогаете мою семью, а я не мешаю вам работать. Я даже о своей собственной безопасности вам ничего не сказал. Меня это не беспокоило. Информация, которой я располагал, обеспечивала мою безопасность. Но вы не выполнили моего основного условия. Вы обрекли меня на роль сироты в этом огромном мире. Сироты, который дорожит любой старой фотографией в чужом доме. Потому что он сирота. Потому что он предполагает, что где-то в мире такая же душа ищет свои полузабытые корни. Вы убили мою семью. И сегодня я намерен выставить вам за это счет.
— Я не имел к этому решению никакого отношения, — заметил Профессор.
— А мне насрать, имели или не имели. Обязаны были иметь. В бывшем Советском Союзе, а ныне в России принято очень удобное распределение ответственности. Я отвечаю за то, а он — за это. В результате никто не отвечает ни за что. Нет, Профессор, за гибель моей семьи отвечаете вы, и только вы. Не знали? Обязаны были знать. Да ведь в том-то и дело, что знали. Верю — пытались протестовать. Да что мне с ваших протестов? Очень жалко, что я не понял этого раньше. Сказалось некое корпоративное чувство. Я знаю, что такое быть нелегалом. Мне было жалко этих ребят, наших… ваших агентов. Тем более, как мне казалось тогда, они не отвечают за приказы власть имущих. Нет, Профессор, отвечают. Мы все отвечаем за все. — Смотритель маяка закурил еще одну сигарету и, помолчав, продолжал:
— История с покушением на меня в устье Эльбы. Я понимаю, что это была не ваша акция, а этого дурака Шишковца. И снова очень удобно: он отвечает за то, а вы за это. Да нет, Профессор, вы прекрасно знали об этой акции, она не могла пройти мимо вас. Просто вы решили не связываться со всемогущим вице-премьером, который на поверку оказался обыкновенным мелким взяточником. Мне просто повезло, что один джентльмен, схожий со мной по внешнему виду, позарился на мои документы, деньги и веши. А уж напустить на него ваших турок — это была вообще не задача.
Откровенно говоря, я и тогда невольно, в душе, вывел вас за грань ответственности. Ну, хотя бы потому, что Шишковец не знал, чем я могу ответить, какой информацией располагаю, а вы знали. Впрочем, почему Шишковец не знал? Да нет, знал. Просто ему личная безопасность была куда дороже всей нашей агентурной сети, которая создавалась годами и даже десятилетиями. Но все это кончилось. Профессор. Кончилось.
— Что именно?
— Наш договор. Три точно такие же дискеты хранятся в одном лондонском, одном цюрихском и одном нью-йоркском банке. И если от меня через определенное время не поступит сигнала, что со мной все в порядке, дискеты начнут движение. Как вы думаете, куда? Не нужно объяснять, нет?
— И десятки твоих бывших товарищей сядут в тюрьму, — заметил Профессор.
— Сотни, Профессор. Не скромничайте. Сотни. Но я думаю, что в германских, американских и лондонских тюрьмах они принесут меньше вреда, чем на свободе, где они вынуждены выполнять ваши приказы и приказы ваших начальников.
— Это твое окончательное решение?
— Да. Но прежде я хочу получить ответ на очень простой вопрос. Кто взорвал паром «Регата»? И еще конкретнее: мы или не мы?
— Ты сам прекрасно знаешь, что такие вопросы не задают и на них не отвечают.
— Это у вас там в Кремле и в Белом доме не задают и не отвечают. А я задаю и требую ответа.
— Не знаю, — помолчав, проговорил Профессор и повторил:
— Не знаю.
— Странно, но я верю вам. Профессор. Да, верю. Точнее — очень хочу верить. Странное дело. Вы умудрились прожить почти всю свою жизнь, выполняя самые грязные поручения начальства и оставаясь при этом в душе благородным человеком.
И слово «Родина» или, как нынче, «Россия» не звучало в ваших устах фальшиво.
Раньше я воспринимал это как данность. Сейчас это мне кажется поразительным. Вы не были благородным человеком. Профессор. А если и были, то очень давно.
— Что тебе дает право говорить это?
— А вот то самое, что происходит в этом городе. Как оперативник я могу оценить изящество комбинации, в результате которой к власти приходит НДР. Но это сугубо профессиональный подход. Есть и другой — человеческий. А по нему все это — подлость и гнусность.
— Понятия не имею, откуда ты все это взял, — попытался возразить Профессор, но смотритель маяка перебил его:
— Двадцать с лишним лет я не состою в штате разведки. Но все двадцать лет я занимался этим делом с таким рвением, как никто. Потому что речь шла о моей безопасности. Неужели вы думаете, Профессор, что я сказал бы вам хоть единое слово, в котором не был бы на сто процентов уверен?
— Кэп — твоя работа?
— Да.
— Акция с празднованием 7 ноября?
— Да. Но это была не более чем шутка.
— Зачем ты здесь появился?
— Пять лет назад, в Кельне, я вам сказал, что не позволю решить России балтийскую проблему преступными методами. Я был на пять лет моложе, российская демократия была еще совсем ребенком, я чувствовал моральную ответственность за мою родину, которую, как мне казалось, я вновь обрел. Я тогда и не подозревал, что вы попытаетесь решить проблему таким образом. Это — не бандитизм. Это — хуже. Хотя не знаю, что может быть хуже.
— Зачем ты отдал документы Комарову?
— Это была моя ошибка. Я надеялся, что они усилят его позицию. А они стали причиной его смерти. Это было моей последней иллюзией. Глупо, но я рассчитывал, что президент использует этот козырь и докажет всему миру, что Россия — цивилизованная страна, что весь бандитизм коммунистического режима — давно в прошлом. Но, как выяснилось, одно лишь сомнение может стать причиной гибели совершенно ни в чем не повинного и ни в чем не замешанного человека.
— Мы пытались его остановить.
— Знаю. Даже губернатора посылали к нему на встречу. Встреча окончилась неудачей. Но вы не могли допустить, чтобы Комаров задал свой вопрос на предвыборном собрании. Его разнесла бы пресса. Сначала по городу, а потом по всему миру. И стали бы вслух говорить о том, о чем молчали из мелкополитических соображений. Поэтому он был убит. Я не спрашиваю, санкционировали ли вы это убийство. Потому что я и так знаю: да, санкционировали. Пусть не вы родили эту идею, но вы оплодотворили ее своей властью.
С моря потянуло свежеразделанной сосной.
Смотритель маяка кивнул:
— Лесовоз «Петрозаводск». Идет в Гамбург. Если бы вы знали, Профессор, как я соскучился по тайге!
Но Профессора сейчас заботили совсем другие проблемы.
— Ты говоришь «Россия», «родина», но делаешь все, чтобы помешать ей выкарабкаться из кризиса. Ты убил Кэпа, который в компании с немцами был готов вложить в порт около двухсот миллионов долларов.
— Кэп — бандит, и вы это прекрасно знаете.
— Россия сейчас не в том положении, чтобы разбираться, у кого руки вымыты, а у кого грязные.
— Я читал в ваших газетах про эту теорию. Давайте легализуем весь теневой, а попросту говоря — преступный капитал, и пусть он работает на благо России. Честно сказать, я так и не понял, что это: просто глупость или продуманный ход того самого преступного капитала.
— Нам нужно накормить народ.
— Вы говорите о народе, как о свиньях, которым все равно что жрать.
— России нужны деньги. Крупные иностранные инвестиции. У нас только один путь. По нему прошли Германия, Италия, Япония. Ты знаешь этот путь не хуже меня. Немецкое чудо, японское чудо. Секрет этих чудес предельно прост…
— Значит, дело только в деньгах? — уточнил смотритель маяка. — Что ж, вложу в порт полмиллиарда. Долларов, естественно.
— Откуда у тебя такие деньги?
— У меня и у моих компаньонов есть шестнадцать процентов акций порта. Остальные мы купим на тендере. Мы уже сделали заявку на тридцать шесть процентов акций за двести сорок миллионов долларов. Обратили внимание?
— Да, обратил. «Фрахт интернейшнл» — это твоя фирма?
— Я ее контролирую.
— Если победит Антонюк, торги не будут честными. И в российском законодательстве столько лазеек, что их невозможно проконтролировать.
— Так сделайте так, чтобы Антонюк не победил.
— А чем, по-твоему, мы занимаемся?
— Убить Хомутова — это решение проблемы кажется вам рациональным?
— Так ты и про это знаешь?
Смотритель маяка только покачал головой:
— Раньше, Профессор, мы лучше понимали друг друга. Неужели я бы встретился с вами, если бы не знал всего? Абсолютно всего? Я не дам вам этого сделать. Это мое слово: не дам.
— Никто уже не сможет этого остановить. Даже я.
— А я попробую. Не получится — ну, не получится. Но я сделаю все, чтобы получилось. Я попробую, Профессор. Вы меня хорошо знаете. И знаете, что это не пустая угроза. У меня остался только один вопрос. Мелочь по сравнению с тем, о чем мы говорили. Но мне хотелось бы получить на него ответ. Эти губернаторские выборы — они были неожиданными, вызваны какой-то экстраординарной ситуацией?
Профессор непонимающе пожал своими могучими мосластыми плечами:
— Нет. Самые обычные. Плановые.
— Насколько я знаю, выборы губернатора проводятся раз в четыре года. Значит, уже четыре года назад вы знали о нынешних выборах?
— Бывают случаи, когда губернатор становится членом правительства. Или уходит в отставку. Тогда выборы проводятся досрочно.
— Но в этом случае такого не было? — уточнил Столяров.
— Не было, — подтвердил Профессор. — Хомутов хороший хозяйственник и был вполне на своем месте.
— Биржевая игра на повышение акций порта города К. и соответственно на понижение курса акций таллинского порта началась еще до взрыва «Регаты». Это было года три-четыре назад. Значит, уже тогда правительство России имело на порт города К. какие-то виды? Взрыв «Регаты» просто сделал ситуацию максимально благоприятной. Так?
— Не понимаю, к чему ты ведешь, — заметил Профессор.
— Сейчас объясню. Следовательно, уже три или четыре года назад все прекрасно понимали, что для реконструкции порта нужны иностранные инвестиции, а иностранные инвесторы не дадут денег коммунистам. Что нужно было сделать, чтобы в городе сегодня спокойно победила партия власти? Назовем их демократами, хотя это не кажется мне правильным. Ладно, демократы. «Наш дом — Россия». Вовремя платить людям зарплату и пенсии. Ну, еще какие-нибудь мелкие социальные пособия малоимущим, многодетным семьям и пенсионерам. И что? И все. И сегодня не нужно было бы убивать ни в чем не повинных людей, выстраивать хитроумные и весьма дорогостоящие комбинации и идти на риск крупнейшего проигрыша. Почему этих жалких денег не дали тогда, когда они были нужны?
— В стране нет лишних денег.
— На пенсии, — уточнил Столяров. — А на спецоперации есть. Я задам еще один вопрос. Он, возможно, покажется вам глупым, потому что я уже здорово отвык от России. Почему вы, мозговой центр этой операции, не настояли на том, чтобы задолженность по пенсиям и зарплате была погашена хотя бы года полтора-два назад? Вы же прекрасно понимаете, что выборы сегодня прошли бы без сучка и задоринки. Политическая полемика и пистолетная стрельба с использованием профессионалов высшей квалификации — есть разница?
— Я ставил этот вопрос. И не раз.
— И что? — спросил Столяров. Профессор только пожал плечами.
— Потрясающе, — помолчав, проговорил Столяров. И повторил:
— Потрясающе. Такое возможно только в России. Если я когда-нибудь вздумаю написать об этом книгу, мне никто не поверит. Сочтут это глупым авторским вымыслом. Или злобным очернением моей бывшей родины. Я даже не знаю, как оценивать ситуацию: сочувствовать вам, что вы живете в такой удивительной стране, или радоваться, что я в ней не живу.
— Родину не выбирают, — буркнул Профессор.
— Вы не правы, — возразил Столяров. — Не выбирают климат и пейзаж. Но выбирать общественный строй можно. И нужно. Больше того: должно. — Он покачал головой и засмеялся:
— Нет, я не могу. Знать за четыре года, что будут выборы, и пальцем не шевельнуть! Все это было бы очередным российским анекдотом, но для анекдота эта история слишком пропитана кровью. — Столяров встал. — Давайте, Профессор, заканчивать наш разговор. Свое условие я вам уже высказал. Если со мной что-нибудь случится: автомобильная или авиационная катастрофа, крушение моторной лодки или яхты, бандитское нападение или вообще что угодно, даже ранение, пусть даже не смертельное, — эти дискеты попадут по назначению. И немедленно. Прощайте, Профессор. Встретимся на последнем предвыборном митинге Хомутова. Я бы сказал точней: увидимся. Я издали, может быть, увижу вас. А вы тоже издали, может быть, увидите меня. Это и будет наша последняя встреча.
И хотя все уже было сказано, оставалась в разговоре какая-то пауза. И Профессор заполнил ее:
— Хомутов на выборах проиграет.
Смотритель маяка вызвал из дома молодого человека, бросил ему ключи от «жигуленка» и приказал:
— Отвези нашего гостя. Куда скажет. — И лишь после этого спросил:
— А что такое демократия, Профессор?
IV
Подполковник Егоров вошел в мой номер, как всегда без стука, примерно через час после того, как на площади Победы закончился последний предвыборный митинг Антонюка. Как уж там в избиркоме разбирались, не знаю, не исключаю даже, что бросали жребий, но Антонюку последняя встреча с его электоратом выпала на четверг 13 ноября, а губернатору Хомутову — на пятницу 14 ноября. После чего всякая предвыборная агитация запрещалась законом. Для того, надо полагать, чтобы избиратели за субботу привели свои мысли в порядок без постороннего вмешательства и в воскресенье 16 ноября могли явиться к избирательным урнам с полным и ясным сознанием своего гражданского долга. И с четким решением.
Митинг удался, было довольно много народу — пенсионеров, в основном крепеньких, как боровички, и погода была как на заказ: сухо, чуть ветрено, с просветами солнца, как очень ранней весной. После митинга я отправил Антонюка в сопровождении Мини и Гены Козлова на его загородную дачу и приказал оставаться с ним до самого дня выборов. А сам вернулся в «Вислу», лег на необъятную кровать прямо в одежде поверх покрывала и стал думать о том, как мне жить дальше.
А мне было о чем подумать.
Я понятия не имел, чем вся эта завтрашняя затея с последним митингом Хомутова закончится. Но чего мне категорически не хотелось — это я знал совершенно точно: чтобы на меня повесили убийство Комарова. И речь даже была не о том, насколько это усугубит мою вину. Той вины, которую мне уготовили — террористический акт против кандидата демократических сил, — ее и без убийства Комарова за глаза хватало. Но мне почему-то неприятно было думать, что хоть у единого человека в городе К. да и во всей России возникнет мысль о том, что некий бывший офицер спецназа Сергей Пастухов подло покусился на жизнь безобидного провинциального историка.
А навесить мне это убийство они могли запросто. Трудно ли подменить пули, которыми был убит Комаров, на те, какими будет убит губернатор? Это в операции-то, которой руководил Профессор! И баллистическая экспертиза будет в порядке, и отпечатки моих пальчиков — все будет в полном порядке. Уж в этом-то я не сомневался.
И вот это-то мне и не нравилось.
Мой номер обыскивали люди Кэпа. И ствола не нашли. Не сомневаюсь, что самый тщательный обыск провели и люди Егорова — и «пассата», и всех моих шмоток. И тоже ничего не нашли. На все сто уверен, что они прошмонали все ячейки в автоматической камере хранения на автовокзале, когда их телеметристы зафиксировали мое появление там, покуда чинился мой «пассат». И тоже ничего не нашли. По той простой причине, что «токагипта» там уже не было. В ту ночь, когда меня навестил Кэп, а я потом проведал своего друга Артиста, я извлек «тэтэшник» из камеры хранения. Разрешение, выданное московской милицией, увез с собой в Москву Артист на предмет внимательного рассмотрения его экспертами УПСМ и негласной проверки ствола, а саму пушку, по-прежнему завернутую в старый целлофановый пакет с пальчиками Матвея Салахова, я попросту сунул в землю под гнилые листья куста сирени во дворе Матвея, куда забрел как бы в поисках съемного жилья. А поскольку хозяина дома не было (я-то, между нами, знал, что он лежит в морге местной больницы), то я так ни с чем и ушел. Без этого пакета, само собой.
Его и не найдут, в этом я не сомневался. По той простой причине, что не станут искать. Так он и сгниет в сыром балтийском суглинке. А если на этот кусок ржавого железа наткнутся новые хозяева участка, коли вздумают перекопать и перепланировать огород, — ну и что? Мало ли старого оружия осталось в этой земле еще со второй мировой войны! Сдадут в милицию, и дело с концом.
Так что не это меня беспокоило. Меня беспокоило совсем другое. То, что этот «токагипт» оказался в моих руках, было случайностью. И случайностью счастливой. Иначе его девятимиллиметровые пули насквозь прошили бы мою бренную плоть, и не Матвей лежал бы сейчас в холодильнике морга, а я. А счастливая случайность — это штука тонкая и требующая деликатного обхождения. Она не прощает пренебрежения. Как красивая женщина. Или как удача. И уж если эта счастливая случайность (в любой форме) выпала тебе на долю, грех ее не использовать. Если ею пренебречь, в следующий раз она обернется к тебе другой стороной — случайностью, но такой, от которой взвоешь и на стенку полезешь.
Об этом я и думал: как использовать эту выпавшую мне счастливую случайность. Но ничего в голову не приходило. Полный ноль.
В этот момент и появился подполковник Егоров.
Я его ждал. И знал, о чем он мне хочет сказать и о чем хочет спросить. И то и другое было для него делом не из легких. Мне даже стало интересно, как он выкрутится из ситуации, и поэтому я пришел ему на помощь.
— Там в мини-баре есть еще бутылка то ли виски, то ли джина. Угощайся. За счет фирмы.
Егоров заглянул в бар, понюхал какую-то из бутылок и поставил на место. Усевшись в кресло за журнальным столом, закурил свой «Кэмэл» и сказал:
— Ну?
Не знаю, как в других языках, но русское «ну» имеет такое количество значений и оттенков, что понять смысл этого междометия можно только в четком контексте. А поскольку «ну» подполковника Егорова не было привязано ни к чему определенному, я решил, что нет и смысла вдумываться в его смысл. И ответил так, как обычно отвечают русские друг другу в подобных ситуациях:
— Что «ну»?
Егоров не ответил. Возможно, он считал, что я должен быть более догадливым. Я попытался:
— Ты не стал пить хорошее виски, от которого, насколько я помню, не отказывался ни разу. Что из этого следует? Только одно. После разговора со мной тебе предстоит встреча с очень большим начальством, которое терпеть не может, когда от подчиненного попахивает спиртным. Даже виски «Джонни Уокер». Я не очень ошибусь, если скажу, что тебе предстоит встреча с Профессором?
Ну, это была такая изящная форма разговора. Не мог же я ему прямо сказать, что Профессор с девяти утра находится в городе и провел ряд встреч, в том числе и со смотрителем маяка. Все их зафиксировал Артист и проинформировал меня в толпе сразу после митинга Антонюка, при этом сам остался, хочется верить, незасвеченным. Но для Егорова это было неожиданностью. И довольно неприятной.
— Откуда ты знаешь, что Профессор в городе? — спросил он. Верней, рявкнул.
— Ты все же сделай пару глотков, Санек, — посоветовал я ему. — Объяснишь оперативной необходимостью. Профессор человек профессиональный, поймет. А насчет твоего вопроса… На него я тебе, конечно, не отвечу. Но спасибо за то, что ты не стал утверждать, что ни о каком Профессоре знать не знаешь. А о том, что он в городе — тем более.
— Завтра в 16.00 на площади Свободной России, бывшей имени Ленина, состоится предвыборный митинг Хомутова.
— И что? — спросил я.
— А то, что тебе и всем моим людям приказано обеспечить охрану Хомутова. Мы получили информацию, что могут быть инциденты.
Вот, значит, как они решили.
Я равнодушно пожал плечами:
— Твои люди — это твои люди. А моя задача — охрана Антонюка. Я немедленно еду к нему на дачу и буду с ним до воскресенья, не отходя ни на шаг.
Егоров резко меня перебил:
— Наша задача — обеспечить полный порядок на выборах. Абсолютный. Это и моя задача, и твоя. Антонюк в безопасности. В опасности Хомутов.
— Да кому нужно его убивать? — удивился я. Верней, сделал вид, что удивился.
— Тому, кто захочет сорвать выборы.
Хоть на этот вопрос честно ответил. После чего Егоров вытащил из бара бутылку виски и бокал и угостился приличной дозой. За что я лично его ни на йоту не осуждал. Ну, трудный разговор у человека. И главные трудности еще впереди. Но тут он допустил — я бы так это оценил — бестактность. Потому что если собеседник принимает другого человека за дурака — это и есть бестактность.
Он сказал:
— Киллер по-прежнему в городе. Тебе заплатили бешеные бабки, чтобы ты его вычислил и обезвредил, а ты провалял дурака. Если он объявится на завтрашнем митинге, я тебе не завидую.
Я знал, какой следующий вопрос вертится у него на языке: покажи пушку или проверь. Или еще что-нибудь в этом роде. Во всяком случае, он должен был убедиться, что «тэтэшник» у меня. Но он поступил умней. Он вытащил пакет, из него — «беретту» в американском варианте М9 — «длинную девятку» и придвинул ко мне вместе с какой-то бумагой, которая, судя по печатям, была разрешением на ношение этого замечательного ствола.
— Держи. Выклянчил для тебя «девятку». Цени. А «тэтэшник» давай сюда, он тебе больше ни к чему.
Я очень внимательно рассмотрел разрешение. Оно тоже было выдано в Москве. И все было на месте. Но когда «липу» изготавливают спецслужбы, обнаружить это могут только опытные эксперты с соответствующей аппаратурой. Может быть, это разрешение было и не «липой», а ствол вполне чистым. Этого я не исключал. Потому что твердо знал другое: в Хомутова будут стрелять из другого ствола (в идеале из «токагипта») и он-то и окажется у меня в руках в тот момент, когда меня пристрелит Егоров или кто-нибудь из его людей. А будет при мне эта «девятка» или нет — без разницы. И законная она или нет — тоже без разницы. Даже, скорее всего, законная. Ну, почему бы и нет?
— Спасибо, Санек, — с чувством сказал я. — Ты меня просто растрогал. Я и не думал, что у меня когда-нибудь в жизни будет такая машинка.
— А теперь давай «токагипт» и ксиву, — повторил он.
Я налил ему треть бокала виски, подождал, пока он выпьет и снова закурит свой «кэмэл», и сказал:
— Я в раздумье, Санек. Передо мной два варианта. Первый — грубый, но простой и надежный. Но только в том случае, если ты на него согласишься. Вот этот вариант: ты никогда не давал мне пистолета марки ТТ в варианте «Токагипт-58» и разрешения на его ношение. Я его и в глаза не видел. Во-первых, потому, что это разрешение — чистой воды «липа», хотя и профессионально изготовленная. Во-вторых, из этого ствола был убит историк Комаров.
Ну, тут уж он выпил пол фужера без всякого моего приглашения. И только через полминуты, отдышавшись и приведя свои мысли в какое-то подобие порядка, спросил:
— Ты понимаешь, что ты несешь?
— Вполне, — согласился я. — У меня было время над этим подумать, а у тебя не было. Я расписывался за оружие? Нет. За разрешение? Нет. Этого разрешения на этот ствол никто никому никогда не выдавал. Ни в городе К. Ни в Москве. Ни во Владивостоке. Нигде. Ствол иллюзорен. Как сейчас говорят, виртуален. Может, ему стоит таким и остаться?
Но логика логикой, а эмоции эмоциями. Через десять секунд мне в ноздрю упирался ствол только что врученной мне «длинной девятки», а еще через пяток секунд этот же ствол упирался уже в ноздрю подполковника Егорова. Потому что если в тебе сидят граммов триста виски, даже очень хорошего, реакция у тебя не та, что нужна для быстротечных боевых контактов.
Я извлек из его подмышечной кобуры его табельный ПМ, разрядил его, а заодно и «беретту», ссыпал патроны в мусорное ведро в ванной и после этого вернул ПМ Егорову. А поскольку он позволил себе пару телодвижений явно агрессивного характера, врезал ему от души чуть повыше уха. Чтобы отдохнул минут десять. Чем он и занялся. А я тем временем созвонился с заместителем начальника МВД майором Кривошеевым и попросил срочно приехать ко мне в гостиницу «Висла» вместе с капитаном Смирновым, представлявшим в городе К., как я понял, уголовный розыск.
Мое приглашение, как я и ожидал, не вызвало у майора Кривошеева никакого энтузиазма.
— Кончай свои штучки, москвич, — заявил он. — Давай по телефону. А нужно — приезжай сам. У меня дел и без твоих заморочек — выше головы.
Я постарался ответить как можно вежливее — в том смысле, что, несмотря на фингал, который с момента нашего общения стал моей особой приметой и вызывает у меня проблемы с прекрасной половиной человечества, а также подозрительные взгляды гаишников, наша беседа в кабинете заместителя начальника МВД города К. убедила меня в том, что там работают преданные своему делу профессионалы и они не поленятся отлепить жопу от стула, чтобы узнать, кто совершил одно из самых громких заказных политических убийств последнего времени, а именно убийство историка Комарова.
— А ты знаешь? — быстро спросил майор Кривошеев.
— Полагаю, что да, — ответил я. Все-таки сказалось общение с Мазуром. Потому что достаточно было просто сказать «да».
— Едем, — сказал майор.
Минут через двадцать он появился в моем номере вместе с капитаном Смирновым и с папкой следственных материалов прокуратуры. На том, чтобы он привез их, я особенно настаивал, а он особенно сопротивлялся, так как это было связано с какими-то процессуальными сложностями, до которых мне, честно сказать, никакого дела не было.
К моменту их появления подполковник Егоров вполне очухался и даже подбодрился очередной порцией виски. После чего бутылку и бокал я убрал в бар, так как вести официальный разговор в такой фривольной обстановке показалось мне не правильным.
Майору Кривошееву и капитану Смирнову я представил Егорова как старшего охранной группы и человека, вполне заслуживающего доверия. Во всяком случае, при нем можно говорить совершенно свободно.
Еще до того, как появились эмвэдэшники, я предупредил Егорова:
— Ты отверг мой первый вариант. И в нетактичной форме. Я вынужден реализовать вариант номер два. Не думаю, что он тебе очень понравится. Но выбора у меня нет, Санек. И у тебя тоже. Так что сиди, слушай и не встревай.
Едва закончив с краткой процедурой знакомства, майор Кривошеев сразу перешел к делу:
— Ну, кто?
— Вы сами очень хорошо знаете этого человека, — ответил я.
— Кончай свои музыки и балеты! — попросил майор. — Давай по-русски, можешь даже с матом, мы люди свои, поймем.
Тогда я задал вопрос в лоб:
— Вы как предпочтете: чтобы преступника указал вам какой-то приезжий москвич или хотите найти его сами?
— Мне важно поймать преступника, понял? А как — это пятнадцатое дело! И если у тебя что-то есть — выкладывай. Иначе я привлеку тебя за укрытие информации. Или за недонесение.
— Олег Сергеевич, — проникновенно сказал я, — ну, я могу, конечно, изложить дело так, как его вижу. Но вы и Иван Николаевич Смирнов тут же завалите меня вопросами: как, почему, чем докажешь и так далее. Правильно?
— Ну, правильно, — согласился майор. — А как ты хотел?
— Совсем по-другому. Я хотел бы, чтобы вы сами вычислили преступника. Вы потратили на это больше месяца и без всякого результата. По одной простой причине: у вас была неверная начальная установка. И второе — вам не хватало кое-какой информации. И то и другое сейчас есть. Попробуете?
Майор вопросительно взглянул на капитана Смирнова.
Тот немного подумал и сказал:
— Мы действительно убили на это больше месяца. С полным нулем в итоге. Может, послушаем этого москвича? Ну, еще час потеряем. А вдруг? Парень не дурак, это мы уже поняли. Мозги у него чуть набекрень, но это не довод. А?
— Излагай! — принял волевое решение майор Кривошеев.
Я раскрыл папку со следственными материалами.
— Один мой друг любит говорить: все просто, когда все знаешь. А когда чего-то не знаешь, все самое простое становится непроходимо сложным. Так получилось и с этим делом. Эти материалы вы просматривали не меньше чем по десять раз. Верно?
— По пятьдесят, — поправил майор.
— Я вам пока только одно скажу: фамилия преступника упоминается в них не меньше двенадцати раз — я специально подсчитал. Он фигурирует и как свидетель.
— Ты не мог видеть этих материалов, — решительно заявил майор.
— И тем не менее видел. Не мучайтесь, Олег Сергеевич. Я не шпион и не уголовник. Ну, увидел я эти материалы — и что? У меня есть друг, у него еще друг, а вот этот друг имеет право ознакомить меня с любыми материалами МВД. Скажу даже так: формально не имеет, но даже министр МВД не посмеет сделать ему за это замечание.
— Интересные у тебя друзья, — заметил майор.
— Есть и интересные, — согласился я. Капитану Смирнову было не до наших словесных дискуссий. Он раскрыл папку и начал внимательно, будто видит все это впервые, изучать каждый лист следственного дела, особенно обращая внимание на показания свидетелей. На отдельном листочке он делал одному ему понятные пометки. В работу включился и майор. Но он, видно, так до конца и не поверил серьезности моего заявления, потому что перелистал дело, как подшивку старого, давно прочитанного еженедельника.
Минут через сорок капитан Смирнов захлопнул папку и сказал:
— Салахов. Он, точно! Его в тот вечер на Строительной улице видели все свидетели.
— Требуются объяснения? — спросил я.
— Иди ты… со своими объяснениями! — отмахнулся капитан. — Я тебе сам все сейчас объясню. Было у меня чувство, что работал не чужак, а свой. Внутри сидело, а выразить не мог. Нутром чуял. Сбивало одно: откуда у него такая квалификация.
— Этой информации вам и не хватало, чтобы закончить дело, — проговорил я и в старых аудиокассетах нашел ту, где были записаны установочные данные на бывшего афганца Салахова. По моей просьбе их раздобыл полковник Голубков и передал Артисту, а тот мне. Учеты были только по МВД, но не было никаких сомнений, что Салахов был связан и с какой-то спецслужбой. Иначе полную информацию на него дали бы из Зонального информационного центра по первому же запросу прокуратуры или милиции города К. Я не мог держать бумажку в кармане или где угодно, в любой момент на нее могли наткнуться. Поэтому сделал так же, как с разговором с Профессором в военном госпитале: записал текст на самый конец какой-то задрипанной старой кассеты. Сейчас этот текст я и прокрутил майору Кривошееву, капитану Смирнову и безучастно присутствующему при нашем разговоре подполковнику Егорову.
Текст произвел, прямо скажем, должное впечатление. И капитан, и майор были людьми опытными и прекрасно понимали, почему эту информацию они получают от меня, а не обычным способом. А чтобы проверить ее, никаких особых разрешений высокого начальства не требовалось. Я не сомневался, что они займутся этим, как только у них выкроится хоть минута свободного времени. Но сейчас их волновало другое.
— Где ствол? — спросил майор.
— Две пули, извлеченные из тела Комарова, были отправлены на баллистическую экспертизу? — спросил я.
— А как же? — удивился капитан.
— Вы уверены, что это те самые пули? — продолжал я.
— Ни малейших сомнений, — подтвердил капитан. — Они валяются там уже месяц. Я недавно случайно видел их. Ни в каких картотеках они не зафиксированы. Как и сам ствол.
— Где же ствол? — повторил майор.
Я заметил, как внутренне напрягся подполковник Егоров, но его состояние меня сейчас меньше всего интересовало.
— Вызывайте оперативников, — сказал я майору, — Или кого еще нужно? Следователя прокуратуры? Понятых? Кто должен присутствовать при изъятии ствола? «Токагипт-58», из которого был убит историк Комаров, лежит в полиэтиленовом пакете под кустом сирени во дворе Матвея Салахова. Это за пять или шесть домов от особнячка Комаровых.
— Как он туда попал? — спросил капитан.
Я только пожал плечами.
— Это всего один маленький вопрос из тех, на которые вам еще придется ответить. Думаю, сразу после убийства Салахов завернул ствол в пакет и бросил в куст, чтобы не заметили случайные прохожие.
— И не перепрятал надежней, когда шумиха улеглась? — недоверчиво спросил майор.
— Выходит, так, — согласился я. — Люди делают гораздо больше глупостей, чем кажется.
— А ты его, выходит, нашел? — вступил в разговор капитан. — Как? И когда?
— Как только понял, что никакого заезжего киллера в городе не было. С моей стороны было, наверное, не очень этично шарить по чужому палисаднику, когда хозяина нет дома, но у меня не было выбора. Мне нужно было абсолютно точно знать, кто убил Комарова.
— Зачем? — спросил майор.
— Олег Сергеевич, у каждого человека есть свои профессиональные тайны. Это — одна из них. Она имеет сугубо личный характер и не может представлять никакого интереса для следствия.
— Когда ты нашел пакет с пушкой? — гнул свою линию капитан. Хватка у него была, прямо скажем, бульдожья.
— Дней пять назад. Я его даже не разворачивал. Просто засунул поглубже в землю и присыпал палыми листьями.
— Неделю назад в здании телецентра Салахов был убит неизвестным злоумышленником, — бесстрастно проговорил майор.
— Да что вы?! — поразился я. — То-то все соседи удивлялись, что Салахова уже несколько дней не видно! А он, оказывается… Кто же его? Впрочем, извиняюсь. Это ваши профессиональные тайны, и я не собираюсь в них лезть. Мы как бы заключили джентльменское соглашение, правильно? Вы не лезете в мои профессиональные секреты, а я в ваши. И я не из тех людей, которые нарушают такие соглашения. Нет, не из тех.
— А я из тех, — заявил капитан Смирнов. — И меня очень интересует такой вопрос: ты нашел пакет со стволом пять дней назад?
— Правильно, — подтвердил я. — В минувший четверг.
— А Салахов был убит в телецентре через два дня, в субботу. При этом восемь пуль в пол были выпущены из того же ствола, из которого был убит Комаров. Тут можешь не спорить, эксперты у нас не хуже московских. Так что же получается? Салахов убивает Комарова, швыряет ствол в куст сирени, потом делает из него восемь дырок в редакторской телецентра, а потом опять возвращает его на место. Уже мертвый. Так получается?
Я улыбнулся так обаятельно, как не улыбался даже Ольге:
— Олег Сергеевич, Иван Николаевич. Я ведь специально предупредил вас, что предоставляю вам самим делать выводы и отвечать на вопросы, которые по ходу дела возникнут. Моя специальность — охрана особо важных персон. А ваша — уголовный розыск. Давайте заниматься каждый своим делом. Я вам покажу в присутствии всех процессуальных лиц, где лежит пакет с этим стволом. А как и когда он туда попал — это один из вопросов, которые вам придется решать. И думаю, что это не самый сложный вопрос.
— А какой самый сложный? — поинтересовался майор.
— В учебных спецкурсах он стоит на первом месте, — ответил я. — Мотив убийства.
* * *
Еще через час, когда прибыли оперативники зачем-то со служебной собакой, пока пригласили понятых, произвели тщательный обыск в доме и во всех дворовых пристройках, когда с соблюдением всех формальностей извлекли из-под куста сирени «Токагипт-58», майор Кривошеев вдруг заявил мне:
— Где ты был двенадцатого октября во второй половине дня?
— Да вы, никак, подозреваете меня в убийстве Комарова? — вполне искренне удивился я.
— Я задал тебе вполне точный вопрос.
— Я отвечу достаточно точно. Где-то на подъезде к Хабаровску со стороны Владивостока. Я перегонял из Осаки свою новую тачку «ниссан-террано». На железнодорожной, платформе.
— Свидетели есть?
— Было три, остался один. Двое разбились на машине как раз после этой поездки.
— Кто он?
— Вы это узнаете. От моего адвоката. В последний день суда. Но не раньше.
— Я задерживаю вас на тридцать суток по президентскому указу. У нас есть основания полагать, что вы скрываете от следствия известные вам факты об убийстве Комарова и Салахова. Оружие есть?
Я выложил «длинную девятку» и разрешение.
— Ух ты! — сказал капитан.
— Да, — проговорил я. — Это вам не «макарка». — Я вполне добровольно выгрузил в полиэтиленовый пакет все документы и деньги и подставил руки, чтобы капитану не пришлось тратить, силы, надевая на меня браслетки.
— Ну, это лишнее, — поморщился майор.
— Положено, товарищ майор, — отрапортовал капитан.
За всеми этими действиями с чувством недоумения наблюдал Егоров, а я мельком поглядывал на него. Ну и что вы теперь, голубцы, будете делать? Вся ваша хитроумная операция накрылась. И без всяких подвохов с моей стороны. Ну, так скажем — почти без всяких. Но кто о них знает? Кто виноват в провале операции?
Группа прикрытия. А кто возглавлял эту группу? Подполковник Егоров. А мне что?
Отсижусь на нарах месяц, если не меньше, и будьте здоровы. СИЗО — это, конечно, не курорт. Но все же лучше, чем камера смертников. Поэтому я охотно погрузился в зарешеченный милицейский «уаз» и был даже польщен, когда по прибытии меня не сунули в камеру или в обезьянник, а пригласили в кабинет капитана Смирнова и угостили довольно говенным растворимым кофе.
Начать разговор капитану Смирнову было не просто. Что там ни говори, а я сдал им убийцу, на поисках которого они давно уже поставили жирный крест. Отсюда был и кофе, и предложение «Мальборо», которым, думается мне, не угощают всех уголовников подряд.
Наконец он сказал:
— Это не моя инициатива. Понимаешь?
— Понимаю, — кивнул я.
— Но ты и его пойми!
— И его понимаю, — согласился я.
— А вот я тебя не понимаю! — заявил он. — Чему ты радуешься?
— Тому, что попал в руки к интеллигентным и воспитанным людям.
— Ты свою морду давно видел? — спросил он.
— Сегодня утром, когда пытался бриться. Но не вы же мне ее рассадили, правильно? Бывает. Издержки производства. Зато я могу рассчитывать на справедливое и беспристрастное расследование моего дела.
— Между нами — есть дело?
— Нет. Будет завтра.
— Какое?
— Во время митинга застрелят губернатора.
— Кто?
— Я.
— Кто-то из нас опупел, — подумав, констатировал капитан Смирнов. — Только не пойму кто — ты или я? Как ты сможешь завтра убить губернатора, если будешь сидеть у нас в камере?
— Поэтому я и радуюсь, — объяснил я. — Это задержание избавляет меня от крайне неприятной работы.
— А если бы тебя не замели, ты в самом деле стрелял бы в губернатора?
— Нет. Но повесили бы на меня. Как вы думаете, зачем я отдал вам «тэтэшник», из которого убили Комарова?
— Начинаю догадываться. Правда, смутно, — признался капитан.
— Смутно, но правильно. Чтобы на меня не повесили и убийство Комарова.
— Зачем ты мне это рассказываешь?
— Вы спросили — я ответил. Это одно. Второе — чтобы вы были в курсе, когда к вам попадет дело о террористическом нападении начальника охраны коммунистического кандидата на представителя прогрессивных демократических сил. Я понимаю, что сделать вы ничего не сможете. Дело скорее всего сразу заберут в Генпрокуратуру. Но мне будет приятно, что хоть один человек знает правду.
— Знаешь, о чем я сейчас думаю? — неожиданно спросил капитан Смирнов. — Вот о чем. Как бы ты ни учился по арифметике в школе, а сообразить, что ты не мог найти пакет с пушкой через два дня после убийства Салахова в телецентре, как-нибудь уж смог бы.
— Да откуда я знал, что его убили? — горячо запротестовал я.
— Ладно, парень. Прибереги свои штучки для Москвы. У нас о каждом событии становится известно всем не то чтобы в момент свершения, а даже, как мне кажется, на полчаса раньше. Город у нас такой: все знают всех и все знают все. Маленький город, понимаешь?
— Что маленький, понимаю, — согласился я, потому что оспаривать это утверждение было бы просто глупо.
— Так вот я и думаю, что ты специально перепутал даты, чтобы вызвать у майора подозрения. И чтобы он оформил твое задержание.
— Вы это сразу поняли? — с уважением спросил я.
— Нет, только сейчас, — честно ответил капитан Смирнов.
Без стука вошел майор Кривошеее, молча посмотрел на нас. Потом приказал капитану Смирнову, кивнув на меня:
— Этот человек свободен.
— Взять подписку о невыезде? — спросил капитан.
— Я сказал: свободен. Никаких подписок. Никаких ограничений в передвижениях. Машину и все вещи, в том числе и личное оружие, немедленно вернуть. Желаю здравствовать, Пастухов. Мечтаю только об одном: чтобы нам с вами больше ни разу в жизни не встретиться.
Я искренне огорчился:
— Олег Сергеевич, а я-то в глубине души мечтал, что мы будем дружить домами, что вы будете приезжать в гости к нам половить лещей, а мы к вам.
Майор внимательно посмотрел на меня и отчетливо произнес:
— Сука ты, Пастухов! Понял? — И молча вышел.
Капитан пощелкал кнопками селектора, переговорил с какими-то людьми и отключил связь.
— Неслабо, парень, — сказал он. — Очень неслабо. Звонок был из Москвы. А откуда — об этом я могу только догадываться. Дела-то, я гляжу, крутые. Не удалось тебе отсидеться у нас в СИЗО, а?
— Да я не очень на это и рассчитывал, — признался я. — Но ведь всегда хочется о чем-нибудь помечтать.
— То, что ты сказал о завтрашнем покушении на губернатора, правда?
— Да.
— На митинге будет примерно человек пятьдесят наших людей. Чем-нибудь мы можем помочь?
— Боже вас сохрани! — взмолился я. — Только одним: не лезьте никуда. Нам еще других трупов не хватает. Ваша задача — охрана общественного порядка. Вот и охраняйте его.
— Ну, тогда удачи тебе, парень.
— Спасибо, Иван Николаевич. Удача никому никогда не мешает. А завтра она мне будет ой как нужна!
* * *
Возле моего «пассата», стоявшего на улице перед парадным входом в УВД, прохаживался смотритель маяка Столяров в том же сером поношенном плаще и в той же приплюснутой кепке. На этот раз он не стал спрашивать у меня, который час и незаметно совать в карман записки. Он просто прошел рядом, повернувшись спиной к сильному холодному ветру, вдруг потянувшему с Балтики, и негромко сказал:
— Сегодня в двадцать. Там же. Не на «пассате». Отрубите хвосты.
И исчез. Был человек — и нет человека. Это притом, что на улицах и народу-то было — раз, два и обчелся.
V
Перед встречей со Столяровым я провел тщательную рекогносцировку местности. Я и прежде, на двух митингах Хомутова, приглядывался, что тут к чему, но так, на всякий случай — вдруг пригодится. А тут уж мной двигало не праздное любопытство.
Площадь Свободной России, бывшая имени Ленина, расстилалась как раз перед зданием бывшего обкома партии, а ныне губернаторской резиденции.
В скверике перед обкомом когда-то возвышалась бронзовая пятиметровая скульптура вождя всего прогрессивного человечества на обширном гранитном постаменте, цоколь которого украшали фигуры разных трудящихся — или уже освободившихся от цепей проклятого капитализма, или еще только готовящихся эти цепи разорвать и с презрением сбросить. В начале веселых 90-х бронзовую статую вождя с огромным трудом тремя кранами сдернули с пьедестала и увезли куда-то на переплавку.
Подступились с отбойными молотками и к постаменту. Но не тут-то было, бойки тупились в полминуты, а граниту хоть бы что. Привезли взрывников из соседней воинской части. Те долго ходили, считали, мерили, а потом заявили, что взорвать-то все можно, только от взрыва могут пойти трещины по стенам и даже по фундаменту бывшего обкома. Представители президентской администрации (губернаторов тогда еще не было) посовещались и решили, что здание все-таки жалко — добротное, еще послужит. А с постаментом все решилось само собой.
Поскольку фигуры изображенных трудящихся не несли в себе явного коммунистического заряда, то и решили: пусть себе будут. Верхнюю свободную площадку выровняли, обнесли перилами, сделали лесенку, поставили флагштоки, и стал постамент вполне нормальной трибуной. При нужде площадь радиофицировали, так что это место очень скоро стало традиционным для сборищ всей демократической общественности — в отличие от площади Победы, которую облюбовали для себя коммунисты.
Но сейчас я рассматривал трибуну и площадь отнюдь не с идеологических позиций.
Даже различия взглядов коммунистов и капиталистов на распределение прибавочной стоимости меня не волновали. Меня только одно волновало: откуда будут стрелять?
Обычно губернатор проходил из своей резиденции к трибуне по дорожке сквера, обсаженной елочками. Его сопровождали охранники и разные люди из его окружения, которые лезли к нему с разными вопросами — то ли вопросы действительно требовали решения, то ли, скорее всего, эти люди просто хотели засветиться перед начальством, помелькать у него на глазах. Иногда их было больше, иногда меньше.
Но всегда кто-то мелькал, забегая перед губернатором или пристраиваясь рядом. А это означало, что на дорожке, по пути от подъезда к трибуне, доставать Хомутова нельзя — может не получиться с первого раза. А второго не будет. В том-то и фокус всего дела был — в том, что стрелять можно было только один раз. Или в крайнем случае два раза подряд. И после этого очень быстро, мгновенно передавать ствол.
Лестница на трибуну. Нет, тут тоже нельзя. Кто-то может идти рядом, сбоку, директриса будет перекрыта.
Сама трибуна. Сооружение было довольно просторное, на нем могли поместиться человек десять. Но обычно было человек пять — семь: доверенные лица губернатора, этот говорливый представитель НДР по фамилии Павлов — пресс-секретарь и помощники Хомутова, представители других демократических блоков. Поскольку завтрашний митинг был последним аккордом в целой симфонии политических страстей, нельзя было исключать, что на трибуну набьется и побольше народу.
Не разгуляешься.
Я поднялся на черную мокрую трибуну. Откуда-то слева, с моря, тянуло прямо-таки арктически-ледяным ветром. Если завтра такая же погода — слушать губернатора будет некому. Демократы — народ изнеженный, они привыкли сидеть перед телевизорами и почитывать газетки за утренним кофе. Это избирателей Антонюка, кое-кто из которых застал еще войну, погодой не испугаешь.
Сначала я не обратил внимания, почему дует слева. И только потом до меня дошло.
Между левым торцом обкома и примыкавшими домами был довольно большой проран, в него-то и прорывалось дыхание столь любимой подполковником Егоровым Балтики.
Ладно, не отвлекаемся. Трибуна. С фронта, когда Хомутов будет стоять у микрофона и говорить, стрелять нельзя. Во-первых, здесь будет наибольшее скопление слушателей. А во-вторых, перед самой трибуной, именно спереди, будет работать съемочная группа местного телевидения: оператор, осветители, режиссер — тот же Эдуард Чемоданов скорее всего. Оптимальная дистанция для выстрела даже из такого инструмента, как «длинная девятка», — пятнадцать метров. Даже десять, пожалуй, — стрелять же придется не из зафиксированного положения, а навскидку. Значит, фронт отпадает, стрелять будут сбоку. С какого?
Идеальным решением для меня было напялить на Боцмана и Муху бронежилеты и поставить на трибуне рядом с Хомутовым. Но губернатор и на прежних митингах был категорически против присутствия на трибуне охранников — и прежних, и нынешних.
Про то, чтобы он надел бронежилет, и разговора заводить не стоило — бесполезно.
Он считал это унизительным. И вспоминал, как во время речи Ельцина после первого путча его прикрывали бронированными щитками. Ему и тогда это не понравилось. Он считал, что Президент России должен быть смелым человеком. И очень я сомневался, что мне за оставшееся до митинга время удастся убедить его, что «смелость» и «глупость» — это довольно разные вещи. А предупредить я его не мог. По многим разным причинам. В частности, и потому, что мне запретил это делать смотритель маяка Столяров в самом конце нашего разговора. Я не знал, чем он руководствовался, но я верил: он знает, что делает.
Значит, сбоку. Слева или справа?
И тут до меня начало кое-что доходить. Слева от трибуны, если стоять спиной к губернаторской резиденции, газон был свежий, почти не вытоптанный, справа земля убита до твердости асфальта. Я припомнил несколько удивившую меня особенность прежних митингов Хомутова. Народ толпился не непосредственно перед трибуной, а чуть правее от нее. И тому, кто выступал, приходилось даже обращаться не прямо перед собой, а чуть вбок. Тогда я не понял, в чем дело, просто зафиксировал это в мозгу как некую данность. Но теперь это меня вдруг серьезно заинтересовало.
— Эй, парень, готовишься к выступлению? — окликнул меня снизу какой-то малый в милицейской шинели.
— Вроде того, — ответил я. — Осваиваюсь. И оттачиваю основные тезисы.
— Ты все ж таки слезай и чеши домой, — посоветовал он. — Не положено.
Я не очень понял, почему гражданину свободной демократической России не положено стоять в вечерний час на специально для этой цели созданной трибуне, но послушно спустился и остановился рядом со стражем закона.
— Скажите, сержант, — спросил я, — почему с правой стороны трибуны земля вытоптана, а с левой почти нетронутая, даже кустики сохранились и листья?
— Не здешний, что ли? — спросил он.
— Да. Приезжий. Из Москвы.
— Оно и видно. Ветер, дура. Не понимаешь? Из той дырки вечно тянет. Справа хоть трибуна немного прикрывает, а там такой сквозняк, что пяти минут не выстоишь.
— Значит, народ собирается в основном здесь, справа от трибуны? — уточнил я.
— Понятное дело. Кому же охота попусту кости морозить? Это нынче у нас хорошая осень. А иногда так Балтика дыхнет — конец света. Да и нынешнее ведро, видно, кончилось, — констатировал он, поворачиваясь спиной к ветру и растирая руки в черных шерстяных перчатках. — Так ты иди, иди, — повторил он. — Не положено здесь попусту шляться. Где на квартиру-то стал?
— В гостинице «Висла».
— Ишь ты! Бизнесмен! А с виду младше меня. Не подскажешь, каким бы мне бизнесом заняться? А то жена всю плешь пропилила: зарплата маленькая, зарплата маленькая. А с чего ей быть большой? Взяток не беру. Потому как не дают, не ГАИ.
— Подскажу, — согласился я. — Организуй частное охранное агентство.
— Ну! — протянул он разочарованно. — У нас таких агентств — на каждом углу.
— Всем вашим охранникам я бы и метлы не доверил. Ты в какой милицейской школе учился?
— Ну, у нас, в здешней.
— Был у вас там человек, который чему-то тебя по-настоящему научил?
— Ну? Он и сейчас есть. Один капитан. На пенсию выпирают.
— Так вот пойди к нему и изложи свою мысль. Наберите человек шесть, и пусть он сделает из вас настоящих волкодавов. Я сам — начальник охраны. На, посмотри мое удостоверение, чтобы не думал, что я туфту гоню. Сейчас я временно работаю на Антонюка. Знаешь, сколько мои ребята зарабатывают? По пять тысяч баксов за две недели.
— Иди ты! — изумился сержант. — Кто же такие бабки может платить?!
— У вас мало богатых людей? У меня такое впечатление, что тут их больше, чем в Москве. Они и будут платить. Только за настоящее дело, а не за жевание жвачки. Сможет твой капитан это сделать?
— Он-то сможет. Только как я с ним расплачусь?
— А никак. Возьмешь его в долю, и все дела.
— А как я смогу доказать, что мои люди чего-то стоят?
— Сержант, тебе надо все разжевать и в рот положить? Когда будете готовы на все сто, устрой городские соревнования охранников. На стадионе. И больше доказывать ничего не надо. Если они действительно будут чего-то стоить. На следующий день от заказов у вас отбоя не будет.
Он глубоко задумался. Настолько глубоко, что, казалось, забыл и о ветре, и обо мне. Я напомнил о себе деликатным покашливанием.
— Сержант, я еще минут десять погуляю здесь, а? Когда еще сюда судьба занесет.
— Ну, погуляй, — разрешил он и, подумав, заключил:
— Озадачил ты меня, парень. Крепко озадачил. У нас в деревне говаривали: в Москве петухи яйца несут. И в самом деле несут?
— Несут, — ответил я. — Но очень, очень редко.
Если бы мне на ум пришла какая-нибудь более выигрышная идея, любая, я без секунды сомнений поделился бы ею с этим сержантом. Потому что он невольно помог мне ответить на вопрос: откуда будут стрелять. Вот отсюда, справа, и будут. Из гущи толпы. И я даже уже знал, в какой момент. Как только губернатор закончит свое выступление у микрофона, он отойдет вот к этим перильцам трибуны и закурит — как всегда делал и на прошлых митингах. Не на сквозящем же ветру ему курить? И стоять он будет у самых перилец, даже, возможно, облокотившись на них. И между ним и толпой не будет никого. И как раз те самые десять метров. Пиф-паф, ой-ой-ой, умирает зайчик мой.
Я еще немного походил по площади, прикидывая, как мне получше расставить ребят, и поймал частника.
До двадцати — времени, назначенного Столяровым, — оставалось минут сорок.
Тумана, к счастью, не было, ветер машине не помеха, так что я успел сменить четыре тачки, пока не убедился, что хвоста за мной нет. Без пяти пять я отпустил очередного «левака» у здания пароходства и в темноте прошел к началу мола.
«Жигуленок» Столярова без огней стоял у самой кромки воды. Понятия не имею, как он узнал меня в почти кромешной темноте, но, едва я приблизился к машине, пассажирская дверца открылась и смотритель маяка пригласил:
— Влезайте. Сегодня слишком холодно, чтобы разговаривать на улице, а в дом идти не хочется. Так что поговорим здесь.
Я подробно рассказал о результатах моей рекогносцировки. Он внимательно выслушал, потом заметил:
— Полностью с вами согласен. Хотя мне не повезло на такого словоохотливого сержанта. Но выводы у нас одинаковые, а это самое важное. В вас будут стрелять не раньше, чем будет убит губернатор, — помолчав, продолжал он, нещадно дымя «Мальборо». — Практически одновременно. Но не раньше. Иначе акция теряет смысл и всем будет непонятно, кто же убил губернатора, если террорист был уже мертв. Это для нас важно. Кто, по-вашему, будет стрелять в губернатора?
— Думаю, Миня. Самый молодой и маленький из них. Молодой, маленький, неприметный. Там есть такой Гена Козлов, так любое его движение сразу фиксируется окружающими. Он крупный. А Миня — неприметный.
— Согласен. Я специально наблюдал за этим Миней. А кто будет стрелять в вас?
— Думаю, сам Егоров.
— Почему вы так решили?
— Это всего лишь предположение, — счел нужным оговориться я. — Для всех я — начальник охраны Антонюка. И ребятам нужно объяснять, почему меня нужно застрелить. Ну, все можно объяснить. Даже приказать. Но это не так-то просто. Чем больше людей знают о деталях операции, тем больше риск. Зачем его увеличивать? Есть и более важный момент. Егоров руководит операцией. Если все будет сделано без него, без его непосредственного участия, это как? С Комаровым он прокололся. С Салаховым просто обоср… Чем-то он должен доказать Профессору свою незаменимость и ценность? Думаю, что именно поэтому он и будет стрелять в меня сам. Тем более что он — как ему кажется — достаточно хорошо меня знает. Мы проводили с ним учебный бой на полигоне в моем бывшем училище.
— Он выиграл?
— Да. Но только потому, что я дал ему выиграть. Мне важно было не выиграть, а прокачать его.
— И что вы о нем можете сказать?
— Он не в форме. Курит, слишком много пьет. Миня — да, проблема. Егоров — нет.
— А остальные?
— Подстраховка. Перебросить ствол, вложить его мне в руку, создать панику в толпе, чтобы отвлечь внимание от происходящего. Я думаю, что они даже не посвящены в суть операции. Знают все только двое — Миня и сам Егоров. Да и Миня — лишь в рамках его задачи.
— И Профессор, который непосредственно будет руководить операцией, — подсказал Столяров.
— Он вечерним спецрейсом улетел в Москву.
— Откуда вы это узнали?
— Мой человек следил за ним.
— Артист?
— Да.
— Похоже, я его перехвалил. Впрочем, с Профессором очень трудно тягаться. Когда-то он был самым лучшим оперативником КГБ. Годы, конечно, дают знать свое, но опыт — это опыт. Профессор не улетел. Он вошел на трап, самолет вырулил на взлетную полосу. После этого Профессор из грузового лючка пересел в машину аэродромного сопровождения, а самолет улетел без него. А вам Артист с чистой совестью доложил, что объект наблюдения отбыл в Москву. Вы хотите спросить, откуда я это знаю? Скажу. Я сам за ним следил. Я не верил, что Профессор улетит. Не мог он оставить на Егорова операцию такой важности. Да еще тогда, когда посыпалась куча неожиданностей. Причиной многих неожиданностей были вы. Но главное, почему он не улетел, было то, что здесь я.
— И он это знал. Вы с ним встречались на маяке. Артист зафиксировал эту встречу.
— А я и не делал из нее секрета. Теперь о деле. У наших противников будут портативные рации. У нас их не будет. Не потому, что мне жалко на это денег. Нет, каждый должен знать свои действия назубок. Рация отвлекает, все время подмывает получить указание или подтверждение руководства. А это — секунды, за которые может решиться все дело. У нас нет этих секунд. У них — тоже, но они об этом не знают. Не мне вам говорить, что успех операции определяется не в ее ходе, а в ее подготовке. Завтрашней операцией буду руководить я. И мы просто позорно провалим все дело, если хотя бы одно мое указание не будет выполнено.
— Я вас внимательно слушаю.
— Указаний немного. Собственно, всего два. Вы и ваши ребята из охраны Хомутова блокируют по мере возможности людей Егорова. Самого Егорова — Артист. Не спорьте. Он достаточно опытен и главное — темный. А вас всех все знают. Один ваш фингал чего стоит!
— Кто блокирует Миню? — задал я самый важный для меня вопрос.
— Никто.
— Но…
— Я повторяю и прошу отнестись к этому предельно серьезно. Миню не блокирует никто, у него будет полная свобода передвижения. Максимально полная, — повторил Столяров.
— Но он же пристрелит губернатора! Он затешется в первый ряд митингующих и выстрелит. Как раз тогда, когда Хомутов отойдет к перильцам покурить. Между ними будет не больше десяти метров. И ни единой души между ними. Наш единственный вариант — блокировать Миню и не дать ему выстрелить. Иначе Хомутову конец. Вы этого хотите?
— Если бы я этого хотел, меня давно бы уже здесь не было. Нет, Сережа, Хомутова не пристрелят. Это уже моя забота.
— Извините, Александр Иванович, вам пятьдесят с чем-то лет…
— Пятьдесят четыре.
— И вы рассчитываете противостоять двадцатипятилетнему чистильщику с подготовкой боевого пловца?
— Важен не возраст, Сережа. Важен опыт. И еще кое-что.
— Что?
— Не очень уверен, что вы поймете меня.
Он пожал мне руку:
— До завтра. Ребят проинструктируйте самым тщательным образом. Повторяю: никакой самодеятельности. Ни малейшей. Я тоже буду на площади. Но мы, скорее всего, не увидимся. Когда все закончится, садитесь в свой «пассат» и приезжайте к маяку. Фиксировать ваши передвижения уже будет некому и незачем.
— Вы так уверены, что нам все удастся? — спросил я.
Он усмехнулся:
— Знаете, Сережа, что нужно, чтобы достичь успеха?
— Ну, много чего…
— Да, много чего. Даже очень много. Но самое главное — верить в успех.
Он кивнул мне и скрылся в темноте мола. А я побрел к освещенному зданию пароходства мимо стоявших на рейде и у причалов судов, обозначенных клотиковыми огнями и чуть выгнутыми световыми линиями иллюминаторов. И только одно понимал: что мне этот человек прикажет, то я и сделаю. Без мига промедления. Сначала сделаю, а потом уж, если будет возможность, попрошу объяснений.
Потому что я ему верил.
Почему?
А чем, собственно, вера отличается от доверия? Тем, что в вере вопроса «почему» нет.
VI
Рано утром я проснулся от шквальных ударов дождя по просторным стеклам моего номера. Светало, еще не были погашены уличные фонари. Деревья и кусты внизу пригибались едва ли не к самой земле от порывов ветра. Мой номер на двенадцатом этаже «Вислы» напоминал капитанскую рубку судна, попавшего в восьмибалльный шторм.
Первым моим чувством было облегчение. При такой погоде не будет никакого митинга и, следовательно, ничего не будет. Но следующая мысль была неприятнее. Они все равно что-то предпримут. А до дня выборов оставалось слишком мало времени. И мы не могли рассчитывать, что сумеем проникнуть в их планы. Сейчас ситуация была острокритическая, но в общем понятная. А какая сложится в другом варианте?
Но мои опасения оказались напрасными. К полудню шквальные порывы шторма стихли, прекратился дождь, потом с Балтики потянуло довольно сильным, но ровным и даже не слишком холодным ветром. А к двум часам дня, когда начался митинг на площади Свободной России, вообще посветлело, словно бы вернулось ведро, об окончании которого так сожалел вчерашний милицейский сержант.
Должен признаться, что я недооценил гражданского энтузиазма демократически настроенных жителей города К. Людей было, конечно, не столько, как на митингах Антонюка, и вовсе уж не пятнадцать тысяч, как 7 ноября на площади Победы. Но человек триста-четыреста набралось, вся площадка вокруг трибуны была заполнена.
И, как я вчера и вычислил, все жались к правой части трибуны, не желая подставляться ветру, тянувшему из прорана.
Появление губернатора Хомутова в окружении целой свиты приближенных встретили аплодисментами. По команде Эдуарда Чемоданова, руководившего, как я и предполагал, съемками, оператор снял проход губернатора по аллейке от подъезда бывшего обкома к трибуне, потом сделал несколько планов толпы, приветствующей своего избранника или кумира, не знаю уж, как лучше сказать. В кадр случайно попал и я, пришлось поулыбаться и поаплодировать, хотя мне было не до улыбок и тем более не до аплодисментов.
Все мои ребята были еще вчера поздним вечером соответствующим образом проинструктированы. С Мухой и Боцманом было вообще просто, я позвонил в пансионат «Европа», мы встретились и немного покатались по городу на их «хонде», которую я для них купил, проверив, естественно, на предмет «жучков» и прочих насекомых. Встретиться с Артистом было, понятное дело, сложнее. Но мы все же пересеклись в пригородной электричке и сумели спокойно поговорить.
Вид Артиста, когда он появился на митинге, мне, честно сказать, не очень понравился. Я и сам со своим фингалом, прикрытым черной вязаной шапочкой и темными очками, и близко не напоминал Бельмондо, как и любого другого киногероя.
Но Артист… Хорошо поддатенький молодой мужичонка, одетый прилично, хоть и далеко не в «фирму», улыбчивый, благожелательный, цеплючий, как репейник. Когда я говорю «поддатенький», я вовсе не имею в виду «пьяный». Тех, кто под эту категорию попадал, отсеивали люди майора Кривошеева еще на подходах к площади.
Нет, Артист был совсем не пьяный. Ну, принял на грудь граммов несколько, торжественный день, почему нет? Поговорить хочется, пообщаться. Вот он и общался. Сначала прилип к оператору и попросил его снять на память для всемирной истории. Даже прокричал довольно натурально: «Да здравствует демократическая Россия!» Потом прилип к Эдуарду Чемоданову и объяснился ему в любви к демократии. Потом каким-то образом оказался возле меня и Егорова, угостился у Егорова огоньком (хотя с Чечни не курил) и начал объяснять, почему все должны голосовать за демократов, при этом объяснения были частью из расхожих газет и телепередач, а частью плодом собственного воображения Артиста. Именно эта часть меня тревожила больше всего. Там были такие завихрения мысли, что любой нормальный человек с ходу бы насторожился. Но Егоров сразу принял Артиста именно за того человека, за которого тот себя выдавал, и почти не слушал его текстов, отделываясь ничего не значащими междометиями.
Я все время с начала митинга находился рядом с Егоровым по его приказу. Сначала я выразил резкий протест и заявил, что не нуждаюсь в опеке. Но он показал мне маленькую коробочку рации, величиной в полторы сигаретные пачки, и объяснил, что могут поступить новые указания от руководителя операции. Он был, как всегда, собран, точен в движениях, в жизни не подумал бы, что вчера он выпил почти полную бутылку виски «Джонни Уокер» без закуски.
Ну, у нас в Затопино многие могли бы это сделать. Но пить перед ответственной операцией, в которой тебе отводится одна из главных ролей! А что она отводится именно Егорову, у меня не было и малейших сомнений. Гена Козлов и трое других ребят работали в толпе, не проявляя никакой активности до тех пор, пока она от них не понадобится, а я Егорову нужен был все время рядом, чтобы не искать меня потом в толпе. Ему же нужно было не только пристрелить меня, но и передать переброшенный ему ребятами ствол. И не просто передать, а вложить в мою хладеющую длань. 0,7 литра виски «Джонни Уокер» не могут не сказаться на человеке, и в душе я очень рассчитывал на то, что он потеряет в решающий момент те десятые доли секунды, которые решат исход дела. А я был уверен, что решать этот исход будут именно десятые доли секунды.
Миня, который без нашего блока был свободен, как горный орел, сделает свое дело (если какими-то своими способами ему не помешает смотритель маяка), остальные чистильщики тоже сделают свое дело, а вот насчет Саши Егорова я чуть-чуть сомневался. И это была единственная надежда. Ну, и на Артиста, естественно.
Митинг шел своим чередом. Выступали какие-то валуи, несли обычную в этих случаях чушь, лозунгами провоцируя то на «ура», то на аплодисменты. Наконец слово было предоставлено губернатору. Окончание его речи означало для всех моих ребят сигнал: «Внимание! Готовность — ноль». И, вероятно, не только для моих. По мере продвижения неприхотливой и довольно стандартной речи губернатора, основная мысль которого сводилась к тому, что хватит болтать о демократии, а нужно претворять ее в конкретные дела, ребята Егорова подтягивались поближе, а Миня, похожий в своей курточке на подростка, уже был в первом ряду. Я перехватил недоумевающий взгляд Боцмана и еле заметно качнул головой. Есть приказ, и никаких отступлений от него. Ни малейших.
Хоть этому мне не приходилось ребят учить. Слава Богу, научились в Чечне.
Правда, чего это стоило — лучше не вспоминать.
К концу речи Хомутова, когда вот-вот должны были прозвучать заключительные лозунги, вдруг оживился Артист.
— Ты русский? — спросил он Егорова с тем воодушевлением, с каким поддатый человек готовится начать длинный и содержательный разговор.
— Ну, русский, русский, — попытался отмахнуться Егоров.
— И я русский, — заявил Сенька, хотя во всех анкетах писал себя евреем и по отцу, и по матери.
У меня в Чечне в штабе даже возникли из-за этого небольшие проблемы, когда я хотел забрать его в свою спецгруппу. Мне даже пришлось привести на полигон полковника Дементьева, который командовал у нас спецназом, и попросить Семена немного пострелять из двух «АКМов» на бегу по пересеченной местности. И если сейчас Артист утверждал, что он русский, для этого у него были, надо полагать, основания.
— Да, русский, — повторил Сенька. — Так вот и скажи мне, как русский русскому: можем мы мириться с притеснением наших братьев в Прибалтике?
Речь губернатора уже шла к концу. И Егорову было не до общеполитических дискуссий.
— Не можем, — сквозь зубы сказал он и незаметно врезал Артисту по печени. Ну, этот прием со школьником прошел бы, но не с Артистом. Он усилием мышц блокировал удар и завопил:
— Так почему же об этом никто не говорит?! Никто ни слова не сказал?! Выступи и скажи, мужик! Тебе миллионы спасибо скажут! Я бы сам сказал, но язык у меня не с той стороны подвешен! Давай, скажи!
И начал потихоньку оттирать Егорова не столько к трибунам, сколько от меня.
— Отцепись, не мешай слушать! — попробовал огрызнуться Егоров.
— Да чего там слушать, мы это уже миллион раз слушали, — завопил Артист. — Ты про дело скажи, про дело!
А сам все оттирал его к трибуне, подальше от меня.
И тут терпение Егорова лопнуло. Он врезал Артисту по почкам так, что нормальный человек валялся бы, корчась от боли, минут двадцать. Артист и такой удар умел блокировать, но это выглядело бы подозрительным, поэтому Артист схватился за бок и спросил:
— Драться хочешь? Я к нему с открытой душой, а он… Ну, сука! Я тебе как русский человек русскому человеку!
И заехал Егорову в ухо со всего размаха. Это притом, что Артист умел убить человека всего одним движением пальца.
К дерущимся кинулись дежурившие на площади милиционеры. Но Егоров остановил их:
— Все в порядке, ребята. Маленькие идеологические разногласия. Мы их уже уладили. — И обратился к Артисту за подтверждением:
— Точно?
А поскольку тому никак не улыбалось покинуть площадь в самый решающий момент, он радостно подтвердил:
— Ребята, все о'кей. Это немцы на симпозиумах спорят. А мы, русские, привыкли решать проблемы по-простому, по-нашенски. Извини, друг, немного погорячился. Со всяким бывает, верно? Очень уж тема для меня больная. Как подумаю — спать не могу. Не веришь? Жену спроси. Пойдем, сейчас и спросишь, они на том конце площади в кафе-мороженое! Пошли-пошли, заодно и познакомишься! И врежем по соточке. Одному мне она не даст, а с другом — как можно не разрешить?
— В другой раз, — попытался отказаться Егоров, но тут Артист напер с таким добродушием и доброжелательством, что я даже слегка посочувствовал Егорову: отвяжись от такого. Егоров, конечно, не просек ситуации: если после двух таких ударов его противник все еще стоит на ногах и даже что-то болтает, уже одно это может навести на серьезные размышления. Егорова не навело, из чего я с чувством глубокого и полного удовлетворения заключил, что его мысли заняты совсем другим.
И даже знал чем.
Я подал незаметный сигнал Артисту, чтобы он оставил Егорова в покое — все же не Смоктуновский, может и переиграть. А если Егоров хоть что-нибудь заподозрит — кранты. Артист переключил внимание на остальных слушателей, какой-то половиной мозга не выпуская из зоны внимания меня и Егорова.
— Да здравствует свобода!
— Да здравствует демократическая Россия!
Это были последние слова в выступлении губернатора.
«Готовность — ноль».
Единственное, что меня сдерживало, — жесткий приказ Столярова. Я видел, как отошел к перильцам и закурил губернатор. Я видел, как на мгновение отвернулся Миня, стоявший в первом ряду — как раз метрах в восьми против того места, где курил Хомутов. Я прекрасно представлял, что он в это время под своей курточкой делает — взводит курок «беретты». И в то самое мгновение, когда Миня вновь повернулся к трибуне и я готов был увидеть в его руках «длинную девятку» или хотя бы «макарку», какой-то человек в сером плаще и в приплюснутой кепке каким-то неуловимым движением оказался на постаменте рядом с губернатором, при этом фигура его полностью прикрывала губернатора. Я даже как-то сразу не врубился, что это смотритель маяка Столяров, я лишь отметил растерянность, мелькнувшую на лице Мини, который не успел еще извлечь свой ствол на свет Божий.
Каким-то боковым зрением я отметил, как грамотно вытянулись от Мини к Егорову его ребята, готовые мгновенно передать ему горячий ствол, но так и оставшиеся в недоуменном ожидании.
А Столяров между тем стоял на внешнем выступе постамента, облокотившись о балюстраду, в позе человека, который благодушно осматривает окрестности. Он даже закурил и перемолвился двумя словами с губернатором. Из их взаимного обращения друг к другу явствовало, что они незнакомы и разговор этот случайный и ничего не означающий.
Миня так и не извлек ствол из-под куртки. Он быстро что-то сказал в рацию, Егоров коротко ответил. Я не услышал слов, но по интонации понял, что это было что-то вроде команды: «Жди». Потом Егоров отошел в сторону от толпы и довольно долго разговаривал по рации, пряча ее под курткой от посторонних взоров. Не знаю, чем закончились его переговоры, но через некоторое время Миня, Гена Козлов и другие «пловцы» как-то незаметно испарились с площади, где уже догорал костер политического пожарища.
Столяров сошел с трибуны и замешался в толпе, как только Миня был отозван со своего боевого поста командой по рации — и ничуть не раньше. Я ничего не спрашивал, но Егоров сам сказал, закончив переговоры: «Операция отменяется». При этом вид у него был такой, что мне захотелось выложить перед ним все запасы виски, джина и прочей алкогольной продукции, которой был набит мой бар. Я бы ему и предложил, но опасался, что под горячую руку он пошлет меня куда подальше. А без дела как-то не хотелось туда ходить. Поэтому я деликатно смолчал.
«Операция отменяется». Это было главное. А все остальное не имело значения.
«Отменяется». Твою мать. А это значит, что мы выиграли.
Выиграли, твою мать! У вас, сук, выиграли! Несмотря на ваших боевых пловцов и космические антенны. Несмотря на то, что за вашими плечами стояло подразвалившееся, но еще мощное государство под названием «Россия». Мы выиграли этот бой для России. Для нашей России. Вряд ли когда-нибудь нам это припомнят, а тем более отметят в наградных листах, но мы это сделали. Сделали, твою мать. И тут ты хоть лопни.
Губернатор в сопровождении свиты вернулся в резиденцию. По моей команде Боцман с Мухой заняли около него свои места. Потом я незаметно кивнул Артисту — в знак того, что все кончилось. Но он еще некоторое время развлекал публику страстными публицистическими речами о бедственном положении русских в Прибалтике. Впрочем, по мере убывания числа слушателей страстность Семена угасала и он, наконец, махнув рукой, покинул площадь.
— Приказания? — обратился я к Егорову.
Он посмотрел на меня, как на клопа, и рявкнул:
— Пошел ты…
И я пошел. Не совсем туда, куда он меня послал. У меня был другой адрес.
На краю площади я разыскал свой «пассат» и двинулся к маяку.
VII
Столяров сидел на краю каменной скамьи возле самого мола, о заплесневелые камни которого билась прозрачная балтийская вода. Рядом с ним на скамье стояла наполовину опорожненная бутылка «Драй-джина». Тут же валялась пачка «Мальборо».
У причала маяка стояла белоснежная крейсерская яхта под норвежским флагом, матросы таскали по трапу коробки с компьютерами и какие-то шмотки.
— Отбываю, — сообщил Столяров.
— На яхте? — поразился я. — А как же ваша водофобия?
— На яхте безопасней, чем самолетом. Что до водофобии… Ну, поблюю. Я уже приказал ведро приготовить. Даже два. — Он кивнул:
— Садись… Всю жизнь терпеть не мог джина, но вот привык. Все лучше, чем виски или бренди. Про водку и не говорю, ее мой организм просто не переносит… Не предлагаю выпить, потому что знаю: не пьешь. Не пьешь, не куришь. Зачем тогда жить?
Я промолчал.
— Жена есть? — продолжал Столяров, хорошо приложившись к бутылке и закурив.
— Есть.
— Дети?
— Дочь.
— Любишь их?
— Люблю.
— Вот это правильно. Люби их — больше работы, больше родины. Я мало своих любил. Да, мало. Я любил работу. Я любил родину. А все это — пустые слова, если они не наполнены внутренним содержанием. А содержание — это твоя семья. И нет больше ничего. К сожалению, я понял это слишком поздно. Не повтори мою ошибку, парень.
— Постараюсь, — пообещал я.
— Постарайся, постарайся, — повторил Столяров и снова крепко приложился к бутылке. — Ты уже знаешь, что операцией руководил лично Профессор?
— Откуда я мог знать?
— Плохо вас учат. Просто ни к черту. Его НП был в доме напротив, на восьмом этаже.
— Как я мог это увидеть? По отблеску стекол стереотрубы? Так она была наверняка защищена блендами.
— А просчитать, откуда наиболее удобно руководить операцией?
— Я не думал, что сам Профессор будет руководить операцией.
— Только это тебя и оправдывает, — заметил Столяров. — Хотя мог бы и знать. Я же сказал тебе, что Профессор не улетел из города. Ладно, все в порядке. Мы сделали это дело. У тебя есть вопросы?
— Только один. А если бы Миня вас подстрелил?
— Этого не могло быть. Я накануне предупредил Профессора. Он внял. Да и как было не внять!
— О чем? — спросил я.
— О некоторых последствиях любых несчастных случаев со мной.
— Поэтому вы приказали не блокировать Миню?
— В том числе.
Из мощного цоколя маяка вышел худосочный молодой человек, сделал знак Столярову отойти в сторону, но тот лишь рукой махнул:
— Говори, тут все свои. Что у тебя?
— На связи Франкфурт. Заубер. С ним два ваших компаньона. Спрашивают, что делать с пакетом акций местного порта. До них дошли какие-то слухи, что на выборах победит Антонюк.
— Выбрасывайте их на рынок. По любой цене. Немедленно, пока не стали известны результаты выборов. И сразу покупайте акции таллинского порта. Они сейчас пойдут в гору.
Молодой человек ушел.
— Значит, порт и Россия не получат иностранных инвестиций? — уточнил я.
— Значит, не получат, — подтвердил Столяров.
— Выходит, мы работали против интересов России?
— А чем мы, по-твоему, занимались? — спросил Столяров.
— Защищали невинных людей от несправедливости.
— Нет, дружок. Мы защищали российскую демократию. Не больше, но и не меньше.
— Завтра на выборах победит коммунистический кандидат Антонюк, — напомнил я.
— Значит, четыре года жители города К. будут жить с губернатором-коммунистом. А вдруг это им понравится? Почему ты берешь на себя право решать за других людей? Они выберут коммуниста, им нравится коммунист, вот и пусть с ним живут. Тебе он не нравится? Допускаю. Но ты в меньшинстве. Поэтому сиди и помалкивай.
Столяров приложился к бутылке джина, потом как-то особенно, с удовольствием закурил и заключил:
— Это и есть демократия.
* * *
Домой я вернулся дня через два. Утром 17 ноября продемонстрировал подполковнику Егорову живого, здорового и невредимого Антонюка, который находился в эйфории от выборов, выигранных с преимуществом почти в пятнадцать процентов, сдал «длинную девятку» и разрешение, при этом потребовал расписку в получении, сдал накопившиеся счета, написал реквизиты своего банка, сдал доверенность и техпаспорт на «пассат», продемонстрировав, что машина находится не в худшем состоянии, чем когда я ее получил, после этого попросил портье вызвать такси и уехал в аэропорт.
Встречала меня Ольга на «ниссан-террано». Вообще-то я ей эту тачку не даю, хоть у нее и есть права, но тут решил воспользоваться случаем. Устроив маленький скандал по поводу грязных ковриков (а по нашей-то грязи как их будешь содержать чистыми), я тщательно вытряс все ковры, а вместе с грязью и ту таблетку, которую мне вставили в военном госпитале под Москвой. Не скажу, что она очень меня беспокоила, но иметь все время под ногами соглядатая или, точней, прослушку, не очень приятно. Даже когда разговоры вполне невинные, а именно такие у нас и были всю дорогу до дому.
Недели через две у нас в Затопино появился полковник Голубков — большой любитель подледного лова. Между делом он рассказал, что Профессора выпихнули на пенсию, а кавторанг Егоров тянет флотскую лямку где-то на Баренцевом море. Куда делись их ребята во главе с Геной Козловым — Бог весть.
Судьба Профессора и Егорова меня меньше всего волновала, а вот ребят было жалко.
Я вообще неравнодушен к классным специалистам, а они были суперкласса. Уж кто-кто, а я в этом как-нибудь разбираюсь.
На второй день полковник снова пошел сверлить лунки на Чесне. А я оставил его одного и отправился в нашу церквушку, в Спас-Заулок. Но почему-то она была закрыта, никто на мой стук не отозвался. И мне ничего не оставалось, как пройти к нашему деревенскому кладбищу, где лежал мой друг Тимофей Варпаховский — Каскадер и Коля Ухов — Трубач. На надгробьях оставались маленькие огарочки свечей. Их я и зажег. И сидел над этими робкими огоньками, защищая их от ветра.
А чем мы вообще в жизни занимаемся?
Защищаем слабый огонек жизни от ветра.
И больше ничем.
И нет более достойного занятия, чем это.
Нет.
Нет.
Нет!
Примечания
1
См. романы А.Таманцева «Их было семеро» и «Гонки на выживание».
(обратно)2
См. роман А.Таманцева «Успеть, чтобы выжить».
(обратно)
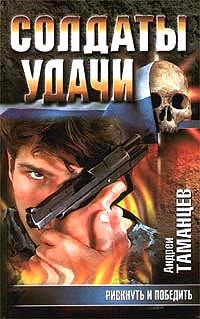




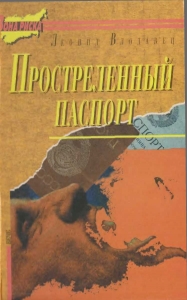
Комментарии к книге «Рискнуть и победить », Виктор Владимирович Левашов
Всего 0 комментариев