Стивен Хантер 47-й самурай
Посвящается самураям японского кинематографа, и в первую очередь великому Синобу Хасимото, — с благодарностью, уважением и восхищением.
Макдуф. Сюда, проклятый пес!
У. Шекспир. Макбет (перевод Б. Пастернака)Глава 1 ОСТРОВ
20-й год эпохи Сёва, второй месяц, 21-й день
21 февраля 1945 года
В доте наступила тишина. С потолка осыпáлась пыль. Устойчивое зловоние горелой серы царило повсюду.
— Господин капитан!
Это был один из рядовых. Такахаси, Сугита, Кандзаки, Асано, Тогава, Фукуяма, Абе, — кто запомнит их имена? Имен так много…
— Господин капитан, обстрел прекратился. Означает ли это, что американцы пойдут в атаку?
— Да, — подтвердил он. — Это означает, что американцы пойдут в атаку.
Офицера звали Хидеки Яно. Он был капитаном, командовал вторым батальоном 145-го пехотного полка, снова вошедшего в состав 109-й дивизии генерала Курибаяси.
В низком доте пахло серой и испражнениями, потому что все солдаты болели дизентерией из-за грязной воды. Дот был совершенно обычным укреплением Императорской армии: низкий бетонный бункер, усиленный стволами дубов, которые спилили несколько месяцев назад в единственной на весь остров дубовой роще. От нее ничего не осталось. Сверху все было заложено мешками с песком. В доте имелись три амбразуры, и за каждой на треноге стоял пулемет Модель 96, возле которого дежурили пулеметчик и двое заряжающих. Каждый пулемет простреливал несколько сотен ярдов безликого пространства черных песчаных дюн, покрытых скудной растительностью. Дот был разделен на три отсека, подобно раковине наутилуса, так что, если один или даже два из них будут уничтожены, оставшийся пулемет сможет вести огонь до самого конца. Повсюду были развешаны копии последнего приказа, присланного из штаба генерала Курибаяси, — документа под названием «Боевая клятва мужества», в котором суммировались обязанности каждого солдата.
«Прежде всего остального мы посвятим себя защите этого острова. Мы будем хватать гранаты, бросаться на вражеские танки и подбивать их. Мы будем проникать в самую гущу врагов и уничтожать их. Каждым залпом мы будем убивать врага, не делая промаха. Пусть каждый солдат считает своим долгом перед смертью убить десять врагов».— Господин капитан, мне страшно, — сказал рядовой.
— Мне тоже, — ответил Яно.
Маленькое царство капитана не ограничивалось одним дотом. Справа и слева его обрамляли шесть окопов, в каждом из которых размещалось по пулемету «намбу», пулеметчику, заряжающему и по двое-трое стрелков с винтовками. А еще дальше простирались стрелковые ячейки. В них лежали обреченные с винтовками. У них не было никакой надежды спастись, и они уже считали себя убитыми. И жил каждый из них только для того, чтобы убить тех самых десятерых американцев, прежде чем принести в жертву свою жизнь. Этим беднягам приходилось хуже всего. Никакой снаряд не мог пробить своды дота. Бетон толщиной четыре фута был усилен стальными прутьями. А на открытом месте снаряд из морского орудия, выпущенный одним из подошедших к берегам острова боевых кораблей, мгновенно разрывал человека на куски. При прямом попадании ни у кого не оставалось времени написать предсмертные стихи.
Сейчас, перед лицом атаки, капитан словно зарядился энергией. Он стряхнул с себя долгие месяцы отупляющего бездействия, отчаяния, отвратительной еды, бесконечных хождений в сортир, тревоги. Наконец приближалась минута славы.
Вот только Яно, разумеется, уже не верил в славу. Это все для глупцов. Сам он верил только в долг.
Капитан не умел произносить речи. Но он перебегал от позиции к позиции, убеждаясь в том, что все пулеметы правильно заряжены и наведены, что заряжающие стоят наготове со свежими лентами, что стрелки лежат в окопах, готовые сразиться с блуждающим американским демоном.
— Господин капитан!
Его отвел в сторону молоденький солдат, еще совсем мальчишка.
— Да?
Как его зовут? Яно не мог вспомнить. Но они все отличные ребята, уроженцы Кагосимы, поскольку 145-й полк набирался на острове Кюсю, родине лучших японских солдат.
— Я не боюсь умереть, — быстро заговорил мальчишка, старший рядовой. — Я горю желанием умереть за императора.
— Это наш долг. Мы с тобой — ничто. Наш долг — все.
Но мальчишка заводился все больше:
— Я боюсь огня. Я очень боюсь огня. Если я загорюсь, вы меня застрелите?
Все солдаты боятся огнеметов. Американцы, эти косматые звери, не ведают, что такое честь. Они вырывают у убитых японцев золотые зубы, делают из черепов японских солдат пепельницы и отсылают их домой, они убивают японцев не так, как подобает, пулей и мечом — они ненавидят мечи! — а с расстояния многих миль большими снарядами морских орудий и бомбами, сброшенными с высоко летящих самолетов, и даже когда подходят близко, пользуются этими жуткими трубами, поливающими все вокруг горящим газолином, который сжигает человеческую плоть до кости, вызывая долгую и мучительную смерть. Ну разве может воин с честью умереть в пламени?
— Или мечом, господин капитан. Умоляю, если я загорюсь, отсеките мне голову.
— Как тебя зовут?
— Судо. Судо с острова Кюсю.
— Судо с острова Кюсю. Ты не умрешь в огне. Это я тебе обещаю. Мы самураи!
Слово «самурай» до сих пор обладало магической силой. Солдаты расправили плечи. Каждый мечтал стать самураем. В этом гордость, в этом честь, в этом величайшая жертва. Это нечто большее, чем жизнь. Это — то, к чему должен стремиться каждый мужчина, даже ценой собственной смерти. Хидеки Яно знал это с раннего детства; он страстно мечтал об этом, как мечтал о сыне, который оправдал бы все его надежды.
— Самураи! — истово повторил мальчишка.
Он уже успокоился, потому что поверил в это.
Право идти в атаку первой выпало роте «А». Просто настала ее очередь; роты «В», «С» и «D» обеспечат огневую поддержку, совершат обходной маневр, будут координировать действия артиллерии, но идти первой предстоит роте «А». Вперед на врага, «Semper fi»[1] и вся прочая чушь.
Однако была одна проблема. Проблемы находятся всегда, и сегодняшняя состояла в следующем: ротой «А» командовал новичок. Он только что попал в 28-й полк, и ходили слухи, что это место выбил для него папаша, имеющий связи. Его фамилия была Калпеппер, он окончил какой-то навороченный колледж и разговаривал как женщина. Конкретно ничего плохого про него сказать было нельзя, никто и не утверждал, что он гомик, просто он почему-то не был похож на других офицеров. Какой-то чудной, учился в чудном колледже, живет в чудном доме, имеет чудных родителей. Справится ли Калпеппер с возложенной на него задачей? Никто этого не знал, но дот должен быть взят, иначе батальон застрянет здесь на весь день, а огромные орудия, установленные на вершине горы Сурибачи, будут продолжать молотить по побережью. Поэтому полковник Хоббс поручил первому сержанту своего батальона Эрлу Свэггеру в то утро быть рядом с капитаном Калпеппером.
— Калпеппер, слушайте то, что скажет первый сержант. Он старой закалки. Побывал в разных передрягах. Ему уже не раз приходилось высаживаться на берег. Он у меня лучший командир, это понятно?
— Так точно, сэр, — ответил Калпеппер.
Полковник отвел Эрла в сторону.
— Эрл, помоги Калпепперу. Не позволяй ему застыть на месте, пусть его ребята будут постоянно в движении. Я очень сожалею, что вынужден так поступить с тобой, но кто-то должен провести ребят к вершине, а ты у меня лучший.
— Ребята поднимутся к вершине, сэр, — ответил Свэггер.
С первого взгляда было видно, что это боец морской пехоты Соединенных Штатов на все сто сорок процентов, с головы до ног, жилистый крепыш неопределенного возраста, как это бывает с сержантами, ветеран Гуадалканала, Таравы и Сайпана, а также, по слухам, Трои, Фермопил, Азенкура и Соммы. По меткости стрельбы из пистолета-пулемета «томпсон» с первым сержантом Свэггером не мог сравниться никто. Говорили, что он сражался с япошками еще до войны, в Китае.
Свэггер был человеком ниоткуда. У него не было родного города, воспоминаний, которыми можно поделиться, историй о добрых старых деньках — как будто у него не было и добрых старых деньков. Говорили, что во время последнего отпуска домой Свэггер женился, и все сходились в том, что его избранница писаная красавица, но он никогда не показывал фотографии и почти ничего не рассказывал. Он был олицетворением смекалки, энергии и собранности; казалось, его не могут остановить никакие преграды. Эрл Свэггер был одним из тех профессионалов «с блеском в глазах», которые могут уговорить новобранца или зеленого лейтенанта на что угодно. Он был князем войны, и если он и был обречен, то не знал об этом — или же ему было все равно.
Калпеппер предложил план.
Свэггеру этот план не понравился.
— Прошу прощения, господин капитан, но это чересчур сложно. Все кончится тем, что наши люди будут бегать туда-сюда, не зная, что делать, а япошки, спокойно сидя на месте, будут их расстреливать. На вашем месте я бы разделил роту не на отделения, а на взводы, обеспечил бы надежное огневое прикрытие, а огнеметы выдвинул бы на правый фланг, где они смогут приблизиться к доту вплотную. Огнеметы, сэр, — это ключ к успеху.
— Понятно, — ответил молодой офицер. Бледный, худой и сосредоточенный, он напряженно размышлял. — Я полагал, что наши ребята смогут…
— Сэр, как только япошки нас увидят, здесь разверзнется преисподняя. Эти коротышки — крепкие ублюдки, и, поверьте, они знают свое дело. Если вы ждете, что наши ребята будут помнить сложную последовательность маневров, привязанных к ориентирам на местности, вас ждет разочарование. Все должно быть просто, кратко и точно, чтобы не надо было напрягать память, иначе япошки перестреляют ребят, словно жаб на плоском камне. Главное, черт побери, — это выдвинуть огнеметы вплотную. На вашем месте я бы отправил лучшую команду огнеметчиков вот по этой лощине справа… — они находились на командном пункте в нескольких сотнях ярдов от передовых позиций и смотрели на мятую карту, — с ручным пулеметом и автоматчиком в качестве прикрытия, поручив командование лучшему сержанту. А рота тем временем останется на исходных позициях. Надо будет вести ураганный огонь по доту. Задействовать базуки. Амбразуры крошечные, но, если граната из базуки в нее попадет, япошкам придется несладко. Сэр, наверное, вам следует доверить группу огнеметчиков мне.
Полковник предупреждал Калпеппера: «Эрл захочет лично вести людей вперед. Но вы, капитан, разрешите ему лишь давать советы. Мне нужно, чтобы он вернулся из боя живым и невредимым».
— Но…
— Сержант Тарски — замечательный парень, и дело свое он знает. Когда мы двинемся вперед, пусть он возьмет людей и поднимет шум на левом фланге. Ему нужно будет вести ураганный огонь, и те, кто останется в центре, тоже должны будут не жалеть патронов. Мне понадобится мощный заградительный огонь. Я поведу огнеметчиков справа. Япошки попрятались в стрелковых ячейках, но я их найду. Я знаю, где искать. И тогда пулеметчик выкосит их как миленьких, при этом оставаясь вне зоны поражения их винтовок. После этого мы подойдем ближе и выжжем их огнеметами, а затем поднимемся наверх и поджарим этот бетонный сарай.
Помедлив мгновение, Калпеппер осознал, что этот дошлый, крутой, помешанный на долге деревенщина из какой-то дыры в глухих южных штатах, о которой никто и слыхом не слыхивал, совершенно прав, и понял, что его собственное чопорное самомнение здесь ничего не значит.
— Хорошо, первый сержант, мы так и сделаем.
Пулеметы Модель 92 стреляли трассирующими пулями калибра 7,7 мм. Раскаленные добела молнии рассекали туман и облака пыли. Нельзя отчетливо разглядеть людей через узкую щель амбразуры, но можно ощущать, как они продвигаются в огненном хаосе по шагу зараз.
Попадая в песок, пули поднимали черные фонтанчики.
— Вон там, — сказал капитан Яно, указывая рукой.
Пулеметчик крутанул рукоятку горизонтальной наводки влево, ребристый ствол повернулся на турели, и пулемет затрясся, выбрасывая в пропитанный сернистыми испарениями воздух стреляные гильзы. Трассирующие пули устремились вниз, и скрытые туманом тени, споткнувшись, повалились на землю.
— Господин капитан! — крикнул кто-то из крайнего левого отсека.
Придерживая меч, чтобы не бил по ноге, капитан нырнул в соединительный проход.
— В чем дело?
— Господин капитан, Ямаки говорит, что он видел слева людей. Они промелькнули и ушли в сторону.
Пороховой дым, заполнивший внутреннее пространство, плотный и едкий, жег слизистую носоглотки, заставлял слезиться глаза.
— Огнеметы?
— Я не успел рассмотреть, господин капитан.
Все равно это наверняка огнеметы. Американский командир не бросит своих людей прямо на пулеметы. Косматые звери никогда так не поступают; у них не хватает на это духа, и они не торопятся умирать. Если нужно, американцы умирают, но они этого не жаждут. Доблестная смерть для них ничего не значит.
Капитан Яно задумался.
Американцы могут зайти с левого фланга, а могут — с правого, и на первый взгляд может показаться, что они пойдут слева. Там есть где укрыться, растительность гуще и вести прицельный огонь сложнее, потому что склон более крутой. Главную опасность представляют гранаты, но американцы не боятся японских гранат, потому что те очень слабые и ненадежные.
Капитан попытался поставить себя на место противника. В его представлении белый человек был чем-то невероятно огромным, волосатым и розовым. У Яно перед глазами возникло нечто среднее между ковбоем и призраком, но он понимал, что управляет всем этим недюжинный ум. Американцы не глупые, они не трусы, и они надвигаются нескончаемым потоком.
Все сводилось к одному вопросу: слева или справа? И Яно знал ответ: справа. Он бы пошел справа. Он бы послал огнеметчиков именно здесь, потому что это менее очевидное решение: местность открытая, в ячейках затаились стрелки, но у него хватит мастерства справиться со стрелками. Он знает, как иметь с ними дело. Этот вариант казался более опасным, но опытный командир, агрессивный, умеющий максимально использовать характер местности, получит неоспоримое преимущество.
— Я сам займусь этим. А вы должны продолжать стрелять. Целей вы не увидите — перед вами будут только силуэты. Ведите огонь по силуэтам. Будьте самураями!
— Самураи!
Капитан Яно бегом вернулся в центральный отсек.
— Маленький пулемет, — приказал он. — Живо!
Сержант принес ему пистолет-пулемет Модель 100, оружие калибра 8 мм, чья общая концепция была украдена у немцев. У него было деревянное ложе, на стволе — кожух с отверстиями для охлаждения и коробчатый магазин, закрепленный горизонтально, слева от патронника. Эти пистолеты-пулеметы ценились на вес золота, их постоянно не хватало. «Что можно было бы совершить, если бы их был целый миллион! Да мы бы уже давно были в Нью-Йорке!» Капитану Яно пришлось лично выпрашивать у генерала Курибаяси хотя бы один пистолет-пулемет для своего отряда.
Накинув портупею с подсумками, наполненными гранатами и запасными магазинами, капитан туго затянул ремни. Затем осторожно отцепил от пояса меч и отложил его в сторону.
— Я собираюсь устроить на огнеметчиков засаду. Подкараулю их далеко перед нашими линиями. Прикройте меня огнем.
Развернувшись, капитан кивнул рядовому, и тот отпер массивную бронированную дверь в задней части дота. Капитан на четвереньках выбрался из бункера.
— Как твоя фамилия, сынок?
— Макриди, первый сержант.
— Ты умеешь стрелять из этой штуковины? — продолжал Эрл, указывая на автоматическую винтовку Браунинга весом шестнадцать фунтов в руках мальчишки.
— Умею, первый сержант.
— Ну а ты, сынок? Ты сумеешь помочь Макриди поддавать жару?
— Смогу, первый сержант, — ответил второй номер пулеметного расчета, увешанный подсумками с запасными магазинами для «браунинга».
— Вот и отлично. А теперь слушайте, что мы будем делать. Я осторожно поднимаюсь по склону и проверяю лощину. Как только я нахожу стрелковую ячейку, я посылаю туда трассирующую пулю. Вы действуете со мной в связке. Как только я пускаю трассирующую, ты, Макриди, отправляешь следом короткую очередь. Не отставайте от меня, следите за моими трассирующими. Трассирующая пуля не пробьет бревна, за которыми укрываются япошки, но ваши пули тридцатого калибра их пробьют, потому что у них скорость в три раза больше. Твой напарник будет снаряжать тебе магазины, когда ты их опустошишь. Он же будет их менять. Все понятно, сынок?
— Так точно, первый сержант, — ответил второй номер расчета.
— Так, теперь вы, факельщики. Вам надо держаться сзади. Сначала нам нужно расчистить дорогу, и только потом вы сможете подняться наверх и приняться за работу. Договорились?
Послышалось недовольное бормотание, затем дважды: «Да, первый сержант».
— И еще одно. Там, где есть япошки, я просто Эрл. И никаких «первых сержантов» и прочей чуши. Уяснили?
После этого напутствия Эрл начал долгий подъем вверх. Он полз по вулканическому пеплу и черному песку. Полз в тумане вонючей серой пыли, забивающейся в нос и в рот, ложащейся на человека толстым слоем. Крепко прижимая к себе свой «томпсон», словно любимую женщину, он ощущал позади присутствие пулеметчиков. Над головой назойливо мелькали японские трассирующие пули. Время от времени ухала минометная мина, но по большей части была лишь пыль, висящая в воздухе, прорезанная искорками света, такими быстрыми и мимолетными, что возникали сомнения, не обман ли это зрения.
Эрл был счастлив.
На войне он оставлял все позади. Его беснующийся отец, уже покойный, больше не орал на него; забитая, вечно печальная мать не брела безвольно по жизни; он больше не был сыном шерифа — человеком, которого ненавидели все те, кто боялся его отца; он был лишь первым сержантом Свэггером, и он был счастлив. Теперь его семьей была морская пехота Соединенных Штатов, принявшая его в свои объятия, любовно вскормившая его и сделавшая из него мужчину. И он ни за что ее не подведет, до последней капли крови будет сражаться за ее честь.
Добравшись до гребня небольшой возвышенности, Эрл приподнял голову. Перед собой он увидел складку на песчаном склоне, ведущую вверх, — осыпь, являющуюся одним из отрогов горы Сурибачи. Сама гора вздымалась в небо, загораживая собой море. Задача 28-го полка заключалась в том, чтобы обойти эту вулканическую гору, отрезать ее от путей снабжения, а затем дюйм за дюймом подняться наверх и уничтожить минометы, артиллерийские батареи, наводчиков, стрелковые ячейки и доты, которыми были усеяны шершавые склоны. Все это предстояло делать постепенно, на протяжении долгого дня.
Осыпь казалась пустынной — неровная борозда, проведенная в черном песке, утыканная чахлой травой и плющом. Кое-где над унылой пустошью поднимались кусты эвкалипта.
Раньше Эрл повел бы своих людей вперед — и они бы все погибли. Но, как и его командиры, он выучился искусству войны.
Эрл стал искать взглядом сплетения корней среди кустарника и эвкалиптовых зарослей, полоски лимонного сорго, маленькие кривые дубки, ибо японцы мастерски владели искусством зарываться в землю, возводя крошечные крепости на одного человека, практически неуязвимые для артиллерии, но в то же время не имеющие путей отхода. Такая вещь, как запасный выход, тут отсутствовала. Эти ячейки оборонялись смертниками, не знающими, что такое отступить или сдаться в плен.
— Макриди, ты готов?
— Да, Эрл.
— Следи за моими выстрелами.
Эрл обозначил для себя цель, до которой было ярдов тридцать: крохотный островок растительности посреди моря черного песка, который выглядел слишком ухоженным. Поняв, что за завесой густой листвы папоротников скрывается человек, он послал туда очередь из четырех трассирующих пуль, проследив взглядом, как яркие мерцающие точки пересекли открытое пространство и впились в зелень, поднимая фонтанчики черной пыли. Сильный и опытный Эрл держал пистолет-пулемет так, что даже при стрельбе очередями ствол не уводило верх; ни одна пуля 45-го калибра никогда не уходила в пустоту. Из своего «томпсона» он без труда сбивал пущенные в воздух тарелочки и во время долгих морских переходов нередко устраивал показательные стрельбы для офицеров и матросов десантных кораблей.
Устроившийся рядом с ним Макриди всадил в то же место несколько тяжелых пуль 30-го калибра, которые, попадая в цель, взрывались мощными сердитыми гейзерами.
— Отлично сработано. Этот парень отправился к своим предкам.
Эрл продолжал изучать склон. Его взгляд замечал то, на что другие не обратили бы внимания. Он посылал туда трассирующую очередь, затем пулеметчик отправлял следом мощные пули 30-го калибра. Через несколько минут осыпь была полностью очищена от японцев.
— А теперь нам предстоит самое сложное. Понимаете, япошки расставили ребят и с противоположной стороны. Я хочу сказать, лицом к собственным позициям. И мы их сейчас не видим. Вот так работает мысль у этих хитрых маленьких обезьян. Они воюют уже давно и, черт побери, успели кое-чему научиться.
— Сержант Эрл, что мы будем делать?
— Мы скатим вниз по склону гранаты. Я возьму пулемет. Как только гранаты рванут, я прыгну вниз. Секреты я разыщу без труда и перестреляю всех япошек. А вы подниметесь на гребень и прикроете меня огнем из своих «томпсонов».
— Эрл, вас обязательно убьют.
— Нет уж. Ни у одного косоглазого не хватит смекалки, чтобы зацепить старину Эрла. Итак, Макриди, снаряди свежий магазин и взведи пулемет. И отцепи сошку. Все достали гранаты. Готовы?
— Да, мистер Эрл.
— Отлично. По моему счету выдергивайте чеку, отпускайте рычаг предохранителя и просто бросайте гранаты через гребень. Понятно?
Бой — это сплошная непогода. Он бежал через облака пара, через висящую в воздухе пыль, через слои серы. Не было ни солнца, ни жары. Его ботинки старались найти упор в черном песке. Громыхал гром, но только на самом деле это были звуки выстрелов. Весь склон ожил под градом пуль — казалось, это копошатся маленькие зверьки. В воздухе плавали капли жидкого света. Внизу, в сплошной пелене пыли, были видны суетящиеся силуэты — это косматые звери пытались забраться выше, приблизиться на расстояние броска гранаты, а за ними носились белые трассирующие пули его солдат.
Он перебегал от одного окопа к другому.
— Продолжайте вести огонь. Мы заставим американцев отступить. У вас есть патроны, вода? Никто не ранен?
Его люди держались превосходно. Все до одного верили в силу «ста миллионов»,[2] все до одного верили в долг перед императором, все до одного уже заключили мирное соглашение со смертью, прочувствовали необходимость принести себя в жертву; никто не дрогнет и не побежит, это лучшие воины на земле. Истинные самураи!
— Вон там, слева!
Он указал рукой, пулемет «намбу» быстро дернул хоботом в сторону и выпустил очередь, прошившую густые заросли. Наградой за это явилось редкое зрелище: враг, безжизненно вывалившийся из кустов.
— Ищите цели и не прекращайте огонь; американцам надоест умирать, и они скоро отступят назад.
Капитан Яно добрался до последней террасы. Вследствие какой-то геологической аномалии на протяжении нескольких десятков футов склон был слишком крутым, и окопов здесь не рыли. Широкая полоса песка была совершенно открыта. И ее требовалось пересечь.
— Господин капитан, будьте осторожны!
— Да здравствует император! — воскликнул Яно, словно призывая себе на помощь талисман.
Верил ли он сам во все это? Отчасти верил. Нужно полностью отдать себя, признать необходимость собственной смерти, даже мучительной гибели в огне, принять с распростертыми объятиями страдания, возжелать небытия. И тогда можно будет броситься в огонь, выполняя свой долг, навстречу судьбе.
Но другая его часть спрашивала: «Зачем?»
Какая бесполезная трата людей!
Эти замечательные люди, которые могли бы столько совершить в жизни, вынуждены умирать на осыпи черного песка, на острове из серы, не имеющем абсолютно никакого значения. Они поступают так ради императора? Скольким из его бойцов известно, что богоподобный, всезнающий, беспощадный император — недавно сотворенный миф, а на протяжении трехсот лет эта марионетка была предметом насмешек всего Эдо,[3] в то время как страной правили из Киото действительно могущественные люди, предпочитавшие оставаться в тени. Они с трудом терпели императора лишь как полезную фигуру для участия в торжественных церемониях, отвлекающих внимание народа.
Яно прекрасно понимал: «Война проиграна. Все сухопутные армии сокрушены. Не удалось отстоять ни один остров. Мы погибаем здесь совершенно напрасно. Это было бы смешно, если бы не было бесконечно глупо. Те семеро, что заправляют Японией, давятся от хохота над нами».
И все же капитан бежал вперед.
Он находился на открытом месте всего несколько секунд. Американцы тотчас же открыли огонь, и он ощутил горячий шепот пуль, пролетающих слишком близко, маленькими поршнями сжимающих воздух слева и справа от него. Земля как будто взбунтовалась, взрываясь вокруг, наполняя воздух пылью, забивающей нос и горло.
Однако пуле, которой суждено его убить, пока не удалось отыскать цель.
Скользнув на землю за дюной, капитан Яно жадно глотнул воздух. В этот момент с осыпи внизу донеслись короткие очереди.
Взобравшись на гребень дюны, он увидел, как в ста ярдах от него вниз по склону бежит американец с большим ручным пулеметом в руках — у них так много разного оружия! — быстро водя стволом из стороны в сторону и поливая огнем развернутые в обратную сторону стрелковые ячейки, о существовании которых было известно только самому капитану, поскольку он лично размечал их на местности.
За считанные секунды все было кончено.
Огромный косматый зверь завопил, размахивая руками; сверху через гребень выскочили двое, еще несколько человек обошли вокруг. Они встретились посреди осыпи, тот американец поспешно выстроил их в цепочку и повел вперед.
И тут капитан Яно увидел именно то, чего так опасался: огнемет.
Последние двое американцев тащили огнемет. Один из них нес в ранце за плечами несколько канистр с желеобразным горючим, настолько тяжелых, что он сгибался под их тяжестью. Другой держал в руке длинное круглое сопло с пистолетной рукояткой, в которой был размещен пиротехнический воспламенитель, по сути дела спичка. От этой спички струя горючего превратится в дождь раскаленных искр, огненным дыханием дракона расплавляя все, на что попадет. Американцы поднимутся по осыпи, повернут налево и, воспользовавшись огненным прикрытием, выжгут пулеметные гнезда. Затем американцы взорвут стальную дверь в дот и сожгут живьем всех, кто находится внутри.
Капитан достал гранаты. Эти нелепые штуковины под названием Модель 97 были абсолютно ненадежны и не заслуживали доверия. Заключенные в цилиндрический корпус с насечками для лучшего образования осколков, они были оснащены взрывателем с задержкой на четыре с половиной секунды. Это означало, что гранаты взорвутся или через одну секунду, или через шесть, если взорвутся вообще. Для того чтобы взвести детонатор — это же настоящая комедия! — требовалось сначала выдернуть чеку, затем с силой ударить детонатором по каске, при этом боек пробивал капсюль и воспламенял первичный пороховой заряд.
Капитан Яно едва не рассмеялся вслух: «Мы, великая нация потомков Ямаго,[4] не умеем изготавливать ручные гранаты».
Солдаты шутили: «Имея дело с американцами, еще можно надеяться остаться в живых, но вот с нашими гранатами…»
Однако сейчас Будда улыбнулся. Капитан Яно выдернул чеку из первого цилиндра, ударом о камень разбил основание запала, боек полетел вперед, пробивая капсюль, и запал с шипением ожил. Яно секунду подержал гранату в руке (опасно!) и бросил ее через гребень. Он проделал то же самое со второй гранатой, и в этот момент первая взорвалась. В ее грохоте потонул чей-то крик. Вторую гранату Яно держать не стал, исходя из разумного предположения, что две гранаты подряд просто не могут оказаться исправными. Разбив запал, он сразу же швырнул ее, и это решение оказалось правильным: граната взорвалась всего через секунду.
Капитан вскарабкался на гребень осыпи.
Все американцы валялись на земле. Один из пулеметчиков истерично вопил, его левая рука была в крови. Двое лежали неподвижно. Стрелок-огнеметчик пытался подняться на ноги.
Первым делом капитан расстрелял его. Он всадил в него пять восьмимиллиметровых пуль из своего пистолета-пулемета, затем выпустил короткую очередь в его помощника, несмотря на то что тот упал на землю. Потом Яно переключился на пулеметчика, который тщетно старался поднять свой пулемет окровавленной рукой, пока у него за спиной второй номер расчета пытался подобрать выпавший автоматический карабин. Капитан расправился с ними одной длинной очередью. Повернувшись к лежащему на земле командиру, всадил в него еще одну очередь. Сбежав вниз по осыпи, он подскочил к стрелку-гранатометчику, который, как это ни невероятно, все еще дышал. Капитан выстрелил ему в голову и постарался не смотреть, а поскольку это было невозможно, постарался не чувствовать стыда при виде молодого лица, изуродованного выпущенной в упор пулей. Затем он достал штык-нож и отрезал резиновый шланг, а пистолетную рукоятку с воспламенителем забросил подальше.
Сегодня его бойцам можно не бояться огнеметов.
Развернувшись, капитан Яно побежал обратно к доту.
Каким-то образом Эрлу удалось прийти в себя. Он не был убит. Попытавшись разобраться в случившемся, он в конце концов исключил шальной снаряд или мину из миномета. Тряхнув головой, Эрл постарался прогнать колющую боль, но тщетно. Раненое бедро ныло. Опустив взгляд, он увидел кровь. Во фляжке зияли две пробоины, на медной пряжке красовалась глубокая вмятина, а еще одна пуля попала в бок, и медленно вытекающая кровь пропитала нательную рубаху насквозь. Эрл огляделся вокруг.
Убиты, все убиты.
«Твою мать», — мысленно выругался он.
Наконец-то нашелся япошка, не уступающий ему в хитрости. Даже превосходящий его, черт бы побрал его маленькую обезьянью душонку.
На осыпи царила полная тишина, хотя совсем рядом воздух рассекали звуки перестрелки. Однако не вызывало сомнений, что японцы продолжают удерживать дот, что фланговый обход закончился провалом, что четверо бойцов роты «А» убиты, а сам он едва уцелел, да и то лишь потому, что, услышав стук — это япошка взводил гранату, — успел распластаться на земле до первого взрыва, а взрывов, как он теперь сознавал, было два.
Эрл осмотрелся — «томпсон» валялся в нескольких шагах от него. Подобрав пистолет-пулемет, он сдул черный песок со спускового крючка, опустил большой палец на рычажок предохранителя и повернул его вниз. Необходимости проверять патронник не было, поскольку Эрл в боевой обстановке всегда держал оружие готовым к стрельбе, дослав патрон и взведя затвор. Он начал взбираться вверх по осыпи.
Добравшись до гребня, он огляделся, но ничего не увидел. Впереди возвышался холм черного песка, удерживаемый на месте кустиками чахлой растительности.
Эрл пополз вперед, один раз едва не сорвавшись вниз, обогнул заросли и обнаружил, что находится всего в ста ярдах от дота. Их разделяли три окопа с брустверами из мешков с песком, усиленных стволами пальм; в каждом окопе пулеметный расчет и стрелки, палящие без передышки. Пулеметы трещали непрерывно, словно станки в цеху.
Эрл не медлил ни мгновения. Это было не в его натуре. У него было крошечное преимущество внезапности, и он запрыгнул в первый окоп и выпустил длинную очередь, прежде чем кто-либо успел сообразить, в чем дело. «Томпсон» задергался у него в руках, окутываясь дымом. Все японцы были сражены наповал.
Один из солдат в соседнем окопе, расположенном ярдах в тридцати, опомнился и выстрелил в Эрла, но пуля отскочила от каски, сбив ее с головы. Эрл выстрелил с бедра, не целясь, расправился с японцем и, не переставая стрелять, побежал к окопу. Когда он добежал, у него кончились патроны, поэтому он спрыгнул вниз и воспользовался прикладом. Разбив сильным ударом одному япошке лицо, Эрл развернулся и раскроил череп второму. После этого, не зная пощады, он несколькими свирепыми ударами тяжелого приклада расправился с остальными.
Вдруг мир вокруг словно вспыхнул. Пулеметная очередь из третьего окопа. Эрл пригнулся, достал гранату, выдернул чеку и сделал бросок. В ожидании взрыва он торопливо сменил магазин. Как только граната взорвалась, Эрл выпрямился и, увидев бегущих к нему троих японцев с ручным пулеметом, скосил их одной убийственной очередью. Вскочив, он под ураганным огнем добежал до третьего окопа — над загадкой, почему его не убили, он ломал голову до конца своей жизни, — спрыгнул вниз и расстрелял магазин, добивая копошащихся в окопе раненых. В какой-то момент пистолет-пулемет неожиданно умолк, и двух раненых он прикончил прикладом — детям о таком не рассказывают, но на войне это неизбежно.
Усталый Эрл уселся на землю и прислонился спиной к стенке окопа, жадно глотая воздух, насыщенный химическими запахами этого проклятого места. До дота оставалось всего несколько ярдов, и Эрл понимал, что его нужно взорвать. Да, но чем? Гранат у него не осталось, под рукой нет ни взрывчатки, ни подрывного заряда, ни огнемета. Тут Эрл перевернул одного убитого японца — труп оказался таким легким! — и обнаружил подсумок с гранатами. Он знал, что японские гранаты дерьмовые, но, может быть, целого подсумка все-таки хватит. Подняв свой «томпсон», Эрл увидел, почему произошла осечка. Черный песок, забившийся в ствольную коробку, заклинил затвор на полпути. Потребуется целый месяц, чтобы его очистить.
Ну да ничего.
Собравшись с духом, Эрл добежал до дота и стал обходить его сзади, обдирая гимнастерку о бетон. Ему было слышно, как пулеметы нещадно поливают склон свинцом. Он отыскал наружную камеру, всмотрелся внутрь и увидел черную стальную дверь.
Эрл прижался к стене, достал из подсумка японскую гранату. Выдернув зубами чеку, он ударил концом о бетон, почувствовал, как зашипел запал, и увидел тонкую струйку сухого дыма от горящего пороха.
О черт, как же он боится этих штуковин!
Он бросил гранату в подсумок, швырнул подсумок к стальной двери и побежал по песку в окоп с пулеметом.
Ему было нужно оружие.
Капитан Яно благополучно добрался до дота. Вернувшись в темноту, он насладился мгновением передышки после безумия битвы. Звуки стали многократно тише, яркий свет погас, на зловоние серы наложились другие запахи.
Кто-то хлопал капитана по плечу, кто-то тискал его в объятиях, кто-то плакал от радости.
— Я остановил отряд дракона. Теперь американцам нас не одолеть. Сегодня утром они сюда не поднимутся. Самураи!
Вернув пистолет-пулемет Модель 100 сержанту, капитан прошел к себе в уголок. Он взял свой меч, обычный клинок, вероятно выкованный механическим молотом на военно-морском заводе, отполированный машиной и собранный рабочими. При всем при этом меч был на удивление острым, и дважды капитану предлагали его продать. Однако в этом мече было нечто такое, чего он не мог определить словами.
Закрепив ножны на ремне, капитан Яно достал меч и положил его перед собой.
Он чувствовал, что выполнил свой долг. Никто из его бойцов не погибнет в огне. Все они умрут с честью.
Капитан взял кисть для каллиграфии и обмакнул ее в черную тушь. Он вспомнил о господине Асано из Ако, который за считанные мгновения до того, как принять смерть от собственной руки под давлением обстоятельств, написал:
Мне так хотелось бы увидеть Конец весны, Но я не жалею Опавшие вишневые лепестки.Асано понимал, что важнее всего: конец весны, его долг; опадающие лепестки цветущих вишен, пустота торжественного действа. Написав стихи, Асано вонзил лезвие себе в живот и аккуратно провел его через середину тела, рассекая внутренности, разбрызгивая вокруг кровь, пока милосердный меч не перерубил ему шею, положив конец всему.
Капитан Яно тоже понимал, что важнее всего. Он должен описать все, что произошло здесь: чем было это место, как упорно сражались эти солдаты, как мучительно они умирали. Вдохновение пришло неожиданно, вместе с просветлением, и Яно умелыми мазками построил иероглифы в ровные столбцы на листе рисовой бумаги. Они падали с его кисточки, изящные, невесомые, словно пушинки, — завещание художественного гения, написанное посреди кровавой бойни. Это было так по-человечески.
Яно написал свое предсмертное стихотворение.
Взяв меч, он положил его перед собой на маленький столик. Кончиком ручки кисточки капитан надавил на бамбуковый штифт, крепящий рукоять к хвостовой части лезвия. Рукоять плавно скользнула вверх, но полностью снимать ее было незачем. Вместо этого капитан обмотал листок со стихами вокруг хвостовика и опустил рукоять на место. Затем вставил штифт в отверстие рукояти, закрепляя ее. Подергав рукоять, Яно пришел к выводу, что она болтается. Штифт входил в отверстие слишком свободно.
Перевернув не успевшую высохнуть каллиграфическую кисточку, капитан быстро нанес капельку туши на штифт. Тушь затечет в отверстие, загустеет наподобие лака и со временем затвердеет, превратившись в прочный цемент, который навечно закрепит рукоять на хвостовике клинка.
Почему-то это занятие — пустяковое перед лицом смерти — наполнило Яно бесконечным удовлетворением. Оно означало, что его последним осознанным действием было творение стихов.
И тут весь мир взорвался.
Глава 2 КОСА
Крейзи-Хорз, штат Айдахо, наше время
Никаких «почему» в действительности не было.
Словами это не передать. Его дочь сказала: «У тебя слишком много свободного времени». Его жена сказала: «Этому человеку бесполезно что-либо говорить». Неизвестно, что сказали жители городка, а также мексиканцы и перуанцы, пасущие овец и чинящие ограды, но в последнем случае наверняка не раз произносились слова «muy loco».[5]
Боб Ли Свэггер, пятидесяти девяти лет от роду, стоял в полном одиночестве на пологом склоне холма на американском Западе. Эта земля была его собственностью. Он ее приобрел, совершенно неожиданно обнаружив, что на новом этапе жизни стал в определенном смысле человеком состоятельным. Две большие конюшни в округе Пима, штат Аризона, приносили неплохой доход под умелым управлением школьной подруги дочери Боба Ли, молодой женщины, которая души не чаяла в лошадях и при этом обладала деловой жилкой. Одним словом, каждый месяц из Аризоны приходил чек на кругленькую сумму. Еще две конюшни были у Боба Ли здесь, в Айдахо, недалеко от Бойсе, к западу и востоку от города. Ими более или менее управлял лично он, вот только в действительности они управлялись сами по себе, а всей бухгалтерией заведовала Джулия. Но деньги текли и отсюда. Кроме того, каждый месяц Бобу Ли приходил чек от морской пехоты Соединенных Штатов за то, что он проливал кровь в далеких краях, название которых уже никто не помнит. И наконец, еще один чек присылало управление по делам ветеранов вооруженных сил — за проблемы с бедром: стальной сустав, спрятанный внутри тела, был всегда на пять градусов холоднее окружающего воздуха.
Вот почему Боб Ли приобрел этот участок земли на берегу реки Пиболд, на приличном удалении от Крейзи-Хорз и еще дальше от Бойсе. Отсюда были видны похожие на зубья пилы холмы, голубым шрамом пересекающие зеленое море долины. Местность вокруг была суровая, нигде никаких следов человеческой деятельности. Глядя на эти просторы, раскинувшиеся под бескрайним небом Айдахо с редкими кучевыми облаками, с парящими в восходящих потоках воздуха ястребами, на расплывчатые пятна антилопьих стад, можно было ощутить какое-то подобие умиротворенности. Человеку, которому пришлось пережить в жизни немало, который наконец нашел место, где можно спокойно жить с женой и дочерью, должна была полюбиться эта земля, даже несмотря на то, что дочь его училась в колледже в Нью-Йорке, а с женой он сейчас разговаривал далеко не так часто, как в былые времена. Однако мысль была что надо: он построит отличный дом с крыльцом, откуда будет открываться замечательный вид на холмы. Целое лето вокруг будет сплошная зелень, которая осенью сменится на багрянец и золото, а зимой все заметет белый снег. Это будет некое подобие полного умиротворения.
«Ты заработал это потом и кровью, Боб», — сказала Джулия.
«Да, наверное. Так или иначе, я собираюсь просто наслаждаться, сидя по утрам на крыльце в кресле-качалке, укрывшись пледом и любуясь красотами окружающих мест.
Конечно, ставить на это я бы не стал, но как скажете».
Оставалась одна проблема. Прежде чем построить дом, нужно было расчистить и облагородить место, а Бобу просто не хотелось, чтобы этим занимались чужие люди или машины. Он хотел все сделать сам.
Эта штуковина именовалась косой — древнее изогнутое лезвие, покрытое ржавчиной и зазубринами, но до сих пор острое как бритва, закрепленное на конце рукоятки, чуть кривой, с утолщениями. В такую можно вложить весь свой вес, всю свою силу, весь свой замах. И все, что попадало под лезвие, оказывалось срезанным. Если найти нужный ритм, всю работу будет выполнять коса; мышцы закалятся, спина обретет мощь. Во всем этом было что-то от XIX века, что очень нравилось Бобу, а может быть, от XVIII, XVII или даже от XVI века.
Чтобы обработать приличный участок земли, требуется время, и чем больше Боб втягивался в работу, тем сильнее она его засасывала. Отсюда до его дома в Бойсе с час езды, в основном по грунтовым дорогам. Чтобы хоть немного сократить время, Боб купил себе внедорожный мотоцикл «Кавасаки-450» и самостоятельно выучился на нем ездить. На мотоцикле он ехал напрямую через прерию, вместо того чтобы петлять по извилистой дороге на пикапе. Приехав на место, одетый в джинсы, высокие ковбойские сапоги и старую рубаху, Боб принимался за работу. Так он провел уже почти месяц: сто девяносто семь шагов туда, сто девяносто семь шагов обратно, по шесть, семь, восемь, а иногда даже и десять часов. Мышцы у него уже не болели, спина перестала ныть. Его тело наконец привыкло к изнурительной физической работе, она даже превратилась для него в потребность. Вперед и назад, защищенный мозолями; лезвие вгрызалось в высушенную растительность, разбрасывая в стороны срезанные стебли и листья, оставляя чистую полосу шириной два фута. Половина поля была выкошена до стерни; теперь ее можно было распахать и засеять. Вторая половина, более крутая, все еще ждала косаря: полоска земли, заросшая высокой травой, усеянная комьями перекати-поля, среди которых тут и там попадались кактусы и другие выносливые, жилистые растения пустынь. Однако Бобу это почему-то нравилось. Для кого-то это ровным счетом ничего не значило, но только не для него.
Этот день ничем не отличался от остальных. Да и с чего бы: солнце, небо, кусты ежевики, которые требуется скосить, коса, которой нужно махать, медленно, но верно продвигаясь вперед. Узкая полоска шириной два фута в одну сторону, разворот, узкая полоска шириной два фута в другую сторону, размеренный свист косы, выступающий на лбу и на спине пот, чувство преодоления чего-то очень трудного и…
Вдруг Боб увидел машину.
Черт побери, кто это может быть?
Кажется, никто не знает, что он здесь, в глуши, совсем один; да и кто мог запомнить запутанный маршрут по петляющим проселочным дорогам, ведущий сюда? Никто, кроме Джулии. Боб решил, что это она раскрыла кому-то его местонахождение, а значит, все в порядке.
Это был «мерседес-бенц» S-класса, черный, очень красивый, поднимающий за собой петушиный хвост пыли.
Боб проследил взглядом, как машина плавно затормозила. Из нее один за другим вышли двое.
Первого он узнал сразу же: это был Томас М. Дженкс, полковник морской пехоты в отставке, хороший знакомый Боба, большая шишка в Бойсе — ему принадлежали автомобильный салон, радиостанция и один или два крупных универмага. Замечательный человек, активист местного отделения ветеранов морской пехоты, Дженкс пользовался полным доверием Боба. Второй был азиатом. По каким-то признакам Боб решил, что это японец, хотя трудно было сказать точно, в чем это проявлялось. Боб вспомнил письмо, пришедшее около недели назад, полное загадок и намеков.
Комендор-сержанту (в отставке) Бобу Ли Свэггеру
Крейзи-Хорз, штат Айдахо
Уважаемый сержант Свэггер!
Надеюсь, вы пребываете в добром здравии и наслаждаетесь заслуженным отдыхом. Также надеюсь, что вы простите это вторжение в вашу личную жизнь, поскольку мне известно, что вы человек, который дорожит своим уединением.
Я — полковник в отставке морской пехоты Соединенных Штатов, в настоящее время возглавляю отдел истории морской пехоты в Хендерсон-Холле, Арлингтон, штат Виргиния, — как вам прекрасно известно, это штаб-квартира корпуса морской пехоты США.
На протяжении вот уже нескольких месяцев я работаю вместе с Филиппом Яно из японской столицы Токио. За это время я успел узнать мистера Яно только с лучшей стороны. Он — вышедший в отставку офицер японских сухопутных сил самообороны, где дослужился до звания полковника и командовал батальоном. По долгу службы мистер Яно работал в различных американских и английских военных академиях и учебных центрах, в том числе парашютно-десантных войск сил специального назначения, а также в командно-штабном колледже в Форт-Ливенуорте, штат Канзас. Кроме того, он защитил докторскую диссертацию по специальности «делопроизводство» в Стэндфордском университете.
В течение всего этого лета мистер Яно изучал архивы морской пехоты в связи с исследовательской работой, посвященной боям за остров Иводзима в феврале-марте 1945 года. Поскольку ваш отец сыграл значительную роль в этих боях и стал одним из двадцати трех морских пехотинцев, награжденных за участие в них Почетной медалью Конгресса, мистеру Яно хотелось бы встретиться с вами. Насколько я понял, он пишет книгу, в которой история Иводзимы будет изложена с японской точки зрения. Это учтивый, обходительный и в высшей степени обаятельный человек и профессиональный военный высочайшего класса. Надеюсь, встреча с вами станет для мистера Яно очень полезной.
Прошу вас оказать ему всяческое содействие. Хочется надеяться, что вы не откажетесь поделиться с ним воспоминаниями своего отца. Как я уже говорил, мистер Яно — достойнейший человек, заслуживающий уважения.
Я дам ему ваши координаты, и в течение ближайших нескольких недель он свяжется с вами.
Позвольте еще раз выразить вам свою благодарность и передать наилучшие пожелания.
Искренне ваш
Роберт Бриджес,
заведующий историческим отделом.
Штаб-квартира корпуса морской пехоты
Хендерсон-Холл, штат Виргиния.
У Боба не было никакого желания связываться со всем этим. Прочитав письмо, он подумал: «Ну и какого черта? Что я-то могу знать об этих делах?» Старик никогда не рассказывал Бобу о прошлом. Впрочем, как и сам Боб, когда ему много лет спустя пришлось побывать под пулями. Боб тоже терпеть не мог рассказы в духе: «А вот, помнится, был со мной такой случай…» В этом они с отцом были одинаковые: об определенных вещах не говорят.
Но он также знал, что его отец, который ненавидел японцев, воевал с ними, убивал, взрывал и жег их огнем на протяжении долгих трех лет самыми жуткими способами, при всем при этом, как ни странно, уважал их так, как только могут уважать друг друга заклятые враги. Назвать это чувство любовью было бы преувеличением; наверное, нельзя было его назвать и раскаянием или желанием искупить свою вину. А вот сказать, что Эрлом Свэггером двигало стремление залечить душевные раны, значило попасть в самую точку. Боб Ли хорошо помнил, как однажды в бакалейной лавке его старику — а было это году в 52-м или 53-м, за пару лет до его смерти, — кто-то сказал: «Слушай, Эрл, эти япошки, они ведь просто маленькие обезьяны? Ты ведь поджаривал их целыми ведрами?» Его отец помрачнел, словно услышал оскорбление, и ответил: «Можешь говорить о них что угодно, Чарли, но я скажу тебе вот что: японцы — чертовски хорошие солдаты, и они всегда сражались до последней капли крови. Они сражались даже тогда, когда их жгли живьем. Никто и никогда не обвинил ни одного японского пехотинца в том, что он не выполнил до конца свой долг». После чего отец Боба, такой общительный и властный, умело перевел разговор на другую тему. Были вещи, которыми он не хотел делиться ни с кем, в особенности с теми, кто не побывал там, на голом берегу крохотных островков.
Боб повернулся к приезжему господину.
Он увидел мужчину своих лет с массивной квадратной головой, увенчанной аккуратно подстриженным ежиком коротких седоватых волос, с проницательным взглядом, коренастого в отличие от худого Боба. Несмотря на жару и суровую дикую местность, мужчина был одет в безукоризненный темный деловой костюм с галстуком; всем своим существом он излучал сдержанное достоинство, свойственное кадровым военным.
— Боб, — начал Том Дженкс, — это…
— О, я знаю. Вы — мистер Яно, недавно удалившийся на покой после… — Боб непроизвольно осекся, заметив, что левый глаз мистера Яно, хотя и почти такого же цвета, как правый, и скоординированный со своим собратом, не фокусируется, из чего следовало, что он стеклянный. Затем Боб разглядел едва заметный шрам, уходящий чуть выше и чуть ниже этого глаза и, несмотря на все чудеса современной пластической хирургии, свидетельствующий о страшной, жестокой ране. — После службы на благо своей родины. Сэр, рад познакомиться с вами. Я Боб Ли Свэггер.
Мистер Яно улыбнулся, обнажив белые ровные зубы, и поклонился так, как Боб до того видел только в кино: это движение было наполнено глубоким чувством, словно он получал от него наслаждение.
— Прошу простить за вторжение в вашу личную жизнь, сержант Свэггер.
Боб вспомнил: он когда-то слышал, что японцы больше всего на свете боятся создавать окружающим проблемы, когда вынуждены просить их об одолжении. Ему стало понятно, что при такой жизненной позиции для японца предпочтительнее час колесить по проселочным дорогам, чем заявиться к Бобу домой.
— Итак, сэр, чем я могу вам помочь? — спросил Боб. — Если я не ошибаюсь, вы занимаетесь исследованиями, связанными с Иводзимой?
— Вначале, сержант Свэггер, если позволите… — С этими словами мистер Яно достал из кармана маленький красивый сверток и, еще раз поклонившись, протянул его Свэггеру. — В знак признательности за ваши знания и согласие уделить мне время.
— Не могу передать, как это приятно, сэр. Я очень тронут.
— Японцы всегда дарят подарки, — вставил Том Дженкс. — У них так принято здороваться и выражать свою благодарность.
— Пожалуйста…
Японец выжидательно смотрел на Боба.
Коробочка была так аккуратно обернута, что вскрыть упаковку казалось святотатством. Но Боб почувствовал, что должен сделать это. Он рвал, снимал, разворачивал, любуясь затейливой оберткой, и наконец обнаружил внутри крохотный футляр для ювелирных изделий.
— Да, это вещь! — сказал Боб, открыв коробочку.
Внутри лежал миниатюрный меч, выполненный с высочайшим мастерством. Крошечное лезвие блестело, мастер даже обмотал рукоять отдельными тоненькими ниточками.
— Сержант Свэггер, меч является душой самурая. Вы — великий самурай, мне это известно, так что этим подарком я воздаю вам честь.
Как это ни странно, Боб был тронут. Все это оказалось совершенно неожиданным. Кроме того, судя по тонкой работе, подарок стоил немалых денег.
— Ну что вы! Я очень тронут. Но поверьте, все это «самурайство» не про меня. Я просто владею несколькими конюшнями. Однако я обязан помочь вам всем, что в моих силах. Так что выкладывайте, что вас интересует, и я посмотрю, смогу ли утолить ваш интерес. Видите ли, мой старик не любил рассказывать о войне.
— Понимаю. То же самое можно сказать обо всех ветеранах. Так или иначе, как, вероятно, указал в своем письме полковник Бридж, последние несколько месяцев я провел в Хендерсон-Холле, изучая оригиналы документов, имеющих отношение к боям за Иводзиму. Перед этим я почти год работал в архивах японского Министерства обороны, занимаясь тем же самым, хотя, как вы сами понимаете, в наших архивах полно белых пятен.
— Да, сэр.
— В конце концов я сосредоточился на одной операции, которая состоялась двадцать первого февраля в точке, обозначенной на японских картах как «И-пять». Это был дот на северо-западном склоне горы Сурибачи.
— Я слышал про гору Сурибачи и знаю, что произошло на ее северо-западном склоне двадцать первого февраля. Сэр, позвольте сказать вам вот что. Иногда не стоит присматриваться слишком внимательно к тому, что произошло во время боя. Есть вещи, о которых лучше не знать. В бою люди совершают такие поступки, какие они никогда бы не совершили при других обстоятельствах. Я знаю это по собственному опыту, сэр.
— Мне это тоже известно.
— Вполне вероятно, вы узнаете о нас или о ваших собственных солдатах что-то весьма неприятное.
— Я это прекрасно понимаю. Но сейчас речь идет не о жестокостях войны, не о государственной политике и даже не о перемещениях войск — скажем, о том, что Двадцать восьмой полк морской пехоты обошел южную оконечность острова, отрезая Сурибачи от моря, после чего штурмом взял гору. Нет, тут дело в очень личном. Ваш отец уничтожил дот в точке И-пять и убил большинство оборонявших его солдат. Это был мужественный, героический поступок. Я отношусь к нему с величайшим уважением. Однако это сражение интересует меня потому, что мой отец, капитан Хидеки Яно, был командиром второго батальона Сто сорок пятого пехотного полка Императорской армии. Это он командовал точкой И-пять, дотом на северо-западном склоне Сурибачи. Иными словами, я уверен, что в ходе боя ваш отец убил моего.
Глава 3 ДОТ
Когда взорвались гранаты, Эрл был занят тем, что вытаскивал из ближайшего пулеметного окопа ручной пулемет «намбу» Модель 96 — и пытался научиться с ним обращаться. Хотя он был в сорока футах от места взрыва и гранаты рванули в глубокой траншее, ведущей к стальной двери в дот, пронесшаяся ударная волна прижала его к земле. Эрл упал на мертвого солдата, лицо которого было изуродовано прикладом его «томпсона». Увидев перед собой жуткие рваные раны на скулах, потемневшие ссадины, выбитые зубы и распухшие губы, он поспешно отвел взгляд. На войне учишься не обращать внимания на такое. Эрл понимал, что ему нужно полностью сосредоточиться. Пулемет, пулемет!
Модель 96 никак нельзя было сравнить с «браунингом», но все-таки достаточное количество этих пулеметов выплевывало достаточное количество свинца, чтобы Эрл проникся к ним уважением. Он с первого же взгляда понял его устройство: все ручные пулеметы во многом похожи друг на друга. Пошарив вокруг, Эрл нашел подсумок с магазинами, выбрал новый, свежий, вставил его, поискал затвор и, обнаружив, дослал патрон в патронник. Взяв пулемет в руки, он ощутил, как болтается на ребристом стволе незакрепленная сошка, и побежал к входу в дот. Если в него и стреляли, он этого не замечал.
Эрл спустился вниз. Дверь разлетелась на куски, и из проема валили клубы черного дыма. Казалось, это врата в преисподнюю. Вот когда пригодился бы огнемет: одной очистительной огненной струи снаружи было бы достаточно, чтобы обыскать все углы и закоулки, все щели и укромные места, и тогда уже не нужно было бы забираться внутрь и ползать из отсека в отсек, убивая.
Эрл глубоко вдохнул и вошел в подземное царство, борясь с едким дымом, со зловонием нужников, крови и пищи, с внезапным липким холодом бетонного склепа. Он словно попал в гнездо насекомых.
Услышав слева тяжелый ритм дятла, Эрл повернулся и перешагнул через труп. «Бум-бум-бум-бум-бум», размеренные гулкие удары станкового пулемета. Коридор привел в отсек, где расчет из трех человек обслуживал большой пулемет Модель 92 калибра 7,7 мм, сосредоточившись на целях ниже по склону. Один солдат выискивал цели, другой вел огонь, третий подавал ленту. Никто из них даже не заметил, что дверь взорвана.
Это было чистое убийство. Обычно таких вещей не видишь: где-то далеко двигаются силуэты, которые потом перестают двигаться и исчезают. Но сейчас Эрл нажал на спусковой крючок, ощутил горячие плевки пулемета, и меньше чем через секунду трассирующие пули уже нашли цель — все так просто, черт побери. Проще, чем поливать из шланга цветы. Пулемет в руках Эрла опустошился в спазме, а солдаты даже не поняли, что произошло; они просто повалились на землю, в разные стороны. Один пытался бороться со смертью, второй рухнул как подкошенный, а третий просто обмяк и осел вниз, попавшись в паутину ярких неоновых нитей огненно-белых раскаленных трассирующих пуль. Все было кончено за одну секунду.
Повернувшись влево, Эрл споткнулся, обдирая лоб о низкую притолоку, и двинулся в следующий отсек.
Капитан Яно вытряхнул из волос паутину, битое стекло, мушиные крылышки и пыль. Боль была везде, и, когда он делал вдох, ему в легкие вливался обжигающий, обдирающий горло смрад. Капитану казалось, он тонет в море дыма и огня. Он стиснул голову, стремясь выжать боль, но это не помогло. Где он, что с ним, что происходит?
При взрыве стальной двери основная сила ударной волны досталась тому отсеку, где находился капитан. Станковый пулемет умолк; он уставился вправо, задрав ствол, заряжающий был мертв или находился при смерти — он лежал на спине, лицо и грудь его были залиты кровью, невидящие глаза уставились в пустоту. Да, он расстался с жизнью; осколок попал ему в головной мозг или в позвоночник, микросекундой милосердия разом погасив свет.
Это был Судо с Кюсю.
«Ты принял смерть не от огня, — подумал капитан. — Я сдержал свое слово».
Однако один из рядовых уже бросился к пулемету, пытаясь его наладить. Третий солдат присоединился к нему, хотя едва держался на ногах, получив серьезное ранение.
Тут капитан услышат стрельбу совсем рядом и понял, что одному из косматых зверей удалось проникнуть внутрь. Он протянул было руку к пистолету, но обнаружил, что взрывом с него сорвало ремень. Он был безоружен. Капитан огляделся вокруг. Справа от него лежал меч.
Капитан нагнулся и поднял его. Разумеется, это было нелепо. В современную эпоху японские офицеры шли в бой с этими перочинными ножами, годными только на то, чтобы казнить китайских партизан и размахивать ими на патриотических митингах. Однако во всей армии к ним относились с любовью, потому что они олицетворяли связь с тысячелетней историей бусидо, с кодексом чести воина, вызывая в памяти рыцарей в доспехах и дорогих одеждах, сражающихся друг с другом в бою или в пустынных переулках ради ста миллионов. Впрочем, последнее было ложью в любом случае. Меч нес в себе освобождение от «гайдзинов» — неверных; он олицетворял достоинство, честь, самурайский дух. Капитан вытащил меч из металлических ножен, ощутив звенящую дрожь скольжения стали о сталь, и изящной дугой рубанул наполненный дымом воздух, ожидая появления американца.
На самом деле меч был не ахти какой. Это был всего лишь син-гунто, короткий обрубок, чей яркий блеск при ближайшем рассмотрении вызывал подозрение, потому что его поверхность была покрыта многочисленными царапинами, а на лезвии тут и там виднелись зазубрины — свидетельства каких-то забытых происшествий. Отправляясь из Токио на острова Кадзан, капитан Яно просто получил его как часть боевого снаряжения. Этот меч был одним из тысяч, хранившихся на складе восстановленных мечей. Он вернулся из той части Южного полушария, куда на протяжении последних десяти лет распространялась экспансия «Сферы».[6] Возможно, его носил человек, погибший в Китае, в Бирме или в Малайзии, — кто это знает, кто может это знать?
Но он был необычайно острым. Этот меч, несмотря на неброский, даже убогий внешний вид, всегда отличался волей и желанием резать. Им можно было побриться или разрезать газетную бумагу; в нем было нечто живое, в отличие от более тяжелого и тупого меча, который выдали Яно во время службы в Китае. Казалось, этот меч жаждал живой плоти; он стремился к сражению, к судьбе, к славе. Временами Яно почему-то казалось, что он недостоин этого меча, хотя то был обычный армейский клинок, изготовленный на военном заводе, один из тысяч ему подобных.
Однако прикосновение к мечу вселило в Яно уверенность. Он крепко сжал рукоять обеими руками и, чуть раздвинув их для большего равновесия, поднял клинок над головой, принимая позу «дзодан-но-амай» — «высокую стойку» или даже «огненную стойку», потому что дух его стал настолько сильным, что должен был сжигать противника живьем, подавляя его волю. Яно отчетливо представил себе следующее мгновение: удар вниз наискосок между шеей и плечом (идеальная кироси, техника фехтования), лезвие беспрепятственно рассекает одежду, кожу, мышечные ткани, кость — недавно одобренная седьмая ката 1944 года, кесагири, убийственный косой удар, разрубающий ключицу. Затем быстро отдернуть меч назад, выполнить цибури — стряхнуть кровь с лезвия — и убрать клинок в ножны. Это священнодействие доставило Яно наслаждение, придало уверенности и принесло спокойствие его взбудораженному рассудку. Слившись воедино с мечом, он стал ждать.
Всего за одну секунду Эрл убил в центральном отсеке шестерых. Здесь все было так же, как и раньше: трассирующие пули пожирали солдат, расшвыривали их туда и сюда, вверх и вниз, и они падали, одни — сраженные наповал, другие — дергаясь в предсмертных судорогах. Это была война. Вся дребедень про долг перед родиной, про боевое братство, про «Semper fi» была забыта. В конечном счете это было убийство, и ничего больше.
Эрл отступил назад, чувствуя, что магазин опустел или близок к этому. Повозившись, он его отстегнул, и магазин упал на землю. Эрл вставил новый, закрепил защелку, передернул затвор, скользнул в пугающий полумрак коридора, снова содрав кожу с непокрытой головы, и подошел к последнему отсеку.
Он понимал, что там его уже ждут.
«Господи, помоги мне еще только один раз», — подумал Эрл.
Он бросился вперед.
Глава 4 ПРОСЬБА
— Я ничего не знаю о том сражении, мистер Яно, — сказал Боб. — Но мне точно известно, что в бою все постоянно перемешивается. Никогда нельзя сказать, кто что сделал. А официальные сводки, как правило, даже близко не стоят с правдой.
— Я все понимаю. Это мог быть снаряд, случайный рикошет, пуля, выпущенная снайпером, и с равным успехом десяток других вещей. Я также понимаю, что если это действительно сделал ваш отец, он поступил так, потому что это был его долг, потому что у него не было выбора, потому что шла война. Но я могу сказать со всей определенностью, что он был там, что он проник в дот. Об этом свидетельствует медаль, а также показания очевидцев.
— Это действительно так, сэр, — согласился Боб. — Война — страшная штука, на ней приходится убивать. — Что-то толкнуло его на исповедь, а подобное случалось с ним крайне редко. — Мне довелось вдоволь насмотреться на это и самому принимать участие в подобном. Служа в морской пехоте, я во Вьетнаме охотился за людьми и убивал их. С тех пор я много думал об этом, но могу сказать только одно: шла война.
— Понимаю. Мне тоже пришлось повидать войну. Мы с вами выбрали этот путь и прошли его до конца.
Ярко светило солнце.
— Но я очень надеюсь, что вы поймете мою конечную цель, — продолжал мистер Яно. — Я должен задать вам еще один вопрос. И движет мной одна лишь любовь к моему отцу, такая же сильная, какую, не сомневаюсь, вы до сих пор питаете к своему.
— Продолжайте, — сказал Боб. — Вижу, именно ради этого вы сюда и приехали.
— Все дело в мече, — сказал японец.
Боб недоуменно заморгал. Неужели Яно имеет в виду тот самый миниатюрный меч, который сам только что подарил ему? Речь идет об этом мече? Затем он понял: нет, Яно говорит о мече своего отца. Разумеется, в тот день у него был меч. Японцы называли их «мечами банзай» или как-то в том же духе; Боб помнил это не по рассказам отца, а по комиксам про войну, которые прямо-таки с религиозным рвением читал в начале пятидесятых. Он мысленно представил себе зловещее изогнутое лезвие с длинной рукоятью, обмотанной тесьмой, со змеиной головой на конце. «Банзай! Банзай!» — вопил в комиксах похожий на неандертальца бородатый японский сержант в очках-консервах, размахивая мечом над головой, призывая своих солдат стать единой человеческой волной и хлынуть в атаку. Боб поймал себя на мысли, что, скорее всего, его представление о самурайском мече — полная туфта.
— Мне знакомо, как ведут себя на войне молодые солдаты, — продолжал мистер Яно. — После боя им хочется оставить какое-нибудь воспоминание о триумфе, что-нибудь осязаемое, свидетельствующее о победе. И разве можно их в этом винить?
— Я сам насмотрелся на это, — подтвердил Боб.
Слова японца разворошили воспоминания сорокалетней давности, копаться в которых у него не было никакого желания. Однако мистер Яно прав. Такое бывает сплошь и рядом.
— Я знаю, — снова заговорил мистер Яно, — что в боях на Тихом океане были захвачены сотни, тысячи, возможно, десятки тысяч мечей. Вместе с пистолетами и флагами, в особенности флагами, а также винтовками «арисаки», касками и другими сувенирами тех жестоких сражений.
— В основном это дерьмо пожирали те, кто отсиживался в тылу, — заметил Боб.
— У моего отца был меч. Его смерть явилась частью величайшего триумфа вашего отца. В отделе истории морской пехоты я читал отчет о боях, ознакомился с наградным листом. Ваш отец проявил беспримерную храбрость.
— Мой отец был необычайным человеком, — сказал Боб. — Я старался всю свою жизнь, но не дотянулся ему и до пояса. Не сомневаюсь, то же самое вы можете сказать про своего отца.
— Вы правы. И все же я должен спросить: возможно ли, что этот меч достался вам в наследство? Что он сейчас находится у вас? Это как раз то, что отец передает сыну. На свете немало мечей гораздо лучше этого. Но меч моего отца… для меня и моей семьи он значит бесконечно много. На самом деле я приехал в Америку только ради него.
Бобу очень хотелось бы порадовать гостя. Он понимал, что, если бы по прошествии стольких лет меч возвратился на свое почетное место, в семью человека, который его носил и умер с ним в руках, это явилось бы величайшей справедливостью. Ему доставило бы огромное наслаждение совершить подобный акт, вернуть сыну то, что отнял у отца его собственный отец; это ознаменовало бы собой окончательное заживление старых ран, кровоточащих до сих пор, — к полному удовлетворению всех сторон.
Но ему нечем было порадовать японца.
— Мистер Яно, поверьте, я не колебался бы ни мгновения. Я с огромной радостью вернул бы вам этот меч. Почему-то, черт побери, мне кажется, что такой поступок порадовал бы моего отца и я гордился бы этим.
— Я полностью разделяю ваши чувства.
— Однако мой отец не принадлежал к числу тех, кто любит собирать трофеи. У него их не было, если не считать пистолета сорок пятого калибра, который он привез домой с Тихого океана, да и тот был не трофеем, а полезным инструментом. Никаких флагов, горнов, мечей, касок, и даже почти не было рассказов. Он просто полностью оставил войну позади и шагнул дальше. Отец никогда не говорил о войне. Он больше ни разу до самой смерти не надевал военную форму, даже на парад, как многие ветераны. Отец был не из тех, кто любит говорить о прошлом и напоминать остальным о своих достижениях. Сейчас таких людей уже почти не встретишь.
Если японец и был разочарован, то внешне он никак это не показал. Боб понял: это национальная черта.
— Не помню, чтобы ты хоть раз упоминал про какой-то меч, — вмешался Дженкс, который все это время стоял в стороне, не мешая деловому разговору. — Боб не любит показухи, и, полагаю, его отец тоже был таким.
— Да, я все понимаю, — сказал мистер Яно. — Что ж, на этом и остановимся. Значит, так решили боги. Меч находится там, где он есть, и ему никогда не суждено вернуться домой.
— Вы сделали все возможное, — заметил Боб. Помолчав, он добавил: — А может быть, из взвода в живых остался еще кто-нибудь? Понимаю, что сейчас им должно быть за восемьдесят. Но наверное, отдел истории морской пехоты сможет вывести вас на них.
— Таких двое, и я уже переговорил с обоими. Один живет во Флориде, другой в Канзасе. Но я вернулся с пустыми руками.
— Жаль. Право, мне очень бы хотелось помочь. И… гм…
— Да?
— О, ничего определенного, — сказал Боб. — Все эти разговоры о далеком прошлом… Я что-то слышу.
— Слышите что-то?
— У меня в голове стоит какой-то шум. «Меч». Вы произносите это слово, подразумевая японский меч времен Второй мировой войны, и у меня в сознании возникает какой-то туманный образ.
— Воспоминание? — предположил Дженкс.
— Да даже не воспоминание. Я не знаю, что это такое и чем это вызвано. Но где-то в глубине копошится какой-то маленький жучок. Впрочем, быть может, это лишь ошибка.
— И все же это хоть что-то.
— Мистер Яно, поскольку судьба так жестоко связала нас вместе, позвольте обещать вам следующее. Понимаю, что это очень мало, но это все, что у меня есть.
— Я глубоко тронут.
— У меня на чердаке навалено много всякого хлама. Эти вещи хранились в нашем доме в Аризоне. Когда я его продал, я перевез все сюда. Пару лет назад, когда возникло одно дело, связанное с моим отцом, мне пришлось съездить домой и порыться на чердаке. Но я не искал тщательно. И определенно я не искал ничего, что могло бы иметь отношение к мечу. Итак, в течение ближайших недель я еще раз пересмотрю то, что хранится у меня на чердаке. Постараюсь понять, что там есть. Как знать, быть может, мне удастся отыскать какой-нибудь след. Вы приехали бог знает откуда в эту дыру, штат Айдахо, и я чувствую себя перед вами в долгу — как солдат перед солдатом. И также как сын героя перед сыном героя.
— Вы очень любезны. Не сомневаюсь, вы будете искать до тех пор, пока будет где искать. Вот моя визитная карточка. Пожалуйста, возьмите ее, и, если у вас появятся какие-нибудь известия, вы сможете со мной связаться.
Глава 5 СТАРАЯ ПОРОДА
На него смотрели молодые лица. Все они были такие худые, такие одинаковые, во многих случаях еще не сформировавшиеся, с горящими глазами и выступающими скулами, загоревшие на тропическом солнце. Каждый держал в руках или нож устрашающего вида, или винтовку, или карабин, или ручной пулемет. Они настраивали себя на бой, эти молодые бойцы взвода морской пехоты, сфотографированные где-то на Тихом океане во время Второй мировой войны.
Боб вглядывался в снимок до тех пор, пока одно лицо во втором ряду не ожило, — тогда он понял, что это и есть отец. Его лицо тоже было худым, но, если всмотреться пристально, в нем можно было разглядеть бодрую уверенность в себе. В лице отца, как это было свойственно всему младшему командному составу армии, странным образом сочетались смекалка опытного мастера, отцовская строгость, материнское снисхождение, мудрость учителя и воля тренера. Фотографу удалось запечатлеть игрока-профессионала в апогее игры. Он был в мятом форменном кепи, сдвинутом на затылок, с ровными белоснежными зубами, обнажившимися в улыбке, в гимнастерке с закатанными рукавами, открывавшими сильные руки, сомкнутые, насколько мог предположить Боб (остальное закрывал солдат, стоящий в первом ряду), на рукоятке пистолета-пулемета «томпсон».
Боб понятия не имел, когда сделана эта фотография. Возможно, еще до боев за Гуадалканал… нет, тогда еще не было автоматических карабинов и винтовок М-1. Возможно, до боев за Тараву, возможно, до боев за Сайпан, возможно, до боев за Иводзиму. Был еще один какой-то остров, название которого Боб не помнил, но он знал, что его отец был одним из горстки морских пехотинцев, которые сражались на пяти разных островах и остались в живых, хотя ранение, полученное на Тараве от пули японского снайпера, менее крепкого человека отправило бы на тот свет.
Эта фотография, желтая и потрепанная, была одним из немногих свидетельств военных похождений Эрла Л. Свэггера из городка Блу-Ай, штат Арканзас, который начал войну капралом и закончил ее первым сержантом, получив несколько ранений. Знаменитый Оди Райан[7] был ничем не лучше Эрла. Эрл геройски воевал, едва не погиб, и, как и малышу Оди, ему каким-то образом удалось вернуться домой. Правда, он не стал кинозвездой, а служил простым полицейским до конца своих лет, каковых ему было отпущено еще десять.
Но это было все. Боб был на чердаке один, и рыться в старом хламе было непросто — именно поэтому все и было поспешно перевезено сюда из дома в Ахо, штат Аризона, и просто свалено как мусор из прошлого, без разбора, без изучения. Картонная коробка («„Бастер Браун“, полуботинки, размер: С7, цвет: темно-коричневый»), на которой рукой матери Боба было написано: «Вещи отца», разваливалась от старости. В ней не оставалось больше никаких личных вещей. Медали, даже большая, были свалены вместе; ленточки выцвели, металл потемнел. У Боба мелькнула мысль начистить их до блеска и повесить на видном месте — в память о мужестве отца. Но нет, это был бы уже не отец. Отец устыдился бы такой показухи. В коробке лежали также почетные знаки, полученные в полиции, пожелтевшие вырезки из газет за 1955 год, когда отец умер, и наполовину использованная книжечка штрафных квитанций за нарушение правил дорожного движения.
«Что ж, я старался», — подумал Боб.
Он вспомнил про визитную карточку мистера Яно, лежащую в бумажнике.
«Уважаемый мистер Яно, — мысленно начал он составлять письмо, — я тщательно просмотрел все, что осталось после отца, и не нашел ничего, что могло бы помочь вам в ваших поисках. Быть может, если…»
И тут его осенила одна мысль.
Здесь были те вещи, которые сразу после похорон собрала его мать, перед тем как отправиться в путешествие в страну вечного пьянства. Но затем были еще три года, когда ее сестра Агнес Боумен, школьная учительница, засидевшаяся в старых девах, потому что ей еще не удалось найти достаточно хорошего мужчину, переехала жить к ним. Именно тетя Агнес воспитывала Боба, строго, без любви и нежности, а лишь из мрачного чувства семейного долга, пока Джун быстро спивалась и умирала от пьянства — и умерла, не дожив и до тридцати. Тетя Агнес не отличалась щедростью, в чем не было ничего плохого. Она делала то, что нужно было делать; у нее не было времени нянчиться с такими мальчишками, как Боб, который после смерти отца на несколько лет забился в темный угол и даже не пытался наладить отношения с теткой. Быть может, та и сама забилась в свой темный угол. Но это не имело значения: тетя Агнес кормила и одевала Боба и оплачивала счета; по сравнению с этим теплые объятия и похлопывание по плечу ничего не значили.
Но потом Боба постепенно привлекло большое, шумное, беспокойное, радушное семейство Сэма Винсента, полное внутреннего соперничества, и он до окончания школы жил у Сэма на положении члена семьи. Тетя Агнес, не видя смысла в своем дальнейшем пребывании здесь, уехала и лишь раз в год на Рождество присылала открытку.
Боб навестил ее в 1968 году, после своего первого срока во Вьетнаме, и, будучи уже взрослым, обнаружил приятную, скромную женщину, которой наконец удалось выйти замуж за овдовевшего школьного учителя. Они жили в городке Оранда, штат Виргиния, расположенном в долине Шенандоа. Встреча прошла очень мило, хотя они с теткой почти ни о чем не говорили, и будь он проклят, если может вспомнить, какая у нее…
Гудвин!
Агнес Гудвин — вот какая у нее тогда была фамилия.
Боб не мог сказать, как это произошло; он не думал об этом уже много лет, но каким-то образом фамилия тетки всплыла из забытого уголка памяти.
Он не смог отыскать Оранду ни в атласе, ни в Интернете. В конце концов он нашел какую-то старую карту и определил, что городок с таким названием находился рядом со Страсбургом и был поглощен своим разросшимся соседом. Разыскав в Страсбурге какого-то Гудвина, Боб наугад позвонил ему и наткнулся на дальнего родственника, знакомого с другими ветвями семейства Гудвин, который направил его к Бетти Фроули, живущей в Роаноке. Ее девичья фамилия была Гудвин, и она приходилась дочерью Майку Гудвину, двоюродному дяде того родственника.
— Миссис Фроули?
— Если вы что-то предлагаете, нам ничего не нужно.
— Нет, мэм, я ничего не предлагаю. Я Боб Ли Свэггер, бывший морской пехотинец, звоню из Крейзи-Хорз, штат Айдахо, по личному вопросу. Я пытаюсь разыскать свою тетку, в девичестве Агнес Боумен, которая в зрелые годы вышла замуж за учителя из Виргинии по фамилии Гудвин…
— Тетя Агнес!
— Да, мэм.
— Ой, у нее было золотое сердце, благослови Господь ее душу. Она вышла замуж за папу после смерти матери, и, хотя я ни за что на свете не скажу про свою мать дурного слова, смею вас заверить, что годы, прожитые вместе с тетей Агнес, были лучшими в его жизни. И она ухаживала за ним до самой его смерти.
— Это она делать умела.
— К сожалению, сама тетя Агнес ненадолго его пережила. Вы служили в морской пехоте?
— Да, мэм.
— Послушайте, а в тысяча девятьсот шестьдесят восьмом году это не вы приезжали в гости к тете Агнес? Мне тогда было одиннадцать лет, и у меня в памяти отчетливо сохранился образ красивого высокого молодого мужчины, при виде которого трепетали женские сердца. Он только что вернулся из Вьетнама, где был награжден несколькими медалями. Насколько мне помнится, он приходился тете Агнес племянником. Это случайно не вы?
— Да, мэм, я, хотя если я когда-либо и был красивым, сейчас меня таким уж точно не назовешь. Я прекрасно помню тот день в Оранде. Как оказалось, это была моя последняя встреча с тетей Агнес. Она воспитывала меня после того, как мой отец умер, а у моей матери — ее сестры — начались кое-какие проблемы.
— В те времена родственные узы были крепки. Да, тогда все обстояло именно так. Сейчас все уже по-другому, но в те времена родственники помогали друг другу.
— Мэм, я позвонил вам, исходя из очень смелого предположения. Мой отец умер в тысяча девятьсот пятьдесят пятом году, и именно тогда тетя Агнес переехала к нам; она жила с нами до пятьдесят восьмого или пятьдесят девятого года. Как я уже сказал, у моей матери тогда начались неприятности. На какое-то время тетя Агнес стала полной хозяйкой в доме. Я пытаюсь собрать все предметы, документы, представляющие память о моем отце. Он тоже служил в морской пехоте, а затем работал в полиции и умер в самом расцвете сил. И вот я подумал, быть может, У тети Агнес сохранились какие-то вещи, которые затем перешли к вам, и среди них есть что-то, что связано с моим отцом и о чем я забыл или никогда не знал.
— Похоже, вы пытаетесь восстановить память о своем отце.
— Наверное, мэм.
— Что ж, кажется, была какая-то коробка. Правда, я не уверена, что она переехала вместе со мной. Там было такое старье, но у меня рука не поднялась просто взять и все выбросить. В конце концов, это же чья-то чужая жизнь, ее нельзя выкинуть.
— У вас осталась эта коробка?
— Если осталась, она лежит где-то в подвале и надо ее искать.
— Мэм, если можно, я буду счастлив приехать и помочь вам.
— Знаете что, сержант, у меня сейчас особых забот не осталось, так что я могу и сама управиться. Оставьте мне номер своего телефона, и мы посмотрим, удастся ли что-нибудь найти.
И вот через три недели — Боб провел эти три недели в полном одиночестве, воюя с сорняками на своем участке, каждый день махая косой, срезая траву и кусты, — из Роанока, штат Виргиния, пришел по почте объемистый пакет.
Боб вскрыл его в тот же вечер.
О господи!
Первым делом он увидел фотографию, сделанную где-то в 56-м или 58-м году, на которой были сняты он сам, его мать в редкий для нее трезвый день и строгая тетя Агнес, сидящие втроем за столиком в летнем кафе. Сам Боб был тогда худым и долговязым и носил бейсболку, футболку и джинсы. На обороте выцветшими фиолетовыми чернилами была сделана подпись: «Боб Ли, Джун и Агнес, Литл-Рок, 5 июня 1958 года».
Эта фотография не принесла ничего, абсолютно ничего.
Далее последовали свидетельство о смерти матери, пожелтевшие страховые полисы, ее водительские права, банковская книжка со штампом «АННУЛИРОВАНО» на обложке, несколько рождественских открыток от соседей, чьи имена для Боба ничего не значили, некролог на смерть Джун из газеты, выходившей в Форт-Смите, маленькая брошь в виде распятия, которую, судя по всему, носила мать, еще несколько фотографий, преимущественно незнакомых людей, опять официальные документы и несколько писем, в основном нераспечатанных.
Всего писем было восемь. Судя по всему, они пришли в те три года, когда Агнес жила вместе с Бобом и Джун; одни были адресованы миссис Свэггер, другие — вдове сержанта Свэггера, третьи — просто Джун.
Боб распечатал их одно за другим. Бывший однополчанин Эрла выражал свои соболезнования и рассказывал о том, как Эрл спас ему жизнь на Гуадалканале. Школьная подруга Джун справлялась о ее здоровье и выражала свою благодарность. Администрация округа Гарланд прислала счет по уплате налогов (Боб вспомнил, что в 1984 году он наконец оплатил этот счет). Дочь полковника Уильяма О. Дарби, еще одного героя войны из Арканзаса, прославившегося во время высадки в Италии и погибшего во Франции, выражала свои соболезнования и предлагала моральную и даже материальную поддержку, если в том есть необходимость. «Ого, — подумал Боб, — вот и говори после этого о классе».
И наконец, нераспечатанное письмо со штемпелем почтового отделения Кенилуорта, штат Иллинойс, от 4 октября 1959 года, конверт из плотной бумаги кремового цвета с изящным тиснением, провозглашающим, что отправителем является Джон Г. Калпеппер, проживающий в доме 156 по Шеридан-роуд.
Аккуратно вскрыв конверт, Боб достал лист такой же плотной кремовой бумаги с фамилией и адресом Калпеппера, аккуратно отпечатанными вверху.
Уважаемая миссис Свэггер!
Я очень сожалею, что мое письмо опоздало. Лишь вчера я совершенно случайно узнал о том, что ваш муж трагически погиб четыре года назад. С самого конца войны я не поддерживал никаких отношений с морской пехотой. Однако, узнав об этом прискорбном происшествии, я счел необходимым выразить свои соболезнования. Эрл Свэггер был великим человеком, и он помог мне в тот день, когда я больше всего нуждался в помощи.
Я, молодой капитан морской пехоты, в силу обстоятельств был назначен командовать ротой «А» второго батальона 28-го полка морской пехоты во время сражения за Иводзиму. Сказать, что я не располагал достаточными знаниями и опытом для этой должности, было бы большим преуменьшением.
Решающий час настал в день «Д плюс два», как мы его называли, — через два дня после высадки. Моей роте было поручено взять штурмом прекрасно укрепленный рубеж обороны японских войск. Предоставленный самому себе, я погубил бы себя и, что гораздо важнее, своих людей, потому что, сказать по правде, я понятия не имел, что делать. Назначение в действующую армию я получил благодаря связям, потому что считал своим долгом воевать.
Так или иначе, из штаба полка в помощь мне был прикомандирован Эрл, первый сержант батальона. И он мне определенно помог!
Не сомневаюсь, вы читали наградной лист. Я горжусь тем, что написал его сам и приложил все силы к тому, чтобы он был одобрен. Лично я считаю это наивысшим достижением в своей — между нами — совершенно посредственной военной карьере. То, что совершил в тот день Эрл, несомненно, является одним из величайших подвигов в истории войн. Следя за его действиями со своего наблюдательного пункта внизу склона, я видел настоящего героя. Никто не сможет сказать, сколько японцев вели по Эрлу огонь, но он не колебался ни мгновения и в одиночку уничтожил опорный пункт. В тот день Эрл спас жизнь сотне наших солдат!
В любом случае, через несколько дней я получил ранение, положившее конец моим военным приключениям. Поскольку я не успел установить близкие отношения ни с кем из своих однополчан, то, попав в полевой госпиталь, я не оказался в центре внимания. В полном одиночестве, в отвратительном настроении я лежал в палатке, ожидая эвакуации. И тут меня навестил не кто иной, как легендарный первый сержант Свэггер! Я никогда не забуду этот день. В нашем батальоне на него смотрели как на бога, и вот он зашел ко мне.
Эрл сказал: «Ну, господин капитан, вижу, вас немного зацепило».
«Да, первый сержант, — ответил я. — Я отпрыгнул в сторону, а япошка, похоже, предвидел, что я поступлю именно так. Мое счастье, что он поторопился». (Ранение было в ногу.)
«Сэр, я хочу передать вам вот это. В тот день именно вы, командовали ротой, вы возглавляли штурм, а я лишь находился рядом. Так что это ваше. Быть может, это хоть немного улучшит ваше настроение».
С этими словами он протянул мне какой-то продолговатый предмет длиной около двух футов, завернутый в тряпку. Быстро развернув тряпку, я увидел японский меч, так называемый меч банзай, — с такими ходили в бой японские офицеры.
«Этот меч мне дали ваши ребята, когда я после боя возвращался в штаб, — продолжал Эрл. — Его нашли в доте. Забрали у убитого японского офицера, перед тем как сжечь все огнеметами. Тот тип попытался обрить меня этой штуковиной наголо. А я подумал, что вам, наверное, будет приятно его получить».
Должен вам сказать, что такие японские мечи считались очень ценными военными трофеями, а захваченные в бою — тем более. Я мог бы его продать, и действительно в последующие недели другие офицеры не раз хотели купить у меня этот меч, предлагая за него пятьсот долларов. Однако он был мне очень дорог.
Но на самом деле меч мне не принадлежит. Я его не заслужил. Меч заслужил Эрл, отдавший его мне только из чувства сострадания к молодым ребятам, которые на войне делали все, что было в их силах, хотя в моем случае это было совсем немного.
И вот я думаю: какое у меня право обладать этим мечом? Пожалуйста, разрешите переслать его обратно вам. Насколько я понимаю, у Эрла сын. Пусть меч достанется ему, хотя должен вас предупредить, что он очень острый и мой сын здорово им порезался. Однако меч будет лучшей памятью о том, что сделал Эрл в тот день. Пожалуйста, дайте знать, хотите ли вы, чтобы я прислал вам меч.
Джон Г. Калпеппер, Кенилуорт, штат Иллинойс.Джулия подбросила Боба до аэропорта Бойсе, названного в честь летчика, героя Второй мировой войны. Оттуда он долетел до Денвера, а затем совершил более длинный перелет до Чикаго, где приземлился в другом аэропорту, названном в честь еще одного героя Второй мировой войны, тоже летчика. Там его уже ждала заказанная машина.
— Я вернусь завтра вечером, — расставаясь с женой, сказал он, — В двадцать два пятнадцать. Хочешь, я возьму до дома такси? Я знаю, что у тебя будет тяжелый день.
— Нет-нет, я тебя встречу.
Джулия была необычайно красивой женщиной, хотя возраст уже коснулся ее золотисто-соломенных волос и отчасти глаз. В прошлом медсестра, сейчас она заведовала больницей в восточном пригороде Бойсе, любила свою работу и полностью отдавалась ей. На взгляд Боба, Джулия до сих пор оставалась самой прекрасной женщиной на свете. Она была матерью его единственного ребенка; она была женщиной, которая много лет назад взяла его под свою опеку и дала ему в жизни шанс, когда, казалось, весь мир был настроен его уничтожить. В их браке, долгом, немного потускневшем, пылкая страсть уступила место дружбе и взаимному уважению.
— Хорошо, я…
— Боб, а это не станет одной из твоих штучек?
Жена знала его настолько хорошо, что это пугало.
— Ну, не думаю.
— Я тебя знаю. По-настоящему счастлив ты был только тогда, когда вместе с Донни Фенном бродил по джунглям. Вы охотились на людей, а те, в свою очередь, охотились на вас.
Джулия хорошо знала Донни Фенна: она была замужем за ним до тех пор, пока он не погиб во Вьетнаме, спасая своего командира. Этим командиром был Боб.
— Я просто пытаюсь найти меч для того японского господина. Он произвел на меня впечатление очень порядочного человека, и мне бы хотелось ему помочь. Только и всего.
— Да, но мне знакома твоя одержимость. Если тебе что-нибудь взбредет в голову, это будет расти, становясь все больше и больше, и в конце концов ты снова отправишься в какой-нибудь Вьетнам.
Такое действительно уже случалось, притом несколько раз.
— Иногда ты просто не можешь удержаться. Кто-нибудь обращается к тебе за помощью, и ты считаешь своим долгом откликнуться. А в этом с тобой не сравнится никто. Это всем известно.
— Иногда у меня получается неплохо.
— Но сейчас к тебе никто не обращался. Вот чего я не понимаю. То, что ты делаешь ради этого японца, очень благородно. Но это уже слишком. Что происходит? Почему ты так остро чувствуешь свой долг? Почему это имеет для тебя столь большое значение? Это не отговорка, не предлог отправиться в какой-нибудь очередной безумный крестовый поход?
— Нет, мэм. Просто мне кажется, что я в долгу перед своим отцом. И перед отцом этого японца.
— Твоего отца нет в живых аж с тысяча девятьсот пятьдесят пятого года. А его отца — и того дольше, с тысяча девятьсот сорок пятого. Все это было так давно. Ну как можно испытывать чувство долга по отношению к человеку, который умер полвека назад?
— Знаешь, дорогая, если честно, я сам не до конца понимаю. Но я должен это сделать. Должен — и все.
— Только не ищи способ отправиться на войну, ладно? Хорошая жизнь — здесь, дома. Ты ее заслужил. Так наслаждайся же ею.
— Для войны я слишком стар, — сказал Боб. — Мне просто хочется выпить и лечь спать, но пить ты мне не позволяешь, так что, наверное, я просто хочу спать.
— На том и порешим, — сказала Джулия.
Глава 6 БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОСОБНЯК
Боб пропустил его, проезжая через Кенилуорт первый раз. Городок протянулся на милю вдоль берега озера Мичиган примерно в пятнадцати милях к северу от Чикаго. Дома были большие, настоящие особняки; очевидно, этот Кенилуорт был тем местом, где жили богатые, а если они к тому же жили с видом на озеро, это, наверное, означало, что они еще богаче.
Но затем Боб его нашел: в первый раз он проехал мимо, потому что никакого дома не было, а была только арка ворот, увитая виноградом и погребенная в тени раскидистых вязов. Нужно было всмотреться очень пристально, чтобы разглядеть на столбе цифры «156». Боб свернул, проехал на взятой напрокат машине несколько сотен ярдов по тоннелю среди деревьев и наконец выскочил на яркий свет, оказавшись на круговой подъездной дорожке перед большим красивым белым домом, одним из тех легендарных особняков с сотней спален, мраморными плитами на полу и гаражом на шесть автомобилей. В таких домах жили великие семейства — в те далекие времена, когда великие семейства еще были.
Выйдя из машины, Боб постучал в дверь, и через какое-то время к нему вышел мужчина одних с ним лет, с густой бородой, одетый во все черное. Не вызывало сомнений, что мужчина любит выпить. В руке он держал стакан прозрачной темной жидкости.
— Мистер Калпеппер?
— А вы, я так понимаю, мистер Боб Ли Свэггер.
— Да, сэр, это я.
— Клёвое имя. Такое южное. Боб Ли. Проходите. Вы приехали тютелька в тютельку. Сказали, что будете в два часа, и сейчас ровно два часа.
— Благодарю вас, сэр.
Боб прошел в дом. Красивый дом, но красивый по-музейному. Казалось, здесь не живут, а лишь сохраняют и поддерживают красоту.
— Очень мило, — заметил Боб.
— А то как же, но вы попробуйте его продать. У вас случайно не завалялось в кармане лишних шесть миллионов, а?
— Нет, сэр.
— Я так и думал. Ладно, выпить не хотите? Готов поспорить, вы выпить любите.
— Любил, но это осталось в прошлом. Благодарю вас, сэр, сейчас я вынужден отказаться. Один стаканчик — и я очухаюсь только три дня спустя, в Шанхае и с новой женой.
— Со мной однажды действительно произошло такое! Ну, почти такое. Вы разводились?
— Было дело. И свою роль здесь сыграла выпивка.
— Без шуток, да? Я стараюсь на протяжении всего дня оставаться в приятном подпитии, по крайней мере пока не кончится вся эта дрянь. Если не возражаете, я плесну себе еще.
Остановившись перед баром, Калпеппер снова наполнил стакан дорогим виски и бросил туда кусок льда, затем обернулся.
— Как я вам уже сказал, меч я помню. Я о него здорово порезался еще в пятидесятых. Он был очень острый. Достаточно было лишь на него взглянуть — и начинала течь кровь.
— Насколько я понимаю, мечи времен войны предназначались только для того, Чтобы убивать. В остальном это был обычный хлам. Совсем не те причудливые мечи, которые носили древние японцы в пышных одеждах.
— Моя рука до сих пор помнит, какой он был острый.
Засучив левый рукав, Калпеппер показал Бобу шрам, длинный и страшный.
— Пришлось накладывать сорок швов, дружище, — сказал он. — Это моя единственная претензия на то, чтобы выглядеть «настоящим мужчиной». Люди смотрят на этот шрам и думают, что я участвовал в поножовщине. А вам приходилось участвовать в поножовщине?
— К сожалению, однажды мне пришлось убить человека ножом.
— Я так и думал. Вижу, мне никак не удается произвести на вас впечатление. Ну да ладно. Как я уже говорил, отец умер несколько лет назад. В качестве его единственного ребенка я унаследовал дом. После войны отец занялся рекламой, и получилось у него очень неплохо. Но мы с ним словно с разных планет. Отец шел своей дорогой, я — своей. Реклама не для меня. Мне ни разу в жизни не хотелось произнести слово «клиент», и я его не произносил. Я подался в телевидение. Поэтому мне не приходилось говорить «клиент». Вместо этого я был вынужден говорить «спонсор». Так или иначе, мне нужно продать этот дом, чтобы расплатиться за третий развод, который обошелся в кругленькую сумму. Ну почему избавиться от молодых и красивых так трудно?
— Это я вам не могу сказать, сэр, — улыбнулся Боб.
— Да потому, что им еще никогда не приходилось слышать слово «прощай». Поэтому, когда ты им его говоришь, они принимают его слишком близко к сердцу. — Калпеппер рассмеялся. — Последняя моя жена хочет в дополнение к состоянию моего отца получить на обед мою селезенку. Поразительно.
— Похоже, мистер Калпеппер, вам приходится несладко.
— Послушайте, от этой работенки даже такого действительно крутого парня, как вы, прошибет холодный пот. Если не возражаете, я отведу вас в кладовку на чердак и оставлю одного. Может быть, меч там, может быть, его там нет. Честное слово, не знаю, что с ним произошло. У меня нет никакого желания копаться во всем этом хламе. Надеюсь, вы меня понимаете?
— Разумеется. У меня на чердаке тоже полный кавардак.
— И еще… как бы это сказать? Если вы наткнетесь на что-либо личное… понимаете, интимное… Может, мой старик хранил порнуху, письма от любовницы или даже от любовника или еще черт знает что… Что-то нескромное… Просто оставьте все как есть, хорошо? Меня не слишком интересует так называемая правда. Мне бы хотелось помнить отца тем нелюдимым, холодным, мрачным трупом, каким он был при жизни. Для меня было бы большим потрясением узнать, что он тоже обладал человеческими чувствами.
— Я вас понял.
Поднявшись на третий этаж, они прошли до конца по коридору и оказались в комнате.
— Одним словом, оставляю вас, двух морских пехотинцев, наедине. Если отец не избавился от меча, он, скорее всего, до сих пор здесь. Честное слово, не торопитесь, чувствуйте себя как дома. Туалет в коридоре. Если захотите выпить, сделать перерыв на обед — только свистните. Я здесь совсем один, вместе со своими бракоразводными проблемами, пытаюсь связаться с дочерью, которая сбежала с человеком, называющим себя кинодокументалистом. Вы не заметили? В наши дни все они кинодокументалисты. Если я вам понадоблюсь, только крикните. На самом деле это ваш меч, в большей степени, чем мой, и старый мерзавец порадуется, узнав, что меч наконец вернулся к вам, а затем в Японию.
— Благодарю вас, сэр.
— И еще, пожалуйста, не величайте меня сэром. Я просто Том. Мальчишка Джона, Том, сын того самого мистера Калпеппера из компании «Калпеппер, Таунсенд и Мазерс».
— Все понял, Том.
— А можно, я буду называть вас «сардж»? Мне всегда хотелось называть кого-нибудь «сардж», как в кино.
— Конечно, но только я больше привык к «ганни».[8] Так обычно называют комендор-сержантов, которые есть только в морской пехоте.
— «Ганни». О, круто. Итак, ганни, за работу!
Боб обвел взглядом то, что осталось от человека, который командовал, хотя и очень недолго, ротой «А» второго батальона 28-го полка морской пехоты на далеком острове под названием Иводзима, в аду, представить себе который не могли ни его единственный сын, ни даже «ганни» Свэггер, трижды побывавший во Вьетнаме.
Коробка за коробкой Боб двигался назад по жизни Джона Г. Калпеппера, восстанавливая его биографию. Две жены, притом вторая — значительно красивее и моложе первой, подцепленная где-то в середине шестидесятых, когда единственному ребенку Томми — он тоже присутствовал здесь, кучерявый толстячок, подавленный своим блистательным и удачливым папашей, — исполнились беспокойные пятнадцать лет.
Наконец через час и тридцать пять коробок, пройдя через похождения в рекламном бизнесе, Боб добрался до Второй мировой войны. Вероятно, была еще коробка, посвященная Йельскому или Гарвардскому университету, где учился этот парень. Однако в коробке, отданной войне, был только обычный хлам: ленточки за отличную службу, медали за участие в кампаниях, «Пурпурное сердце» за ранение, другие безделушки. Ценность представлял лишь военный билет, в котором перечислялись все должности, без пометок о том, насколько им соответствовал молодой офицер. Быстро пролистав военный билет, Боб увидел, что вначале Джон Калпеппер был назначен в 1944 году командовать взводом морской пехоты, находящимся на борту линкора «Айова». По сути дела, это был билет на безмятежное существование до конца войны. Между строк назначения так и читалось: «Богатенький мальчик, мы о тебе заботимся. Когда все закончится, ты вернешься домой с парой звезд за участие в кампаниях на Тихом океане, в звании капитана. Ты будешь похваляться рассказами о своих подвигах, насмехаясь над всеми теми О'Тулами и Зуковски, которым пришлось лежать под пулями на красном песке».
Но Джон хотел воевать. Он мог бы спокойно отсидеться, однако записи в военном билете показывали, что в конце января 1945 года он перевелся с «Айовы» на десантный корабль ЛСИ-552, на котором подразделения 28-го полка медленно двигались на свидание со смертью в составе самого крупного десанта морской пехоты за всю войну. Определенно такой перевод был необычен. Конечно, не исключено, что на борту ЛСИ-552 произошел несчастный случай, один из офицеров получил травму и больше не мог выполнять свои обязанности, поэтому пришлось спешно забирать Джона. Также не исключено, что Джон, находясь на борту «Айовы», напортачил серьезно, по-крупному, и его отправили на передовую в качестве наказания. Однако этот перевод нес на себе следы длинной и сложной комбинации, которую вели влиятельные люди, помогая одному мальчику одним, а другому — другим. Такое происходит сплошь и рядом. Во время войны во Вьетнаме ребята, не пробыв на передовой и месяца из положенных тринадцати, вдруг бесследно исчезали, а затем выяснялось, что они отозваны на работу в Пентагон. Мальчик пожаловался мамочке, та пожаловалась папочке, а папочка в прошлом оказал одному конгрессмену услугу на миллион долларов, и вот малыш садится на первую же «птицу свободы», которая возвращается домой, оставляя в джунглях О'Тулов и Зуковски, а сейчас еще и Рузвельтов с Санчесами.[9]
Но Джон Калпеппер был не из таких. Он использовал свои связи, чтобы попасть на фронт, а не избежать его. В это трудно поверить, но такой была Вторая мировая война.
Ему пришлось изрядно потрудиться. Год, проведенный в безделье на борту линкора, вряд ли можно было назвать лучшей подготовкой для такого испытания, как Иводзима. Переведясь в 28-й полк, Джон не знал ни командира, ни других офицеров, ни солдат. Он пошел в бой, почти не имея психологической поддержки, что еще больше усугублялось особой жестокостью Иводзимы.
Итого: Джон Калпеппер воевал на Иводзиме неделю. На третий день из штаба полка прибыл Эрл Свэггер, по сути дела возглавивший роту и осуществивший успешный штурм дота на северо-западном склоне Сурибачи, что позволило 28-му полку полностью окружить и отрезать этот вулкан высотой пятьсот футов. А через несколько дней рядом взорвался снаряд; молодому офицеру перебило ноги. Трое суток он провел в полевом лазарете, после чего его забрали на борт госпитального судна. Джон вернулся лечиться на Гавайи, где женился на Милдред, девушке, с которой был помолвлен, матери Томми, дурнушке из Бостона. К тому времени как он поправился и смог продолжать службу, уже были сброшены атомные бомбы и война, по сути дела, завершилась. Джон Калпеппер вернулся домой героем, вероятно, так ни разу и не выстрелив из своего карабина.
Это не имело значения. Он выполнил свой долг, хотя, наверное, все время, проведенное на передовой, не находил себе места от страха. Именно они и одерживают победу в войне, десятки и сотни тысяч неуклюжих джонов калпепперов, а не двое-трое эрлов свэггеров.
Но никакого меча здесь не было.
Торопливо пройдясь по оставшимся коробкам, в которых были собраны воспоминания о беззаботном детстве и учебе богатенького мальчика, и оставив без внимания семейные альбомы, в которых, несомненно, было представлено то же самое, Боб наконец вынужден был признать обескураживающую правду.
Здесь меча нет.
Но где он может быть?
О, его давным-давно выбросили. Вероятно, после того как Томми пришлось наложить сорок швов, старик решил, что такую опасную штуковину лучше убрать из дома, и выбросил меч. Тот отправился на кенилуортскую свалку, где заржавел в полном забвении или был смят бульдозером.
Боб напряг свои мыслительные способности.
Каково главное качество меча?
Разумеется, его острота, но это если рассматривать меч как оружие. А если взглянуть на него просто как на предмет, ответ будет очевиден: его очень неудобно хранить.
Он длинный, тонкий и изогнутый. Конечно, его можно выставить на всеобщее обозрение, повесить на стену, но он не поместится ни в одну обычную картонную коробку — нет, его нужно будет запихивать силой.
А кто заполняет эти коробки? Скорее всего, рабочие, нанятые сыном-наследником, на которого внезапно свалился дом. Этот дом ему особенно не нужен, с ним у него не связано теплых воспоминаний, однако в нем необходимо более или менее навести порядок, продать его до того, как жена подаст на развод. Поэтому кто-то собрал вещи, аккуратно висевшие на крючках и лежавшие на полочках, ни о чем не заботясь, не имея никакого отношения к семье, не понимая особого смысла меча, захваченного в бою…
Боб открыл первый шкаф. Нет. Но, открыв второй шкаф, он обнаружил три сумки с клюшками для гольфа, и в третьей, среди шести- и семидюймовых колышков и клюшек для подачи и добивания, лежал син-гунто капитана Хидеки Яно.
— Том?
— О, вижу, вы его нашли, — сказал Том Калпеппер, поднимаясь из-за письменного стола в бывшем кабинете своего отца, помещении слишком строгом для такого балагура, как он.
У него в руках был неизменный стакан виски, судя по всему, только что наполненный заново.
— Нашел. Он лежал в сумке с клюшками для гольфа. Я подумал, вы захотите на него взглянуть.
— Да, наверное. Да, это тот самый меч, — сказал Том, беря меч и поднося его к свету. — Вот, позвольте вам кое-что показать. Видите этот колышек или как там его?
Он указал на штифт, торчащий в рукояти в нескольких дюймах ниже круглого эфеса старого меча. Похоже, штифт был замазан черной смолой или чем-то другим, липким и вязким. Однако под определенным углом света на нем были отчетливо видны крошечные вмятинки.
— Я прекрасно помню тот день, когда порезался. Я стащил меч из отцовского кабинета, и мы с приятелями стали играть в пиратов, размахивая им. Это было году в пятьдесят седьмом или пятьдесят восьмом, где-то так. Затем нам пришла блестящая мысль разобрать меч. Не спрашивайте зачем. Осмотрев меч, мы определили, что его скрепляет эта маленькая деревянная затычка, вставленная в дырочку. Вот видите, она проходит через рукоять насквозь. Насколько я понимаю, с ее помощью рукоять крепится к лезвию.
— Вижу, — подтвердил Боб, уже успевший узнать правильные названия: бамбуковый штифт именовался «мекуги», а отверстие, в которое он был вставлен, — «мекугияна».
— Но она застряла намертво. Мы попробовали выбить ее молотком и гвоздем, но лишь оставили на ней зазубрины. Господи, сейчас, когда я вспоминаю об этом, мне даже становится как-то стыдно. Мы ни о чем понятия не имели. Для нас это была просто большая сабля, которой можно сражаться с пиратами.
— Вы тогда были еще совсем маленькими. Откуда вам знать правду?
— В общем, нам так и не удалось ее выковырять. Мне стыдно вспоминать, как эта штуковина лежала на полу, а я колотил по ней что есть мочи. Лезвие ободралось о каменный пол. Она явно чем-то залеплена. Какой-то густой черной гадостью. Не знаю, кто ее намазал — тот японский офицер, ваш отец, мой отец или это было сделано еще на заводе. Одним словом, затычка эта совсем не вылезает.
— Да, вы правы. Наверное, это сделано для того, чтобы рукоять нельзя было снять с лезвия. Ну же, выньте меч из ножен.
Том, сын Джона Калпеппера, достал меч, и лезвие тихо зажужжало, скользя по тесным металлическим ножнам. Однако он вытащил его довольно легко и взмахнул мечом над головой.
— Ого, — почтительно произнес Том, — этому малышу по-прежнему хочется что-нибудь разрезать. Знаете, он до сих пор меня пугает.
Он передал меч Бобу, и тот, принимая его, ощутил некий разряд. Что именно — дрожь, трепет, вибрацию? Как будто малышу действительно по-прежнему хотелось что-то разрезать.
С первого взгляда было видно, что меч идеально подходит для тех целей, ради которых создавался. От него буквально веяло святотатственной силой. По обеим сторонам вдоль слегка изогнутого лезвия, почти у самого острия, проходили волнообразные линии — Боб уже знал, что они называются «кисаки». Да, казалось, мечу и правда хочется что-нибудь разрезать, нанести кровавую рану. Он был идеально сбалансирован, но в лезвии было и нечто большее, нечто причудливо живое. Боб слегка взмахнул мечом, и ему показалось — он готов был в этом поклясться, — что внутри лезвия спрятана какая-то мягкая сердцевина, которая по инерции сместилась вперед, еще быстрее увлекая меч к цели.
Боб поднес меч к свету. Лезвие и правда многое повидало на своем веку, и не только мальчишек, которые колотили по нему чем попало на бетонном полу гаража. При внимательном рассмотрении было видно, что сталь матовая и покрыта паутиной маленьких трещинок и царапин. Кое-где на поверхности чернели маленькие точки. На острие — якибе, как уже знал Боб, — присутствовали микроскопические сколы; то ли мальчишки колотили им по дереву, то ли японский офицер перерубал шею морскому пехотинцу. Эфес — цуба — представлял собой толстое стальное кольцо, чем-то похожее на изящный поднос. Рукоять оказалась липкой: она была обтянута рыбьей кожей, затем тщательно обмотана плоским хлопчатобумажным шнуром, который потемнел от пота и грязи, местами протерся и разлохматился.
При взмахе меч тихо-тихо позвякивал, потому что, как разглядел Боб, эфес был закреплен с помощью муфты неплотно — эта муфта тоже как-то называлась, но Боб забыл, — и поэтому слегка играл на лезвии.
— Помнится, когда я был мальчишкой, мы этим мечом резали листы бумаги, вот какой он был острый, — сказал Том Калпеппер. — Давайте попробуем.
Обеими руками он схватил за края лист плотной писчей бумаги. Боб нежно прикоснулся острием к бумаге и ощутил, как лезвие застыло на миг, затем плавно скользнуло вниз. Том бросил на пол разрезанный пополам лист.
— Не могу поверить, что он настолько острый! — воскликнул он. — Таких острых вещей не бывает!
Глава 7 МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ НАРИТА
«Не кипятись.
Не кипятись».
Однако Бобу с огромным трудом удавалось держать себя в руках.
«Это испытание, — твердил он себе. — Они хотят испытать гайдзина. Хотят убедиться, обладаю ли я достаточной мудростью, терпением, стремлением к вежливости и церемониям, чтобы со мной стоило иметь дело в Японии».
«А может быть, — возражал Боб самому себе, — все дело в том, что фараоны везде одинаковые: им просто на все наплевать».
Так или иначе, результат был один и тот же. Боб сидел в отделении полиции международного аэропорта Нарита, в сорока милях от Токио. Это было голое, чисто функциональное место, нисколько не похожее на щегольские залы ожидания прекрасного аэропорта, расположенные на верхних уровнях, — те напоминали кишащие народом торговые ряды. Здесь, двумя уровнями ниже того блеска, который встретил Боба, все было отдано только работе.
Боб был уверен, что предусмотрел все. Обнаружив меч, он позвонил полковнику в отставке Бриджесу, главе отдела истории морской пехоты, и тот вызвался заняться бумагами, каковых оказалось великое множество. К счастью, у Бриджеса были связи в Вашингтоне, и знакомые его знакомых работали в управлении Организации внешней торговли Японии (ОВТЯ) на Западном побережье. В свою очередь, эта организация была каким-то таинственным и загадочным образом связана с Министерством экономики, торговли и промышленности (МЭТП), могущественным правительственным ведомством, которое отвечало буквально за все. В конце концов была достигнута договоренность с таможней о ввозе меча в Японию. По прибытии в карантинную зону его должны были сразу же передать в отделение полиции аэропорта Нарита, где на него было бы оформлено соответствующее разрешение. С таможенным сертификатом и разрешением все было бы уже полностью по закону.
Однако где-то что-то пошло наперекосяк. И Боб вынужден был торчать в комнате предварительного заключения — вместе с избитыми корейскими рабочими, вместе с разъяренными клерками, которые, напившись в ожидании рейса, начали буянить и в итоге попали в полицию, предварительно получив дубинкой по затылку, вместе с карманными воришками и мошенниками и, может быть, с двумя-тремя мелкими гангстерами, поскольку, как говорят, гангстеры в Японии встречаются повсюду. Боб знал, что здесь их называют «якудза» или, сокращенно, «яки».
Но:
— Ждите, ждите, ждите.
Наконец:
— Ах да, вы везли меч.
Следователь был в бледно-синем мундире, в черной кобуре на поясе висел маленький револьвер — возможно, «смит-вессон»? Вежливый, учтивый, он нисколько не походил на своих заносчивых американских коллег.
— Да, сэр. Все документы здесь. Мне не хватает только разрешения, которое как раз должны были выдать вы.
— Об этом была договоренность?
— Да, сэр, вот письмо. — Боб протянул письмо. — Это военная реликвия. Отец мистера Яно погиб на войне, и его меч пропал. Я полагаю, что вот это как раз его меч, захваченный в бою моим отцом. Мистер Яно приезжал в Америку в поисках меча своего отца. Тогда его у меня не было, и мне потребовалась пара месяцев, чтобы его найти, но теперь, надеюсь, он у меня в руках.
Полицейский в форме взял документ.
— Предполагалось, что меч принесет вам сотрудник таможни. Все было заранее оговорено. Меч — очень опасная вещь. Вам придется подождать. Я все проверю, а затем вызову вас. Будьте добры, вернитесь на свое место.
И вот Боб-сидел и ждал. Он думал, что все займет не больше нескольких минут, но минуты тянулись одна за другой до тех пор, пока их не набралось шестьдесят, а затем еще шестьдесят. Наверное, можно было выйти, купить книгу, газету, чашку кофе — хоть чем-нибудь себя занять. Боб никогда не умел сидеть на месте.
У всех остальных его собратьев по несчастью терпения было гораздо больше. Они сидели, не произнося ни звука, практически не двигаясь, без суеты, и течение времени не имело для них никакого значения.
Называлась фамилия, человек поднимался с места, его допрашивали, отпускали, задерживали, он давал показания, присутствовал при опознании, — чем еще занимаются в полицейских участках?
Наконец к исходу третьего часа была названа какая-то фамилия, и Боб не сразу сообразил, что в обилии раскатистых «р» прозвучало какое-то подобие его собственной фамилии. На самом деле было произнесено что-то вроде «Сувагга».
— Да-да, я здесь.
— А. Да. Вы идите, пожалуйста.
Боб последовал за полицейским, другим, более щуплым, более молодым, но тоже в форме и с маленьким револьвером в кобуре, и прошел через комнату дежурных, больше похожую на страховую контору, потому что здесь не было той атмосферы унижения и страха, какая царит в американских полицейских участках.
Наконец Боба провели в комнату. Офицер полиции встал при его появлении и вежливо указал на стул.
— Приношу свои извинения, но нам пришлось все проверить. Министерство экономики, торговли и промышленности не посчитало нужным посвящать нас в свои планы. Что поделать, бюрократия.
— Я все понимаю. Извините, что доставил вам столько хлопот.
— Пришлось звонить в ваше посольство, затем связываться с министерством, а нужный человек как раз вышел на обед. Понимаете, все это очень необычно.
— Ну да, обычно никто не ввозит мечи в Японию. Они такие красивые, что, как правило, все происходит наоборот. Еще раз извините за беспокойство.
— Будьте добры, расскажите мне все снова.
Боб повторил свой рассказ, стараясь говорить короткими и ясными предложениями. Его отец, капитан Яно, Иводзима. Неожиданный приезд, просьба. Находка, решение почтить память своего отца и отца мистера Яно, самого мистера Яно и все его семейство. ОВТЯ, МЭТП, разговор с представителем МЭТП в Лос-Анджелесе, письмо, ощущение достигнутой договоренности. Он закончил словами:
— Остались какие-нибудь проблемы?
— Одна, совсем маленькая. Видите ли, этот меч является син-гунто. Вы знаете, что такое син-гунто?
— Конечно. Армейский меч. Я понимаю, в нем нет ничего особенного, он не похож на те красивые мечи, какими славится прошлое Японии.
— Да. Вы сами видите, что этот меч не представляет собой никакой ценности. Произведением искусства в отличие от других мечей его никак не назовешь. Он старый, здорово изношенный. Но вы не учли то обстоятельство, что у нас есть постановление, запрещающее ввоз таких армейских мечей.
— Таких мечей?
— Да. Видите ли, он является гендайто…
— Современным.
— Да, поэтому формально это не антикварный предмет, повествующий о нашем наследии и отражающий мастерство наших оружейников. Это просто оружие. И мы должны отнестись к нему так, как отнеслись бы к пистолету. Вам известно, что в Японии нет огнестрельного оружия.
— Именно поэтому я оставил свою базуку дома.
— Замечательное решение. Так или иначе, меч гендайто и пистолет с точки зрения японских законов ничем не отличаются.
— Как скажете.
— Но я все понимаю и с уважением отношусь к вашему поступку. Судя по всему, человек, приезжавший к вам, не задумывался над этой проблемой. И в МЭТП тоже над ней не задумывались, там беспокоились только насчет необходимых документов на ввоз, насчет сложностей с таможней.
— Извините, что доставил вам столько хлопот. Понимаете, я хотел сделать сюрприз. Тот человек, которому я собирался подарить этот меч, — он не знает, что я здесь. Я лишь отправил ему телеграмму, сказал, что, кажется, у меня для него есть кое-какие хорошие новости. Поступил я так потому, что и он, приехав ко мне, сделал это без предварительной договоренности. Мистер Яно не хотел, чтобы я из чувства гостеприимства менял свой распорядок. Он постарался ничем меня не обременять. И мне показалось, что я должен отплатить ему тем же. Я знал, что, если предупрежу его о своем приезде, он надраит свой дом, оденет детей в лучшие наряды, и мой визит станет значительным событием для всей его семьи. А мне бы этого очень не хотелось. Я постарался отплатить ему той же монетой.
— Понятно. Я вам верю. И поэтому я собираюсь чуть обойти правила. Я подготовил для вас разрешение на меч.
Полицейский достал документ, с виду очень похожий на Гентский договор,[10] со строгими иероглифами, выстроившимися в безупречные вертикальные столбцы и аккуратно разбитыми на разделы, в которых для Боба не было абсолютно никакого смысла. Внизу красовалась внушительная красная печать; кроме того, документ имел официальный порядковый номер.
— Видите, вот здесь написано: «Год изготовления». По нашим правилам все, что относится к эпохе Сёва, является гендайто. Эпоха Сёва — это от восшествия на престол императора Хирохито и далее, то есть начиная с тысяча девятьсот двадцать шестого года. Поэтому в графе «Год изготовления» я проставил «Тысяча восемьсот двадцать пятый год», тем самым переведя меч в юридически законную категорию син-синто, то есть начиная с тысяча восьмисотого года и до тысяча девятьсот двадцать шестого года, первого года правления императора Хирохито. Как объяснил наш специалист по холодному оружию, учитывая значительный изгиб лезвия, это достаточно правдоподобно. Следовательно, ни вам, ни тому человеку, который получит этот меч в подарок, можно не опасаться неприятностей со стороны закона. Вот почему вам пришлось ждать так долго.
— Я вам очень признателен.
— Нет, это мы должны быть признательны. Как я уже сказал, у нас есть сотрудник, который разбирается в таких вещах. Он понимает, какой это жест теплой дружбы и взаимного прощения — вернуть меч потомкам офицера, которому он принадлежал. Это он предложил такой способ решения проблемы. Он очень внимательно изучил меч. Глупые ограничения не должны мешать благородным поступкам.
— Еще раз выражаю вам глубочайшую признательность, сэр.
— Ну вот и все. Данное разрешение должно постоянно храниться вместе с мечом. И еще: я бы на вашем месте упаковал меч до тех пор, пока вы не преподнесете его родственнику погибшего офицера.
— Я непременно последую вашему совету.
— Мистер Свэггер, надеюсь, у вас останутся самые приятные воспоминания о визите в Японию.
— Не сомневаюсь, сэр. Был рад познакомиться с вами.
Глава 8 СЕМЕЙСТВО ЯНО
Остановившись на ночь в районе Синдзуку, в гостинице, выбранной наугад, в первую очередь из соображений экономии, Боб принял душ, поужинал в кафе с западной кухней, совершил небольшую прогулку, выспался, позавтракал в том же кафе и направился пешком к железнодорожной станции, через подавляюще огромную толпу.
Город напоминал внутренность телевизора. Казалось, он состоит в основном из установленных вертикально печатных плат, очень сложных, насыщенных множеством миниатюрных элементов. Поражало обилие информации. Боб чувствовал себя так, словно переместился в будущее. Похоже, господствующий принцип дизайна требовал использовать с какой-нибудь целью любую мелочь. Предметы теснились, встраивались один в другой, втискивались тут и там. Даже узкие переулки были забиты ресторанами, маленькими магазинами, всевозможными конторами, и над каждым заведением, разумеется, светилась неоном вывеска. Это было общество всеобщей грамотности: надписи были повсюду, на больших плакатах, рекламирующих те или иные товары и услуги, в бесконечных потоках официальных обозначений, правил, регламентации и порядковых номеров, на указателях направлений. Все организовано, синхронизировано, пронумеровано, аккуратно разложено по полочкам.
Японцы спешили, обгоняя Боба; все подчинялись четкому графику, никто не терял времени даром, у каждого была цель. Плотная масса людей была устрашающей. По крайней мере, в этом квартале Синдзуку царила такая же толчея, какая бывает перед Рождеством на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Толпа набегала волнами и расплескивалась, немного редея, похожая на живой организм. Красный сигнал светофора мгновенно останавливал всех, но больше этих людей не могло остановить ничто, и как только зажигался зеленый — о боже! — наступал день высадки в Нормандии и все разом спешили выскочить на берег. Повсюду царило сплошное «идти, идти, идти, быстрее, быстрее, быстрее». Мужчины в большинстве своем были в костюмах, женщины — тоже. Боб знал, что это наемные работники; они вкалывают как рабы, сообщая своей стране поступательное движение. Они послушны, никогда не расслабляются, никогда не сходят с пути.
Известно, куда все это ведет. Постоянная дисциплина, постоянное самоподавление, постоянное стремление повиноваться, постоянное подчинение. Оно нарастает, нарастает, нарастает, это давление, которое никогда не проявляется на бесстрастных лицах, этот вечный долг, он нарастает, накапливается, зреет. И в один прекрасный день все это наконец взрывается, бабахает так, что мало не покажется. Примеры этих взрывов еще свежи в истории: именно отсюда варварские бомбардировки Нанкина, Перл-Харбор, камикадзе. Именно отсюда жестокое правило не брать пленных, именно отсюда австралийские летчики, которым отрубали головы перед объективами кинокамер. Именно отсюда требование перед смертью убить десять вражеских солдат, именно отсюда, черт побери, полное пренебрежение к смерти.
Ну а уж когда взрываются сексуальные путы, вообще происходит нечто страшное…
В вагоне пригородного поезда, подошедшего минута в минуту и, вероятно, секунда в секунду, Боб сел рядом с молодым мужчиной, который мог бы быть бухгалтером, продавцом, учителем, программистом: аккуратный костюм, очки в роговой оправе, зализанные назад волосы, полная сосредоточенность, естественное поведение. Но Боб-то рассмотрел, чем интересуется его сосед на самом деле: тот читал не «Уолл-стрит джорнал», а комиксы, в которых одни девочки-подростки развлекались с другими девочками-подростками при помощи приспособлений, очень похожих на то, что они должны были изображать, но только значительно больших размеров. Рисунки были выполнены с чувством, в мельчайших подробностях. В Америке во многих штатах за такое чтиво можно угодить за решетку, здесь же приличный с виду мужчина читал эти самые комиксы, не стесняясь окружающих, с интересом следя за развитием сюжета. Боб обвел взглядом полный народа вагон и увидел, что по меньшей мере еще двое мужчин читают журналы с красочными веселыми рисунками на обложке, изображающими сцены разврата. И никто не обращал на них внимания, никому не было до них никакого дела.
Вчера вечером Боб случайно забрел в квартал секса, в район Кабукичо, где вся эта грязь была выставлена напоказ в сиянии голубого неона, на рекламных щитах и видеоэкранах в витринах магазинов. У дверей стояли зазывалы, привлекая посетителей. Однако Бобу никто не сказал ни слова, его никуда не приглашали. У него возникло ощущение, что, хотя сексуальное воображение японцев не имеет на земле равных и при этом у них есть самые изощренные средства его удовлетворить, все это принадлежит только потомкам Ямато. Чужаку сюда дорога закрыта. Переулки, безымянные улицы и глухие уголки этой странной маленькой империи по имени Кабукичо, освещенной бесконечными повторениями вертикальных вывесок с названиями типа «Золотые девочки», «Знойные красотки» и «Верх наслаждения», были заполнены охотниками за плотью, желающими смотреть на нее, ощущать ее запах, гладить, лизать, сосать, трахать ее и, может быть, даже грызть. Это был праздник плотоядных, настойчивая потребность хищника. Сила этого чувства поразила Боба, даже немного напугала.
И вот он ехал вместе с миллионом других душ на поезде, который с грохотом несся по пригородам. Он сошел на одной из отдаленных станций, сжимая в руках сумку, и сверился с указаниями, данными ему на вымученном английском администратором гостиницы, очень учтивым и обязательным господином, который сделал все необходимые телефонные звонки.
Боб усвоил: сойти на станции и взять такси. Не могло быть и речи о том, чтобы самому вести машину в сумасшедших транспортных потоках Токио, не редеющих даже в пригородах, которые для американцев были смертельными вдвойне: ведь ехать нужно было не по правой стороне дороги, а по левой. Неужели генерал Макартур[11] не мог это исправить?
Водитель такси был в белых перчатках; в салоне было не просто чисто — там не было ни единого пятнышка, а ведь на сиденьях лежали белые салфетки. Мимо проплывали административные здания и расписанные рекламой автобусы; повсюду были служащие в форме, которые распределяли потоки машин, регулировали уличное движение, указывали на свободные места на стоянках. И снова Боба захлестнуло ощущение того, что все здесь четко организовано и распределено, все управляется каким-то центральным комитетом, поэтому оборудование используется на полную мощность.
Наконец таксист нашел то, что искал. Это был большой дом на самой окраине, расположенный на отшибе от ближайших домов — в отличие от большинства токийских зданий, втиснутых между соседями, так что казалось, будто они стремятся забраться друг другу в трусики. Этот же дом был окружен ухоженным садиком, гордостью хозяев. Судя по всему, семейство Яно было вполне состоятельным.
Боб взглянул на часы: семь часов вечера по токийскому времени; кажется, как раз то, что нужно.
Расплатившись с водителем, он подошел к багажнику, достал большую брезентовую сумку, открыл ее и вынул меч, завернутый в красный шарф, купленный специально для этого случая.
Боб прошел по дорожке, чувствуя, как большой приземистый дом с деревянным штакетником крест-накрест на стенах и идеальным садиком словно впитывает его в себя. Он постучался в дверь.
Внутри послышались звуки, через несколько мгновений дверь бесшумно скользнула в сторону. На пороге стоял Филипп Яно, одетый в кимоно, совершенно пораженный.
Вышедший в отставку офицер в домашней одежде выглядел так же, как и в строгом костюме: каждый волосок на месте, лицо гладко выбрито, под бело-голубым кимоно чувствуется накачанная мускулатура. На ногах у него были белые гольфы. Правый глаз широко раскрылся от удивления, в то время как выбитый, слепой, оставался равнодушным.
— Добрый вечер, мистер Яно. Надеюсь, сэр, вы меня помните? Я Боб Ли Свэггер. Прошу прощения за то, что нагрянул вот так, без приглашения.
— О, мистер Свэггер! — Яно открыл было рот, но тут же взял себя в руки. — Для меня большая честь принимать вас у себя дома. Господи, ну почему вы не предупредили о своем приезде? Я ожидал получить от вас письмо. Право, я не могу прийти в себя от изумления.
— Видите ли, сэр, чем больше я обо всем этом думал, тем крепче становилось убеждение, что данный случай особый и требует личной встречи. Не сомневаюсь, наши отцы поступили бы именно так. Для меня это огромная радость.
— Но что же мы стоим в дверях? Пожалуйста, проходите.
Боб вошел в прихожую и, как это принято у японцев, первым делом разулся. Тем временем мистер Яно быстро позвал своих домочадцев.
Сначала Боб заметил пару хитрющих глаз. Из-за угла выглядывала девочка лет четырех. Они встретились взглядами, и ее лицо расплылось в радостной улыбке. Залившись веселым смехом, девочка нырнула за угол и тотчас же высунулась снова.
— Привет, малышка! — ласково поздоровался с ней Боб.
В это время в прихожую вошли два рослых подростка в джинсах и футболках.
— Мистер Свэггер, позвольте представить вам моих сыновей, Джона и Реймонда.
— Привет, ребята, — кивнул Боб.
Подростки были в джинсах, но босиком.
— Моя старшая дочь Томоэ.
— Добрый вечер, мисс.
— А того маленького чертенка зовут Мико.
Снова рассмеявшись, Мико уткнулась лицом в платье матери.
Боб сразу понял, кто перед ним. Маленькая заводная машинка. Девочка еще не овладела сдержанностью своего народа и, возможно, никогда ею не овладеет. Бойкая, смышленая, она была полна энергии.
— Здравствуйте, маленькая девочка, — окликнул ее Боб, и она нашла это очень забавным.
— И наконец, моя жена Сюзанна.
— Добрый вечер, мистер Свэггер. Сэр, мы так польщены и обрадованы…
— Как я уже сказал вашему мужу, в первую очередь эти чувства испытываю я. Надеюсь, я ни от чего вас не оторвал.
Последовало обилие поклонов и улыбок, неловких любезностей, сказанных от всего сердца, и Боба захлестнула теплая волна: он почувствовал, что ему здесь искренне рады.
Быстро сказав жене несколько слов по-японски, Яно повернулся к Бобу.
— Я напомнил ей, какой вы необыкновенный человек, какая для нас честь принимать в своем скромном жилище такого выдающегося морского пехотинца.
— Вы очень любезны, но все это осталось в прошлом. Так или иначе, я разыскал его. Полагаю, это тот самый меч. И я захотел вернуть его в вашу семью.
С этими словами Боб протянул сверток мистеру Яно.
— Я считаю, это меч вашего отца. Он принадлежал сыну офицера, который в тот день командовал ротой моего отца. У меня есть письмо этого офицера, в котором говорится, что мой отец подарил ему этот меч на Иводзиме, предположительно двадцать седьмого февраля тысяча девятьсот сорок пятого года. Произошло это в полевом лазарете, где офицер ожидал эвакуации. Письмо я обнаружил в вещах своей тетки, по нему вышел на семью того офицера и на его сына и наследника. Я съездил к нему домой и нашел меч.
— Даже не знаю, что сказать. Вы преподносите мне щедрый дар.
— Ну, как я уже говорил, я вряд ли когда-либо стану таким человеком, каким был мой отец, но мне захотелось чем-нибудь почтить его память и память вашего отца. Они оба были храбрыми солдатами. Надеюсь, мне это удалось.
Яно взял меч, взвесил его в руках, насладился чувством равновесия, но по-прежнему его не разворачивал. Казалось, он хочет оттянуть этот момент.
— Но я хочу вас предупредить, — продолжал Боб, — что смотреть тут особенно не на что. Как вы сказали, это военная реликвия, побывавшая во многих переделках, довольно грязная. Ножны нужно красить, рукоять разболталась, эфес дребезжит, обмотка рукояти совсем истрепалась, и на конце отсутствует маленькое металлическое колечко, через которое, насколько мне известно, проходила кисточка. Лезвию тоже изрядно досталось: оно все поцарапанное, в зазубринах, по краям отколоты кусочки. Этот меч был на войне, а не на парадах и дворцовых церемониях.
— Я займусь мечом позже. А пока, пожалуйста, проходите в дом, отдохните, расскажите нам о том, как сюда добирались. Сядьте, расслабьтесь, выпейте чаю или соку. Насколько я помню, спиртное вы не употребляете, а то я мог бы предложить вам саке. Пожалуйста, проходите и устраивайтесь поудобнее.
Яно предложил гостю тапочки. Обувшись, Боб следом за хозяином поднялся по лестнице, прошел по коридору и оказался в гостиной, обставленной европейской мебелью, только меньших размеров.
Яно быстро бросил несколько фраз жене, та ему ответила, учтиво поклонилась Бобу — Боб неуклюже поклонился в ответ — и спросила, что он предпочитает: питьевую воду из бутылки, чай, кофе или сок.
— Мэм, вода из бутылки устроит меня как нельзя лучше.
Сюзанна сказала пару слов старшей дочери Томоэ, та торопливо вышла и через считанные мгновения возвратилась с подносом, на котором стояли напитки.
Яно провел Боба к почетному месту, а тот уже знал, что нужно дважды отказаться: «Нет, ну что вы» — и лишь затем принять предложение. Его усадили слева от небольшого алькова, в котором были собраны памятные для семьи реликвии: различные дипломы, фотографии Яно в военной форме в самой разной обстановке, — то же самое можно увидеть дома у любого американского офицера, — снимки сыновей в бейсбольном снаряжении и старшей дочери на выпускном вечере. Внизу в углу Боб заметил выцветшую фотографию мужчины в обтягивающей форменной рубашке и военном кепи на обритой наголо голове — это, наверное, был отец мистера Яно.
Далее последовало теплое знакомство семьи с новым дорогим гостем. Боб рассказал о своей поездке. Рассказывать было особенно не о чем, но одна деталь неизменно вызывала смех слушателей.
— Худшая часть перелета — это проход через контроль.
— Да, сейчас меры безопасности очень строгие.
— Ну, для меня это всегда было отдельным приключением. Вы не поверите: на меня срабатывают металлоискатели. Воют сирены, звонят колокола, сбегаются охранники. Нет-нет, я нисколько не преувеличиваю. У меня металлическое бедро, так что металлоискатели неизменно сходят с ума. Поэтому меня всегда оттаскивают в сторону и начинают придирчиво осматривать. Естественно, остальные пассажиры нервничают. Не сомневаюсь: если бы тот тип, что всадил в меня пулю, знал, сколько хлопот мне причинит, он выбрал бы другую цель.
Рассмеявшись, Яно быстро заговорил по-японски со своими смирно сидящими сыновьями. Бобу показалось, он различил слово «Вьетнам», произнесенное с японским акцентом.
После этого мальчишки по очереди представились. Реймонд, семнадцати лет, играет в бейсбол и собирается в следующем году поступать в университет Чуо на факультет радиоэлектроники. Джон, четырнадцати лет, также играет в бейсбол, учится во втором классе средней школы и пока что не знает, какую специальность изберет в будущем.
Девятнадцатилетняя Томоэ училась в университете Кейо на медицинском факультете. Эта серьезная, красивая девушка почти не говорила; Бобу показалось, она неофициально назначена на должность домоправительницы. Похоже, в этой семье у всех были четко расписанные обязанности: мальчишки были слушателями, Томоэ занималась снабжением, Сюзанна, мать и жена, была добродушной крестной, а Филипп, глава семьи, — церемониймейстером, хозяином и переводчиком. Он один владел английским свободно, далее следовала Сюзанна, а познания сыновей и Томоэ были в основном теоретическими. Очаровательная малышка Мико вела себя непринужденно, словно лесной гномик, весело хихикала и проказничала. Она сразу же прониклась приязнью к Бобу, и тот время от времени ловил на себе ее пристальные взгляды. Иногда он ей подмигивал, и девочка заливалась смехом.
Мико что-то шепнула на ухо матери.
— Свэггер-сан, — сказала Сюзанна, — моя дочь считает, что вы Железный Дровосек из «Волшебника страны Оз».
Все рассмеялись.
Боб вспомнил героя этого сказочного фильма, который он много лет назад просмотрел на видеокассете вместе с дочерью. Это был высокий сверкающий человек странного вида с огромной жестяной грудью и воронкой на голове. Наверное, таким Боб казался маленькой Мико. Он пожалел о том, что не может пускать из воронки дым, как делал настоящий Железный Дровосек, ибо это вызвало бы у девочки бурю восторга.
— Порой по утрам мне кажется, что неплохо бы смазать суставы маслом, — сказал Боб. — Так что, похоже, в ее словах есть доля правды. Малышка, я сделан не из железа, а из кожи и костей, как и все люди.
Но Мико уже решила для себя: Свэггер — это Железный Дровосек.
Внимание всех членов семьи было приковано к Бобу. И хотя это было обусловлено законами гостеприимства, интерес был неподдельный. Вышколенные японцы приняли гайдзина в свою среду, дали ему почувствовать себя одним из них, угостили его. Они смеялись над шутками Боба, с огромным интересом слушали его рассказ в переводе своего отца. Языковой барьер быстро растаял.
Вскоре Мико решила, что ей уделяют недостаточно внимания. Она пришла к выводу, что пришла пора посидеть на коленях у отца, и набросилась на него, словно защитник, встречающий прорвавшегося к воротам нападающего. Не успел Яно опомниться, как малышка уже забралась к нему на руки.
Все рассмеялись.
— Наша Мико — сущий чертенок, — со смехом заметил Филипп Яно.
Повернувшись к Бобу Свэггеру, Мико высунула язычок, затем, весело рассмеявшись, уткнулась лицом отцу в грудь, крепко прижимаясь к нему в поисках уюта. Однако вскоре ей это надоело, и она напала на другого члена семьи.
Все это время красный сверток лежал на диване рядом с мистером Яно. Тот ни словом не обмолвился о нем, даже не взглянул на него ни разу. Казалось, он совершенно о нем не думает. Свертка словно не существовало.
Но наконец пришло время.
— Мистер Свэггер, позвольте пригласить вас в свою мастерскую, где мы осмотрим меч.
— Да, с удовольствием.
Мистер Яно обратился по-японски к старшей дочери.
— Я попросил Томоэ сопровождать нас, — объяснил он. — Она будет делать записи. Так я смогу задокументировать свои первые впечатления, чтобы позднее к ним можно было еще вернуться.
— Разумеется.
Семейная церемония официально завершилась. Боб спустился вместе с мистером Яно вниз. Вежливая, хотя и молчаливая Томоэ следовала за ними.
Крошечное помещение, куда они вошли, было аккуратным до скрупулезности. На одной стене висели семь японских мечей различной длины, по-разному изогнутых, в ярких лакированных ножнах — сайя. На другой стене были полки, заставленные множеством книг о холодном оружии. На верстаке лежали точильные камни, маленький молоток, несколько бутылочек с маслом, какой-то порошок, различные инструменты и ветошь — все аккуратно разложенное.
— Вижу, вы относитесь к мечам серьезно.
— Я стараюсь постигнуть искусство полировки. Оно очень сложное, и у меня, если честно, не хватает терпения. Но я работаю над собой, думая: «Если я научусь этому, я действительно чему-то научусь».
— Я вас понимаю. Иногда лучше всего сосредоточиться на малом. Это позволяет отрешиться от окружающего мира; в то же время это и будет весь мир.
Отец перевел его слова дочери, и та тотчас же ответила.
— Томоэ говорит, что в прошлой жизни вы несомненно были японцем. Это многое объясняет.
— Принимаю это как комплимент.
— И совершенно правильно. Ну а теперь займемся мечом.
Филипп Яно положил сверток на верстак. Боб занял место у него за одним плечом, а дочь, вооружившаяся блокнотом и ручкой, — за другим.
— На протяжении более чем тысячи лет наша страна была буквально одержима вот этим, — начал Филипп Яно, — Представитель западной культуры, наверное, скажет: «Это всего лишь кусок стали». Однако в нем представлены все наши национальные черты: любовь к героизму, но также и любовь к насилию; чувство справедливости, но также и готовность убивать; сила нашего общества, но также и жестокость, порожденная этой силой; дисциплина, мастерство, но также тирания и даже диктатура. Я внимательно занимаюсь изучением этого вопроса вот уже год, с тех самых пор, как… в общем, как вышел в отставку. Однако я до сих пор почти ничего не знаю. У нас есть люди, которые посвящают всю свою жизнь исследованию таких вещей. А вы дарите мне наивысшее мгновение моей жизни. Исследования, которыми я занимался на протяжении последнего года, сейчас получат практическое приложение не только к истории и культуре нашей страны, но и к прошлому моей семьи. Право, друг мой, я вряд ли смогу когда-либо отблагодарить ваше благородство, щедрость вашей души. Я перед вами в неоплатном долгу.
— На самом деле один солдат просто протянул руку другому солдату, чтобы почтить память двух других солдат, которые приходились им отцами. Мы долго шли к этому мгновению и по праву его заслужили. Так давайте же им насладимся.
— Давайте.
Филипп Яно развернул сверток, открывая меч, много повидавший на своем веку, поцарапанный, с зазубринами. Сразу было видно, что этот клинок не просто полоска стали, заключенная в ножны; он пробивал себе дорогу в истории.
Отец сказал несколько слов дочери, и та принялась прилежно записывать. Затем он перевел Бобу:
— Я вижу син-гунто образца тридцать четвертого года, с отсутствующей кисточкой, однако ножны металлические, то есть образца тридцать девятого года, и, следовательно, они не из оригинальной комплектации. Гм, оплетка истрепана, на ней грязь, предположительно пот моего отца и капелька его крови. Или чьей-то еще крови. Внимательно глядя на штифт, я вижу следы какого-то черного липкого вещества, возможно, смолы или туши. Еще я вижу свидетельства того, что недавно к штифту прилагали усилие: сплошное кольцо липкого материала, служившее своеобразной печатью, порвано. Смола или тушь в месте разрыва чуть темнее, на основании чего можно предположить, что до самого недавнего времени она была укрыта от прямого света.
— И что это значит? — спросил Боб.
— Не знаю. Но у меня есть одна догадка. Скорее всего, кто-то пытался выбить штифт.
— Томми Калпеппер признался, что в детстве с приятелями как-то попробовал вытащить штифт. Они хотели разобрать меч. Но у них ничего не получилось.
Мистер Яно молчал. Наконец он сказал:
— Ну хорошо. Теперь лезвие.
Словно играючи, он протянул руку, вытащил меч из ножен и, не трогая лезвия, хотя сразу же было заметно, что сталь покрыта царапинами и зазубринами, бережно положил его на верстак.
— Кото? — спросила дочь.
— Вероятно, подделка под кото, выполненная синто.
— А мне кажется, это настоящий кото, — по-английски сказала Томоэ.
— Да. Да, очень похоже. Может быть…
Он не договорил.
В маленькой мастерской воцарилась тишина. Мистер Яно внимательно изучал меч. Было очевидно, что он озадачен, даже встревожен. Его лицо стало непроницаемым, веки словно налились тяжестью, дыхание заметно участилось.
Наконец Филипп Яно сказал:
— Очень любопытно. Конечно, это крайне маловероятно, и все же хочется надеяться. — Он повернулся к Бобу. — Как у вас говорят: напряжение нарастает?
— Да, сэр. Когда хотят сказать, что ситуация значительно усложняется.
— Совершенно верно. Во время войны японской армии требовались мечи. Двум компаниям поручили их выпускать, сотни тысяч мечей. Эти лезвия и назывались син-гунто; в настоящее время они представляют собой ценность только в качестве сувенира. И я всегда предполагал, что именно такой меч был у моего отца. Их было абсолютное большинство. Вероятно, отец был уверен в том же. Однако были и исключения. Многие древние семейства из патриотических побуждений отдавали армии старинные мечи, которые безжалостно обезличивались на заводах — в конце концов, ими занимались не мастеpa своего дела, а простые рабочие. Дорогое, красивое косираэ, то есть оснащение, рукоять, эфес, просто выбрасывалось. Хочется плакать при мысли о том, что все эти творения древних мастеров и художников закончили свое существование в мусорной куче. Затем лезвие укорачивалось с задней части до предписанной длины: отрезался хвостовик, и вместе с ним пропадала большая часть высеченных на нем сведений: имя кузнеца-оружейника, дата плавки, имя дворянина, для которого изготавливали меч, особенности ковки, может быть, даже собственное имя меча и молитва богу войны. После чего задняя часть лезвия стачивалась, чтобы сделать новый хвостовик, в нем просверливалось отверстие, и на него надевалась стандартная армейская фурнитура. Готовый меч вставлялся в металлические ножны и отправлялся в… в общем, в область действия «Сферы»: в Китай, в Бирму или на Филиппины. В результате шедевр древних оружейников оказывался надежно скрытым под маскировкой военной поры.
— Именно это и произошло в данном случае?
— Не знаю. Исключать такую возможность нельзя. Несомненно одно: это старинное лезвие, укороченное для использования в армии. Судя по форме и изящным линиям, оно, как уже отметила моя дочь, похоже на кото — старое. Как правило, лезвия кото тоньше, изящнее и острее, нежели лезвие синто, то есть в руке опытного бойца это более эффективное оружие. Точного определения понятия «кото» нет, но, грубо говоря, это то, что сделано до тысяча шестисотого года. Разумеется, не все так просто. Возможно, что кузнец синто — то есть после тысяча шестисотого года — просто повторил форму лезвия кото. Такое случалось довольно часто, что вполне понятно: кузнецы отвечали требованиям рынка, они выполняли заказы клиентов, отслеживали текущие тенденции, пробовали различные методы.
— Вы хотите сказать, что этот меч, возможно, является антиквариатом, исторической реликвией. Какую ценность будет он иметь в этом случае?
— Вероятно, значительную, хотя мы ни за что не продадим его — ни за какие деньги. Он наш, у нас с ним кровное родство. Этот меч принадлежал моему отцу. Я просто хочу вам сказать, что этот меч может представлять собой… э… определенный интерес. То есть интерес не только для скромного семейства Яно. Интерес для ученых, для историков, интерес для нашей страны и культуры. Еще более заманчиво узнать прошлое меча — по тому, что осталось от его хвостовика. Если появится необходимость, наверное, лезвие даже можно будет отполировать. Сам я не настолько хорошо владею этим искусством, чтобы браться за работу. Полировка требует много времени, так что этим занимается лишь горстка мастеров высочайшего класса. Но если у меча есть свои тайны, полировка их освободит. Отполировав лезвие, мы увидим его душу.
Глава 9 НИИ, ОДИН ИЗ СИНСЭНГУМИ
Нии, один из синсэнгуми, был прилежным самураем. Он во всем слушался великого господина, человека по имени Кондо-сан. Ради него Нии готов был без колебаний отдать свою жизнь. Ведь именно Кондо-сан увидел в уличном мальчишке талант, агрессивность, возможно, даже будущее. Пока многие о таком только мечтают, с Нии это произошло на самом деле. Из ничего Нии попал в синсэнгуми. Наконец он стал частью чего-то значительного; теперь он больше не был грязным сиротой, над которым смеялись другие дети. Его мягкое тело окрепло благодаря строгой дисциплине. Нии научился поразительным вещам, и его вера в себя росла пропорционально любви к великому господину.
Он был все еще молод, но в сообществе синсэнгуми возможно все. Группа состояла из лучших, и, хотя дисциплина была суровая, перед теми, кто присоединялся к этим избранным, открывались бесконечные возможности, несущие с собой безграничные наслаждения.
Нии научился обращаться с катаной, длинным мечом, освоил его мощь и изящество, постиг науку бережно использовать скрытую в нем силу. В умелых и опытных руках катана способен разрезать все, в том числе человеческое тело, от края до края. Нии представлял себе, как наносит удар: замах, свист лезвия, звук столкновения с плотью, брызги крови, крик смертельно раненного, — а он сам стоит неподвижно.
Нии научился обращаться с вакидзаси, более коротким клинком для самообороны. Это было оружие замкнутых помещений. Таким не зацепишься на низкий потолок или дверной косяк, однако по мощи вакидзаси почти не уступает катане. Никто не сможет отразить удар, нанесенный полным решимости синсэнгуми. Нии воображал короткие, более жесткие разрезы, изумление, написанное на лице жертвы, переходящее в боль, кровавый кашель, тело, падающее на пол подобно мешку с мукой.
Нии научился обращаться и с танто. Танто имеет короткое лезвие без изгиба, обязательного для катаны и вакидзаси, потому что им жертву не режут, а пронзают. Вложив в удар всю свою силу, Нии всаживал танто в тело глубже всех членов сообщества синсэнгуми. Он без труда доставал острием до кровеносных органов и знал, куда наносить удар: вниз, через плечо под небольшим углом, в пульсирующее сердце. Или в спину, рядом с позвоночником, под седьмой позвонок от шеи, опять же пронзая сердце. Пораженное сердце расстается со своим сокровищем в считанные секунды; тело, в котором оно поддерживало жизнь, безвольно валится вниз, не в силах удержаться на обмякших ногах, глаза закатываются. Нередки случаи, когда при падении убитый выбивает себе зубы. Из раны вытекает целый океан крови.
Но танто таит в себе еще одну возможность. В случае позора или угрозы пленения в танто заключается последняя надежда спасти честь. Нии, один из синсэнгуми, знал, как избавить себя от позора и навсегда сохранить уважение господина Кондо. Он не сомневался, что сможет это сделать; в случае чего он не будет колебаться ни мгновения.
Он с силой вонзит лезвие в левую часть живота, минимум на три дюйма, скорее, на четыре или пять. Еще лучше — на шесть, хотя такое удается немногим. Затем нужно будет быстро провести лезвие через живот чуть ниже пупка. Для этой цели танто всегда должен быть острым как бритва. Из раны в потоке крови, кала и мочи вывалятся влажные кишки. Говорят, после того как лезвие достигает конечной точки, человек остается в сознании еще восемь секунд. Наверное, эти восемь секунд будут очень любопытными. Он закричит? Будет молить о том, чтобы боль прекратилась? Потеряет честь?
Нет, только не Нии, настоящий синсэнгуми. Он не опозорит себя перед своим господином. Он будет молчать, ибо в боли будет чистый восторг, присущий смерти воина. Только так должен вести себя настоящий воин. А смерть…
Музыка, звучавшая из плеера, оборвалась.
Проклятие, опять сели батарейки. Ну сколько можно! У него худший плеер из возможных! Вечно его подводит!
Нии слушал запись концерта своей любимой рок-группы «Арктические обезьяны», ее величайшую песню «Что бы ты обо мне ни думала, я не такой». Жесткий ритм заводил, проникая до мозга костей.
Эх!.. Без «Арктических обезьян» ночь будет длинной. Нии закурил сигарету. Он сидел в квартале от дома Яно в обтекаемой спортивной «тойоте», черной как ночь, с ручной пятиступенчатой коробкой передач.
Его цель — американец. Нии будет неотступно следовать за американцем, докладывая господину Кондо обо всех его передвижениях. Если понадобится, он проведет здесь всю ночь.
За спиной наискосок у него висел в ножнах вакидзаси китайского производства, в кобуре на поясе лежал «смит-вессон» 38-го калибра, специальная полицейская модель. Нии был в черной итальянской рубашке, в черном итальянском костюме, в черной итальянской шляпе и в невероятно дорогих кроссовках «Найк», таких же, какие носит знаменитый баскетболист Майкл Джордан. Солнцезащитные очки «Луи Вуитон» обошлись ему в сорок тысяч йен. Очки были просто клёвые. Жесткий блестящий ежик на голове ощетинился благодаря действию специального лака. Двадцати трех лет от роду, сильный как бык, Нии был готов ко всему. Он выбрал смерть.
Нии, один из синсэнгуми, был очень хорошим самураем.
Глава 10 ЧЕРНАЯ РЖАВЧИНА
— Ржавчина, — произнесла по-английски Томоэ Яно. — Отец, посмотри на ржавчину.
— О, какая прекрасная ржавчина, — с восхищением промолвил Филипп Яно.
У Боба мелькнула мысль: «Они что, спятили?»
— Это кото ржавчина, — объяснила девушка. — Только кото ржавчина может быть такой черной.
— Восхитительная, великолепная черная ржавчина, — подхватил отец, — О, как это прекрасно.
Надев резиновые хирургические перчатки, он разобрал меч. С помощью маленького молоточка и стержня нужного диаметра Филипп Яно выбил из рукояти бамбуковый штифт. Тот вышел практически без усилий. Филипп Яно проследил взглядом за тем, как маленький бамбуковый цилиндрик покатился по верстаку, затем остановился. Боб тоже смотрел на штифт.
— По крайней мере, синто. Может быть, оригинальный, может быть, кото.
— В таком случае почему штифт вышел так легко? Ведь он буквально вывалился.
Боб вспомнил, что штифт держался прочно. Но он промолчал: в конце концов, что он знает, чем может помочь?
— Не знаю. Быть может, рукоять разбирали недавно. Не могу сказать. Один из многих вопросов. Это очень интересно!
— Спасибо за то, что говорите по-английски, — сказал Боб. — Разумеется, я до сих пор понятия не имею, о чем идет речь.
Полностью поглощенные происходящим, отец и дочь не обратили на него никакого внимания.
Филипп Яно сдвинул рукоять, снимая ее с хвостовика меча, затем осторожно разобрал эфес — Боб знал, что он называется «цуба», — снял несколько прокладок и наконец муфту, хабаки, аккуратно раскладывая все детали на верстаке: внизу лезвие, вверху рукоять, а между ними эфес и четыре прокладки.
Но было еще и что-то необычное: кусок бумаги, туго обмотанный вокруг стального хвостовика.
— Бумага, — строгим голосом произнесла девушка.
— Да, вижу.
— Отец, возьми ее. Посмотри, что это такое.
— Нет-нет, пока рано. Ты готова записывать?
— Да.
Филипп Яно выдал быстрый ураган японских фраз, затем перевел на английский:
— Цуба, то есть эфес, серийного промышленного производства, также образца тридцать девятого года. Так что когда меч обрел новые ножны, он получил и новую рукоять, как я и говорил Томоэ.
— Да, но ржавчина…
— Не просто ржавчина, друг мой. Кото ржавчина.
— То есть старая ржавчина, — добавила девушка.
— Действительно старая ржавчина. Но продолжим. Прокладки — сеппа, также стандартные армейского образца, как и хабаки, тут ничего необычного. Два отверстия, следовательно, лезвие было обрезано, но это нам уже известно.
— Ржавчина.
— Но при чем тут ржавчина? — спросил Боб.
Хвостовик буквально потонул в черных окислах; их было так много, что они мелкой черной пылью осыпались на верстак.
— Чем чернее ржавчина, — объяснил Филипп Яно, — тем старше лезвие. Значит, перед нами действительно кото, на что указывали форма и гибкость. А это означает, Свэггер-сан, что данному мечу по крайней мере четыреста лет. И он каким-то образом очутился в стандартном армейском обрамлении образца тысяча девятьсот тридцать четвертого года.
— Такое происходило часто?
— Ну, происходило.
— Значит, это лезвие не было выковано на оружейном заводе в тридцатые годы. Оно гораздо старше. Это настоящий самурайский меч. Именно поэтому он такой острый?
— Совершенно верно. Представьте себе гениального мастера из далекого феодального прошлого, который трудился у наковальни, выковывая из раскаленного добела металла длинную полосу, затем сплетая две или три такие полосы вместе так, чтобы они перекручивались раз двадцать, потом придавая заготовке нужную форму и наконец закаляя ее путем погружения в холодную глину. После этого начинался процесс доводки и заточки. Здесь используются три различных сорта стали: мягкая сталь — для спинки, она придает вес и гибкость, пластичность; еще более мягкая, с еще большим содержанием чистого железа — для сердцевины, она придает еще большую гибкость; вставка из твердой, закаленной стали — якиба — для бритвенно острого лезвия, способного резать доспехи, плоть и кости, глубоко проникать, вспарывая наполненные кровью внутренние органы и рассекая их. О, это боевой меч, тут не может быть никаких сомнений, и если мой отец отправился с ним на Иводзиму, он был не первым воином, державшим в руках это чудо, далеко не первым. Это старый, почтенный клинок, которому не раз приходилось бывать в бою. Рожденный в огне, остуженный в земле, предназначенный для кровопролития. Быть может, вот эти надписи расскажут его историю.
Филипп Яно указал на строчку иероглифов, глубоко выгравированных на хвостовике: много столетий назад создатель этого клинка рассказал о себе и о своем творении и объяснил, для кого оно было создано.
— Вы можете прочитать надпись? — поинтересовался Боб.
— Это будет самым интересным. Кузнецов кото были тысячи, и нам предстоит изучать архивы, выясняя, кто именно сделал этот меч. Надеюсь, мы сможем узнать имя мастера, может быть, даже имя воина, заказавшего меч. Затем мы окунемся в историю и составим по крупицам биографию этого лезвия. Выясним, где оно побывало, чем занималось до того, как попало к моему отцу, затем к вашему и наконец к их сыновьям.
— Каждый символ имеет свое значение, — вставила девушка. — Отец, прочитайте господину Свэггеру накаго.
— Накаго — это ржавый хвостовик, который был скрыт под рукоятью. Даже сейчас он полон завораживающих свидетельств прошлого. Мы имеем дело с суриаге накаго или даже с о-суриаге накаго. То есть это лезвие на грани между «укороченным» и «сильно укороченным»; определяющим фактором является то, какая часть надписи уцелела. Как правило, хвостовая часть лезвия даже в укороченном виде сохраняет форму оригинала. Казалось, современный мастер, переделывая клинок, отдавал дань своему великому предшественнику. В данном случае стиль клинка называется «ирияма-гата», то есть он был сделан где-то между шестнадцатым и семнадцатым веками. Режущая сторона хвостовика расположена под заметным углом к нижнему концу линии синоги, вторая сторона проходит или прямо, или под небольшим обратным углом к муне.
«Тут я ничего не понял», — подумал Боб. Но он рассудил, что Филипп Яно объясняет ему, как форма хвостовика может дать ключ к происхождению клинка.
— Вы в этом явно разбираетесь.
— Я ничего не знаю, — скромно промолвил Яно. — Есть много людей, для которых этот язык является таким же богатым и выразительным, как поэзия. А я мучаюсь, так как сомневаюсь в своих познаниях, жажду узнать больше, проклинаю себя за то, что многого не узнал до сих пор.
— Но я правильно понял главное? Этот меч очень древний, и он представляет ценность не только для вашей семьи, так? Его должны изучить специалисты.
— Совершенно верно. Быть может, он не представляет собой ничего особенного. В конце концов, не каждый древний меч побывал в руках Миямото Мусаси,[12] точно так же, как не из каждого старого «кольта» стрелял Уайатт Эрп.[13] Так что вероятность очень небольшая. И все же… она существует. Помните, кто-то же выигрывает в лотерею. Я выясню все, что смогу разузнать сам, и только после этого обращусь за помощью. На это уйдет гораздо больше времени, и это глупо, поскольку наверняка настоящий специалист многое поймет с первого взгляда. Однако я поступлю именно так. Это будет время, проведенное с моим отцом.
— Бумага, — напомнила девушка.
— Да, сейчас дошел черед до нее.
— По-моему, это что-то вроде записки, — предположил Боб.
— Вот почему я ее боюсь так, что меня охватывает дрожь. По всей вероятности, это предсмертное стихотворение. У нас это принято. Мы японцы. Мы с радостью принимаем смерть, протягиваем руки, чтобы заключить ее в свои объятия, и отмечаем это стихами.
— Однако ты колеблешься, отец, — заметила девушка.
— А что, если в ней говорится: «О господи, спаси меня, я не могу больше выносить все это»?
— В таком случае это доказывает, что вашему отцу были не чужды простые человеческие чувства, — вставил Боб. — Мне не раз приходилось бывать под пулями, и в такие минуты я думал только: «О господи, спаси меня, я не могу больше выносить все это».
— Отец, Свэггер-сан говорит правду. Ты должен прочесть записку. Протянуть руку своему отцу.
— Вас оставить одного?
— Нет-нет, — остановил его Яно. — Пусть лучше рядом со мной будут та, кого я люблю, и тот, кого я уважаю.
Сняв скрученный трубкой листок бумаги с накаго, он встряхнул его, чтобы осыпался мелкий черный порошок окалины, затем развернул и бережно расправил.
Прочтя то, что было написано на листке, Филипп Яно заплакал.
Его дочь прочитала записку и тоже расплакалась.
Боб счел за лучшее промолчать, но тут девушка подняла на него заплаканные глаза.
— Я думаю, это посвящается всем тем, кто был на Иводзиме, — сказал Филипп Яно.
Он прочитал вслух:
В небе над вулканом луна над преисподней освещает лица обреченных и умирающих. Солдаты, погребенные в черном песке на черном острове, ожидают своей участи. Мы — разбитый нефрит на Серном острове.Глава 11 СТАЛЬ
Во вторник у Реймонда был бейсбольный матч. Мальчишка сделал два заноса. Он играл на левом фланге; судя по всему, у него была сильная рука и он обладал чувством мяча. В среду у Томоэ была генеральная репетиция: она играла на виолончели, и получалось у нее это великолепно, во всяком случае на взгляд Боба, однако ее истинной страстью была медицина.
Но Боба привлекало вовсе не безукоризненное поведение подростков и не их успехи в музыке и спорте. Дело было даже не в том, что очаровательная малышка Мико напоминала его собственную дочь Ники в детстве. Главным было то, что семейство Яно в каком-то смысле походило на идеальное подразделение морской пехоты. Здесь каждый знал свои обязанности и выполнял их; здесь не было грубости, неприкрытой зависти и злой досады, а если эти чувства и существовали, они скрывались так глубоко внутри, что никогда не проявлялись. При этом все члены большой семьи много смеялись и искренне радовались обществу друг друга, не обращая внимания на окружающий мир. И Боб чувствовал себя среди них счастливым.
— Нет, мне у вас очень нравится, вы встретили меня так радушно и гостеприимно. Но я должен возвращаться домой. У меня в Штатах своя жизнь.
— Я рассчитывал получить кое-какие сведения о мече до вашего отъезда, — печально заметил мистер Яно. — Я уже полностью исчерпал все свои книги и начал наводить справки. Есть много древних трудов, написанных еще в девятнадцатом столетии, которые содержат гораздо более полную информацию. «Книга о мече» за последние сто лет переиздавалась несколько раз. Лучшее собрание подобных книг имеется в университете Осаки. Я как раз собирался отправиться туда; эта часть Японии вам бы очень понравилась.
— Не сомневаюсь. Однако в Штатах у меня остались жена и дочь, а также меня ждут кое-какие дела. Помните то поле, которое я косил? Я по-прежнему горю желанием довести до конца этот проклятый труд. Не забыли, я ведь Железный Дровосек. Тук-тук-тук.
— Я все понимаю.
В последний вечер перед отъездом Боб и Филипп Яно засиделись вдвоем допоздна, после того как все остальные легли спать. Яно пил саке из керамической бутылки, наливая его в маленькую плоскую чашечку. Боб пил чай. Пришло время поговорить о том, что объединяло их, рождало взаимное доверие, — о войне и ранах.
— Как ваше бедро? Болит?
— К этому привыкаешь. Сустав всегда на пять градусов холоднее всего остального, и, как я уже говорил, постоянно возникают проблемы с металлоискателями в аэропортах. Меня это уже давно не веселит.
— У вас были другие ранения?
— Похоже, я просто не мог не оказываться на пути летящих кусочков стали. Я был ранен несколько раз. Ранение в бедро — худшее из всех. К сожалению, тот взрыв отнял у меня друга, а он был еще совсем мальчишкой и мог бы подарить миру много радости. Я до сих пор по нему скорблю. Другие раны тоже иногда побаливают, но все это терпимо.
— Моя дочь говорит, вы очень плохо спите.
— Виноват. Надеюсь, я никого не напугал. Она права, сны у меня не из приятных. Мне не раз приходилось отнимать у человека жизнь. Я считал себя великим самураем. Но ради чего было все это? Сегодня я не могу уверенно ответить на этот вопрос. Ну конечно, есть такая вещь, как долг. Я не настолько умен, чтобы дать этому определение, но я испытывал чувство долга тогда, и, черт побери, я испытываю его и сейчас, по прошествии стольких лет. Такое не проходит.
— Это и есть та ноша, которую приходится нести настоящему самураю: верность долгу. Вот почему мы счастливы только в обществе других самураев, которым приходилось отнимать человеческую жизнь, видеть кровь и смерть, вкушать горечь поражения. По-настоящему этого понять больше никто не способен. Остальные могут только догадываться.
— Если бы я не завязал, я бы обязательно за это выпил. Филипп, мне уже давно хочется задать вам один вопрос. Ваш глаз. Вы никогда не говорили об этом. Но я сразу же распознал шрам.
— А, это. Право, пустяки. Ирак.
Бобу показалось, что он ослышался. «Неужели я выпил? Этот парень упомянул Ирак, где до сих пор воюют морские пехотинцы». Но затем Боб осознал: да, Филипп Яно сказал: «Ирак».
— А я полагал, эту беду приходится расхлебывать нам.
— Япония, движимая духом поддержки, направила в Ирак небольшое количество вспомогательных подразделений. Официально подчиненные командованию голландских боевых частей, они выполняют инженерные работы в южноиракском городе Эс-Самава. Но вы же знаете, какие мы, японцы, дотошные и скучные. Мы не доверяем голландцам, поэтому тайно в Ирак было направлено небольшое подразделение десантников для обеспечения безопасности наших людей. И мне выпала честь командовать этим подразделением. Из-за этого даже пришлось отложить мой выход в отставку. Обычно со службы увольняются в пятьдесят пять лет, но, поскольку командование мне доверяло, меня попросили остаться в погонах до завершения этого задания.
— В таком случае вы были на хорошем счету. Подобную работенку кому попало не поручают. Впрочем, это я уже давно знал.
— Я трудился изо всех сил, но, разумеется, у меня нет вашего великого таланта. Вы были героем, а я лишь офицер, который старался делать все, что в его силах. Третьего февраля две тысячи четвертого года рядом с японским бронетранспортером взорвалась самодельная мина. Бронетранспортер перевернулся и загорелся. Те, кто находился внутри, не могли выбраться. Мне как командиру пришлось прийти им на помощь. Нам удалось спасти всех, но в последний момент рядом разорвалась граната, выпущенная из гранатомета, которая раскроила мне лицо и выбила глаз. Вот и все. Тридцать три года военной службы, десять секунд настоящего дела — и ранение, положившее конец карьере. Вот как все получилось. Я сделал все, что смог, вытащил своих людей, и, надеюсь, они вспоминают меня с уважением.
— Получить ранение на чужой войне несладко.
— Самое забавное в этом вот что: поскольку официально боевых японских частей в Ираке не было, мой глаз официально не был выбит. Однако сам глаз с таким суждением не согласен. В любом случае военной службе пришел конец.
— Что ж, ваш отец гордился бы вами. Он отдал бы вам воинские почести, даже если остальные не сочли нужным это сделать. А мой бы к нему присоединился. Они-то знали, что к чему.
— Вы очень любезны. А сейчас я хочу преподнести вам один подарок.
— Вот как?
— Да, совершенно в японском духе. Возможно, он не будет иметь никакого значения. Но это кредо, согласно которому надо жить, согласно которому прожили свою жизнь мы, каждый по-своему, следуя заветам наших отцов, — а они были лучше нас.
— Да, намного.
Филипп Яно ушел и вернулся с тщательно завернутым пакетом, в котором лежало что-то похожее на книгу.
— Открыть сейчас? — спросил Боб.
— Да, поскольку мне придется кое-что объяснить.
Боб развернул пакет, снова чувствуя себя вандалом, поскольку бумага была так аккуратно сложена, куски липкой ленты так идеально отмерены, что упаковка казалась произведением искусства. Однако он довольно быстро с ней справился и высвободил из разоренного бумажного гнезда продолговатую рамку из старинного дерева. Перевернув ее, Боб увидел выведенные мастером-каллиграфом иероглифы, бегущие ровным столбцом сверху вниз по листу пожелтевшей рисовой бумаги, строго посередине.
Даже непосвященный человек с первого взгляда видел в этих мазках кистью легкость, быстроту, точность, мастерство, — что можно увидеть в потоке низвергающейся воды или в опадающих листьях.
— Очень красиво, — заметил Боб.
— Это слова человека по имени Миямото Мусаси. Он считается величайшим японским фехтовальщиком. За свою жизнь Мусаси больше шестидесяти раз дрался на поединках и всегда одерживал верх. Однако почитается он также и за свою мудрость. Удалившись от мирской суеты, Мусаси написал «Книгу пяти колец», где изложил свои взгляды на меч и на жизнь. Для него меч был жизнью.
— Понимаю, — заметил Боб, — Он был настоящим профессионалом.
— Да. Самураем. Воином. То же самое можно сказать и про моего отца, и про вашего. Поэтому я дарю это вам — нет, это не оригинал, ибо оригинал был бы бесценен. Но каллиграфия воспроизведена вручную выдающимся мастером, который постарался передать все совершенство кисти Мусаси.
— Пожалуйста, переведите, что здесь написано.
— Мусаси написал это в тысяча шестьсот сорок пятом году. Старик был мудрым. Здесь говорится:
Сталь режет плоть.
Сталь режет кость.
Сталь не режет сталь.
Вы все поняла?
Боб понял все:
— Все остальные — они плоть и кость. Их можно разрезать. Это обыкновенные люди. Спящие, мечтатели. Мягкие. А мы — твердые. Мы воины. Нас нельзя разрезать. Это наше ремесло.
— Вот почему мы нужны этим людям, о чем они сами порой и не подозревают, — подтвердил Филипп Яно.
Глава 12 CAKE
Синсэнгуми Нии оставался с американцем до самого конца. Утром тот торжественно простился с семейством Яно перед домом и сел в такси, но поехал не на железнодорожную станцию, как можно было ожидать, а в храм Ясукуни, святилище, посвященное всем павшим в войнах, которые вела Япония.
Приезжие из западных стран не часто посещают это место, однако этот американец счел своим долгом там побывать. Пока такси с его багажом ждало на стоянке, отсчитывая йены, американец вошел в храм и какое-то время скромно постоял перед алтарем. Нии ломал голову: это еще что за хреновина? Для него в этом не было никакого смысла.
Затем американец решил немного пройтись. Он был гайдзин, и его сторонились, но он не обращал на это внимания. Американец медленно, слегка прихрамывая, бродил по святилищу, словно пытался установить связь с чем-то бестелесным. Он задержался здесь дольше остальных; молодой якудза уже начинал терять терпение. Американец постоял под воротами «тории» из взметнувшейся ввысь стали — они олицетворяли душу самурая, павшего на поле битвы. В отличие от традиционных ворот японских храмов, сделанных из дерева, эти были стальные, что, похоже, имело для американца какое-то значение. Он несколько раз прикоснулся к воротам, глядя на них так, словно видел некий скрытый смысл, понятный ему одному. Затем американец прошел по широкой бетонной дороге, ведущей к белому деревянному храму, расположенному в двухстах пятидесяти ярдах от ворот, осмотрел безмятежную череду деревьев, отделяющих святилище от безумства Токио. Подошел к храму, заглянул внутрь, возможно, предался медитации, — кто может понять гайдзина?
Но всему когда-нибудь приходит конец. Американец вернулся к такси, и машина, втиснувшись в плотный поток транспорта, поползла к железнодорожной станции. Нии просто оставил свою машину в переулке около станции. Разумеется, ее заберет полицейский эвакуатор, но это пустяки, машину можно будет вернуть. Он купил в автомате билет на экспресс «Нарита», устроился у прохода и проехал вместе с американцем до терминала номер два международного аэропорта, находящегося в сорока милях от Токио.
Гайдзин встал на регистрацию рейса «Джапан эрлайнс». Одетый по-простому, в джинсы и коричневую куртку поверх спортивной рубашки, он стоял с двумя небольшими сумками в руках. В его движениях не было нетерпения; он невозмутимо дождался своей очереди, предъявил документы, отдал на проверку багаж. Нии наблюдал издалека, как американец проходит предполетный контроль. Он стал свидетелем небольшой драмы: американца выдернули из очереди, придирчиво осмотрели с помощью портативного металлоискателя, после чего его документы последовательно изучали три уровня чиновников. Наконец ему разрешили лететь. Нии последний раз бросил на него взгляд: высокий иностранец с бесстрастным, непроницаемым лицом, так непохожим на подвижные гримасы всех прочих волосатых зверей, с которыми до сих пор приходилось сталкиваться молодому якудза. Глаза американца горели странной силой, словно он хранил в себе сокровищницу тайных знаний, и у Нии мелькнула мысль: тем, кто встанет у него на пути, не позавидуешь.
Однако синсэнгуми Нии выполнил свою задачу. Идеальный самурай, он достал сотовый телефон, позвонил старшему и обо всем доложил. Ему приказали немедленно возвращаться. Сегодня вечером настанет пора действовать.
И вот все осталось позади. У Боба в руках был посадочный талон. Его багаж проверен, через час он сядет в самолет, — к счастью, ему досталось место у прохода. Боб направился к выходу на посадку. Перелет будет продолжаться пятнадцать часов, но он дождется обеда, после чего примет таблетку. Когда он проснется, самолет уже будет заходить на посадку в Лос-Анджелесе. А оттуда — оттуда всего час с небольшим до Бойсе.
У Боба было легко на душе. Он совершил доброе дело. Наконец-то он испытывал чувство удовлетворения. Боб не сомневался, что его старик был бы доволен. Он, как мог, расплатился за старый долг.
«Эй, старина, я по-прежнему стараюсь делать то, чему ты меня учил. Жаль, что ты не можешь это видеть».
Плохо, что он завязал. У Боба внутри все жаждало выпивки. Ему было так хорошо, что он хотел это отметить: обмыть верность долгу, завершение дела. Как-никак, он воздал должное великим людям.
Чем больше думал об этом Боб, тем более заманчивой казалась ему мысль выпить. Всего лишь один разок.
Ну уж нет. Извините. Никаких «лишь один разок».
Достаточно только начать, как тебя подхватывает течение, и одному богу известно, куда оно тебя выбросит. Такое уже бывало в прошлом.
Большую часть семидесятых Боб провел в пьянстве: чехарда с работой, постоянная боль, потеря жены, пары домов, терпения друзей, уважения начальства — не один раз он был готов нажать на спусковой крючок и положить конец своим никчемным страданиям. Но ему удалось каким-то образом выкарабкаться, отказавшись от всего. Он не мог воспринимать мир. Не мог жить с воспоминаниями. Ему пришлось расстаться и с тем и с другим. Поэтому Боб жил как монах, среди винтовок, гор и деревьев, с одной собакой, в добровольной ссылке, не разговаривая ни с одной живой душой, читая, стреляя, гуляя, заботясь о собаке, существуя на крошечную пенсию, пытаясь хоть как-то вернуть то, что потерял.
Боб мог вести такой образ жизни до конца дней своих. Но затем произошли перемены. Время выдалось жаркое. Ему пришлось вспомнить навыки, которые, как ему казалось, были давно забыты. Однако они никуда не делись. У него по-прежнему оставалось это что-то, помогающее ему идти вперед, и, что самое страшное, то была его лучшая часть. Все Свэггеры были созданы для войны. Они были воинами, и никем иным. Конечно, они умели читать и знали таблицу умножения и даже могли какое-то время быть вежливыми и воспитанными, но их истинная суть была не в этом. Именно таким был Эрл, помешанный на чувстве долга, неважно, брел ли он по пояс в воде под бело-голубыми японскими трассирующими пулями к берегу Таравы или охранял кукурузные поля Арканзаса от вооруженных грабителей. И таким был Боб, трижды побывавший во Вьетнаме, второй, третий или четвертый лучший стрелок Америки, в зависимости от того, кто составлял список.
Итак: почему тебе хочется пить?
Тебе не хочется пить.
В этом нет необходимости.
«У меня очаровательная жена, у меня чудесная дочь, я строю себе дом, из которого смогу смотреть на заросшую травой и цветами долину и лиловый горный хребет за ней, и кто бы мог подумать, что у меня будет все это?» Кому из старых стрелков выпало такое? Когда охотишься на людей и не одну сотню раз видишь в оптический прицел, как они падают на землю и затихают, быть может, при этом заходишь в такую даль, откуда обратной дороги нет.
«Но я вернулся, — подумал Боб. — И никакая помощь мне не нужна».
Затем он подумал: «Черт побери, сегодня я сделал кое-что для своего отца». Это его бесконечно радовало. Боб вспомнил своего старика, которого уже давно не было на этом свете, отца, который его никогда не бил. Все его сверстники постоянно жаловались: «Боже всемогущий, папаша вчера снова меня выпорол. Уй-йя, было так больно! Я больше никогда не забуду накормить свиней». Но Эрл Свэггер никогда не поднимал руку на сына, ни единого раза. Много лет спустя Боб спросил у матери — в тот редкий день, когда она была трезвой, — почему.
— Потому что его собственный отец лупил обоих своих мальчишек так, что у них остались шрамы. Твой отец считал, что это признак величайшей трусости — когда взрослый мужчина бьет мальчишку. Поэтому сам он твердо соблюдал это правило. Вот каким человеком был твой отец. Видит бог, как мне его не хватает!
Бобу тоже не хватало отца: он прекрасно помнил, как в июне 1955 года тот выехал с фермы в черно-белой полицейской машине. Эрл Свэггер не оборачивался, но, увидев сына в зеркало заднего вида, помахал рукой, и Боб помахал в ответ.
— Пока, папа, пока!
Через два часа отца уже не было в живых. Бобу тогда только-только исполнилось девять.
И вот он подумал: «Я сделал то, что понравилось бы отцу. Если бы он был здесь, он бы улыбнулся. Я расплатился за долг Эрла Свэггера, последний, который оставался у него на этом свете; я послужил старику. За это обязательно стоит выпить».
Вот как получилось, что Боб покинул зал ожидания и поднялся на верхний этаж, где располагалась галерея сверкающих ресторанов, сувенирных киосков и магазинов беспошлинной торговли. Там он нашел небольшой бар, совершенно не японский, похожий скорее на французское бистро: кругом коричневое дерево и коричневые бутылки, общая атмосфера уюта, какую жаждущий может обрести только в питейном заведении. Усевшись на высокий табурет, Боб поймал взгляд молодого бармена в белом пиджаке за стойкой и спросил:
— Можно попросить у вас рюмку саке?
Паренек улыбнулся. Он был очень похож на всех тех молодых ребят, которых когда-то знавал Боб, хотя и был японцем.
— Конечно, — ответил паренек. Он говорил по-английски практически без акцента. — Вам подогреть?
— А вы как его пьете? Я видел, один человек пил саке из чего-то вроде маленького керамического блюдечка. Из крохотной плоской чашечки.
— О, иногда мы пьем саке именно так. Но еще мы пьем его из квадратной деревянной коробки под названием «масу». Хотите попробовать? Мы его даже подогреваем! Да, сэр, если хотите, я могу разогреть саке в микроволновке! Вот тогда это будет по-японски на все сто.
— Сынок, боюсь, ваша прекрасная страна еще не готова для таких, как я. Нет-нет, я выпью саке так, как его пил мой друг Филипп Яно: чистый, но из маленькой плоской чашечки.
— Уже несу.
Мальчишка взял с полки большую бутылку, достал плоскую чашечку высотой всего с полдюйма и плеснул в нее немного прозрачной жидкости.
Взяв странную чашечку, Боб понюхал напиток. Саке пахло лекарством. Бобу вспомнилось все то время, что он провел в госпиталях, — все те жидкости, которые в него вливали и из него откачивали, и жидкости, которые, пропитав ватные тампоны, больно жгли его израненное тело.
— Semper fi, — сказал Боб. — Если я свалюсь, подбери меня.
— Ну, как вам понравилось?
— Гм. Теперь я понимаю, как это может нравиться. Неплохая вещь.
Сначала саке ударило в нос терпким ароматом, затем наполнило горло едва уловимым сладким вкусом, ненавязчивым, с фруктовым оттенком; но потом оставило после себя сильное жжение, говорящее о том, что внутри скрывается огонь.
— Повторить?
— Проклятье, а почему бы и нет? У меня есть еще час до вылета, а в самолете мне все равно не останется ничего другого, кроме как проспать весь перелет через Тихий океан.
Боб выпил еще одну чашечку за «semper fi», потом одну перед дальней дорогой, еще одну за морскую пехоту, одну — за тех, кто погиб во Вьетнаме, одну — за тех, кто погиб на Тихом океане, одну — за тех, кто остался в живых, одну — за тех, кто считает себя живым, но на самом деле мертв, и еще одну — за всю эту хренотень. Затем ему захотелось узнать, чьи это ступни приделаны к его ногам, и мальчишка-официант, ответив ему — так, как разговаривают мальчишки со взрослыми мужчинами, которые многое повидали в жизни, как говорят молодые морские пехотинцы, — подал еще одну чашечку саке. После чего, разумеется, Боб тоже угостил его, поскольку не мог поступить иначе. Потом, естественно, он захотел в туалет, и ему объяснили, как туда попасть. Отыскав нужное заведение, Боб еще раз убедился в том, что уже знал: японские туалеты пришли из научной фантастики и каким-то образом сами собой остаются идеально чистыми. Он сделал свое дело, а затем взглянул на часы, понял, что пора садиться в самолет, и направился к выходу на посадку.
И тут Боб сделал ужасающее открытие. Как выяснилось, за то время, что он сидел в баре, здание аэропорта полностью переделали. Это был совершенно другой аэропорт, и чем упорнее Боб пытался отыскать выход на посадку, тем более незнакомым он становился. В какой-то момент Боб поймал себя на том, что страшно устал, вероятно оттого, что ему приходилось таскать чужие ступни, и решил немного отдохнуть.
Его разбудил уборщик, но он тотчас же заснул снова и проснулся во второй раз, когда его начал тормошить полицейский со строгим лицом.
Господи, как же у него раскалывалась голова! Качалось, ее зажали в тиски и парочка борцов сумо навалилась всем своим весом на рычаг.
Затем Боб подумал: «Проклятье, я не в самолете».
Он посмотрел на часы.
6.45 утра по токийскому времени.
Самолет давно улетел.
Боб осознал, что его жизнь внезапно сильно усложнилась.
«Ах ты безмозглый кретин! Ах ты тупица! Да тебе капли нельзя в рот брать, иначе все заканчивается вот этим, старый ты дурень!»
Осмотревшись, Боб обнаружил, что аэропорт только-только начинает просыпаться. Также он выяснил, что вчера вечером, выйдя из туалета, почему-то повернул не в ту сторону, после чего усугубил эту ошибку другими и в результате оказался не в том коридоре. Боб постарался составить план действий: вернуться в главный зал, обратиться к администратору, сдать неиспользованные билет и посадочный талон, получить место на ближайший рейс до Лос-Анджелеса — сколько это будет стоить? — позвонить Джулии и предупредить ее, затем перекусить и дождаться вылета. Ну а потом ему придется выручать свой багаж, уже прилетевший в Америку. Злость на себя еще больше подчеркивало выведенное каллиграфическим почерком изречение, подаренное мистером Яно: «Сталь режет плоть, сталь режет кость, сталь не режет сталь».
«Ах ты идиот…»
Следующая его мысль (мозг работал так медленно!): может быть, удастся как-нибудь устроиться на другой рейс, не покидая зал вылета, что избавит его от всей этой ерунды с металлоискателями.
Наконец Боб заставил себя встать. Итак, первым в повестке дня стоит кофе. Затем надо поесть. И только потом он будет готов начать хождение по мукам, порожденное собственной глупостью.
Боб вернулся в главный зал, минут через десять отыскал представительство авиакомпании «Джапан эрлайнс», чтобы узнать, можно ли ему будет решить свою проблему без особых затруднений. К несчастью, представительство было еще закрыто. Оно должно было открыться в восемь утра, только через полтора часа.
Но где-то по пути Боб нашел зал вылета международных рейсов, с обилием кафе, и хотя официально они еще не открылись, ему удалось уговорить молодых ребят в одном из них запустить кофеварку, так что он получил чашку горячего кофе. Уже вышел свежий номер международного выпуска «Ю-эс-эй тудей», и Боб прочитал его от первой страницы до последней. Затем он расправился с «Интернэшнл геральд трибьюн», а потом и с азиатским выпуском «Ньюсуика».
Вот и восемь часов. Боб вернулся в представительство «Джапан эрлайнс», оказался у стойки первым, предъявил билет и посадочный талон, туманно описал свои приключения с саке и туалетом и без труда получил билет на рейс до Лос-Анджелеса, вылетающий в час дня; ему даже снова досталось место у прохода. Сотрудница авиакомпании заверила его, что никаких проблем с багажом не будет: его оставят на таможенном контроле в Лос-Анджелесе. Она даже улыбнулась Бобу.
После этого Боб разыскал международный телефон и позвонил жене, которой, к счастью, не оказалось дома. Он оставил ей сообщение на автоответчике, решив выложить всю правду. Жена будет дуться на него целую неделю, но это все же лучше, чем бесполезное вранье.
Итак, к девяти утра Боб полностью пришел в себя и сделал все дела; оставалось лишь подождать еще несколько часов.
«Я нисколько не огорчусь, покинув этот проклятый аэропорт».
Сняв с плеч груз, Боб сел и составил новый план действий, центральное место в котором снова занимал кофе.
Он вернулся в кафе. Ему пришлось долго стоять в очереди, но в конце концов он получил заветную чашку. Заведение было переполнено, поэтому Боб вышел в зал ожидания, нашел свободное место и сел.
И вот тогда — времени было 10.30 — он обратил внимание на изображение на одном из десятков телевизионных экранов, развешанных но всему залу. Ему потребовалось какое-то время, чтобы собрать медленно плетущиеся мысли: все началось с чего-то смутно знакомого, что постепенно делалось резче и наконец стало узнаваемым.
Это был Филипп Яно.
На экране появилась семейная фотография Яно, которую Боб видел у них дома. Филипп, Сюзанна, будущий врач Томоэ, сыновья Реймонд и Джон и, наконец, очаровательная малышка Мико.
Потом показали дом, в котором он провел столько приятных часов, — дом, объятый пламенем.
Боб сидел не шелохнувшись, пытаясь разобраться в увиденном, упорядочить все так, чтобы с этим можно было иметь дело.
Он повернулся к своему соседу, японцу в костюме.
— Простите, сэр, что говорят по телевизору? — выпалил Боб, даже не потрудившись поинтересоваться, говорит ли его сосед по-английски.
Но тот его понял.
— Все это очень печально, — ответил японец. — Он был герой. Пожар. Он сам, его семья — все погибли.
Глава 13 КОНДО ИСАМИ
Он находился у себя в мастерской. Все домочадцы давно спали наверху, но Филипп Яно, несмотря на поздний час, оставался один на один с мечом своего отца.
Изогнутое лезвие, покрытое царапинами, потертостями, пятнами ржавчины и сколами, лежало на аккуратно сложенном хлопчатобумажном покрывале.
В лучах света оно не сверкало — для подобного оптического явления его поверхность обладала слишком большим количеством изъянов, — а скорее тускло отсвечивало, демонстрируя все свои неровности. Больше всего лезвие напоминало спокойную грязную лужицу с беспорядочно разлившимися ядовитыми пятнами, источающую зловоние.
«Какие же в тебе скрыты тайны? Следует ли мне потратить шесть месяцев и пятнадцать тысяч йен за квадратный дюйм, чтобы тебя отполировать? И предположим, что это… ничего не даст. Предположим, что ты не меч, а старая кляча и полировали тебя уже столько раз, что ты стал хрупким и рассыплешься от одного дуновения. Ты жаждешь покоя, и еще одна полировка — десятая, пятидесятая, пятисотая? — лишь отнимет у тебя еще что-то, сделает тебя более слабым, лишит уникальности. И я напрасно потрачу на тебя деньги, время и душу».
Филипп Яно пытался умом принять то, что лежало перед ним: скромный, ничем не примечательный старый меч, созданный в далеком прошлом заурядным кузнецом. Ты был не хуже и не лучше сотен тебе подобных. Ты верно служил: война здесь, казнь там, быть может, поединок, засада, заговор, быть может даже, политика, честолюбие и стратегические замыслы, торжественная церемония в Эдо или в Киото, и наконец, через несколько сотен лет после того, как ты родился в огне и глине, тебя облачили в убогий армейский наряд и отправили на войну, и ты ненадолго попал ко всеми забытому офицеру Хидеки Яно, который сражался и погиб на Серном острове во имя… А действительно, во имя чего? Во имя своих забытых предков? Какое это имеет значение? Да почти никакого: эту же самую историю может поведать миллион других лезвий и миллион других воинов.
«У тебя в руках меч твоего отца. И этого достаточно».
И все же… и все же…
Меч такой старый. Определенно он по меньшей мере кото, сделанный в шестнадцатом веке. Лезвие необычайно, сказочно острое. Даже сейчас, по прошествии многих столетий, когда он и Свэггер-сан бросали на него листы бумаги, меч разрезал их быстро и прямо.
Филипп Яно вспомнил одну старинную историю.
Ученик величайшего японского кузнеца-оружейника Масамуне приходит к выводу, что ему наконец удалось выковать более совершенное лезвие, чем делает его учитель. Преисполненный тщеславия и честолюбия, он вызывает Масамуне на состязание.
Старик долго сопротивляется, но все-таки дает свое согласие.
Молодой кузнец опускает лезвие в ручей, острием против течения. На него плывут разные предметы, и оно режет… все. Ветки, листья, рыб. Лезвие режет мусор, бумагу и даже пузырьки воздуха. Оно рассекает все, что плывет в ручье.
Затем старик опускает в ручей свое лезвие.
Его лезвие… ничего не режет.
Bсe, что плывет по течению, словно по волшебству отклоняется от лезвия в сторону и проплывает мимо.
Через какое-то время молодой кузнец приходит в восторг:
«Я победил! Мое лезвие лучше! Мой меч режет все, а его не режет ничего!»
Старый Масамуне с усмешкой вынимает свое лезвие из ручья.
«Учитель, ну признайтесь же, — настаивает молодой кузнец. — Мое лезвие лучше. Оно режет все».
Но старый Масамуне молча уходит прочь, полностью удовлетворенный.
Тут молодой кузнец замечает монаха, который видел все происходящее.
«Святой отец, объясните же этому упрямцу, что мое лезвие лучше. Помогите ему прозреть».
«Нет, — отвечает монах. — Его лезвие мудрое. Оно не увидело ничего такого, что нужно было бы разрезать. Оно не принесло в наш мир насилие и боль. Его лезвие пришло в наш мир, чтобы помогать; это лезвие справедливости… Твое же лезвие, напротив, режет все без разбора. Оно олицетворяет зло. Ему неведома мораль. Его следует уничтожить».
Яно посмотрел на тусклое лезвие. У него возникло предчувствие: это лезвие олицетворяет зло. И тотчас же он ощутил холодную дрожь, словно по телу пробежал они, злой демон.
Молодого кузнеца звали Мурамаса, и его мечи снискали себе дурную репутацию. В них действительно было заключено зло, они жаждали крови, и те, кто ими обладал, прославились как беспощадные воины. Но и сами они погибали от меча. Особую жажду лезвия Мурамасы питали к крови сёгунов; на протяжении столетий они обагрились кровью нескольких представителей семейства Токугава и в конце концов были запрещены. Все те мечи, что удалось обнаружить, были собраны и уничтожены, остались лишь считанные лезвия. Неужели этот клинок выковал Мурамаса?
Филиппу Яно еще никогда не доводилось видеть, чтобы лезвие резало так прямо, так чисто, так быстро.
Американец ничего не понял, Томоэ, еще ребенок, тоже ничего не поняла. Но он понимал все.
Этот острый меч словно пришел из легенды. Он режет все. Его выковал не Масамуне; это клинок работы его ученика.
Филипп Яно снова посмотрел на хвостовик. По полосе металла ползли иероглифы, каждый из которых представлял собой поэму, праздник для глаз, — полустертые от времени, разъеденные ржавчиной, уничтоженные отверстиями. Всего отверстий было три — каждое следующее появлялось тогда, когда очередному воину, обладателю меча, приходила мысль чуть укоротить лезвие. В последний раз это произошло где-нибудь году в 1941-м, когда какой-то простой слесарь военно-морского завода в Токио зажал лезвие в тиски и опустил вращающееся сверло, прежде чем захоронить его тайны в дешевой металлической фурнитуре син-гунто образца 1939 года. И то, что прежде было утонченным, стало примитивно-банальным.
Склонившись над лезвием, Яно стал изучать выбитую надпись.
Он тщетно бился над иероглифами несколько часов, используя все имеющиеся под рукой справочники.
В первую очередь Яно исследовал «Справочник старинных лезвий», изданный ограниченным тиражом тысяча двести экземпляров. Затем он обратился к работам Сасано Масы и Кадзимы. Труд Икеды Суэмацу, посвященный знаменитому мастеру Нацуо, Яно лишь быстро пролистал, поскольку Нацуо работал значительно позднее, но, возможно, он перенял у древнего кузнеца какой-то прием. По той же самой причине Яно бегло просмотрел «Настольную книгу японских мечей» Нагаямы.
В библиотеке университета обязательно должны быть и другие работы, и, возможно, ответ отыщется в одной из них. Однако второстепенным кузнецам кото, чьи мечи составляют основу большинства коллекций старинного оружия, в этих трудах почти не уделено внимания, а скорее всего именно среди них и следует искать мастера, который выковал этот клинок.
Оставалась еще одна возможность — книга под названием «Кото бендзи», в которой перечислены многие менее известные старые кузнецы, с поразительно точными репродукциями и описанием характерного рисунка ковки, что полезно для распознавания подделок. В этой работе представлены годы с 1345-го по 1590-й, в ней собраны четкие изображения практически новых хвостовиков, еще не тронутых ржавчиной.
Но у кого она может быть? Придется поискать. Этот труд никогда не переиздавался, а если ответ где-то и есть, то именно в нем.
И вдруг Филиппа Яно осенила одна мысль.
Сместившись влево, он устроился за компьютером и быстро вошел в Сеть. Проверив электронную почту, Яно ничего не обнаружил в своем почтовом ящике — впрочем, в нем никогда ничего не бывало, — после чего запросил поисковую систему на английском языке. Он ввел «Кото бендзи», подождал, пока под аккомпанемент щелчков и жужжания компьютер копается в необъятной электронной вселенной, и наконец получил десять возможных вариантов.
Гм, первой шла электронная энциклопедия, затем несколько интернет-магазинов, предлагающих состоятельным американцам старинное оружие с накруткой всего семьсот процентов, потом ссылки на другие сайты, в том числе сайты магазинов, торгующих книгами по данной тематике и разной мелочью вроде накладок на рукояти и ножен.
Яно наугад ткнулся по нескольким адресам — везде безрезультатно. Однако через час исследований он вышел на страничку маленького оружейного магазинчика в Талсе, штат Оклахома (подумать только!), высокопарно именующего себя «Самурайским магазином». Яно быстро просмотрел изображения непомерно дорогих, но, несомненно, настоящих мечей (многие были с документами, то есть имели сертификат Японской ассоциации холодного оружия) и наконец открыл раздел «КНИГИ» и запросил список работ. Где-то в середине он нашел: «Кото бендзи», издание 1823 года, очень редкое, состояние удовлетворительное, переплет потрепанный, пятна на обложке, цена 1750 долларов.
1750 долларов!
Наверняка эту книгу можно было бы найти и в Японии, в какой-нибудь библиотеке или в монастыре.
Самурайская культура стала общемировой, и теперь редчайшие реликвии можно скорее отыскать на Среднем Западе Соединенных Штатов, в горной Шотландии или в Италии, чем в Японии. Коллекционеры, подобно назойливым насекомым, налетают со всех сторон, раскупают все как сумасшедшие, потом перепродают, и лишь немногие чему-то учатся. И в этом самое странное: многие из тех, кто лучше всего разбирается в японских мечах, вовсе не японцы. Вот, к примеру, японский ученый в 1823 году исследовал великое множество клинков, выкованных с конца пятнадцатого века до начала семнадцатого, и тщательно перерисовал хвостовики в книгу, которой каким-то образом удалось пережить сто восемьдесят четыре года войн, лишений, революций и крайней жестокости и в конце концов оказаться в магазине в Талсе, штат Оклахома, и мудрый владелец этого магазина разместил страницы этой книги в штуковине под названием Интернет, так что сегодня она, пройдя через столетия и континенты, предстала перед взором отставного военного, живущего в пригороде Токио!
На страничке «Самурайского магазина» были представлены обложка ценного старого труда и титульный лист, имелась ссылка на «избранные страницы», а также пространное описание.
«Ну хорошо, мистер самурай из Оклахомы, — подумал Яно, — я буду играть но твоим правилам».
Он стал щелкать на поле «избранные страницы», и на экране одна за другой замелькали страницы книги.
И вдруг Яно застыл. Глядя на изображение хвостовика давно забытого меча, пришедшее с того края океана, он понял, что видит свой меч. Клинок Яно.
Да, это был именно он.
Никаких сомнений.
Разумеется, хвостовик, изображенный на экране компьютера, был длиннее, потому что варвары военно-морского завода, готовящие оружие для очередных безумных войн, еще не укоротили его, отрезав половину иероглифов.
Но Яно пристально рассмотрел самый конец хвостовика своего меча и действительно разглядел фрагменты трех иероглифов, грубо оборванных ленточной пилой или напильником, совершившими усекновение. Совпадение было полным.
Тогда он снова перевел взгляд на экран компьютера, на полный, необрезанный хвостовик того самого меча, который сейчас держал перед собой руками в резиновых перчатках, и прочитал родословную клинка, имя кузнеца, выковавшего его, имя дворянина, которому предназначался меч, результаты проверки остроты лезвия и даже…
На мгновение Яно ощутил горечь разочарования, узнав, что этот клинок выковал не Мурамаса. Нет, да и как такое возможно? Вероятность — один на миллион, подобно крупному выигрышу в лотерею. Имя кузнеца не было ему знакомо; оно писалось двумя иероглифами, первый из которых читался как «Нори», а второй как «нага». Следовательно, мастера звали Норинага; возможно, он был одним из учеников Ямато (клинок был похож на работу школы Ямато). Увы, Норинага-сан ты один из многих тысяч. Наверное, это твой самый острый клинок, ты должен гордиться.
Но затем Яно обратил внимание еще на одну деталь — на маленькое углубление на рукояти, почти затерявшееся среди бурых пятен ржавчины и неровностей неполированной старой стали.
Достав ювелирную лупу, он внимательно исследовал углубление, поворачивая его к свету так и эдак, чтобы выяснить истину.
Это был выгравированный символ, но не иероглиф, а родовой герб, по-японски «мон».
Взяв карандаш и лист бумаги, Яно тщательно перерисовал увиденное, а когда взглянул на свой рисунок, то поразился. Изображение напоминало морской гребной трехлопастный винт, установленный на каком-то подобии щита. Это озадачило Яно. Подобными винтами были оснащены торпеды Императорского флота. Такому не было места в семнадцатом столетии.
Яно обратился к справочнику «Моны: японские родовые гербы», составленному одним из западных первопроходцев в области азиатского искусства, странным калифорнийцем по имени Уиллис М. Хоули, посвятившим свою жизнь всему, связанному с культурой самураев. Хоули был одним из немногих западных специалистов, к которому с уважением относились кузнецы и полировщики пятидесятых и шестидесятых годов; его познания были поистине энциклопедическими. На Западе у него одного хватило терпения собрать и классифицировать тысячи японских монов.
Яно вздохнул. Потребуется несколько часов, чтобы просмотреть все эти бесчисленные страницы с изображениями. Он взглянул на часы. Уже очень поздно. Ему давно пора лечь спать.
Но затем Яно подумал: «Нет, надо начать. Хотя бы начать. А завтра продолжить. Работа предстоит очень долгая».
Однако, как выяснилось, книга была систематизирована не в алфавитном порядке, а по общим элементам. Перелистывая страницы, Яно увидел восемнадцать основных элементов, изображенных четкими черными линиями без полутонов. Среди них были такие вечные символы, как хризантема, хурма, дыня, маранта, китайский колокольчик, — но, разумеется, никакого торпедного винта. Там были также клен, каштан, ястребиные перья, свиток шелка, кролик, летучая мышь, стрекоза, наконечник стрелы. И вдруг — гребной винт торпеды! Нет-нет, это же боевой веер. Веер!
Быстро раскрыв книгу на странице 59, Яно обнаружил восемнадцать различных типов вееров, но ни один из них не подходил. Он вернулся чуть назад и нашел десятки вееров других типов: веер-кипарис, веер-перо, складной веер, веер-конопля. Он всматривался красными от усталости глазами в каждый из трехлистных символов и наконец нашел то, что нужно. Яно снова и снова сравнивал три рисунка: слегка расплывающееся по краям изображение в лупе, складывающееся, когда свет падал под определенным углом, из крошечных выгравированных штришков четырехсотлетней давности; свой собственный рисунок карандашом на листе белой бумаги, большего размера, но, естественно, более грубый, и смелый черно-белый набросок, выполненный Хоули, размером дюйм на дюйм, однако поразительно отчетливый — три листа, помещенные наверху какого-то V-образного приспособления, которое, как теперь видел Яно, являлось веером. Кто мог сказать, какой смысл несут в себе три листа? На самом деле это уже не имело значения. Яно нашел то, что искал. Он провел пальцем по иероглифам кандзи, которыми было записано имя рода, затем прочитал латинизированный вариант…
Род Асано из Ако.
Пораженный, Яно откинулся назад. У него гулко застучало сердце.
К этому роду принадлежал самый знаменитый самурай в истории. Однако чувство, которое испытывал сейчас Яно, никак нельзя было назвать душевным подъемом.
Скорее, вернулся призрак. Если лезвие действительно было связано с родом Асано и его кровавой историей и если имя Норинага также имело связь с Асано, тогда меч неожиданно приобретал небывалую ценность, однако для Яно гораздо важнее была слава: клинок оказывался редким представителем «культурных ценностей», достойным тщательной реставрации и демонстрации в лучших музеях Японии. Его прошлое ассоциировалось с заговором, набегом, поединком, смертью, массовым сеппуку (вспарыванием живота) — словом, в нем воплотился весь самурайский дух, все самое чистое и возвышенное, что значили самураи для Японии и всего мира.
Яно подумал: возможно ли?
Однако подобное было более чем возможно. Он мысленно перебрал все вероятности. После того как лезвие было отобрано у одного из ронинов,[14] который провел с этим мечом самую кровавую ночь в истории Японии, его потеряли или похитили, и никто не догадывался о его происхождении. Ту кровавую ночь заслонили другие события, не менее жестокие, не менее кровавые. Но вот в 1748 году кукольный театр поставил пьесу «Сокровища преданных вассалов», и о тех далеких событиях узнали самые широкие слои населения. Впоследствии этот сюжет не раз использовался в постановках театра кабуки, и все же по-настоящему бессмертным его сделали гравюры на дереве работы величайших мастеров. Наиболее известными среди них являются работы Куниёси, посвятившего той далекой ночи одиннадцать отдельных гравюр и двадцать триптихов.
Но к этому времени сам клинок был потерян: он переходил из семьи в семью, из одного оружейного магазина в другой и в порыве великой патриотической лихорадки был передан правительству вместе с сотней тысяч других лезвий, после чего его укоротили, безжалостно отполировали на станке, одели в безликую армейскую фурнитуру и отправили на войну, где его ждали новые приключения. Наконец он оказался в руках отца Яно, а затем в руках того американца. И вот он вернулся домой.
Яно ощутил страх.
Он нашел не клад, а огромную ответственность. Меч не просто стоит многие миллионы — он является достоянием нации. Ради такого могут убить. У него есть слава, есть прошлое, есть история, есть…
Если только кому-то о нем известно.
В этом был ключевой вопрос: известно ли кому-то о мече? Кто может о нем знать?
Внезапно Яно услышал звон разбитого стекла.
Затаив дыхание, он прислушался, чувствуя, как гулко колотится сердце.
Раздался крик: «Хай!»
Это был боевой клич.
Яно схватил единственное годное к бою оружие, которое оказалось под рукой, — катану син-синто 1861 года.
Нии слушал.
— Молодые воины синсэнгуми, вам предстоит пролить кровь. Готовы ли вы? Есть ли у вас сила, решимость, сталь в душе? Или вы такие же, как они, развращенные неженки?
Кондо-сан говорил быстро, с запалом.
— Вы слоняетесь по магазинам и красите свои волосы в голубой цвет, а ногти в черный? Вы дергаетесь в варварских плясках и протыкаете свое тело, увешивая его безделушками? Вы бездумно, словно кролики, совокупляетесь в грязных переулках и на сиденьях машин? Вы отравляете свой организм наркотиками и живете в призрачном наслаждении? Или же вы тверды и полны решимости, воины бусидо, мужественные и преданные делу? Вы самураи?
— Мы самураи! — раздался крик.
Они вчетвером сидели в задней части грузового фургона. В четыре часа утра токийский пригород был погружен в тишину. Фургон стоял перед домом Яно. Все четверо были в черных шароварах, черных куртках и специальных черных носках с отдельным большим пальцем, чтобы можно было носить сандалии. Каждый был вооружен двумя клинками — острым вакидзаси и катаной китайского производства, и у каждого был девятимиллиметровый бесшумный пистолет «глок».
— В таком случае, дети моей души, пошли! — воскликнул Кондо, и все четверо ощутили прилив восторженного возбуждения.
Ногума пошел первым, Муямато — вторым, он, Нии, — третьим, и Натуме — четвертым. Выпрыгнув из фургона, они крадучись приблизились к дому.
Дверь была заперта.
Ногума выбил ее ногой, после чего выполнил нутисуке, рубящий удар наискосок, вот только рубить оказалось некого. Тем временем и остальные выхватили мечи, возможно, не так изящно и красиво, как Ногума, который отработал это движение не меньше ста тысяч раз. Жаль, что его элегантной энергии не удалось выплеснуться ни на чье тело.
Вбежав в дом, Ногума крикнул: «Хай!», ища, что бы разрубить. Но рубить было нечего.
Однако он заметил пробивающийся из подвала свет.
— Хай! — снова крикнул Ногума и сбежал по лестнице вниз.
Нии последовал за ним, а остальные двое направились наверх.
Пробегая по коридору, Ногума увидел, как из двери появился человек с мечом, и бросился к нему, одержимый жаждой крови, переполненный кипучей энергией. Он выполнил безукоризненный кириороси, то есть прямой рубящий удар, уверенный в том, что его меч рассечет противника от макушки до пупка, тем самым решив исход поединка.
Увы, в момент удара его противник ловко отступил в сторону и молниеносно провел укенагаси, так называемый парящий блок, позволивший ему плавно перейти в нападение и со всей силы полоснуть Ногуму мечом по животу. Острое лезвие вспороло внутренности и все, что попалось ему на пути, дойдя чуть ли не до позвоночника. Тем же самым движением человек выдернул клинок, высвобождая его, а бедняга Ногума повалился на пол, заливаясь кровью, ибо человеческое тело на самом деле представляет собой не более чем тонкую оболочку, наполненную кровью, и, когда эта оболочка рвется, содержимое вытекает очень быстро.
Храбрый и полный решимости, Нии собрался в свою очередь обрушить на противника кириороси и поднял над головой меч, но противник опередил его, выбросив вперед рукоять своего уже занесенного вверх оружия. Нии получил могучий удар под левый глаз, отчего у него в голове будто что-то взорвалось. Вскрикнув от боли, он отлетел назад, поскользнулся в море крови, хлещущей из Ногумы, и с грохотом растянулся на полу.
Первого нападающего Яно уложил элементарным ударом из школьной программы, сам удивившись, что еще помнит его. Лезвие легко вспороло плоть, но у Яно даже не было времени подумать, что он впервые убил человека, потому что все мысли его были о семье.
Продолжая в том же духе, экономя движения, Яно с силой ударил второго нападающего рукоятью меча в лицо, ощутив, как лезвие задрожало от соприкосновения. Бандит с окровавленным лицом растянулся на полу, возможно получив перелом костей черепа.
Впереди показался третий, и Яно сжался в пружину, принимая боевую стойку. Отведя назад и чуть приподняв локти, он выполнил кириороси, намереваясь рассечь противника надвое, однако тот оказался гораздо опытнее своих приятелей и, отразив удар, проскользнул мимо Яно.
Развернувшись вслед мелькнувшему противнику, Яно снова поднял было меч, но тут обнаружил, что серьезно ранен. Ноги у него стали ватными, колени подогнулись, он стал сползать вниз, вниз, вниз и наконец оказался на полу, глядя на своего противника.
Тот выполнил цибури — церемониально стряхнул кровь с лезвия, затем ното — церемониально убрал меч в ножны: плавный балет отточенных движений. Затем он нагнулся. У него было квадратное жестокое лицо, глаза горели огнем, маленький плоский рот не выражал никаких чувств. Его лицо показалось Яно знакомым. Кто это?
— Почему? — прошептал Яно, — Господи, почему?
— Определенная необходимость, — ответил незнакомец.
— Кто ты такой? — спросил Яно.
— Я Кондо Исами, — ответил тот.
— Кондо Исами умер сто лет назад. И он тоже был убийцей.
— Где меч?
— Не трогайте мою семью. Пожалуйста, умоляю вас…
— Жизнь, смерть — все это одно и то же. Где меч?
— Ах ты кусок дерьма! Убирайся в преисподнюю. Ты не самурай, ты…
Яно закашлялся кровью.
— Умри достойно, воин, ибо тебе больше ничего не осталось. Меч я все равно найду. Он принадлежит мне, потому что я сильнейший.
С этими словами он развернулся, оставив Филиппа Яно умирать в темноте в луже собственной крови.
Глава 14 РАЗВАЛИНЫ
К тому времени как Боб приехал туда на такси, все уже было кончено. Отъезжала последняя машина с телевизионщиками. Толпа оставалась, но уже сильно поредела. Люди рассеянно топтались на месте, понимая, что представление закончилось.
Расплатившись, Боб обвел взглядом место трагедии.
Дом тлел. В нескольких местах языки пламени еще лизали дерево, но в основном открытого огня уже не было. От здания, обрушившегося внутрь, осталась груда черных обугленных балок, полуобгоревших досок, разбитой фарфоровой сантехники, почерневшего каменного цоколя. Чувствовался плотный запах гари.
Сад превратился в беспорядочное месиво затоптанных растений, исполосованное следами колес пожарных машин, подъехавших к самому дому, чтобы заливать огонь водой. Среди смятых цветов валялись обломки обгоревшей мебели и куски черепицы.
Боб подбежал к желтой ленте оцепления. Вдоль ленты стояли несколько полицейских в темно-синей форме с крошечными пистолетами в черных кобурах, равнодушные к происходящему. За ними толпились следователи в костюмах и плащах, собравшиеся на дорожке, которая когда-то вела к крыльцу дома Яно, но сейчас обрывалась у края опаленного богохульства. От огромного количества воды, вылитой в полыхающее горнило, в воздухе висела сырость; земля размокла, местами покрывшись лужицами грязи.
Боб протолкался сквозь толпу, забыв о правилах вежливости, господствующих в японском обществе. Ему не было дела до оравы вежливых зевак.
Он поднырнул под желтой лентой, отделяющей мир гражданских лиц от мира сотрудников правоохранительных органов, чем сразу привлек внимание сначала одного полицейского, затем другого и наконец третьего.
— Я должен поговорить со следователями, — решительно заявил Боб.
— Хай! Нет, нет, надо ждать, ждать…
— Я не могу ждать, ну же, где тут у вас самый главный? Я должен поговорить с…
Он почувствовал, как на него навалилась тяжесть, ощутил давление человеческих тел. Японские полицейские в форме оказались на удивление сильными. К этим трем уже спешили на помощь другие, следователи смотрели на него, и он почувствовал исходящее от них настойчивое требование: уходи отсюда, не устраивай скандал, тебе здесь не место, ты не гражданин, не вмешивайся, это наше дело.
— Я должен поговорить с вашим главным! — заорал Боб, вырываясь из рук полицейских, — Нет, нет, пропустите меня!
Высвободившись, он совершенно логично, как ему показалось, направился к группе следователей или официальных лиц.
— Я должен вам все объяснить! Понимаете, я знал этих людей, у меня были с ними дела, вам потребуются мои показания!
Ему это казалось совершенно логичным. Нужно только все разъяснить.
— Здесь кто-нибудь говорит по-английски?
Однако, несмотря на все его благие намерения, он вызывал в японцах одну только враждебность. Похоже, их нисколько не интересовал его вклад в расследование.
— Вы ничего не понимаете, я располагаю ценной информацией, — попытался объяснить Боб двум-трем полицейским, которые упрямо отталкивали его назад к ограждению. — Я должен кое-что рассказать, пожалуйста, не толкайте меня, мне нужно переговорить с вашим главным. Не трогайте меня, не толкайте меня, пожалуйста, я не хочу никаких неприятностей, но не прикасайтесь ко мне!
Японцы рявкали на него что-то непонятное, их лица слились в одну отвратительную обезьяноподобную карикатуру, и Боба вдруг захлестнуло отчаяние: на самом деле им все равно! Это привело его в бешенство, и как раз в этот момент один из полицейских, отталкивавших его, поскользнулся, взмахнул рукой и случайно больно ткнул Боба в грудь. И тот, не раздумывая, ответил.
Боб медленно всплыл в сознание. Он находился в больничной палате, его голова раскалывалась от боли, словно после удара бейсбольной битой, все тело болело.
Боб попытался сесть, но одна его рука оказалась прикована наручниками к спинке кровати.
Помещение было полностью белое, ярко освещенное. Как он мог оставаться без сознания в таком месте?
На него пристально смотрела стройная японка в строгом костюме и очках. На вид ей было лет тридцать, из чего следовало, что на самом деле ей уже под сорок. Она сидела в противоположном углу комнаты на простом обшарпанном стуле. И читала журнал «Тайм». У нее были красивые ноги.
Боб поднес свободную руку ко лбу, ощутил исходящий от него жар, затем провел ладонью по щеке, покрытой двух- или трехдневной щетиной. Однако он был чистым. Японцы избили его до бессознательного состояния, после чего отмыли, накормили успокоительным, зашили раны и посадили в кутузку.
— Проклятье, где я? — произнес Боб в пространство.
Ощутив ноющую боль глубоко за глазами, он заморгал, защищаясь от яркого света.
Боб старался не думать об утрате, но чем настойчивее он бежал от этих мыслей, тем сильнее была боль. У него перед глазами стоял образ идеальной семьи, маленькой группы Яно, связанных между собой неразрывными нитями любви, долга, ответственности.
Все это было ужасно, но страшнее всего была гибель малышки Мико.
«Кто мог поднять руку на ребенка?» — подумал Боб. Ощутив вскипающую в груди опасную смертоносную ярость, он понял, что эта ярость погубит его самого, прежде чем погубит кого-то другого. Горе неподъемной тяжестью сдавило ему грудь, стремясь выдавить из легких весь кислород. Боб подумал, что ему грозит сердечный приступ.
— Здесь есть медсестра? — спросил он.
Женщина молча посмотрела на него.
— Простите, вы говорите по-английски?
— Я родилась в Канзас-Сити, — ответила женщина. — Я такая же американка, как и вы. Мой отец — врач-онколог, поддерживает республиканскую партию.
— О, извините. Послушайте, пожалуйста, позовите мне медсестру или врача. Мне нужен еще один укол. Я больше не могу, мне… В общем, не знаю.
— Успокойтесь, мистер Свэггер. Вам уже трое суток вводят сильнодействующие лекарственные средства. Не думаю, что стоит продолжать. Сейчас я приглашу врача.
Женщина нажала кнопку на висящей рядом с кроватью приборной панели, словно пришедшей из научно-фантастического романа, и действительно через несколько секунд в палату вошла свита в белых халатах, с мрачной азиатской серьезностью на лицах. Пощупали пульс, проверили зрачки, обследовали рану, и осмотр был закончен.
— Надеюсь, с вами все будет в порядке, — по-английски сказал врач. — Вы у нас парень крепкий. Шрамов у вас достаточно.
— На самом деле, доктор, я чувствую себя замечательно. Все дело в моем… в общем, мне нужно снотворное или что-нибудь в таком духе. Мне очень плохо. Я не могу просто лежать здесь. Позовите кого-нибудь, чтобы меня освободили.
— Полиция не хочет вас освобождать, — вмешалась молодая женщина. — У японцев относительно некоторых вещей очень строгие правила, а вы нарушили их все и даже изобрели несколько новых.
— Я был немного не в себе. Ну же, доктор, пожалуйста!..
— Извините, мистер Свэггер. Рано или поздно вам надо начинать свыкаться со всем этим. Сейчас вам необходимы отдых и покой, хороший врач и возвращение домой, к семье, к тем, кого вы любите и кто любит вас.
— Я удовлетворюсь аспирином. Конечно, снотворное было бы лучше.
Доктор произнес несколько фраз по-японски, затем снова повернулся к Бобу.
— Хорошо, я дам вам аспирин, чтобы облегчить боль.
Медсестра принесла поднос с тремя белыми таблетками и стаканом воды. Боб сгреб таблетки в пригоршню, отправил их разом в рот и жадно запил водой.
Внезапно он снова остался наедине с женщиной.
— Вы из Канзас-Сити?
— Да. Я работаю в американском посольстве в Токио. Меня зовут Сьюзен Окада. Я возглавляю отделение Боба Ли Свэггера. Наша специализация — ветераны войны с расстроенной психикой.
— Как идут дела?
— Очень долго все было хуже некуда. Сейчас наконец появился какой-то просвет.
— Где я?
— В больнице при токийской тюрьме.
— Господи Иисусе!
— Да, от этого попахивает девятнадцатым веком. Вы находитесь здесь уже три дня. Вашу жену обо всем известили.
— Надеюсь, она сюда не приедет?
— Нет, мы решили, что в этом нет необходимости.
— Просто я не… Проклятье, не знаю, что сказать.
— Что ж, нам потребуется от вас заявление. Затем мы отвезем вас в аэропорт, и вы улетите в Штаты. Японцы не будут настаивать на предъявлении обвинений.
— Но я ни в чем не виноват.
— Японцам все видится в ином свете. Они могут обвинить вас в неуважении к сотруднику полиции, в нападении, в пьянстве в общественном месте, в нарушении общественного порядка и — что хуже всего — в том, что вы не японец. Вас упекут за решетку — и забудут об этом. Ваша версия случившегося никого не интересует.
— О господи… У меня раскалывается голова. Боже, как же мне плохо!
— Выпейте воды. Я бы могла вернуться завтра, но, думаю, лучше покончить со всем как можно быстрее. Чем скорее это произойдет, тем скорее мы вытащим вас отсюда.
— Ну хорошо.
Открыв чемоданчик, женщина достала цифровой диктофон, повозилась с ним и подсела к Бобу.
— Ладно, рассказывайте все как есть. Ваше знакомство с семейством Яно, от начала до конца. И почему вы начали дубасить полицейских на месте пожара.
— На месте убийства. В общем…
Боб рассказал все от начала до конца, без особой охоты, но подробно: визит, меч, пьянство в аэропорту, телевизионный выпуск новостей на следующее утро, прибытие на место, свои впечатления о случившемся там.
— Лично я не помню, чтобы я кого-нибудь бил. Если такое и было, они меня ударили первыми.
Сьюзен Окада убрала диктофон.
— Это не имеет значения, — сказала она. — Как бы там ни было, я напечатаю ваш рассказ. Завтра вы его подпишете. Я усажу вас на рейс «Джапан эрлайнс», вылетающий в час дня в Лос-Анджелес, а оттуда вам будет заказан самолет до Бойсе. И я прослежу за тем, чтобы вашу жену поставили в известность. Хорошо?
— Нет, не хорошо.
— Мистер Свэггер, давайте сотрудничать.
— Ответьте мне, что происходит? Что случилось?
— Токийская полиция и пожарная часть ведут расследование. Нам почти ничего не известно, у нас нет хороших источников в полиции. А поскольку по дипломатической классификации случившееся не подпадает под определение «Официальные интересы Соединенных Штатов», никто не обязан отвечать на наши запросы.
— Мисс Окада, шесть человек — нормальная, дружная, счастливая, одаренная семья — были убиты, безжалостно уничтожены. Должна же быть такая вещь, как правосудие!
— Японские власти пока что не подтвердили факт убийства. Согласно официальной версии, произошел случайный пожар, это трагедия, ужасная трагедия…
— Филипп Яно был чрезвычайно опытным профессиональным военным. Десантником, своего рода элитой. Ему приходилось бывать под вражеским огнем, он командовал людьми в боевой обстановке. Он был одним из лучших в своей стране. Он был обучен иметь дело с чрезвычайными ситуациями. Если бы в его доме возник пожар, он первым делом вывел бы свою семью на улицу. Поскольку этого не произошло, тут что-то очень не так. Это, вкупе с тем, что я преподнес ему меч, на его взгляд имеющий определенную ценность, создает очень сложную ситуацию, которая требует особого внимания правоохранительных органов и…
— Мистер Свэггер, мне известно, что вы многое повидали на своем веку и не раз бывали в переделках. Но я должна вас предупредить, что здесь, в Японии, не принято учить официальные японские власти, как им выполнять свою работу и к каким выводам им приходить. Они сами сделают то, что считают нужным, и давайте на этом остановимся.
— Я не могу допустить, чтобы шесть человек погибли без…
— Ну, кое-чего вы не знаете. Есть и хорошие новости. Малышка Мико Яно жива, мистер Свэггер. В ту ночь она была в гостях у соседского ребенка. Хвала Будде или Иисусу Христу за это маленькое чудо, но Мико пережила ту ночь.
Снова аэропорт Нарита, терминал номер два.
Посольский микроавтобус, за рулем которого сидел младший капрал морской пехоты в форме, протиснулся сквозь плотный поток машин, отыскал полосу, ведущую к залу вылетов международных рейсов, и свернул к воротам, где считыватель магнитных карточек предоставил быстрый доступ в зону для особо важных гостей.
За ним неотступно следовала японская полицейская машина. В ней сидели двое угрюмых полицейских, которые, однако, ни во что не вмешивались.
— Японцам действительно хочется, чтобы вы улетели, — сказала Сьюзен Окада, сидевшая в салоне микроавтобуса рядом с Бобом, который успел немного отдохнуть и прийти в себя, побриться, принять душ и переодеться в свежую одежду.
— Все в порядке, — ответил Боб. — Я улетаю.
Микроавтобус остановился, Боб и его новая приятельница Сьюзен вышли, поднялись на эскалаторе и прошли через просторный серый зал к стойкам регистрации. Обо всех бумагах заранее позаботились, и Боб беспрепятственно прошел мимо охраны, так что не было повторения комической сцены с сигнализацией, сработавшей на стальное бедро. Вскоре он оказался в зале вылета. За окном на бетонном поле виднелся огромный тупой нос «Боинга-747». Посадка должна была начаться через несколько минут.
— Вам не обязательно сидеть со мной, — сказал Боб. — Наверняка у вас найдутся более интересные занятия.
— Я могу найти себе много гораздо более интересных занятий. Но в первую очередь я должна выполнить свою работу.
— Хорошо, хорошо.
— Я сопровождаю одного глупого пьяницу. Мне нужно убедиться в том, что этот человек снова не вляпается в какую-нибудь историю. Вы должны это понимать.
— Я все понимаю. Больше ни капли. Никогда. Я все понимаю. Я срываюсь с катушек лишь раз в несколько лет. Я хороший мальчик. Мне показалось, у меня случился запой.
— Как вы себя чувствуете?
— Отлично.
— Вас хотели проводить самые разные люди. Например, главнокомандующий морской пехотой Западной части Тихоокеанского региона. Судя по всему, он вас знает.
Она назвала фамилию.
— Он был заместителем командира батальона во время моего первого срока во Вьетнаме. Это было в шестьдесят шестом году. Отличный офицер. Рад, что у него все так замечательно.
— В общем, он хотел убедиться, что к вам отнесутся хорошо и все пройдет гладко. Я ознакомилась с вашим послужным списком и понимаю, почему все о вас такого высокого мнения.
— Это было очень давно.
— У нас есть еще несколько минут. Позвольте поговорить с вами откровенно.
— Пожалуйста, мисс Окада.
— Я очень боюсь, что вы попытаетесь раздуть эту трагедию во что-то значительное. Йитс сказал: «Люди действия, когда они полностью теряют веру, верят только в действие». Вы понимаете, что он хотел этим выразить?
— Возможно, мэм, я говорю как неотесанный фермер с Дикого Запада и время от времени крушу предложение, словно яйцо, но, наверное, вы будете весьма удивлены, узнав, что эта цитата мне знакома и что я читал и других ребят: Сассуна, Оуэнса, Грейвза, Мэннинга — целое скопище писателей, которым казалось, что им есть что сказать о войне и воинах. Я знаю, кто я такой и где мое место: я из тех, кого хотят иметь рядом, когда стреляют, но все остальное время я лишь заставляю сильно нервничать. Я — ружье, которое хранится дома.
— Ну, тут я ничего не могу сказать. Но вы понимаете, к чему я клоню. Вы не должны превращать случившееся в новый крестовый поход. Вы не можете вернуться назад. Вы не знаете здешних порядков. А они очень-очень странные, и вы запросто вляпаетесь в серьезные неприятности и навлечете серьезные неприятности на других. Вы должны принять случившееся: это внутреннее дело японцев, и они сами с ним разберутся. Есть подозрения, что имел место поджог, но пока нет никаких улик. Вы должны играть по правилам японцев. Понимаете, что я хочу сказать? Японцы выдворили вас из страны и больше не желают видеть. Если вы вернетесь, второго шанса не будет. Вы получите на полную катушку, и это станет трагедией.
— Я вас слышу.
— Вы должны принять чужие порядки. Можете с ними не соглашаться. Японцы могут казаться вам несправедливыми, невыносимо медлительными и даже преступниками. Но так здесь обстоят дела, и когда посторонние пытаются изменить их систему, японцы очень, очень сердятся. Они и есть их система, понимаете? Можно прожить здесь долгие годы и так ничего и не понять. Я сама не до конца понимаю.
— Вы будете держать меня в курсе?
— Нет, — ответила Окада, глядя Бобу в глаза. — Это не самая лучшая мысль. Оставьте все в прошлом, живите своей жизнью, наслаждайтесь заслуженным покоем. Вам ничего не нужно знать об этом.
— Ну, вы хотя бы сказали правду.
— Я не привыкла давать пустые обещания. Я не буду ни за чем «присматривать». И я хочу, чтобы вы тоже обо всем забыли. Пусть все будет как будет.
— А что насчет девочки?
— О ней позаботятся.
— Я должен…
— О ней позаботятся. Это все, что вам нужно знать.
Объявили посадку на рейс.
— Ну хорошо, — сказал Боб. — Это против моей натуры, но я постараюсь. И поскольку вы не стали кривить душой, я тоже выложу всю правду. Я считаю, что у меня здесь остался долг.
— Что вы хотите сказать? Вы не могли знать…
— Это война. Я — человек военный, Яно тоже был человеком военным. И наши с ним отцы тоже были людьми военными. Все мы, военные, чувствуем между собой связь. Так что я обзавелся долгом. Это что-то древнее, давно забытое, чего больше не существует. Потерянное и ушедшее, причуда из глупых фильмов про поединки на мечах. Что-то самурайское.
Окада пристально посмотрела на него.
— Мистер Свэггер, то, во что пятьсот лет назад верили люди в доспехах, не имеет никакого смысла и практического применения в жизни современной Америки. Забудьте о самураях. Это киногерои, подобные Джеймсу Бонду, фантазия на тему того, чего никогда не было. Не мните себя самураем. Путь воина ведет к смерти.
Глава 15 ТОСИРО[15]
Что такое самурай?
Тут дело не в бусидо, кодексе меча и чести; Боб прочитал книги об этом и не нашел в них ничего полезного. Не нашел и в других вещах — в каллиграфии, компьютерах, автомобилях, раскрашенных ширмах, гравюрах на дереве, карате, театре кабуки, суши, живописи темперой и тому подобном, к чему у японцев такие потрясающие способности.
И это не просто «воин». Или «солдат». Или «боец». Есть здесь какой-то дополнительный смысловой слой, что-то связанное с верой, волей и судьбой. Ни одно слово-эквивалент из западных языков не способно полностью его передать.
Отчасти дело было в человеке, который примечателен сам по себе, — в самурае. Он носил кимоно. На ноги надевал деревянные сандалии. Волосы заплетал в косичку. Таскал с собой целый набор мечей. Самурай был готов сражаться и умереть на спор, за грош, в шутку.
Он был гибкий, стремительный и опасный. В нем жила война. Он был слеплен из того же материала, что и морская пехота Соединенных Штатов: твердый, опытный, целеустремленный, и если и не совсем бесстрашный, то, во всяком случае, умеющий держать свой страх под контролем, заставляя его работать на себя. Если и можно постичь смысл понятия «самурай», то только через такого человека.
Боб снова и снова смотрел фильмы про самураев. У него была целая сотня фильмов, причем не только те, которые большие умники назвали великими, вроде «Семи самураев», «Ёримицу», «Кровавого трона» или «Беглеца». Были и фильмы, о которых на Западе никто не слышал, такие как «Дьявол с мечом», «Меч, который спас Эдо», «Ханзо-бритва», «Сорок семь ронинов», «Самурай-убийца», «Харакири», «Предание о женщине-якудза», «Кровь на снегу» и «Остров Гандзиро».
Боб смотрел эти фильмы на DVD-плеере, читающем диски всех форматов, в квартире в Окленде, штат Калифорния, вся обстановка которой состояла из лежащего на деревянном полу тонкого матраса, играющего роль кровати. Каждое утро он просыпался в пять часов, завтракал чаем и рыбой, после чего пробегал шесть миль. Вернувшись, он смотрел один фильм, затем в течение часа читал книги, посвященные мечам, истории, культуре, книга, которые он понимал, и книги, которые казались ему полным бредом, и даже книги, посвященные каллиграфии. Потом Боб обедал в одном из десятка расположенных поблизости японских ресторанов, потому что ему хотелось привыкнуть к ним, к их запахам, языку, движениям, лицам; вернувшись домой в два часа дня, он отдыхал, смотрел еще один фильм, затем отправлялся ужинать, как правило, суши, иногда лапшой, изредка говядиной кобе. Вечером — еще два часа чтения и еще один фильм.
Должны же где-то быть ответы.
Боб никогда не видел подобной грации. Тела этих людей были текучими, такими пластичными, такими меняющимися, по-спортивному гибкими, что в это невозможно было поверить. Они бегали, увертывались и прятались, кружились, совершали обманные движения, останавливались и мгновенно меняли направление — и все это в деревянных сандалиях. Они носили мечи острием вверх в ножнах, даже не закрепленных на поясе; более того, в помещении они снимали длинный меч и таскали его в руках, как зонтик. Однако Боб обратил внимание: во всех фильмах, садясь на пол, они клали меч на одно и то же место, слева от колена, лезвием наружу, рукоять у самого колена, под углом в сорок пять градусов. Они никогда не отклонялись от правила. Вот оно, то самое, первостепенное: никаких отклонений.
И они были очень стремительными. Бобу никогда не приходилось видеть такую скорость. Казалось, у них все суставы смазаны машинным маслом; при движении они рассекали пространство и время с быстротой, непостижимой для простых смертных. Все начиналось с извлечения меча, с распрямления тела, подобного освобожденной пружине, поэтому клинок покидал ножны и начинал рубить в одном экономном движении, и кому-то неизбежно приходилось умереть. Иногда удар невозможно было даже рассмотреть, таким неуловимым он был. Изредка это был колющий выпад, но в основном — секущий удар, наносимый под десятком различных углов, замаскированный под разворот, похожий на танец, но начисто лишенный женственности и неизменно полный атлетизма. И всегда имелись определенные условности: обычно самурай сражался сразу с тремя-четырьмя противниками, и зачастую, когда он наносил удар, сраженный человек, как правило смертельно раненный, просто застывал на месте, словно отказываясь признать конец жизни и пытаясь растянуть последние секунды в минуты. Наконец самурай изящным жестом убирал меч, лезвие с определенностью поршня скользило в ножны, после чего он разворачивался и убегал трусцой, оставляя после себя собрание застывших тел. Постояв неподвижно еще какое-то мгновение, убитые падали один за другим.
Может быть, это и есть самурайский дух?
В одном фильме парень сражается с тремястами противниками — и побеждает всех. Было забавно и в то же время смутно походило на правду. Это и есть самурай?
В другом фильме семь человек выстояли против сотни. Это чем-то напоминало отряд «зеленых беретов» в войне, о которой Бобу было слишком хорошо известно, и те семеро ничуть не уступали бойцам сил специального назначения. Они не отступали, они умирали не плача. Это и есть самураи?
Еще в одном фильме воин становится одержимым — он одержим своим мечом. Он не может остановиться и убивает всех подряд, пока в конце концов не погибает в горящем притоне, окруженном со всех сторон врагами, но только после того, как зарубил пятьдесят из них. Это и есть самурай?
В одном фильме отец мстит благородному семейству, которое заставило его приемного сына покончить с собой — вспороть грудь заточенным бамбуком. Отец действует быстро и уверенно и не знает страха; он не боится смерти и встречает ее как старую подругу. Это и есть самурай?
В другом фильме брат, полный раскаяния, возвращается домой, чтобы встретиться с мужем своей сестры, который когда-то посоветовал ему помочь клану и зверски расправиться с жителями бедной деревушки. В конце фильма брат добивается торжества справедливости. Это и есть самурай?
В третьем один из воинов говорит: «Господин, умоляем, казните нас немедленно!»
Это и есть самурай?
А еще в одном воин говорит: «Я так рад, что ты меня убил!» — и умирает с удовлетворенной улыбкой.
Это и есть самурай?
В большинстве фильмов храбрые молодые мужчины шли на смерть; они были готовы умереть ради чего угодно, без колебаний.
Как японцы любят смерть! Они боятся позора и любят смерть. Они жаждут умереть, они мечтают о смерти, возможно, мастурбируют с мыслью о собственной смерти. Что это за раса таинственных людей, таких непохожих, таких непостижимых, таких замкнутых… и в то же время таких человечных? Самураи?
Иногда Бобу удавалось ухватить что-то. В конце «Семи самураев» три оставшихся в живых воина покидают город. Сражение окончено; они оборачиваются и смотрят на холм, а на нем виднеются четыре меча, воткнутые в землю острием вниз рядом с четырьмя могильными холмиками. Порыв ветра приносит на холм облачко пыли.
Вот это Боб понял: ему пришлось повидать достаточно воткнутых в землю штыков от М-16, отмечающих боевой путь роты, пришлось испытать тяжесть скорби по молодым парням, ушедшим навсегда, по безымянным героям, погибшим товарищам, и эта боль не покидала его никогда.
Но были и вещи совершенно непостижимые.
В одном фильме суровый самурай, бродящий по стране со своим маленьким ребенком в коляске, убивает старика, и тот перед смертью радостно говорит: «Наконец-то мне довелось увидеть безупречное исполнение техники „соруйя“!»
Старику действительно хотелось посмотреть, как мастерски владеет мечом герой; за это, по его мнению, стоило заплатить своей жизнью, и он почувствовал себя самым счастливым человеком на свете, даже истекая кровью!
Однажды в дверь постучали. Открыв ее, Боб увидел перед собой красивую молодую женщину, строгую, сдержанную, безукоризненно одетую и, возможно, слегка недовольную. Это была его дочь.
— Привет, красавица. Что ты здесь делаешь?
— Вопрос в том, что ты здесь делаешь? — сказала Ники.
— Полагаю, адрес тебе дала мама. Как она?
— У нее все замечательно. Она сражается. В этом ее главный талант.
— Точно.
Ники прошла в квартиру, чувствуя себя хозяйкой. В этом заключался ее талант, точнее, один из многих талантов. Она была в джинсах и высоких ковбойских сапогах, волосы забраны в хвостик. Ей было двадцать три года, она заканчивала университет в Нью-Йорке и собиралась стать писательницей.
— Ты обещал заехать в гости, помнишь?
— Ну, понимаешь… Ты ведь хорошо знаешь своего папочку. Иногда старый козел начинает забывать.
— Ты в жизни никогда ничего не забывал. Папа, во имя всего святого, что случилось? Я правда хочу знать. Эта японская штучка, что это такое?
Ники окинула взглядом комнату: на одной стене висело выведенное иероглифами изречение, подарок Филиппа Яно; на другой был рисунок тушью, изображающий сорокопута, сидящего на кривой ветке. Вся остальная обстановка состояла из голого деревянного пола, огромного телевизора, DVD-плеера и сотни с лишним коробок с дисками, на обложках которых красовались в основном иероглифы и мужчины с косичками и в причудливых одеждах. А еще повсюду высились стопки книг.
— Кока-колы не хочешь?
— А как насчет саке? По-моему, тут этот напиток подошел бы больше.
— Я завязал.
— В таком случае, похоже, тебе удалось спятить и без выпивки. Окончательно спятить.
Ники так и не научилась держать при себе то, что у нее на уме. Никто не мог определить, талант это или проклятие.
— По данному вопросу существуют различные мнения.
Девушка уселась на пол к стене. Боб уселся напротив.
— Что это за птичка?
— Она была нарисована в тысяча шестьсот сороковом году одним человеком по имени Миямото Мусаси.
— И кто он такой?
— Самурай. По мнению многих, величайший за всю историю. Он шестьдесят раз дрался в поединках и одержал шестьдесят побед. Мне нравится смотреть на этот рисунок и размышлять о нем. Еще я хочу понять технику мазков. Кроме того, Миямото Мусаси написал вот эти иероглифы. Видишь?
— И что они означают?
— «Сталь режет плоть, сталь режет кость, сталь не режет сталь». Это изречение подарил мне мистер Яно в тот самый день, когда он и вся его семья погибли.
— Господи… Ты хоть понимаешь, что это все сплошной бред? Ты хоть понимаешь, как беспокоится мама?
— Денег у нее достаточно. Никаких проблем быть не должно.
— У нее есть одна огромная проблема — муж, сошедший с ума.
— Я не сходил с ума.
— Расскажи это кому-нибудь другому. А мне объясни, какой во всем этом смысл. Что здесь происходит?
— Ну хорошо, ладно. Ты сама увидишь, что это никакой не бред. Тут все дело в мечах.
— В мечах?
— В японских мечах. В «душе самурая», как говорят в Японии.
— Похоже, ты поверил в эти дурацкие фильмы, которые разбросаны у тебя по всей квартире.
— Ты только послушай, хорошо? Выслушай меня.
Боб постарался вкратце рассказать о событиях последних нескольких месяцев, начиная с письма от заведующего отделом истории морской пехоты и заканчивая, по сути дела, тем моментом, когда Ники постучалась в его дверь.
— Значит, в Айдахо ты так и не вернулся? Вместо этого ты поселился здесь и зажил такой увлекательной жизнью.
— В отношении каждого серьезного дела у меня есть три принципа. Во-первых, начать прямо сейчас. Во-вторых, работать каждый день. В-третьих, довести до конца. Только так дело можно сделать, а все остальное — ложь. И вот, сойдя с самолета, я подумал: «Надо начать прямо сейчас. Немедленно». Я и начал.
— Господи, и что ты намерен делать дальше?
— Ну, наступит момент, когда я решу, что уже готов. Что узнал достаточно и могу вернуться. Тогда я как-нибудь во всем разберусь, убеждаясь в том, что правосудие свершилось.
— Но — поправь меня, если я ошибаюсь, — у тебя нет никаких свидетельств того, что эта трагедия не является результатом несчастного случая. Я хочу сказать, пожары время от времени случаются, и в них гибнут семьи. Такое происходит чуть ли не каждую неделю.
— Я все понимаю. Однако Филипп Яно предположил, что меч, который я ему привез, обладает определенной исторической ценностью. И вот сейчас, читая все это, осознавая, какое огромное значение для японцев по-прежнему имеют мечи, как они до сих пор мечтают об этих чертовых клинках, как их изучают, как с ними занимаются, я прихожу к выводу, что не все так просто.
— Сколько может стоить такой меч? Назови верхнюю планку.
— Тут дело не в деньгах. Хотя и денег он стоит немалых. Но для япошек стоимость меча измеряется не в деньгах.
— Не говори «япошки».
— Стараюсь. Просто время от времени вырывается само собой. Ничего не могу с собой поделать. Ладно, для японцев стоимость меча измеряется не в деньгах. Для них это нечто такое, что важнее денег. У них есть очень любопытные поверия, которые человеку стороннему могут показаться странными. Мне они тоже кажутся странными. Но по мере того как я пытаюсь в них разобраться, они начинают приобретать определенный смысл. К этому нельзя подходить с точки зрения американца. Это элемент японской культуры. Тут нужно учитывать значение и ценность клинка, престиж, каким могут обладать некоторые из них.
— А теперь послушай, как это выглядит со стороны. Например, с точки зрения психотерапевта. Он скажет: этот человек был сильным и смелым героем, он выделялся среди прочих людей. При этом он был упрямым, одержимым и снисходительным к собственным слабостям. Можно даже сказать, страдал самовлюбленностью. Он любил образ воина, свое отражение, которое видел в зеркале. Он об этом никогда не говорил, но это так. Он любил молчаливое уважение, с которым его встречали повсюду, и то, как его присутствие воспламеняло толпу, то, как он мог усмирить толпу одним строгим взглядом. Но затем он, как и все люди, состарился. Вдруг, неожиданно для самого себя, он оказался в отставке. Однако в глубине души он чувствует, что не хочет сидеть без дела на крыльце своего дома. Не хочет наблюдать за сменой времен года и считать деньги. Ему нужно настоящее дело. Он хочет продолжать жизнь воина. Рыбалка не для него. Поэтому, когда происходит что-то неординарное, он подключает к работе свои незаурядные способности и ум и находит некие таинственные причины, аналогии, улики, намеки, которые видит он один во всем мире, но не видят профессиональные полицейские следователи и специалисты по расследованию поджогов. И в результате получается чудовищный заговор, преступление, убийство — именно то, что требует решительных действий со стороны решительного человека, настоящего воина. И этот решительный человек — он сам. Это он настоящий воин. Видишь, что получается?
— Сожалею, что ты видишь все в таких красках.
— По-другому это видеть нельзя. Папочка, ты уже совсем старый. У тебя больше нет сил, ты старик, все позади. Ты был великим человеком, ты можешь быть великим стариком. Но не уподобляйся тем, о ком говорят: «Седина в бороду — бес в ребро».
— Милая моя… давай сходим куда-нибудь поужинать, хорошо?
— Да, в Айдахо.
— Нет, здесь. Поедим суши.
— Фу! Сырую рыбу. Ради бога, все, что угодно, но — другое.
— Я должен сказать тебе вот что. Есть обязательства, в которых ты ничего не понимаешь. Глубокие, семейные обязательства. Давняя история, никому нет до этого дела — кроме меня. Но… Но это — обязательства. Все это уходит в далекое прошлое, к тем временам, когда мой отец воевал с японцами.
— Я жалею о том, что твой отец получил эту медаль. Она не давала тебе покоя всю жизнь. Ты ничего не должен японцам, которых убил твой отец. Это была не твоя война.
— Деточка моя, тут ты ошибаешься.
— Ты просто насмотрелся глупых фильмов про этих типов в халатах, шлепанцах и с косичками, которые отсекают друг другу головы.
— Может быть. Но я чувствую себя так, словно вернулся домой.
— Обещай мне только одно: ты никогда не отрастишь косичку.
Дальше все пошло хорошо, но Ники почувствовала, что отцу совершенно необходимо следовать намеченным курсом, и после ужина — ей все же удалось заставить себя поесть суши — она уехала, предоставив Бобу выполнить миссию, которую он сам на себя возложил.
Снова потянулись похожие друг на друга дни; менялись только фильмы, которые смотрел Боб, и книги, которые он читал. Следующим событием стало прибытие пакета из Японии, аккуратно упакованного в соответствии с японскими традициями.
Разве он что-нибудь заказывал? Книгу, брошюру? Боб накупил много всего через Интернет, из книжных магазинов: каталоги выставок японских мечей, практические руководства по технике фехтования. Но нет: это оказалась тонкая папка ксерокопий официальных документов. Аккуратно отпечатанные иероглифы поясняли сделанные от руки рисунки, получившиеся на копии неразборчивыми. От всего этого веяло чем-то шпионским; казалось, что копии сделаны незаконно, тайком, и, вполне вероятно, какой-нибудь иероглиф на первой странице означал «совершенно секретно».
Надо будет найти кого-нибудь, кто прочитает это, но Бобу и без перевода было понятно, что прислал ему анонимный корреспондент из токийского почтового отделения: это были протоколы вскрытия членов семьи Яно.
Глава 16 КИРИСУТЕ ГОМЕН
Переговоры вел Нии, поскольку Кондо Исами, один из самых уважаемых и влиятельных членов братства «8-9-3», не мог допустить, чтобы его знали в лицо.
Нии встретился с боссом Отани в его угловом кабинете, расположенном на пятьдесят пятом этаже небоскреба в Западном Синдзуку. Это было просторное, роскошно обставленное помещение, подобающее высокому положению босса Отани: в Кабукичо ему принадлежало свыше ста клубов. В состав его основной группы и нескольких вспомогательных групп входили сто самых свирепых бойцов токийской якудзы, готовых в любой момент отдать жизнь за своего хозяина. Кроме того, Отани принадлежали три игорных синдиката, северный и западный секторы токийского рынка амфетамина и более тысячи проституток. Чтобы подняться так высоко, ему самому пришлось не раз обагрить руки кровью.
Разумеется, очень помогло то, что в определенный момент путь к вершине преградил честолюбивый главарь другой организации, развернувший против босса Отани настоящую войну. Именно нанятые этим главарем убийцы оставили Отани шрам от пупа до бедра, на который пришлось наложить больше сотни швов. И вот тогда Отани (естественно, через подставных лиц) завязал деловые отношения с Кондо Исами, предводителем синсэнгуми. Через неделю он и его соперник поговорили с глазу на глаз. Говорить, впрочем, пришлось одному Отани, ибо из двух пар глаз только его глаза были открыты и находились на голове, не отделенной от тела.
Нии, в черном костюме и со строгим лицом, старался не обращать внимания на силуэты токийских небоскребов, смело взметнувшихся в небо за панорамными окнами пятьдесят пятого этажа. И все же зрелище было восхитительное: башни-близнецы муниципальной администрации Токио, знаменитая гостиница «Хиатт», прославленная в кино, шикарная гостиница «Вашингтон», в которой у босса Отани была своя доля, и десяток других стройных хромированных стрел, пронзивших небо и символизирующих новую Японию.
— Мужчина или женщина? — спросил Отани.
— Это не имеет значения, оябун, — ответил Нии почтительно.
— А что имеет значение?
— Полнота. Ему нужен кто-нибудь дородный. Он предпочитает, чтобы тела было в избытке.
— Что у тебя с лицом, юноша?
Левый глаз Нии оставался заплывшим. Казалось, ему в левую часть лица запихнули крупный грейпфрут, и этот грейпфрут начал гнить, окрашиваясь в неприятные тона: неестественные оттенки багрового, пронизанные красными прожилками и испачканные зеленовато-синими подтеками.
— Со мной случилось несчастье, — ответил Нии. — Я не успел увернуться.
— Надеюсь, наглец, посмевший ударить такую важную особу, дорого заплатил за это.
— Вы совершенно правы, оябун. Тотчас же.
— Ты сам воздал ему по заслугам?
— Нет, оябун. За меня расквитался лично Кондо-сан. Это было великолепно. Мне еще никогда не приходилось видеть подобную скорость.
— Кондо-сан многому тебя научил?
— Надеюсь.
— Юноша, тебе повезло, что в самом начале жизненного пути ты встретил такого наставника. Учись прилежно, кобун. Овладевай знаниями, приобретай опыт, отдавайся этому весь. Ты достигнешь успехов в жизни или умрешь с честью.
— Благодарю вас, Отани-сан.
— Итак, кого-нибудь в теле?
— Пожирнее. Сами понимаете почему.
— Да, разумеется.
Босс Отани, чье лицо было похоже на маску театра кабуки, изображающую неправедный гнев, нажал кнопку внутреннего коммутатора, и в комнату вошел еще один мужчина, тоже одетый в безупречно скроенный черный шелковый костюм. У него была аккуратная прическа, на лице — очки в роговой оправе. Мужчина низко поклонился своему господину и духовному лидеру.
— Да, Отани-сан?
— Мне нужна женщина.
— Конечно, Отани-сан.
— Ей не нужно быть красавицей. Ей не нужно быть волшебницей в постели. Более того, даже лучше, если это будет не так. Далее, она должна быть эмигранткой. В нашей стране у нее не должно быть родных. У нее не должно быть ни репутации, ни обаяния; если с ней что-нибудь произойдет, это не должно вызвать никаких разговоров. Она должна жить одна. Она должна работать допоздна. У нее не должно быть никаких вредных привычек и наклонностей.
— Возможных кандидаток десятки. Увы, никто из них не живет в одиночестве. При тех зарплатах, какие они получают, никто не может себе этого позволить. К тому же из каждой группы одна, а то и две обязаны тайно доносить своему боссу.
— Значит, похоже, жить она будет не одна, — подытожил босс Отани.
— Я все понял. Пусть будет так, — сказал Нии. — Он сочтет это приемлемым риском.
— Да, и если поднимется переполох, остальных курочек также придется ощипать.
— В клубе «Соблазн» работают преимущественно кореянки. Они склонны к полноте, а в свободное время держатся замкнуто. Думаю, одна из них подойдет. Когда она будет вам нужна, Отани-сан?
— Нии, что скажешь?
— О, лучше раньше, чем позже. Он хочет осуществить этот опыт, после чего надо будет восстановить силы, а на это потребуется время. Мы должны быть готовы к декабрю.
— Ты слышал?
— Слышал, — ответил подручный босса Отани. — Я сообщу имя, время, маршрут от клуба до дома. Полагаю, Кондо-сан предпочитает получить удовольствие ночью? Устроить все ночью будет гораздо проще. Ночь принадлежит нам.
— Разумеется, он предпочел бы дневной свет, — сказал Нии, — так как это позволило бы увидеть мельчайшие подробности. Но он понимает, что осуществить невозможное нельзя. Так что принимается ночь.
— Кто наводит порядок?
— Определенно эта работа будет не из приятных, — сказал подручный. — Наверное, порядок придется наводить тем, кто будет осуществлять опыт.
— Нии, что скажешь?
— Хорошо, мы наведем порядок.
— Вот и отлично. Тогда все решено. — Босс Отани повернулся к Нии. — Завтра заглянешь в клуб «Соблазн», и управляющий сообщит все детали.
— Кондо-сан моими устами благодарит своего друга и наставника, — сказал Нии.
— Я буду рад оказать Кондо Исами любую услугу, — ответил босс Отани.
Кореянка вышла из клуба значительно позже своих подруг. Те освободились в пять утра и все вместе направились пешком к ближайшей станции метро. В общем-то, особой опасности не было, ибо Кабукичо патрулировался и полицией, и людьми якудзы, причем и те и другие были решительно настроены в корне пресекать любые беспорядки, поэтому уровень преступности здесь был практически нулевым. Однако если одинокая женщина наткнется на группу мужчин, возможны неприятности. Хуже всего обстоит дело с жителями западных стран, особенно с канадцами и уроженцами Техаса, хотя порой и немцы ведут себя не лучшим образом, а изредка можно встретить мерзких иранцев. Если мужчины пьяны, возбуждены и в ярости, потому что во многих барах, куда они заглянули, их встретило древнее как мир предупреждение «Только для мужчин-японцев», это может закончиться довольно плачевно, вплоть до синяка под глазом, выбитого зуба и испорченного настроения.
Однако сегодня ночью эту женщину, дородную крестьянку из окрестностей Пусана, неожиданно задержал босс, причем по совершенно необъяснимой причине. Ее расспрашивали о другой девушке, которую заподозрили в том, что она в свободное время (а у нее такового почти не было) спит с европейцами и американцами. Всеми доходами необходимо щедро делиться с руководством клуба, никакое свободное творчество не допускается.
Но эта женщина не жила вместе с подозреваемой, и непонятно, зачем нужно было ее допрашивать. В результате она потеряла много времени из своего пятичасового перерыва, особенно если учесть, что на поезд, отправляющийся в 5.40, она опоздала, а следующий будет только в 6.10.
Кореянка торопливо шла через пятна яркого света и темные тени по длинным пустынным улицам, напоминающим коридоры. Приближался рассвет, знаменующий собой окончание еще одной ночи продажного греха. Кореянка свернула на восток на Ханазоно-Дори, направляясь к станции метро «Синдзуку». Ее дешевые сандалии на деревянной подошве стучали по тротуару. Клубы уже опустели, зазывалы ушли, моряки вернулись в порт, летчики — на авиабазу, туристы разошлись по гостиницам. Это был час первых петухов.
Улица, получившая название по расположенному в нескольких кварталах позади храму, в предрассветных сумерках казалась совершенно безликой. Кореянка не любила эту часть пути — здесь всегда было очень темно, хотя впереди виднелись огни оживленного перекрестка.
И тут она увидела нечто — неясное пятно, движение, легкое возмущение воздуха, а затем послышался шорох, шелест, щелчок, какой-то странный ночной звук, описать который можно было только одними словами: здесь был чужой. И возник он прямо впереди.
Обернувшись, кореянка оглянулась на уходящие в бесконечность ряды вертикальных надписей, ярко освещенных изнутри. Это был целый лес вывесок, превращенных дождем и приближающимся рассветом в мазню абстракциониста. Капли дождя падали на очки кореянки. Она плотнее запахнула дешевый дождевик. К сожалению, он нисколько не защищал от утренней прохлады. Женщина решила так: впереди кто-то прячется. Скорее всего, пугаться нечего. Однако полной уверенности быть не может, а на ней лежит груз ответственности, ведь нельзя дать себя ограбить, нельзя и получить травму. Развернувшись, кореянка торопливо пошла по Ханазоно-Дори, надеясь дойти до перекрестка, повернуть направо и попасть на широкий проспект Ясакуни-Дори, где даже в этот час должны быть люди.
Ну а где же фараоны? Кореянка терпеть не могла японскую полицию, особенно самодовольных молодых полицейских, которые смотрели на нее, чужестранку, как на гостя в своем царстве, однако сейчас ей страстно захотелось увидеть проблесковые маячки патрульной машины. Увы, ничего. Казалось, район был полностью отрезан от мира, хотя неподалеку виднелся зазубренный ряд небоскребов Восточного Синдзуку, освещенных яркими огнями, обещающими новый мировой порядок или что-то в этом роде.
Жизнь кореянки была, как говорится, полной задницей, и таковой ей и суждено было остаться. Она работала практически даром под строгим наблюдением, удовлетворяя клиентов всю ночь напролет самыми экзотическими способами. Она уже приняла в себя столько японского семени, что его хватило бы, чтобы утопить целый линкор. В удачный месяц ей удавалось отложить несколько тысяч йен и отправить их домой в Корею, где на эти деньги жили ее мать, отец и девять братьев и сестер. Она точно не могла сказать, почему должна посылать им эти деньги, поскольку подозревала, что как раз родной отец и продал ее тайком этим японцам, однако все же считала это своим долгом. Конфуцианское тщеславие придавало всем ее поступкам тончайший оттенок добродетели. А это означало, что в следующей жизни она станет выше, лучше, счастливее.
Обернувшись, кореянка всмотрелась в темноту. На этот раз ей удалось разглядеть двух мужчин. Они держались в тени, передвигались крадучись, следя за каждым ее движением, но, когда на них упал ее взгляд, они застыли, растворившись в темноте, подобно умелым красным партизанам. Кореянка пристально всмотрелась туда, но никого не увидела. Да были ли они вообще? Или ей это привиделось?
— Эй, — окликнула она по-японски с сильным акцентом и хромающей грамматикой. — Кто есть вы? Что хотеть? Вы уходить, вы меня не тронь.
Мысленно она выразилась более красноречиво на безукоризненном родном корейском: «Вы демоны, которые пришли, чтобы меня забрать? Или пьяные жирные американские дуралеи, которым захотелось потрахаться на халяву, чтобы было чем хвалиться по пути домой? Или молодые злые якудза, раздраженные тем, что босс ценит их так низко, и ищущие, на ком бы сорвать злобу?»
Однако неизвестные стояли не шелохнувшись, словно их и не было. Кореянка быстро убедила себя, что в темноте никого нет и все это ей привиделось. Разыгравшееся воображение мстит за нехорошие мысли об отце, в то время как она должна относиться к нему с почтением.
Несколько успокоившись, кореянка развернулась и снова пошла по Ханаз…
Она услышала звук. Этот звук ей не померещился: в темноте действительно скрываются двое. Но кореянка была неглупа и не склонна к панике. Она не закричала, не выбежала беспомощно на середину улицы. Вместо этого она лишь чуть ускорила шаг, стараясь ничем не выдать, что ее подозрения получили подтверждение. При этом она лихорадочно размышляла. До ярких огней Синдзуку-Дори еще добрых полмили, а кругом темно. Неизвестные могут напасть на нее в любую минуту.
Кореянка попыталась придумать какой-нибудь обходной маневр. Можно направиться или в продовольственный магазин Лоусона, или в кафе «Айя» — оба заведения работают круглосуточно. Можно резко свернуть вправо и выйти на Синдзуку-Дори, где еще ездят машины и даже попадаются пешеходы. Можно юркнуть в переулок и затаиться там. Она больше не думала о том, чтобы вернуться домой. Сейчас главное — пережить эту ночь, и если для этого придется лежать в куче мусора за каким-нибудь жутким заведением, она на это пойдет. Конечно, лучше всего найти забегаловку, открытую в этот час, досидеть там до рассвета с сигаретой и выйти в семь утра. Возвращаться домой бессмысленно. Пару часов можно будет провести в клубе, после чего снова приняться за работу. Будет нелегко, но она как-нибудь выдержит.
Женщина вышла на маленькую дорожку — вымощенный брусчаткой тротуар, изгибающийся вокруг святилища. Фонарей здесь не было, и она решила: если быстро пробежать по тротуару, те двое преследователей ее не увидят. Они пройдут мимо, затем им придется возвращаться, а она к этому времени уже будет на другом конце, на Ясакуни-Дори.
Эта дорожка, своеобразная аномалия в Кабукичо, называлась Синдзуку-Юходо-Коэн. Изогнутая каменная дорожка в двухстах метрах от храма Ханазоно, обсаженная с обеих сторон деревьями, мало кому известна, и уж в этот час на ней точно не должно быть никого. Здесь было темно, достаточно темно, чтобы спрятаться, скрыться из виду. Идеальное место. Метнувшись на дорожку, кореянка ускорила шаг, моля богов о том, чтобы ей удалось обмануть преследователей.
Поскольку дорожка была узкая, а деревья росли вплотную, он решил нанести кесагири — удар, начинающийся от левого плеча и спускающийся вниз наискосок, разрубающий ключицу, кончик левого бронха, левое легкое, позвоночник, правое легкое и селезенку. При правильном выполнении меч иногда идет дальше, рассекает сплетение кишок и выходит из правого бедра чуть выше таза. Этот удар будет хорошим испытанием для лезвия, которое вроде бы показало себя поразительно острым. Старик Норинага знал свое дело, трудясь в убогой лачуге в далеком 1550 году, при свете яркого огня в горне, превращающего кузницу в преддверие ада. Он поворачивал раскаленную добела полосу стали и чугуна, а молодые молотобойцы вкладывали в нее всю свою силу и волю.
Клинок был необычно тяжелый, из чего следовало, что полировали его редко, а значит, он сохранил определенную структурную целостность. За те четыреста пятьдесят лет, что прошли с того дня, как он был выкован, меч почти не терял себя, общаясь с абразивом, то есть это было рабочее лезвие, а не показной клинок, для которого блеск важнее прочности и остроты. Никаких вертикальных трещинок шириной с волосок, невидимых глазу. Ни ржавчины, ни пузырьков. Лезвие потускнело, проведя полстолетия в ножнах, а до того — неизвестно сколько лет на воинской службе, ну а до того — кто знает? Достоверно известно было только то, что этот меч совершил в 1702 году. Кондо-сан надел на лезвие новую рукоять, с презрением избавившись от убогой армейской фурнитуры образца 1939 года. Сейчас меч был в простом, чистом облачении — сирасаве: в деревянных ножнах и с деревянной рукоятью, которые складывались в один длинный изогнутый предмет, чем-то напоминающий образец авангардистской скульптуры. Сирасаву именуют «пижамой для меча». Она предназначена для хранения, а не для боя и не для поединка и потому не имеет цубы, ибо цуба — эфес, предохраняющий пальцы от острого лезвия и отражающий клинок противника, который скользит к руке, — нужен только в бою или же для ублажения взора, поскольку многие цубы являются настоящими произведениями искусства. Но Кондо-сан не думал, что сегодня ему придется сражаться.
Они хорошо видели женщину. Она шла прямо на них, полноватая кореянка, до которой оставалось ярдов пятьдесят, слегка напуганная, движущаяся слишком быстро, сознающая, что ее преследуют, и не догадывающаяся, что попала в ловушку. Она была в дешевом дождевике, в платке на голове и в очках. Даже на таком расстоянии был отчетливо слышен стук деревянных подошв ее сандалий по брусчатке.
— Итак, Нии, — спросил Кондо-сан, — какую ошибку совершил Ногума?
— Он вложил в свой удар слишком много самого себя, — подумав, ответил молодой Нии, сидящий рядом на корточках.
Нии принес с собой большие пластиковые мешки. Сегодня ночью ему предстояла очень неприятная работа.
— Да, Ногума решил, что он в кино. Делая шаг вперед, он был полностью поглощен драмой. Кажется, он еще даже остановился, чтобы подумать. А на этом этапе думать уже слишком поздно. Нужно превратиться в пустоту.
— Да, оябун.
— Не должно быть ни мыслей, ни усилия воли. И то и другое отнимает время, а отданное время означает смерть, но не для твоего противника, а для тебя самого. Ты читаешь западную литературу?
— Я слушаю западную музыку.
— Это не совсем одно и то же. Я подумал о Джозефе Конраде. У него есть одно настолько блестящее изречение, что оно могло бы быть японским. Такие слова мог произнести Мусаси. Или Мисима. «Мысль, — сказал он, — есть враг совершенства».
— Понимаю, — сказал Нии.
На самом деле он ничего не понял. Все это лишь отлагалось у него в памяти. Надо сделать так, затем надо сделать так, потом надо сделать вот так, последовательно, одно движение за другим, а если четкая последовательность будет нарушена, на тебя накричат. Но понятно, что все то время, пока ты думаешь, твой противник наносит удары.
— Опустошись, Нии. Ты сможешь полностью опустошиться?
— Да, оябун.
Женщина почувствовала себя уверенно. Мучительное испытание осталось позади. Свернув на темную дорожку, она дважды останавливалась, убеждаясь в том, что преследователи не идут за ней. Она здесь одна. Все хорошо. Ей удалось пережить еще одну ночь в Кабукичо. Она увидит еще один восхитительный день в том приключении, которое называется ее жизнью. Она отправит еще пятнадцать тысяч йен домой…
Он двигался настолько бесшумно, настолько стремительно, что мог бы сойти за призрак.
— Хай! — воскликнула женщина.
Словно по волшебству он материализовался из-за деревьев, растущих справа от дорожки, подобный огромной летучей мыши, плавной и черной, в развевающихся одеждах, с белым лицом, словно маска театра кабуки, — демон, однако при этом его движения были настолько изящными, что женщина не могла оторвать от него взгляда. Она поняла: ей предстоит умереть. Но перед ней был настоящий танцовщик, волшебник своего тела. Кореянка будто зачарованная смотрела, как плавно, легко взметнулись вверх его руки. Гладкие движения заворожили, успокоили ее; на одно застывшее мгновение она заглянула ему в глаза, ощутив сочувственное прикосновение к другой человеческой душе. И тут он…
«Арктические обезьяны» орали во всю глотку.
Их пульсирующая мощь начисто заглушала все остальные звуки. Нии просто смотрел на то, что можно было разглядеть в тусклом свете далеких фонарей, и не мог оторвать взор.
Он увидел, как оябун появился перед женщиной — настолько мягко и плавно, что в его движениях не было никакой агрессии, и женщина даже совсем не испугалась. Никакого страха. Оябун был настолько харизматичен, что ему удалось каким-то образом ослепить женщину и повести ее навстречу смерти так, словно это было избавление. Казалось, она приветствует свою смерть как очищение.
Его руки поднялись в касуми гамаэ, высоком левом замахе: локти сведены вместе, кисти почти параллельны, клинок занесен назад за голову и чуть в сторону, руки сжимают рукоять, одна вверху, рядом с клинком, другая внизу, у самого конца. Оябун сделал паузу, словно в музыке, подчиняясь ритуальным требованиям этой драмы. Затем последовал сам удар, который Нии увидел разложенным на части: сведенные локти пошли вниз, лезвие сверкнуло высоко над головой, затем устремилось вниз, подчиняясь развороту кистей внутрь. Левая рука обеспечивала мощь, правая направляла — сила была рассредоточена по всей длине лезвия.
Нии увидел: клинок вошел в женщину наискось, чуть ли не небрежно, словно она состояла из одной жидкости, рассекая под углом грудь по направлению к бедру, ускоряясь, поскольку усилие продолжалось. Однако все произошло так внезапно и хирургически чисто, что женщина не успела ни крикнуть, ни дернуться, ни даже понять, что с ней происходит.
Так же легко, так же быстро лезвие прошло через нее, рассекая внутренний ландшафт ее тела, ощущая меняющееся сопротивление различных тканей и эластичность кровеносных сосудов, твердость позвоночника, вязкую хватку кишок, и, наконец, последний рывок через кожу изнутри наружу. Поразительным образом, словно вопреки логике, вся левая верхняя четверть тела — рука, плечо, шея и голова — скользнула по влажному срезу и упала на землю. На лице женщины по-прежнему сохранялось удивленное выражение. Оставшиеся три четверти тела еще какой-то миг продолжали стоять, потом из жуткой резаной раны хлынул черный фонтан, колени неуклюже подогнулись — и все это рухнуло на землю. Тотчас же в тусклом свете натекла лужа черной крови.
— Да, — заметил Кондо Исами, — лезвие до сих пор очень острое.
Нии ничего не сказал.
— А теперь, малыш Нии, собери этот мусор и избавься от него. И когда будешь хоронить бедняжку, прочитай над ее прахом пару слов. Рассечь ее пополам было большим удовольствием.
Это называлось «кирисуте гомен», то есть «разрубить и бросить». Согласно статье 44 «Кодекса ста статей» 1650 года это было законное право каждого самурая.
Глава 17 ИНО
— Он говорит, — сказал Большой Эл, — что это не официальное заключение, а только набросок. Просто перепечатанные заметки.
— Значит, невозможно определить, достоверны ли эти бумаги. Это может быть подделка.
Они сидели в кабинете суши-бара «Добрые друзья», прибыльного заведения Эла Ино в Окленде. В городе и его окрестностях Элу принадлежали еще три суши-бара, два торговых центра, две пиццерии, две парикмахерские, три заправочные станции и два «Макдоналдса»; еще несколько заведений в Сан-Франциско и два-три в округе Кармел. Эл был мастер-сержантом морской пехоты в отставке. Боб вышел на него через знакомого в штаб-квартире морской пехоты, когда захотел найти специалиста по японскому языку. Эл Ино прослужил двадцать четыре года в разведке, причем большую часть этого срока — в Японии.
— Он так не думает.
— Почему?
— Он говорит: хотя это и не официальное заключение, оформлено оно как официальное. Ему довелось видеть немало подобных заключений. Он одиннадцать лет проработал следователем в отделе убийств полиции Осаки, ганни.
— Ну хорошо. А может быть, в Токио все обстоит по-другому.
— Ганни, поверь мне, в Токио все обстоит так же.
— Ладно, понял.
Они обсуждали документ, который несколько дней назад нежданно-негаданно доставил Бобу прямо на дом сотрудник крупнейшей японской почтовой компании. Быстро выяснилось, что адрес отправителя вымышленный, как и его имя — Джон Ямамото.
— Похоже…
— Ганни, это же японцы. Они очень дотошны. На каждом шагу над каждой «i» стоит точка, каждая «t» перечеркнута. Японцы все делают досконально, методично и с бесконечным терпением. Они работают как собаки. Вот как мне удалось постепенно прибрать к рукам пол-Окленда.
Под словом «он» в их разговоре подразумевался тесть одного из сыновей Эла Ино, переехавший в Америку, чтобы быть поближе к дочери. Боб никогда с ним не встречался, но Эл утверждал, что он лучший из лучших и знает японский преступный мир вдоль и поперек.
Боб снова посмотрел на документ. Состоящий из тридцати страниц, он обладал точностью и своеобразной красотой, присущими всему японскому: ровные столбцы иероглифов, расположенные на странице вертикально, ни одной помарки, ни одного исправления. Среди них грубые рисунки со стрелками, указывающими на то или иное любопытное место.
— Никаких имен?
— Никаких имен. Лишь сухие факты относительно обгорелых останков пяти человек, обнаруженных в Токийской префектуре тогда-то и тогда-то в таком-то месте. Пять мертвых тел, примечания, уточнения, некоторые вещи, которых он не смог понять.
— Не уверен, что я смогу вынести все это. Однажды, можешь ли поверить, мне пришлось присутствовать при эксгумации собственного отца, и я это выдержал. Не уверен…
Боб умолк. Ему нестерпимо хотелось выпить. Глоток саке пришелся бы очень кстати. Это бы его как раз успокоило. Эл Ино был не дурак насчет выпивки — Боб уже давно обратил внимание на бар в противоположном углу кабинета, полный бутылок. В каждой из них прятался рай.
— Ну да, это действительно тяжело, — согласился Эл. — Может быть, ганни, мне лучше подготовить для тебя выжимки. А ты ознакомишься с ними, когда будет настроение.
— Нет, я должен разобраться со всем сейчас. Только скажи, дело плохо?
— Есть один момент, о котором, готов спорить, ты не знаешь. Кем бы ни был тот убитый в доме, ему удалось прикончить одного из нападавших.
— Вот как?
— Ага, была кровь, и очень много. Она пропитала насквозь его брюки, и они не сгорели, потому что были очень мокрыми и были прикрыты телом. Так вот, группа крови и анализ ДНК не подходит ни одному члену семьи. Итак, хотя неизвестный доктор никак это не комментирует, похоже, объект кого-то хорошенько распотрошил, и, когда он сам упал, кровь пропитала его брюки. Тебе от этого стало хоть немного легче?
Боб удивился: да, стало.
«Молодец, Филипп Яно. Ты держался до конца. Ты защищал свою семью. Ты погиб, сражаясь. И забрал одного с собой».
— Ты удивлен?
— Нет. Нет. Он был настоящий самурай. Иначе и быть не могло.
Некоторое время в кабинете царило молчание. Боб подумал: «Господи, как же мне хочется выпить! Выпить за Филиппа Яно, за воина по имени Яно-сан, который погиб, как и подобает всем Тосиро Мифуне. Он был настоящим Тосиро с головы до пят».
— Ну а теперь давай за дело. Со мной все в порядке.
— Есть хорошие новости и плохие новости, — сказал Эл Ино. — Начнем с хороших новостей. Точнее, наверное, относительно хороших. В ту жестокую ночь было хоть какое-то милосердие. Члены семьи были застрелены. Пули калибра девять миллиметров, выстрел в голову, один или два. Кто-то бесшумно поднялся по лестнице и ходил с пистолетом из спальни в спальню, расправляясь по очереди со всеми. Так что, по крайней мере, не было ни боли, ни истязаний, ни изнасилований.
— Только убийства, — угрюмо заметил Боб.
— В жертву, обозначенную как «молодая женщина», стреляли дважды: первая пуля попала в подбородок, вторая — в голову. Судя по всему, убийца выстрелил в нее как раз в тот момент, когда она вставала, затем подошел к ней, еще живой, и выстрелил снова. В остальных случаях — мальчики и мать — все было чисто.
Боб обхватил голову руками. Господи, ну как же сильно ему хочется выпить! Боже, ему просто необходимо выпить. Он подумал о серьезной девушке Томоэ, о том, что она могла бы дать миру в качестве врача — заботливая, дотошная, обязательная, любящая отца и мать. Получила пулю сначала в подбородок, затем в голову. Она лежала в постели, увидела вошедшего убийцу, вероятно, успела понять, что происходит, что произошло с остальными…
— Есть еще что-нибудь?
— К несчастью. Ганни, с тобой все в порядке?
— Давай поскорее со всем покончим.
— Дальше — плохое.
— Если быть застреленным в постели — это хорошее, тогда… продолжай.
— Все жертвы были порезаны.
Боб недоуменно заморгал.
— Извини, не понял.
— Не в том смысле, в каком понимаем мы. Не «порезался бритвой». Не «черт, я порезал палец». Нет. Они были разрезаны.
— Господи…
— Я переведу. — Эл выбрал одну страницу, на которой были сделаны пометки желтым маркером, и начал читать: — «Все конечности и шеи рассечены. Туловища разрезаны наискосок и горизонтально. В двух случаях разрублены кости таза, судя по всему, одним рубящим ударом. Еще в одном случае ребра перерублены пополам приблизительно под углом сорок пять градусов к позвоночнику. Все позвоночники перерублены. Сделано это, по-видимому, тяжелым и необычайно острым мечом. Чистота среза в месте разделения костей позволяет предположить, что оружие двигалось со значительной скоростью; удар наносил очень сильный мужчина-правша. Кроме того, отмечены менее сильные удары; в некоторых случаях кости были не разделены полностью, а только проломлены, что позволяет предположить людей с менее развитой мускулатурой».
— Его ученики.
— Да. Гм, дай-ка посмотрю.
Эл подошел к книжной полке и достал книгу «Японский меч: душа самурая» Грегори Ирвина. Он пролистал страницы.
— Да, в бойне, совершенной в ту ночь, не было ничего случайного. Все было сделано строго в соответствии с четко прописанной методологией тысяча семьсот девяносто второго года. Вот, взгляни на рисунок. Это может быть любой из семьи Яно.
Боб посмотрел на раскрытую страницу, стараясь сдержать ярость. От ярости никакого толка не будет. Ярость лишь поможет быстрее отправиться на тот свет.
— Это метод разрезания, предложенный Ямадой, — объяснил Эл. — Здесь проиллюстрированы различные удары, которые необходимо выполнить, чтобы опробовать остроту лезвия на трупе.
На рисунке был схематично изображен завернутый в покрывало человек, исчерченный многочисленными пунктирными линиями, обозначающими места разрезов через центр масс. Тело было без головы, и линии услужливо подсказывали, под каким именно углом следует рассекать плечи по обе стороны от перерубленной шеи, перерубать локти и запястья, расчленять поперек торс ниже подмышек и до самого пупка.
— Хорошо, — сказал Боб. — Этого достаточно.
Ему нужно было выпить.
Глава 18 СЁГУН
Сёгун любил назначать встречи в храме Ясукуни. Только там, где нашли покой души многих миллионов японцев, погибших во время войны, там, среди лесов и полей, где лишь изредка можно увидеть гайдзина (и то без фотоаппарата: не охотника до японской экзотики), он чувствовал себя дома.
Он шел в окружении телохранителей, ибо, разумеется, у него было много врагов.
Но здесь, как правило, царили тишина и покой, вдали от шума и суеты многочисленных организаций Сёгуна, от его обязанностей, от его подданных и вассалов, ждущих приказов и указаний, от обязанностей, удовольствий, планов, замыслов, надежд. Поэтому он мог гулять и получать удовольствие — от стальных ворот тории, вознесшихся высоко над двухсотъярдовой дорожкой, до самого святилища, одновременно строгого и красивого классического буддистского храма из дерева и белёного камня.
Кондо присоединился к нему ровно в три часа дня.
— Приветствую тебя, Кондо-сан, — сказал Сёгун.
— Здравствуйте, мой господин, — ответил Кондо.
Он был в обычной одежде, без оружия, и в его внешности не было ничего особенного. Коренастый широкоплечий мужчина лет тридцати пяти, с внушительной мускулатурой, скрытой под черным деловым костюмом, в белой рубашке, черном галстуке и штиблетах. Его квадратное мужественное лицо не раскрывало никаких тайн; никому не удавалось прочесть что-либо в непроницаемых черных глазах. Кондо нельзя было назвать ни красавцем, ни уродом, он был во всех отношениях обыкновенным и, следовательно, незаметным. С мечом в руке Кондо излучал истинную харизму; без меча его можно было принять за мелкого служащего.
Кондо поклонился, но — только от шеи и выше; его упругое тело осталось вертикальным, ноги сдвинуты вместе, руки вытянуты по швам. (Правило номер восемь Мусаси: обращай внимание на мелочи. Следовательно, все, в том числе и поклон, должно быть идеально.)
— Пройдемся со мной, — предложил Сёгун. — Поговорим.
— Конечно, мой господин.
— Полагаю, мне следует получить от тебя отчет.
— Да, мой господин. Клинок тот самый, о котором и говорилось. Абсолютно подлинный. Настоящая вещь, я в этом убедился. Проверил его мощь.
— Значит, ты им воспользовался?
— Я знал, что мой господин все поймет. Я должен был проверить лезвие, а для того чтобы проверить лезвие, им нужно убить человека. И вот я проверил лезвие.
— Это было рискованно?
— Нет, мой господин. Все было спланировано заранее. Женщина жила одиноко, родственников и близких знакомых у нее не было. Это корейская проститутка, работала в одном из клубов Отани. Все получилось прекрасно.
— Ты говоришь, меч режет хорошо.
— Луна отразилась в холодном ручье, как в зеркале.[16]
— Вот как?
— Сам Мусаси остался бы доволен.
— Надеюсь, мы не потеряли слишком много времени.
— Мой господин, я обо всем договорился. В ближайшее время лезвие отправится к старику Омоте, лучшему полировщику в Японии; затем его передадут Ханзаэмону — никто из живущих на земле не сравнится с ним в искусстве изготавливать рукояти; и наконец оно попадет к руки Сайто, мастера по ножнам, опять же лучшего из лучших. Обычно к этим мастерам выстраивается бесконечно длинная очередь. Однако для Сёгуна они будут работать быстро.
— Замечательно. В данном вопросе полагаюсь на тебя.
— Когда работа будет закончена, вы придете в восторг. Когда вы представите меч…
— Ты должен понять, насколько все это важно, — остановил его Сёгун. — Насколько высоки ставки. Я выступаю от имени Японии. Японию необходимо оберегать. И я, оберегая ее, сам являюсь Японией. Я не могу потерять свою силу. Представив это лезвие, я обеспечу свое положение на долгие годы вперед, к тому же завоюю поклонение масс.
Кондо знал, как обращаться с сильными мира сего. Ему уже много раз приходилось слышать эти слова, но он сделал вид, будто слышит их впервые.
— Если вы правильно разыграете свои карты, — сказал он, — быть может, император даже пожалует вам высшую степень ордена Хризантемы.
— Гм, — задумчиво произнес Сёгун, — боюсь, на высшую степень надежды мало. Но и стать просто кавалером ордена Хризантемы было бы замечательно.
— Мой господин, обещаю вам. Я ваш самурай, я предан вам душой и телом, и я сделаю так, чтобы ваша мечта осуществилась. Я вас не подведу.
— Тебе тоже дороги древние обычаи, Кондо-сан, и я это никогда не забуду. С твоей помощью я сверну горы. Ты придаешь мне силы. Ты тоже олицетворяешь мощь нашего народа. Ты тоже являешься Японией, старой Японией.
— Лучшей моей наградой будет ваше счастье.
— Вот как?
— Ну, ваше счастье и четыре миллиона долларов, которые вы мне платите.
— За четыре миллиона можно купить преданность любого человека.
— Мою они точно купили.
— Хорошо. В таком случае желаю тебе счастливого плавания. Клинок абсолютно чист. Ни на тебя, ни на меня не падет и тени подозрения. Клинок должен вернуться на свое место, я его представлю, народ проникнется ко мне любовью, и мое положение упрочнится, как и влияние моего клана. Компании «Империал» придется уйти и умереть. Как и американцам, которые за ней стоят. Мы одержим великую культурную победу. Наше искусство останется навсегда японским.
— Приношу свою клятву.
— Замечательно. — Сёгун взглянул на часы. — А сейчас я должен поторопиться. Меня ждут неотложные дела. Нет-нет, американцы тут ни при чем. Знаешь, Кондо-сан, надеюсь, все эти кровавые дела, все махинации, заговоры и насилие никак не повлияют на художника, живущего у меня в душе.
Дело было не в мальчишке, дело было в учительнице.
Дело было не в ее одежде: с одеждой все было в порядке. Туфли на низком каблуке, колготки из дорогого магазина, строгая юбка чуть ниже колен, белая шелковая блузка, немного очень красивого жемчуга и строгий жакет. Она была в очках — очки имеют большое значение! — а волосы были зачесаны назад и надежно заколоты. Косметика очень качественная.
Дело было не в обстановке. Помещение выглядело в точности так, как должна выглядеть классная комната: ряды парт, черная доска с белым инеем полустертых надписей мелом, географические карты, в углу флаг на флагштоке. Помещение имело убогий вид тысяч и тысяч подобных классных комнат, и любой японец мужского пола с первого взгляда понял бы, куда попал.
Дело было не в освещении. В техническом плане его люди были очень подкованы. Здесь, например, в качестве небрежной демонстрации своего профессионализма осветители в точности повторили бледное марево обязательных для любой школы ламп дневного света, добавив мягкий фон, придавший всему тусклое белое сияние. По какой-то причине, по какой-то волшебной причине в этом прозрачном сосуде живая плоть приобретала буквально алхимическую осязаемость. Хотя обнажалась каждая мелочь, каждый недостаток, каждый волосок, конечный продукт никогда не казался сырым или грязным. Было в этом помещении какое-то величие, величие в классическом японском стиле (какими были и все остальные мотивы), словно его нежно нарисовал на шелковом свитке мастер в атласном кимоно, творивший в эпоху кото.
Дело было не в режиссере, старом профессионале, не в камерах, не в рабочих сцены, не в уровне опыта, — дело было не в этом. И опытный взгляд Сёгуна сразу же увидел, в чем проблема. Все дело было в актрисе.
— Сакура-сан, — мягко обратился он к ней, — я понимаю, это трудно. Но переход так важен. Ты расцвела как женщина. Твоя плоть приобрела весомость, плотность, солидность и размах. У тебя женское тело. Твои глаза наполнены мудростью, твое прекрасное лицо излучает знание, твои волосы обладают шелковистым блеском. Наши гримеры превратили твою и без того потрясающую красоту в нечто выходящее за рамки человеческого восприятия: она стала поистине мифической. Ты меня слышишь, дорогая?
— Да, оябун, — скромно подтвердила молодая красавица.
— Но по пробам я вижу, что чего-то недостает.
— Понимаю.
— Ты сдерживаешься.
— Мне так трудно.
И это действительно было трудно. Сакура-сан работала уже три года и была звездой. У нее были свои поклонники, она стала знаменитостью, ей были посвящены статьи в нескольких глянцевых журналах, она могла получить хороший столик в любом ресторане в любом японском городе. Сёгун вложил в нее большие деньги, исправил расположение зубов (у нее был большой промежуток между двумя передними зубами), показывал ее лучшим дерматологам, совершенствовал ее и без того красивые ногти у самых искусных специалистов по маникюру и педикюру, нанял тренера, развивавшего мускулатуру ее гибкого, как ива, невообразимо желанного тела.
— Понимаю, как тебе трудно, — сказал Сёгун. — У Ширли Темпл это так и не получилось. И у Сандры Ди не получилось. Кое-кто считает, что это не смогла сделать и великая Джоди Фостер. Это самое сложное, что есть в нашем деле. Одна только Джуди Гарланд могла делать это чисто и безукоризненно.
— Я так стараюсь.
Проблема заключалась в следующем: Сакура в «Озорных школьницах», выпуски номер 3, 9, 17 и 26 (номер 26 имел колоссальный успех!), всегда исполняла роль жертвы. Она шла к успеху долгим путем, через эпизодические появления в кадре, в конце концов нашла себя в роли школьницы, ставшей жертвой изнасилования, и храбро шагнула к мотивам гейш, довольно успешно снявшись в сериале «Космические рейнджеры-красотки». Своей ролью в этом сериале, облаченная в нейлоновое футуристическое одеяние с отверстиями, из которых периодически показывались ее наливающиеся груди, она завоевала сердца миллионов. Но теперь ее грудь стала слишком большой и красивой, чтобы можно было и дальше сниматься в коротеньких юбочках, с волосами, забранными в детский хвостик. Ей нужно стать взрослой женщиной, или с ней все будет кончено.
Шел третий день съемок «Учительницы под черной сакурой», и пока что получалось неважно.
— Возможно, дорогая, ты слишком стараешься, — ласково произнес Сёгун.
— Мне не хватает «точек».
Это было все равно что работать без страховочной лонжи. Во всех предыдущих фильмах Сакуру «покрывали точками»: при монтаже интимные части ее тела и тел ее партнеров-мужчин прикрывались созданной с помощью компьютера мозаикой. Разумеется, это был чисто психологический момент, потому что в студии все видели все. Однако сознание того, что в определенный момент на самые сокровенные места будет наложено целомудренное пятно точек, помогало Сакуре раскрепоститься до того неистовства, которое приводило в восторг режиссеров и миллионы поклонников.
Но на определенном этапе актерской карьеры ей нужно было пойти дальше, за точки, и вступить в мир стопроцентной наготы. Разумеется, формально подобная продукция в Японии была запрещена специальным распоряжением Комиссии по этическим нормам художественного кинематографа, но, поскольку эта Комиссия была полностью подконтрольна Всеяпонскому видеообществу (ВЯВО) и поскольку Сёгун занимал пост президента ВЯВО, то есть, по сути дела, был его диктатором, он мог продавать такие фильмы, ни о чем не беспокоясь. В данном вопросе он был и преступником, и полицейским в одном лице. Работа замечательная, если только ее получить. Сёгун ее получил.
— Дорогая, ты знаешь, что суть цидзо — откровенность. Ты должна перейти в цидзо, оставить точки позади и поделиться прелестями своей женской красоты со всей Японией.
Ну а цидзо являлась сутью его империи. Цидзо: «похотливая женщина», «сладострастная женщина». В основе лежало интуитивное представление о том, что внутри каждой японской женщины, с виду такой учтивой и вежливой, трудолюбивой и скромной, за изящной внешней красотой и утонченными нарядами скрывается демон сексуального огня.
И Сёгун первым это увидел. Учительница, которую почитают и боятся, занимает центральное место в японской культуре и японских традициях; однако за классической внешностью и сдержанным достоинством лежит блудница, развратница, которая домогается своих учеников, добивается их сексуальной капитуляции, заставляет их надевать женскую одежду и в буквальном смысле насилует во всех мыслимых позах.
Все началось с учительниц и быстро перешло на другие значимые образы: стюардесс, деловых женщин, медсестер, крестьянок. И наконец, по мере того как актрисы взрослели, появилась удивительная категория «зрелых домохозяек».
Сёгун нашел золотую жилу. Деньги хлынули рекой. Голод на это оказался огромным.
— Представь это вот в каком ключе, — сказал Сёгун смущенной молодой красавице. — У нас в Японии есть свои традиции. Окружающий мир, в первую очередь американцы, жаждет нами повелевать. Эти люди готовы изменить наш образ жизни и тем самым уничтожить нас. Не атомными бомбами и огнеметами, а своей культурой, своими грубыми, агрессивными, примитивными традициями. И ты, ты, маленькая Сакура, должна встать у них на пути. Ты не просто актриса, ты солдат с передовой, самурай в этой битве с Америкой. Теперь ты понимаешь, дорогая, почему тебе так важно отыскать в себе самурайский дух, показать его перед камерами, дать нам распространить его по всей стране, стать настоящей цидзо? На самом деле цидзо — это самурай плоти.
На этот раз Сакура сыграла бесподобно.
Глава 19 ДОКТОР ОТОВА
Знаменитый доктор Отова согласился встретиться с Бобом Ли Свэггером только благодаря содействию лейтенанта в отставке Йосиды, бывшего сотрудника отдела расследования убийств полиции Осаки. Доктор Отава, человек с седыми висками, безупречно одетый, свободно владеющий несколькими языками, четко излагал свои мысли. Он не был знаком лично с лейтенантом Йосидой, но, получив от него письмо, сразу позвонил тем, кто должен был его знать (а у доктора Отовы были очень хорошие связи), и выяснил, что речь идет о замечательном человеке, почти легенде, который после выхода в отставку перебрался в Окленд, штат Калифорния, чтобы жить рядом с дочерью, вышедшей замуж за американца японского происхождения.
Доктор Отова принял Боба в своем кабинете в Токийском историческом музее — святилище древностей, похожем на собор. Это было величественное строгое здание, окруженное собственным парком. В музее доктор заведовал мечами и заслужил всемирную репутацию эксперта, специализируясь по работам мастеров семейства Бизен, работавших в пятнадцатом веке. Естественно, его кабинет представлял собой хранилище мечей: они поблескивали в стеклянных шкафах вдоль стен, десятки длинных, зловеще изогнутых клинков, представляющих высшие и наиболее совершенные произведения японского воображения за более чем тысячелетнюю историю. Музей обладал одним из лучших собраний в стране, лишь малая часть которого была выставлена на обозрение широкой публики.
— Мистер Свэггер, не желаете выпить чашечку саке?
— Благодарю вас, сэр, нет. Я конченый пьяница. Один глоток — и я слетаю с катушек.
— Понимаю. И одобряю вашу выдержку. Итак, в письме лейтенанта Йосиды говорится о том, что в Соединенных Штатах были похищены какие-то мечи стоимостью много тысяч долларов. И что похищение сопровождалось убийством. Вы, представитель Запада, недоумеваете: как может кусок железа, сделанный пятьсот лет назад для того, чтобы рубить разбойников, казнить заговорщиков и вспарывать собственные внутренности, — как он может стоить того, чтобы по прошествии стольких лет из-за него проливали кровь?
— В определенном смысле я это понимаю. Я знаю, что мечи являются произведениями искусства. Знаю, что они могут иметь невероятную ценность. Что ради них можно пойти на убийство. Хотя бы из соображений материальной выгоды.
— Значит, вы обратились ко мне, чтобы узнать про рынок. Впрочем, наверняка вам приходилось видеть, как людей убивают из-за сущих пустяков.
— За четвертак. За цент. За грубое слово, неудачную шутку, дешевую девку. Люди убивают за что угодно и просто так.
— Вижу, вы кое в чем разбираетесь.
— Однако я считаю, что в данном случае преступление было тщательно спланировано. Убийца должен был хорошо разбираться в клинках. Возможно, он действовал в интересах какого-то коллекционера или сам является таковым. Возможно, он собирался похитить меч с целью выкупа, как похищают детей. Возможно… в общем, не знаю. Но я навел справки и выяснил, что лучший из лучших мечей может уйти за двести тысяч долларов. Оправдают ли такие деньги подобное преступление?
— Вероятно, этот клинок имеет историческую ценность. Его прошлое строго задокументировано, и в нем есть что-то из ряда вон выходящее. В таком случае стоимость меча взлетит экспоненциально. Это будет что-нибудь вроде кольта Уайатта Эрпа.
— Кольт Уайатта Эрпа был продан за триста пятьдесят тысяч долларов. Это большие деньги.
— Для японцев мечи значат гораздо больше, чем ружья и пистолеты для американцев. У нас подобные мечи иногда уходят за вдесятеро большую сумму. Скажем, за три с половиной миллиона. А за такие деньги запросто могут убить.
— Да, но чем более знаменит клинок, тем труднее его продать. Можно украсть кольт Уайатта Эрпа и даже, наверное, «Мону Лизу», но как и кому их потом продать? Вот почему, как мне кажется, преступление с целью наживы в данном случае не подходит. Возможно, целью являлось само обладание таким мечом, но… это не имеет смысла.
— Для американца — наверное, — заметил доктор Отова. — Но для японца это имеет огромный смысл.
— Остается надеяться, что вы правы. Иначе мне пришлось бы отступить. Я вынужден исходить из предположения, что за всем этим стоят логика и здравый смысл.
— Вполне справедливо.
— Поэтому позвольте задать вам вот какой вопрос. Существует ли какой-то особый меч? Я имею в виду, подобный чаше Грааля? Может быть, все дело в его красоте, может быть, в исторической ценности, может быть, и в том и в другом. Он существует только в легендах. Его существование никогда не было подтверждено документально. Это миф. Но если он увидит свет божий, это потрясет всех. Я имею в виду такой особенный меч, что… в общем, я недостаточно хорошо знаю Японию, чтобы выразить это словами. Но он несет в себе мгновенное обретение власти, престижа, могущества, внимания, чего-то более ценного, чем деньги. Чего-то такого, ради чего действительно стоит убить.
— Однако убить не одного человека. Убить семью, верно? Жену, мужа…
Свэггер откинулся на спинку стула и, прищурившись, посмотрел на доктора.
— Гм. Вы видите меня насквозь.
— Мистер Свэггер, — сказал доктор Отова, — я регулярно общаюсь по электронной почте с различными обществами любителей холодного оружия и отдельными коллекционерами со всего света. Если бы в Америке был похищен редкий клинок и при этом был убит человек, мне бы обязательно стало об этом известно. С другой стороны, несколько месяцев назад Филипп Яно и вся его семья погибли меньше чем в двадцати милях от того места, где мы с вами сейчас находимся. Это была ужасная трагедия, и она оставила много загадок. На следующее утро один американец устроил скандал на месте преступления, утверждая в присутствии свидетелей, что он подарил Яно редкий меч, который был похищен. Вместо благодарности его за эти усилия довольно бесцеремонно просят покинуть страну. Расследование обстоятельств гибели Филиппа Яно продвигается крайне медленно. Создается впечатление, что определенные высокопоставленные круги в полиции считают: некоторые преступления лучше оставить без внимания. И наконец, сейчас ко мне обращается один американец, желающий узнать про мечи, ради которых стоит убивать. Установить связь было совсем нетрудно. Однако я не понимаю, как вам удалось вернуться в Японию.
— У меня очень хороший фальшивый паспорт на чужое имя.
— Вы должны отдавать себе отчет, что с вами будет, если вас схватят на японской земле.
— Догадываюсь, что мне не поздоровится.
— И все же вы пошли на риск?
— Да.
— Путь воина — смерть. А не пятнадцать лет мастурбации в японской тюрьме.
— Я сделаю то, что должен сделать.
— Мистер Свэггер, подозреваю, вы знаете, что к чему. За вас поручился лейтенант Йосида, который ни за что не позволил бы преступнику воспользоваться своим именем. Одно это уже говорит о вашей правоте.
— Я только хочу разобраться во всем, сэр.
— Я расскажу вам одну историю. Историю одного меча. Такого меча, ради которого стоит убить, ради которого стоит умереть, меча, обладатель которого станет самым важным и почитаемым человеком в Японии. Вы готовы слушать?
— Готов, сэр.
— Тогда начнем, мистер Свэггер, — сказал доктор Отова. — Однако первым делом, чтобы вы лучше поняли, позвольте дать вам кое-что осязаемое.
Подойдя к одной из витрин, он отпер дверцу и достал меч.
— Катана, тысяча шестьсот пятьдесят первый год. Принадлежал человеку по имени Ногами. Возьмите, подержите его.
Свэггер взял меч.
— Ну же, достаньте клинок из ножен. Не беспокойтесь об этикете. Просто вытащите его, только постарайтесь не отрезать себе палец или ногу.
Свэггер вытащил меч. Он оказался более тяжелым, чем можно было предположить по виду. И от него исходила странная энергия.
По всей длине слегка изогнутого лезвия проходила волнообразная полоса: в этих местах более твердая сталь — та, что режет, — соприкасалась с более мягкой — той, что поддерживает. С одной стороны по нему проходила бороздка, а кончик благодаря единственному в своем роде расположению кромок был превращен в подобие кончика долота. Почему оно было именно таким? Почему лезвие не заканчивалось простым острием? Несомненно, на то были свои причины. Эти люди изучали мастерство убийства мечом, превратили его в настоящее искусство и науку; они досконально знали меч, и ни одно орудие в истории не было доведено до такого совершенства, как японский меч. Лезвие было таким, потому что должно было быть таким, потому что так было лучше всего, потому что многие тысячи людей перепробовали миллионы приемов в сотнях тысяч сражений и, проливая кровь и теряя конечности и головы, нашли наилучшее решение.
Рукоять была достаточно длинной, чтобы свободно взяться за нее двумя руками, но в целом меч был не такой уж длинный, и при необходимости с ним можно было управиться одной рукой.
В этом мече не было ничего красивого. Нет, он выглядел просто как оружие, скажем, как винтовка М-14,— совершенный, истинно функциональный, предназначенный только для одного дела и созданный людьми, которые думали только об этом самом деле: убивать.
Быть может, в этом и заключалась его душа. У Боба в руках меч словно ожил. Как там сказал Томми Калпеппер? Ах да: «Этому малышу хочется что-нибудь разрезать». И это действительно было так. Лезвие жаждало человеческой плоти. Пистолет — совсем другое дело; к нему привыкаешь, и он превращается просто в инструмент. Но меч — это нечто настолько простое, элементарное, что каждое прикосновение к нему наполняет сердце восторженным восхищением.
Встав посреди кабинета, Боб неумело взмахнул мечом и ощутил слабый звон, когда лезвие рассекло воздух, набирая скорость и энергию удара. С бешеной скоростью колеблясь из стороны в сторону, сталь запела.
Меч наполнил кабинет своим голосом.
Бобу захотелось заговорить с ним.
Но лезвие уже умолкло.
— Позвольте начать со снега, мистер Свэггер. Снег вошел в японскую историю совершенно случайно, холодной ночью того дня, который по старым календарям приходился на декабрь тысяча семьсот второго года, но по нашему календарю это тридцать первое января тысяча семьсот третьего года. Представьте себе колонну воинов, если точнее — сорок семь человек, идущих сквозь бушующую вьюгу по ночному городу, который тогда назывался Эдо. Они кутаются, спасаясь от холода, но их мысли заняты не непогодой. Они полны отмщением.
Боб представил себе снег. Представил людей, которые бредут по снегу с такими же вот мечами за спиной, склонив головы, выдыхая в черный ночной воздух струйки пара. Это могла быть Россия, это могло быть Чосинское водохранилище[17] или Уэлли-Фордж.[18] Это могло быть любое место, где люди сражались за то, во что верили, под хлопьями белого снега.
— Они похожи на «зеленых беретов», на российский спецназ или британских десантников. Они тоже в камуфляже — их кимоно покрыты пятнистым рисунком. Каждый несет два убийственно острых меча, а также припрятанный на всякий случай короткий танто. Большинство вооружено яри — так у нас называется копье. Каждый всю жизнь готовился именно к этому. Каждый обладает отточенным до совершенства мастерством, каждый всем сердцем настроен на то, что должно произойти. Ни один подобный отряд в истории человечества не сочетал в себе столько воли, решимости и жестокости. Что здесь делают эти люди? С кем они собираются сразиться? Для того чтобы это понять, необходимо вернуться на два года назад. В те дни сёгун — военный диктатор, в чьих руках была сосредоточена истинная власть в Японии, — требовал, чтобы его вассалы проводили каждый второй год при дворе в Эдо, участвуя в сложных церемониальных действиях. Понимаю, это выглядит глупо, но только подумайте, как это на самом деле гениально. Сёгун хочет, чтобы его вассалы были заняты церемониями вдали от своих советников и сторонников, чтобы они не могли строить против него козни и готовить заговоры. Если же вассал совершит ошибку, если он нарушит закон, скажем, закинет ногу на ногу или наденет головной убор не того фасона…
Доктор Отова сделал такое движение, будто крепко сжал что-то в руке и быстро провел этим по животу. Воображаемым предметом у него в руке был танто; он сделал вид, будто вспорол себе живот, выпуская пенистый поток воображаемой крови.
— В тысяча семисотом году молодой вассал из рода Асано из Ако был приглашен в Эдо, чтобы провести при дворе положенный год. Он был… в общем, тут мнения расходятся. Человек честный и мужественный, великий человек, не желавший раболепствовать, ненавидевший продажность, изнеженность, интриги — одним словом, все неотъемлемые пороки двора. А может быть, он был глупцом, которого обманули, обвели вокруг пальца и в конечном счете погубили? Он мог быть посредственностью, недоумком, идеалистом. Единого мнения нет. Главное тут то, что этот молодой вассал по какой-то причине не пожелал играть в придворную игру под названием «мзда». Самой важной фигурой при дворе был мастер чайных церемоний — постарайтесь представить себе не кудесника чайников и чашек, а личного советника сёгуна, тайного вершителя судеб государства. Его звали Кира. У него было еще семь других имен, но мы будем называть его просто Кирой. Ладить с ним было просто. Достаточно было лишь регулярно отдавать ему большие деньги.
— Но Асано отказался.
Все это показалось Бобу смутно знакомым. Вроде бы он смотрел такой фильм.
— Совершенно верно. То ли по идеалистическим соображениям, то ли по глупости, то ли по наивности. Кира пришел в бешенство. Кстати, личность Киры также вызывает много вопросов. Одни видят в нем похотливого развратника, жившего ради собственного удовольствия, завсегдатая злачных мест, совратителя молоденьких девушек. Другие считают его просто человеком, который оберегал традиции, доставшиеся ему по наследству. С чего бы ему быть другим? Кира не обязан был менять давно сложившиеся порядки. Он делал так, как его научили. Ведь он тоже должен был исполнять все прихоти своего господина, любую его блажь. Одним словом, оскорбленный и разъяренный отказом Асано платить, Кира объявляет ему войну. Но только сражается он с ним не на мечах, как пристало настоящему мужчине. Кира всячески позорит молодого воина, распускает сплетни, уничтожая его репутацию, а вы должны помнить, что для японца репутация — это все. Он следит за тем, чтобы Асано постоянно опаздывал, чтобы ему постоянно не хватало денег. Давление на Асано огромно. Стоит ему только совершить ошибку… — Доктор Отова снова показал, что вспарывает себе живот, сопроводив этот жест соответствующим звуком. — В общем, однажды Асано не выдержал. В порыве ярости после очередного оскорбления он выхватил свой вакидзаси — короткий меч — и бросился на обидчика. Дело происходило в парке дворца сёгуна, в той его части, которая называется Сосновой аллеей. Ему удалось дважды полоснуть Киру — один раз по лбу, другой по плечу.
Боб посмотрел на клинок.
— Асано нарушил одно из самых серьезных требований дворцового этикета — он обнажил оружие во дворце сёгуна. Наказание за это — немедленная смерть. Отдадим должное Асано: в смерти его было гораздо больше достоинства, чем в жизни. Прямо перед тем, как умереть, он написал стихотворение:
Мне так хотелось бы увидеть Конец весны, Но я не жалею Опавшие вишневые лепестки.После чего вспорол себе живот. Сёгунат конфисковал всю его собственность, его дом и выгнал всех вассалов. И вот они опозорены, они остались без работы, у них больше ничего нет.
— Кажется, я смотрел об этом кино. Теперь я понимаю, что не до конца понял его смысл, но я помню, что произошло дальше. Сорок семь ронинов — бродячих самураев — пришли к Кире два года спустя. Правительство ликвидировало клан, конфисковало его собственность и выставило их на улицу, но самураи не собирались сдаваться. Однажды ночью они пришли к Кире.
— В снегопад, во время вьюги. Совершенно верно. Идите посмотрите вот на это и захватите с собой меч. Я хочу, чтобы у вас в руках был меч, когда вы будете на это смотреть.
Они встали, и доктор Отова провел Боба к стене, на которой висела гравюра по дереву.
— Величайшим японским художником-воином был Утагава Куниёси. Он неоднократно изображал события той ночи и людей, принимавших в них участие, и именно ему мы обязаны художественным образам, посвященным этому подвигу, хотя Куниёси и творил в девятнадцатом веке, через сто шестьдесят лет после схватки. Это его триптих, названный «Нападение сорока семи ронинов на дом Киры».
Боб посмотрел на гравюру. Он увидел войну, достаточно знакомый сюжет. Сумятица, вихрь, безумное месиво, никаких правил, ничего связного; люди в отчаянных позах, с угрюмыми лицами движутся вперед, крепко сжимая длинные копья и мечи, такие же, как тот, что у него в руках.
— Взгляните вот сюда, — сказал доктор Отова, указывая на господствующую фигуру в доспехах в гуще сражения, с самым длинным мечом, с накладной косичкой из конских волос, направляющего своих людей. — Это Оиси, старший вассал дома Асано. Он главный герой. Это он спланировал и возглавил нападение, он собрал ронинов, он организовал сбор сведений, он предложил общую стратегию действий. Оиси знал, что тайные осведомители сёгуна следят за ним, поэтому зашел настолько далеко, что бросил свою жену и переселился в бордель, изображая полную распущенность, чтобы обмануть соглядатаев. По крайней мере, так говорится в легенде. Быть может, ему просто требовался предлог, чтобы уйти от жены и до нужного дня пожить в окружении гейш.
— Такое происходит не впервые, — заметил Боб.
— Вы правы. Оиси разделяет своих людей на два отряда и ведет их через снег. Одному ронину поручено перерезать тетивы на луках телохранителей Киры, чтобы те не смогли воспользоваться этим грозным оружием. Бой идет честно: воин против воина, меч против меча. Лучшим фехтовальщиком был некий парень по имени Хорибе Йосубе; вместе с ним сражался его тесть Хорибе Яхей, семидесяти семи лет от роду. Многие из этих людей были в годах. Моложе всех был сын Оиси, которому исполнилось семнадцать лет. Но нас интересует сам Оиси.
— Это он убил Киру.
— Да. После того как побоище кончилось, они отыскали Киру — тот прятался в сарае с углем. Оиси опознал его по возрасту и по шраму на лбу. Разорвав на нем одежду, он нашел второй шрам на плече. Оиси предложил Кире танто. Но Кира не был самураем. Он отказался. Оиси обезглавил его одним ударом своего вакидзаси, того самого меча, которым Асано выпотрошил себя. Так вот, тот самый меч, которым совершил харакири Асано и которым был обезглавлен Кира, — вот его вся Япония приняла бы с огромным восторгом. Что с ним произошло? Никто не знает. Известно только, что лезвие было изготовлено лет за сто до этого неким кузнецом Норинагой из Ямато.
— Понятно.
— Нет, вы ничего не понимаете, потому что я еще не закончил рассказ. То, о чем я вам уже рассказал, в общем-то понятно всему миру: верность, мужество, насилие, справедливость. Какое прямолинейное повествование! Какое счастливое развитие! Однако подходит черед того, что понятно одним японцам. Что сталось с этими сорока семью ронинами? Они разбежались, попрятались? Переплыли через море в Китай или в Корею? Взяли себе новые имена и растворились? Нет. Они стройной колонной прошли к храму Сенгакудзи, где был похоронен их господин, вымыли голову Киры и передали ее священникам. После этого они отдали себя в руки сёгуна и стали ожидать решения. Было много споров, но в конце концов всем им, всем до одного, было приказано совершить сеппуку. И все они его совершили. Вот истинно японская часть этой истории: самураи поступили так с радостью. Эта история не трагедия, у нее счастливый конец. Сёгунат приказал сорока семи самураям вспороть себе живот — и настал день, когда свершилась кровавая оргия. Вот почему мы помним их. Вот почему каждый день в храм Сенгакудзи здесь, в Токио, приходят сотни людей, чтобы навестить их могилы и воскурить благовония их душам. Вот почему четырнадцатого декабря отмечается большой праздник. В память той ночи, когда Оиси отрубил голову Кире. Меч. Тот самый. Он такой же, как тот, что вы сейчас держите в руках.
Боб снова посмотрел на клинок.
— Возможно ли, что этот меч закончил свой путь укороченным, облаченным в фурнитуру син-гунто образца тридцать девятого года, на фронтах Второй мировой войны?
— Нет никаких оснований утверждать, что такое невозможно. Меч был утерян. Он мог оказаться где угодно.
— Как проверить его подлинность?
— По форме лезвия, по структуре металла, по характеру острия и по другим параметрам можно определить довольно строгие временные рамки. А если хвостовик сохранился в достаточной степени, то имя Норинаги и фамильный герб Асано завершат картину. Больше ни у одного из ронинов не было меча работы Норинаги. Вакидзаси и катана Асано были у Оиси, с белой тесьмой на рукояти. Только у Оиси был меч Норинаги.
— А если бы этот меч попал к вам — как бы вы с ним поступили?
— Меч, которым был обезглавлен Кира, стал бы тотемом самурайской чистоты и мгновенно сделал бы знаменитым того, кто им обладает. Эта находка взбудоражила бы всю Японию. Человек, обладающий таким мечом, если только его подлинность можно было бы установить, тотчас же снискал бы себе признание и любовь самых широких слоев японского народа, чего никаким другим путем добиться нельзя. Разумеется, я бы его поласкал, оставшись с ним наедине, взмахнул бы им, ощущая его вес. Я бы прочувствовал его заряд, его харизму, попытался бы установить эмоциональный контакт со всеми участниками событий той снежной ночи, проникнуться их мужеством и благородством. Конечно, я бы считал такую возможность большой честью, выпавшей мне, скромному ученому. Но затем я передал бы меч в дар своему музею, чтобы его смог увидеть весь японский народ. Это стало бы подарком нации. И нация бы возрадовалась. Во всяком случае, большая ее часть.
— А как поступил бы с ним человек, который расправился с семьей Яно?
— Не знаю, мистер Свэггер. Не знаю. Но определенно он не расстанется с ним без боя. Мистер Свэггер, вы отдаете себе отчет, во что ввязываетесь?
— Наверное, отдаю.
— У вас есть план?
— У меня есть зацепка. Один полицейский, назвавшийся экспертом, исследовал меч, когда я проходил таможенный контроль в аэропорту. Он единственный видел меч. У него было достаточно времени, чтобы изучить хвостовик. Когда я осматривал меч в Америке, мекуги крепко сидел на месте, приклеенный, как впоследствии выяснилось, засохшей тушью, которой отец Филиппа Яно написал предсмертные стихи на Иводзиме, в последний день своей жизни. Однако когда у меня на глазах меч осматривал Яно, штифт болтался в отверстии — и свободно выпал. Значит, кто-то разбирал меч; и это мог сделать только тот полицейский, в чьих руках меч находился в течение трех часов. То был единственный раз, когда я выпустил меч из поля зрения. Мне придется переговорить с этим полицейским. Возможно, он не захочет со мной говорить, и я должен буду его убедить. От него я узнаю, какой мне сделать следующий шаг. И я сделаю этот шаг. В конце концов я выясню, кто похитил меч, и верну его, чего бы это ни стоило.
— Эти люди будут охотиться за вами.
— Мне уже приходилось рисковать.
— Да, понимаю. В армии.
— Да, сэр.
— Но сейчас другое дело. Это не война, это нечто более личное. У вас есть оружие?
— Нет. Но я уверен, что мне удастся раздобыть пистолет.
— Да, однако если вас поймают здесь с фальшивым паспортом и незаконным оружием… Страшно даже подумать о последствиях. Возможно, вам следует нанять телохранителя.
— Он будет мне только мешать.
— У вас есть навыки в единоборствах?
— Я знаю пару приемчиков. Как-никак я прослужил пятнадцать лет в морской пехоте и кое-чему научился. Меня не пугает насилие.
— Страх тут ни при чем. Самый храбрый неопытный человек, столкнувшись с самым трусливым опытным фехтовальщиком, погибнет за долю секунды. Вот что значит в Японии меч. Вы умеете обращаться с мечом?
— Нет.
— Если на вас нападет опытный воин, вооруженный мечом, как вы поступите?
— Ну, наверное, выполню обычную «четверку»: осмотрюсь, сориентируюсь, приму решение и начну действовать. Это основополагающее правило…
— Вы погибнете, мистер Свэггер. Только и всего. Послушайте, я не сомневаюсь, что вы очень храбрый человек. Но возьмите хотя бы несколько уроков. Ознакомьтесь с азами, раз уж вы полны решимости исследовать глухие японские переулки. Для непосвященного это плохое место.
— Спасибо за совет.
— Вы все равно не сможете в кратчайший срок овладеть тем, что некоторые изучают всю свою жизнь. Но по крайней мере, у вас появится хоть какой-то шанс.
— Я подумаю над вашими словами.
— Вот, — продолжал доктор Отова, — это номер телефона одного человека из Киото. Я позвоню ему и расскажу о гайдзине, который мнит себя Тосиро Мифуне. Мы с ним от души посмеемся. Много лет назад мы с этим человеком фехтовали бамбуковыми палками. Мы десятилетиями лупили друг друга до крови. Он обучил моего сына. С вами он встретится из любезности ко мне — хотя бы ради возможности немного повеселиться. Вам надо будет провести с ним неделю, слушая все, что он скажет. Или же иначе лучше отправляйтесь домой. Вот ваш выбор. «Сталь режет плоть, сталь режет кость, сталь не режет сталь», как сказал Мусаси. Станьте сталью, иначе вас разрежут. Таков мир, в который вы входите.
Глава 20 МОЛОДЫЕ РЕБЯТА
Выйдя из величественного здания музея, Боб пошел через парк, где вдоль аллей были расставлены пестрые прилавки с разноцветными флажками — там торговали книгами, DVD и компьютерными программами. Все это напоминало средневековую ярмарку, по ошибке попавшую в двадцать первый век. У каждого прилавка толпились люди; Бобу они все до единого казались чуждыми, непостижимыми. Внезапно он почувствовал, что взвалил на себя непосильную ношу. Оглянувшись вокруг, Боб заметил полицейскую машину и подумал: «Известно ли им, кто я такой? Следят ли за мной?»
Возвращение в Японию оказалось достаточно простым. Эл Ино через свои контакты в разведке смог быстро сделать Бобу новый паспорт; в кратчайший срок это привело к возникновению новой личности, вплоть до водительского удостоверения, карточки социального страхования и поддельных семейных фотографий в бумажнике. Продав кое-какие облигации, Боб положил вырученные сто тысяч долларов на банковский счет некоего мистера Томаса Ли, проживающего в Окленде, штат Калифорния, получив возможность в любой точке мира снимать наличные деньги с помощью кредитной карточки и пин-кода. Все прошло как по маслу; никакого Боба Ли Свэггера больше не было и в помине.
И вот он сделал первый шаг. Получил представление о том, что это может быть. Дальше нужно было определить, как найти того полицейского из аэропорта, как на него выйти, как заставить его сотрудничать, и уже от этого двигаться дальше.
Однако Боб чувствовал полное истощение. Куда подевались силы? Неужели он стал слишком старым? И эта неделя занятий фехтованием — чему можно обучиться за одну неделю? Какой в этом смысл?
Боб огляделся по сторонам, ища ресторан или кафе в западном стиле, в котором можно было бы выпить чашку кофе и во всем разобраться. Пройдя немного, он оставил позади строгое величественное здание музея вместе с окружающим его парком и попал в современный Токио, в безумную утопию. Вскоре он нашел кафе, поскольку культура кофе успела пустить корни в Японии. Это кафе оказалось американским. Боб зашел в него и купил за семь долларов чашку черного кофе.
Он сидел, просто сидел и ждал.
Постепенно кафе начало заполняться народом. Кофе оказался горячим и крепким, и Боб начал…
И тут он обратил внимание на окружающее. Кафе действительно заполнилось быстро, но — одним и тем же человеком. Он был один в двадцати пяти лицах: короткая стрижка, мускулистый, живой, одновременно какой-то рассеянный и в то же время настороженный. У него были очки в квадратной черной оправе. Он был в летних брюках и белой футболке — все двадцать пять его воплощений. Они не обращали никакого внимания на долговязого пожилого светловолосого чужака, сидящего за столиком в одиночестве, но при этом очень быстро и умело окружили его со всех сторон. Боб отметил, что все двадцать пять заказали по одной чашке кофе — и больше ничего.
«Проклятье, — подумал Боб, — Мне это совсем не нравится».
Это произошло чуть раньше, чем ожидал Боб. Один из близнецов поднялся с места, прошелся по залу и небрежно уселся напротив Боба. Какое-то время не было произнесено ни слова, затем парень поднял взгляд, улыбнулся и сказал:
— Привет.
— Привет, — ответил Боб. — Я вас знаю?
— Нет, зато я знаю вас. Вы ведь Томас Ли, не так ли?
— И что?
Парень отпил кофе.
— Американский кофе. Хороший, да?
— Нормальный. В чем дело? Кто вы такой? И кто ваши приятели?
— Наверное, друг.
— У меня нет никаких друзей. Я злой вредный старик.
— Я имел в виду другое. Видите ли, у нас с вами общие враги, так что мы должны быть друзьями.
— Вы полицейский? Вы похожи на студента-теннисиста.
— Успокойтесь, мистер Ли. Пейте свой кофе. Я просто подумал, что, когда вы его допьете, вам лучше будет пройти с нами.
— И почему я должен на это согласиться?
— Потому что, как я уже сказал, мы с вами друзья.
— Это вы так говорите. Я сажусь с вами в машину, вылетает девятимиллиметровая пчелка, и со мной все кончено.
— Огнестрельное оружие в Японии запрещено. Позвольте обозначить свою позицию: мы можем вам помочь. У нас с вами общая цель.
— Докажите.
— Ну хорошо. Ваша фамилия не Ли, а Свэггер. Вы бывший морской пехотинец, герой войны, хорошо известный в определенных кругах. Если вас схватят здесь с вашим плохим паспортом, у вас будут очень большие неприятности. Это мы знаем. Если бы мы желали вам зла, мы могли бы сделать всего один телефонный звонок. Однако мы этого не хотим. Вы нам нравитесь. Мы относимся к вам хорошо. Послушайте, давайте поступим так. Я ухожу отсюда, и со мной уходят все эти люди. Вы сами выйдете, когда будете готовы. Пусть вам будет приятно сознавать, что рядом никого нет, что вас никто не принуждает, что вы поступаете так по собственной воле. Перейдите улицу — и вы увидите коричневый грузовик. Я буду сидеть рядом с водителем. Обойдите грузовик сзади и заберитесь в кузов. Мы отвезем вас в одно интересное место, где вы встретитесь с интересными людьми.
Боба везли в полной тишине около часа. Наконец двери открылись, но яркого солнечного света не было. В кузов заглянул «друг».
— Прошу вас сюда, мистер Свэггер.
И тут Боб услышал странный звук. Это были гулкие, вибрирующие удары. Такие звуки может произвести только дерево, и Боб, подумав, рассудил, что это несколько человек разом стучат палками, порой очень быстро, выбивая сложный ритм.
Оглядевшись вокруг, он увидел, что находится под сводом, и сразу понял, что это ангар. Когда его глаза привыкли к полумраку, он разглядел, что ангар превращен в огромный спортивный зал и повсюду люди занимаются единоборствами. Кое-где это было что-то вроде дзюдо или карате: пары в белых штанах и опоясанных куртках хватали друг друга, пытаясь найти точку опоры, пока один из борцов не бросал своего противника на татами. Но в основном это было фехтование на мечах.
Молодые парни отчаянно рубились на катанах, разумеется деревянных, изящно, но в полную силу. Многие из них были в специальных защитных куртках и штанах и в масках, но некоторые — или слишком храбрые, или слишком глупые, или слишком ловкие, чтобы стеснять себя мягкими доспехами, или в наказание за провинность — сражались с незащищенным телом и открытым лицом. И получалось у них, на взгляд Боба, весьма неплохо, если можно полагаться на знания, полученные из фильмов о самураях.
Обернувшись, Боб увидел, что к его «другу» присоединились еще двое в форме японских сил самообороны.
— Это что, урок физкультуры? — спросил Боб.
— Не совсем, мистер Свэггер, — ответил тот, кто, судя по всему; был старшим.
— Ума не приложу, с чего вы это взяли. Моя фамилия Ли, — упрямо произнес Боб. — Томас Ли. У меня есть соответствующие документы.
— А лейтенант Йосида сказал нам другое.
«Вот те на, просто замечательно», — подумал Боб.
Он подошел к офицерам, и они вчетвером направились между матами, на которых молодые ребята бросали друг друга, колотили ногами и деревянными мечами. Они шли, периодически уворачиваясь от падающих людей, пока не оказались в отдельной комнате в глубине ангара. Там все расселись вокруг большого стола.
— Йосида вас не предавал, — сказал старший. — Он хотел вам помочь. Йосида предупредил меня, зная, что у нас с вами общая цель. Я знал о вашем предстоящем приезде еще до того, как вы купили билет.
— Хорошо. Кто вы такой?
— Я, майор Альберт Фудзикава, командир третьего батальона первой воздушно-десантной бригады Восточной армии сухопутных войск японских сил самообороны, приветствую вас на земле Японии. Молодой человек в штатском — один из моих офицеров, капитан Танада, командир разведроты. Ну а здоровяк, как вы могли сами догадаться, это старший сержант Кендзо. Мы с радостью встречаем Боба Ли Свэггера, комендор-сержанта в отставке морской пехоты Соединенных Штатов.
— Вижу, вы прекрасно информированы. Вам даже известно мое звание. Эл Ино рассказал Йосиде, а он рассказал вам; вы навели справки и узнали всю мою подноготную.
— Что-то в таком роде.
— Но, кажется, и я все понял, — продолжал Боб. — Вы ребята Филиппа Яно.
— Мы много лет прослужили под началом полковника Яно. Это меня полковник вытаскивал из горящей машины в Эс-Самаве. Если бы не он, я бы сгорел заживо.
— Это был замечательный человек.
— Вы совершенно правы.
— Он, его жена и дети не заслужили той судьбы, которая выпала на их долю, — сказал Боб.
— Ни один человек не заслужил того, что досталось семейству Яно. Именно поэтому вы здесь.
— Да никто, кажется, ни хрена не собирается делать! — в отчаянии произнес Боб. — Я не могу с этим смириться.
— Мистер Свэггер, ваш гнев, ваша преданность, ваша ярость, ваш порыв достойны похвалы. Однако настало время взглянуть на действительность. Вы практически не знаете Японию. Вы не говорите по-японски, не понимаете наших ценностей, наших традиций, не представляете себе, на чем держится наше общество.
— Я пересмотрел множество кино о самураях, — возразил Боб.
— О, замечательно, — улыбнулся майор. — Вы видели тот фильм, в котором один воин обгоняет лошадь?
— Раз уж вы об этом спросили, видел.
— А тот, в котором один самурай сразился в деревне сразу с тремястами противниками?
— Да, этот я тоже видел. И видел тот фильм, в котором девчонка отрубает одному типу голову, а тот замечает это только тогда, когда оборачивается, а голова остается на месте. Но я также видел много фильмов о том, как одинокий воин берется за дело, которое нужно сделать, и доводит его до конца, даже ценой собственной жизни. Вот какой урок я усвоил.
— Вы ничего не смыслите в нашей политике, в наших корпорациях, в наших сексуальных пристрастиях, в нашем странном отношении к самурайскому прошлому. Вы можете назвать хоть один японский город кроме Токио, Хиросимы и Нагасаки?
— Кажется, есть еще один, под названием Киото. Ах да, и еще тот, где недавно проходили зимние Олимпийские игры.
— Известно ли вам, имеете ли вы право вступить в сексуальные отношения с гейшей?
— Мне всегда хотелось это выяснить.
— Вы знаете, как завязывать кимоно?
— Нет.
— Что такое парламент? Как зовут императора? Как называется правящая партия? Вы знаете, что такое префектура? Какая разница между сёгуном и императором? Какое родовое имя величайшего клана сёгуната? Вы можете назвать нашего знаменитого кинорежиссера, не снявшего ни одного фильма про самураев? Вам известно, сколько человек мы потеряли во Второй мировой войне? Вы знаете, сколько человек погибло в огне в Токио за одну ночь?
— Нет, ничего этого я не знаю.
— Вы знакомы с нашей системой правосудия? Вы разбираетесь в структуре якудзы, в ее традициях, опознавательных знаках, внутренней иерархии? Вы знаете разницу между национальной полицией и городской полицией и как они взаимодействуют между собой?
— Нет. Я все понял. Я совсем не подхожу для этой работы. Я буду только мешать. Все испорчу. Вы привезли меня сюда, чтобы сказать именно это.
— На самом деле… нет. Видите ли, именно все перечисленное означает, что вы — единственный человек во всей Японии, который, возможно, справится с этим делом.
Боб поймал себя на том, что у него приоткрылся рот. Он не ослышался?
— Я ничего не…
— Понимаете, мы — тесная маленькая островная держава. Повсюду правила, ограничения, традиции. Мистер Свэггер, вы хотите понять японцев? Изучите наши узлы. Взгляните на кимоно или хакама, убедитесь, что в действительности это целая галактика узлов и все они разные, все безукоризненные, все завязаны в стратегически важных местах. Вот почему в кино меч никогда не выпадает из ножен. Ни один чужестранец никогда не сможет завязать такие узлы, а любой японец завязывает их вслепую. Так вот, мы запутались в своих собственных узлах, мистер Свэггер. Нам нужен посторонний, который сможет их разрубить. К черту кимоно, к черту оби, к черту то, как сайя входит в оби, к черту все это дерьмо. Разрежьте узлы. Выясните, кто убил Филиппа Яно и почему.
— Значит, вы здесь… для того чтобы мне помочь?
— По закону тем из нас, кто подходит под определение «военнослужащий», запрещено принимать участие во внутренних делах. Наказание за это самое суровое; за нами постоянно следят. Мы олицетворяем собой японскую традицию, которой в настоящее время многие японцы стыдятся, от которой отворачиваются. Поэтому нас стараются всячески принизить. Но вы, мистер Свэггер, не носите военную форму, не подчиняетесь дисциплине, ничего не боитесь. Вы можете ходить куда угодно и задавать какие угодно вопросы. Вы самый настоящий ронин — бродячий самурай, не имеющий своего господина, ничем никому не обязанный. Вы настоящий Тосиро Мифуне.
— Тут я ничего не могу сказать, но я из кожи вон вылезу, черт побери.
— Я вам верю. Ну ладно. Мы дадим вам номер телефона. Кто-нибудь будет дежурить у этого телефона двадцать четыре часа в сутки. Если попадете в беду, если вам понадобится помощь, если вам нужно будет что-нибудь достать или разузнать, мы вас всем обеспечим. Ну а пока мы расстанемся, пойдем каждый своей дорогой, сделаем вид, что зарылись в мелочи повседневной жизни, как это происходит с тех самых пор, когда были зверски убиты Филипп Яно и его семья. Я даже разведусь со своей женой и переберусь жить в бордель. Впрочем, нет, на это я не пойду.
— Хотите — верьте, хотите — нет, но я понял смысл последней фразы. Доктор Отова рассказал мне эту историю.
— Не мог не рассказать. Наш господин убит, наш клан уничтожен. Мы расплатимся по этому счету, мистер Свэггер.
— Но нам нужно заключить соглашение. Я буду там в ту ночь. Я буду полноправным участником. Я заключаю это соглашение с людьми чести, так?
— Хорошо, мистер Свэггер, — сказал майор Фудзикава. — Считайте, мы договорились.
— А теперь, — подхватил Боб, — давайте проверим, настолько ли вы хороши, какими кажетесь.
— Говорите, — сказал майор.
— В аэропорту Нарита есть один полицейский, специалист по холодному оружию. К нему обращаются по всем вопросам, связанным с ввозом и вывозом мечей, бестолковые гайдзины, не оформившие надлежащие документы, и все такое.
— Да. Это логично.
— Он тот, кто нам нужен. Именно с него все и закрутилось. У него рыльце в пушку. Только так. Это он мгновенно оценил потенциальную стоимость моего меча и позвонил кому надо, это по его вине все произошло. Мне нужны его имя и адрес. Я начну с него.
Глава 21 ПОЛИЦЕЙСКИЙ
У кого-то из этой группы был брат-полицейский, работающий в аэропорту Нарита, и через несколько дней майор Фудзикава позвонил Бобу и назвал имя — Кендзи Кисида — и адрес. Боб перехватил его в аэропорту. У этого человека был новенький «Кавасаки-400», сверкающий красный мотоцикл мечты, самый большой мотоцикл на стоянке. Несомненно, продажный полицейский купил его на деньги якудзы, полученные за сведения о мече.
Боб наблюдал за ним из кафе, где сидел, читая газету и не привлекая к себе внимания. Кендзи Кисида оставлял свой мотоцикл на охраняемой стоянке и направлялся в здание аэропорта. Боб обратил внимание, что движется он как-то неуклюже. В нем не было ловкости и изящества молодого человека, не было и накачанной мускулатуры завсегдатая тренажерных залов.
Он носил костюм, что обозначало должность следователя или начальника. Но когда у него на голове сидел ярко-красный с черным шлем с темным забралом, скрывающим лицо, вид получался нелепый: какой-то гибрид, наполовину клерк, наполовину рыцарь в доспехах.
Затем Боб сосредоточился на доме, в котором жил Кисида. Он наблюдал за ним в течение нескольких дней, пока не убедился, что ни жены, ни детей у Кисиды нет.
На следующей неделе Боб отметил, что объект работает в ночную смену. И однажды утром, в четыре часа, он подкатил к стоянке у дома на точно таком же «Кавасаки-400» цвета «красный металлик», купленном несколькими днями раньше на имя и по кредитной карточке Томаса Ли. У него было водительское удостоверение международного образца на то же имя; все эти дни он посвятил привыканию к левостороннему движению. Учиться управлять мотоциклом на перевернутых, словно в зеркальном отражении, дорогах было гораздо проще, чем машиной, и теперь Боб стал законным участником дорожного движения. С ног до головы Боб был затянут в черную кожу, а на голове у него был абсолютно такой же красный с черным шлем с темным забралом, какой носил полицейский. Он поставил мотоцикл туда, куда его всегда ставил Кисида; посторонний, случайно увидевший его, подумал бы, что полицейский забыл что-то дома и вернулся назад. Боб даже скопировал шаркающую стариковскую походку и легкую хромоту на одну ногу. Конечно, он был на целых шесть дюймов выше, но сутулился, скрывая свой рост.
Войдя в здание, Боб кивнул сонному ночному дежурному, который принял его за живущего в доме полицейского, поднялся на лифте на нужный этаж, подошел к квартире и атаковал замок с помощью кредитной карточки. Никакой сложной системы безопасности с двойными запорами, засовами, электронными датчиками и сигнализацией здесь не было. Замок раскрыл свой секрет кредитной карточке в считанные секунды. И Боб вошел в квартиру.
Разумеется, внутри все было аккуратно и чисто. Три пары черных ботинок и две пары кроссовок с вставленными в них распорками для обуви выстроились в ряд вдоль стены прихожей. Боб подошел к книжному шкафу и увидел довольно много книг на английском языке; отсюда следовало, что Кисида говорит по-английски. Все книги оказались посвящены мечам. Среди них большинство были на японском языке, несколько книг на немецком и несколько — на французском. Книги были рассортированы по странам и расставлены в строгом алфавитном порядке. Взяв одну наугад, Боб обнаружил, что все поля покрыты старательно выписанными на полях заметками. На обратной стороне титульного листа четкой рукой были выведены колонки иероглифов с указаниями на номера страниц. Осмотрев две другие книги, Боб обнаружил, что они так же тщательно проанализированы.
В мойке на крохотной кухне не высились горы грязной посуды, а в холодильнике не оказалось ни тарелки с кишащей червями порцией суши, оставшейся с прошлого месяца, ни заплесневелых макарон. Упаковка из шести бутылок пива и три банки любимого японского напитка — диетической кока-колы. И еще початая бутылка саке.
Боб перешел в спальню, которую нашел совершенно безликой, разумеется, со знаменитым сорокопутом кисти Мусаси на стене над аккуратно заправленным диваном. У противоположной стены стоял большой телевизор с подсоединенным DVD-плеером. Открыв шкаф, Боб увидел на вешалках форменный мундир, рубашки, галстуки и два черных штатских костюма. И еще — футболки, несколько пар джинсов и брюк, тщательно отутюженных. Каждая вешалка отстояла от соседней ровно на одну треть дюйма.
Закрыв шкаф, Боб прошел к небольшой тумбочке рядом с диваном и заглянул в нее. Одну полку занимали расставленные в алфавитном порядке DVD со сливками самурайского кино, в основном фильмы Акиры Куросавы, но также несколько других, лучших из лучших. Боб пересмотрел их все: «Самурайский бунт», «Харакири», «Шайка убийц» и «Когда был обнажен последний меч». Ниже, тоже в строгом алфавитном порядке, стояли порнофильмы, преимущественно производства некой компании «Сёгунат аудио-видео». Насколько смог определить Боб, эта «Сёгунат аудио-видео» специализировалась на фильмах, которые могли бы называться как-нибудь вроде «Веселая учительница», поскольку на обложках была молодая женщина лет двадцати с небольшим в строгом костюме и очках, объясняющая очередной урок группе мальчиков. На следующих кадрах она перед ними раздевалась, они ее трогали, она их ублажала, и все это — в классе перед доской, исписанной алгебраическими задачами.
«Господи, — подумал Боб, — и кому только такое пришло в голову?»
Оставив порнуху, он подошел к письменному столу. На нем лежала еще новенькая инструкция по эксплуатации мотоциклов серии «кавасаки-400», также скрупулезно изученная, с выделениями и пометками, выведенными четкими иероглифами.
Но где же мечи? У этого типа обязательно должны быть мечи.
Боб их так и не нашел, зато в шкафу в гостиной он обнаружил сейф. Мечи должны были быть там: коллекция маленькая, но такая, что ею можно гордиться. Ибо у этого человека должны быть мечи. Вокруг мечей вращаются все его мечты.
Вернувшись к письменному столу, Боб нашел в одном из ящиков альбом с фотографиями: наш герой в самурайском наряде и с мечом на различных этапах своей жизни. Парень двадцати лет, поджарый и опасный, гордый победитель каких-то местных состязаний. Затем рядом с ним стала появляться одна и та же женщина, возможно жена. Но вскоре она исчезла. Развод, смерть? На более поздних снимках фехтовальщик превратился в наставника и позировал в окружении молодых воинов под знаменами, исписанными иероглифами.
В другом ящике Боб обнаружил пачку счетов. Все они были адресованы Кендзи Кисиде, проживающему по адресу 1-23-43 Синтойо, квартира 633. Большинство написаны иероглифами кандзи, на нескольких, от крупного международного банка, японский текст продублирован английским и гласит одно и то же: «Большое спасибо за погашение долговых обязательств».
Вот оно. Этот тип влез в долги, покупая мечи, которые не мог себе позволить, а может быть, еще и выплачивая алименты. И вдруг он встречает клинок мечты, который ему приносят в разгар трудового дня. Он сразу же узнает герб Асано и подпись кузнеца, по форме лезвия определяет соответствующий период, складывает два и два — и тут вспоминает, что несколько недель назад кто-то тихонько сказал ему словечко. У него есть номер телефона. Он разбирает меч — делает то, что не удалось десятилетнему Томми Калпепперу в гараже в Кенилуорте. Он делает ксерокс хвостовика, звонит куда-то, отправляет снимок по факсу, после чего выводит заинтересованную сторону на Боба. Для того чтобы устроить за ним слежку, требуется часа два. Боб как дурак торчит два часа в полицейском участке; выходя оттуда, он даже не подозревает, что ему предстоит привести убийц к Яно.
Через неделю следователь Кендзи Кисида получает пухлый конверт с деньгами. Он может расплатиться с долгами. Вероятно, он покупает меч, о котором давно мечтал, и тот сейчас лежит у него в сейфе. И остается еще немного. Ему всегда хотелось купить мотоцикл. Почему бы и нет? Кто обратит внимание? Скорее всего, никто и никогда не свяжет его с семейством Яно. Подумаешь, еще одна маленькая услуга, которую не совсем честный полицейский оказал власть имущему.
В воскресенье полицейский не работал. Он встал поздно и к своему любимому мотоциклу спустился только часов в одиннадцать утра. Судя по всему, он настроился кататься целый день. Облачившись в черную кожу, он стал похож на рыцаря. С нескрываемым удовольствием осмотрев мотоцикл, полицейский проверил электропроводку и масло, внимательно приглядываясь к тому или иному тросу, проводу или трубке. Насладившись исследованиями, он надел шлем, забрался на мотоцикл, повернул ключ в замке зажигания, убрал подножку и включил первую передачу. Тронулся рывком — похоже, ему еще не удалось освоиться с тонкостями управления сцеплением с помощью рукоятки на руле, — выехал со стоянки и поехал по городу.
Боб застал самый конец этого спектакля, поскольку кружил «восьмерками» по кварталу, наблюдая за стоянкой. Он прикинул, что при этом не будет ее видеть лишь семьдесят секунд из каждых двух минут. Когда он подъехал в очередной раз, полицейский уже сел на мотоцикл. Сбросив скорость, Боб дал ему выехать со стоянки и влиться в транспортный поток, а затем поехал следом, держась позади в добрых трехстах ярдах.
Кендзи попетлял по городским улицам, по-прежнему неуверенно обращаясь с переключателем передач и отпуская сцепление рывком, и выехал из города. Проехав через окраины маленького городка Нарита, он оказался на скоростной автостраде Канто, где позволил себе перейти на повышенную передачу и разогнаться до ста километров в час. Разумеется, все его внимание было приковано к мотоциклу, ему и в голову не приходило, что за ним могут следить, а если бы даже и приходило, он вряд ли решился бы оторвать взгляд от дороги перед собой. Поэтому Боб без особого труда пристроился за ним в хвост.
Вскоре Кендзи, видимо, устал от напряжения езды с большой скоростью, а может, он решил посмотреть на что-нибудь более привлекательное, чем дорожное полотно и «мазды» с «ниссанами», играющие в салки на скорости сто двадцать километров в час, — так или иначе, но он свернул с автострады. Боб спокойно последовал за ним. Они оказались в застроенном районе, однако скоро дома кончились. Далеко впереди поднимались горы, а по обеим сторонам дороги тянулись обработанные поля. Машин становилось все меньше и меньше. Наконец Кендзи свернул на еще более пустынную дорогу, ведущую в горы. Он так и не заметил Боба, который неотступно ехал в двухстах ярдах за ним.
Дорога шла через густой сосновый лес, плавно поднимаясь вверх. Боб еще никогда не видел такой красивой и безмятежной горной гряды. Он понял, что более благоприятной возможности может и не представиться. Возможно, через считанные секунды Кендзи снова выедет на более оживленную дорогу.
Боб включил пятую передачу, выкрутил до отказа ручку газа и разогнал мотоцикл до ста миль в час. В грудь ударил ветер, внизу замелькало дорожное полотно. Мгновенно настигнув Кендзи, Боб промчался мимо него, почувствовав, как того охватила паника. Он круто дернулся влево, подрезая мотоцикл Кендзи, сжирая свободное пространство перед ним, выжимая его на обочину. В облаке ныли Кендзи пытался справиться с управлением: колеса теряли сцепление с рыхлой землей. Запутавшись в ручках переключения передач, газа и тормоза, он едва не потерял контроль над мотоциклом, что могло кончиться очень плачевно, но все же каким-то образом удержался, резко затормозил — и завалился набок.
Свернув на обочину, Боб остановился, опустил подножку и подбежал к полицейскому, который лежал рядом с упавшим мотоциклом, продолжающим тарахтеть. Боб повернул ключ, заглушая двигатель, и сквозь тонированное забрало шлема разглядел на лице Кендзи страх, панику, стыд и недоумение. Кендзи попытался подняться с земли. Боб левой ногой ударил его с разворота в шлем. Он уже несколько лет не делал ничего подобного! Удар получился на славу. Кендзи отлетел назад, попытался снова встать, но поскользнулся, начал было снимать шлем, потом вдруг схватился за молнию на груди, вероятно чтобы достать пистолет или танто. Но Боб опять нанес ему ногой удар с разворота в шлем. Это уложило Кендзи надолго, и он остался лежать на земле, тряся головой в тщетной попытке избавиться от мельтешащих в ней звезд и снежинок, силясь понять, что за хреновина…
Боб прыгнул на него и придавил коленом дрожащую грудь. Расстегнув молнию, он увидел рукоятку «глока», выхватил его, вытащил обойму, передернул затвор на тот случай, если патрон был дослан в патронник (на самом деле его там не было), и отшвырнул пистолет шагов на двадцать. Кендзи в ужасе сжался в комок. Он остался совершенно беззащитным перед лицом противника, превосходящего его по всем статьям. Нагнувшись, Боб сорвал с него шлем, рассыпая старательно уложенные волосы.
Боб поднял забрало на своем шлеме и расстегнул застежку.
— Если не хочешь неприятностей, лежи смирно. Я тебе надаю еще, если понадобится!
— Я сотрудник полиции. У вас будут большие…
— Заткнись! Я задаю вопросы, ты на них отвечаешь. Вот так мы будем играть в эту игру. Меч.
— Я не…
— Меч, черт побери!!!
— Какой меч?
— Тот самый, на который ты купил себе этот мотоцикл. С помощью которого ты расплатился со всеми долгами. На который ты купил новую игрушку, лежащую в сейфе. На который ты сможешь покупать порнуху про учительницу еще целых десять лет.
Кендзи молчал. Его взгляд устремился вдаль, стал отрешенным. Он думал. Наконец он снова посмотрел на Боба.
— Я знаю, кто вы такой. Я знал, что вы придете.
— Совершенно неважно, кто я такой и что ты знаешь. Важен только меч. Это ведь ты его засек. Кому ты о нем сообщил? Как это произошло, как все было устроено, каков был уговор, с кем ты связался? И не пытайся пудрить мне мозги. Я знаю столько, что ты даже представить себе не можешь.
— Пожалуйста, поверьте, я никак не мог подумать, что всех этих людей убьют. Вы должны мне верить. Я даже не представлял себе… я понятия не имел…
— Значит, ты знал, что меч попал к Яно.
— Нет, но потом коллекционеры говорили о том, что какой-то американец кричал на месте пожара об украденном мече. Только тогда я догадался, что произошло. Мне стало стыдно. Я должен был бы совершить харакири, но мне не хватило мужества.
— Тут я с тобой полностью согласен. Скажи мне только вот что: кто на тебя вышел? Как это произошло? Кому ты передавал сведения? Как все было устроено?
— Я ничего вам не скажу. Давайте убивайте меня. Если я вам скажу, меня все равно убьют. Так что какая разница?
— Ты не хочешь умирать. Особенно теперь, когда у тебя есть этот новенький мотоцикл и новый меч в сейфе. И поверь мне, тебе не стоит умирать. Да я и не хочу тебя убивать. Будет слишком много бумажной волокиты. Лучше расскажи мне правду. Говори же, Кендзи, черт бы тебя побрал!
Полицейский собрался с духом.
— Где-то с полгода назад ко мне обратился один мелкий якудза. Он вручил мне сто тысяч йен. «За что?» — спросил я. Он ответил: «Просто за то, чтобы вы держали глаз открытым». Якудза знал, что я коллекционирую мечи, в прошлом был чемпионом в любительском фехтовании и потому считаюсь знатоком холодного оружия. В Нарите именно меня приглашают для осмотра мечей, которые ничего не подозревающие туристы ввозят или вывозят без соответствующих бумаг. Кроме того, меня приглашают для консультации в случаях кражи мечей — при оценке страховочной стоимости и тому подобное. Поэтому тот якудза понимал, что я являюсь своего рода оживленным перекрестком информации о мечах.
— Он имел в виду какой-то определенный клинок?
— Нет. Он не мог знать, что мне попадется и попадется ли вообще что-либо. Но эти люди искали что-то значительное, способное произвести много шума. Такое происходит время от времени: из забытья возвращается все больше и больше мечей, по мере того как люди присматриваются к тому, что пылится у них в сундуках, а иностранные покупатели становятся все более и более агрессивными и выплачивают все большие суммы. Культ самураев перешагнул границы Японии и стал интернациональным.
— Итак, вы увидели этот меч.
— Он лежал на столе, доставленный прямиком из таможни. Один из сотрудников заполнял разрешение на него. В мгновение ока я понял, что этот меч представляет историческую ценность. Я поднял шум и потребовал, чтобы меч передали мне. Я сказал, что он похож на один клинок, который недавно был похищен, и заявил, что мне нужно сделать несколько телефонных звонков. Как только меч оказался у меня в кабинете, я его разобрал. Мне пришлось изрядно повозиться с рукоятью. Кто-то налил в мекугияну что-то вроде дегтя, и у меня никак не получалось выбить мекуги. К счастью, у меня был при себе набор инструментов. После долгих усилий мне удалось выбить штифт латунным молоточком. Там внутри даже оказалось стихотворение, неизвестно чье. Насколько я помню, там было что-то про луну над преисподней. Но все мое внимание было поглощено клинком. Имя кузнеца, Норинага, было мне незнакомо. Но я отыскал на хвостовике родовой герб, рассмотрел его в лупу и мгновенно понял, что это мон Асано. Форма лезвия — безусловно, кото — также соответствовала тому временному интервалу. Меня охватило восторженное возбуждение. Никогда в жизни я еще не держал в руках ничего столь значимого. Мне хотелось скакать от радости. Только потом, разыскав в справочниках этого кузнеца, я сообразил, что это был за меч. Если бы я понял с самого начала… в общем, не знаю.
— И ты позвонил?
— Ну, сначала я должен был снять копию изображения на хвостовике. Это я сделал быстро. Потом я позвонил. Мне ответил молодой мужской голос, уверенный, с хрипотцой. Это был не тот якудза, который ко мне обратился. Я описал меч, мужчина молча меня выслушал, затем положил трубку на стол и кого-то позвал. Я услышал другой голос. Этот человек попросил меня еще раз описать меч. Он прекрасно разбирался в этом вопросе. Ему даже было известно, что родовой герб Асано со временем менялся, и он попросил меня еще раз убедиться, что изображенный на хвостовике герб соответствует нужному периоду времени. Я назвал имя кузнеца. Мужчина молчал. Подождав немного, я спросил: «Что мне сделать с этим мечом? Конфисковать?» Мужчина поспешно ответил: «Нет-нет. Перешлите мне по факсу ксерокс хвостовика и потяните время. Мне нужно часа два. Пусть гайдзин подождет. Пройдитесь мимо него несколько раз и запомните его рост, телосложение, внешние приметы. Это понятно? Нам нужно знать, как он выглядит». Я так и поступил: два-три раза прошел мимо вас, а один раз даже присел рядом. Вы не обратили на меня никакого внимания. Я видел, что вы здорово злитесь. Потом я ушел, позвонил еще раз и подробно описал вашу внешность. Неизвестный заставил меня подождать еще несколько минут, после чего разрешил перейти к следующему шагу. Я собрал меч, сходил к своему начальнику и сказал, что ошибся. С разрешением все в порядке. Я попросил передать, как мы тронуты, что вы возвращаете меч.
— А я тем временем привел этих людей к Яно.
— Не знаю. Больше от них не было никаких известий. Через две недели я получил пакет. В нем было три миллиона йен наличными. Не бог весть какое богатство, но этого хватило, чтобы расплатиться с долгами и купить син-синто, на который я уже давно положил глаз. Еще и осталось, и я купил мотоцикл.
— Полагаю, пакет не сохранился?
— Нет, конечно же, я его уничтожил. Мне нужно было израсходовать все наличные. Отнести их в банк я не мог: пришлось бы платить налоги и объяснять, откуда у меня деньги.
— Ты ничего не запомнил — какие-нибудь имена, особенности голоса, что угодно?..
— Вы знаете, один момент у меня действительно остался в памяти. Когда тот молодой парень отправился искать своего хозяина, он положил трубку на стол. Но я услышал имя. Парень позвал: «Исами-сама».
— Исами-сама?
— Ну, Исами — это фамилия, а «сама» — уважительное обращение.
— Тебе знакомо это имя?
— Его знает каждый, кто имеет дело с мечами. Кондо Исами, великий убийца из кровавого прошлого. Много поединков и убийств, много мертвых тел. А сейчас это имя взял себе человек с очень высоким самомнением. Об этом также говорит обращение «сама». В нем больше уважения и почтения, чем в обращении «сан». Оно подразумевает высокий авторитет, особый талант, к которому обращается стоящий на много ступеней ниже. Человек, употребивший такое обращение, считает, что этот Кондо Исами добился успеха в жизни, и стремится завоевать его расположение.
Боб отправился за «глоком». Подобрав пистолет, он выдавил патроны из обоймы на землю, вставил обойму в рукоятку и вернул пистолет Кендзи.
— Если мне понадобятся дополнительные сведения, возможно, придется навестить тебя еще раз.
— Если вы попадете в руки к этому Кондо Исами, он выпытает, откуда у вас эти сведения, — испуганно промолвил Кендзи. — Хоть вы храбрый и решительный, но вы ему все расскажете. И тогда меня можно считать трупом.
— Нет, тебя отправит на тот свет этот проклятый мотоцикл, которым ты не умеешь управлять. Тебе надо покататься на площадке с инструктором.
— Я путаюсь в передачах.
— Лучший способ умереть молодым и красивым.
— Все равно, это уже неважно. Можно считать, что меня уже нет в живых.
— Не торопись.
— Вы можете это обещать?
— Могу.
— Почему вы говорите так уверенно?
— Потому что я найду этого Кондо Исами до того, как он найдет меня. Я разрежу его на куски и скормлю воронью.
Глава 22 ОСТРИЕ
Она не была лучшей, но определенно очень быстрой. И мужества ей было не занимать. Боб наблюдал за ней со второго ряда. Все происходило далеко на западной окраине, за пределами той зоны, где англоговорящий турист мог рассчитывать на радушную встречу. Здесь никто не брал на себя труд переводить богатым гайдзинам; люди жили, работали и умирали, не думая об Америке. Поэтому перетяжка под потолком над залитым ярким светом татами оставалась без перевода, но Боб рассудил, что цепочка красных иероглифов означает что-нибудь вроде: «Десятое ежегодное первенство префектуры Канагава по фехтованию на мечах среди женщин». Дело происходило в школьном спортивном зале, похожем на тот, в котором сам Боб играл в баскетбол лет тысячу назад. Щиты с корзинами были отодвинуты к стенам и подняты вверх. Резкое безжалостное освещение выхватывало фигуры спортсменок, стремительно мелькающих но площадке и размахивающих мечами.
В основном это были совсем молоденькие девушки. Среди них встречались женщины постарше. Публика наблюдала за происходящим с таким же напряжением, с каким следят за ходом баскетбольного матча на первенство округа родители спортсменов. Первый круг женщина прошла легко, во втором у нее возникли кое-какие сложности, и в полуфинале она уступила в упорной борьбе пятнадцатилетнему дарованию, которое двигалось по площадке настолько быстро, что молния в сравнении с ним казалась ленивой и медлительной. Но Сьюзен Окада оказала достойное сопротивление. Она отражала выпады соперницы, стараясь нанести удар сама, отступала под натиском, затем снова двигалась вперед, уворачивалась, рубила — и все же проиграла. Она пропустила два или три хлестких удара по маске, от которых у нее должно было зазвенеть в голове. Меч синай представляет собой лишь расщепленные бамбуковые палки, скрепленные вместе шпагатом, — оружие внешне довольно грозное, но на самом деле вполне безобидное. И все же удары наносились с такой силой и быстротой, что Сьюзен Окада ощущала нечто сравнимое с хорошей оплеухой резиновой дубинкой.
Когда поединок завершился, она поклонилась своей юной сопернице, поклонилась судье, поклонилась некоему алтарю или божеству фехтования, расположенному сбоку под портретами двух престарелых японцев и изречением, выведенным иероглифами, дошла до своего места в первом ряду и рухнула на сиденье. Боб ждал: приятель? Нет. Муж? Нет. Подруги с работы? Нет. Никого. Она пришла сюда совсем одна.
Весь перерыв Сьюзен Окада просидела неподвижно, уставившись перед собой, по-прежнему босая, с полотенцем вокруг шеи. Сейчас в ней не было ничего женственного. Она выглядела так, как выглядит спортсмен-любитель, потерпевший поражение: усталая, но втайне довольная своим выступлением, еще не готовая покинуть мир спорта и вернуться в реальный мир, где понятия победы и поражения определяются не так четко.
Боб спустился на первый ряд и сел за одно место от нее. Она его не заметила.
— Мисс Окада, вы чертовски хорошо машете палкой.
— Свэггер. Я так и подумала, что это вы.
— Собственной персоной, полный жизненных сил и переполненный злостью.
— Господи, как вам удалось вернуться в Японию? Вы значитесь в списке нежелательных персон, а японцы подобных ошибок не допускают.
— У меня есть кое-какие друзья. Они снабдили меня очень хорошими документами.
— Вы хоть представляете себе, что вам грозит?
— Все предостерегают меня в один голос, что я загремлю по полной.
— За решеткой вам придется ой как несладко.
— Ну, сначала меня еще нужно поймать.
— Если это произойдет, я вам ничем не смогу помочь. Вы нарушили японские законы, приятель, так что в дерьме по самые уши. Вы всецело у них в руках, и вам придется отвечать. Посольство преспокойно умоет руки. У нас не будет выбора. Таковы здешние законы, и мы должны их уважать.
— Просто не зовите полицию, больше я ни о чем не прошу. Кстати, похоже, вы быстро обучились искусству фехтования. Смотрелись вы очень неплохо. Я не шучу. Мне бы не хотелось вызвать ваш гнев, когда у вас в руках будет настоящий меч. Вы нашинкуете меня, словно капусту.
— Свэггер, это очень опасно.
— Позвольте угостить вас пивом. Кажется, вам оно сейчас совсем не помешает, после того как вам хорошенько надавала пятнадцатилетняя девчонка. Черт побери, терпеть не могу, когда такое происходит. Здесь где-нибудь поблизости наверняка должно быть подходящее местечко.
— Я иду в душ. Расскажете мне, чем все кончится.
— Наши победят, как в самурайских фильмах.
— Да нет, здесь. Я хочу узнать, как далеко пойдет та маленькая сучка, которая меня вздрючила.
Состязания продолжились, и «маленькая сучка» беспощадно отметелила следующую соперницу.
В нескольких кварталах оттуда находился бар для рабочих, где было так темно и тихо, что никто не обратил внимания на высокого европейца. Большинство посетителей сидели, растворяя действительность в больших жестяных бочонках пива и тупо уставившись в телевизор, по которому передавали состязания по сумо. Боб и Сьюзен проскользнули в зал, нашли свободный столик в дальнем углу и возблагодарили Господа за то, что сегодня вечером нет караоке. Наконец подошел официант, и они заказали пиво для маленькой дамы и кока-колу для высокого белого господина.
— Почему ты занялась фехтованием?
— Мой отец был чемпионом по фехтованию много лет назад, до того как отправился в Штаты учиться в медицинском колледже. Так что, наверное, это у меня в крови. К тому же по долгу службы мне приходится встречаться с этими людьми, понимать их, поставлять пищу для серьезных аналитиков, если, конечно, у меня остается время после вызволения пьяных американцев из полицейских участков Кабукичо. А фехтование как нельзя лучше подходит для этой цели.
— Конечно, меня это нисколько не касается, но ни приятеля, ни мужа, ни…
— Тебя это нисколько не касается. У меня есть карьера. Пока что этого достаточно. Свэггер, что тебе от меня нужно?
— У меня в повестке дня два вопроса, и мне нужна твоя помощь.
— Ты загоняешь меня в угол. Мой долг заключается в том, чтобы выдать тебя властям, договориться с японцами и забрать тебя отсюда до того, как ты успеешь наделать дел и впутаться в серьезные неприятности. Я должна так поступить. И тут нет ничего личного. На мой взгляд, ты вполне порядочный человек. Но есть такая вещь — долг.
— Я знаю, что такое долг.
— Мне это известно. Я внимательно изучила твое личное дело. Ты оставил во Вьетнаме все. Я это понимаю, уважаю, я тронута. Но я не могу позволить тебе вляпаться в беду, не могу допустить, чтобы ты здесь навредил своей родине. Это ты понимаешь?
— Понимаю. Но позволь сначала кое-что тебе рассказать. А уж потом ты сама решишь, что делать.
— О, не сомневаюсь, это будет что-то интересное.
Боб рассказал все, что ему удалось узнать, поделился своими предположениями и тем, куда они его привели, опустив только тайное соглашение с 4-м батальоном японских сил самообороны. Закончил он рассказом о приключении на мотоцикле и признании полицейского из Нариты.
Сьюзен Окада молчала.
— Не знаю, — наконец сказала она. — Быть может, он сказал это только для того, чтобы задобрить тебя. Ты ведь чуть не убил его, черт побери, уселся ему на грудь, словно бабуин, с формальной точки зрения совершил уже двадцать третье или какое там уголовное преступление, а поскольку он японец, он привык говорить уклончиво, вежливо, на пониженных тонах. Возможно, ты его так напугал, что он признался бы в чем угодно, лишь бы избавиться от тебя.
— Все может быть. Но откуда в таком случае ему известно о двух отличительных признаках меча? Я ему ничего не говорил. Он все знал. Так или иначе, это доказывает, что меч является не просто военным хламом, он имеет определенную ценность. А если он имеет ценность, все встает на свои места. Ты сама прекрасно знаешь, как японцы помешаны на мечах. Разговаривая с доктором Отовой, я чувствовал себя так, словно получил аудиенцию у Папы Римского. Здесь это все равно что религия.
И снова Сьюзен Окада отвела взгляд.
— Слушай, дай мне еще несколько дней, — сказал Боб, — Ну, и еще мне будет нужна от тебя кое-какая помощь. Я больше не буду нарушать законы, не буду никого бить и ни за кем гоняться на мотоцикле.
— Чего ты хочешь?
— Этот полицейский сказал, что парень, ответивший по телефону, назвал кого-то Исами-самой. Кондо Исами. Он сказал, что это имя великого фехтовальщика и убийцы. Одним словом, мне нужно поговорить со знающим человеком. Я должен выяснить, что это за тип, который величает себя Кондо Исами. Как ты понимаешь, я не могу просто заглянуть в полицейский участок и попросить досье на Кондо Исами. У тебя наверняка есть какие-то связи — полицейский, журналист, не знаю кто, кто-нибудь, у кого есть знакомый, который в этом разбирается. Это все, что мне нужно. Если этот Кондо существует, если у него есть прошлое, если он подходит, мы получим хоть что-то. По крайней мере, у нас будет отправная точка. Если же он никто, если этот след никуда не приведет, я вылечу домой первым же рейсом. Я сделал попытку и потерпел поражение.
— Но чтобы больше никакой уголовщины. Никаких бредовых геройств в духе морской пехоты. Постарайся обойтись без бомбардировок и напалма.
— Напалма не будет.
— Позвони мне завтра после обеда на работу. Возможно, у меня для тебя что-нибудь найдется. Может быть, журналист. А до тех пор постарайся не впутаться в неприятности.
— Лады.
— Попарься в горячей ванне.
— Лады.
— Да, ты говорил, что у тебя ко мне два дела. Ты назвал только одно.
— Малышка.
— Мико?
— Да. Я должен знать, что с ней.
— Она в больнице. В Японии нет детских домов. Детей, оставшихся без родителей, воспитывают родственники. Но в данном случае родственников нет. Так что работники службы социального обеспечения поместили девочку в католическую детскую больницу. Ей там плохо. У нее никого нет. В одну ночь исчезло все, что у нее было, и сейчас она спит не на татами, как дома, а на койке. Бедняжка считает, что за ней придет Железный Дровосек и спасет ее. Я так и не смогла понять, кто такой этот Железный Дровосек.
— Все это очень печально.
— Такова наша жестокая планета Земля.
— И никто ее не навещает?
— Навещать ее некому.
— А мне можно ее навестить?
— Не лучшая затея.
— Малышке нужен кто-то.
— Это невозможно.
— Мисс Окада, разве ты не хочешь найти этих людей? Они безжалостно расправились с семьей, оставили четырехлетнюю девочку сиротой. Их надо наказать. Разве ты не видишь? Не ты ли прислала мне отчет о вскрытии? Мне почему-то кажется, что вся эта профессиональная объективность — только игра; ты хочешь расквитаться с этими людьми не меньше моего.
— Я тебе ничего не посылала. Тут ты заблуждаешься. Но в этом заблуждении ничего страшного нет. А страшное заблуждение заключается в том, что ты почему-то решил, будто мы с тобой кореши и вместе должны творить правосудие. Забудь об этом. Я работаю на правительство Соединенных Штатов; здесь начинаются и заканчиваются все мои привязанности. Не романтизируй меня, потому что я тебя разочарую. Вот реальность: у тебя остался последний дюйм поводка. Ты еще немного занимаешься этим расследованием. Если тебе удается достать какие-либо доказательства, ты обращаешься ко мне, в первую и в последнюю очередь. Если это будет что-то существенное, я прослежу за тем, чтобы доказательства попали к соответствующим японским властям, и на этом наше участие заканчивается. Дальше всем будет заниматься японское правосудие, а может, и не будет, потому что такова реальность. Если ты нарушишь мои правила, я мигом на тебя донесу — и ты отправишься в японскую тюрьму.
— Я бы сказал, что договариваться с тобой очень нелегко, но дело обстоит еще хуже: ты вообще не желаешь договариваться.
— Да, не хочу. Не строй из себя самурая передо мной, понятно? Иначе тебе здорово достанется. И я не шучу, Свэггер. Я говорю тебе четко и раздельно: если понадобится, приятель, я тебя так отделаю, что ты пожалеешь о том, что решил участвовать в этом родео.
Глава 23 «ТОКИЙСКИЙ ВЕСТНИК»
Разумеется, она приехала на красной «мазде»-кабриолете с открытым верхом. С развевающимися длинными волосами, в лётных очках-консервах она неслась по запруженным улицам Токио, словно ниндзя, ругаясь на тех, кто ехал медленнее, постоянно перестраиваясь из ряда в ряд, резко тормозя, стремительно ускоряясь, используя все передачи, чувствуя себя совершенно уверенно в левостороннем движении. Это был вечер следующего дня. Когда Боб ей позвонил, она сказала, где и когда его заберет.
Однако поехали они не к журналисту. Вместо этого через какое-то время машина подкатила к большому комплексу из серого кирпича, явно принадлежащему католической церкви, потому что перед ним стояло изваяние какого-то святого. Сьюзен поставила машину на стоянку напротив детской площадки, обнесенной сетчатой оградой.
— Жди здесь, — предупредила она. — Я не хочу, чтобы девочка тебя видела. Никто не может сказать, что она помнит, какие у нее ассоциации. Поверь мне, новые потрясения этому ребенку не нужны. Ей и так здорово досталось.
Боб остался сидеть в машине. Окада скрылась в здании и появилась минут через десять вместе с девочкой.
Боб сразу же заметил изменения. Прежде общительная, открытая, Мико стала замкнутой и запуганной. Она крепко держала Сьюзен за руку и никак не хотела ее отпускать. Сьюзен подвела ее к качелям, усадила и начала раскачивать, но уже через несколько секунд девочка начала кричать.
Боб находился слишком далеко и не мог разобрать слова, но он увидел, что Сьюзен сняла малышку с качелей и прижала ее к груди. Затем они подошли к горке. Мико робко забралась наверх и кое-как скатилась по сверкающей поверхности. Однако в ней не было ни раскрепощенности, ни желания отдаться головокружительной силе земного притяжения; все ее движения оставались скованными.
Встреча продолжалась всего несколько минут. У Мико просто не было никакого желания наслаждаться площадкой. Пугливая, стеснительная, она нервно жалась к Сьюзен. Та пыталась ласково ее успокоить, но тщетно.
Свэггер с трудом терпел это зрелище. Он поймал себя на том, что до боли стиснул зубы от ярости.
Девочка переполнена страхом.
«Что бы я ни говорил Окаде, — подумал Боб, — тот, кто это сделал, также познает страх. После чего я разрежу его на части».
Женщина и ребенок скрылись в здании, и Боб постарался успокоиться. В голове у него стоял гул. Ему жутко хотелось выпить, но он понимал, что это ничего не решит. Так что он вышел из машины и сделал несколько жадных глотков свежего воздуха, пытаясь расслабиться. Вскоре появилась Сьюзен, и они поехали дальше.
— Ответь мне на один вопрос, — начал Боб, когда они снова оказались на оживленных улицах. — Когда все это останется позади, конечно, при условии, что я буду жив и здоров, не попаду в тюрьму, вернусь в Штаты…
— Нет.
— Ты же еще не знаешь, к чему я веду.
— Знаю. Я прекрасно знаю, к чему ты ведешь. Ты хочешь удочерить Мико.
— Я уже отец. И кое-кто считает, что неплохой.
— Не сомневаюсь, что ты замечательный отец. Больше того, Америка стала бы для девочки чудесным домом, она исцелилась бы значительно быстрее, хотя и не полностью, и возвратилась бы к счастливой и прекрасной жизни. Но это не имеет никакого значения.
— А что имеет значение?
— Связи, которых у тебя нет.
— Что ты хочешь сказать?
— Иностранцу усыновить японского ребенка крайне сложно. Во-первых, многие из них не подлежат усыновлению. Не могу точно сказать, как обстоит дело с Мико. Далее, большое значение имеет форма твоих глаз. Они у тебя круглые. Японцы очень неохотно идут на то, чтобы разрешить американцу или европейцу усыновить японского ребенка, если только они не состоят в родстве. Это не Китай или Корея, где состоятельные американцы без труда получают очаровательных малышей — лишь бы были деньги.
— Значит, никакой надежды?
— Ни тени. Ни намека.
— Предположим, твой босс — господин посол — использует свое влияние.
— Он не сделал бы это ради меня, так с какой стати ему делать это ради тебя? Я для него никто, и ты для него тоже никто.
— Дерьмово получается.
— Тут ты совершенно прав. Однако наш мир полон жутких несправедливостей. Девяносто восемь процентов из них нельзя ни устранить, ни исправить. И это одна из них. Сосредоточься на тех двух процентах, где что-то еще можно предпринять. Ага, вот мы и приехали.
Ник Ямамото жил в тихом токийском «спальном» районе, отделенном от Кабукичо несколькими километрами с точки зрения географии и несколькими университетами с точки зрения культуры. Он жил в одном из непримечательных деревянных домов за оградой, с примыкающими к нему с двух сторон вплотную соседними домами, — все дома квартала был стиснуты, словно пончики в промасленном пакете. Сьюзен без труда нашла на тихой улице свободное место для парковки. Они вошли в ворота и постучали в дверь.
Подобно многим японским мужчинам, Ник был невысок и худощав, носил очки и двигался плавно. В отличие от большинства японских мужчин, у него были светлые волосы. Обработанные гелем, они острыми иглами торчали в разные стороны, словно у рок-звезды. На вид ему было лет восемнадцать, если брать в расчет только волосы; однако в остальном он был мужчина сорока с лишним лет.
— Тебе нравится моя новая прическа? — спросил Ник у Сьюзен.
— Нет. По-моему, очень глупо.
Ник повернулся к Бобу.
— Ну не стерва ли она?
— С Сьюзен шутки плохи, — заметил Боб. — Слышали бы вы, какой разнос она учинила мне! Ладно, меня зовут Боб Ли Свэггер. И мне ваша прическа нравится.
— Вот видишь, ему моя прическа нравится.
— Что он в этом понимает? Он ведь гайдзин.
Боб и Ник пожали друг другу руки, мгновенно породненные страхом, который оба испытывали перед великой и прекрасной колдуньей Сьюзен Окадой. Ник провел гостей в дом: деревянная отделка и роскошная западная мебель. Висящий на стене телевизор с огромным плоским экраном с диагональю семьдесят два дюйма показывал бейсбольный матч, но все остальное место занимали книги. Ими были заставлены все полки, а на стенах висели заключенные в рамки обложки. Воздух был полон ароматом жареного мяса: Ник только что кончил обедать.
— Что-нибудь выпьете? — предложил он.
— Я капли в рот не беру, — отказался Свэггер. — Если я только начну, это будет продолжаться целый месяц. Но вы не обращайте на меня внимания.
— Окада-сан?
— Нет, я на работе. Мы к тебе не в гости приехали.
— Может быть, чай, кофе, кока-кола?
— Нет, спасибо.
— Ну, если не возражаете, я все же что-нибудь выпью.
Сходив на кухню, Ник вернулся с кувшином и чашечкой и, устроившись в уютном кресле, приступил к неспешной смазке своего организма маленькими глоточками саке.
— В свое время Ник возглавлял вашингтонский корпункт «Токио таймс». Именно там мы с ним и познакомились. Но затем его отозвали в Японию, а через несколько месяцев вообще выгнали. Не помню, Ник, в чем там было дело? Плагиат или подкуп?
— Вообще-то и то и другое.
— На самом деле на это Ника толкнул кокаин. Его вины тут нет.
— На самом деле на это меня толкнул кокаин. Я сам во всем виноват.
— Так или иначе, теперь, по его словам, он завязал. Сейчас Ник работает в одиночку. Он в одном лице редактор, издатель и корреспондент «Токийского вестника», еженедельника, пользующегося дурной славой. В Токио таких сотни. У Ника — один из лучших. Если хочешь узнать, чем занимались на прошлой неделе Брэд Питт и Анджелина Джоли и какая порнозвезда заработала два миллиарда йен, за этим нужно обращаться к Нику.
— Но я знаю и кое-что другое.
— Ник опубликовал семь книг про якудзу. А знает он гораздо больше.
— Если бы я опубликовал все, что мне известно, меня бы уже давно не было в живых.
— Похоже, вы как раз тот, кто мне нужен, — сказал Боб.
— Ну, я постараюсь. У меня перед Сьюзен один должок еще по Вашингтону. Так что валяйте.
— Кондо Исами.
— Ух ты, обалдеть. И который вам нужен? Кондо-оригинал или Кондо второй, продолжение?
— Наверное, начать лучше с первого.
— Вы совершенно правы. Полагаю, без первого понять второго будет очень трудно.
— Я весь превратился в слух.
Ник снова налил немного саке. Подойдя к телевизору, он выключил его, порылся среди компакт-дисков, выбрал один и вставил его в плеер.
— Музыка из фильмов про самураев.
— Свэггер посмотрел много фильмов про самураев. Пожалуй, даже слишком много. У него болезнь Тосиро Мифуне.
— Понимаете, Свэггер-сан, я писатель, поэтому я верю в настроение. На мой взгляд, для моего рассказа это как раз та самая музыка.
Он отпил саке.
— Представители Западного мира не могут в полной мере оценить динамику отношений между сёгуном и императором. Эти отношения были главным фактором жизни Японии на протяжении трехсот с лишним лет. Не буду утомлять вас подробностями, но у нас сложилась следующая странная система власти: в Киото восседал на троне божественный император, при всей своей показной роскоши совершенно бессильный, в то время как на самом деле всем заправлял воин в доспехах, обосновавшийся в Эдо. Так продолжалось до середины девятнадцатого столетия, когда на Японию стали давить агрессивные чужестранцы, требуя открыть страну для торговли с окружающим миром. Сёгун выступал против этого, император отнесся к этому более или менее благосклонно, и их противостояние разделило всю страну. Как я уже сказал, императорский двор находился в Киото, а сёгун жил в Токио. Я буду называть Эдо по-новому — Токио, чтобы было проще.
— Я сам люблю простоту, — заметил Боб. — Но пока что мне все понятно.
— Многие принявшие сторону императора ронины — бродячие самураи, ненавидевшие сёгуна, — начали стекаться в Киото, и в конце концов город превратился в Додж-Сити.[19] Там воцарились жестокость и беззаконие. Произошло это примерно в тысяча восемьсот шестьдесят втором году. Сёгуна, обитавшего в Токио, раздражало то, что он не может навести порядок в имперской столице; это выставляло его на всеобщее посмешище. И вот один дворянин, сторонник сёгуна, несомненно с его позволения нанял… не знаю, как это назвать… милицию, стражей порядка, ковбоев. Отряд, банду, шайку, что-то в этом роде. Сами они называли себя «особыми избранными», по-японски «синсэнгуми». А возглавил их… Ну, как это всегда бывает в Японии, за главенствующую роль шла ожесточенная борьба, но в конце концов, мастерски расправившись со всеми соперниками, возглавил их некий Кондо Исами. Силач, жестокий и беспощадный, очень честолюбивый. Итак, этот Кондо со своими синсэнгуми отправился усмирять Додж-Сити. И занялись они усмирением, убивая всех подряд. Этот сюжет воплощен в тысяче фильмов, но вы наверняка должны помнить «Шайку убийц» и «Когда был обнажен последний меч».
— Я видел оба этих фильма. В «Шайке убийц» бедняге Тосиро Мифуне отрубают голову. Полагаю, именно он и исполнял роль Кондо.
— Совершенно верно, он исполнял роль Кондо. Определенно Кондо Исами — одна из лучших его ролей. Вот что произошло с Кондо, когда сторонники императора в конце концов одержали верх и сместили сёгуна. Однако на протяжении долгого времени Кондо олицетворял в Киото закон. Он и его ребята стали самой кровавой бандой за всю историю Японии. Они убивали, убивали и убивали. Вероятно, Кондо лично убил не меньше ста человек в поединках на мечах. Тут он был настоящим самураем, как к нему ни относись. Так что тот, кто именует себя Кондо в наши дни, хочет запугать своих противников, вселить в них ужас, показать им, что он готов убивать. Что ему доставляет наслаждение убивать.
— А Кондо Исами Второй? — спросил Боб.
— Напечатанным это имя я не видел ни разу. Говорят, в таком виде оно появилось лишь однажды, и через неделю отрубленная голова того бедняги, который осмелился это сделать, была обнаружена на треноге из клюшек для гольфа, установленной перед редакцией бульварной газетенки, где он работал. Это произвело большой переполох. Клюшки для гольфа были номер восемь и девять стальные и номер три деревянная. Разумеется, это означало «я-ку-дза», по названию проигрышного карточного расклада восемь-девять-три. Никто не знает, кто он такой, известно лишь, чем он занимается. Этот Кондо Исами — элитный убийца, принадлежащий якудзе. У него под началом небольшая группа прекрасно обученных бойцов, с почтением относящихся к древним традициям. Они убивают по старинке, мечом.
— Так, вы должны это объяснить, — попросил Боб.
— Полагаю, для американца это звучит странно. Однако на самом деле в определенных случаях меч гораздо эффективнее пистолета, если не иметь ничего против моря крови. Тот, кто упражняется с мечом всю свою жизнь, обращается с ним очень, очень хорошо. Опытный фехтовальщик может уложить своего противника за долю секунды, быстрее, чем пулей из пистолета. Оружие у него в руках смертельно опасное, а в анатомии он разбирается, как профессиональный мясник. Он знает, куда нанести секущий или, при необходимости, колющий удар, чтобы за считанные секунды из тела противника вытекла вся кровь. Он может пронзить легкие и перекрыть человеку доступа воздуха, может рассечь таз и лишить его опоры, может раскроить череп — и все погаснет. При этом жертва даже не почувствует боли, а просто рухнет на землю. Меч — оружие убийственное. И что самое главное, никакого шума. Можно устроить настоящий маленький бой, уложить трех противников, устроить им свидание со смертью наедине — разумеется, при условии, что неожиданно не нагрянет полиция. И никто ни о чем не узнает до следующего утра, когда вдруг окажется, что сточные канавы залиты лужицами липкой красной жидкости. Вот, взгляните.
Подойдя к шкафу, Ник достал папку и протянул ее Бобу.
В ней были протоколы о вскрытиях людей, погибших от меча, и фотографии с мест преступления. На столах в прозекторской лежали обнаженные трупы с овальными отверстиями размером с бейсбольный мяч, разглядеть которые иногда удавалось с трудом, потому что рассеченная кожа была не белая, а чаще покрытая красными, черными и зелеными пятнами, причем объяснялось это не заболеванием, как первоначально подумал Боб, а обильной татуировкой. Но раны были хорошо видны, когда взгляд фокусировался на них, выделяя их среди извергающих пламя драконов, волчьих пастей и иероглифов. Воистину это был настоящий жуткий праздник мясника: кровь вытекла, открывая слои рассеченных тканей. Разрезы были огромными, глубокими, незаживающими — в считанные мгновения человеческое тело теряло через них всю внутреннюю жидкость. Затем шли сделанные на месте снимки убитых представителей преступного мира, причем в первую очередь бросались в глаза не черные костюмы и лакированные ботинки, не непроницаемые зеркальные очки и не скрюченные позы трупов, не отрубленные конечности и рассеченные головы, а кровь, лужи, озера, моря крови. Каждый труп возвышался островом посреди красного моря, растекающегося повсюду, разлившегося атласным блеском, словно по высочайшему разрешению какого-то безумного правителя.
— Этот Кондо Исами появился на сцене лет пять назад. У некоего мелкого босса по имени Отани возникли кое-какие неприятности с китайцами, содержавшими заведение в Кабукичо. Ему здорово досталось от одного из них. Под «здорово досталось» надо понимать «его страшно порезали». Кондо Исами представился Отани, прислав ему визитную карточку и отрубленную голову. Это возымело действие. По мере возвышения Отани вверх поднимался и Кондо, продолжая специализироваться на невозможном, на деликатном, на невыполнимом. Судя по всему, в отличие от большинства членов якудзы у него нет татуировок. Он должен выглядеть безукоризненно, поскольку ему приходится появляться в обществе. И все же тут есть много странного. Большинство людей не видели его лица. Кондо предпринимает большие усилия, чтобы не показывать свое лицо определенным людям, — тут речь идет и о масках, и о специальном освещении. С другой стороны, по слухам, кое с кем он встречается запросто. Ходит по клубам, на танцы. Внезапно без каких-либо видимых причин ему становится наплевать на то, что его увидят. Ну как это все можно объяснить, черт побери?
— Иногда он стесняется, а иногда нет. Быть может, все дело именно в этом.
— Да нет, тут кроется нечто большее. Этот тип совсем не прост. Он блестяще владеет мечом. Ему удалось достичь той самой совершенной техники, которой обладали такие легендарные самураи, как Мусаси и Ягуи.[20] Конечно, его ребятам до него далеко, однако внутренняя дисциплина у них железная. Лишь однажды полиции удалось схватить одного из синсэнгуми, но он совершил вилкой харакири прямо в полицейском застенке, прежде чем его успели допросить. Он оказался членом одной из уличных банд, которого Кондо, видимо, заприметил, взял к себе, обучил и вышколил. Его обнаружили плавающим в собственной крови с улыбкой на лице. Кондо и его ребята специализируются исключительно на сложных задачах. Они отличаются крайней жестокостью. Ходят слухи, что какие-то китайские бандиты задумали выступить против босса Отани, так синсэнгуми разобрались с ними секунд за тридцать в одной гостинице в Киото, где китайцы собрались, чтобы отдохнуть и набраться сил. Ребята Кондо напали на них в вестибюле. Мечи вступили в дело гораздо быстрее чем «беретты»; в считанные секунды синсэнгуми переходили от одного бандита к другому, вспарывая их. Сам Кондо разрубил одного китайца от макушки до члена. Рассек его пополам сверху донизу. Поразительная сила, да, но и не только это. Для того чтобы нанести такой удар, нужно прекрасно владеть мечом. И Кондо им владеет. Они не оставили ни одного свидетеля.
— Послушайте, Ник, — сказал Боб, — по-моему, у этого Кондо появился новый клиент. Я думаю, именно он уничтожил семью Филиппа Яно и похитил меч исключительной ценности, который случайно попал к Яно в руки. И вот теперь у него есть какие-то мысли насчет того, как поступить с этим мечом, но какие именно — я понятия не имею. А вы можете поспрашивать, разузнать, на кого работает Кондо и для чего ему понадобился этот особый меч? И почему ему пришлось перебить всех Яно? Почему он просто не направил к нему грабителей, которые взломали бы сейф и спокойно ушли, прихватив меч? Или почему не выкупил у него эту треклятую штуковину — хотя, если хорошенько подумать, Яно бы ее ни за что не продал.
— Конечно, я могу поспрашивать. Но и для меня самого в этом кое-что есть. Я получу сенсацию, которая сделает меня большим человеком в желтой прессе и, может быть, даже откроет мне дорогу обратно в респектабельные издания.
— Совершенно верно.
— Ник, будь осторожен, — предупредила Окада-сан.
— Я буду осторожен. А вы, Свэггер-сан, тем временем учитесь фехтовать.
Глава 24 ВОСЕМЬ УДАРОВ
Больше не было четырех сторон света. Не осталось ни левого, ни правого. А что же верх и низ? Исчезли полностью. Так же как и цвета, числа, ориентиры, все указатели, позволяющие осознанно перемещаться в пространстве, — пропало все.
Вместо этого вся действительность сосредоточилась в восьми ударах.
Ударов всего восемь.
Ни больше ни меньше.
Цуки.
Миги йокогири.
Хидари йокогири.
Миги кесагири.
Хидари кесагири.
Миги кириаге.
Хидари кириаге.
Синдзёкугири.
Иначе говоря, прямой выпад, удар справа налево, удар слева направо, удар справа налево наискось вниз, удар слева направо наискось вниз, удар справа налево наискось вверх, удар слева направо наискось вверх и вертикальный удар вниз, рассекающий голову.
Боб стоял, обливаясь потом, сжимая в руке очень острый меч, который не позволял ему ослаблять внимание. Малейшая ошибка с таким острым клинком может обернуться серьезным порезом, и у него уже в десятке мест выступила кровь от соприкосновения с якибой — закаленным лезвием. Досю не обращал на кровь никакого внимания. Смысл этого таков: если работаешь с настоящим мечом, порезы неизбежны. Только и всего. Ничего страшного в этом нет. Надо привыкать к крови. Или рана заживет сама, или надо будет накладывать швы, и ничего в промежутке.
— Миги йокогири! — скомандовал старый мерзавец.
Боб послушно выполнил нисходящий режущий удар справа налево. Не выпад, не рубящий удар, не укол — режущий удар.
— Кире! Кире!!! — заорал Досю.
Резать.
Боб находил в этом японском слове какое-то волшебство. В нем не было ничего от «сказал как отрезал», «обрезать сигару», «черт, кажется, я порезался» или «срезать углы», всех этих милых иносказаний, основанных на принципе столкновения твердого тела с мягким, какие рождаются в цивилизованном обществе, которое никогда не относилось к клинкам серьезно.
Нет, в японском языке слово «резать» имеет особое значение. Шутить с ним нельзя. Мечом режут. То есть убивают или пытаются убить. Оружие предназначено исключительно для этой цели; тут все серьезно, это не шутка, не смех, не спорт и не развлечение. В каком-то смысле меч наполнен таким же эмоциональным смыслом, как и заряженный пистолет, и, может быть, даже в большей степени, потому что пистолет можно разрядить, а меч — нет.
— Удар слева наискось!
— Удар справа!
— Удар слева наискось вверх!
Всего ударов восемь. Но от этих восьми зависит все. Тому, кто не овладел в совершенстве этими восемью, надеяться не на что.
— Нет, нет. Угол совсем плохой! Угол дерьмо. Угол должен быть идеал. Повтори медленно!
Сколько все это продолжалось? Происходящее напоминало Бобу безумные занятия в Пэррис-Айленде,[21] еще в те времена, когда Пэррис-Айленд что-то значил, когда полевые учения продолжались по семьдесят два часа подряд, когда ночи кровью перетекали в дни, а дни кровью перетекали в ночи до тех пор, пока усталость не становилась столь невыносимой, что тебе начинало казаться, будто конца этому не будет, и все твои движения делались неуклюжими и неточными. «Как тебя зовут? Откуда ты?»
Но именно это позволило Свэггеру трижды пройти через Вьетнам, так что, хотя каждое мгновение тех дней было мучительным, дело того стоило. Это нужно было вытерпеть.
— Удар Слева наискось вверх! Нет, нет, лезвие сгибать — нет! Потрогай!
Маленький человечек подошел к обливающемуся потом гайдзину сзади и, схватив похожими на клещи пальцами его руки, повторил движение от начала до конца, контролируя положение локтя, контролируя угол лезвия, который должен полностью совпадать с углом разреза, так как в противном случае весь процесс нарушится, удар пойдет вбок и меч вырвется из руки или, по крайней мере, замедлится настолько, что противник успеет сильно порезать тебя.
Нет, не так.
Японцы сказали бы: «бассари киру».
«Разрубить тебя».
Бобу казалось, он вот-вот отключится. Однако маленький человечек с жиденькой бородкой продолжал делать свою работу как ни в чем не бывало, и, следовательно, Боб тоже каким-то образом сможет найти в себе силы. Но это продолжалось долгие часы подряд, пока наконец не прозвучало:
— Убери меч.
Боб поклонился, не зная, как это правильно делать и почему он так поступил.
Отыскав сайю, Боб вспомнил, что нужно отставить ее от себя, и надел ее на меч, в соответствии с правилами повернув его лезвием к себе. Затем он поставил меч в стойку, похожую на алтарь какого-то божества.
Обернувшись, Боб увидел, что Досю уже вернулся на татами и завязывает на голове повязку-мен.
— Иди, иди. Сейчас ты и я сражаться. Сражаться со вся сила. Ты убивать меня дерево. Хороший удары. Делать хороший удары.
Должно быть, Боб непроизвольно застонал; сейчас он мог думать только о том, чтобы немного вздремнуть.
— Ну же. Сражаться еще всего шесть, может быть, десять часов. Потом я давать пятнадцать минут перерыв.
Боб понял: это неслыханная редкость. Шутка.
Боб быстро выяснил, что он может или сражаться, или правильно наносить удары. Делать и то и другое одновременно было чертовски сложно. Быстротой движений он не уступал Досю и время от времени умудрялся доставать его, хотя, возможно, Досю просто сражался с ним не в полную силу, даже несмотря на то что удары деревянным мечом по незащищенным рукам и туловищу оставляли синяки и ссадины, которые не пройдут в течение нескольких дней. Однако когда Боб наносил удар быстро, удар получался размазанным. Если же удар был выполнен правильно, происходило это слишком медленно.
— Мне за вами не угнаться.
— Никаких «не угнаться». Болезнь. Болезнь самолюбия. Не побеждать, не проигрывать. Нужно сражаться в одном уме.
Сражаться в одном уме? Что это может означать, твою мать?
— Сосредоточиться, не сосредоточиваясь. Видеть, не видя. Побеждать, не побеждая.
Что это за язык?
— Стой, — наконец сказал Досю. — Тебе нравятся девушки?
— Ну да, разумеется.
— Помнишь самый хороший время с девушкой?
— А то как же.
— Что?
— Э, нет! Это я не могу вам рассказать.
— Когда?
— О, в девяносто третьем. Мне уже долгое время было паршиво. Я успел забыть, когда в последний раз находился в обществе порядочной женщины. Впутавшись в одно грязное дело, я подался в бега и в конце концов пришел к женщине, на которой был женат мой корректировщик, с кем мы вместе были во Вьетнаме. В каком-то смысле я сначала влюбился в ее фотографию. Она была тем, что я потерял, потеряв своего друга. У меня внутри все перевернулось. В любом случае, идти мне больше было не к кому, и я пришел к ней, и с тех пор у нас все хорошо. Она спасла мне жизнь. А что касается секса — ну, черт побери, о лучшем не стоит и мечтать.
— Думай о секс, — сказал Досю и с силой полоснул его мечом по горлу.
— Ай! — вскрикнул Боб, — Эй…
— Думай о секс, — повторил Досю, больно хлопнув его лезвием по правому плечу.
— Нет! — закричал Боб, — Это слишком личное, черт побери. Здесь сексу не место. Я не могу думать о сексе. Это неправильно.
— Глупец! Ты не есть японец. Думай о… думай о гладкое.
Думать о гладком?
А что гладкое?
— Я не…
— Нет! Думать о гладкое!
И что пришло ему на ум при слове «гладкое»? Боб подумал о косе. Вспомнил свое одиночество на высоком холме, длинные дни в конце весны и начале лета, старую косу в руках, силу, разливающуюся по всему телу, то, как в первый день ему удалось выдержать только три часа, а в конце, когда работа была уже почти завершена, он мог работать по пятнадцать — шестнадцать часов подряд, на одном дыхании, не задумываясь. Он вспомнил невысокую, но жесткую пустынную растительность, вспомнил то, как старое лезвие, на котором ни один самурай не задержит взгляд, гладко ее срубало. Рассекая воздух с ласкающим слух свистом, разбрасывая срезанные стебли и листья.
Каким-то образом ему удалось найти что-то личное, свое, и, используя это, он отразил следующий удар, шагнул вперед и с силой резанул Досю по запястьям, отдавая себе отчет в том, что он сознательно нанес удар чуть дальше эфеса, чтобы маленькому ублюдку стало действительно больно.
Думай о косе!
Боб не мог точно сказать, когда это закончилось, не мог точно сказать, когда он отдыхал, однако внезапно он обнаружил, что покинул татами и находится среди бесконечных циновок.
— Скатай плотно. Недостаточно плотно! Скатай плотней!
Черт возьми, а это тут при чем?
— Зачем мы…
— Никаких «зачем», глупец! Никаких зачем! Делать! Делать хорошо, делать правильно, делать, как говорит Досю, делать, делать, делать!
Боб подчинился. Он скатывал тростниковые циновки в плотные рулоны, обматывал их веревкой и туго связывал. У него в голове мелькнула абсурдная мысль, что он перевязывает член слону, но, когда он улыбнулся, Досю больно ударил его прутом.
— Никакой шутка, черт побери, глупый гайдзин!
Наконец Боб скрутил все циновки. Ему потребовалось какое-то время, чтобы наловчиться, но в конце концов у него стало получаться довольно быстро. Когда все циновки были скатаны, их набралась солидная куча, штук семьдесят пять или восемьдесят.
— А теперь мочить!
— Что?
— Мочить, черт побери! Мочить!
Как выяснилось, под этим подразумевалось то, что все скатанные в тугие рулоны циновки нужно сложить в большое корыто, а затем взять шланг и наполнить корыто по самые края. Уже стемнело. Какой это был день? Боб решил, что третий, хотя это запросто мог быть и четвертый день, а может быть, только второй. Кто мог сказать? Кто мог сказать, когда уймется этот маленький садист? Кто мог сказать, когда придет конец…
— Сейчас ты спать. До рассвет. Два часа. Потом мы резать.
— Резать?
— Да, больше никакой ерунды. Меч есть для того, чтобы резать. Если не резать, это не есть меч. Мы резать, резать хорошо, резать сильно, или я давать тебе пинок под зад, бестолковый гайдзин, и посылать ко всем чертям.
Три часа спустя, немного отдохнув, но по-прежнему едва держась на ногах, Боб стоял во внутреннем дворике. Досю приказал ему установить пять скатанных циновок, пропитавшихся водой, на пять массивных деревянных подставок с заостренным вертикальным штырем. Рулоны сползли по штырям и застыли навытяжку, словно солдаты.
— Тамесигири.
— Хорошо.
— Сначала смотреть, потом делать.
Старик-японец взял меч, поклонился ему, затем достал из ножен. Крепко схватив рукоять, он повернулся к пяти скатанным циновкам на пяти штырях.
— Кияй! — выкрикнул Досю и так стремительно, что Свэггер едва сумел проследить за его движениями, пронесся через строй, сжимаясь в пружину и распрямляясь.
Шелест лезвия в момент искривления, мелькание полоски света, мимолетная тень, ощущение сознательного возмущения Вселенной — и меньше чем через секунду старик аккуратно разрезал все пять циновок под углом приблизительно сорок семь с половиной градусов, сказал что-то про «гладкость» и застыл неподвижно.
— Теперь делать ты. Тамесигири. Пробный удар. Должен резать по-настоящему. Представить перед собой враг. Делать. Делать хорошо.
Боб отвесил поклон божеству, обитающему в мече, — не потому, что верил в него, а просто чтобы избежать лишних сердитых окриков, — достал клинок из ножен и приблизился к ближайшей скатанной циновке.
— Дзёдан-камаэ! — крикнул старик, предлагая поднять меч высоко.
Правша Боб принял соответствующую стойку, выставив одну ногу чуть впереди другой, пошире раздвинул руки на рукояти и сосредоточился на мысли об убийстве.
— Кияй! — крикнул он и со всей силой обрушил меч под углом сорок пять градусов на туго скатанный тростник.
Погрузившись в рулон всего на полдюйма, меч задрожал у него в руках и застыл.
— Нет, нет, нет! — закричал маленький человечек. — Угол совсем плохой, большая глупость. Угол лезвие должен быть такой же, как угол меч, или получаться вот такая дрянь. Я тебе говорить. Делай, как я сказать.
Боб снова повернулся к своему тростниковому противнику и тряхнул головой, стремясь прогнать из нее все мысли, стараясь чувствовать себя не идиотом в банном халате, который собрался резать длинным ножом циновки, а свирепым воином-самураем, готовым сразиться с врагом.
Меч двигался будто сам собой; ум Боба оставался совершенно пустым, и на мгновение он подумал, что промахнулся, настолько все прошло гладко, но затем с ленивым изяществом мертвеца верхняя половина рулона сползла с нижней и упала на пол.
— Снова!
Снова, снова и снова.
В какой-то момент Бобу удалось выполнить последовательность из двух ударов: полоснуть лезвием в одну сторону, гироскопическим движением локтей от середины плеч развернуть меч и ударить в другую сторону. Ему казалось, у него начинает получаться; он проникался ощущением силы, сосредоточенной у него в руках, слегка корректировал движение лезвия, резал не одними руками, а «серединой тела», то есть вкладывал в удар всю свою массу. Кроме того, ему доставляло странное удовлетворение видеть, как от его меча беспомощно падают рассеченные пополам рулоны тростника.
— Не хорошо, — наконец заключил Досю, — Может быть, ничего. Но делать хорошо нет времени. Теперь ты немного уметь резать, так что завтра мы учить тебя сражаться.
— Плавучий ощущение в большой и указательный пальцы, средний палец не напряжен и не расслаблен, последний два пальца напряжены. Когда ты брать в руки меч, ты должен сосредоточиться на том, чтобы разрезать свой враг. Никакой скованность. Рука живая. Я не любить скованность в мечах и руках. Скованность значит мертвая рука. Гибкость есть живая рука.
«Ну да, конечно, легко тебе говорить», — размышлял Боб, наблюдая за тем, как Досю изящно и плавно поднял свой меч — свернувшаяся перед броском змея, взлетающий лебедь. Все мышцы работали в полной слаженности.
Боб попытался скопировать это движение, ощущая, как все его тело сопротивляется, чувствуя себя смешным — этакий босой Фред Астер с бутафорским мечом в спортивном зале.
— Нет! Нет, снова никакой мысль. Никакой мысль. Слишком много мысль.
Ну а это-то что значит?
Боб попробовал сосредоточиться, но при этом подумал, насколько ему стало бы проще, если бы Досю разложил все по частям: один, два, три, затем четыре, пять, шесть — и можно было бы отточить каждое движение по отдельности и…
Прогнав приступ отчаяния, Боб попытался прочувствовать движение, медленный разворот бедер, поднятие рук, это проклятое «плавучий ощущение в большой и указательный пальцы», но — с тем же успехом.
— В один время, Свэггер, — строго произнес Досю, имея в виду черт знает что.
— Но я…
— Не говорить! Один время. Один время!
Что означает это «один время»?
— Сделать щит из кулаки.
— Я…
— Наклонить тело вбок.
— Хорошо, но…
— Держать плечи вровень с кулаки противник.
— Попробую, если…
— Держать дальняя нога открытой, Свэггер.
— Вот так?
— Принять такой же стойка, как твой противник.
Боб пытался выполнить все это, и, разумеется, у него ничего не получалось. Не было ни конца, ни продвижения вперед, ни начала, ни окончания, ни плана занятий. Досю отдавал туманные приказания, криками призывая «приближаться к не думать!», словно приказывал новобранцу упасть на пол и сделать пятьдесят отжиманий. И все это продолжалось, бессмысленно, бесконечно. Четвертый день? Пятый? Вечер первого дня? Кто может сказать? В определенный момент Боб понял, что выдержать можно только одним способом — не думать о том, когда всему этому наступит конец. Не думать о том, когда все останется позади. Тут нет начала и конца. Надо сосредоточиться только на том, что перед тобой. Делать все в точности так, как говорят. Делать и не думать, не анализировать, не пытаться «выучить». Просто делать, черт побери, и не искать пространственно-временных и причинно-следственных связей, не разбирать, что сначала, а что потом. Смотреть на все как на стрельбу (и это действительно помогло). Научить свое тело вести себя определенным образом. Тело знает, что делать, поэтому ему не надо давать указаний; оно действует на подсознательном автопилоте, отсутствует ощущение «управления», просто вся работа связана в единое целое — и тело учится, не сообщая об этом своему владельцу.
Наверное, он все-таки начинал потихоньку осваиваться.
Свэггер, стоя на четвереньках, моет пол в додзё.[22] С помощью мягкой влажной тряпки и ведра с теплой водой оттирает каждый квадратный дюйм. Выпрямляясь, он принимается за деревянные стены и, при его росте, достает дотуда, докуда до него никто не доставал. Он полностью отдается работе и гордится тем, что выполняет ее хорошо.
И в процессе уборки Свэггер доходит до маленького алькова, где выставлены на всеобщее обозрение скудные сокровища, свидетельства честолюбия. Он понимает, что это своеобразный алтарь, духовное сердце этого додзё, место, куда идут молиться страждущие.
А увидел Свэггер под полотнищем с непонятными иероглифами и фотографиями пожилых людей, которые, должно быть, основали эту школу, или стиль, или что там еще, множество снимков из прошлого, на которых были изображены мужчины, юноши и мальчики, а в последние годы и девушки. Все обливались потом, у всех на лицах были торжествующие улыбки, все были в кимоно и с мечами. Боб безошибочно находил на фотографиях Досю, а на ранних снимках — и своего проводника в это безумие, доктора Отову, невозмутимого и интеллигентного. На одной фотографии Отова и Досю были сняты вместе с мальчиком, который, судя по разрезу глаз, умному рту и упрямому лбу, был сыном Отовы. Мальчик держал в руках какой-то трофей, все трое были вспотевшие и счастливые. Все это напоминало семейный альбом с фотографиями юношеской бейсбольной лиги семидесятых годов. И все это было таким далеким во времени и в пространстве, но в то же время говорило о неразрывной связи отцов и сыновей, идущей через многие поколения.
Такие фотографии можно увидеть в любом уголке Арканзаса, но только обычно с подстреленным на охоте оленем, бейсбольной битой или футбольным мячом вместо деревянных мечей. Все они похожи между собой: отец передает сыну свои знания, тот с жадностью тянется к ним.
— Свэггер! А теперь меч. Быстро!
Досю подобен сержанту из учебки. Он громогласен, настойчив, требователен. Но самое трудное — то, что нет никакого прогресса в привычном смысле этого слова, нет ощущения перехода от одного к другому. Грани событий размыты и сливаются друг с другом. В какой-то момент — начало неопределенно — Боб перешел к ката, последовательностям движений с мечом, ритмических наступательных выпадов. Лезвие поднималось вверх, плавно облетало вокруг плеч, занимая определенное идеальное положение, затем обрушивалось вниз, и во всем этом непременно сквозило изящество, а не одно лишь проявление грубой физической силы. Казалось, все движения подчиняются динамике гармонических колебаний. Боба не покидало ощущение, что он держит в узде порыв энергии, который поднимается от бедра, растекается через тело к противоположному плечу, разливается до самых кулаков, которые направляют его затем в противоположные стороны, увлекая лезвие с поразительной скоростью и огромной силой, причем все это происходит на подсознательном уровне, без усилия мысли. Время от времени Досю лениво взмахивал своим мечом, Боб отбивал удар, чувствуя, как деревянный меч скользит по его собственному деревянному клинку. При этом он высматривал возможность сделать выпад, найти дорогу к открывающемуся телу противника. Потом он разворачивался и приступал к выполнению следующего ката.
— Атаковать и выжидать вместе, — говорил Досю, — Миги йокогири!
И Боб послушно наносил боковой удар.
— Через ложь достигать истина, — говорил Досю, — Хидари кесагири!
И Боб пытался постичь истину через удар слева направо наискось.
Досю уточнял, добавляя:
— Скосить трава и напугать змея, цуки!
И Боб делал выпад, стараясь напугать змею.
Затем, чтобы было совсем уж понятно:
— Использовать мысль, чтобы приблизиться к не думать, использовать сосредоточенность, чтобы приблизиться к несосредоточенность.
Тогда Боб попробовал прибегнуть к скорости. Наследственный дар Свэггеров — быстрые ловкие руки.
Развив максимальную скорость, Боб нанес горизонтальный удар, однако Досю отнесся к этому так, будто он высморкался в полковое знамя или сделал что-то еще более непристойное.
— Нет! Нет! Скорость неправильная. Скорость плохая. Скорость больная, Свэггер. Скорость нет. Нет скорость!
На этот раз странный маленький человечек был не просто возбужден; он был чем-то явно расстроен.
— Скорость больная. Скорость плохая.
Досю повторял это снова и снова.
«Не думай о скорости, — мысленно предостерег себя Боб. — Если нацелиться на скорость, все пойдет наперекосяк. Нет, нет, нет. Медленно, уверенно, гладко. Гладко значит быстро. А быстро не значит быстро. Быстро значит медленно. Гладко значит быстро. Действуй гладко».
— Луна отражаться в холодный ручей, как в зеркале.
Это было самое странное высказывание, однако именно к нему постоянно возвращался Досю. Туманное, даже остроумное, какая-то азиатская шуточка из старого телевизионного шоу. В ней было что-то застенчиво «мистическое».
Боб вспомнил Йоду из какого-то эпизода «Звездных войн»: «Не надо пытаться. Надо делать или не делать. Пытаться не надо». Что-то в таком духе. И действительно, он стал похож на постаревшего неумеху Люка Скайуокера, оказавшегося на незнакомой планете вдали от дома. Он пытается постичь поэзию коротышки-колдуна, которая сработает только в том случае, если в нее поверить, однако он не может поверить в нее сердцем, потому что он душой и телом морской пехотинец Соединенных Штатов и верит в силу приказов, в силу традиций, в то, что ни в коем случае нельзя сдаваться в плен, и в то, что оружие нужно разобрать перед тем, как чистить.
Однако, сознавал Боб, само по себе это тоже какая-то форма дзен-буддизма, бусидо или что там еще проповедует этот коротышка. Все дело не в действии, а в вере. Нужно полностью отдаться, поверить. Нужно отдать самого себя, потому что чем больше тебя, тем меньше веры и тем сильнее ты уязвим.
День и ночь слились воедино. После первого утреннего занятия на открытом воздухе Боб больше ни разу не видел солнца. Он спал урывками; его выдергивали из полудремы, тащили в додзё и заставляли выполнять упражнения. Какие-то дети смотрели на него и смеялись. Они находили его до невозможности смешным, этого большого, высокого, неуклюжего, неловкого гайдзина. Иногда улыбался даже Досю.
Однако, похоже, в определенный момент ритм появился — неизвестно откуда. Собственные движения стали казаться Бобу неплохими, может быть, даже хорошими. Чем меньше он старался, тем лучше у него получалось. Возможно, все дело было в том, что, измученному до предела, ему уже было все равно. Но он обучался гладкости.
Досю стоял напротив него; его боккен, длинный деревянный меч, устремился Бобу в лицо, но тот успел отразить удар. Он увидел три следующих шага: можно, не поднимая меч, нанести горизонтальный удар — миги йокогири, который рассечет Досю грудь; можно развернуться, сближаясь с Досю настолько, что тот станет беспомощным, отвести меч назад и нанести колющий удар в грудь — цуки; можно отступить назад, снова принять стойку и ждать следующей, более благоприятной возможности.
Пока Боб размышлял, Досю резал. Отпрянув, Досю освободил отбитый боккен, отступил и ударил Боба в гортань. Если бы мечи были не деревянными, а стальными, Боб оказался бы на полу, пытаясь удержать в теле остатки своих семи пинт крови, однако на это у него не хватило бы быстроты.
Так продолжалось дальше; последовательность боевых ката увеличивалась, Боб их выполнял, видел своего противника, понимал принцип, находил свой шанс, но никогда не успевал им воспользоваться.
— Твою мать! — в сердцах выругался он.
— Луна отражаться в холодный ручей, как в зеркале, — сказал маленький человечек.
Боб пытался выбросить ко всем чертям сосредоточенность, но тогда у него вообще переставало получаться. Во время каждого последующего спарринга ему доставалось все сильнее и сильнее, и удары длинным деревянным мечом, хотя и далеко не смертельные, оставляли болезненные шишки на костях и суставах. Пот тек с него ручьями. Пальцы онемели. Сколько еще это будет продолжаться?
И вдруг все кончилось.
Встав перед ним, Досю посмотрел ему в лицо. И вынес приговор.
— Первый день, восемь ударов — не плохо. Второй день, резать тамесигири — не плохо. Вчера сражаться — хорошо. Сегодня сражаться — совсем не хорошо. Ничего.
— Сегодня не мой день, — пробурчал Боб.
— Не может быть никакой «сегодня не мой день». Ни один якудза не спрашивать: «Сегодня твой день? Хорошо, тогда мы сражаться». Есть только сейчас.
— Я пытаюсь, — словно со стороны услышал собственный голос Боб, ожидая услышать ответ Йоды: «Не надо пытаться. Надо делать».
Однако ответил ему Досю:
— Ты не знать достаточно. Тебя победить кто угодно.
Бобу захотелось сказать: «Но ты же сам говорил, что скорость — это плохо, что хотеть победить — это плохо». Но он сдержался. Зачем спорить? Коротышка разбирается в этом дерьме, а он — нет. Так что не ему указывать на эти противоречия. Нужно просто смириться.
Он поклонился, демонстрируя своему мучителю смирение, и тотчас же увидел, что коротышка этим доволен. Боб придал своему лицу выражение пустоты. Ничего нет. Он ничто. Лишь пустота. Войти в пустоту. Не существовать. Воспользоваться мыслью, чтобы достичь состояния без мыслей.
— Сейчас ты спать.
— Нет, я чувствую себя хорошо. Можно продолжать.
— Нет, спать. Усталый, больной, разочарованный, сбитый с толку. Сосредоточенность нет. Ты спать. Приходить, когда ты просыпаться. Но тогда ты сражаться.
— Сражаться?
— Точно. Поединок. Но ты должен победить.
— Я обязательно одержу победу.
— Ты должен победить. Не победить — я давать тебе пинок под зад. Я не могу тебе ничем помогать. Ты уходить. Свэггер все равно скоро умирать, помогать ему бесполезно.
— Я обязательно одержу победу, — решительно заявил Боб, веря в свои слова.
Ему пришлось по душе это маленькое событие; он почувствовал, что возвращается в причинно-следственное пространство. Это был конец, кульминация, в противоположность бесконечной дороге по бесконечной равнине. Он будет сражаться, он победит, он пойдет дальше. Определенность доставляла удовольствие.
Досю поклонился, Боб ответил на поклон и ушел. Он направился на кухню, где его ждала на удивление сытная трапеза, и Боб с жадностью расправился с ней. Затем пожилая женщина, то ли мать Досю, то ли его сестра, то ли служанка — никто не представлял их друг другу, — отвела Боба в комнату, где он еще ни разу не бывал. Там он обнаружил современный душ. Женщина ушла, он разделся и насладился роскошью обжигающе горячей воды, ощущая, как она ласкает его болящие мышцы и ноющие, распухшие суставы. Затем, закутавшись в полотенце, Боб отыскал рядом с кухней свою койку. Кто-то застелил ее свежей льняной простыней, и Боб устроился спать с неслыханными удобствами.
Он спал до тех пор, пока не проснулся сам, увидев свет.
«Я готов, — подумал он. — Я одержу победу».
Обнаружив рядом с койкой комплект свежей одежды, Боб надел армейские трусы, натянул штаны хакама, которые он уже умел завязывать — все эти маленькие узелочки и ленточки — аккуратно и красиво. Полностью облачившись, Боб минут двадцать разминался, разогревая мышцы. Наконец, взбодрившийся, он прошел в зал.
Там его уже ждали Досю и соперник.
— Ты должен победить, — сказал Досю. — Никакой пощада, никакой колебание, никакой сомнение. Отдаваться весь. Становиться пустота.
— Я… — начал Боб и осекся, увидев своего противника.
Дело было даже не в том, что противник был лет десяти от роду и четырех футов роста. Все было гораздо хуже. Это была девочка.
Глава 25 «МЕНЯЮЩИЙСЯ МИР»[23]
Ник Ямамото обрабатывал клубы. На окраинах, в центре, по всему городу. Он обошел навороченные заведения из стекла и хрома в Гиндзе, самом роскошном токийском районе ночных развлечений. За это ему пришлось выложить кругленькую сумму, потому что Гиндза, вероятно, является самым дорогим кварталом в мире, однако Ник только что передал два фунта чистейшей марокканской «белой девочки» одному из второстепенных заправил якудзы, поэтому дома у него по всем ящикам были распиханы пухлые пачки банкнот, и он ничего не имел против того, чтобы швырять деньгами направо и налево в поисках сенсации, которая позволит ему снова подняться к самым вершинам журналистики.
А уж это будет всем сенсациям сенсация: Кондо Исами, легендарный убийца-якудза, человек, окутанный тайной и обагренный кровью, выполняющий для нового большого хозяина новую большую работу. Рассказ о нем сделает его знаменитым. Господи, как же Ник любил этот грязный город!
Однако в Гиндзе ему так ничего и не удалось раскопать. Ник переместился в квартал гомосексуалистов, исходя из того, что в рядах якудзы встречаются и чисто голубые, и те, кто причаливает к обоим берегам. Именно сюда они ускользают, чтобы отдохнуть, расслабиться, забыть кровавые разборки, составляющие столь значительную часть их жизни. И тут и там кто-нибудь может настолько расслабиться после одного-двух галлонов саке, что проболтается продажному мальчику, который в свою очередь тоже кому-либо проболтается. Иногда голубая часть Токио узнаёт новости задолго до «правильной». Ник посетил «Туз», «Странную женщину и ее подружек» и «Адвокат».
Но нет. Гомики молчали, а если и говорили, то не с ним, нормальным парнем с обесцвеченными волосами и обилием денег, которые словно жгли ему карманы.
Не повезло Нику и в Акасаке, еще одном квартале ярко освещенных улиц, заполненных барами, клубами и злачными заведениями, в первую очередь массажными салонами, этими скользкими дворцами гигиены и орального секса, правда уже не такими шикарными, как в Гиндзе. В этих массажных салонах масса болтливых ртов. Но опять — ничего. Все молчали.
Ник обращался к вышибалам, барменам, официанткам, музыкантам, полицейским, наркоторговцам, мелким бойцам якудзы, к тем, кого он знал, и к тем, кто был наслышан о нем. Он разбросал целое состояние, обходя одно за другим все заведения: «Пещера», «Крокодил», «Фукурики ицидза», «Синдзуку пит-инн», «Нанбатей», «Маниакальная любовь» и «Кельтский воин». В этих местах ему сообщали новые имена и названия, и он переходил в другие места, обращался к другим людям, но всюду слышал то же самое предостережение из самых разных уст:
— Малыш, не стоит расспрашивать про этого человека. Он не любит шутить. Если до него дойдут слухи, что ты им интересуешься, он навестит тебя как-нибудь ночью и нарежет из тебя лапшу.
— Я все понял. Просто я тут кое-что услышал, и мне бы хотелось разложить все по полочкам.
— По полочкам разложат вас, Ямамото-сан. Вы умрете во имя славы «Токийского вестника». Вы к этому стремитесь?
— Спасибо, приятель.
— Удачи вам, дружище.
Ник навестил «Ниси адзабу», «Сибуйя харадзуки» и даже «Эбицу», заведение, популярное среди экспатриантов, хотя трудно было представить, чтобы какой-то гайдзин проведал о чем-либо раньше коренного японца.
Нет, нет и еще раз нет. Вместо этого Ник наткнулся на внутренний скандал якудзы, который не имел никакого отношения к тому, что его интересовало. И все же это было хоть что-то, причем он слышал об этом в самых разных местах. Все члены якудзы рано или поздно начинали говорить о порнухе, и все переходили к одному и тому же. Ребята из киностудии «Империал» обзавелись хорошими связями в Америке и решили обделать одно дельце; похоже, они договорились с западными порнозвездами, светловолосыми красотками, и дело выглядело очень многообещающим, если только им удастся получить лицензию на импорт. Тот, кто будет поставлять американский товар на японский рынок, заработает целое состояние, поскольку всем известна страсть японских мужчин к блондинкам. Ну а если к тому же научить белых женщин делать то, что делают японки: групповуха в метро, «поросячьи пятачки», фантазии в туалете, изнасилование, учительница, стюардесса, бизнес-леди, — тогда прибыли станут колоссальными. Однако до сих пор еще никому не удавалось преодолеть запрет на ввоз иностранной продукции; ни у кого не хватало «смазки», чтобы провезти ее через таможню. На пути этого стоял один человек.
Мива по прозвищу Сёгун возглавлял кинокомпанию «Сёгунат аудио-видео» и славился своей свирепой решимостью сохранить порнографию в Японии исключительно японской. Сёгун не жалел времени и сил, работая над тем, чтобы законы оставались неумолимо строгими. Любая американская компания, которая попыталась бы основать дело в Японии, непременно бы попала в силки юридических неприятностей и полицейских преследований. Не вызывало сомнений, что Мива — оголтелый националист, как и многие заправилы якудзы, связанные с бизнесом, и многие заправилы бизнеса, связанные с якудзой.
Сёгун возглавлял Всеяпонское видеообщество (ВЯВО) — профессиональное объединение, представляющее интересы «большой порнографии», — и работал в Комиссии по этическим нормам художественного кинематографа, которая формально регулировала деятельность порнографического бизнеса, однако на самом деле была полностью подконтрольна ВЯВО и была связана с ним прочными узами общих интересов и прямого подкупа. Ключом Сёгуна к власти являлся занимаемый им пост президента ВЯВО, что, в свою очередь, делало его наиболее влиятельной фигурой в Комиссии по этическим нормам. По сути, это делало его хозяином порнографии. Если он потеряет свой пост, он потеряет все. А его срок подходил к концу. По слухам, впервые за много лет руководству других студий, снимавших порнографию — а таких насчитывались сотни, — потекли крупные взятки, целью которых было не допустить переизбрания Сёгуна. Если «Империал» выиграет борьбу за ВЯВО, Комиссия по этическим нормам также окажется у него в кармане и можно будет открывать торговлю с американцами. А каким бы богатым и могущественным ни был Мива, разве сможет он устоять перед неудержимым цунами американского капитала, готового проглотить с потрохами невероятно гибкую гимнастику классических японских кошечек? Сёгун ненавидел все американское. И эта ненависть выходила за рамки рационального, она опиралась на культурные традиции. Американская продукция неинтересна, в ней нет мыслей, она является отражением изнеженного, упадочного общества. «Порнография в Японии должна оставаться японской!» — решительно заявил Сёгун.
Вот о чем перешептывались в барах и клубах. Похоже, со дня на день должна была разразиться война, и нешуточная, поскольку и у «Империала», и у «Сёгунат аудио-видео» имелись могущественные покровители. Не исключено, что, когда два порногиганта схлестнутся в схватке за будущее, улицы обагрятся кровью.
— Нет-нет. Пусть в порнобизнесе крутятся деньги якудзы, эти люди не любят переходить к клинкам. Огги скорее замучат друг друга судебными тяжбами, основанными на беспочвенных слухах. Нет, такие люди не убивают. Насмотревшись на кошечек, они сами стали слишком изнеженными и мягкими. Если человек — тряпка, он не видит смысла в том, чтобы отрезать кому-нибудь голову, особенно если после этого голову могут отрезать ему самому.
— Может быть, одна из сторон наняла этого Кондо, чтобы использовать его в качестве устрашения, намека на неприятности в будущем? — спросил Ник своего собеседника, знакомого следователя из Управления по борьбе с организованной преступностью.
— Кондо Исами выше такой мелочовки. Его стихия — точный, изящный удар. Он не пойдет по подворотням со всякой шпаной, словно одержимый срубая головы направо и налево. Это слишком тривиально. Кондо очень разборчив, он соглашается далеко не на каждое предложение. Только и всего. Он ни за что не свяжется с порнографией. Он старой закалки. Ему гораздо ближе все те пуритане, кто ненавидит Миву за миллионы, нажитые на порнухе.
— Хорошо, — сказал Ник, протягивая десять купюр по десять тысяч йен.
— Ого! — одобрительно произнес полицейский. — Щедрые чаевые. Надеюсь, ты никому не расскажешь о том, что говорил со мной?
— Можешь не сомневаться, — заверил его Ник. — Но ведь и ты никому не расскажешь о том, что я разговаривал с тобой?
— Неужели ты думаешь, что я хочу провести последние восемь секунд жизни, истекая кровью в подворотне?
Наконец остался один Кабукичо. Здесь Ника хорошо знали, здесь он был у всех на виду и от этого чувствовал себя уязвимым. Однако у него не было выбора. Он понимал, как это опасно. Кабукичо принадлежал Отани, а Кондо, несомненно, имел с Отани тесные связи. В Кабукичо слишком хорошо налажена связь; любой заданный им вопрос тотчас же дойдет до «ненужных» ушей.
Ник понимал, что ему следовало бы нанять кого-нибудь постороннего, кого-нибудь из другого города, от кого нельзя будет проследить путь к Нику Ямамото, к «Токийскому вестнику», к Кларку Кенту[24] токийской желтой прессы.
Но он не мог устоять перед соблазном. В нем взыграли журналистские гены. Он не мастер изящной словесности, он не стремится к власти, славе и деньгам, ему просто хочется узнать чуть больше и чуть раньше других. Вот что двигало Ником. Это такой экстаз — узнать что-то первым! Экстаз, не сравнимый с тем, что может дать «белая девочка». Вот почему Ник смог оторваться от нее сам, хотя и не имел ничего против того, чтобы время от времени заработать на ней доллар-другой. Как прекрасно это мгновение, когда тебе известно что-то такое, о чем не знает больше никто! Господи, какое же это наслаждение, восторг, кайф!
Ник начал осторожно, с тех, кто сам был такой мелочью, что не мог быть связан ни с чем крупным.
— Что тут у нас происходит? Я имею в виду какие-то перестановки. Один человек, выполнявший для Отани деликатную работу, сейчас работает на кого-то другого, на кого-то большого, со стороны. Ты ничего не слышал?
— Кажется, я знаю, кого ты имеешь в виду, но я никогда не произношу вслух это имя. Очень вредно для здоровья. Этот человек отрежет мне руку и заставит меня съесть все мои татуировки.
Ник ходил повсюду, пробовал все. «Пчела-матка», «С-М клуб», «Мистерия соблазна», «Мо-мо иро» — он побывал повсюду, переговорил со всеми: с проститутками, танцовщицами, трансвеститами, вышибалами, барменами, с какими-то китайцами, какими-то корейцами, какими-то африканцами, с мошенниками, карманниками и так далее.
Ничего. Ничего.
Именно это «ничего» и завораживало Ника. Обычно что-нибудь да есть. К тому времени разговоры о грядущих перевыборах президента ВЯВО и последствиях этого события для противостояния «Империала» и «Сёгунат аудио-видео» стали настолько громкими, что ни о чем другом больше не говорили. Казалось, на все каналы распространения слухов в Кабукичо положили тяжелую наковальню. И вдруг… О, это была такая мелочь. Ничто. Шелест листа, гонимого ветром.
Ник сидел в небольшом клубе, закрытом для посторонних. Было так поздно, что стало уже рано. Здесь любимым напитком было виски, любимой музыкой — блюз, а любимой атмосферой — табачный дым. Сквозь густые клубы с трудом просвечивали голубоватые лампы освещения. Опрокинув стаканчик виски с содовой, Ник повернулся к бармену и сказал:
— Еще один мне, и еще один Папаше.
Папаша работал вышибалой в «Пин-Пине», особом клубе, в котором удовлетворялись любые фантазии японских мужчин, в том числе мечты о молоденьких учительницах, стюардессах и деловых леди. Там имелось даже отдельное помещение, оформленное как вагон метро и предназначенное для тех, кто не мог — просто не мог — обойтись без соответствующих образов. Но даже в этом царстве мечты, ставшей явью, время от времени случались неприятности, и в этих случаях требовались услуги расторопного здоровяка с сильными руками. Коронным номером Папаши был «нежный тычок» — сильнейший удар под ребра, после которого чересчур любвеобильный посетитель заведения мгновенно сдувался; удар, не оставляющий ни синяков, ни ссадин, ничего, кроме всепоглощающей боли.
— Я тебе этого не говорил, — сказал мастер «нежных тычков».
— Да, да, да.
— Клянись именем Господа, что я тебе это не говорил.
— Клянусь именем Господа, дважды.
— У меня есть одна шлюха. Она наполовину кореянка, присматривает за девочками в одном заведении. Крутая девочка. Смазливая, но очень крутая.
— Да.
— Она говорит, все кореянки, работающие в секс-услугах, встревожены, потому что одна из них пропала несколько недель назад.
— Я ничего не слышал.
— То-то и оно: никто ничего не слышал. Просто сегодня она была, а назавтра исчезла. Но вот что известно моей подружке — об этом не знает больше никто, да и она сама догадалась, что к чему, только хорошенько поразмыслив. На следующее утро по дороге на работу она встретила одного типа по имени Нии. Сам он из мелкой шпаны, но ему каким-то образом удалось устроиться в приличную банду и уйти с улицы.
— Нии.
— Нии. Она увидела, как он, пошатываясь, вываливается из бара, где, судя по всему, проторчал несколько часов, заходит за угол и блюет. Его выворачивает наизнанку. Так вот, моя девчонка клянется, что, когда Нии согнулся пополам, его куртка распахнулась и стало видно, что вся нижняя половина его белой рубашки пропитана насквозь чем-то алым.
— О боже…
— Как будто он побывал в кровавой бойне. Так кого же искромсал Нии? Ту самую женщину? Зачем ему понадобилось рубить на части какую-то ничтожную кореянку, а потом прятать ее тело?
— Быть может, он так возбуждается. Новый Джек-потрошитель, что-нибудь в таком духе. А может быть, это просто Кабукичо. Здесь то и дело исчезают какие-то шлюхи. Жизнь идет своим чередом. Только и всего.
— Ну да. Но тут есть кое-что странное. А странное тут то, что вся эта штука с корейской шлюхой была подстроена — девчонки-кореянки говорили об этом несколько недель. В тот вечер хозяин задержал ее допоздна, и она не смогла отправиться пешком до станции метро «Синдзуку» вместе со своими подругами. Она пошла позже, одна, а где-то по дороге к станции рано утром встретила кого-то — и просто исчезла. А окровавленная рубашка Нии позволяет предположить, что ее разрезали.
— Гм. Это не обязательно дело рук братства «Восемь-девять-три».
— Обязательно. Потому что все это было спланировано. Кто-то заплатил за то, чтобы, понимаешь, отбить эту девчонку от стада, задержать ее, затем отпустить, чтобы можно было наедине ее искромсать, разрезать, нашинковать, изуродовать. Ни фараонов, ни свидетелей — все говорит о том, что это дело было спланировано. Ну а бедняге Нии пришлось быть уборщиком. У него не хватило бы бабок, чтобы провернуть такое самому. Он никто, слуга, мальчик на побегушках с половой тряпкой. Но он работает на человека с деньгами, который любит резать.
Теперь Ник видел сам: да, все встало на свои места.
Нии работает на Кондо. Кондо захотелось что-нибудь порезать. Все было устроено через босса Отани. Но для какой цели?
— Ты не помнишь число?
— Помню только, что это случилось вскоре после того, как сгорел тот воин-герой со всей своей семьей. Помнишь? Господи, как же это было печально. Как же это было печально!
— Да, это было печально, — согласился Ник.
Но мысли его уже неслись в другую сторону: все говорит о том, что Кондо разрезал кого-то, имея мощное прикрытие со стороны братства «8-9-3»; Нии ему помогал и искупался в крови, после чего напился вдрызг и проблевался. Это означает, что Нии работает на Кондо. Значит, если Ник хочет выяснить, что замыслил Кондо, ему нужно сначала выяснить, что замыслил Нии. Начать с Нии.
Получить доступ к полицейским архивам оказалось нетрудно. Нии, Такаси «Джо». На фотографии было изображено квадратное лицо с длинными волосами под «Битлз», в глазах — ни искорки ума или целеустремленности. Снимок был сделан, когда Нии исполнилось восемнадцать лет и его арестовали в первый раз. Послужной список впечатляющий, но ничего из ряда вон выходящего. Кража со взломом, срок в колонии для несовершеннолетних, ограбление, разбойное нападение, ношение холодного оружия (вакидзаси), — непоседливый подросток-шпана, рыщущий по переулкам Кабукичо в поисках развлечений и собственной смерти. Нии был членом уличной банды «Бубновые спины». Это означало, помимо всего прочего, что у него на спине, скорее всего, имеется татуировка в виде бубнового туза. Со своими дружками Нии устраивал маленький ад. Затем он отсидел два года в тюрьме строгого режима за то, что избил до полусмерти владельца одного магазинчика. Очевидно, Нии пытался привлечь к себе внимание якудзы, но тщетно. И все же два года назад он попросту исчез.
Неужели господин Нии перевернул страницу и стал образцовым гражданином? И сейчас продает страховые полисы, жареных цыплят, кроссовки или порнографические журналы? Едва ли. Гораздо более вероятно другое: он осуществил мечту своей жизни. Кто-то его подобрал, отмыл, отчистил, подстриг, переодел в костюм и дорогие черные итальянские ботинки с острыми носами, научил завязывать галстук и ухаживать за ногтями, и вот теперь Нии, невидимый, скользит по укрытому от посторонних глаз преступному миру якудзы, при необходимости жестокий, но это уже жестокость не тупая, не бессмысленная, не жестокость, вызванная порывом внезапной ярости, — нет, теперь ее сдерживает и направляет в нужное русло мудрый босс.
Нии? Вы не видели Нии? Вам ничего не известно о Нии? Где Нии ошивается? Помните Нии? Того малыша Нии, который вечно попадал в беду и якшался с «Бубновыми спинами»? Странно, что вы упомянули «Бубновые спины», потому что, по-моему, новый вышибала в «Молоке» одно время был в «Бубновых спинах».
Нии? Ах да, Нии. Не знаю, что с ним. Хотя на таких никто не обращает внимания. Внешне самый обычный человек, в нем ничто не бросалось в глаза. О, кое-что, кажется, вспомнил. Да, точно: Нии любил бывать в баре под названием «Кельтский воин». Он всегда бредил самураями. Видел себя последним Тосиро Мифуне. Да, «Кельтский воин», это на Ниси-Азабу.
Вот каким образом Ник в конце концов оказался в четверг вечером в «Кельтском воине» на Ниси-Азабу. Он сидел в одиночестве у стойки, общаясь со стаканом бурбона с водой и с собственной головной болью, пытаясь сохранить рассудок под оглушительный рев многонациональной рок-группы, исполняющей боевые песни кельтов с сильным японским уклоном, — подобное насилие над слухом невозможно описать и уж тем более вынести. Заведение было второсортное: повсюду пластмассовые щиты и нелепые рыцарские мечи, дешевый реквизит к фильму «Черный щит Фоллсуорта», все по-голливудски фальшивое. На стенах висели головы лосей и оленей, а за стойкой даже красовался витраж. Настоящий замок короля Артура, точнее, японская версия американской версии истории о рыцарях Круглого стола, которая с самого начала не имела ничего общего с правдой.
И вдруг Ник увидел Нии.
Не заметить его было бы очень легко. Ник обратил внимание лишь на тупую неподвижность глаз, на полное отсутствие в них динамики. Нии заметно пополнел и привел себя в порядок. Теперь у него была новая прическа — обработанные гелем волосы длиной полтора дюйма торчали вертикально вверх. Темный костюм, белая рубашка, галстук. Он мог бы сойти за простого клерка, если только не приглядываться к тому, как изящно обвивает массивную шею ворот рубашки, как безукоризненно сидит пиджак, лишь кое-где тронутый рябью едва заметных складок, как мягко струится ткань отутюженных брюк — так могут вести себя только лучшие сорта шелка. Черные ботинки, с виду неказистые, но на самом деле очень дорогие, английские, ручной работы, какие могут позволить себе только руководители крупных компаний, дипломаты и влиятельные адвокаты. Одним словом, гардероб Нии тянул на добрых шесть тысяч долларов, хотя на первый взгляд и казалось, что он стоит не больше четырехсот.
Его манеры стали отточенными, уравновешенными, неторопливыми, уверенными. Ну разве этот человек не достиг успеха в жизни? И Нии нес это величие легко, отметил Ник, наблюдая за тем, как подобострастно суетятся вокруг его «объекта» официанты и как великодушно, но спокойно он на это отвечает. Ник понял, что перед ним счастливый человек: хорошая работа, много денег, которые можно тратить по собственному разумению, будущее, с каждым днем становящееся все более светлым.
Ник наблюдал за разворачивающимся перед ним спектаклем. Время от времени к Нии подходил то один из музыкантов, то кто-нибудь из прислуги. Посетители заискивающе здоровались с ним, он отвечал улыбкой или прикосновением к плечу. Вокруг него вертелись молодые девушки, словно он был намазан медом: девицы такого типа с ума сходят от гангстеров.
Какое-то время Нии купался в море всеобщего преклонения, гордый сознанием того, что сделал себя в жизни. Затем он сказал пару слов одной из девушек — на вид самой молодой, отметил Ник, еще совсем девочке, — и та поспешно засеменила к своим подругам, чтобы забрать плащ и предупредить их, что домой она возвращается одна. Они с Нии ушли, держась за руки. Ник выждал какое-то время, оставил на стойке щедрую пачку йен и последовал за ними.
Некоторое время он наблюдал за парочкой с противоположной стороны улицы, затем Нии завел свою юную спутницу в многоквартирный жилой дом и направился к лифту. Ник быстро перебежал улицу и устроился напротив угла здания, так, чтобы были видны сразу две стены. Он помолился о том, чтобы квартира сэра Ланселота Нии выходила на одну из этих двух сторон, и действительно через пару минут в окнах на пятнадцатом этаже вспыхнул свет, удостоверив, что именно здесь находится логово Нии. Сосчитав окна, Ник установил, как далеко от угла здания расположена квартира, чтобы завтра можно было без труда в нее проникнуть.
Ник пришел рано. Он был в парике, представляющем собой копну черных волос, так как ему пришло в голову: незачем трубить на весь мир о том, что светловолосый мужчина, слишком пожилой для того, чтобы красить волосы, выслеживает известного убийцу-якудза.
Долго ждать ему не пришлось. Подъехал черный «мерседес», лимузин С-класса. Нии, одетый с иголочки для нового трудового дня, и растрепанная девчонка, у которой был такой вид, будто ее оттрахали до потери рассудка, сели сзади, и машина рванула с места.
На мгновение Ник ощутил возбуждение: а что, если в машине находится сам Кондо? Но нет, вряд ли Кондо будет заезжать за членами своей банды. Нет, скорее всего, он нанял лимузины, чтобы забирать ребят и доставлять их туда, где им предстоит работа в этот день.
Перейдя улицу, Ник зашел в подъезд и мельком показал швейцару документ. Это было весьма внушительное удостоверение, подтверждающее, что его обладатель является представителем отдела диетического питания Министерства здравоохранения. Оно было совершенно подлинным, за исключением того, что в нем значилась фамилия его настоящего владельца, хотя лучший специалист по фальшивым документам в Кабукичо вклеил в него фотографию Ника.
— Я собираю информацию об одном скандале, связанном с землевладением, — сказал Ник. — Меня интересует господин Оно.
Это была первая фамилия, на которую он наткнулся, изучая телефонный справочник.
— Сейчас я ему позвоню.
— А вот этого делать не надо, если не хотите вылететь с работы.
— Слушаюсь.
— И не надо предупреждать уборщика. Я знаю, как у вас все налажено. Вы звоните уборщику, предупреждаете его, и он попадает к Оно раньше меня. У Оно появляется время, чтобы уничтожить инкриминирующие документы, он дает уборщику щедрые чаевые, и тот делится с вами. Я не дурак.
— Уважаемый, Дзодзи находится на четырнадцатом этаже; он ни о чем не узнает.
— Вот и проследите за тем, чтобы ваш Дзодзи оставался на четырнадцатом этаже.
— Будет исполнено.
Ник установил, что Оно живет на семнадцатом этаже, поэтому он поднялся на лифте на семнадцатый этаж, отыскал лестницу и спустился вниз. На пятнадцатом этаже Ник быстро нашел дверь в квартиру Нии, после чего спустился на четырнадцатый этаж. Уборщика, корейца с тупым лицом, он нашел в подсобной каморке, с сигаретой во рту.
— А, вот ты где, Дзодзо! — радостно воскликнул Ник. — Проклятье, со мной это происходит по два раза на неделе! Я снова захлопнул входную дверь. Ты мне не откроешь?
Кореец тупо посмотрел на него, пытаясь сообразить, с кем имеет дело.
— Это же я, Нии, из тысяча пятьсот четвертой. Ну же, Дзодзо, поторопись. Я опаздываю.
Если Дзодзо и колебался, то только для того, чтобы получить побольше чаевых. Ник сунул ему банкноту в пять тысяч йен, и они поднялись наверх. Открыв дверь мастер-ключом, Дзодзо поспешил обратно к своей сигарете.
Ник остался в квартире один. Очень мило. Неужели Нии не пожалел денег на то, чтобы нанять дизайнера? А может быть, у него прирожденный дар расставлять мебель. Квартира была обставлена в стиле, принятом у современных якудза, без излишеств и показухи. Ни одной книги, зато целая стена отведена акустической системе и компакт-дискам, пожалуй, всех до одного исполнителей рок-и рэп-музыки. Две полки с творениями киностудии «Сёгунат аудио-видео» и даже — фу, какая мерзость! — кое с чем похуже: продукцией черного рынка с участием маленьких девочек. Нии, у тебя точно что-то не в порядке. Конечно, был еще и телевизор с экраном таких размеров, что на нем, если положить его горизонтально, смог бы приземлиться реактивный лайнер.
Осматривая квартиру, Ник отмечал клише. В одной комнате обстановка была из сплошной черной кожи и сияющего хрома с редкими модернистскими вкраплениями хрустальных фигурок, ужасных и потому баснословно дорогих.
В другой комнате был устроен тренажерный зал, объясняющий происхождение нового тела Нии с целой тонной накачанных мышц. Половина зала была отведена под занятия фехтованием. В углу стоял шкафчик с мечами — деревянными и настоящими, стальными, — и лежала стоика матов.
Спальня представляла собой нечто совсем другое: беспорядочно смятая кровать, вся в пятнах и подтеках, и повсюду запах пота. Кровать отражалась в зеркале на потолке, разоренная, мокрая, вывернутая наизнанку и изувеченная. Девочка, бывшая партнершей Нии в любовных утехах, вероятно, даже не заметила, что была прикована к кровати, однако наручники, закрепленные на изголовье кровати, свидетельствовали о том, что именно так прошла ночь. В ногах кровати лежал моток веревки, так что Ник, вероятно, еще и связывал свою жертву. Судя по всему, вид молодой красивой девушки, связанной и беспомощной, сотворил с Нии чудеса: на дубовом паркете раздавленными змеями валялись три наполовину полных презерватива. «Эх, где мои двадцать пять!» — с тоской подумал Ник.
Так, гардероб: еще десять костюмов из черного шелка, все с бирками дорогого итальянского портного, три пары черных ботинок, двадцать пар практически новых кроссовок и стопка аккуратно отутюженных белых рубашек. Было ли здесь что-нибудь, носящее отпечаток самого Нии? Пока что Ник ничего такого не видел.
Усевшись за письменный стол, он принялся крайне осторожно рыться в ящиках, следя за тем, чтобы оставлять все на месте. В одном ящике — пачка спортивных журналов, в другом — банковские счета, по которым было видно, что Нии действительно устроился очень неплохо. В третьем — выполненный мастером эскиз, на котором не осталось никаких следов бубновых тузов, умело растворенных в абстрактных узорах. Эскиз был подписан Большим Одзу, знаменитым мастером татуировки из Синдзуку. В свое время Ник сделал материал о Большом Одзу, любимом художнике якудзы. Большой Одзу был специалистом по змеям, львам, тиграм и медведям, а также веерам, свиткам, бамбуку и иероглифам, — самым популярным мотивам якудзы. Он по-прежнему наносил татуировку по старинке — не электрической иглой, а медленно, болезненно, бамбуковой щепкой. Итак, Нии, раздобыв деньги, нанял Одзу, чтобы тот создал рисунок, в котором потонули бы узоры низкосортной уличной банды, тем самым стирая неприглядное прошлое.
Но Ник был знаком с Большим Одзу и помнил, что тот перед ним в долгу, ибо после опубликования статьи желающие воспользоваться услугами мастера выстраивались в длинную очередь, и среди них были звезды кино и кумиры рок-музыки. И еще Ник знал, что мастеру, делающему татуировку, люди выкладывают то, о чем они не говорят своим женам, проституткам, психоаналитикам и дружкам.
Глава 26 КАТА
— Я не ударю ребенка, — решительно заявил Боб.
— Может быть, правда. Но она тебя ударять, часто, — сказал Досю.
Он бросил несколько фраз девочке, и та начала тщательно облачаться в защитные доспехи.
— Это есть интересно, — продолжал Досю. — Мой ученица Суэко. Она будет в безопасность от твои удары, и она есть вооружена боккен. Поскольку она короткий, боккен длинный. Она ударять, очень больно. Ты не иметь доспехи. С другой стороны, у тебя синса, так что даже самый сильный удар не делать Суэко больно, если, конечно, ты смочь ее ударять. Также поскольку ты длинный, синса короткий. Однако ты должен ее победить.
— Сэр, вы ничего не понимаете. Я не могу ударить ребенка.
— Не смотреть и не видеть форма. Смотреть на близкое как на далекое, на далекое — как на близкое.
Боб уронил синсу на пол.
— Нет, сэр. Моего отца в детстве страшно бил его собственный отец. Мой отец ни разу не поднял на меня руку и внушил мне, что ребенка бить нельзя.
— Тогда ты должен уходить, — Досю указал на дверь. — Ты еще не знать достаточно. Твой рассудок мягкий. Если ты оставаться, ты быстро умереть. Возвращаться в Америка, пить, есть и забывать. Ты не есть воин. Ты никогда не быть воин.
Боб увидел, как ловко обвел его Досю. Странный старик поставил его в положение, где от силы и скорости не будет никакого толка; он не сможет использовать эти качества против ребенка, даже если захочет. Этому помешает нечто такое, что въелось в самые потаенные глубины его души. С другой стороны, он должен победить. Если он не победит, это явится поражением. Он никогда не станет фехтовальщиком.
Так как же победить? Надо найти какой-нибудь способ сражаться мягко. Ему придется предугадывать каждый шаг юной противницы, двигаться, отражать удары, причем на уровне, значительно превышающем все, что он показывал до сих пор; а как только ему представится возможность, он ею воспользуется, однако сознательно отрешившись от тех качеств, которые делают его мужчиной, — от силы и скорости. Он должен взять под строгий контроль свое подсознание и усилием воли заставить себя обрести мягкость, которой у него нет, и стремительность, которой нет ни у кого. Он в ловушке.
— Я буду сражаться, — объявил Боб. — Но если я сделаю ей больно, я сделаю больно вам. Вот какими будут ставки, сэр. Хорошенько это уясните. Подвергая девочку опасности, вы рискуете собственной задницей. И не надейтесь, что вам поможет ваше карате. Я тоже знаю кое-какие приемчики. Мне довелось побывать в переделках. Вот, взгляните.
Задрав край своей глупой короткой курточки, Боб показал старику те места, где раскаленный металл пытался оборвать его жизнь. Шрамы, застывшие звезды вздутой плоти, длинные рубцы, затянувшиеся, но не исчезнувшие до конца, свидетельства давно забытой войны.
— Я повидал много крови, как своей собственной, так и чужой. Я умею драться, помните об этом.
На Досю это не произвело никакого впечатления.
— Тогда, возможно, ты быть хорошо против эта девочка. Но я думать, она надирать твоя задница.
Боб повернулся к девочке. Ее сосредоточенное лицо было скрыто в тени маски. Ее боккен, крепкая белая дубовая палка, напоминал Экскалибур или тот клинок, которым был обезглавлен Кира; если она им ударит, будет больно. Очень.
Сейчас девочка походила на крошечную жрицу друидов. На голове у нее был шлем с мягкой подкладкой, лицо скрывала стальная решетка, две толстые накладки спускались с шлема, защищая плечи и шею. Торс, а также руки и запястья были закутаны в плотные доспехи; на руках были надеты прочные перчатки. Внешне она напоминала отчасти хоккейного вратаря, отчасти принимающего в бейсболе, отчасти защитника в американском футболе, и на все сто процентов — настоящего самурая.
Они прошли в центр зала, босиком по голому дереву, под деревянными балками, которые поддерживали крышу этого сооружения, больше похожего на храм. На стене висели мечи, вдалеке маячили призраки.
Девочка поклонилась.
Боб поклонился.
— Пять ударов есть победа. И еще правило оберегать голова. Я попросить Суэко бить по голова, только если очень нужно. На войне никаких правила. Побеждать любой удар, можно не по правилам. Понятно? — Досю выждал мгновение и, не допуская вопросов, сказал: — Принять стойка.
Боб отступил назад и принял сеган-камаэ, обычную высокую боевую стойку, выставив меч вперед под углом сорок пять градусов, сведя локти, но не сжимая их, направив острие в глаза противнику. Для обороны такая стойка очень действенна, однако для наступательных действий она не слишком подходит. Суэко тем временем присела в гендан-камаэ, опустив меч вниз и влево. Это была наступательная стойка, из которой легко наносить быстрые удары, но защищаться в ней тяжело.
Боб постарался отыскать ритм, который иногда к нему приходил, а иногда — нет. Он пытался видеть перед собой не «ее», то есть не маленькую девочку; он сосредоточил свой взгляд на боккене, потому что на самом деле тот и был его главным врагом.
Досю встал между ними, поднял руку — и уронил ее.
Боб плавным движением шагнул вперед, девочка чуть отступила влево и вдруг подобно ртути взмахнула мечом снизу вверх — «дракон, выныривающий из воды», — и Боб не успел достаточно быстро поставить блок. С поразительной силой выкрикнув «Хай!», Суэко выбросила боккен вперед в классическом йокогири, и Боб ощутил жалящее прикосновение кончика белой дубовой палки к ребрам. Господи, как же больно!
Боб сообразил: его только что убил ребенок. Если бы это были настоящие мечи, Суэко выпотрошила бы его.
— У Суэко один. У Свэггера ничего.
Его захлестнула ярость, красная и обжигающая. Он чуть было не поддался порыву положиться на свою бычью силу, взреветь и броситься на Суэко, запугивая ее своей тушей, но вовремя сообразил, что ему не хватит скорости и проворства. Искать ответ в стране гнева бесполезно. Девчонка хладнокровно его уничтожит.
Суэко перешла в нападение, Боб отступил, отразив два ее удара. Затем, гибкая и проворная, она распласталась чуть ли не на уровне пола и рубанула его по щиколоткам, однако реакция Боба на этот выпад пришла одновременно с ним самим. Боб осознал, что находится в воздухе, он понимал, что отрываться от земли — большая ошибка, один из «трех запретов», нарушать которые нельзя ни в коем случае, однако в данной ситуации избежать этого было нельзя. Уклонившись от горизонтального удара, он при приземлении ткнул девочку в плечо, покрытое толстым слоем защиты, рядом с шеей, выполнив довольно вялый кесагири.
— Плохой удар, Свэггер. Но все же ты зарабатывать очко. Один — один.
Следующие две серии стремительных ударов были выполнены на гиперскорости. Бобу не удавалось отражать подряд больше трех ударов, а Суэко, напротив, лишь набирала скорость по мере того, как он двигался все медленнее. «Хай!» — и боккен с силой обрушивался на него, один раз по запястью, вынуждая его выронить синсу, другой раз по здоровому бедру — дерево по кости, больно, очень больно. О-ой, мамочка, боль была просто невыносимая.
Пот затуманил Бобу взор, и он заморгал, очищая глаза. Однако они снова заполнились влагой, лишая его остроты зрения.
Боб ощутил страх.
Он попробовал рассмеяться: «В меня стреляли десять тысяч раз, и шесть раз мне доставалось по полной, и вот сейчас я боюсь маленькую девчонку!»
Что сыграло свою роль — страх, смех или и то и другое вместе? Боб почувствовал, как по всему его телу начинает разливаться что-то необычное. Быть может, дело было в затуманенном взоре, быть может, в том, что в спорте называется «вторым дыханием», быть может, он наконец проникся мыслью, что все предыдущее не имеет значения, а есть только настоящее. Однако следующая ката Суэко словно заранее объявила о себе. Боб перехватил ее боккен в нижней трети лезвия, опуская его к полу, пришел в себя на мгновение раньше и полоснул ее синсой по груди — кесагири. Девочка ничего не почувствовала, защищенная толстой курткой, однако от опытного взгляда Досю ничего не укрылось.
— Хай! — торжествующе провозгласил Боб.
— Слишком поздно. Нужно наносить удар и кричать в один время. Смысл нет.
Неудачная попытка. Это поединок, это не война. Но каждый спортсмен знает, что нужно поскорее забывать про неудачную попытку. Когда Суэко снова бросилась вперед, Боб заранее почувствовал, что удар будет нанесен слева, поскольку все предыдущие разы она ударяла справа налево. За долю секунды до того, как девочка сделала замах, Боб сам нанес рубящий удар, возникший из ниоткуда, поскольку он о нем не думал, не готовил его. Удар получился сам собой, и он стал самым быстрым, самым лучшим ударом за весь сегодняшний день, а может быть, и за всю неделю. Боб выкрикнул «Хай!» в тот самый миг, когда кончик синсы как можно мягче и нежнее скользнул по левой стороне головы Суэко, натыкаясь на шлем.
— Убивать, Свэггер.
Отступив назад, Боб снова принял сеган-камаэ. И тут он понял, что было у Суэко такое, чего недоставало ему. Дело не в том, что она сильнее или проворнее. Просто она достигает максимальной сосредоточенности гораздо быстрее, чем он, и ее удары стремительно вытекают один из другого. Ему удается отразить первый, второй, может быть, третий, но к четвертому он уже теряет ритм и пропускает удар.
Однако ответ не в скорости.
Нельзя заставить себя двигаться быстрее, приказав: «Уф! Я должен!» Так ничего не добьешься.
Так где же ответ?
Маленькое чудовище переменило стойку. Суэко приняла ками-хасо, подняла боккен вверх и чуть наклонила его в сторону (так держит биту отбивающий в бейсболе), непрерывно вращая им, поскольку неподвижность означает смерть.
Девочка двинулась вперед, плавно приближаясь к Бобу, а он, уже очень уставший, понял, что потерял быстроту и, если нанесет удар первым, ему не хватит скорости — Суэко без труда заработает четвертое очко, после чего добьет его за считанные секунды, и все будет кончено.
«Так где же ответ?» — размышлял Боб, лихорадочно копаясь в запасе старых приемов и ничего не находя.
Проклятье!
Где же…
Он попытался прочесть ее глаза, но не смог разглядеть их в тени забрала, попытался прочесть движения ее меча, но увидел лишь мелькающее лезвие, попытался прочесть ее позу, но тело девочки оставалось непроницаемой тайной. Вот она перед ним — смерть, враг, все те, кто пытался с ним расправиться и потерпел неудачу, но сейчас они хлынули на него на волне адреналина и целеустремленности, внутренне уверенные в себе, сознающие, что ему не остается ничего другого, кроме…
«Луна отражается в холодном ручье, как в зеркале».
Мусаси произнес эти слова четыреста лет назад; почему они сейчас вдруг всплыли у Боба в памяти? В них не было никакого смысла тогда, нет никакого смысла сейчас и…
Внезапно Боб понял, в чем заключается ответ.
Какая разница между луной на небе и луной в воде?
Никакой.
Они слились воедино.
Нужно слиться воедино с врагом.
Нельзя его ненавидеть, ибо злость есть сентиментальность. Необходимо превратиться во врага. А когда ты станешь им, ты сможешь им повелевать.
Боб тоже опустился в ками-хассо, чувствуя, как его тело начинает подражать телу девочки, следить за каждым ее движением и словно впитывать их, и наконец ощутил, что он чувствует Суэко, понимает ее. Он наперед узнал, когда она собирается нанести удар, потому что почувствовал ту же самую нарастающую волну, и без участия сознания первым полоснул своим коротким мечом. Если бы лезвие было настоящим, оно отсекло бы девочке обе руки. Это сделал меч. Меч увидел шанс, меч нанес удар, и все это — в долю секунды.
— Удар, Свэггер. Три — три.
Казалось, Боб нашел волшебную дверь, ведущую в сознание девочки. Следующий его удар был еще более стремительным. Пробив блок, меч коснулся солнечного сплетения, так мягко, что Боб даже не смог вспомнить, как нанес удар, но все же он ощутил легкую дрожь расщепленной бамбуковой палки, выгнувшейся, чтобы поглотить энергию столкновения.
— Укол, Свэггер. Четыре — три.
Внезапно Суэко охватила злость. Чемпионы не должны проигрывать. Боб ее сломал, она ведь ребенок. Девочка бросилась вперед, объятая яростью, нанося удар сверху. Однако какой бы она ни была быстрой, Боб спокойно ждал приближения ее боккена, летящего к нему в безукоризненном синдзёкугири, чувствуя, что времени у него достаточно. Развернувшись, он снова без каких-либо усилий полоснул девочку под подбородком. Такой удар настоящим мечом, вероятно, снес бы ей голову с плеч.
— Матч закончен! — заорал Досю.
Отступив назад, Боб выпрямился и отвесил низкий поклон. Превратившись в Суэко, он ее любил. Превратившись в Суэко, он вместе с ней испытывал горечь поражения. Радости у него не было. Сейчас не время торжествовать. Боб был польщен тем, что ему выпала честь сражаться с таким мужественным и достойным противником.
Стряхнув с головы шлем, Суэко снова превратилась в ребенка: лицо, не тронутое морщинами, не сформировавшееся, хотя и покрытое каплями взрослого пота, гладкая кожа, проницательные черные глаза. Девочка ответила на поклон.
Она что-то сказала.
— Она говорит: «Гайдзин сражаться хорошо. Я чувствовать, как он учиться. Я чувствовать его сила и честь. Он есть достойный противник».
— Пожалуйста, передайте, что я очень тронут ее великодушием и восхищаюсь ее талантом. Для меня было большой честью учиться у нее.
Они снова поклонились друг другу, и девочка направилась к выходу. На полпути она, еще совсем ребенок, побежала, как школьница, которую отпустили с занятий.
— Что ж, получилось. Я кое-чему научился. Эта штука с луной. Я наконец понял, в чем ее смысл.
— Завтра я говорить тебе кое-какой правда. Я должен говорить по-японски. Не по-английски. Ты знать кто-нибудь, бегло владеть японский?
— Да.
— Ты звонить. Я говорить этот человек кое-какой правда, он передавать тебе.
— Хорошо.
— Я давать тебе правда. Ты сильный для правда?
— Надеюсь.
— Сейчас: мыть пол в зале. Тереть горячая вода. Мыть все поверхности. Идти на кухню, помогать моя мать. Потом рубить дрова.
Окада-сан оказалась на удивление покладистой. Выехав из Токио рано утром, она домчалась до Киото на своей «мазде» меньше чем за пять часов и уже к полудню была на месте. Она поставила машину перед домом, и Боб, мывший посуду под бдительным присмотром матери Досю, первым увидел ее: красивый костюм, стройные ноги, мудрые и спокойные глаза, скрытые стеклами очков, волосы, уложенные во что-то гладкое и сложное с помощью многочисленных шпилек и заколок. Как всегда, все подтянуто, все на месте.
Сьюзен вошла в дом, сменила туфли на высоком каблуке на тапочки и в сопровождении встретившего ее ребенка прошла в спортивный зал, где в отличие от Боба сразу же поклонилась. На Свэггера она даже не взглянула; ее поклон был обращен к приближающемуся Досю.
— Привет, — сказал Боб. — Спасибо за то, что приехала.
Сьюзен повернулась к нему.
— О, наверное, это будет просто замечательно.
Затем она снова повернулась к Досю, и они начали быстро говорить между собой по-японски. Сьюзен задавала вопросы, Досю на них отвечал. Она задала еще несколько вопросов. Они рассмеялись. Снова заговорили серьезно. Досю делал какие-то заявления, Сьюзен мягко возражала, он отстаивал свою точку зрения. Свэггер чувствовал ритм дискуссии — подъемы совпадения во мнениях, падения несогласий, ровную гладь консенсуса.
Наконец Сьюзен повернулась к нему.
— Ну что, все выслушала? — спросил Боб. — Старик говорит, что я полный болван и меня нужно гнать пинками. А я-то полагал, вчера мне удалось показать, на что я способен. Я победил десятилетнюю девочку.
— Эта десятилетняя девочка — Суэко Мори, юное дарование. Она знаменитость. Неделю назад Суэко одержала абсолютную победу на всеяпонских юношеских соревнованиях по фехтованию. Она восходящая звезда. Если ты ее победил, ты кое-чему научился.
— Эта девчонка?
— Эта девчонка возьмет верх над большинством взрослых мужчин нашей страны. Ты готов слушать?
Ее информация несколько укротила недовольство Боба самим собой. Он кивнул.
— Досю говорит: ты учишься быстро. Ты атлетичен. Ты сильный, у тебя есть выносливость. Твоя левая половина сильнее правой, и удар вверх наискось мощнее удара вниз наискось. Досю не знает, чем это объяснить.
— Передай ему, что я все лето размахивал косой, снизу вверх, слева направо. Вот эти мышцы и разработались и накачались.
— Ну, на самом деле ему все равно. Далее, Досю говорит, что у тебя хорошая натура и ты привык трудиться. Он заставлял тебя работать как вола. Если бы у тебя была слабая натура или бы ты не имел привычки у труду, ты не выдержал бы этого изнурительного испытания. Эта твоя сторона произвела на Досю большое впечатление. Уже после первого дня он подумал, что из тебя может получиться хороший боец. И у тебя правильный ум. Нетренированный, но правильный.
— Что ж, поблагодари его от моего имени.
— Ему не нужны твои благодарности. Он тебя не хвалит, а просто говорит то, что есть.
— Разумеется.
— Но, говорит Досю, можно быть слишком атлетичным, слишком сильным, слишком трудолюбивым. Излишне трудолюбивые склонны разбрасываться на мелочи, атлеты склонны полагаться на рефлексы и мускулатуру. Поэтому, хотя ты и освоил движения довольно быстро, у тебя возникли проблемы с интеграцией.
— Он так и сказал, с интеграцией?
— На самом деле он сказал: «с тем, чтобы сливаться воедино со временем».
— Ну хорошо.
— Досю сказал, что вчера наконец под давлением поединка с Суэко Мори ты смог интегрироваться. Твоя кривая познания в этом поединке была просто поразительна. Ты начал его никем, а завершил воином. Ты должен развивать это чувство, это ощущение; в этом твоя единственная надежда.
— Значит, старик считает, что со мной все в порядке?
— Ну, здесь он выразился довольно туманно. По его словам, тебе еще далеко до того, чтобы стать новым Мусаси. У тебя по-прежнему остаются кое-какие проблемы. Но Досю сказал, что у тебя есть и свои преимущества. Таким образом, у него сложилось представление о том, что ты можешь и чего не можешь и как тебе надлежит действовать.
— Пожалуйста, продолжай.
— Досю сказал, что ты не Том Круз. Никаких томов крузов не бывает. Научиться обращаться с мечом за несколько дней или недель можно только в кино. Кстати, этот фильм[25] ему страшно не понравился. Однако в отличие от большинства тебе удалось добиться значительных успехов.
— Отлично.
— Ты должен знать свои сильные и слабые стороны и действовать соответственно. Это стратегия. Ты не стал великим фехтовальщиком. Ты почти стал довольно искусным фехтовальщиком. В поединке с любым более или менее умелым фехтовальщиком-якудза ты проиграешь. Одержать победу ты можешь только при одном условии — имея дело с кем-то моложе себя, кто еще ни разу не сражался по-настоящему и испугается вида собственной крови. Ты воин, ты видел кровь, чужую и свою собственную. Вид крови тебя не напугает, не превратит в тряпку. То есть ты понимаешь, что в схватке тебя ранят, ты прольешь кровь. А твой противник, возможно, этого не знает. Увидев кровь, свою или даже твою, он напряжется, потеряет ритм, сосредоточенность. Он умрет, а ты останешься в живых. Но во всех остальных случаях держись в стороне. Если ты сразишься с другим противником, ты погибнешь. У тебя не хватает мастерства, чтобы прикрывать все секторы. Чем дольше будет продолжаться бой, тем медленнее станут твои движения. Опытный противник тебя вымотает, дожидаясь, когда твой меч остановится или выпадет из рук, когда твоя сосредоточенность нарушится, — и тогда он тебя убьет. В схватке ты должен победить быстро, после одного или двух ударов, иначе ты погибнешь. Чем дольше будет продолжаться бой, тем выше для тебя вероятность погибнуть. Для того чтобы оставаться в живых, ты должен полагаться не на свой меч, а на хитрость, заключающуюся в том, чтобы сражаться только с теми, кого можешь победить, и обходить стороной остальных. Великий фехтовальщик расправится с тобой за долю секунды.
— Старик понимает, что к чему, — заметил Боб. — Он видит, к чему все это идет. Он говорит мне, что я не могу сразиться с Кондо.
Услышав это имя, Досю повернулся и посмотрел Бобу прямо в лицо.
— Свэггер-сан, — сказал он, и в голосе его прозвучало что-то теплое. — Кондо — смерть.
Они неслись сквозь черную японскую ночь в красной «мазде» Сьюзен. Рев ветра не позволял вести разговор. Впрочем, и говорить было особенно не о чем. Киото остался светлым пятном позади; светлое пятно Токио впереди еще не появилось. Дорога тянулась безликой полосой, и Сьюзен держала скорость за восемьдесят миль в час, ведя машину спокойно и уверенно, полностью сосредоточенная.
Но через пару часов начался дождь. Сьюзен остановилась у обочины — машина, ехавшая следом, завизжала тормозами и сердито засигналила.
— В чем дело? — спросил Боб.
— Она ехала слишком близко. Мне следовало бы посигналить. Ты поможешь закрепить верх?
— Конечно.
Сьюзен нажала кнопку, и из специального отсека выползла прорезиненная крыша, расправилась на опорных дугах и накрыла кабину. Боб без труда справился с защелкой, хотя ее мудреная конструкция оказалась незнакомой.
— Хочешь, я сяду за руль? Ты, наверное, устала. А тут еще и дождь начался.
— Со мной все в порядке. Я взрослая девочка. В любом случае, ты устал не меньше меня.
— Да, спать мне много не пришлось, это точно. Старик только что не пахал на мне. «Восемь ударов! Восемь ударов!» Так напряженно я не работал уже много лет.
— Тебе к труду не привыкать, — заметила Сьюзен, — Поверь мне, я знаю многих, про кого этого не скажешь. Мой начальник любит получать «общую картину», что означает, что на меня ложится вся работа, а он разгуливает по полю для гольфа, болтая с большими шишками. Но наверное, это даже и к лучшему, что он такой ленивый, ибо он настолько глуп, что, если бы взялся за работу сам, обязательно наломал бы дров.
— Диву даешься, как в нашем мире много дураков, — сказал Боб. — Ладно, от Ника пока что никаких известий?
— Никаких. Перед отъездом я проверила электронную почту. Надо проверить еще раз.
Раскрыв маленькую пластмассовую коробочку, Сьюзен нажала несколько клавиш, глядя на экран, осветивший ее сосредоточенное лицо, затем объявила:
— Нет, пока что ничего.
— Ладно.
— Какие у тебя планы? Свэггер, ты должен мне все рассказать. Я боюсь, что сейчас, возомнив себя йодзимбо,[26] ты будешь действовать в одиночку.
— Нет, я ведь обещал, что буду во всем советоваться с тобой, и сдержу слово. Просто мне очень хотелось услышать что-нибудь от Ника, только и всего.
— Предположим, Нику так ничего и не удастся разыскать.
— Тогда я найду частного детектива, человека, имеющего связи с якудзой, быть может, бывшего полицейского, и мы пустим его по следу. Наверное, так надо было сделать с самого начала. Я об этом еще не думал. Все мои мысли были только о том, как не помешать старику отметелить меня по полной программе.
— Частный детектив тебе не поможет. Если Кондо не хочет, чтобы его нашли, детектив об этом узнает и просто заберет твои деньги, а потом скажет, что не смог ничего найти. Ник же не побоится задавать вопросы. Сомневаюсь, что найдется второй такой храбрец.
— Тогда я сам отправлюсь в Кабукичо и пройдусь но всем притонам якудзы, открывая дверь ногой и задавая громким голосом неприятные вопросы о Кондо. В этом случае на меня обязательно обратят внимание.
— В этом случае твоя голова уже на следующий день будет доставлена рассыльной службой в посольство.
— Ну, не знаю. Быть может, тут я действительно столкнулся с противником, который мне не по зубам.
— С другой стороны, ты кое-чему научился…
У Сьюзен зазвонил сотовый телефон. Свернув с обочины, она взглянула на определитель номера и сказала:
— Это Ник.
Сьюзен ткнула кнопку.
— Привет, Ник, в чем…
И тотчас же осеклась.
— Проклятье… — пробормотала она.
— Что случилось?
— Это звонил Ник. Но он только сказал: «Сьюзен, я накормил дракона».
— «Накормил дракона»? Что это может означать, черт побери?
— Не знаю. Но голос Ника… он был пронизан страхом. Настоящим, животным страхом.
— О господи, — пробормотал Боб.
Сьюзен набрала номер. Ответа не последовало.
Глава 27 САМУРАЙ
Ник узнал все. Ну, или почти все. Он сидел на кухне под яркой лампой и просматривал разложенные записи: общие замечания, временная линия, цепочка последовательных событий, телефонные номера. Поразительно, как быстро все встало на свои места.
Большой Одзу, художник-татуировщик, рассказал Нику о том, как Нии хвалился, что скоро денег у него будет навалом, что он наконец сможет позволить себе довести до конца работу над своей спиной и скрыть отвратительные грубые бубновые тузы в абстрактном узоре из классических японских форм и надписи иероглифами «самурай навеки».
Нику пришлось долго уговаривать Одзу и вложить большие деньги в лучшее саке, но в конце концов художник раскрыл ему величайшую тайну: имя человека, на которого теперь — через Кондо Исами — работал Нии. Судя по всему, банда Кондо нашла себе нового покровителя; ее связи с сильными мира сего стали еще более крепкими.
И тут Ник понял, что это имя ему уже известно. Мива.
Мива, Сёгун, глава «Сёгунат аудио-видио» и президент Всеяпонского видеообщества, который в этот самый момент завяз в схватке со студией «Империал» за контроль над «большой порнографией», ибо пытается сохранить ее японской и устоять перед попытками «Империала» американизировать бизнес и впустить в него белых женщин.
Итак, какую услугу может оказать этому человеку Кондо и какое отношение имеет к этому меч, особый, знаменитый, историческая реликвия?
Можно было остановиться на этом: Мива хочет получить меч просто потому, что он коллекционер, речь идет о мече, не имеющем себе равных, и прибавить такой к своему собранию было бы…
Но почему в таком случае просто не выкупить его у Яно? Почему Яно и вся его семья были безжалостно истреблены и почему, в соответствии с указаниями сверху, расследование этой жуткой трагедии велось вяло и вскоре заглохло? Дело даже не было поручено старшему следователю.
Поэтому Ник решил изучить карьеру Мивы. Как выяснилось, информации на этот счет имелось предостаточно: жизненный путь порномагната был детально задокументирован, в том числе и им самим. Это был рассказ о бедном мальчике, изгое, который не имел ничего и добился всего, покорив Японию так, как это мало кому удавалось со времен сёгунов, — и в этом есть некая ирония. Мива жил в роскоши, имея множество домов, разбросанных по всей Японии. В одном только Токио у него их было семь, а еще два в Европе, один на горнолыжном курорте в Колорадо, один в Голливуде и один в Нью-Йорке. Мива летал на личном реактивном самолете, общался с миллионерами и кинозвездами, а его любовные похождения были легендой.
Неужели такой человек может хотеть чего-то еще?
Но Ник уже понимал: речь идет не о «чем-то еще», а просто о том, чтобы выжить. Он понял, как меч поможет Миве навечно обеспечить свое будущее.
И на фоне этого гибель семьи Яно была ничем. Действительно, ну кто они такие? Отец, мать, четверо детей? Можно исполосовать их мечами и бросить. Таков извечный порядок вещей в нашей вселенной. Кто они такие по сравнению с великим? Кому до них есть какое-то дело? Разве можно сопоставить их с могущественным Мивой и его безграничными амбициями? Что они собой представляют? Ни один самурай не встанет на их защиту. Они должны смириться с неизбежностью, отступить и не мешать Миве двигаться к успеху.
Нику захотелось выпить. Открыв холодильник, он достал бутылку саке. Она оказалась неоткупоренной. Ник долго возился с залитой пластиком пробкой, наконец, отчаявшись, взял маленький кухонный нож, срезал пластик, открутил пробку и плеснул саке в стакан.
Bay. Вкус саке, такой японский. Положив нож на стол, Ник вернулся на место и позволил себе помечтать о будущем.
Впереди его ждет золотая жизнь: сенсационное разоблачение поразит весь мир, последуют аресты, Япония будет потрясена до самого основания, его имя загремит все сильнее по мере того, как скандал будет разрастаться до масштабов эпидемии. И он сможет вернуться в большую журналистику. Перед ним снова откроются все двери.
Неудачное знакомство с господином кокаином останется в прошлом. Впереди будет только…
Вдруг Ник услышал какой-то странный звук. Затем он сообразил, что это надавили чем-то тяжелым на дверной косяк. В следующее мгновение послышался треск расщепленного дерева, звук распахнувшейся двери, чьи-то шаги.
Ник мгновенно все понял.
Поспешно собрав свои записи, он сунул их в плотный конверт.
У него было всего несколько секунд.
Ник переборол панику.
Затем он понял, где может спрятать собранные материалы.
Подбежав к этому месту, Ник свернул конверт в трубку и засунул его внутрь.
Потом схватил сотовый телефон, набрал номер Сьюзен Окады и, опасаясь, что его прослушивают, стал лихорадочно искать какой-нибудь способ ее предупредить — намек, может быть, даже шифр, понятный только ей одной.
— Сьюзен, — сказал Ник, когда она ответила, — я накормил дракона.
Обернувшись, он увидел своего старого знакомого Нии, разъяренного, с вакидзаси в руке. За его спиной стоял Кондо, и Ник получил наконец главную сенсацию в своей жизни.
Он узнал, кто такой Кондо.
И понял, почему одним позволяется видеть лицо Кондо, а другим — нет.
Ник также осознал: его подвергнут немыслимым истязаниям, выпытывая, что он знает, с кем этим поделился и на кого работает.
Нии бросился к нему, но не успел.
Ник вонзил нож в сонную артерию и, улыбаясь, истек кровью за восемь секунд.
Глава 28 ДРАКОНЫ
Они приехали на место около полуночи. Обычно в этот час улицы квартала, где жил Ник, становятся пустынными, однако сейчас все было запружено машинами. За четыре квартала до дома Ника движение намертво встало; не было никаких признаков того, что пробка рассосется в ближайшее время.
— Там впереди полицейский, пытается все разрулить, — сказала Сьюзен.
— Я сейчас проскользну туда, посмотрю на месте, что случилось. Если не вернусь, встречаемся перед домом Ника.
— Так ничего не получится. Гайдзин сразу бросится в глаза. Пойду я. А ты перебирайся на мое место и жди.
Она выбралась из машины. Боб пересел за руль и стал ждать.
Прошло десять минут. Машина не сдвинулась ни на дюйм. А потом вернулась Сьюзен. По ее рассеянным движениям и убитому выражению лица Боб мигом понял, что известия очень плохие. Женщина села в машину.
— Дом сожгли. Как это было с домом Яно. Сожгли дотла. Сильно обгорели и два соседних дома.
— Быть может, Нику удалось выбраться.
— Нет, — отрешенным голосом промолвила Сьюзен, — не удалось. Полицейский сказал, что обнаружен труп погибшего мужчины. Он покончил с собой. Поджег свой дом, после чего в отчаянии перерезал себе горло. Час назад тело забрали в морг.
Свэггер старался не думать о Нике, о бедняге Нике. Старался прогнать прочь ярость, боль и отчаяние. Ему вспомнились слова Досю: «Только настоящее». Только настоящее. «Да, хорошо, но уберите меня поскорее с этой проклятой застывшей звезды, из этого чужого места, где всех, с кем я только заговариваю, тут же здорово бьет по голове. Я столкнулся с теми, кто прячется в тени, невидимый, и ведет игру, в которой я ничего не понимаю».
Только настоящее. Только настоящее. Думай, думай об этом.
Сьюзен ничего не говорила, лишь сидела совершенно неподвижно. Взгляд ее миндалевидных глаз был устремлен в пустоту; быть может, она смотрела вдаль, чтобы увидеть близкое.
— Бедный Ник, — наконец пробормотала молодая женщина. — Наверное, ему в конце концов удалось все выяснить.
— Умница. Храбрец. Лучший из лучших.
— Бедняга…
— Послушай, я вовсе не собираюсь на тебя давить, но мы должны хорошенько подумать. Раз Ник перерезал себе горло, значит, Кондо Исами его нашел и он понял, что его будут пытать. Он знал этих ребят. И поступил как настоящий самурай.
— Не хочу даже думать об этом.
— Видишь ли, дорогая, кому-то нужно думать, так что, полагаю, этим придется заняться мне.
— Знаешь, меня порой тошнит от того, насколько ты опытен в таких делах.
— Я тебя прекрасно понимаю. От меня многих тошнит. Я сержант, это моя работа. Мы на войне, вокруг нас умирают люди, кому-то угрожает опасность, поэтому давай определимся со следующим шагом.
Сьюзен молчала. Наконец она сказала:
— Я не могу думать в машине. Нам нужно зайти в кафе. Я больше не в состоянии оставаться на улице.
Заведение оказалось полупустым, и никто не обратил на них внимания. Взяв у стойки кофе, они выбрали уединенный столик в дальнем конце зала. Растворимый кофе «Старбакс». Казалось, они находятся где-нибудь в Айове.
— Ну хорошо, — начал Свэггер. — Я буду шаг за шагом двигаться вперед. Остановишь меня, если я буду не прав. Ты у нас умная, а я только среднюю школу окончил.
— Новое правило: любой сарказм запрещается. Для сарказма больше нет места, — сердито одернула его Сьюзен. — Это понятно?
— Приношу свои извинения. Это было глупо. Больше такое не повторится. Ну хорошо, вот что мы имеем. Ник что-то нашел. Что именно, мы не знаем. Однако Кондо каким-то образом проведал об этом и заявился к нему. У Ника хватило времени спрятать то, что у него было, и позвонить тебе. Он дал тебе подсказку: «Сьюзен, я накормил дракона». После чего перерезал себе горло, понимая, что, если он попадет в руки Кондо живым, его будут пытать и он все выдаст. Маленький щуплый Ник, самурайского духа в нем оказалось больше, чем во многих верзилах. И я подумал еще вот о чем. Посмотрим, согласишься ли ты со мной.
— Слушаю.
— Дом сожгли не просто так. Кондо понял, что Нику удалось что-то найти, и он опасался, не осталось ли это где-то спрятанным. Отыскать это он не смог. Вот почему сожгли весь дом — чтобы это «что-то» не досталось и тому, с кем работал Ник. В противном случае сжигать дом не было никакой необходимости. Пожар лишь привлек внимание, а этим людям меньше всего нужно привлекать к себе внимание.
— Пожалуй, своя логика в этом есть.
— Хорошо, а теперь давай подумаем о подсказке, которую передал тебе Ник. Возможно, я несу полную чушь, но ничего сложного тут быть не должно. Это что-то простое. Ник состряпал это за считанные секунды. Ты сказала, его голос был полон страха. Ник знал, что за ним пришли. Он быстро спрятал то, что у него было, быстро придумал подсказку, быстро сообщил ее тебе. И это что-то такое, что понятно только тебе. Эта подсказка предназначалась тебе одной.
— Но что это нам дает?
— Это означает, что Ник сыграл на чем-то таком, что тебе известно. «Я накормил дракона». Нет, «Сьюзен, я накормил дракона». Не каких-то драконов вообще, не драконов из истории, из поэзии, из кино или из песни, а дракона, которого знает Сьюзен. Так что нам нужно найти точку соприкосновения этих трех линий: Сьюзен, Ник, дракон. Что Сьюзен известно о драконах?
— Ничего.
— Ты никогда не говорила с Ником о драконах?
— Никогда.
— А он когда-нибудь упоминал тебе про драконов?
— Нет. Никогда. Впервые слово «дракон» я услышала из его уст вчера вечером.
— Какая мысль пришла тебе в голову первой, когда Ник сказал: «Я накормил дракона»?
— О, это нам много чего даст. Я подумала: «О чем это он, мать его?»
— У тебя в прошлом не было никаких драконов?
— Ну, с двумя я встречалась, и только. За одним даже была какое-то время замужем.
— Подумай о том, что может быть связано с драконами. Быть может, это название команды? Не сомневаюсь, ты была капитаном школьной футбольной команды. Она случайно называлась не «Драконы»?
— Ты прав, я была капитаном. Но наша команда называлась «Пантеры».
— А ты никогда не увлекалась этими… как их там… динозаврами?
— Палеонтологией, археологией, геологией? Нет, никогда. Только русской и японской литературой.
— О, а вот это нам точно много чего дает. На этом можно зашибить большие деньги.
— Свэггер, один раз я уже предупредила тебя насчет сарказма. Еще одно нарушение — и ты отправишься прямиком в Арканзас.
— В Айдахо. Ладно, я буду говорить тебе разные вещи про драконов. А ты слушай. Может быть, у тебя что-нибудь шевельнется в памяти.
— Валяй.
— Летающие драконы.
— Ничего.
— Спящая красавица.
— Нет.
— Прекрасный принц.
— Пусто.
— Пресмыкающиеся.
— А что, драконы пресмыкающиеся?
— Ну, они зеленые и покрыты чешуей. Они похожи на динозавров или больших крокодилов.
— У них двухкамерное сердце? Они холоднокровные?
— Не знаю.
— И я тоже не знаю.
— Китайские драконы?
— Нет.
— Драконы на парадах? Знаешь, когда много людей несут одного длинного дракона.
— А разве это не китайский дракон?
— Кости дракона? Крылья дракона? Следы дракона? Дыхание дракона?
— Нет, нет, нет, нет.
— Летающие драконы.
— Ты это уже говорил.
— Некая банда под названием «Драконы».
— Нет.
— Триада, называвшаяся драконами?
— Нет.
— Удар «летающий дракон» из карате?
— Нет.
— «Спящий дракон»? Это удар мечом снизу вверх.
— Уж это-то я знаю. Нет, не то.
— Китайский ресторан «Дракон»?
— Нет.
— Святой Георгий?
— Нет.
— Святой Андрей?
— Нет.
— Прекрасный принц?
— Это ты уже спрашивал. Так у нас ничего не получится.
— Да, я практически выдохся. Мне больше не приходят на ум никакие драконы. Может быть, картина, кино, книга, стихотворение, статья, научный труд, сочинение…
— Гм, — вдруг встрепенулась Сьюзен.
Боб увидел у нее в глазах что-то. Тот самый отрешенный взгляд, когда смотришь на далекую гору, словно та совсем рядом.
— Статья?
— Сочинение. Если драконы пресмыкающиеся, можно считать их ящерицами?
— Поскольку на самом деле драконов нет, они могут быть кем угодно.
— Ну, ты сам говорил: зеленые и покрыты чешуей. То есть их можно считать пресмыкающимися. Так разве нельзя их считать ящерицами?
— Наверное, можно. А что?
— Просто… Да нет, ничего.
— И все же попробуй. Чем черт не шутит?
— Ящерицы. В своей жизни я сталкивалась с ящерицами. Возможно, я упоминала об этом Нику.
— Но точно сказать ты не можешь.
— Свэггер, ни один человек не способен помнить все, что говорил случайному знакомому на протяжении пяти лет.
— Конечно. Извини. Но ты сказала про сочинение. Школьное сочинение, посвященное ящерицам.
— Да, я много раз рассказывала об этом в посольстве, на приемах, на вечеринках и тому подобное. Говорила ли я Нику? Возможно. Я познакомилась с ним на приеме в резиденции японского посла на Небраска-авеню в Вашингтоне лет пять назад. Наш интерес друг к другу был взаимно профессиональным: я должна была разговорить Ника, он должен был разговорить меня. Мы немного выпили. Возможно, я ему и рассказала.
— Расскажи мне.
— Мной владели честолюбивые мечты окончить школу со средним баллом четыре. Для этого нужно было последние три года быть во всем просто идеальной. Но в старшем классе я потеряла пару десятых балла из-за современной биологии. Мне нужно было любой ценой исправить положение, иначе о среднем балле четыре можно было забыть, а это значило для меня очень много. И вот я пошла к учителю и сказала: «Понимаете, оставшиеся экзамены меня уже не спасут. Даже если я сдам их все на „отлично“, все равно я получу лишь три целых девяносто девять сотых. Я могу каким-нибудь образом заработать дополнительные баллы?» Он был неплохим человеком и сказал: «Сьюзен, если ты напишешь доклад и полностью раскроешь тему, я, так и быть, поставлю тебе „отлично“, которое тебе так нужно». Вся беда заключалась в том, что у меня не было никакого интереса к биологии. Я просто заучивала ее. Я понимала, что написать хороший доклад по биологии мне не по плечу. У меня абсолютно не было вдохновения. Но я пошла в библиотеку, взяла подшивку журналов «Нэшнл джиографик» и просто начала их листать. Я искала что-нибудь такое, что пробудило бы мое воображение.
— И ты нашла?
— Ящерицу. Большую, отвратительную ящерицу. Футов десять в длину, темно-зеленую, хищную, с раздвоенным языком. Область обитания ограничена семью островами в западной части Тихого океана, недалеко от Явы. Самый большой из них называется Комодо, поэтому эта ящерица, варан, называется драконом острова Комодо. И вот я в одночасье стала специалистом по комодовским варанам — напоминаю: это было еще до Интернета. Я написала доклад о проблемах драконов Комодо в современном мире, получила свое «отлично», успешно окончила школу, мои родители были довольны, я пошла по жизни дальше, как и собиралась, хотя, конечно, звезд с неба не хватала, но это уже другая история. Самое любопытное, эта ящерица действительно помогла мне тем, что она такая интересная. Так что и сейчас время от времени, когда мне очень радостно и я немного выпила, я провозглашаю тост: «Выпьем за ящерицу!» И все смеются, потому что это так не похоже на маленькую Сьюзен Окаду, усердную зубрилу со средним баллом четыре, которая никогда не совершает ошибок. Не исключено, что я рассказала предысторию этого тоста Нику. Помню, мы все, группа японских журналистов и сотрудники госдепа, отправились в японский ресторан в Джорджтауне. Возможно, там все и произошло.
— И это все?
— Да. Но, понимаешь, тут есть одна деталь. Ведь эту гигантскую ящерицу действительно называют драконом острова Комодо. Быть может, я предложила выпить за дракона, и именно об этом подумал Ник.
— Комодо? Это японское слово? Похоже на японское.
— Нет, полагаю, оно индонезийское.
— А звучит как японское. «М», много «о», несколько слогов. Могло бы быть и японским.
— Да, оно похоже на японское. Есть одно распространенное японское слово, которое звучит очень похоже: «камадо». «Камадо» означает печь или горшок. Такая большая перевернутая керамическая чаша. Раньше камадо были в каждом японском доме. Кажется, они использовались для жарки. В них запекали рыбу. Обычно небольшие, они…
Сьюзен умолкла.
Прошло несколько минут. Наконец Боб сказал:
— Никому не придет в голову связать слово «Комодо», название ящерицы, и слово «камадо», означающее печь, если только этот человек не владеет свободно английским и японским. А ты и есть именно такой человек. И ни у кого, кроме тебя, в прошлом нет комодских варанов. А теперь следующий вопрос: у Ника была камадо?
— Как это ни странно, была. Сейчас у всех микроволновые печи. Но у Ника была камадо. Разве ты не помнишь, как пахло у него в доме в тот день, когда мы пришли к нему? Ник только что закончил ужинать, он ел жареное мясо. И жарил он его в камадо.
— Итак, Ник сидит у себя дома и вдруг каким-то образом понимает, что к нему пожаловали непрошеные гости. Все кончено. Но он не запаниковал; Ник сохраняет спокойствие, остается до самого конца самураем. Он понимает, что ему не спастись, но он пытается спасти то, что у него есть, какие-то документы. Это будет его победа над убийцами. Где спрятать документы? Он засовывает их в камадо. Скорее всего, в щель между наружной и внутренней стенками. Затем Ник звонит тебе, и, поскольку он опасается, что его телефон прослушивается, ему приходит на ум та шутка во время вашей первой встречи и созвучие слов «камадо» и «комодо». Во всем мире эту загадку поймешь только ты, и ты одна.
— Ник обожал игру слов. Он говорил, что всегда долго бьется над заголовками статей в своей газетенке, и чем заковыристее получается, тем лучше.
— Кажется, — задумчиво промолвил Боб, — сегодня ночью мне придется навестить развалины дома Ника. Ты скажешь мне, что искать и где это может быть. Если это там, я обязательно найду.
Глава 29 СВЯТИЛИЩЕ
Это место было одним из самых его любимых: уединенное кладбище в Сенгакудзи, сразу же за воротами Храм сорока семи ронинов и впечатляющий памятник Оиси. Здесь покоились останки сорока семи героев, которые ворвались в дом Киры, в ожесточенной схватке перебили всех его телохранителей, а его самого обезглавили. Это была одна из самых почитаемых святынь во всей Японии, и когда Сёгун ее навещал, он всегда заранее предупреждал о своем приезде, чтобы на воротах появлялась табличка: «Закрыто на ремонт». И тогда храм доставался ему одному, не затуманенный обычным облаком дыма сотен благоухающих свечей, зажженных просителями.
Здесь можно было в полной мере прочувствовать бусидо, кодекс воина. Он присутствовал: везде. Тела самураев, совершивших массовое харакири, были погребены на самом верху, по буддийскому обычаю. Это место обозначал частокол надгробий и церемониальные деревянные шесты, неподвластные непогоде. Многие покупали свечи, чтобы зажечь их в память сорока семи и их господина Асано, также погребенного здесь; вот почему над могильными камнями всегда висела низкая туманная дымка. Ниже находились музей, предназначенный для туристов, широкий внутренний дворик, засыпанный щебенкой, и сам храм, типичное буддийское сооружение из бревен и белой штукатурки, какие можно встретить по всей Азии, под черепичной крышей с загнутыми вверх краями, — тысячи китайских ресторанов растиражировали этот образ по всему свету. Между внутренним двориком и кладбищем протекал тот самый ручей, в котором в ту ночь много лет назад самураи омыли отсеченную голову. Здесь все было пропитано преданностью и мужеством вассалов, поклявшихся отомстить за своего господина. Эти люди предпочли умереть, вместо того чтобы жить в бесчестье. Их надгробия тянулись вдоль аллей. Именно здесь они передали священникам голову и получили расписку, которая сейчас хранится в музее.
Отмечено:
Предмет: одна голова
Предмет: один бумажный пакет
Сим подтверждается, что вышеуказанные предметы получены.
Здесь они остались ждать, когда их арестуют; сюда несколько месяцев спустя, после того как они сами привели в исполнение приговор и совершили харакири, привезли их тела.
Вдалеке виднелись силуэты небоскребов центральных районов Токио. Стояла осень; воздух кусал первым морозцем, предвещавшим приход зимы. Листья, бурые, красные, желтые, золотисто-коричневые, оранжевые, опадали с деревьев, усыпая землю невообразимым буйством красок. Сёгун плотнее укутал шею шарфом, запахнул кашемировое пальто и огляделся вокруг. Повсюду стояли его телохранители, у каждого в ухе был наушник от рации.
— Ты уверен? — спросил Сёгун у Кондо.
— Не совсем. Но я уверен, что он ничего не отдал в набор, поскольку мы не обнаружили корректур. Уверен, что он не предпринял никаких попыток связаться с полицией, потому что мы бы об этом узнали. Насколько мне известно, он успел поговорить лишь с немногими: с художником-татуировщиком и с несколькими, скажем так, «специалистами» по делам братства «Восемь-девять-три». Со всеми этими людьми встретились, побеседовали, посоветовали впредь не совершать подобных ошибок. Больше они нас не предадут. Что же касается Ямамото, я уверен, что у него не было ничего, кроме подозрений о том, что мы с вами заключили союз.
— Проклятье, меня это очень беспокоит. Особенно сейчас, когда все висит на волоске.
— Скорее всего, это просто совпадение. Кто-то что-то сказал, быть может, этот журналист что-то учуял. У него были связи в наших кругах, он знал, к кому обращаться с вопросами, и ему удалось приоткрыть дверь в наши дела. Увы, волосы у него были светлые, как у киноактрисы Шарлиз Терон; на него обратили внимание и предупредили нас. Мы с ним разобрались. Раз и навсегда. Что касается той информации, которую он мог получить, она погибла вместе с ним.
— Ты уверен?
— Господин, никаких «уверен» не может быть. Я уверен в той степени, в какой только это возможно. Я могу лишь высказывать вероятные предположения. Нам так и не удалось побеседовать по душам с этим Ямамото. Он сумел этого избежать, понимая, что разговор будет неприятным. Однако нет никаких свидетельств того, что он работал на кого-то, и нет никаких причин подозревать это. И ему еще не удалось собрать готовый продукт: мы тщательно обыскали дом, перед тем как его поджечь. Никаких записей, никаких заметок. У него не было ничего, кроме подозрений, и они умерли вместе с ним. Вот наиболее вероятное предположение.
— Но какова была вероятность того, что бомбардировщики Спрюэнса нагрянут на наших ребят как раз тогда, когда они стояли на палубах, заправляясь горючим?[27] Почему «даунтлесы» налетели именно в этот момент? Вероятность этого была неизмеримо мала, однако американцы свалились как снег на голову, и за пять минут мы потеряли три авианосца, триста лучших летчиков — и проиграли войну. Я очень часто думаю об этом моменте, Кондо-сан. Именно это мгновение. Ни минутой раньше, ни минутой позже. Авианосцы развернулись по ветру, их палубы заполнены заправляющимися самолетами. За всю войну это было самое уязвимое мгновение для Японии, и именно в этот момент американцы нанесли удар.
— Американцы сжульничали. Они вскрыли наш шифр.
— Я ненавижу американцев. Они всегда жульничают. Они глупые и наглые, но это не имеет значения, потому что они жульничают.
— Господин, я не могу оградить вас от того предпочтения, которое Бог, похоже, оказывает американцам. Он делает невозможное возможным, и Мидуэй тому лучшее свидетельство. Я не могу оградить вас от этого, как никто не мог оградить Нагумо от «даунтлесов» Спрюэнса. Никто не сможет оградить вас от прихотей Будды, от воли Бога, от безразличия синто или от хаоса Вселенной. Зло высовывает свою отвратительную головку в самый неподходящий момент. Но мы сделали все мыслимое, чтобы обезопасить вас и добиться желаемых результатов. Мы не можем защитить вас только от невезения.
— Везение всегда на стороне американцев, — с горечью промолвил Сёгун. — И вот теперь они возомнили, что смогут отобрать у меня мое дело, что я беззащитен, что все мои самолеты заправляются горючим на палубе. Они жульничают, разбрасывая вокруг миллионы. Это несправедливо.
— Господин, этого не произойдет. Вы получите то, что принадлежит вам по праву.
— То же самое говорил Кусака, начальник штаба Нагумо, — мрачно буркнул Сёгун.
— Я все понимаю. Поэтому я отправил к полировщику своих лучших людей, и безопасность там абсолютная. Это те самые ребята, которые вместе со мной ходили в гости к Яно и его семье. Все они преданные, всем уже приходилось проливать кровь. В Японии да и во всем мире нет человека, который сможет силой войти к полировщику. Такому человеку придется иметь дело с шестерыми, и эти шестеро — лучшие. Их возглавляет Нии, а он с готовностью отдаст за меня жизнь. Он настоящий самурай. Вам нечего опасаться. И мне тоже.
Глава 30 МЕЧ, ДАЮЩИЙ ЖИЗНЬ
Это было следующим вечером, уже за полночь, в том же самом американском кафе на Роппонги.
Боб положил на столик свою находку — слегка обожженный конверт из плотной бумаги. Боб открыл его и один за другим разложил листы бумаги, покрытые столбцами иероглифов, выведенных рукой Ника.
— И тебя никто не видел? — спросила Сьюзен.
— В свое время мне пришлось достаточно поползать. Я подошел как можно ближе, а оставшуюся часть пути до развалин преодолел по-пластунски. Мне даже не пришлось забираться внутрь: я обнаружил камадо во дворе за домом, в куче обугленных досок. Половина чаши уцелела, а конверт был засунут в щель между отсеком для углей и наружной стенкой, как я и думал. Он вывалился мне прямо в руки. После чего я быстро унес оттуда ноги. Общее время нахождения на месте — меньше пяти минут. На тот случай, если меня все же кто-то заметил, на обратном пути я раза три-четыре резко поворачивал назад. Я абсолютно уверен, что никто за мной не следил. Все чисто.
Сьюзен сосредоточенно склонилась над страницами, то перебирая их, то раскладывая по порядку, стараясь уяснить общий смысл. Боб молчал, сознавая, что он перестал для нее существовать.
Наконец, пятнадцать минут спустя и после еще одной чашки кофе, Сьюзен сказала:
— Отлично.
— Нику удалось узнать правду?
— Почти всю.
— Ты что-нибудь поняла?
— Да. На самом деле все очень просто. Чистый бизнес.
— Выходит, тот, кто нам нужен, бизнесмен?
— И еще какой. Его зовут Юичи Мива, прозвище Сёгун. Свое состояние он сделал на порнографии: ему принадлежит киностудия «Сёгунат аудио-видио». Мива одним из первых оценил все преимущества Интернета и DVD и заработал на этом миллионы, которые, будучи вложенными в газеты, телевидение, программное обеспечение, игры и так далее, превратились в миллиарды. Но сейчас он может потерять все.
— Потому что у него появился сильный противник.
— Появился. Молодая компания «Империал», которая также занимается выпуском аудио- и видеопродукции. Судя по всему, за ней стоят американские деньги. «Империал» намеревается полностью захватить рынок порнографии Японии, заполнив его светловолосыми американками, ведущими себя в японском стиле. Правительство запрещает это уже на протяжении нескольких лет, но, если «Империалу» удастся добиться своего, прибыль взлетит до небес. А Мива по совместительству занимает пост президента некой ассоциации ВЯВО, Всеяпонского видеообщества. Это что-то вроде ассоциации киноискусства, но только для грязных фильмов. ВЯВО работает в тесном контакте с государственными органами и регулирует порнографию. При Сёгуне дорога американской продукции в Японию была перекрыта на законодательном уровне. Однако его срок на посту президента подходит к концу, приближаются выборы. Мива одерживал победу на протяжении шестнадцати лет подряд, не имея достойных соперников, но теперь такой соперник появился. «Империал» тратит огромные деньги, обрабатывая членов видеообщества. В него входят десятки мелких киностудий, снимающих порнографию, которые могут пойти как за Сёгуном, так и за узурпаторами из «Империала». Понимаешь, видеообщество имеет решающее влияние на контролирующие органы. Кто заправляет в ВЯВО, тот заправляет и в них, в данном случае в Комиссии по этическим нормам художественного кинематографа. В действительности комиссия полностью подчиняется ВЯВО. По сути дела, оно и есть комиссия.
— Так какое же отношение ко всему этому имеет меч?
— Миве необходимо одержать победу на выборах. Если он проиграет, то потеряет все. Поэтому ему нужно совершить какой-нибудь выдающийся поступок и снискать всеобщее уважение. Он должен подняться над порнографией и стать народным героем. И тогда мелкие киностудии и «Империал» не смогут его свалить. Он станет слишком значительной фигурой. По сути дела, пожизненным президентом. Сёгун сохранит контроль над ВЯВО, над комиссией и тем самым над порнобизнесом; он не допустит американскую продукцию в Японию. Его бизнес будет процветать, а «Империал» зачахнет и погибнет.
— Я все понял. Юичи Миве известно, как японцы помешаны на мечах, — сказал Боб. — Вот в чем будет заключаться его мастерский ход: он во всеуслышание объявит о том, что обнаружил самую почитаемую реликвию в японской истории. Тот самый клинок, который был в руках великого Оиси в ночь нападения сорока семи ронинов на дом Киры. Тот самый клинок, который снес Кире голову с плеч. Об этой находке раструбят все средства массовой информации. Она сделает Миву национальным героем. Он станет великим человеком, которого нельзя сместить.
— Мелкие дельцы поймут, что, если Сёгун на выборах потерпит поражение, весь порнобизнес потеряет свое лицо. Такого позора они не допустят.
— Понимаю.
— Да, — продолжала Сьюзен, — и теперь все встает на свои места. Вот почему семейство Яно нужно было устранить. Это будет триумфом одного Мивы: он искал меч, он его нашел, отреставрировал, преподнес стране — только он, он один. А какие-то Яно испортили бы всю картину, придали бы находке случайный характер. И тогда Мива стал бы не борцом за культурное наследие, а просто богачом, купившим у кого-то что-то. Поэтому Яно нужно было уничтожить, всех до одного, так, чтобы их смерть не имела никакого отношения к прошлой жизни. Они были просто теми, кому случайно попал в руки меч. Они стояли на пути. Их нужно было стереть с лица земли ради благополучия Сёгуна, а их собственность конфисковать.
— Значит, — сказал Боб, — семья Яно должна была умереть, для того чтобы какой-то мерзавец победил на выборах и стал королем отсосов и групповухи?
— Ну, то же самое можно было бы выразить и немного помягче, — заметила Сьюзен, — но суть ты передал правильно. Самое ужасное то, — добавила она убитым голосом, — что Мива, похоже, добьется своего.
— Почему ты так говоришь?
— Сейчас уже слишком поздно. Меч у него. Он спрятан, его оберегают, охраняют. Никто не сможет его вернуть. Нет никаких следов, ведущих к Яно. В нужный момент Мива объявит о нем, созовет средства массовой информации, телевидение и газеты — и выиграет эти проклятые выборы. Я не вижу юридических способов его прижать. Конечно, ты можешь написать заявление в полицию, указав, что это тот самый меч, который ты ввез в страну; конечно, в полиции можно будет найти тех, кто примет нашу сторону; конечно…
— Ягуи Муненори, трактат тысяча шестьсот тридцатого года «Меч, дающий жизнь»: «Ошибочно думать, будто военное искусство заключается только в том, чтобы убивать. Главное — не убивать врагов. Главное — побеждать зло».
— Забудь об этом, Свэггер.
— Не могу. Я пересек океан не для того, чтобы писать заявление в полицию.
— Это еще вопрос. Ты забываешь, что нам даже неизвестно, где находится меч. Ты не можешь разыгрывать из себя Тосиро Мифуне, потому что здесь не место для Тосиро Мифуне.
— Я найду эту треклятую штуковину за десять минут.
— Свэггер, ты предлагаешь совершить уголовно наказуемое деяние. Я должна буду выдать тебя властям. Я с самого начала предупреждала об этом.
— Окада-сан, тебе прекрасно известно, что Мива скупил все власти. Так что никаких властей в данном случае не будет. Есть только ты и я, умница-отличница и простой деревенщина. И мы должны что-то предпринять, иначе убийца семьи Яно останется безнаказанным. Маленькая девочка стала сиротой, и никаким правосудием тут и не пахнет. Повторяется история, старая как мир: большие люди с мечом рубят всех направо и налево и смеются над своими жертвами.
— Меч находится под надежной охраной в одном из семи поместий Мивы в окрестностях Токио.
— Я найду его за десять минут.
— Свэггер, меч заперт в сейф и охраняется…
— Его полируют.
— Что?
— Клинок нуждался в реставрации. Мива нанял лучшего полировщика в Японии, чтобы тот счистил с лезвия малейшие пятнышки ржавчины, после чего оно засверкает во всей красе. Меч должен быть красивым, неужели ты не понимаешь? Мива не может держать меч у себя дома, потому что оборудование полировщика состоит из множества тяжелых шлифовальных камней, а искусство полировки требует медленного, кропотливого, сосредоточенного труда. Так что прямо сейчас где-то в радиусе мили от нас под надежной охраной работает полировщик, доводящий лезвие до совершенства. Вероятно, мастер не хочет работать с этим мечом, но Миве и его дружку Кондо Исами нет никакого дела до этого. Им вообще наплевать на то, что думают окружающие.
Сьюзен задумчиво посмотрела на него.
— Что ты предлагаешь?
— Я войду в мастерскую. И заберу меч.
— И это все? Только и всего? Это твой план?
— Вот мой план: я постучу в дверь и скажу: «Пожалуйста, отдайте мой меч». Мне ответят: «Нет, это невозможно». «Гм, — скажу я, — в таком случае, боюсь, мне придется проявить настойчивость». Далее последует оживленная дискуссия.
— Ты с ума сошел. Ты не самурай.
— Все самураи покинули город. Остался только белый старик. Извини, но другого пути нет.
— Тебя убьют, Свэггер.
— Постарайся придумать что-нибудь получше.
Сьюзен не смогла.
Глава 31 СХВАТКА
Сьюзен подбросила Боба к музею в половине седьмого вечера. Ей пришлось употребить все свое красноречие, чтобы провести его мимо охраны, поскольку музей уже закрывался. Однако доктор Отова лично разрешил впустить Боба и даже спустился вниз, чтобы встретить его у лифта. Пройдя по погруженным в строгий полумрак и торжественную тишину залам, они вошли в кабинет доктора Отовы и уселись в окружении мечей. Мечи, убранные за стекло в шкафы, в которых поддерживались строго определенные температура и влажность, занимали все стены, за исключением массивной черной двери, намекающей на присутствие сейфа. Несомненно, в сейфе также хранились мечи.
— Досю сказал, вы оказались хорошим учеником. На него произвели впечатление ваши мастерство и сила духа. А он очень тонкий знаток людей.
— Что ж, сэр, я рад, что выдержал испытание.
— Итак, вы сказали, дело не терпит отлагательств.
— Совершенно верно, сэр. Кажется, я знаю, где находится меч, похищенный у Филиппа Яно. Сейчас он в процессе реставрации. И в этом случае меч, скорее всего, у полировщика, потому что эта часть работ самая долгая и сложная. Конечно, я сам мог бы потратить неделю на вопросы и телефонные звонки, но вы вращаетесь в этом мире и знаете все ходы и выходы. Вы сможете установить это за одну секунду.
— Вы хотите, чтобы я навел справки?
— Сэр, учитывая то, как работают эти люди, боюсь, от простого наведения справок никакого толка не будет. Этим людям необходимо срочно реставрировать клинок. Им нужно, чтобы какой-то хороший специалист работал как одержимый и успел уложиться в срок. Время их поджимает, меч нужен им прямо сейчас. Кроме того, им нужно восстановить отделку и ножны — и все по высшему классу. Боюсь, отсюда следует, что какой-то мастер-полировщик внезапно пропал. Бесследно исчез. От него нет никаких вестей, и его знакомые начинают беспокоиться. Он словно провалился сквозь землю, неожиданно отправился «в отпуск» — что-нибудь в таком духе.
— Я знаю одного журналиста, который должен это знать. Будьте добры, присаживайтесь, а я тем временем свяжусь с ним по электронной почте.
Доктор Отова сел за компьютер и вошел в Сеть.
Слушая стук клавиш, Боб провел взглядом по сверкающим изогнутым лезвиям, которые его окружали. По ним можно было следить за периодичными колебаниями моды: сначала изгиб становился все больше и больше, затем лезвия начали выпрямляться, приближаясь к прямой. Можно было наблюдать, как цубы меняются от простых железных колец, похожих на уключины на веслах викингов, до изящных произведений искусства, украшенных затейливой чеканкой и позолотой, слишком красивых для своего основного предназначения — не дать вражескому мечу скользнуть по лезвию и отрубить пальцы. Можно было отслеживать, как лезвия становятся то длиннее, то короче, как углубления на них устремляются все дальше и дальше, увеличиваются в числе, начинают переплетаться, а затем вдруг исчезают совсем. Можно было наблюдать за игрой острия, неуловимой и легкой как пух в том месте, где твердая закаленная сталь бритвенной кромки лезвия встречается с обволакивающей ее мягкой сталью основания. Здесь была представлена впечатляющая коллекция, и Боб уже приоткрыл дверь в этот таинственный мир. Он знал, что означает каждая деталь от кончика лезвия до рукояти. Это была целая вселенная.
— Мистер Свэггер!
— Да, сэр?
— Лучший полировщик мечей в Японии находится в настоящий момент в Лондоне, где восстанавливает клинки для Музея Виктории и Альберта. Следующий по мастерству сейчас в Сан-Франциско, ведет семинар для ваших земляков. Но вот третий…
— Что с ним?
— В свое время именно он считался лучшим из лучших. Однако возраст подточил его мастерство. Ему сейчас восемьдесят четыре года. Его зовут Тацуи Омоте. Вот его адрес.
— Да, сэр.
— Похоже, вы не ошиблись. Три недели назад Омоте внезапно покинул конференцию в Осаке. Нарушил сроки выполнения работ для храма в Хиросиме. Телефон у него в мастерской молчит, и он не отвечает на сообщения по электронной почте. Друзья его очень беспокоятся, но пару недель назад Омоте все же прислал им одно письмо, попросил их не волноваться и объяснил, что у него появилась срочная работа, которая отнимает все время.
Боб взглянул на часы. На все ушло семь минут.
— И что дальше? — спросил доктор Отова. — Надо сообщить в полицию?
— Полагаю, это только предупредит наших врагов и больше ничего не даст. Думаю, я сам загляну к этому Омоте и посмотрю, что к чему.
— Но это может быть очень опасно. Вы вооружены?
— Нет, сэр. Разумеется, нет.
— Идемте со мной.
Доктор Отова подвел Боба к сейфу, покрутил циферблат кодового замка, и дверь освободилась. Доктор Отова повернул ее, и Боб буквально ощутил, как тяжелая сталь скользит по шарикоподшипникам.
Он не стал проходить внутрь, поскольку его не пригласили. Доктор Отова нырнул в сейф и через мгновение вернулся с оружием. С белым оружием.
— Гендайто вакидзаси. Современный короткий меч. Он был выкован в тысяча девятьсот сорок третьем году одним из лучших кузнецов эпохи Сёва, в расцвете его таланта. Он предназначался для сына кузнеца, который в тот момент служил офицером в армии и находился на острове Тарава. Судя по всему, сын домой не вернулся. После войны кузнец заменил всю отделку, вот почему сайя, цуба и сагэо белые. Для нас белый цвет — то же самое, что для вас черный. Он обозначает горе.
Доктор Отова повернул меч лезвием вверх и левой рукой снял белую лакированную сайю. В свете лампы тускло блеснул обнаженный клинок, одновременно прекрасный и голодный.
— Когда музей приобретал у старика-кузнеца его коллекцию, тот сказал мне, что этот клинок самый острый и прочный из всего, что он когда-либо сделал. Он наполнен любовью к сыну. Но сыну так и не довелось взять его в руки. Старик отдал мне этот меч с мыслью о том, что я передам его своему сыну, но и моему сыну не довелось взять его в руки. Он также умер очень молодым. Поэтому я отдаю этот меч вам, ведь вы тоже сын воина. Я отдаю его вам в надежде, что он защитит вас чудодействием отцовской любви. Так что на самом деле это подарок вашему отцу от меня. Надеюсь, он был хорошим человеком.
— Он был очень хорошим человеком, — подтвердил Боб.
— Отлично. Надеюсь, вам не придется воспользоваться этим клинком, но если это все же произойдет, я знаю: он вас не подведет.
Они выехали в пригород, затем дальше, в сельскохозяйственные угодья, окружающие Токио, на знаменитую равнину Канто. На горизонте поднимались горы, и среди них — величественная Фудзияма, огромная, отчетливо видимая в прозрачном осеннем воздухе. Она казалась рекламным плакатом, который приглашает в Японию и знаком всем иностранным туристам.
— Тебе необязательно ехать со мной, — заметил Боб. — У меня есть мотоцикл. Я и сам смогу разыскать это место.
— Предположим, тебя ранят. Предположим, ты будешь истекать кровью и не сможешь управлять мотоциклом. Предположим, кто-нибудь вызовет полицию и тебе придется бежать, а бежать тебе некуда. Ты большой неуклюжий гайдзин, и тебя схватят в два счета. Нет, Свэггер, я должна ехать с тобой. Не могу поверить, что делаю это.
— Все будет хорошо.
— И именно поэтому ты прячешь что-то под курткой? Что-то длинное, как меч?
— Его дал мне Отова, на всякий случай.
— Свэггер, тебя убьют или посадят, а моей карьере настанет конец.
— Я уж как-нибудь справлюсь.
— Ну да, белый человек, тренировавшийся неделю. Угу.
— Не забывай, с той маленькой девочкой я справился.
Наконец они нашли нужное место — неприметное здание на неприметной улице в неприметном городке, дом с магазинами на первом этаже, один из которых был закрыт, о чем красноречиво свидетельствовали опущенные жалюзи. В остальных продавали продукты, порнографические фильмы, спиртное и компьютерные игры. Вывеска над закрытым магазином кратко сообщала: «Нихонто».[28]
— Вот она. Мастерская этого Тадааки Омото. Господи, больше всего она похоже на «Макдоналдс».
— Тацуи Омоте. Неужели так трудно запомнить имя?
— Какая же вы дерганая, мисс Окада. Я знаю, что вам сейчас нужно. Как насчет того, чтобы походить по магазинам? Самое подходящее для этого время.
— Что?
— Ну да, это всегда успокаивает. Пойдем, кое-что купим.
Выйдя из машины, Боб решительным шагом направился к магазинам. Сьюзен последовала за ним, держась в нескольких шагах. Боб сразу зашел в магазин, торгующий спиртным. К тому времени как Сьюзен его догнала, он уже купил бутылку «Джек Дэниелс».
— Отличное виски, — заметил Боб, — Не хочешь немного выпить?
— Свэггер, я не…
Боб расплатился, выложив три тысячи шестьсот йен. Он протянул бутылку Сьюзен, но та решительно покачала головой.
— Ладно, подождем несколько минут. А как насчет миски лапши?
— Мистер Свэггер, у вас нервный срыв? Честное слово, я…
— Нет, мэм, я здоров как бык. Но я действительно считаю, что нам неплохо было бы поесть лапши.
— Ты…
— Перед тем как изображать из себя Тосиро Мифуне, нужно немного оглядеться. Пошли.
И вот самурай и его напарница зашли в кафе и заказали по миске лапши и по банке диетической кока-колы. Заведение оказалось довольно милым. Они устроились у окна.
— Что ты видишь? — спросила Сьюзен.
— Я вижу большой «мерседес» С-класса, черный, блестящий. Самый что ни на есть стандартный якудза-мобиль.
— Ты понятия не имеешь, сколько человек внутри. Нужно вызвать полицию.
— Ну да, и что она обнаружит? Старик полирует меч в обществе нескольких громил в костюмах. Где тут преступление? Ты думаешь, старик скажет: «Эти ребята силой заставили меня полировать краденый меч»? Не скажет, потому что опасается последствий, и совершенно справедливо. Тогда полицейские спросят: «С чего вы взяли, что этот меч краденый? Было заявление о его пропаже?» А нам, разумеется, придется ответить: «У нас нет никаких доказательств, кроме бредовых обвинений американца, утверждающего, что это тот самый меч, который он ввез в Японию несколько месяцев назад». После чего бандиты скажут: «А вот разрешение на этот меч» — и покажут бумагу, которую они забрали у Яно. В итоге меч останется у них, нас вышвырнут отсюда, а мистер Тацуа…
— Мистер Омоте, черт побери. Ты хоть что-нибудь можешь запомнить?
— Ну хорошо, мистер Омоте продолжит свою работу. А тем временем полиция, возможно, обнаружит, что паспорт у меня не совсем хорош, и меня арестуют. Мне это совсем не нравится.
— Пошли.
Сьюзен направилась к машине.
— Садись.
Боб сел в машину.
Сьюзен открыла свою сумку — довольно объемистый предмет из зеленой кожи — и протянула ее Бобу. Заглянув внутрь, тот увидел рукоятку пистолета.
— «Макаров» китайского производства, абсолютно чистый. Я взяла его на четвертом этаже у парочки придурков из ЦРУ. Он заряжен волшебными конфетками под названием «калибр тридцать восемь с полым наконечником», и что бы это ни означало, все ребята просто тащатся от этого. Возьми.
— Нет.
— Свэггер, неужели ты пойдешь к ним с одним только…
— Да, пойду. В этой игре мечи — главные козыри. Это их игра. Я одержу в ней верх и стану победителем. А эту штуковину выброси в Токийский залив. За нее тебя упрячут на ближайшие четырнадцать лет в женскую тюрьму, а там нет сумок от Кейт Спейд.
— Надеюсь, ты останешься жив и объяснишь мне, как деревенщина из Юты, говорящий словно Джонни Кэш до лечения,[29] может узнать по виду сумку от Кейт Спейд?
— Во-первых, я из Айдахо, а до этого жил в Арканзасе. А во-вторых, моя дочь упросила меня купить ей такую. Еще одну я купил для своей жены. Вижу, ты неплохо зарабатываешь. Такие стоят недешево. Ты точно не хочешь выпить?
Этот вопрос был настолько глупым, что Сьюзен даже не сочла нужным на него отвечать. Она просто молча посмотрела на Боба. Тот достал из бумажного пакета плоскую фляжку, отвинтил крышку, понюхал, улыбнулся и, поднимая тост, провозгласил:
— Твое здоровье!
С этими словами Боб плеснул виски себе на голову и свободной рукой взъерошил волосы.
Немного виски он плеснул себе на шею.
Вернул фляжку Сьюзен.
Ослабил галстук, расстегнул на рубашке четыре пуговицы и вытащил ее с одной стороны из брюк.
— «В основе пути воина всегда лежит обман». Ягуи, тысяча шестьсот тридцать пятый год.
— Ну хорошо, Свэггер, сдаюсь. Ступай на свою войну.
— До встречи, — бросил Боб, выходя из машины.
— Буду ждать тебя, если, конечно, ты вернешься.
Нии был просто восхищен. Старик, босой и в каком-то черном балахоне, в очках с такими толстыми стеклами, что его глаза за ними казались огромными, словно у жука, сидел на низком табурете, установленном на помосте. Он был похож на музыканта. Склонившись над длинной изогнутой полосой стали, старик пристально разглядывал ее, левой рукой прижимая лезвие к деревянной колоде, в правой сжимая кусок наждачного камня. У правой ноги стояло ведерко с водой.
Старик занимался тем, что называется окончательной доводкой. Сражение было долгим, медленным. Началось оно с абразивных камней, а также с воображения, опыта и знаний старика, которые все вместе были приложены к лезвию в полную силу. Отчасти это была любовь, отчасти — ненависть, а в целом — искусство. Со своей стороны, лезвие отчаянно сопротивлялось. Его шрамы были с гордостью заслужены в давно забытых боях, поверхность потемнела от крови многих убитых как за правое дело, так и за неправое. Лезвие не хотело возвращаться к церемониальной девственной чистоте.
В этом сражении оружием старика были абразивные камни. Их были десятки, каждый со своим особым названием, со своим особым зерном, со своим особым лицом; использовать их можно было только в определенном порядке, работая в определенном направлении, и искусство ведения этой кампании заключалось в том, чтобы правильно находить место для каждого камня в этом долгом неспешном ритуале. Сморщенное лицо старика напоминало чернослив, но волосы его оставались длинными и пышными. Он больше походил на саксофониста, чем на воина, однако он был воином, и о его неудержимом натиске свидетельствовал блеск миллиона мельчайших стальных опилок, усеявших все вокруг, несмотря на то что старик каждый час собирал их пылесосом, ибо непобежденная частица стали, попавшая между камнем и лезвием, может вызвать непоправимое.
На глазах у Нии с неторопливой точностью из чего-то обыденного получалось творение красоты. То, что вначале казалось обыкновенным куском старой стали, поцарапанной, обшарпанной, тронутой пятнами ржавчины, приобрело фактуру и цвет. Лезвие не блестело отраженным светом — оно сияло, словно подсвеченное изнутри. Казалось, после удаления с поверхности старого металла оно снова обрело жизнь и силы. Расплывчатая, неясная полоса канавки проходила через все лезвие; острие было беспощадно жестоким в своем совершенстве — пара дюймов смертоносной стали, готовой разрезать все, что угодно. Более мягкий металл основания отливал золотом, солидный и обволакивающий, однако скорее податливый, а не хрупкий и твердый, а две канавки (бо-хи) придавали ему аэродинамическую чистоту, заставляя петь, когда клинок рассекал воздух. От одного взгляда на лезвие становилось понятно, что оно жаждет крови. В нем сочетались священное и нечестивое. Оно хотело только одного — снова напиться крови, однако в нем также был сконцентрирован гений народа этих маленьких островов, создавших его и распространивших его дух и душу на половину земного шара. Ничего этого Нии не понимал и не сумел бы выразить словами. Он просто чувствовал. В кои-то веки он перестал думать о смазливых девочках.
Старик работал сосредоточенно, не видя перед собой ничего, кроме лезвия, которое держал в шести дюймах от лица. Невозмутимый и хладнокровный, он не обращал никакого внимания на боевиков якудзы, тем самым показывая им, какие они никчемные, несмотря на силу и внешний лоск. Старик жил своей работой. Он вынужден был смириться с этим в тот день несколько недель назад, когда они нагрянули к нему домой с пистолетами и большой пачкой денег.
— Ты выполнишь эту работу. И пока никакой другой работы делать не будешь. Ты сохранишь все в полной тайне. За тобой будут следить. Ты должен закончить к первой неделе декабря.
— Я не успею к этому сроку.
— Успеешь, — сказал ему Кондо. — Несомненно, ты знаешь, кто я такой и что я могу. Мне очень не хотелось бы проливать твою кровь…
— Жизнь, смерть — какая разница.
— Для тебя в твои восемьдесят лет, возможно, никакой разницы и нет, но, наверное, она есть для твоих детей, внуков, их жен, друзей и так далее. Мы оставим в этом городке огромную дыру.
Старик скрепя сердце вынужден был согласиться. Он полностью отдался лезвию. Да и какой у него был выбор?
И вот работа почти закончена. Еще один придирчивый взгляд, последнее прикосновение абразивного камня, наслаждение полной силой…
— Нии! — окликнул кто-то.
Встрепенувшись, Нии увидел, что старик перестал шлифовать меч, чего прежде не случалось ни разу. Это его встревожило.
И тут он услышал: кто-то колотит в дверь.
— Что это такое? — недовольно спросил Нии.
— Это какой-то гайдзин. Глупый гайдзин.
— Твою мать. Ладно, я от него отделаюсь, — сказал Нии. — А ты — за работу.
Однако старик почему-то не вернулся к работе. Он пристально посмотрел на Нии, словно увидел его впервые в жизни или словно ему было что-то известно. И улыбнулся.
Старик заговорил впервые за несколько недель.
— Это будет здорово, — сказал он.
Боб что есть силы заколотил в дверь. Изнутри донесся какой-то шум. Подергав заручку, Боб ощутил, как болтается в косяке язычок замка. Он снова заколотил в дверь.
— Эй! — закричал Боб. — Эй, черт побери, открывайте! Мне нужно отполировать один меч!
Внутри снова послышались какие-то звуки, и сквозь щелку в жалюзи за стеклом Боб уловил тень движения. То, что он разглядел еще, произвело на него впечатление: полки, на них что-то похожее на коробки из-под обуви, а в коробках камни, плоские и зазубренные, все разной формы, фактуры и цвета.
— Эй, — снова закричал Боб, — черт побери, у меня есть меч! Хотите хорошо заработать? Я плачу большие деньги. Вам что, не нужна работа? Ну же, черт бы вас побрал, открывайте, мать вашу!
Все это продолжалось минуты три: шумный пьяный гайдзин, который не успокоится, пока не добьется своего.
— Я слышу, что вы там! Я слышу, что вы там, открывайте же, черт возьми!
Наконец Боб разглядел в темноте движение, которое вскоре оформилось в двух молодых верзил в костюмах. У них были непроницаемые лица, один был в очках. В каждом фунтов по двести сорок при полном отсутствии шеи. Короткие толстые руки, чуть согнутые, потому что накачанные мышцы не давали им полностью распрямиться.
Они подошли к двери, послышался щелчок отпираемого замка. Дверь приоткрылась, но только на дюйм. Оба верзилы заслонили собой вход, массивные, сильные, уверенные в себе.
— Эй, послушайте, я…
— Ты есть уходить. Мастерской закрыта. Здесь никого нет. Он уезжать. А сейчас уходить, пожалуйста.
— Ну же, ребята, — с воинственным упрямством пьяного настаивал Боб, — я купил эту штуку за тысячу зеленых. Мне нужно ее надраить. Это ведь то самое место, разве нет? Тот тип сказал мне, что здесь их начищают очень хорошо. Ну же, впустите меня, дайте поговорить с этим парнем.
Он протянул вакидзаси в белых ножнах и с белой рукоятью.
— Сейчас уходить, пожалуйста. Здесь никого нет. Мастер уезжать. Надо искать другой место. Здесь вам ничего не сделать.
— Ребята, да я просто хочу…
— Здесь вам ничего не сделать.
Дверь захлопнулась, щелкнул замок.
Верзилы ушли и скрылись в дальнем помещении.
Выждав немного, Боб сунул руку в карман и достал стальную отмычку. Щелчок замка сообщил ему, что это самый обыкновенный замок, с которым можно справиться в два счета. Засунув отмычку в замок, Боб нащупал деликатную паутину сувальд и рычажков и покрутил из стороны в сторону, чувствуя, как сувальды поочередно переходят в нужное положение. Убрав отмычку, он взял вместо нее пластиковую кредитную карточку, вставил ее в щель между дверью и косяком и начал медленно постукивать ею снизу вверх, мягко и настойчиво, снимая щеколду с подпружиненного рычага. Через две секунды щеколда резко дернулась, уступая настойчивым домогательствам, — и дверь распахнулась.
Боб шагнул в темноту.
— Эй, — окликнул он, — есть кто-нибудь дома? Черт возьми, дверь открыта, наверное, вы забыли ее запереть.
За занавеской послышался шорох ног, слова, произнесенные шепотом.
Пошатываясь, Боб двинулся вперед, шагнул за занавеску и оказался в просторном помещении. Его взору открылась странная картина. На возвышении восседал старичок, с волосами как у хиппи и в очках как у космонавта, держа лезвие, которое Боб мгновенно узнал по форме и длине. Однако сейчас оно сияло, словно ювелирное украшение.
Позади старика стояли шестеро молодых крепышей, все в черных костюмах, трое еще и в темных очках. Все шестеро сжимали вакидзаси в ножнах. Боб едва не рассмеялся: певческий хор собора Нотр-Дам изображает рок-группу.
Внезапно японцы разом заговорили, возбужденно, торопливо, пока наконец один из них не крикнул громко, обозначая свое старшинство. Подавшись вперед, он принюхался.
— Ты напиться. Ты уходить домой. Уходить сейчас, уходить быстро.
— Да я просто хочу надраить этот меч так же, как вон тот. Проклятье, красивая штуковина. Сэр, вы сможете начистить мой меч вот так же?
Театральным жестом подняв убранный в ножны вакидзаси, он помахал им.
Предводитель резко бросил несколько слов, и двое подручных шагнули к Бобу, разводя плечи, напрягая мышцы, сжимая кулаки.
— Ого, ого, — забормотал Боб, — только без грубостей, ребята, пожалуйста, пожалуйста!
Громилы остановились.
Боб перевел взгляд на старика, тот посмотрел на него. Боб подмигнул. Старик тоже подмигнул.
Застывшее мгновение тянулось. Обе стороны оценивали ситуацию. Взгляды мелькали туда и сюда, руки сжимали рукояти мечей, дыхание становилось чаще. Боб неожиданно затих, настороженный, пожирающий противника взглядом. Казалось, так продолжалось бесконечно долго. Наверное, за это время можно было бы сочинить изысканное лирическое хайку.
Боб посмотрел на жирного предводителя.
— Этот меч, который шлифует старик. Тот самый, ради которого вы расправились с семейством Яно. Я хочу забрать его обратно. А вас я хочу отправить в преисподнюю.
И разом все оборвалось, как будто на земле никогда не существовало понятия мира и спокойствия. Настало время мечей.
Двое ближайших к Бобу бойцов якудзы схватились было за свои вакидзаси, намереваясь изрубить дерзкого американца, но оказались недостаточно расторопными. Йяй-дзуцу. Искусство выхватить меч и нанести удар. Это называется «нукицуке». Со свойственной ему молниеносной быстротой Боб выхватил лезвие, с глухим стуком покинувшее ножны, и одной рукой нанес горизонтальный удар, который Ягуи Муненори назвал «боковым ветром». Одновременно Боб шагнул вперед, вкладывая в удар весь вес своего тела. Его переполнял адреналин, и меч рассек обоих противников. Хидари йокогири, его старый друг, горизонтальный удар слева направо. Бобу показалось, он промахнулся, потому что лезвие практически не встретило сопротивления, и на мгновение у него возникло ощущение катастрофы. Однако катастрофа случилась с его противниками. Лезвие прошло по прямой, погружаясь глубоко в тела, рассекая пиджаки, рубашки, нательное белье, кожу, мышцы, жир, кишки, печень, селезенку и все остальное, что встретилось у него на пути, двигаясь по безумной дуге, оставляя за собой ничто. Или — все. Из страшных ран обильно хлынула кровь. Она не брызнула фонтаном, словно под напором из форсунок, как это изображают в кино; а просто тяжело выплеснулась из раскрывшейся плоти вместе с двумя непереваренными завтраками. И продолжала течь — многие галлоны крови, падающие на пол с шумом алого прибоя. Один разрубленный якудза рухнул вниз, словно мешок картошки, сброшенный с грузовика; другой постоял на месте, оглушенный, пытаясь зажать руками вываливающиеся внутренности, затем сел на пол умирать.
Без какой-либо команды со стороны мозга меч Боба сам собой взлетел вверх, застыв в положении «приходящий с неба», которое на своей родине больше известно под названием «ками-хасо». Боб спокойно наблюдал за тем, как третий якудза ринулся на него, высоко вскинув над головой свой вакидзаси. Другой на месте Боба поддался бы панике: огромный разъяренный верзила, обладающий невероятной силой, с выпученными глазами несся на него, замахнувшись мечом, набирая импульс, чтобы нанести сокрушительный удар. Он был похож на обезумевшего маньяка из второсортного фильма ужасов. Громила издал свирепый вопль. Однако сейчас Боб обладал тем взглядом, который видит далекое как близкое, а близкое — как отдаленные горы. Он выждал, когда неуклюжее движение противника проявит себя полностью, после чего молниеносно сместился влево, в зону безопасности, одновременно глубоко вспарывая верзиле живот. Занесенный меч так и не опустился. Его обладатель перевел взгляд на свое тело. В его глазах ярость сменилась бесконечным ужасом: он был не в силах осознать, какая страшная рана ему нанесена. Потом он опустился на колено, выронил меч и неуклюже повалился вперед.
Ничего этого Боб не видел. Обернувшись, он проследил, как трое оставшихся в живых разделились: двое двинулись в одну сторону, один — в противоположную, обходя старика на помосте, который спокойно взирал на происходящее. Юркий, словно ящерица, мозг Боба, не теряя времени на размышления, сообразил, что сражаться с одним противником проще, чем с двумя. Поэтому Боб повернулся влево, устремившись навстречу одинокому якудза мимо неподвижно застывшего на помосте полировщика. Его противник оказался чуть ниже ростом, чем остальные, но старше, не знающий паники, слишком опытный, чтобы совершить глупость. Сосредоточенно следя за Бобом, он выставил меч перед собой, медленно продвигаясь Вперед, просто выжидая, когда Боб даст ему шанс, чего Боб, разумеется, не сделал. Тогда якудза решил действовать первым. Его меч мелькнул сбоку — классическое кесагири от плеча к пупку, наискось слева направо. Однако с быстротой, не имеющей привязки ко времени, Боб разгадал его замысел («Глаза являются ключом к прочтению мыслей: огонь или блеск в глазах противника может быть таким же красноречивым, как и движения остальных частей его тела») и поднял свой меч, отражая удар, отводя клинок якудза вниз и вбок. Это был уке нагаси, «парящий блок»; Боб впитал в себя энергию противника, затем выплеснул ее, едва уловимым движением запястья направляя острие в цель. В горло. В конечной точке дуги острие двигалось с поразительной скоростью, развивая немыслимую энергию, забирая у Свэггера все его силы и сосредоточивая их в одной маленькой острой точке.
Результат оказался неприятным, даже шокирующим, однако еще страшнее был резкий звук, изданный якудза, — жуткое завывание воздуха, вырвавшегося вместе с кровью из рассеченной гортани, пропитанное паникой обреченности, которая заставила легкие сжаться, с силой исторгая воздух. Однако раненый не упал. По какой-то прихоти умирающий организм собрал обрывочные остатки энергии; якудза стоял неподвижно, напрягая колени, уронив руки, потеряв меч, исторгая кровь из разрезанного горла — на этот раз бурлящим фонтаном, а не тонкой струей, — устремив взор в пустоту. Наконец он упал подобно срубленному дереву, налетев на покрытый кровавыми лужами пол с такой силой, что вверх взметнулись брызги, внезапно заплясавшие на лице у Боба, на лице старика и на потолке.
Тем временем два оставшихся бойца обошли помост, на котором сидел старик, и, разделившись, встали в классическую таци, расслабленную позу с выдвинутым вперед мечом. Они осторожно двинулись вперед по залитому кровью полу, делая мелкие, плавные шаги, не отрывая взгляда от Боба. На их сосредоточенных лицах не было ни ярости, ни страха. Боб поймал себя на том, что встал в ками-хасо — черт побери, кто сказал, что это лучшая стойка? — подняв меч вверх, готовый нанести удар, но расслабленный, ищущий в себе спокойствие — и находящий его. Противники обогнули помост и стали приближаться к нему. Боб искал свой шанс, они искали свой, и преимущество было на их стороне, потому что они могли рассредоточиться, исходя из очевидного предположения: поскольку их противник не Мусаси, он не сможет одновременно защищать обе полусферы, ему придется сосредоточить внимание только на одном из врагов, и тогда другой нанесет смертельный удар.
Боб понял, что должен напасть первым. Эта мысль не была выражена словами; она просто пришла. Боб не размышлял, не приходил к заключению; он просто получил решение сложной проблемы, как это было в предыдущем поединке с девочкой.
Боб метнулся влево, но это было обманное движение, сделанное с целью заставить левого противника отступить. Это ему удалось. Жирный верзила на мгновение отпрянул назад. Увидев это движение, напарник справа ошибочно воспринял его как приглашение. У него алчно забилось сердце в предвкушении победы и вознаграждения, и он бросился вперед, нанося горизонтальный удар, тот самый «боковой ветер», которым до этого уже воспользовался Боб. Боб предвидел это и выполнил движение своего собственного изобретения: он низко нагнулся вперед, сгибая одну ногу в колене, отталкиваясь другой ногой, распластавшись над полом. Меч противника со свистом пронесся у него над головой, взъерошив волосы, и в этот миг Боб полоснул японца по ноге. Ему самому удар показался медлительным и слабым, но в действительности он был мощным и стремительным, потому что лезвие целиком прошло через ногу и та отлетела вправо. Якудза неловко запрыгал на одной ноге, вопя от боли. Однако некоторые вещи нельзя остановить просто так; удар получился слишком хорошим, лезвие продолжало свой путь, хотя и с меньшей силой, и, погрузившись наполовину во вторую ногу якудза, на миг застряло в ней, когда тот повалился на пол.
Боб понял, что он труп. Блестящий ход против одного противника оказался самоубийственной глупостью против двух, ибо жирный предводитель воспользовался полученным преимуществом и бросился вперед, нахлынув гладко и мягко, словно река, — Боб успел отрешенно отметить, что он прошел хорошую подготовку, — чтобы рассечь стоящего на коленях гайдзина нанесенным сверху вниз наискось кесагири.
«Я погиб», — подумал Боб, понимая, что его меч отведен слишком далеко и он не успеет защититься, даже если сможет освободить застрявший клинок. Он отчетливо увидел то, что произошло дальше. И он, и его противник забыли об одной вещи: пол стал скользким от крови, хотя для Боба это не имело значения, потому что его центр тяжести находился низко, а ноги были широко расставлены, одна — впереди и согнутая, другая — распрямленная, вытянутая назад. У жирного якудза, напротив, центр тяжести был высоко, и на коварном липком полу его положение было неустойчивым. Он поскользнулся, и его меч дернулся. Жирный попытался сохранить равновесие, но ритм и синхронность удара были непоправимо нарушены, и когда меч все же устремился вперед с вчетверо меньшей скоростью, Боб встретил его своим лезвием, успев развернуться. Отыскав ногой опору, он распрямился, отбил меч противника и, оказавшись в стойке симо-басо, с отведенным назад мечом, просто со всей силы двинул рукоятью вперед. С чудовищным стуком рукоять воткнулась толстяку прямо в глаз. Он рухнул, словно великан с неба из сказки «Джек и бобовый стебель», разбрасывая брызги крови. Ему удалось удержать одной рукой меч, и он попытался им взмахнуть, но Боб ударил своим клинком по цубе, и меч со звоном отлетел в сторону. Склонившись над лежащим якудза, Боб ощутил неприятный запах у него изо рта, увидел пот, зубы, раздутые ноздри и наполненные страхом глаза и ударил его кулаком туда же, куда только что ударил рукоятью меча. Отголоски этого мощного удара отозвались во всех костях скелета. Застонав, жирный растянулся на полу.
Боб выпрямился, учащенно дыша. Он стряхнул с лезвия кровь и услышал, как капельки шлепнулись о стену. Только сейчас до него дошло, что он по-прежнему сжимает в левой руке ножны, что все его удары были нанесены одной рукой, вопреки всем правилам.
Он повернулся и шагнул к старику, который все это время сохранял поразительное спокойствие.
— Надо рассекать, — сурово заметил тот. — Непросто резать. Резать — ничего хорошего. Много крови, смерть медленно. Рассекать!
«Господи, — подумал Свэггер, — все только и умеют, что критиковать».
— Учиться работать ногами. Ноги совсем спутаны, — продолжал престарелый всезнайка. — Ты сражался с двумя совсем плохо. Ходи в зал. Найди учитель. Должен учиться. Тебе повезло. Ты использовал всю удачу в эта жизнь и в следующая жизнь. Больше тебе удача не будет. Ты должен заниматься с учитель. Тебе надо много работать.
— Это ты верно заметил, — согласился Боб. — Определенно мне повезло. А теперь, старик, дай мне то, ради чего я пришел, и я заберу тебя отсюда.
— Жирный не есть мертвый.
— Знаю. Мне нужно сказать ему пару слов.
— Хорошо. Это очень хороший меч. Большая честь работать с ним. Самая большая радость в жизни. Я очень рад. А сейчас дай мне закончить этот меч.
Старик еще пару минут повозился с клинком, осмотрел его, повернув к свету, после чего спрятал в красный шелковый мешочек. Казалось, ему потребовалось несколько часов, чтобы упаковать этот долбаный кусок стали, но Свэггер понимал, что здесь все должно быть выполнено надлежащим образом.
Наконец старик передал ему меч.
— Нельзя трогать лезвие грязные пальцы.
— Понимаю. С вами все будет в порядке?
— Все замечательно. Я ехать гостить к свои родные в Саппоро.
— Быть может, вас подвезти куда-нибудь на машине?
— Нет, я садиться в автобус. Все замечательно.
Обернувшись, Боб подошел к распростертому на полу предводителю, единственному, кто остался в живых из шести бойцов якудзы. Тем временем полировщик господин Омоте обулся, накинул пальто и приготовился уходить.
Боб ткнул жирного предводителя, и тот зашевелился, затем застонал. Открыв глаза, якудза растерянно заморгал, пытаясь заново свыкнуться с тем, что произошло за последние несколько минут.
Он дотронулся до ссадины под глазом, откуда все еще сочилась кровь. Там уже начинал наливаться синяк, который скоро должен был распухнуть до размеров грейпфрута.
— Эй, ты, — обратился к якудза Боб, — слушай меня внимательно, или я сейчас начну тебя резать.
— Пожалуйста, не делать мне больно.
— Это еще почему? Мне понравилось.
— О, мое лицо, — пробормотал парень, которому, как разглядел Боб, было лет двадцать пять.
По его лицу из различных поврежденных мест струились кровь, слезы и сопли.
— Итак, слушай меня внимательно. Тебе предстоит передать одно сообщение, понятно?
— Как скажете, Джо.[30]
— Меня зовут не Джо, козел. Видишь вот это? — Боб помахал перед лицом якудза красным мешочком с мечом. — Это меч. Мой меч. Я вернул его себе. Кондо Исами очень хочет получить меч обратно. Отлично, Я предлагаю ему обмен. У него есть то, что нужно мне. И когда я это получу, я отдам ему меч.
— Я вас слышать.
— Через три дня я дам частное объявление в «Джапан таймс», адресованное некой Юки. Оно будет зашифровано алфавитным кодом из «Благородства в неудаче»,[31] английского оригинала, а не японского перевода. Это понятно?
— Что это такое?
— Книга, придурок. Тебе этого не понять. Но Кондо должен знать, что это такое. Ты сможешь запомнить?
— Конечно, Дж… сэр.
— «Сэр» мне больше нравится. В объявлении будет указано место, скорее всего какой-нибудь парк. Кондо должен будет встретиться там со мной на следующий день вечером. Один. Он отдает мне то, что хочу я. После чего я отдаю ему то, что хочет он.
— Конечно, — поспешно заявил жирный якудза. Затем его взгляд затуманился недоумением. — Вы хотеть деньги? Очень много деньги?
— Мне насрать на деньги, клоун-сан.
— Тогда что вы хотеть?
— Его голову, — сказал Боб. — Передай, чтобы он захватил ее с собой.
Глава 32 КОНДО
Кондо был в восторге.
— Он так и сказал? Прямо так и сказал?
— Да. Так и сказал.
— Нии, повтори еще раз. Повтори дословно.
— Я спросил, что ему нужно от вас. Он ответил: «Его голову. Передай, чтобы он захватил ее с собой».
— Наглый тип.
— Да, оябун, вы совершенно правы.
Они находились в квартире у Нии. Частная медсестра, состоящая в услужении у братства «8-9-3», наложила на рану швы и перебинтовала ее, а его дружки после наступления темноты прибрали в мастерской полировщика, ликвидировав следы кровавого побоища и аккуратно избавившись от тел и отрубленной ноги. Нии, забинтованный, с распухшим лицом, вернулся к себе. В соседней комнате толклись еще несколько синсэнгуми: мрачные, встревоженные лица, строгие костюмы. Кондо, однако, сиял. Непостижимо, но случившееся доставило ему огромное наслаждение. У него с лица не сходила улыбка.
— Пожалуйста, опиши мне его еще раз.
— Американец. Довольно высокий, но назвать его огромным нельзя. Очень сдержанный. Все эмоции внутри. Глаза у него были совершенно неподвижные. Он знал, куда смотреть, как двигаться. Ему уже приходилось убивать. Кровь, самые отвратительные раны — на него это не произвело никакого впечатления.
— Расскажи мне еще раз, как он сражался. Но сейчас — во всех подробностях, Нии. Расскажи мне все.
— Он оказался хитрым. А мы были глупы.
— Это ты был глуп, Нии.
— Я был глуп. От него несло виски. Он вел себя шумно и разнузданно. Волосы у него были взлохмачены. Такие гайдзины сплошь и рядом попадаются в Кабукичо: в голове полно бредовых идей, а на поверку полный ноль. Я думал о том, как избавиться от гайдзина без шума, не привлекая внимание полиции. Я понимал, что это будет непросто. Я совершил одну ошибку.
— Какую?
— Гайдзин вскрыл замок. Я слышал, как он щелкнул, однако уже через несколько секунд гайдзин проник внутрь. Он очень опытный человек. Я сидел и ломал голову, пытаясь вспомнить, запер ли дверь на замок. Сейчас я точно знаю, что запер.
— Значит, он вас обманул.
— Провел как детей, разыгрывая из себя пьяного. Это была блестящая находка. Если бы гайдзин раскрыл себя в дверях, его бы встретили шесть мужественных воинов с обнаженными мечами. А так ему удалось с помощью своего нелепого спектакля приблизиться к нам вплотную. И вдруг в одно мгновение он стал совершенно трезвым и смертельно опасным. Первых двоих он рассек одним ударом, великолепно исполненным. Наверное, это был его лучший удар за всю схватку, хотя удар, которым гайдзин расправился с Камиидзуми, также был великолепен. В любом случае с ними все было кончено в одну секунду, а в следующую настал черед Джонни Хандзо. Джонни Хандзо потерял голову и бросился на гайдзина, а тот спокойно дал ему приблизиться, после чего пронзил за мгновение до того, как Джонни успел нанести удар, и с Джонни все было кончено. Меньше чем за три секунды гайдзин вывел из схватки троих.
Слушая рассказ Нии, Кондо сидел молча, полностью сосредоточенный, словно пытаясь мысленно создавать зрительные образы. Все случившееся в мастерской полировщика он видел сейчас в темноте перед собой.
— Итак, вас осталось трое?
— Да. И все трое не могли одновременно обойти старика на помосте. Поэтому мы с Касимой двинулись в одну сторону, а Камиидзуми в другую.
— Из всех шестерых Камиидзуми был безусловно лучшим. Старший по возрасту, наиболее опытный. Ему уже приходилось сражаться на мечах.
— Он был восхитителен. Я не сомневался, что он одержит победу или нанесет гайдзину такую серьезную рану, что победа сама свалится нам в руки. Но гайдзин разгадал удар Камиидзуми, отбил его и, используя инерцию вращения, развернулся в «парящем блоке» и выполнил то, чего я еще ни разу не видел, — прямой выпад, нанесенный одной рукой, поразительно стремительный. Ему нужно было предугадать, в какую сторону сместится Камиидзуми. Быть может, это было чистое везение, но он попал Камиидзуми прямо в горло. Уму непостижимо. Столько крови! Она буквально…
— Гайдзин проследил за тем, как Камиидзуми упал?
— Нет, оябун. Он сразу же обернулся к нам. Не успели мы обойти старика, как гайдзин поднырнул под Касиму и полоснул его по ноге. Отрубил ее. И тут он оказался у меня в руках. Его лезвие на мгновение застряло во второй ноге Касимы, потому что он не предполагал, что с такой легкостью перерубит первую. Лезвие застряло, гайдзин с трудом удержал меч одной рукой. Он остался безоружным. Но затем Касима повалился, и меч гайдзина освободился.
— Он был у тебя в руках.
— Был. Он внизу, меч опущен, я над ним, вкладываю всю силу в удар по цели — его шее. Но если думать о скорости, скорости не добьешься.
— Нельзя думать. Никогда нельзя думать.
— А я подумал. Слишком велико было возбуждение, оябун. Я поскользнулся, потерял равновесие, упустил время, а когда пришел в себя, гайдзин уже был готов; он встретил мой удар, отбил его и ударил рукоятью меча мне в лицо.
— Не очень-то красиво.
— Вы правы. С его стороны это была чистая импровизация. Довольно неряшливая. Мне кажется, гайдзина начали оставлять силы.
— Сколько ему лет?
— Он уже в годах. Но еще не старик. В возрасте. Пятьдесят, пятьдесят два, может, чуть постарше. Лицо очень смуглое от избытка солнца, словно покрытое несходящим загаром. Редеющие волосы. На лице не было никаких чувств. Кроме момента, когда он меня ударил. По-моему, это доставило ему удовольствие.
— Какой человек! Это же превосходно. Я даже не могу тебе передать, как я рад. Мне никогда не приходилось сражаться одному против шестерых. Каковы его сильные стороны?
— Сила духа. Он был настроен очень решительно. Ни страха, ни возбуждения, ни злости, ни колебаний. Никаких чувств. В нем не было ничего, кроме чистого профессионализма.
— Мне это нравится.
— Он двигался быстро. Очень быстро. В особенности его руки. Однако я бы сказал, что один на один гайдзин сражался гораздо лучше, чем один против двоих. Он без труда расправлялся поодиночке с каждым противником, первых двоих он уложил мастерским нукицуке. Дрогнул гайдзин только тогда, когда мы двинулись на него вдвоем; вот тут он и совершил ошибку, и я его едва не прикончил.
— Великолепно.
— Оябун, а теперь мне будет дано позволение совершить харакири?
— Нет, нет и еще раз нет. У нас еще слишком много дел. Мне некем будет тебя заменить. Сейчас у нас нет времени.
— Я сгораю от стыда. Не могу смотреть в лицо своим родителям, друзьям, другим синсэнгуми. Я едва осмеливаюсь смотреть в лицо вам.
— Не будь идиотом. Твоя смерть ничего не даст. К тому же я видел харакири и знаю, как это больно. И грязно. Возможно, Нии, тебе предстоит умереть, но пусть, по крайней мере, твоя смерть будет иметь хоть какой-то смысл. Ты вот посмотри на Камиидзуми и остальных. Их смерть не была напрасной. Они помогли вскрыть сильные и слабые стороны нашего противника. Они умерли достойно. А ты передал мне ту информацию, которую они добыли. Это очень ценная информация. Если бы ты сразу же после схватки вспорол себе живот и умер, эта информация никогда бы не дошла до меня. Так чего бы ты добился этим?
— Я остался жив только для того, чтобы вам служить. Как только во мне больше не будет необходимости, я постараюсь смыть свой позор и вернуть честь с помощью танто.
— Да, да, если тебе так хочется. А также ты сможешь отправиться в публичный дом и натрахаться до полусмерти, и, может быть, этого окажется достаточно. В любом случае, Нии, выслушай меня. Я собираюсь обратиться к полицейскому художнику. Мне нужно, чтобы ты как можно подробнее описал ему гайдзина, и он под твоим руководством составит его портрет. Тогда мы сможем забросить сеть: поймать нашего нового приятеля и вернуть меч. Нам нужно разыскать его до той ночи, когда состоится обмен, потому что, если обмен будет проходить по его сценарию, мы окажемся в затруднительном положении. Нам неизвестно, кого представляет этот гайдзин, каковы его цели. Лично я не могу поверить, что это простая катакиучи, месть. Американцы не понимают суть кровной мести. Может быть, в этом еще что-то смыслят сицилийцы, но и только. Мало ли что взбредет этому гайдзину в голову? Что, если он посадит на соседние крыши отряд снайперов, позовет на помощь команду профессионалов? Риск будет слишком большим. Мне бы совсем не хотелось действовать вслепую.
Нии угрюмо кивнул. Он попытался вспомнить подробности, собрать их в памяти, чтобы оказаться полезным, но его не покидало ощущение какой-то неполноты. И вдруг Нии сообразил, в чем дело.
— Оябун!
— Да, Нии? — обернулся Кондо.
Он уже направился к выходу, чтобы отдать необходимые распоряжения. Он так пока и не решил, ставить ли Сёгуна в известность об этом неприятном, но захватывающем развитии событий.
— Мне очень стыдно. Я виноват. Я не узнал.
— Ты о чем?
— Я все понял: я знаю этого гайдзина.
— Знаешь?
— Да, оябун. Я сожалею, что не узнал его в мастерской, но все произошло так неожиданно. Я…
— Нии, ближе к теме.
— Да, оябун. Простите. Мы с этим гайдзином уже встречались. Я сидел в двух рядах от него в экспрессе, идущем в Нариту. Я следил за ним от дома Яно до международного аэропорта в ту ночь, когда…
— Это тот самый гайдзин?!
— Да, оябун.
— То есть это тот самый гайдзин, который привез меч.
— Да.
— Он был дома у Яно.
— Он прожил у них несколько дней.
— Он был их близким другом?
— Да, насколько я сейчас вспоминаю. В тот последний вечер я наблюдал с противоположной стороны улицы. Гайдзин, расставаясь, обнял всех. Я проследил за ним до Нариты и убедился в том, что он зарегистрировался на свой рейс. У меня на глазах он прошел предполетный досмотр. Потом я возвратился к вам и мы пошли домой к Яно. Вместе с Камиидзуми, Джонни Хандзо, Касимой и остальными.
— Гайдзин был знаком с Яно, — с наслаждением повторил Кондо. — Значит, это все-таки катаки-учи! О, восхитительно.
— Полагаю, мы могли бы связаться с тем полицейским инспектором из аэропорта. Он должен знать фамилию гайдзина.
— Его фамилия нам не нужна. Теперь я знаю, как его поймать. Я закину наживку, заманю его поближе и выпотрошу ему внутренности.
— А когда все будет закончено, мне можно будет совершить харакири?
— Нии, не надо быть таким эгоистом. Думай не о себе, а о своем оябуне. Ищи собственное достоинство в преданной службе. И тогда, если ты будешь вести себя хорошо, я позволю тебе покончить с собой. Но сперва, Нии, я приведу к тебе хорошенькую девчонку.
Глава 33 ПРИКАЗАНИЯ
Заказав порцию якитори, неизменно получаешь четыре вполне съедобных, даже вкусных куска мяса и один настолько отвратительный, что это даже смешно. Заведение было пропитано запахом цыплят, жарящихся на открытом огне. Ни в одном «Макдоналдсе» так приятно никогда не пахнет. За соседними столиками другие посетители жадно поглощали заказанные блюда. Боб съел сердце, съел грудку, съел желудок, съел разные другие странные части тела, но колени… Тут он остановился.
Ну, может, это были не колени. Может, это были локти. Так или иначе, на тарелке остались маленькие скрюченные кусочки блестящих жил. Их не смогло опалить даже горячее пламя жаровни за стойкой. Сказать по правде, похоже, в складках и впадинках как раз и прятались крошечные капельки белка, и, может быть, действительно голодный человек не поленился бы их выковырять, но у Боба просто не лежала к этому душа. Он обвел взглядом задымленный зал, грубые столы и неровный пол, словно ожидая увидеть Тосиро Мифуне, который ворвется сюда и начнет рубить направо и налево. Ему удалось поймать взгляд хозяйки, колдовавшей у раскаленной жаровни, и, показав пустую тарелку, объяснить, что к чему: «Принесите еще одну порцию того же самого». Боб также постучал по пустой банке из-под кока-колы, прося повторить и это. Повариха кивнула. Если бы не кока-кола, все это могло бы происходить где-нибудь в четырнадцатом столетии. Боб снова вернулся к задаче, занимавшей все его мысли.
Ему уже почти удалось найти решение. Он долго рыскал по всему Токио на мотоцикле, ища милое уединенное место для встречи с Кондо, и наконец нашел то, что доктор прописал: нужно заставить его приехать в Асакусу и пройти пешком мимо храма, где находятся все лавки. По какой-то причине это место закрывалось рано, и народу здесь было мало. Он встретится с Кондо здесь, на улице; он покажется только после того, как убедится, что его противник пришел один и не привел с собой целую банду громил. У Боба не было ни малейшего желания снова сражаться в одиночку против шестерых, а то и тридцати противников, ибо Кондо наверняка приведет с собой лучших из лучших.
И вот сейчас Боб корпел над шифром, каким бы примитивным тот ни был. Ему требовалось отыскать нужное слово в «Благородстве в неудаче», записать номер страницы, абзаца, предложения и слова, так что объявление приобретало следующий вид: «Дорогая Юки, 233-2-4-3», что означало страницу 233, второй абзац, четвертое предложение, третье слово. И дальше в том же духе; полная белиберда, если не знать ключ. А в расшифрованном виде сообщение примет следующий вид: «Асакуса, Храмовая улица, сегодня в полночь, один».
Боб ощутил ее присутствие до того, как увидел ее. Она вошла в зал решительным шагом, по-мужски, как это было в ее духе, и тут же направилась к нему. Он как можно дольше не поднимал взгляд.
— Я уже почти закончил. Кажется, все получилось как нельзя лучше.
Прошло еще несколько минут, а когда работа была наконец закончена и Боб смог от нее оторваться, хозяйка принесла блюдо с расчлененным цыпленком и новую банку кока-колы, спросила у Сьюзен, чего хочет та, и, получив заказ только на напиток, удалилась.
— Тебе сегодня вечером к нам и близко подходить нельзя — мало ли что случится. Но я хотел показать тебе, чем занимаюсь, — я ведь обещал держать тебя в курсе.
Только сейчас Боб наконец поднял взгляд и сразу почувствовал что-то неладное.
— Ну хорошо, — сказал он, — что случилось? Ты не произнесла ни слова.
— Помнишь, я как-то предупредила тебя, что терпеть не могу пустой треп?
— Помню.
— Не буду начинать и сейчас. Выскажусь честно и откровенно. Чтобы ты не смог потом говорить, будто я тебя обманула.
— Господи, Сьюзен, мне совсем не нравится такое начало.
— Свэггер, я прикрываю твою лавочку. Все кончено. Довольно. Пора возвращаться домой.
Боб не ощутил ни злости, ни гнева, ни чувства того, что его предали. Молодая женщина и раньше не притворялась, будто полностью его поддерживает, и всегда предупреждала, что будет поступать в соответствии с законами и своим долгом, а не с чувствами. Она никогда не разделяла его самурайский настрой. По дороге из мастерской полировщика, взглянув на пропитавшиеся кровью брюки Боба и кровавые брызги у него на лице, Сьюзен спросила только:
— Ты кого-то ранил?
— Нет, но я убил пятерых.
— О господи…
— Это было совсем не как в кино. Больше похоже на бойню на колбасном заводе. Я не получил никакого удовольствия, но эти ребята готовы были резать меня так же безжалостно, как я резал их, поэтому я сделал то, что сделал. Меч у меня, тут все в порядке. Как только якудза все это обнаружат, они наведут в мастерской порядок, потому что им не нужно, чтобы полиция совала нос в их дела. Так что все будет чисто и аккуратно.
— На этот раз обошлось, — такими словами ограничилась Сьюзен тогда.
Но теперь она сказала:
— Дальше возможны три варианта развития событий. Надеюсь, ты сам поймешь, что лучшим будет первый.
— Это какой?
— Ты отдаешь мне свой фальшивый паспорт. Садишься вместе со мной в машину с дипломатическими номерами и едешь на базу американских ВВС, которая здесь поблизости. Я договорилась, точнее, посол договорился, после долгих уговоров и ругани, чтобы тебя отправили домой на военном самолете, совершенно бесплатно, в обход всех формальностей. Ты приземлишься в Калифорнии, тебя подведут к паспортному контролю и пропустят через него. На этом твое участие закончится. Все, что произошло в Японии в течение последних нескольких недель, перестанет существовать. Не было никакого… я даже не помню, что написано в твоем паспорте.
— Томас Ли.
— Не было никакого Томаса Ли. Он исчез, ты исчез, все кончено. Ты возвращаешься в свой Арканзас.
— В Айдахо.
— Куда хочешь. Тем временем посол найдет способ передать составленный мною отчет о твоих находках кому-нибудь из сотрудников японского Министерства внутренних дел. Это станет отправной точкой и путеводной нитью. Надеюсь, японцы дадут делу ход; не сомневаюсь, что в Министерстве внутренних дел есть определенные круги, которые приложат для этого все силы. Вероятно, на это потребуется какое-то время, и со стороны довольно долго будет казаться, будто никакого прогресса нет. Но в конце концов, разобравшись, что к чему, японцы начнут действовать и сделают все, что нужно. И убийцы Филиппа Яно будут наказаны. В любом случае, поскольку меч теперь у нас, ближайшие планы человека, возомнившего себя сёгуном, нарушены. Он не победит на выборах главы ВЯВО и будет низвергнут и уничтожен. А это уже что-то. И в конце концов правосудие свершится.
— Ты прекрасно понимаешь, что этого не произойдет никогда.
— Вариант номер два. Окончательный результат абсолютно такой же. Все в точности так же, но только ты поднимаешь шум или совершаешь какой-нибудь безответственный поступок. В ресторан заходят четыре джентльмена внушительных габаритов. Так получилось, что в прошлом они служили в войсках специального назначения Южной Кореи, а сейчас время от времени выполняют специфические поручения нашего посольства. Это очень крепкие, очень опытные ребята. У них на четверых что-то около семнадцати черных поясов в различных видах единоборств. Всем приходилось бывать в переделках. Они тебя нейтрализуют. Это будет очень болезненно. Затем тебя отводят в ту же самую машину с дипломатическими номерами, но только в наручниках и покрытого синяками. А дальше все то же самое. Свэггер, не надо. Не втягивай себя, меня и всех остальных в эту грязь. Все это будет совершенно бессмысленно, глупо, бесполезно. Ты разобьешь мне сердце.
— Окада-сан, в настоящий момент ваше сердце меня не слишком беспокоит.
— Вариант номер три. Тебе удается бежать отсюда. Возможно, из этого заведения есть еще один выход, а ты, как нам известно, человек чрезвычайно способный, упорный, изобретательный, особенно в таких темных искусствах, как скрытность. Тогда мы доносим на тебя японским властям. Высокий гайдзин, абсолютно не владеющий японским, — шансов у тебя никаких. Быть может, на это потребуется два дня, быть может, три. Но тебя схватят, а далее выяснится, что паспорт у тебя фальшивый, что мы не заинтересованы в том, чтобы тебя покрывать, и ты предстанешь перед судьями. В Японии нет присяжных. У тебя уже имелись нелады с законом, и ты отправишься в тюрьму. Лет на пять, а то и на десять. Какая бессмыслица. Какой глупый, печальный, нелепый конец. Не так должен окончить свои дни прославленный герой. Без жены, без дочери. Я буду навещать тебя до тех пор, пока мне не надоест, после чего перестану.
— А как насчет четвертого варианта? — спросил Боб.
— Никакого четвертого варианта нет.
— Вариант номер четыре: ты отправляешь своих громил обратно в клетку. Мы работаем дальше. Мне нужно еще всего два дня. Мы с Кондо Исами встречаемся в полночь на безлюдной улице в Асакусе. Твои четверо ребят из корейского спецназа обеспечивают меры безопасности, поэтому нам никто не мешает. Мы с Кондо сражаемся.
— Это как раз то, чего я стараюсь не допустить. Он тебя убьет.
— Может быть. А может быть, я его убью. В первом случае ты осуществляешь свой план. Если произойдет второе, ты опять же осуществляешь свой план. Быть может, японцам в конце концов удастся завалить Юичи Миву, а с ним и Кондо Исами, быть может, нет. Но главное, человек, убивший Филиппа Яно и его семью, умрет. Свершится правосудие. Или умрет тот, кто попытается свершить правосудие. Он потерпел неудачу, но, по крайней мере, он пытался. Один человек назвал это «Благородством в неудаче». Вот мир, в котором я предпочитаю жить и умереть.
— Нет. Ничего этого не будет. Все уже решено. Мы не можем допустить, чтобы американский гражданин, склонный к насилию и представляющий опасность для общества, вступал в противозаконные отношения с японскими преступниками, причем так, что за этим невозможно проследить и все это в любой момент может взорваться, превращаясь в грандиозный скандал, катастрофу, смерть, анархию, унижение. Нам нужно поддерживать хорошие отношения с японцами, их сотрудничество необходимо в гораздо более значительных сражениях. Сейчас идет война, если ты забыл.
— Филипп Яно не забыл. В этой войне он лишился глаза и своей карьеры.
— То, что произошло с Филиппом Яно и его семьей, — это страшная трагедия. Однако наш жестокий, порочный мир полон страшных трагедий, и далеко не за каждую из них можно воздать по заслугам виновным. Есть вещи, имеющие большее значение, например государственная безопасность, хорошие отношения между союзниками, искренность в этих отношениях и много еще подобных вопросов, которые решаются теми, кто видит общую картину и живет с грузом такой ответственности, какую мы с тобой не можем даже представить.
— И какова тут точка зрения Окады-сан? Я слышу голос Государственного департамента, но не слышу голос Сьюзен Окады.
— Окада-сан — самурай. Она работает на своего даймё, большого господина. Живет, чтобы ему служить. И этим все сказано. Окада-сан подчиняется своему даймё. Она смирилась с этим много лет назад. Ее чувства являются ее личным делом и больше никого не касаются. На первом месте стоит долг. А теперь, Свэггер, будь добр, доедай своего чертова цыпленка и иди вместе со мной. По-тихому. Так будет лучше. Другого пути нет.
— Ты дамочка крутая, Окада-сан, этого у тебя не отнять. Ничего лишнего. Профессионал до мозга костей. Ты точно не служила в морской пехоте?
— Если тебе от этого будет легче, такой конец меня нисколько не устраивает. То, что ты совершил… в общем, ничего подобного я еще никогда не видела. Но — это все не имеет значения. Я самурай. Я подчиняюсь своему даймё. А теперь нам пора…
Вдруг откуда-то снизу раздался странный звук.
— Проклятье, — выругалась Сьюзен.
Нагнувшись, она подняла с пола зеленую сумочку от Кейт Спейд и выудила из нее надоедливо жужжащий сотовый телефон.
— Твой даймё хочет узнать последние новости.
— Это какой-то другой номер.
Сьюзен раскрыла телефон.
— Да… Понимаю… Нет-нет, вы поступили совершенно правильно… И когда?.. Хорошо, спасибо… Не знаю. Просто не знаю… Нет, не звоните… Не знаю, мне нужно подумать. Но если вы позвоните, это лишь создаст еще больше проблем.
Захлопнув аппарат, она убрала его в сумочку.
— Что ж, — сказал Боб, — пошли в машину. Давай поскорее покончим с этим.
— Нет, — остановила его Сьюзен. — Все изменилось.
В ее глазах он увидел нечто похожее на наворачивающиеся слезы. Даже непроницаемая маска закаленного воина чуть дрогнула. Сосредоточенная серьезность уступила место чему-то более мрачному, более печальному и трагичному.
— Это звонила сестра Каролина из больницы. Туда только что ворвались вооруженные люди. Они похитили Мико Яно.
Глава 34 ЗАХВАТ
Девочка по-прежнему никак не могла разобраться в происходящем. Она была в гостях у своей подружки Бенни, у них была вечеринка, они играли в лошадок, а затем смотрели кино про смешных зеленых человечков, живущих в лесу, и хихикали всю ночь, вспоминая его. А на следующий день два странных дяди и одна странная тетя отвезли ее сюда, где полно монашек и медсестер и все суетятся и куда-то спешат. Девочка чувствовала себя здесь чужой, но ей некуда было идти.
Конечно, она понимала: что-то случилось. Одна из монашек отвела ее в часовню и наконец рассказала о пожаре и о том, что теперь мама, папа, Реймонд, Джон и Томоэ на небе, вместе с Богом. Все это было хорошо, но девочке хотелось знать:
— Когда я их снова увижу?
— Милая малышка, боюсь, ты ничего не понимаешь. Давай снова помолимся.
Проходили дни, затем недели. Каждый раз, когда в комнату кто-то заходил, девочка вскидывала голову и смотрела в ту сторону, ощущая прилив радости и надежды: «Мама? Папа?»
Но это была лишь одна из монашек.
Девочку переодели в странный наряд. Игрушки были унылые и потрепанные, многие сломанные. Остальные дети сторонились ее, как будто она была заразной. Ей было так одиноко.
— Мама?
— Нет, дорогая, ты должна понять. Мама и папа улетели на небо, чтобы быть с Господом Богом. Он позвал их к себе. Им там хорошо.
В мыслях девочка видела только одно лицо, приносившее ей хоть какое-то утешение. Оно было из замечательного фильма, который ей очень понравился, про маленькую девочку и трех ее друзей, вступивших в схватку со злой колдуньей. Одним из этих друзей был высокий, сверкающий серебром человек с большим топором. Его звали Железный Дровосек. Девочка была в восторге от Железного Дровосека. Но ведь он был не только в телевизоре, но и в жизни. Мысленно девочка связывала его со своим отцом, потому что впервые увидела его рядом с папой. Она сразу же почувствовала, что он очень добрый. Девочка помнила, как он был у них дома, чувствовала, что ее отец относился к нему хорошо и он, в свою очередь, хорошо относился к ее отцу. Ничего определенного она сказать не смогла бы, но это ощущалось по движениям, по интонациям, по смеху. Железный Дровосек. Девочка не сомневалась, что он очень хороший человек. Даже если мамы, папы, сестры и братьев больше нет, остался еще Железный Дровосек. Он снился ей каждую ночь. Быть может, Железный Дровосек спасет ее, вызволит отсюда. Все мысли о Железном Дровосеке были проникнуты надеждой.
Но девочка начала писаться в постель, и это вызывало недовольство монашек и нянек. Они старались скрыть свое раздражение, но ребенок прекрасно чувствует малейшие нюансы выражения лица, интонации, жеста — и девочка поняла, что чем-то сильно провинилась. Это ее огорчило. Она ничего не могла с собой поделать. Ей было очень стыдно, потому что личная гигиена (девочка не знала этих слов, она думала про себя так: «быть чистой и свежей») имеет столь важное значение; мама старательно приучала ее к этому, и вот она стала такой грязнулей. Монашки были разочарованы. Никто не повышал голос, не наказывал девочку, не поднимал на нее руку, и все же это было тяжкой ношей.
Девочка не могла сказать, когда она начала кричать во сне. Но через какое-то время ей уже казалось, что крики были всегда. Она понятия не имела, откуда все это взялось, но по ночам — не каждую ночь, а иногда, — когда она лежала в кровати одна, в темноте, и спала, а может быть, не спала, ей вдруг начинали слышаться крики.
Мама? Папа? Реймонд? Джон? Томоэ?
Это были не они. Девочке так их не хватало. Ну почему они покинули ее? Почему Бог позвал их к себе? Все это было так несправедливо.
— Ты должна быть сильной, — говорили ей.
Но что значит «сильной»? Ее братья были сильными, особенно Реймонд, спортсмен. Они упражнялись с гантелями, у них бугрились мышцы. Они смеялись и подшучивали друг над другом по поводу школы, девчонок, домашних работ и всего остального, и это было так чудесно, хотя тогда, разумеется, девочка еще не сознавала, насколько это чудесно и как скоро все это кончится. Кончится навсегда.
Однако, похоже, монашки требовали от нее продемонстрировать не эту «силу». Девочка решила, что тут дело не в мускулах, а в чем-то другом, в таком, что у нее никогда не получится. Это не имело никакого отношения к мокрой кровати по утрам и ночным крикам.
— Это кричишь ты сама, — сказала ей как-то одна из монашек. — А не кто-то другой. Пожалуйста, дорогая, тебе нечего бояться. Ты среди друзей, которые позаботятся о тебе. Ты должна быть… — И снова то самое слово: — Сильной.
А однажды крики стали настолько громкими, что девочка проснулась. И вдруг поняла, что она вовсе не спала. На улице был ясный день. В комнате было светло. И постепенно до девочки дошло, что на этот раз кричит не она, не мама, не папа, не Джон, Реймонд или Томоэ, а сестра Мария.
Внезапно дверь распахнулась, выбитая ударом ноги, и в комнату ворвалось огромное чудовище. Девочка тотчас поняла, что это очень злое огромное чудовище. Одна половина его головы была распухшей и желтоватой, нижняя часть лица была забинтована, и на белом проступали пятна крови. Чудовище было громадным и свирепым. Оно посмотрело на девочку, и та от страха описалась.
Чудовище схватило ее.
— Девочка, — зловеще прорычало оно, — ты будешь делать все так, как я тебе скажу, иначе я тебя больно ударю. Ты все поняла?
Девочка почувствовала, что имеет дело с силой взрослого. Ей захотелось кричать, но она не смогла издать ни звука, потому что ей было очень страшно.
Грубо схватив ее, чудовище вышло в коридор. Там девочка увидела сестру Марию, лежащую на полу с окровавленным лицом. Рядом с ней сидела на корточках сестра Аоки, пытаясь привести ее в чувство. Она судорожно тряслась от страха и не подняла глаз. Девочка подумала о Железном Дровосеке. Железный Дровосек смог бы ее спасти. Но его здесь не было.
Огромное чудовище с ревом неслось по коридору, к нему присоединились еще два огромных чудовища в таких же черных костюмах. У всех были одинаковые плоские, тупые лица и угрюмые рты, а под одеждой чувствовалась большая мускулатура. Это были самые настоящие чудовища.
Через мгновение они выскочили на улицу. И никто не потрудился предложить девочке теплую одежду.
Подкатила черная сверкающая машина, огромное чудовище запихнуло Мико внутрь и уселось рядом, навалившись на нее своей тушей.
— Эй, ты, — прошипело оно, — ни одного звука, ни одного крика, делай, что тебе говорят, иначе будет плохо. Сядь на пол на корточки, чтобы тебя не было видно.
Чудовище усадило девочку на пол и накрыло ее ковриком. Машина рванула с места, визжа покрышками.
Глава 35 ЛИЦОМ К ЛИЦУ
Как и предполагал Боб, в разделе частных объявлений «Джапан таймс» появилось послание, зашифрованное с помощью «Благородства в неудаче». Вся разница заключалась в том, что не он обратился с этим сообщением к Кондо Исами, а Кондо Исами обратился к нему. Сообщение расшифровал ось без труда: «Ворота Ясукуни, десять утра, вторник».
— Тебя убьют, — сказала Сьюзен Окада.
— Нет. Не убьют, если у меня с собой не будет меча. Кондо назначит следующую встречу. И вот тогда меня убьют.
— О, так гораздо лучше. Послушай, мы должны обратиться в полицию.
— Нет. Тебе известно, что у Кондо, точнее, у его босса Мивы в полиции есть осведомители. Кондо узнает обо всем через десять секунд. И что это даст? Мико убьют, меня убьют. Нет, я пойду на встречу, договорюсь о следующей встрече, о передаче меча, и мы будем плясать уже от этого.
— Но у Кондо на руках все козыри, и он это понимает. Вести с ним переговоры бессмысленно. Он заманит тебя в какое-нибудь пустынное место, убьет, заберет меч, убьет Мико, после чего продолжит свое черное дело. Он победит.
— Может быть, мне удастся…
— Нет! Ты погубишь девочку. Погубишь себя. Мива одержит верх. И что тогда?
— Окада-сан, я отправлюсь на эту встречу и вернусь назад. А там посмотрим.
— Если из-за меня погибнет этот ребенок…
— Ты только выполняла свой долг. Ты ни в чем не виновата. Тут дело в тех ребятах, которые ради достижения своей цели не остановятся ни перед чем. Во всем всегда виноваты они. А нам с тобой выпала честь с ними сразиться. И мы с ними сразимся. И остановим их. Они считают себя самураями. Но на самом деле никакие они не самураи. Мы им покажем, что значит быть настоящим самураем.
Но Сьюзен его слова не убедили. Боб уехал, оставив ее в подавленном состоянии.
Здорово похолодало. Вся зелень в Японии исчезла. Дул холодный ветер, гоняя опавшую листву по вымощенным дорожкам храма Ясукуни. По обеим сторонам широкой бетонной площадки стояли деревья, голые и строгие, похожие на ржавую колючую проволоку.
Боб остановился под железными воротами. Они возвышались над ним, два стальных столба, взметнувшиеся на пятьдесят футов вверх, перехваченные двумя поперечинами, одна из которых просто обеспечивала прочность конструкции, а другая, выполненная в виде большого распростертого крыла, символизировала Японию, просторы, могущество, славу и красоту необъятной Азии. Устремив взгляд в голубое небо, на верхнюю поперечину, Боб увидел бесконечность.
Он поежился. Поверх черного костюма он накинул лишь дождевик, что было явно не по погоде. За зеленым парком, окружающим храм, суетился деловой Токио, сигналили машины, куда-то спешила нескончаемая толпа пешеходов. Здесь же была лишь горстка туристов, несколько групп, которые направлялись или к буддийскому храму — прямо по дорожке, или к музею самураев — направо.
Боб взглянул на часы. 10.15. Разумеется, сейчас его внимательно изучают со стороны в бинокль, убеждаясь, что он действительно пришел один.
И тут от группы ничем не примечательных бизнесменов отделился один и не спеша направился к Бобу.
Боб следил за его приближением. Ожидал ли он увидеть что-нибудь необычное, человека, источающего вокруг сияние демонической харизмы? Так или иначе, перед ним стоял мужчина в костюме и пальто, в темных очках на широком невыразительном лице, с жесткой щетиной коротко остриженных волос. Когда незнакомец подошел ближе, Бобу показалось, что он уловил исходящую от него физическую силу — под унылой одеждой скрывалось поразительно накачанное и натренированное тело. Впрочем, возможно, это был лишь плод его воображения.
— Приветствую вас, я убийца Кондо Исами, — произнес незнакомец на чистейшем английском языке, отточенном, поставленном, без тени акцента. — На кого вы работаете?
Встретившись с ним лицом к лицу, Свэггер почувствовал что-то смутно знакомое. Словно из ниоткуда появилось ощущение, что этот разговор уже состоялся в прошлом. Все это было очень странно. Что же тут так знакомо?
— На Филиппа Яно, — наконец ответил Боб.
— Вы случайно не представляете интересы некой американской промышленной группы, выпускающей развлечения для взрослых?
— Я ни за что на свете не стану пачкать себя связями с подобным бизнесом. Мне нет никакого дела до того, как молоденькая учительница развлекается со своими учениками. Но я профессионал, и я справлюсь с вами.
— Вы не действуете от имени какого-либо государственного органа?
— Нет. В свое время я работал на правительство, но мне это не понравилось.
— Кто научил вас обращаться с мечом?
— Тосиро Мифуне.
— Кто та женщина?
— Приятель, я здесь не для того, чтобы играть в вопросы и ответы.
— Кем был для вас Филипп Яно?
— Хорошим человеком, отцом хорошего семейства, который не заслужил того, что выпало на его долю.
— Он был ничем. Есть более важные вещи, чем какая-то жалкая семья, живущая на государственную пенсию.
— А я скажу: он был всем. А я скажу, пора кончать этот треп и переходить к делу. Чем дольше я здесь стою, тем больше мне хочется свернуть тебе шею.
— Я пожил какое-то время в Америке. Вы напоминаете мне капитана одной футбольной команды, который впоследствии стал пожарным. Глупого, шумного, агрессивного. Он погиб одиннадцатого сентября, когда на него обрушилась одна из башен Всемирного торгового центра.
— Мне тошно от одной лишь мысли, что такой ублюдок, как ты, был знаком с этим человеком.
— Да, он был героем, как и вы. Но другого рода. Его храбрость была храбростью самурая, стремительной, эмоциональной, сиюминутной. Это я могу понять. Но у вас были недели на то, чтобы все хорошенько обдумать, осмыслить, найти причины отказаться от действия. Однако вы не свернули с пути. Что движет вами в этом личном деле, которое может закончиться для вас только катастрофой? Полагаю, вы подготовили тщательный рациональный фундамент. Право, мне любопытно. Почему? Почему?
— У вас, японцев, есть такое понятие — «онэ», — сказал Боб.
— Онэ, — презрительно повторил Кондо. — Чувство долга. Что ты можешь знать об онэ? Это истинно японское понятие, бесконечно сложное и запутанное. Для американца в нем не может быть никакого смысла.
— А по-моему, я прекрасно разобрался, что это такое.
— Это невозможно, — продолжал Кондо. — Я учился в американской школе. Год я проучился в американском университете. Я знаю Америку. Ни один американец не способен чувствовать онэ.
— Спроси своих дружков из полировальной мастерской, насколько я серьезен. Они должны это знать.
— Ты просто застиг их врасплох. Так что, вероятно, твой подвиг не столь впечатляющий, как ты думаешь.
— Сэр, право, мне наплевать на то, какое я произвожу на вас впечатление. Мне нужен ребенок.
— А мне нужен меч.
— Как видишь, у меня с собой его нет.
— Где он?
— Когда одной рукой я буду держать ребенка, другой я возьму меч и отрублю им тебе голову, — и тогда ты узнаешь, где он.
— Эту игру мы будем вести вот как. Держи, — Сунув руку в карман, Кондо достал сотовый телефон, крошечную «раскладушку». — Через два дня в пять тридцать утра на этот телефон позвонят. Тебе объяснят дорогу. Ты тронешься в путь. Кажется, у тебя есть мотоцикл? Ты должен будешь ждать звонка у Императорского дворца. Это в центре. В пять сорок тебе позвонят снова. Ты получишь указание, куда повернуть. Так будет продолжаться какое-то время, пока к шести часам утра ты не приедешь в определенное место. Тебе придется несколько раз проскочить на красный свет. И будет лучше, если ты не станешь дожидаться зеленого, потому что, если ты опоздаешь, я начну отрезать девочке пальцы. Каждую минуту по пальцу. Когда закончатся пальцы на руках, я примусь за пальцы на ногах. Когда пальцев больше не останется, я стану отрезать конечности. Скорее всего, к тому времени, как я отрежу все четыре, девочка умрет от потери крови, но если нет, я перейду к глазам, носу и языку. Мне это ничего не стоит. Так что ты уж лучше приезжай вовремя.
— Знаешь, я получу огромное удовольствие, отрубив тебе голову.
— И захвати с собой меч. Ребенка я освобожу, только когда меч будет у меня. Инициатива принадлежит мне, обмен контролирую я. Ты сможешь уйти вместе с девочкой. Позднее я позвоню тебе на сотовый и назначу новую встречу. И тогда мы уладим наше дело.
— Ну да, конечно. Ты запросто сможешь пригнать туда шестьдесят человек с автоматами Калашникова.
— Смогу. Но если ты не согласишься, я начну резать девочку прямо сейчас. Не веришь? Посмотри вон туда.
Кондо махнул рукой, и Боб, повернувшись, увидел ярдах в пятидесяти здоровенного верзилу с распухшим, забинтованным лицом — Боб вспомнил, что дважды хорошенько вмазал ему в полировальной мастерской. Верзила держал за плечи Мико. Девочка была перепугана до смерти. Верзила повернул руку, и тотчас же сверкнуло лезвие танто, нежно приставленного к тонкой детской шейке. Движения громилы были пропитаны каким-то сексуальным зарядом. Было видно, что он наслаждается близостью девочки, ее запахом, ее беззащитностью.
— Этот парень, не раздумывая, перережет ей горло. Он настоящий якудза, привыкший беспрекословно повиноваться своему оябуну.
Отвратительное зрелище здоровенного мужика, прижимающего сверкающее лезвие к шее объятого ужасом ребенка, наполнило Свэггера яростью. Однако ярость — плохой помощник.
— На меня произвело впечатление, какой ты сильный и храбрый против маленьких девочек, — сказал Боб. — Да, это нечто, но мы посмотрим, как ты себя поведешь, имея дело с человеком более проворным, вооруженным острым мечом. Мне почему-то кажется, что перед тем, как я рассеку тебя пополам, ты будешь молить о пощаде.
— Мы это обязательно увидим, гайдзин. Не забудь захватить меч, которым был обезглавлен Кира.
— Не забуду. А после того как я разберусь с тобой, я преподнесу меч, которым был обезглавлен Кондо, в дар музею.
Глава 36 БЕЛАЯ КОМНАТА
Они ехали через весь Токио в большой черной машине. Мико сидела сзади, точнее, на полу, зажатая между двумя огромными чудовищами. Они не разговаривали ни друг с другом, ни с ней. Девочка молча сидела, ощущая лишь толчки, когда машина останавливалась или снова трогалась с места.
Она узнала. Железного Дровосека, того человека из хороших воспоминаний. На этот раз он смотрел на нее с бесконечной печалью в глазах, затем печаль сменилась яростью, после чего его взгляд стал непроницаемо-спокойным. Но все же Мико успела заметить мгновение ярости, и почему-то это наполнило ее надеждой. Железный Дровосек все знает. Он на ее стороне. Он ее спасет. Железный Дровосек ее спасет…
Но потом два огромных чудовища грубо запихнули Мико обратно в машину, называя ее только «девочкой», ни разу не обратившись к ней по имени, как будто она была никому не нужной падчерицей. И ее отвезли назад в дом, в комнату.
Огромное чудовище вытащило ее из машины. На тесном внутреннем дворике Мико удалось глотнуть свежего воздуха. Дворик был обнесен высокой стеной. Дом находился где-то в большом городе: из-за стены доносился приглушенный шум потока машин, вдалеке виднелись многоэтажные жилые дома. У девочки создалось ощущение, что здесь полно народу. Они шатались вокруг, молодые мужчины, и ни одной женщины, все в черных костюмах, все сильные и готовые к драке. Девочка чувствовала исходящую от них агрессию. Они пугали ее, даже когда играли в карты, смеялись, листали журналы или шутливо толкали друг друга. Мико чувствовала, что это что-то вроде войска.
Огромное чудовище отвело ее наверх, в белую комнату. Мико уже провела в этой белой комнате какое-то время. Она успела хорошо ее изучить. Здесь были кровать, телевизор — и больше ничего. Ни игрушек, ни книг, ни кукол. Стекла в окнах были закрашены белой краской. За дверью имелся отдельный туалет. Три раза в день девочке приносили поесть; обычно это был или один из сердитых молодых мужчин, или огромное чудовище с распухшим лицом — ее главный тюремщик. Мико кормили исключительно продуктами, взятыми навынос: гамбургерами из «Макдоналдса», свиными котлетами, завернутыми в бумагу, и тому подобным. Обычно это сопровождалось газированной водой в бумажном стаканчике, а через час кто-нибудь возвращался, отпирал дверь и, не сказав ни слова, забирал мусор. А все остальное время девочка находилась одна посреди белизны, смотрела телевизор или просто сидела, вспоминая, размышляя, плача.
— Девочка, — сказало Чудовище, — тебе известны порядки. Ты остаешься здесь. И слушаешься меня. Если ты не будешь слушаться, я тебя накажу. Я верю в то, что детей надо наказывать. Твои родители наказывали тебя недостаточно строго, Я буду тебя наказывать очень сурово. Это понятно?
— Сколько…
— Молчи! Девочка, не задавай никаких вопросов. Тебе не нужно ничего знать. Веди себя хорошо, иначе нам придется тебя наказывать.
После чего оно заперло дверь, оставив Мико в комнате одну.
— Нии, подойди сюда, — сказал Кондо.
— Слушаюсь, оябун.
— Как твой глаз?
— Все в порядке.
— Каким тебе показался гайдзин при последней встрече?
— Без меча он просто обыкновенный человек, оябун.
— Он выглядел спокойным. На меня это произвело впечатление. Было мгновение, когда он увидел ребенка, и у него вспыхнули глаза. Он испытал ярость. Но тут же взял себя в руки. Гайдзин понял, что, если он только пальцем шевельнет, ты перережешь девчонке горло.
— Да, оябун.
— Нии, ты бы перерезал девчонке горло, правда?
— Да, оябун.
— Иногда меня охватывает беспокойство, Нии. Я доверяю тебе больше всех. Остальные ребята сильные и крепкие, они беспрекословно выполнят приказ и будут сражаться, даже новички. Но твоя задача, Нии, будет самой сложной. Я не сомневаюсь в том, что гайдзин попытается что-то предпринять. И тогда, возможно, тебе придется убить девочку. Ты должен показать себя настоящим самураем. Настоящим синсэнгуми. Настоящим членом братства «Восемь-девять-три». Ты должен превратиться в сгусток воли, не имеющий сердца.
— Да, оябун.
— Ты ни в коем случае не должен расчувствоваться и подвести меня. Это понятно?
— Да.
— Ты кобун, простой воин. Я оябун. Ты это понимаешь. Из этого вытекает все.
— Я буду готов выполнить ваш приказ.
— Не представляю себе, как это может произойти, но, если мы подвергнемся нападению, ты направишься прямо к девочке и перережешь ей горло.
— Да, мой господин.
— Ты уверен, что сможешь это сделать?
— Да, оябун. А почему вы спрашиваете?
— Потому что я вижу, что ты питаешь к этому ребенку определенные чувства.
— Оябун, я…
— Нет, я видел тебя в ее присутствии. Ты не можешь от нее глаз оторвать. Постоянно оглядываешься. По дороге сюда ты то и дело бросал на нее взгляд. Когда ты ее держишь, я вижу в твоих движениях страсть. Ты получаешь наслаждение, когда она у тебя в руках.
— Оябун, вы ошибаетесь. Клянусь, эта девчонка для меня ничто, она…
— Я понимаю, какая она хорошенькая. Понимаю, как вид ее нежного детского тела соблазняет тебя.
— Для меня она все равно что неодушевленный предмет.
— Нии, не лги мне. Я твой оябун.
Пойманный на лжи, Нии сглотнул подступивший к горлу комок.
— Нии, выслушай меня. Я должен быть уверен в том, что ты сможешь ее убить. Потому что если у меня не будет полной уверенности, они это почувствуют. И это придаст им силы. Ты меня понимаешь?
— Да, оябун.
— Так что выслушай меня. Перед тем как убить девчонку, оттрахай ее. Как только ты это сделаешь, она перестанет быть для тебя маленькой принцессой. Она превратится в шлюху, которую использовали для минутного наслаждения, а потом выбросили, оскверненную, испачканную. Она станет чем-то вроде той корейской коровы, которую мы выпотрошили в Кабукичо. И тогда ты сможешь спокойно ее убить.
Нии увидел логику в словах Кондо. И эта логика пришлась ему по душе.
— Нии, ты меня слышишь? Перед тем как ее убить, трахни ее.
— Я вас понял, оябун.
— Хороший кобун. Хороший ученик. Теперь я знаю, что на тебя можно положиться.
Глава 37 СТРАТЕГИЯ
— Вот наш лучший вариант, — угрюмо промолвила Сьюзен Окада.
Они сидели в кафе на Роппонги, в окружении разработчиков программного обеспечения, продавцов одежды, домохозяек, подростков с булавками в носу и в губах.
— Я все обдумала, и, может быть, у нас получится. Я иду к послу. Объясняю ему ситуацию, объясняю, что времени у нас нет, что дело не терпит отлагательств. Посол отправляется к премьер-министру. Мы принимаем на себя какие-то обязательства, даем гарантии. Гарантии того, что ущерба третьим лицам не будет, а если и будет, то минимальный. Если мы получим «добро» — обрати внимание, я обхожу стороной токийскую полицию и вообще все, где может быть рука Мивы и Кондо, — мы вызываем сюда отряд «морских котиков»[32] с Окинавы. Сейчас почти все силы брошены на Ближний Восток, но седьмой отряд находится на Окинаве, и эти ребята знают свое дело. Ты не поверишь, чем им приходилось заниматься в Северной Корее и на побережье Китая. Одним словом, как только в пять часов тридцать минут ты получаешь звонок, «седьмой» зависает у тебя над головой на вертолете и следует за тобой на место. Мы быстро высаживаемся с воздуха. Японская полиция обеспечивает содействие в том плане, что парк или любое другое место будет оцеплено и никто посторонний не пострадает от случайной пули. «Морские львы» захватывают Кондо и Миву, если тот будет там. Победа за нами. Мы спасаем девочку, ты жив и здоров, Кондо и Мива мертвы или за решеткой, «седьмой» возвращается на Окинаву — одним словом, счастливый конец.
— При всем уважении к вам, мэм, нельзя сражаться с противником на его территории, если у него было время ее изучить. Это главный урок, который я усвоил во Вьетнаме. Как только эти ребята услышат рев вертолетов, они убьют девочку, пока «морские котики» будут еще на высоте пяти тысяч футов попивать кофе. И, приземлившись, они найдут лишь мертвого ребенка. Быть может, меня тоже убьют. А тем временем весь Токио тоже услышит вертолеты, и через пару минут на месте соберутся пятьдесят съемочных бригад телевизионных выпусков новостей. Узнав о том, что тут замешан Мива, японцы съедут с катушек. Нет, так ничего не получится.
— Свэггер, я и не говорила, что у меня идеальный план. Но нам сдали крапленые карты, и с таким раскладом это лучшее, что я могу предложить. Так мы точно убережемся от случайных жертв, а Мико будет спасать лучшая команда в мире по освобождению заложников. Наши враги получат по полной, и все будет кончено за считанные секунды.
— В твоем плане полно моментов, которые мы не сможем контролировать.
— Других вариантов нет. Ах да, конечно, ты можешь отправиться один — и отдать меч. Тебя убивают, убивают Мико как ненужную свидетельницу, а дальше все идет, как и было намечено. Юичи Мива переизбирается главой японской порноассоциации, изгоняет американцев и убеждает себя в том, что он великий патриот, поскольку сохранил японскую порнуху японской.
— Нет, есть еще один вариант. Ночной набег. До того, как Кондо придет в парк. Мы действуем под покровом темноты и освобождаем девочку. Затем, когда она окажется в безопасном месте, улаживаем счеты. Все делается мечами, поэтому не будет никакой стрельбы в центре Токио, никаких экстренных выпусков новостей и сенсационной фотографии на обложке журнала «Ньюсуик».
Сьюзен рассмеялась.
— Ты шутишь? Все это замечательно, но, во-первых, мы понятия не имеем, где находится Кондо и где держат девочку, и у нас нет никаких способов узнать это быстро. Если бы у меня были неделя и тысяча человек, возможно, я бы это и узнала. Но у нас меньше сорока восьми часов, и мы имеем дело с самым большим городом в мире. И во-вторых, у нас нет людей. Привлечь «морских котиков» к такой операции не удастся, потому что ее не одобрит никто из вышестоящего начальства. Так кто тогда пойдет в бой? Ты? Ты один? Отдаю тебе должное, ты хороший боец. Но не настолько хороший. Таких бойцов нет. Один ты ничего не добьешься.
— Ты права, я не настолько хорош.
— Возвращаюсь к первому пункту: даже если тебе удастся найти тех, кто пойдет за тобой, ты все равно не знаешь, где находится Мико. Ты даже понятия не имеешь, где ее держат.
— Это можно узнать за десять минут.
— Подумать только.
— Или даже за пять.
— Свэггер, у тебя снова крыша поехала? Во имя всего святого, каким образом ты…
— А я и не говорил, что это я смогу найти Кондо. Я не смогу его найти. Но я знаю человека, который сможет.
— И кто же это такой?
— Ты, Окада-сан.
Она недоуменно посмотрела на него.
— Позволь выдвинуть предположение: ты заместитель главы отделения Центрального разведывательного управления при посольстве в Токио, кодовое имя «Визжащая стерва».
— Господи, — пробормотала Сьюзен.
— От тебя так и несет ЦРУ. Должно быть, ты полагаешь, что я действительно такой тупой, каким кажусь со стороны. Да мне всю свою жизнь приходилось общаться с вашим братом. Еще в семьдесят третьем я работал вместе с ЦРУ во Вьетнаме, добывая новую советскую снайперскую винтовку. Затем я помогал вашему ведомству наводить порядок в собственных стенах в деле с заместителем директора по имени Уорд Бонсон, который оказался не совсем тем, за кого выдавал себя шесть лет подряд. Так что я вас хорошо знаю.
— Мое кодовое имя не «Визжащая стерва».
— Знаю. Я просто попытался сострить.
— Мое имя «Марта Стюарт».[33] Я его терпеть не могу, но тут ничего не поделаешь.
— Это над тобой пошутил какой-то придурок из штаб-квартиры.
— Точно. Я нажила в Лэнгли врагов.
— Значит, ты знаешь свое дело. Ладно, вот как я до этого дошел. А ты мне скажешь, насколько я близок к истине. Управление было замешано здесь с самого начала. Главной задачей было установить, кто убил Филиппа Яно и его семью. Потому что Филипп Яно всегда был вашим человеком. Это он передавал вам все, что имелось у японцев на Северную Корею и Китай.
— Что-то в таком духе.
— Вот почему у него была такая блестящая карьера. Вот почему он учился в разных элитных американских академиях, вот почему он получил это назначение в Ирак, вот почему ему в конце концов довелось побывать в бою. Ради этого пришлось даже задержать его выход в отставку. И он показал себя с лучшей стороны, хотя и лишился глаза.
— Филипп Яно был замечательным человеком. Мне выпала честь работать с ним на протяжении последних трех лет. Не предавая свою родину, он оказал нашей неоценимую помощь. Нам очень повезло, что он работал на нас.
— Затем, через два года после того, как Филипп Яно отошел от дел, его безжалостно убивают вместе со всей семьей. И вот перед вами проблема, большая проблема. Кто убил Яно? Произошла утечка информации? О ваших секретах проведал посторонний? Это сделали китайцы? Северокорейцы? Это дело рук какой-нибудь группы недовольных японцев? Или же — а такая возможность существует всегда — эта трагедия не имеет никакого отношения к сотрудничеству Яно с вашим ведомством? Быть может, он просто попал под случайный кусок дерьма, как это часто происходит в нашем порочном мире? Ситуация усугублялась тем, что сами японцы, похоже, вовсе не горели желанием раскрыть эту тайну. Почему? Кто дергает за нитки? Что происходит? Что все это значит?
Сьюзен кивнула.
— Я знала, что у тебя чутье к этой работе.
— Возможно. Так или иначе, кому-то пришла в голову мысль нанять какого-нибудь простофилю, дикаря со стороны…
— Если честно, мне.
— Я так и думал. Я был ответом на все ваши молитвы. Я ничего не знаю, не вхожу ни в какую структуру, но у меня есть кое-какое преимущество: я не принимаю ответ «нет», я не имею ничего против того, чтобы раскроить пару голов, я не боюсь крови. И еще — я знал Филиппа Яно и очень хорошо к нему относился. Вот каким образом Эл Ино смог раздобыть для меня такой убедительный фальшивый паспорт, вот почему кто-то узнал, куда переслать мне протоколы вскрытия членов семейства Яно, вот почему ты прониклась ко мне таким интересом, хотя я поначалу тешил себя мыслью, что все дело в моей привлекательной внешности и обтягивающих голубых джинсах.
— Джинсы у тебя действительно слишком обтягивающие, Свэггер, — мрачно заметила Сьюзен. Помолчав, она добавила: — Не представляю, как ты в них дышишь. Ты попал в самую точку. Северная Корея. Не Китай, а Северная Корея. Фил имел доступ к японской сети в стране, знал все, что там происходило. Его информация приходила на несколько месяцев раньше.
— Да, и именно поэтому два дня назад ты решила заткнуть пробку. После того как выяснилось: Филипп Яно погиб потому, что Боб Ли Свэггер подарил ему один меч, тот самый — вероятность один на миллион, — которым триста лет назад один тип отрубил голову другому, и Северная Корея тут совершенно ни при чем. Государственные интересы Америки не затронуты. Вас это не касается. Можно сказать, несчастный случай, гибель в автокатастрофе, только и всего. Прискорбно, плохо, но вы этим не занимаетесь, поэтому пора затыкать пробку. Игра закончена, расследование завершено, Свэггер отправляется домой.
— Свэггер, это решение принималось на самом верху. Если тебе будет легче, знай, что я выступала против. Ты даже представить себе не можешь, как я сражалась за тебя, как за тебя сражались все наши. Но все мы служим нашему даймё.
— Я тебя понимаю. Я сам в свое время тоже служил даймё. Жалованье отвратительное, от кормежки тошнит, но зато приходится много бывать под пулями. В любом случае, настал черед даймё послужить нам.
— К чему ты идешь, Свэггер?
— Я никуда не иду. Я буду сидеть здесь и мучиться с новой чашкой кофе. По-моему, японцы добавляют в него рыбий жир: вкус у него явно такой.
— Свэггер, я ничего не…
— А уходишь отсюда ты. Ты отправляешься в центр связи на четвертом этаже и достаешь свой маленький волшебный шифратор, тот самый, который прячешь в коробку из-под кукурузных хлопьев. И вот что ты сообщишь своему начальству в Виргинии: ты получила сведения, что некто получает взрывчатку из Северной Кореи и готовит террористический акт в Токио. Собирается взорвать гостиницу «Хиятт», Токийскую башню или Токийский кафедральный собор. В Лэнгли на это купятся. Ты просишь в срочном порядке провести разведку со спутников. Пусть зоркая птичка высоко в небе присмотрится ко всем владениям Мивы в Токио — их координаты ты раскопаешь без труда. Полагаю, у него всего семь особняков, пять или шесть оптовых баз, десять складов, две или три телестанции, пять или шесть типографий. В общем, около тридцати точек. Всевидящее небесное око присматривается к ним и меньше чем через пять минут обнаруживает в одной из них какую-то необычную, странную активность. Люди в большом количестве вроде бы бесцельно слоняются из угла в угол, занимаются фехтованием или дзюдо. Ах да, вокруг полно машин, территория охраняется, быть может, даже патрулируется. Одним словом, кипучая деятельность в военном штабе. И я склонен полагать, что это место находится рядом с каким-нибудь парком или другой просторной территорией, имеющей один вход, который можно контролировать без особых проблем. Именно там Кондо и намеревается осуществить обмен, именно там он и собирается убить Мико у меня на глазах, просто ради того, чтобы увидеть в них боль, — а потом расправиться и со мной.
Сьюзен молча смотрела на него.
— Ну хорошо, — наконец сказала она. — Предположим, мы их найдем.
— Ты хочешь знать, кто те люди, которые полезут через стену?
— У тебя есть наготове сорок семь самураев?
— Нет, у меня есть четверо бывших корейских спецназовцев, которые вовсе не работают на Управление, а являются личными телохранителями Окады-сан. Всякий раз, встречаясь с тобой, я вынужден буквально расталкивать их. Особенно настырный из них тот малыш, что сидит во второй машине. Он едва не врезался нам в задницу по дороге из Киото. Надеюсь, ты надрала ему за это уши. Он держался слишком близко. Но мне знаком такой тип людей. Вероятно, все они влюблены в тебя и любят подраться. Пойдут они.
— Ну хорошо, пойдут. Но их четверо.
— Переходим к самому забавному. Звоним по телефону один-восемьсот-САМУРАЙ.
— Это еще что за шутки?
— Еще один сюрприз. Я регулярно докладывал о ходе дел некоему Альберту Фудзикаве, майору сил самообороны Японии. Он в курсе, и сейчас он находится в Токио вместе со своими ребятами. Фудзикава был заместителем Филиппа Яно в Эс-Самаве. Это ему Яно спас жизнь, когда японский бронетранспортер подорвался на мине. Речь идет о разведроте Первой воздушно-десантной бригады Восточной армии, штаб-квартира которой находится в Нарасино. Эти люди считаются десантниками, но они играют в шестнадцатый век и весь день напролет дубасят друг друга деревянными мечами. Готов поспорить, это лучшие фехтовальщики в Японии.
— Если мы их привлечем, это станет нарушением всех писаных и неписаных правил японской армии.
— Для этих ребят основной жизненный принцип — онэ. В Японии есть козыри, которые бьют любых тузов, и преданность убитому господину значит больше послушания законам сёгуна. Ребята майора Фудзикавы здесь и готовы идти в бой. Ты даешь нам данные со спутника, и через двадцать четыре часа мы выступаем.
Сьюзен лишь молча смотрела на него.
— А ты очень опасный тип, — наконец сказала она. — Ты ведь именно на это и рассчитывал с самого начала?
— Мы нанесем внезапный и резкий удар. Кондо не успеет сообразить, что случилось. Все будет закончено через несколько минут, потому что мечи оставляют кровь, но не производят шума. Потом мы отправимся домой. Через несколько дней кто-нибудь обратит внимание на тучи мух, кружащихся над местом. Тогда все и откроется. Но к этому времени все будут дома, у себя в кроватях. Мико будет жива и здорова, а голова Кондо Исами будет торчать на шесте. Меч отправится в сейф к доктору Отове, где ему и место. А тебя сделают главой токийского отделения.
— Итак: сорок японских десантников, четверо корейских спецназовцев. Я насчитала сорок пять человек.
— Этого достаточно, — заметил Боб.
— Не совсем. Ты забыл сорок шестого.
— Это еще кого?
— Меня.
— Окада…
— И не спорь, деревенщина. Не смей даже начинать. Я не собираюсь сидеть дома и печь пирожки, пока вы будете рушить мою карьеру.
— Спорить с тобой бесполезно. Ты слишком упрямая.
— Сорок шесть, — продолжала Сьюзен. — Хотя бы ради фактора удачи нам нужен еще один человек. Я никого не забыла? Ах да. Тебя. Ты будешь сорок седьмым самураем.
Глава 38 МЕЧТЫ НИИ
Уже давно стемнело.
Нии был в белой комнате наедине с маленькой девочкой. До него доносились смутные звуки, издаваемые другими людьми, которые передвигались по просторному дому, слонялись по улице, кричали, смеялись, играли в карты. Нии знал, что Кондо закончил свои дела и вернулся. Теперь все произойдет очень скоро, почти наверняка послезавтра.
Вдалеке слышался шум машин, хотя дом стоял на тихой улочке в спокойной части Токио, вдали от оживленных магистралей, гудящих жизнью и движением.
Услышав свист ветра в голых ветвях деревьев, Нии вспомнил, как холодно на улице, и сообразил, что пришла зима. А он незаметно для себя впутался в страшную драму.
Нии не думал о будущем и даже о прошлом, он не думал о своем любимом оябуне и о даймё, которому они все служили, не щадя сил. Нии не думал о том, что дело близко к завершению, что вскоре он станет полноправным членом ведущей банды якудзы в Токио, что его имя станет известным, что его будут бояться.
Мысли Нии были заняты не этим.
Он не мог оторвать взгляд от девочки.
Она спала беспокойно, разметавшись по постели. В неярком, мягком освещении воображение Нии выделывало разные штучки. Он представлял себе девочку обнаженной, хотя и знал, что на самом деле она одета. Он воображал, что она хочет его так же страстно, как и он хочет ее, хотя на самом деле это было не так. Он даже представлял себе, что они будут вместе вечно, хотя это было невозможно, потому что девочке предстояло умереть.
Еще никогда в жизни Нии не испытывал ничего подобного. Девочка полностью занимала все его мысли. И не имело никакого значения, что ей четыре года, а ему двадцать пять.
Нии различал, как плавно вздымается и опускается под одеялом грудь, слышал мелодичное дыхание. Он смотрел на восхитительные пальчики с шелушащимся лаком на ногтях, оставшимся с лета. Смотрел на носик кнопкой, на выражение лица, на неподвижные бледные веки, закрывающие глаза. Смотрел на ангельские губки, лепестки розы, способные дарить сладкие поцелуи. Смотрел на то, как раздуваются и расслабляются ровные овалы детских ноздрей.
Нии смотрел на все это до тех пор, пока не почувствовал, что больше терпеть не может. Он бросился в ванную, чтобы заняться мастурбацией.
Осталось подождать до послезавтра, сказал он себе.
Глава 39 ЧЕМПИОН ПО ФЕХТОВАНИЮ
Боб оставил мотоцикл на стоянке перед входом в музей. К вечеру сильно похолодало. Холодное стальное бедро тупо ныло, сообщая всему телу о своей инородности. Боб стряхнул с себя это неприятное чувство и отходящие от него щупальца воспоминаний. Он понимал, что все произойдет сегодня ночью. И старался полностью очистить свой ум. Но не мог. Такое не по силам никому.
Боб взглянул на часы: 17.45 по токийскому времени. На дорогах царил самый настоящий ад. Бобу с трудом удавалось увертываться от лезущих со всех сторон машин, чьи искаженные отражения он видел в зеркалах заднего вида. Ему это нисколько не понравилось. Он был вымотан до предела.
Разумеется, все эти неприятные чувства были порождены тем, что должно произойти в ближайшие несколько минут, когда ему придется сообщить очень плохую новость человеку, от которого он видел одно лишь добро. Безрадостная перспектива. Есть ли в этом необходимость? Да, есть. Боб не мог идти этой дорогой дальше, не преодолев то, что ждало его в кабинете, полном мечей.
Он подумал о том, что произойдет сегодня ночью. Сьюзен и четверо ее корейцев, майор Фудзикава со своими десантниками — все незаметно собирались в одном квартале на северо-западе Токио, вдали от туристических достопримечательностей, в нескольких милях от таких известных мест, как Гиндза, Синдзуку, Уэно и Асакуса, там, где нет крупных храмов, ночных клубов и универсальных магазинов. Именно здесь спутники Центрального разведывательного управления обнаружили небывалую активность в одном из принадлежащих Юичи Миве владений, в обнесенном стеной особняке на уединенной улочке рядом с парком Киёсуми, где когда-то гуляло многочисленное семейство Мицубиси, а теперь было устроено царство чудес японского садового искусства. Особняк полностью подходил по всем критериям: тихий, неприметный, рядом с отгороженным высокой стеной от окружающего мира парком, в который можно попасть через единственные ворота.
Местом встречи был выбран банкетный зал, расположенной неподалеку от гостиницы. Сьюзен сняла его от имени некоего фехтовального клуба, которому требовался сборный пункт перед выездом за город на соревнования.
Боб поежился. Погода резко изменилась, температура понизилась, а у него просто не было одежды для мороза, угрожающего ударить в эту ночь. Он плотнее укутался в плащ, пытаясь согреться, однако тонкая ткань не давала тепла, как и черный летний хлопчатобумажный костюм, не способный защитить от внезапных порывов ветра и укусов остывшего воздуха.
Боб подошел к музею, который возвышался перед ним с величием кафедрального собора. Здание было современное, построенное, разумеется, после войны, однако его линии тщательно воспроизводили гармонию классической архитектуры Эдо. Так что, входя, Боб отчасти чувствовал себя так, будто его проглатывает древняя Япония, как проглотил библейского Иону кит. Внутри все было Японией и только Японией, ничто постороннее не допускалось. Строгое сероватое освещение придавало всему суровое достоинство; в стеклянных шкафах застыли в изысканных позах принцессы в кимоно и рыцари в доспехах, отражая величие прошлого, славного и в то же время кровавого. В этих просторных залах оно представало перед взором целиком, от маленьких человечков в соломенных хижинах, которых обнаружили побывавшие на островах китайцы, до тех блестящих воинов, которые сами вторглись в Китай, разорили его города и разорвали страну надвое. Здесь были буддийские монахи и воины-самураи. Здесь чувствовалось присутствие людей, столь сильных духом и уверенных в себе, что каждый из них мог сразиться один с двадцатью противниками, одержать победу — и сразу же о ней забыть. Их длинные, изогнутые мечи стали самыми совершенными творениями металлургии в мире. Но повсюду наблюдалось одно и то же: если были эти доблестные воины, то были и те, кто выходил ночью на улицу и рубил случайных прохожих, проверяя качество лезвия, были и рисунки, показывающие, как надо правильно уложить труп, чтобы выполнить проверочные удары, сколько раз можно рассечь череп и под каким углом. Эти блестящие воины в 1905 году за семь минут разгромили русскую эскадру, а их внуки падали с небес в самолетах-бомбах, лавируя между разрывами американских зенитных снарядов, выискивая красивую большую серую надстройку, в которую можно врезаться, превратившись в ничто. Именно эта бесконечная преданность долгу топила русские броненосцы, взрывала американские корабли у берегов Окинавы и возводила небоскребы в Синдзуку.
К третьему разу охрана уже успела запомнить Боба; его впустили в музей, и через несколько секунд он поднялся на лифте на четвертый этаж.
— Доктор Отова у себя?
— Да, — ответила секретарша, — Доктор Отова, к вам Свэггер-сан.
— О, заходите. Я как раз собирался уходить. Как вы думаете, мороз будет?
— Именно такое ощущение витает в воздухе.
— Да, зима надвигается. У вас есть новости? Пожалуйста, присаживайтесь, друг мой.
Усевшись в знакомое кресло, Боб повернулся к старику, окруженному мечами.
— Хорошая новость заключается в том, что, по-моему, дело будет завершено в ближайшее время и, если все пройдет хорошо, я буду волен поступить с мечом так, как сочту нужным. А я считаю, что место этого меча в музее. Вы, как никто другой, знаете, как с ним поступить. Такая реликвия должна принадлежать не какому-то одному человеку, а всему народу.
— Это очень мудрое решение. Я надеялся, что так и произойдет.
— Я рад, что вы разделяете мое мнение. Но на самом деле я пришел к вам не за этим. Мне очень тяжело это говорить, потому что вторая новость плохая.
— Я готов вас слушать.
— Вы уверены?
— Говорите, прошу вас.
— Есть некий человек, называющий себя Кондо Исами. Вы слышали это имя?
— Разумеется. Оно известно каждому японцу. Кондо Исами в тысяча восемьсот шестьдесят седьмом году возглавлял отряд синсэнгуми в Киото. Он совершил много набегов, участвовал во многих схватках. Трудно сказать, кем он был — героем или злодеем, но определенно это был выдающийся фехтовальщик на службе у сёгуна. В тысяча восемьсот шестьдесят восьмом году его казнил император. Кондо Исами умер достойно, но с позором. Ему отрубили голову, не позволив совершить харакири.
— Новый Кондо Исами также выдающийся фехтовальщик. В каком-то смысле он также служит сёгуну, противостоящему проникновению иностранного влияния. Он наемный убийца-якудза, лучший из лучших. По имени, которое он взял для себя, видно, что он не лишен тщеславия и почитает историю самураев. Новый Кондо Исами любит видеть себя одним из великих воинов прошлого. Ничто не может его остановить. Он убил Филиппа Яно и его семью. Все это дело с мечом придумал он. И вот меч у нас. К сожалению, ему удалось похитить малышку Мико Яно. Сегодня ночью наступит час расплаты.
— Будет кровь?
— Полагаю, и много.
— Вашей?
— Возможно.
— Вы сразитесь с этим Кондо Исами.
— Если смогу его разыскать.
— Вы очень храбрый, Свэггер-сан.
— Нет. Я просто не вижу другого выхода. Кондо Исами слишком хороший фехтовальщик, чтобы с ним сражался кто-то другой; он быстро расправится со всеми. Поэтому я должен идти по его следу и сразиться с ним один на один. Именно этого он хочет. Именно этого хочу и я. Вот почему я пришел к вам.
— Понимаю. И что вам нужно от меня?
— Я и так получил от вас очень много, но сегодня должен просить еще об одном. Это самое трудное, и я пойму и прощу вас, если вы не захотите мне это дать. Но все же я должен у вас попросить.
— Что?
— Ваше благословение.
— И почему же это должно быть так трудно для меня?
— Потому что этот так называемый Кондо Исами — ваш сын.
Наступила тишина. Доктор Отова судорожно глотнул сухой воздух.
— Я прошу позволения убить человека, — снова заговорил Боб. — Прошу у его отца. У меня не будет никаких шансов, если вы не даруете мне свободу. Я не должен видеть сына. Я должен видеть только врага.
Доктор Отова угрюмо смотрел на него.
— У меня нет сына, — наконец сказал он.
— В таком случае это сын вашего брата или сестры.
— У меня никогда не было ни братьев, ни сестер.
Он не мигая выдержал взгляд Свэггера.
— О новом Кондо говорят, — сказал Боб, — что с некоторыми людьми он встречается в нормальной обстановке, посещает клубы, ведет обычную жизнь. Но иногда он прибегает к различным ухищрениям. Если ему нужно встретиться с неким конкретным человеком, он надевает маску. Или организует какую-нибудь театральную подсветку, чтобы его лицо нельзя было разглядеть. То есть с одними людьми Кондо встречается, а с другими — нет. Что за этим кроется? Увидев Кондо, я все понял. Он не может встречаться с теми, кто знает вас. Со мной он встретился, потому что не знал о наших отношениях. Но любой, кто видел его и видел вас, мигом обнаружит необычайное внешнее сходство. Здесь все: глаза, форма носа, разрез губ, фактура и цвет кожи, овал лица, волосы. Я уже видел это лицо, сэр. В Киото, на фотографии в фехтовальном зале Досю. На ней изображены вы, Досю и мальчишка, которому тогда было лет четырнадцать, вместе с каким-то призом.
— Мой сын умер, — глухо промолвил Отова.
Боб не видел смысла что-либо добавлять к сказанному. В любом случае ему было больше нечего добавить.
Наконец доктор Отова заговорил:
— Наверное, я всегда опасался чего-то подобного. Никто не может сделать отцу так больно, как собственный сын, и нет милее мести, чем месть сына отцу.
— Вы не должны ни в чем себя винить.
— Больше винить некого. Этот снимок был сделан в тысяча девятьсот семьдесят седьмом году, когда мальчику исполнилось шестнадцать лет. Он только что одержал абсолютную победу в открытом первенстве Японии по фехтованию среди юниоров. Его жизнь была устроена. Он должен был победить в семнадцать и в восемнадцать лет, затем принять участие в первенстве среди взрослых и победить в нем пять раз подряд. После этого он стал бы национальным героем, знаменитостью. Он смог бы отправиться куда угодно и стать кем захочет. Вся Япония лежала бы у его ног. Он мог бы стать политиком, бизнесменом, адмиралом.
— И что произошло?
— Мне поступило одно предложение. Оно открывало потрясающие возможности. У меня появилась надежда стать национальным героем, знаменитостью. И я выбрал это предложение — вместо судьбы сыны. Я увез его с собой в Америку на три года. Два года он учился в американской школе и год — в Колумбийском университете. Наверное, он так и не простил мне то, что на три самых важных года в жизни я вырвал его из соревнований по фехтованию. Однако я по сей день не знаю, можно ли было отказаться от такого предложения. В любом случае, Америка изменила в моем сыне фундаментальные основы. Сбила его с пути.
— Такое бывает.
— Мы вернулись домой в восьмидесятом, когда ему было девятнадцать лет. Сразу же стало ясно, что ему не по силам тягаться со своими сверстниками, то есть участвовать во взрослом первенстве. Но он сражался отчаянно. Я был поражен. Ему удалось дойти до финала. Это был настоящий подвиг. Но последний поединок он проиграл, проиграл с минимальным перевесом. Казалось бы, подумаешь, великая трагедия, — мало ли что бывает. Но тут, за долю секунды, сын поставил на всем крест. Самурайская гордость, самурайский гнев. Противники сняли шлемы, поклонились друг другу, и внезапно мой сын словно обезумел. Он со всей силой ударил противника по шее своей синсой. Сломал ему ключицу. Я оказался плохим отцом и не смог спасти сына от его черных страстей. Разразился страшный скандал. Никакой надежды не было. Одежду и обувь сына обнаружили на побережье под Эносимой. Он ушел в открытое море. Тело его так и не было обнаружено.
— Я очень сожалею, — сказал Боб.
— Можете не извиняться. Позор мой и только мой. Я люблю своего сына таким, каким он был, ненавижу себя за свою роль в его падении и испытываю отвращение к нему такому, каким он стал. Однако мне понятны его мотивы. Он действительно стал лучшим фехтовальщиком в Японии, но не в суррогатном формате бамбуковых палок. Бросив вызов мне и старейшинам мира официального фехтования, мой сын стал чемпионом в реальном мире подворотен, где мечи острые, а кровь льется по-настоящему.
Боб молчал.
— Идемте со мной, — сказал старик.
Он подвел Боба к голой стенке сейфа и повернул ручку, открывая массивную дверь. Нырнув внутрь, доктор Отова жестом предложил Бобу следовать за собой, и Боб оказался в окружении новых мечей, еще более красивых, еще более ценных.
— На свете много хороших собраний, — сказал доктор Отова, — но ни одно из них не сравнится с этим.
— Я польщен оказанной мне честью.
Старик снял со стены меч.
— Вот, возьмите, — сказал он, протягивая меч Бобу.
Боб моментально ощутил исходящую от клинка энергию, совершенство баланса, жажду резать, поразительное мастерство древнего мастера.
— Можно?
— Разумеется.
Повернув меч острием вверх, Боб аккуратно извлек его из ножен. Кроваво-красное косираэ из акульей кожи, отделанная позолотой цуба были великолепны, но даже их красота тускнела по сравнению с лезвием.
— Возможно, это самое совершенное лезвие во всей Японии. Определенно оно самое острое, самое прочное, самое смертоносное.
— Сэр, оно бесценно.
— Возьмите его. Воспользуйтесь им. Сразитесь им. Быть может, этот меч даст вам хоть какое-то преимущество. Мой сын его обязательно узнает. Ему знакома мощь этого меча. Возможно, это заставит его на мгновение дрогнуть. В этом ваша единственная надежда. Мой сын обладал прирожденным талантом, и, если он действительно усердно занимался на протяжении двадцати лет, ему нет равных.
— Я не могу взять на себя риск потерять такой меч.
— Свэггер-сан, он был создан как раз для этого случая, и ни для чего другого. Оно выполнит то, что предначертано судьбой. Если бы сталь могла чувствовать, меч бы сейчас умолял дать возможность защитить вас. Не думайте о его стоимости. Не думайте об исторической ценности. Думайте о нем только как об оружии.
— Хорошо, сэр. Как я понимаю, это работа Мурамасы?
— Вы совершенно правы. Это меч кузнеца, «ковавшего зло». Именно его лезвие, быть может даже вот это самое, было опущено в ручей в знаменитой притче о Масамуне. Листья и ветки избегали встречи с мечом великого Масамуне. Клинок Мурамасы притягивал их, разрезая без труда. Мурамаса гордился этим, в то время как ему должно было быть стыдно. После этого случая за его лезвиями закрепилась слава жаждущих крови. Они стремились резать. Особую страсть они питали к членам семейства сёгуна, убивая и калеча их. Тогда сёгунат их запретил, собрал все вместе и уничтожил. Вот почему в наши дни они являются такой редкостью, и этот меч — один из немногих уцелевших. Моему сыну известно все это, и он понимает, что находится в услужении у современного сёгуна. Это затуманит ему рассудок. Опять же мелочь, однако победа состоит из многих мелочей.
— Благодарю вас. Я верну…
— Нет. Если вы его убьете, значит, меч выполнил свое предназначение. Быть может, именно ради этого он и попал ко мне в руки много лет назад. Уничтожьте его, только и всего. Освободите от него землю. Отправьте его в преисподнюю. Он пришел из ада, олицетворяет собой ад, так что воспользуйтесь им, а после уничтожьте не раздумывая.
— Хорошо, доктор Отова.
— Этот меч является моим благословением вам. А теперь, пожалуйста, уходите. Я хочу остаться один.
Глава 40 БОЛЬШИЕ «ШИШКИ»
— Ты уверен? — спросил Сёгун.
— Насколько вообще можно быть уверенным. Я уже говорил вам, господин, что мы имеем дело с очень целеустремленным и изобретательным противником. Но теперь он у нас в руках.
— Я обеспокоен тем, что контролировать ситуацию в парке очень непросто. Будет много шума, обо всем проведают средства массовой информации и…
— Я спрячу на месте десятерых. Они настоящие мастера по части маскировки. Можно сказать, почти настоящие ниндзя. Не совсем, но очень близко. Я сам буду там. Все произойдет рано утром, вход в парк будет под нашим контролем. Нам никто не помешает. Полиции уже деликатно посоветовали оставаться в стороне. Только-только начнет светать. Мы полностью контролируем место. У гайдзина нет выбора; если он любит эту девочку, он обязательно приедет, а он ее любит. Я видел это по его глазам. По моему сигналу в парк практически мгновенно прибудут еще сорок человек. Гайдзин кое-что умеет, этого у него не отнять. Но этого недостаточно, чтобы справиться со мной, и уж совсем мало, чтобы справиться с пятьюдесятью воинами. Такое бывает только в кино.
— Предположим, он приведет с собой…
— Не сможет. У него не будет времени. Он не сможет обнаружить наше местонахождение до тех пор, пока мы сами ему не позвоним. Ему придется мчаться на полной скорости через весь Токио. А мы будем следить за всеми дорогами и заранее узнаем, если у него будут помощники. Однако гайдзин просто не успеет их собрать. План абсолютно надежный.
— А девочка…
— Девочка должна умереть. Она слишком много видела. Это мелочь. Ничего не значащий пустяк.
— Просто я…
— Господин, это мелочь.
— Хорошо, Кондо-сан.
Они сидели в гостиной особняка, расположенного рядом с парком Киёсуми. Была уже почти полночь. Весь день Кондо провел в приготовлениях к завтрашней встрече. У него были его собственные хорошо обученные люди, у него был его кобун Нии, его доверенный помощник, буквально привязанный к ребенку, были сорок самых закаленных бойцов босса Отани, готовые умереть за него. Да, они не лучшие и предпочитают стрелять из автоматов Калашникова и пистолетов Макарова, а не работать катаной и вакидзаси, но все же они скорее умрут, чем отступят, и готовы сами убивать, не раздумывая. И если понадобится, у него полно автоматов и пистолетов.
И все же Кондо чувствовал, что Сёгун нервничает. Он сидел, возбужденно облизывая губы, освещенный отблесками огня в камине, судорожно сглатывал и время от времени дергался, пытаясь совладать с собой. Предстоящие события были чуждой для него стихией. Его присутствие здесь было необязательным, но он настоял. И все же его мысли были проникнуты сожалением по поводу этого решения.
— Ну почему все это произошло? — обиженным голосом произнес Сёгун. — Времени у нас в обрез.
«Лучше бы занимался только своей порнографией!» — подумал Кондо. Такому человеку бесполезно объяснять: что произошло, то произошло. Глупо застревать мыслями в прошлом, это ничего не даст, надо жить только настоящим.
— Господин, я обо всем договорился. Косираэ будет готово в кратчайшие сроки. Самой сложной была полировка. Ключом к успеху было именно это, а старик, насколько я понял, выполнил свою работу на славу. Вы получите меч, и у вас останется предостаточно времени на то, чтобы объявить о нем, чтобы насладиться всеобщим вниманием и славой — и тем самым упрочить свои позиции. Вы получите все, о чем мечтали, как и было задумано. Эта непредвиденная заминка — неприятная, должен признать, — не заставит нас отступить от намеченного.
— Эта затея с девчонкой оказалась просто блестящей. Одним движением мы превратились из проигравших в победителей.
— Стратегия имеет решающее значение.
— Ты просто гений, Кондо-сан. Ты будешь по достоинству вознагражден.
— Главной моей наградой является моя служба вам. Но я все равно возьму эти четыре миллиона долларов. Завтра в это время у меня будут деньги и голова противника. Полагаю, можно будет устроить себе приятный отдых.
— Слетай в Лос-Анджелес. Я дам тебе несколько телефонов. Потрахай белых блондинок. Ни с чем не сравнимое наслаждение. Познав его, ты поймешь, почему это удовольствие можно позволять лишь избранным японцам. Простой народ быстро развратится, и вскоре перестанет существовать само понятие «японец»! Мы должны оберегать сексуальную силу наших мужчин, покорность наших женщин и чистоту наших…
Надо его остановить, иначе он будет болтать так часами, а Кондо хотелось немного поспать.
— Я с нетерпением жду этого, — сказал он.
Встав с кресла, Мива сходил к бару и налил себе еще виски. Некоторое время он смотрел, как янтарная жидкость плещется поверх кубиков льда. Затем поднял голову и взглянул в окно, где многочисленные прожектора создавали непроницаемую стену яркого света.
— Кондо-сан, — сказал Сёгун, — смотри! Пошел снег.
Глава 41 РЕЖИССУРА
Постороннего, случайно увидевшего странное сборище в банкетном зале гостиницы «Касаибаси» на улице Касаибаси, в квартале от парка Киёсуми, можно было бы простить, если бы он принял это за реальное заседание фехтовального клуба. Молодые парни были сильными, изящными, красивыми; у всех были спортивные сумки, достаточно длинные, чтобы вместить синсы — учебные бамбуковые мечи. В других сумках, несомненно, лежали доспехи, а присутствие медиков только подтверждало это впечатление, потому что в спортивном фехтовании неизбежны ссадины, синяки, иногда даже порезы. Тренеры, мужчины на несколько лет старше самих спортсменов, тоже были сильные, изящные и красивые. У всех под свитерами были черные спортивные костюмы, у каждого за пояс была засунута черная шапочка, все тихо переговаривались с друзьями или молчали. Так много молодых ребят — но это была одна команда, потому что никто ни перед кем не «выступал», никто никого не подначивал. Определенно впереди их ждали крупные состязания.
Постороннего наблюдателя, наверное, заинтересовал бы гайдзин, по-видимому выполняющий роль консультанта, ибо он пользовался вниманием со стороны всех тех, кто был постарше, и вскоре завязал оживленный разговор со старшим тренером. Но чем объяснить присутствие стройной красивой женщины в очках, которую все также слушали с большим вниманием? Она тоже занимается фехтованием? Молодая женщина была в синих джинсах, кроссовках и черной водолазке — этот наряд лишь с большой натяжкой можно было бы назвать одеждой для фехтования. И были еще четверо корейцев, выше ростом и шире в плечах, чем их японские товарищи. Они ни с кем не говорили и старались держаться рядом с женщиной. Одним словом, очень странное сборище.
Однако никакого стороннего наблюдателя, разумеется, не было. Двухзвездочная гостиница «Касаибаси» расположена вдали от туристических достопримечательностей, в ней останавливаются в основном бизнесмены средней руки. В полночь, когда начали собираться эти странные люди, приходя по одному и по два, представляясь тому гайдзину, который был больше похож на сержанта, чем на тренера, в гостинице дежурил лишь один сотрудник, совмещавший обязанности ночного администратора и телефонного оператора. И ему настоятельно посоветовал не совать нос не в свое дело человек, серьезность намерений которого не вызывала сомнений. Одновременно кто-то втихую отключил выход телефонного коммутатора на внешнюю линию. Все это было сделано крайне вежливо, но и крайне убедительно.
Прибывающие проходили в большой зал и устраивались перед грифельной доской, молчаливые, сосредоточенные. Наконец в три часа ночи собрание началось. Всех приветствовал старший тренер, заверивший, что предстоящая ночь будет той самой, которую все так долго ждали. Сегодня ночью они будут торжествовать победу. Собравшиеся напоминали спортсменов перед ответственным соревнованием: все были напряжены и взволнованы, но притом горели желанием приниматься за дело.
Наконец к ним вышел гайдзин. Гм, что может знать о фехтовании какой-то гайдзин? Однако этот гайдзин тотчас же завладел вниманием всех присутствующих, хотя, похоже, говорил он не о фехтовании.
— Последняя проверка, — начал он по-английски. Этим языком свободно владело больше половины собравшихся, а для остальных с легкостью синхрониста переводила женщина. — Так, медики. Майор Фудзикава, медики здесь?
Майор кивнул, и трое подняли руки.
— Надеюсь, у вас достаточно ватных тампонов, скобок, швов и систем для переливания крови? Сегодня все раны будут резаными. Надеюсь, вам троим уже приходилось накладывать швы. Работы будет много.
Медики кивнули.
— Окада-сан, — обратился гайдзин к женщине.
Та раздала отксеренные листы бумаги и заговорила по-японски:
— Это самые последние снимки объекта, полученные со спутника приблизительно шесть часов назад. Не спрашивайте, откуда они у меня. Здесь видно расположение зданий, расположение стен. По нашим оценкам, на объекте находится около пятидесяти человек. Судя по всему, они располагаются в подвале, потому что в здание они входят через одну из боковых дверей, ведущих вниз. По состоянию на девятнадцать ноль-ноль все они были внутри. Входные ворота заперты. Как вы можете видеть, мы указали маркером маршрут выдвижения к цели. Отсюда не больше полумили.
— Давайте повторим все еще раз, — сказал гайдзин. — Каждый из вас уже получил задание, но давайте снова пройдем все шаг за шагом.
Так и было сделано: гайдзин рассказал, как им предстоит небольшими группами проникнуть в парк Киёсуми, незаметно пересечь его до противоположного конца и собраться двумя отрядами у северной и южной частей стены, примыкающей к особняку Мивы. Четыре снайпера займут позиции на стенах. Затем Сьюзен и Боб подъедут на «мазде» к западной стене и поставят машину посередине между двумя отрядами. Сигналом станет громкий гудок клаксона, после чего всем нужно будет перелезть через стену.
— Капитан Танада поведет свой отряд к задней стороне дома через южную стену. Майор Фудзикава пойдет слева от ворот через северную стену. Я не хочу пробивать ворота, потому что лучше обойтись без взрывчатки, к тому же, если внутри дежурят часовые с огнестрельным оружием, они в первую очередь возьмут под прицел ворота. Как только часовые появятся в окнах, снайперы их обнаружат и нейтрализуют. Мы с Окадой-сан выступим с нашей позиции у восточной стены. Вы приближаетесь к зданию, затем бросаете шоковые гранаты в каждое окно, в каждую дверь. Я не хочу, чтобы вы проникали внутрь, поскольку вам не известно расположение помещений. Внутри будем действовать мы с Окадой-сан, и я не хочу, чтобы мы случайно наткнулись на вас. Но после взрывов шоковых гранат эти ребята сами повалят на улицу. Должен вас предупредить: главной особенностью боя на мечах является обилие крови. Это будет не кино, а кое-что совсем другое. Кровь будет повсюду. Нельзя полоснуть катаной по телу, не перерубив несколько важных артерий. Все будет скользким и липким. Пусть вас это не шокирует. Если вы разрежете противника, он будет истекать кровью. Если после первого удара он не упадет, рубите его еще раз, сильнее, и тогда он обязательно упадет. Затем двигайтесь дальше. Если кого-то ранят, пусть этот человек сразу же выходит из боя, туго перетягивает рану и спешит к медикам, которые перелезут через стену последними. Они наложат швы и сделают переливание. В человеке много крови. Он может потерять половину и только после этого лишится сознания. Если вас ранят, вы увидите собственную кровь. Не надо паниковать; быстро отходите к медикам, и все будет в порядке. Вам следует избегать одного человека. Его зовут Кондо Исами. Он старше остальных, ему лет тридцать пять. Мастерством владения мечом он превосходит всех, поверьте мне. Если вы встретитесь с ним, не вступайте в бой; если он постарается спастись бегством, не мешайте ему. Если он будет кого-то защищать — полагаю, он будет защищать Миву, большого босса, — окружите их, но не нападайте на них. Этот Кондо успеет убить шестерых или семерых, прежде чем вы его одолеете, а такие жертвы неприемлемы. Просто не давайте ему уйти; мы быстро подтянем снайперов, и если он не сдастся, мы его пристрелим. А еще лучше скажите мне, где он находится. Если дело дойдет до этого, я сам с ним справлюсь. Мне в жизни пришлось немало повоевать, и я не боюсь сражаться. И наконец, помните наши приоритеты: на первом месте — спасти Мико Яно, на втором — воздать по справедливости тому, кто убил ее отца и семью, и на третьем — этот тип Кондо. Мы с Окадой-сан отправимся искать девочку. У Окады-сан есть прибор ночного видения; мы первыми проникнем в дом. Мы считаем, что малышку держат в одной из спален на втором этаже. Как только мы доставим девочку в безопасное место, я начну поиски Кондо. Майор Фудзикава, командир отряда, будет искать Миву. Ну а капитан Танада, полагаю, просто будет искать головы, которые надо отрубать.
Раздался смех.
— А сейчас я хочу поблагодарить вас всех. Я чужак в вашей стране, но бойцы этого взвода помогли мне почувствовать себя здесь как дома. Я вижу, что меня окружают профессионалы. У нас одни и те же цели: отомстить убийцам Филиппа Яно и его семьи и спасти его дочь. Те, кто совершил первое преступление и собирается совершить второе, находятся в полумиле отсюда, спят сном праведников, уверенные в том, что им принадлежит весь мир. Однако сегодня ночью они убедятся, что это не так.
Дальше все шло без лишней театральности. Все надели черные шапочки и, прихватив сумки со снаряжением для фехтования, разбились на группы по два-три человека. Последними выступили медики с большими сумками. Командиры — майор Фудзикава, старший сержант Кендзи, капитан Танада, Боб и Сьюзен — в последний раз взглянули на план.
Боб и Сьюзен сидели в машине перед гостиницей, наблюдая за тем, как небольшие группы одна за другой исчезают в ночи. Боб взглянул на часы. До начала операции оставалось около десяти минут.
Внезапно тишина была прервана недовольным зуммером.
— Проклятье! — выругалась Сыозен.
Она достала сотовый телефон и отключила его.
— Твой кавалер недоволен тем, что ты его продинамила? — усмехнулся Боб.
— Мой босс в бешенстве, потому что я продинамила его. За последние два часа он звонит уже пятнадцатый раз. И еще он прислал мне десять текстовых сообщений. Хочет видеть меня прямо сейчас.
— О господи!
— Он не может со мной связаться. Его это совсем не радует. Он разъярен, он в отчаянии, а завтра меня выгонят с работы.
— Можешь отправляться к нему.
— Даже не надейся. Раз моя карьера все равно полетела под откос, я хочу дождаться пятого акта. Хочу своими глазами посмотреть, как скиснет это молоко. А сейчас, Свэггер, у меня есть к тебе одно дело.
— Да?
— Я хочу задать тебе кое-какие вопросы. Только чтобы без вранья. Я тебе никогда не врала. Быть может, через двадцать минут нас с тобой не будет в живых, так что никакого вранья.
— Хорошо, мэм.
— Свэггер, вся эта драма близка к завершению. И это твоих рук дело. Умело, осторожно, ненавязчиво, показав себя дальновидным стратегом и блестящим тактиком, ты уговорил кадровую сотрудницу ЦРУ и пятьдесят десантников японских сил самообороны совершить налет на опорный пункт якудзы, тем самым нарушив все основополагающие законы. Такое невозможно, однако тебе это удалось. Мой вопрос простой: почему?
— Почему? Ну, я очень хорошо относился к Филиппу Яно. Я чувствовал себя невольным виновником случившегося, потому что именно я передал ему меч.
— Чушь. Ты говорил это с самого начала, но теперь я вижу, что ты слишком умен для этого. Ты слишком досконально все продумываешь. И это лишь отговорка. Ты понимаешь, что возвращение меча было чистой случайностью. Ты не мог предвидеть последствия этого, и ты за них не в ответе. Все это ты прекрасно понимаешь. И еще один странный момент: почему ты потратил столько сил, чтобы вернуть Яно этот меч? Ты сам рассказал мне, что в поисках меча изъездил всю Америку. Так что еще до того, как ты погостил у семьи Яно, все это имело для тебя какое-то особое значение. В чем дело, Свэггер? Говори.
Свэггер задумался.
— Ну хорошо, — наконец сказал он. — Меня с детства учили не говорить о таких вещах, и я никогда о них не рассказывал. Однако ты, Окада-сан, заслуживаешь услышать искренний ответ.
Он посмотрел в окно. Снегопад усилился; снег плотной завесой скрывал деревья, устилал землю бесшумным ковром, облеплял ветви, заглушал все звуки. Шум транспорта затих. Казалось, в квартале отсюда, на Киёсуми-авеню, перестали ездить машины. Свэггер подумал о тех, кто движется в темноте, подкрадываясь к цели с мечом наготове. В воздухе сгущалось предчувствие насилия; это будет еще одна ночь войны. А в семействе Свэггер войны и без того было слишком много.
— Мой отец, — начал Боб, — никогда не рассказывал о войне. Он был великим человеком, одним из немногих морских пехотинцев, которым довелось участвовать во всех пяти крупных десантных операциях и остаться в живых. Отец пять раз высаживался на острова, был ранен семь раз, один раз тяжело, но возвращался в строй. Наконец на второй день после высадки на пятом острове — на Иводзиме — он заслужил Почетную медаль Конгресса. Думаю, отец гордился этой медалью и связанным с ней уважением. Однако он никогда не хвалился ею, никогда даже не говорил о ней и как-то раз сказал мне: «Никогда никому не рассказывай об этой медали». Для него это было очень важно. Но однажды вечером, в тысяча девятьсот пятьдесят пятом году, за несколько недель до смерти, отец сидел на крыльце вместе со своим другом, окружным прокурором, замечательным стариком Сэмом Винсентом. Они говорили о войне. Сэм был чем-то огорчен, и отец сказал: «Мистер Сэм, после того, что случилось в Фивах,[34] вы считаете меня чертовым героем, а себя — никчемным человеком. Позвольте рассказать вам кое-что такое, о чем вы знаете далеко не все, и прояснить пару моментов. Помните ту большую медаль, которую я получил на войне?» И Сэм сказал: «Эрл, всем известно, что в тот день ты в одиночку захватил японский дот и убил сорок человек». «Видите ли, сэр, — произнес отец, — на самом деле все было не совсем так». И рассказал, что произошло на самом деле.
Глава 42 ЛУНА НАД ПРЕИСПОДНЕЙ
20-й год эпохи Сёва, второй месяц, 21-й день
21 февраля 1945 года
Бóльшая часть энергии взрыва досталась третьему отсеку. Протиснувшись внутрь, Эрл увидел, что большой пулемет застыл, задрав ствол вверх, один человек распростерт на полу, а двое возятся с пулеметом, пытаясь его исправить. Черт побери, как же они хороши, эти маленькие паршивцы! Сражались отчаянно, не отступая даже перед лицом неминуемой смерти, стараясь убить хотя бы еще несколько морских пехотинцев. Даже убивая, их нужно было уважать, и Эрл их убил, сразил одной длинной очередью, выбивая пулями из стены бетонные крошки. Охваченный яростью, он шагнул вперед и тут краем глаза заметил позади какое-то движение. Развернувшись, Эрл слишком поздно увидел офицера, замахнувшегося мечом. Эрл был полностью в его власти, совершенно беззащитный, не в силах отразить лезвие, устремившееся к его шее.
Но вдруг меч остановился. Лезвие на мгновение застыло, почему-то зацепившись за потолок, и ровная дуга оказалась нарушенной.
Объятый паникой, Эрл отшатнулся назад, отпрянул влево и выстрелил. Пистолет-пулемет сделал только три выстрела и затих, израсходовав весь магазин, но все три пули попали в цель. Японский офицер упал и свернулся в комок в позе зародыша. Под ним быстро натекла лужица крови, черной и блестящей в тусклом полумраке дота, затянутом дымом. Он лежал на полу, стонал и содрогался в конвульсиях.
«Добей его!» — подумал Эрл.
Отбросив пистолет-пулемет, он выхватил из кобуры кольт 45-го калибра, взвел курок и навел оружие на голову раненого.
«Добей его!»
Но Эрл не смог это сделать. Раненый корчился, терзаемый невыносимой болью, стиснув зубы. Быстро убрав пистолет в кобуру, Эрл достал аптечку первой помощи и вытащил шприц-тюбик с морфием. Торопливо разбив стеклянный колпачок, закрывавший иглу, он снял иглу, проткнул крышку тюбика, затем навернул ее на место. Осталось только воткнуть иглу и сжать тюбик.
Эрл склонился над раненым, отогнул ворот гимнастерки, открывая шею, приставил иглу и…
Американец выстрелил, оставаясь в дверях. Его пистолет-пулемет наполнил отсек светом трассирующих пуль, подобных искрящимся капелькам, выплеснутым из шланга. Затем он шагнул внутрь, проверяя, что дело сделано, и капитан Яно распрямился.
Он проделывал это тысячу раз, сто тысяч раз. Мышцы словно зарядились энергией, меч, набирая скорость и определенность, сверкнул по дуге, жаждая плоти. Косматый зверь был всецело в его власти; у него не было времени, чтобы опомниться, и ему оставалось только умереть. Лезвие рассечет ключицу, пройдет через позвоночник, легкие и сердце и направится дальше к кишкам; он будет уверенной рукой вести меч до конца, затем тем же самым движением…
Вдруг капитан почувствовал, что его нога, выдвинутая вперед, наткнулась на что-то твердое, поэтому он оказался на два дюйма выше и меч задел за потолок, отзываясь от острия до самой рукояти дрожью катастрофы. И за эту потерянную секунду косматый зверь успел отскочить вправо и вскинуть пистолет-пулемет. Оружие выплюнуло короткую очередь.
Капитан не почувствовал, как падает. Он не ощущал своих ног. Он чувствовал лишь, что его словно окунули в кипящую воду. Вскоре боль локализовалась в трех ранах, и капитан судорожно схватился за них, стараясь удержать хлынувшую кровь, но не смог. Он лежал на боку, подобрав колени, чувствуя, как жизнь вытекает из тела.
Американец склонился над ним. Капитан ощутил вес его тела, почувствовал прикосновение пальцев к шее.
«Он хочет перерезать мне горло!»
Его руки были прижаты к животу, локти сведены вместе. Внезапно капитан понял, что у него есть крошечное преимущество, поскольку противник считает его полумертвым. В эту же секунду его локоть набрал силу, устремился вверх и с силой ударил американца в лицо прямо под глаз, откидывая голову врага назад. И тотчас же капитан еще раз нанес удар локтем. Оглушенный американец на мгновение застыл неподвижно. Капитан, освободившись от веса своего противника, бросился на него.
Они стали кататься по полу. Капитану вроде бы удалось сомкнуть руки у американца на шее, но пришедший из ниоткуда удар выбил ему два зуба, заставив разжать хватку. Капитан ткнул американца в глаз пястью, почувствовал, что его удар достиг цели, услышал, как противник застонал. Их мускулистые тела снова сплелись вместе, и они покатились по земле, молотя друг друга кулаками, хватаясь за одежду, чтобы найти хоть какой-то упор на скользком полу. Им в лицо летели капельки пота, они ощущали жаркое дыхание друг друга, чувствовали стук сердец и рев легких, жадно глотающих воздух.
Капитан понял, что ему придется умереть: силы покидали его, боль в животе нарастала.
Постепенно более сильный физически американец стал брать верх, но тут капитан вспомнил то, чему его учили на уроках фехтования: необходимо полностью отрешиться от окружающего мира. Каким-то образом ему удалось нанести удар в горло, американец отпрянул вверх, выпуская своего противника, и, не удержавшись на ногах, упал на пол. В одно мгновение капитан скользнул на него, сливаясь в жуткой интимности. Его правая рука потянулась к обтянутой кожей рукояти ножа, висевшего на ремне у американца; он выдернул нож, снова ощутив трение металла о металл, когда лезвие освободилось, покидая металлические ножны. Вонзив запястье американцу в горло, капитан отпихнул его от себя и, используя инерцию, занес нож, целясь между двумя ребрами, чтобы лезвие свободно скользнуло в грудную полость. Обтянутая кожей рукоять с глубокими насечками была для него слишком толстой, но капитан крепко зажал ее сильными пальцами.
Теперь он занимал господствующее положение.
Капитан ощутил, как острие ножа вжимается в кожу, та сопротивляется, но затем поддается и лезвие на четверть дюйма входит в тело.
Небольшое усилие — и он пронзит американцу сердце и захватит с собой еще одного.
Эрл понял, что погиб. И откуда только этот тощий человечек черпает силы? Глядя японскому офицеру в глаза, он почувствовал, как кончик его собственного ножа входит между ребрами. Эрл попытался схватить противника за горло, но было уже слишком поздно.
«Со мной все кончено», — подумал он.
Япошка его одолел.
Взял над ним верх.
Эрл закрыл глаза. Он чувствовал давление запястья на горло, ощущал теплое дыхание японского офицера, вдыхал запах пота, машинного масла и рыбы, слышал синхронное биение двух сердец, сцепившихся в объятиях смерти.
Смертоносный кончик ножа проткнул кожу, выпуская капельку крови. Лезвие без труда скользнет дальше, пройдет через легкое и найдет комок мышц, именуемый его сердцем.
«О господи, Джуни, я так старался…»
Капитан надавил на рукоять ножа… и остановился.
На земле рядом с головой американца он увидел мягкий алюминиевый тюбик с накрученной на кончик иглой. Капитан сразу понял, что это морфий. Американец не собирался перерезать ему горло, он хотел облегчить его страдания.
Капитан отпрянул назад, понимая, что не сможет убить человека, который пытался спасти ему жизнь.
Однако сдаваться в плен тоже было нельзя.
«Я жалею, что не дал тебе ребенка, мне очень больно оставлять тебя одну. У нас не было времени, а мне нужно было так много тебе сказать…»
Но вдруг Эрлу стало легче дышать. Кончик ножа покинул его грудь, японский офицер слез с него и откатился в сторону, тяжело дыша. На его угрюмом лице появилась усмешка.
— Самурай! — воскликнул он.
После чего повернул тяжелый армейский нож острием к себе и вонзил в горло, перерезая главную артерию, разносящую кровь по всему телу. Удар был нанесен умело, и кровь брызнула ярким бурлящим фонтаном. За восемь секунд мозг офицера пожрал остававшиеся запасы кислорода и глюкозы, и его глаза закрылись.
— Он покончил с собой, — сказала Сьюзен.
— Да. Как сказал Сэму отец, ему показалось, что японец увидел шприц-тюбик с морфием, который он собирался ему ввести. Шприц лежал на полу рядом с ними. А может быть, с Хидеки Яно было довольно крови. Или своим поступком он хотел сказать: «Я лучше тебя, я мог тебя убить, а мог пощадить, но я сам шагнул в объятия смерти». Как бы то ни было, отец всегда считал, что этот поединок он проиграл. Победу в нем одержал тот японский офицер. И по каким-то неведомым причинам в разгар того сражения, самого страшного, самого кровопролитного сражения на земле — на этой «луне над преисподней», как кто-то назвал Иводзиму, — этот офицер даровал Эрлу Свэггеру жизнь. Вот почему мой отец расстался с мечом. Наверное, потому он никогда не говорил про эту медаль. И вот почему Эрл возвратился домой и у них с женой родился мальчик, которого они назвали Бобом Ли. Мистер Эрл очень любил этого мальчишку, помогал ему и учил жизни. Вот почему ставкой Боба Ли в этом деле является не только его собственная жизнь, но и девять лет, прожитых вместе с отцом, который был великим человеком. А после тридцати с лишним лет бесцельного шатания по дороге, ведущей в никуда, Боб Ли сам обзавелся дочерью, тоже замечательной девчонкой. И все это восходит к тому решению, которое принял в доте японский офицер. Так что можно сказать, что Боб Ли в большом долгу перед семейством Яно. Называйте это онэ, называйте как хотите. Но всем, что у него есть, он обязан этому семейству.
— Это точно, — согласилась Сьюзен.
Боб взглянул на часы. Они показывали 4.59.57.
— Ну хорошо, — сказала Сьюзен. — Самураи, вперед!
Глава 43 ЦУСИНГУРА[35]
Последним, что сказал Свэггер, было:
— Когда упадешь на землю, выжди секунду, затем надевай прибор ночного видения и включай его.
Но за ту десятую долю секунды, что продолжалось падение, Сьюзен начисто забыла о его словах. Удар о землю получился гораздо сильнее, чем она предполагала, — как-никак прыгать пришлось с высоты семи футов. Сьюзен успела почувствовать, как ее тело вытянулось во всю длину, затем резко сложилось, будто меха аккордеона. Она налетела ступнями на землю, сильно тряхнув головой, так что из глаз брызнули искры.
Придя в себя, молодая женщина увидела… не увидела ничего. Свет и тень, ничего определенного, ничего там, где что-то должно было быть; все в смятении, воля разбита вдребезги.
— Прибор, — шепнул Свэггер, приземлившийся рядом с ней.
Сьюзен опустила на лицо прибор ПВС-7, у них был день практических занятий с такими, когда она училась в центре в Форт-Брэгге несколько лет назад. Она щелкнула тумблером, который оказался не там, где должен был быть, а на дюйм правее, — судя по всему, прибор съехал набок при падении. Последовало еще одно мгновение растерянности, но затем Сьюзен поправила прибор, и все наконец встало на свои места.
Окружающий мир был зеленым, нечетким. И все же Сьюзен удалось различить дом. Слева у нее перед глазами словно расползалась по сторонам светящаяся амеба. Это были ребята из отряда капитана Танады. Они спрыгивали с забора, вскакивали на ноги и, задержавшись только для того, чтобы выхватить катану, устремлялись влево. Тем временем справа повторился тот же самый оптический феномен: это был отряд майора Фудзикавы, быть может чуть растянувшийся, но тоже спешащий в дело. Сьюзен обогнула дом, ничего не увидев, но тут входная дверь открылась, и на улицу выскочил человек с АК-47 в руках — опять же, автомат она помнила по курсу в Форт-Брэгге. Сзади послышался звук — чего? Словно легкий смазанный поршень скользнул по цилиндру, ничего резкого, но на удивление звонко. Это была винтовка с глушителем в руках Кима, снайпера номер три, и, прежде чем звук успел рассеяться, якудза с автоматом упал, словно ему перерезали колени и они перестали его держать. Рухнув на землю, он застыл.
Сьюзен осознала: только что у нее на глазах убили человека.
— В доме все чисто, — послышался сверху голос Кима.
В это мгновение подвал дома озарился ослепительными вспышками, которым вторили громкие хлопки: это первый отряд нападающих забросал шоковыми гранатами помещение, где собрались якудза.
— Пошли, пошли, — крикнул Боб.
Но Сьюзен, низко пригибаясь, уже бежала через двор прямо к дому. Добежав до стены, она двинулась вдоль нее, чувствуя позади присутствие Свэггера. Перешагнув через труп якудза с автоматом, молодая женщина стиснула в правой руке вакидзаси и нырнула в открытую дверь.
Капитан Танада был не из тех, кто направляет; он был из тех, кто ведет за собой. Поэтому, упав на землю, он мгновенно вскочил и бросился вперед — хрен с теми, кто отстанет. Он добежал до задней стороны дома первым и, достав шоковую гранату, выдернул чеку. И чуть было не швырнул ее в окно.
Однако в последний момент Танада взял себя в руки.
К нему подбежали еще четверо, он показал им зажатую в руке гранату, и все повторили его движения. Достать гранату, выдернуть чеку, сжать предохранительный рычаг, затем каждый приблизился к своему окну и, дождавшись кивка Танады, разбил стекло локтем, защищенным мягкой накладкой, швырнул гранату внутрь и, отпрянув назад, выхватил катану из ножен и стал ждать появления цели.
Гранаты взорвались практически одновременно. Вместо оглушительного взрыва — это ведь не фугасные заряды! — последовали резкие хлопки, разрывающие барабанные перепонки, а вспышки белого фосфора ослепили всех вокруг, лишая возможности видеть в полумраке. Можно понять тех, кто решил, будто сам дьявол бросил в окно ядерное устройство. Такая граната достигает одной из двух целей: или полный паралич, или полная паника. Эффект четырех гранат был вчетверо большим.
Через секунду на улицу выскочил первый человек, безоружный, и Танада с силой ударил его рукоятью по голове, повергая на землю. Следом за ним появились еще двое; одного сразу же оглушили ударом в лицо, второй, выхватив меч, попытался неуклюже полоснуть им Танаду. Капитан аккуратно увернулся, и один из его людей чисто рассек противника ударом наискось слева направо. Тот выронил меч, развернулся в падении и растянулся на земле, истекая кровью.
И тут началось то, о чем все мечтали, чего все страстно желали, вот только в Японии это уже больше ста лет происходило только в кино: из дома высыпала толпа бойцов якудзы, они рассредоточились и выхватили мечи, и десантники вступили с ними в смертельную схватку под густыми хлопьями снега. Удары, жестокие и сильные, были нацелены на то, чтобы убить; блоки, такие же жестокие и сильные, были нацелены на то, чтобы защититься от смерти. Все происходило стремительно — и в то же время как в замедленном кино.
За одну секунду Танада уложил наповал двух человек, бросившихся на него, продемонстрировав великолепную технику владения мечом: с первым он расправился при помощи кесагири, удара наискось, затем отразил кесагири второго нападавшего, и блок совершенно естественно перешел в горизонтальный йокогири. Четыре дюйма лезвия вспороли восемь дюймов тела; раненый ахнул, попытался отступить — и рухнул на землю.
Оглянувшись по сторонам, Танада увидел, что вокруг идет бой, и возрадовался. Затем он снова принялся за работу.
Нии предавался мечтаниям, грязным, наполненным анатомическими подробностями. Большинство мужчин от подобных мечтаний умерли бы со стыда, но у Нии лишь раздулось до размеров ракеты «Фау-2» его естество. Но вот «Фау-2» взорвалась, Нии очнулся и услышал взрыв второй гранаты, затем третьей и четвертой. Вокруг закричали, засуетились, забегали. Кто-то стонал, кто-то хватался за оружие. Дверь распахнулась, человек выскочил на улицу, и Нии успел мельком увидеть, как он упал, сраженный страшным ударом.
Нии понял, что на них напали.
У него в голове осталась пустота. Наступило мгновение полной растерянности, все рефлексы покинули его. Прогремели еще два взрыва, потом еще два, но после самого первого Нии зажмурился и заткнул уши кулаками.
Когда он открыл глаза, в просторном помещении уже почти никого не осталось. В дверь заскочил какой-то человек, размахивающий мечом, и одним ударом уложил одного из синсэнгуми. По тому, с какой яростью, как свирепо был нанесен удар, Нии понял, что в эту ночь пощады не будет — будет одна только смерть. В комнату ворвались новые люди, мечи со свистом рассекли воздух, вспарывая человеческую плоть, убивая. Кто-то швырнул в одного из нападавших стул, но тот увернулся и расправился с противником, полоснув его по животу.
Нии приготовился было сражаться, но тут вспомнил свою задачу.
Убить девчонку.
Это была не просто обязанность. Это был его долг перед оябуном. Ничего другого в жизни Нии больше не осталось. Он оттрахает девчонку, затем убьет ее, после чего совершит харакири, о чем столько мечтал, и с радостью отправится к предкам, восстановив свою честь.
Нии схватил меч и в общем смятении протиснулся сквозь поток людей, стремящихся навстречу смерти, нашел лестницу и побежал наверх. Один пролет, затем второй — и вот Нии вбежал в коридор второго этажа. Он увидел, что пока врагов здесь нет. Отсчитывая двери, которые распахивались, выпуская людей, он добрался до белой комнаты, в которой находилась девочка. Достав ключ, Нии дрожащей рукой попытался вставить его в замочную скважину.
Майор Фудзикава увидел, что план на поверку оказался не совсем удачным. А точнее, двери оказались местами скопления: одни пытались выбраться наружу, другие стремились внутрь. В результате образовалась давка, подобная той, что бывает на платформе метро в час пик, но только все были вооружены мечами. Ничего хорошего.
Фудзикава достал свисток. Запасного плана не было; в спешке подготовки никто не предусмотрел подобного варианта развития событий. Но Фудзикава понимал, что в такой давке его люди не смогут эффективно расправляться с врагами. Он громко засвистел, и к нему мгновенно обратились десятки глаз.
— Черт побери, дайте им выйти на улицу, — крикнул Фудзикава, — а уже потом убивайте!
Все сразу же согласились, что это хорошая мысль. Столпотворение в дверях быстро рассосалось, нападающие освободили место для воинов якудзы, которые выбегали под снегопад — и падали сами. Наступил поэтический момент, если только смерть плохих парней можно считать поэзией. Фудзикава на мгновение задумался об этом, жалея, что у него нет таланта Куниёси, чтобы увековечить происходящее, но тут схватка разгорелась с новой силой.
В толпе сражающихся у кого-то взорвалась шоковая граната. Снег в этот момент падал по-японски нежно, мягкий и белый; каждая снежинка выписывала по пути к земле сложную траекторию, танцуя и кружась в возмущенной атмосфере. За ширмой убаюкивающей белизны ослепительная вспышка белого фосфора на миг выхватила людей, застывших в позах нападения и защиты, придав зрелищу четкость гравюры Куниёси: сбалансированность приглушенных красок и деликатного изящества, наложенная на сюжет кровавого насилия. И снова Фудзикава пожалел, что у него нет семнадцати слогов, чтобы сложить их в хайку, но затем вспомнил, что он солдат, и бросился вперед с мечом в руке, ища врага, которого нужно разрубить, сознавая, что ему единственный раз в жизни представился случай сразиться на мечах и надо спешить им воспользоваться.
Внезапное нападение застигло великого Кондо в очень неблагоприятном положении. Он находился в душе, очищал свое тело, готовясь к событиям следующего дня, и тут взорвалась первая бомба, за которой последовали еще три.
Первой его мыслью было: «Твою мать!»
Кондо сразу же понял, что гайдзину каким-то чудом удалось разыскать их логово. На мгновение захлестнутый яростью, он захотел узнать, кто помог американцу, и представил себе головы этих ублюдков на столе рядом с головой гайдзина.
Выскочив из душа, Кондо накинул халат — голый, его застали совсем голым! — и быстро подбежал к двери. Ванная комната, разумеется личная, находилась на втором этаже, над гостиной. Кондо двинулся по коридору, стараясь осмыслить происходящее, определиться с действиями. Хотя ему почти ничего не было видно, он разглядел тени на стене лестницы, ведущей вниз. Безжалостная пляска теней на стене отражала безжалостность реальности. И тут разорвалась еще одна шоковая граната.
Так получилось, что Кондо смотрел прямо на нее, и яркая вспышка его оглушила; зрительные нервы вспыхнули, заполняя мозг красочными образами ослепительного света, лишая его способности функционировать нормально. Кондо не мог думать, не мог видеть, он оказался совсем беспомощным.
«Твою мать!»
Кондо понял, что возвращаться в ванную нельзя, так как это будет равносильно смерти или пленению, что на самом деле было одно и то же. Однако он не мог идти и в ту комнату, где хранились его мечи, потому что ничего не видел. Его зрение было выведено из строя.
Снизу доносились громкие крики, звон мечей и глухие удары стали но человеческой плоти. Кондо понял, что на его людей напал противник, не уступающий численностью. Ему страстно захотелось броситься к своим мечам, схватить их и, ворвавшись в самую гущу сражения, рубить, рубить и рубить. Он верил, что его появление сможет переломить ход боя.
Но он был слеп.
Кондо подумал: окно ванной.
Прыгать оттуда невысоко — до земли футов десять, не больше.
Вслепую он нащупал дорогу к окну ванной, открыл его, пытаясь вспомнить, как именно оно расположено относительно плана дома, затем сообразил, что только теряет время, и прыгнул вперед. Короткий полет через холодную пустоту — и он с глухим стуком упал на землю.
— Вот он! — воскликнул кто-то. — Хватайте его!
Через мгновение Кондо схватили четверо.
— Сопротивление бесполезно, братишка. Если ты сдашься, мы тебя не убьем.
— Не бейте меня, — жалобно взмолился Кондо, изображая страх и растерянность. — Я повар. Пожалуйста, я здесь только работал, не бейте меня!
Мива старался сохранить спокойствие. Слушая нарастающий рев на улице, он понимал, чтó произошло. Единственная его мысль была о бегстве, но, разумеется, он был слишком напуган, чтобы предпринять такую попытку в одиночку. Поэтому Мива предположил, что Кондо, его верный вассал, придет к нему на помощь.
Однако через несколько минут он понял, что Кондо к нему не придет.
Проклиная свое невезение, Мива подполз к двери, приоткрыл ее наполовину и увидел ту самую пляску теней на стене, которую видел Кондо.
Это зрелище повергло его в ужас.
Он попытался побороть панику.
«Если мне удастся спрятаться, я останусь в живых. Эти люди не смогут оставаться здесь долго. Они должны напасть, убить, отойти. Бежать я не смогу, но я могу спрятаться».
На четвереньках он выполз в коридор, нашел лестницу, ведущую на первый этаж, и словно змея скользнул вниз, в темноту.
— Пожалуйста, не бейте меня, я повар, — скулил Кондо.
Сильные руки прижали его к земле и заломили руки за спину, чтобы связать.
— Этот — пустышка, — сказал один из нападавших. — Акира, отведи его во двор, а мы продолжим.
Трое устремились вперед, чтобы принять участие в общей схватке, которая и не думала затихать.
— Пошли, козел, — бросил оставшийся боец. — Поднимайся с земли. Господи, да ты совсем раздетый, бедняга!
Да, Кондо был раздет, но, поморгав, он убедился, что яркие вспышки, мелькавшие перед глазами, погасли. Кондо снова моргнул, увидел, как из искрящегося хаоса появляется окружающий мир, и обнаружил, что находится во дворе за домом вместе с одним из нападавших. Тот, заломив ему руку за спину, довольно грубо толкал его вперед.
— Простите, но моя рука… — начал Кондо.
— Заткнись, — сказал нападавший.
Точнее, он собирался сказать: «заткнись», но где-то между «за» и «ткнись» Кондо плавно развернулся, мгновенно сориентировался и, вспомнив основы дзю-дзюцу, левой рукой нанес своему противнику удар «лапа дракона». Тот упал на снег, и Кондо с силой врезал ему ладонью в висок, надеясь, что этот удар окажется смертельным.
Застонав, нападавший затих.
Отобрав у него меч, добротный клинок промышленного производства, Кондо подбежал к стене. Одним прыжком перескочил через нее и распластался на земле, учащенно дыша, проверяя, нет ли за ним погони.
Никого.
Кондо поднялся на ноги, голый, в одном халате, и побежал босиком по снегу. Добравшись до ближайшего дома, он выбил окно и проник внутрь. Бегом поднявшись наверх, Кондо застал в постели перепуганных до смерти мужа и жену.
— Оставайтесь на месте, или я вас убью. Мне нужна одежда. И сотовый телефон.
Отперев дверь, Нии шагнул в белую комнату. Насколько он помнил, выключатель был слева, и, особо не размышляя, он зажег свет. Комната предстала перед ним во всех отчетливых деталях: смятая кровать, телевизор, окно с закрашенным белой краской стеклом — все белое, белое, белое. Но где же девчонка? Нии ощутил укол паники, которую сменил страх: он не должен подвести оябуна. Подбежав к кровати, Нии сорвал с нее одеяло, но ничего не увидел, заглянул вниз и тоже ничего не увидел. Затем ему пришла мысль потрогать постельное белье, ощутить сохранившееся тепло.
«Дурак, девчонка спряталась!» — одернул себя он.
Подбежав к встроенному шкафу, Нии распахнул дверь, но и там никого не было. Оставалась только ванная. Бросившись к ней, он подергал дверь. Она оказалась запертой изнутри. Вот где девчонка!
— Девочка, открой дверь! Если ты ее сейчас не откроешь, у тебя будут большие неприятности! Девочка, делай, как я тебе говорю, черт бы тебя побрал!
За дверью было совершенно тихо.
На улице звуки сражения поднялись на новую высоту — крики, стон, вопли раненых, звон стали. Нии очень хотелось принять участие в сражении. Но у него был долг.
— Девочка! Девочка, я начинаю терять терпение!
Но ребенок продолжал молчать.
— Ну хорошо, — бросил Нии, — ты об этом пожалеешь.
С этими словами он отступил назад и, выхватив катану, принялся кромсать деревянную дверь. Современная дешевая дверь под его натиском быстро превратилась в щепки. После трех или четырех хороших ударов в ней образовалась дыра, достаточно большая для его здоровенных плеч и рук. Просунув руку внутрь, Нии нащупал запор и повернул ручку.
И вдруг он услышал крик:
— Назад, жирный ублюдок!
Взбешенный, Нии обернулся и увидел одного из черепашек-ниндзя. Которого именно, Донателло? А может быть, кого-то другого из них. Лео? Рафа? Его противник был необычайно крохотный и стройный, облаченный во все черное, а из маски на лице торчал единственный выпученный глаз. Это еще что за черепашка-мутант?
Внезапно черепашка подняла руку и, сорвав с головы тяжелый глаз, отшвырнула его в сторону. Освобожденные волосы пышным каскадом устремились вниз, длинные, черные и прекрасные, и Нии понял, что перед ним женщина.
— Сука! — в ярости крикнул он.
Сьюзен ворвалась в дверь. Прибор ночного видения отобразил все, что было перед ней. Слева тянулись просторные помещения, и оттуда доносился шум сражения, приглушенные восклицания бойцов, которые сошлись в смертельной схватке, стремясь взять верх друг над другом. Справа короткая лестница вела в коридор, а за ней другая лестница поднималась наверх, где должны были находиться спальни.
Куда бежать? Определенно наверх: пленника, даже если это маленький ребенок, не станут держать на первом этаже. Перепрыгивая через две ступени, Сьюзен устремилась на второй этаж. Свэггер не отставал от нее ни на шаг. Наверху их встретили трое, но это были не бойцы. Объятые паникой, они бежали куда глаза глядят, и Сьюзен вместе с напарником просто отступили в сторону, пропуская их — наверное, поваров или слуг, определить трудно, поскольку они были в пижамах. Все трое выбежали на улицу и попали в руки к десантникам.
Но вдруг слева выпрыгнули еще двое, и это были уже якудза. Свэггер выскочил вперед из-за спины Сьюзен, увернулся от удара и уложил одного из противников ударом локтем в лицо. Тот, обмякнув, сполз на пол. В тесноте для мечей не было места, поэтому Свэггер сцепился во вторым якудза, оттолкнул его в сторону, вонзил колено в пах, а потом несколько раз с силой ударил спиной о стену.
— Беги, беги! — крикнул он.
Выйдя из боя, Сьюзен пинком распахнула первую дверь, увидела пустую комнату и побежала дальше, распахнула вторую дверь, за которой также никого не было, затем услышала в конце коридора крики.
Она добежала до комнаты, дверь в которую была уже открыта. Из нее струился яркий свет. Сьюзен ворвалась в комнату и увидела странное зрелище, усиленное прибором ночного видения, хотя освещение и без того было ярким. Здоровенный мужчина яростно рубил мечом дверь в ванную, вгрызаясь лезвием в тонкое дерево, превращая его в щепки. При этом он орал во всю глотку:
— Девочка, выходи! Девочка, ты должна меня слушаться, иначе тебе будет больно! Девочка, не капризничай, иначе я очень-очень рассержусь!
Сьюзен шагнула в комнату, в ярости сопоставляя размеры верзилы и крошечной Мико.
— Назад, жирный ублюдок! — приказала она.
Мужчина обернулся. Его покрытое потом лицо исказилось от злости.
Он был огромный и зеленый.
Только тут до Сьюзен дошло, что она по-прежнему смотрит на него через прибор ночного видения. Она сорвала его с головы, поморщившись от боли, поскольку одна резинка зацепилась за волосы.
Похоже, увидев перед собой женщину, верзила разъярился еще больше.
— Сука! — крикнул он.
— Боров, — ответила Сьюзен.
Свэггер оказался в одном помещении с шестью бойцами, которые, судя по всему, охраняли второй этаж. Те поначалу отпрянули, отступая перед его стремительным натиском. И вот он оказался один против шести человек в тесном пространстве маленькой комнаты.
«Проклятье!»— подумал Боб, прикидывая, справится ли он с шестью противниками.
Он машинально принял боевую стойку, наступательную дзёдан-камаэ, выставив правую ногу вперед и подняв меч, чувствуя, что единственный путь к решению этой тактической проблемы лежит через грубую силу.
И в этом Боб не ошибся. Впрочем, все пошло не совсем так, как он ожидал.
Его агрессивная боевая стойка, ярость, сквозящая в каждом движении, — «луна, отражающаяся в холодном ручье», — и готовность убивать врагов — все это мгновенно растопило волю его противников. Шесть катан со звоном упали на пол; все шестеро якудза рухнули на колени: они потеряли всякое желание рисковать жизнью, сражаясь с ним.
Это был замечательный, можно сказать, идеальный исход, и Боб не видел смысла убивать их. Однако перед ним возникла проблема, как нейтрализовать сразу шестерых пленных. Шагнув к ним, он достал желтые пластиковые наручники, захваченные как раз для этого, и обнаружил — вот черт! — что их только четыре пары.
Упавшие на колени якудза опустили головы, боясь смотреть ему в лицо.
Боб обходил их, склоняясь к каждому, пока не кончились наручники. Ему приходилось непросто, потому что работа требовала двух рук и он был вынужден зажимать катану работы Мурамасы под мышкой.
Сковывая очередного бойца, Боб свирепым голосом вопрошал:
— Кондо Исами?
Их лица бледнели еще больше, страх в глазах удваивался. Если они и знали Кондо, то только понаслышке: никто не мог сказать ничего определенного.
Уф… Часы продолжали неумолимо вести отсчет времени, секунды шли, а Боб все еще возился с этими мальчишками. Они были совершенно никчемными, однако их нельзя было оставить на свободе. В любой момент они могли наброситься на него, шестеро на одного, опрокинуть и убить, поскольку он был окружен и совершенно беспомощен, с бесполезным мечом, зажатым под мышкой. Однако в этих якудза не осталось ни капли боевого духа, и через некоторое время Боб нейтрализовал всех шестерых, надев четверым наручники, а двоих связав их собственными поясами, что было скорее символическим актом сдачи в плен.
Вытолкнув первого якудза в дверь, Боб показал, куда тому двигаться — вдоль коридора. Он выстроил в цепочку свой маленький отряд и провел его к лестнице, откуда уже была видна входная дверь. Похоже, бой на улице кончился: крики затихли. Боб махнул рукой вниз, и якудза покорно направились навстречу судьбе.
Вдруг Боб услышал крики, крики мужчины и женщины. Было ясно: два воина сошлись в смертельной схватке.
Один из голосов принадлежал Сьюзен.
На улице все внезапно кончилось.
Мечи застыли, крики затихли, судорожное дыхание, поднимавшееся в ночном морозном воздухе облачками пара, постепенно успокоилось. Лишь снег продолжал мягко падать, засыпая белоснежным покрывалом вымощенный кирпичом внутренний дворик.
Куда бы ни бросал взгляд майор Фудзикава, его люди больше не сражались с врагом. Одни якудза лежали неподвижно на земле в больших лужах крови и растаявшего снега, превратившегося в слякоть. Другие стояли на коленях, связанные или послушно протянув руки в ожидании того, что их свяжут.
— Займитесь ими, — распорядился Фудзикава, хотя в этом не было никакой необходимости, ибо его люди и так знали свое дело. — Снайперы?
Тут смысла было больше: снайперы, по-прежнему восседающие на наружных стенах, продолжали высматривать в доме вооруженные цели.
Ответы последовали без промедления.
— Снайпер номер один, все чисто.
— Снайпер номер два, у меня ничего.
— Снайпер номер три, все тихо.
— Снайпер номер четыре, целей не вижу.
— Прочесать все, — крикнул майор, опять же скорее отдавая дань приличиям, чем добиваясь какого-то эффекта, поскольку его вышколенные десантники уже рассыпались по территории, ища спрятавшихся, затаившихся, спасшихся бегством.
К Фудзикаве подошел капитан Танада.
— Все чисто, господин майор, — доложил он.
— Да, здесь тоже все кончено. Где старший сержант Кендзи?
Старший сержант, вдоволь развлекшийся со своей бо — очень прочной бойцовой палкой длиной четыре фута, связывал одного из якудза, которого перед тем хорошенько отдубасил.
— Да, господин майор.
— Пересчитайте наших людей.
— Будет исполнено.
Старший сержант побежал опрашивать командиров групп.
— Не могу поверить, что все прошло так быстро, — сказал Танада.
Майор Фудзикава взглянул на часы. Операция продолжалась семь минут.
— Кто-нибудь видел Миву и ребенка?
— Свэггер-сан и американка все еще в доме.
— Помогите им, живо!
— Будет исполнено.
Он обезумел от ярости: убить, сокрушить, раздавить, уничтожить. Обуявшая его злость превратилась в химическое вещество, разлившееся по всему телу, наполнившее мышцы силой и решимостью.
Он сомнет подлую сучку. Разрежет ее пополам. Сокрушит ее.
Он бросился на нее, а она — ему навстречу. Он высоко занес меч, собираясь нанести хидари кесагири, удар наискось слева направо, точно такой же, каким в ту ночь оябун расправился с корейской шлюхой. Нии отчетливо представил все, ибо сейчас белая комната была ярко освещена: движение лезвия через плоть, недоумение и ужас на лице, медленное сползание верхней части рассеченного надвое тела.
Кияй! Он опустил меч, чувствуя великолепно выполненный удар, пронизанный силой и скоростью океана воздуха, вырвавшегося у него из легких в боевом кличе.
Однако маленькая сучка оказалась проворной и в самый последний миг скользнула в сторону, уворачиваясь от смертоносной стали.
Но Нии быстро опомнился, импровизируя на ходу. Он выставил левое бедро вбок и ощутил, как оно наткнулось на бегущую женщину, которая оказалась настолько легкой, что сила удара подбросила ее вверх и отшвырнула в сторону. Проклятая сучка ударилась о стену с глухим стуком, доставившим Нии удовлетворение. Судя по всему, удар пришелся по спине, ибо она раскинула руки, выпуская вакидзаси, ее лицо исказилось от боли, взгляд затуманился, и она сползла вдоль стены, теряя сознание.
Итак, все кончено.
Теперь цуки, прямой выпад. Нии…
— Стой!
Кто-то крикнул это по-английски. Нии застыл.
— Папочка вернулся домой.
Он обернулся.
Это был гайдзин.
Тот самый, который его унизил. И вот теперь ему представилась редкая возможность исправить свою ошибку. Сердце Нии наполнилось восторженным предчувствием.
— Смерть гайдзину! — воскликнул он. — Потом умирать ребенок, потом эта шлюха!
— Знаешь, почему ты такой жирный? — невозмутимо промолвил гайдзин. — Потому что ты набит дерьмом.
Высоко подняв меч, Нии бросился вперед и, рубанув с размаху, рассек солидный кусок вселенной. Вот только гайдзина в нем не оказалось.
Стремительно развернувшись, Нии принял боевую стойку и сделал прямой выпад, пытаясь поразить противника.
Обеими руками он выбросил лезвие вперед, стремясь пронзить открытое тело гайдзина, однако острие не встретило на своем пути никакого сопротивления. Нии делал выпад за выпадом, ожидая ощутить наконец соприкосновение стали с человеческой плотью. Однако лезвие, наверное, было очень острым и беспрепятственно входило в тело, потому что он ничего не чувствовал.
Вдруг Нии осознал, что у него больше нет меча.
Затем он осознал, что меча нет потому, что у него больше нет рук. Гайдзин перерубил их в запястьях, обе, аккуратно и практически безболезненно, когда скользнул мимо, выполняя блок, который Ягуи назвал «боковым ветром», блок, специально предназначенный для противодействия кесагири и завершающийся кульминацией отсечения обеих рук. Гайдзин оказался проворнее.
Кровь не хлестала и не пенилась. Не собираясь свертываться, она пульсировала тонкими фонтанчиками, подчиняясь сокращениям сердца. Посмотрев на свои руки, Нии решил сочинить предсмертное стихотворение.
Он вскинул голову, храбро улыбаясь, но внезапно весь окружающий мир судорожно наклонился вправо и затянулся пеленой. Нии показалось, что он падает, однако тела своего он больше не чувствовал. Затем его последние восемь секунд истекли.
Боб шагнул назад, прочь от кровавого месива, творения своих рук.
Тело жирного якудза упало на кровать, исторгнув на простыню и одеяло волну красного прилива. Голова отлетела в сторону и куда-то закатилась.
Боб нагнулся к Сьюзен, и та застонала, приходя в себя.
— О господи, — прошептала она.
— Все в порядке, — успокоил ее Боб. — Где малышка?
— В ванной.
Подойдя к ванной, Боб просунул руку в дыру, нащупал запор, повернул его и открыл дверь.
— Малышка, малышка, ты здесь? Солнышко, где ты?
— Железный Дровосек, Железный Дровосек! — радостно воскликнула девочка. — Я знала, что ты придешь!
— Я здесь, милая.
Бросившись к Мико, которая сидела скрючившись в ванне, Боб схватил ее в объятия, крепко прижимая к себе, ощущая гулкое биение крохотного сердечка.
— Большое чудовище не сделает мне больно?
Свэггер не владел японским. Он просто сказал:
— Все хорошо. Тебя больше никто не обидит.
— О, Железный Дровосек!
— А сейчас послушай меня, малышка. Я заберу тебя отсюда, хорошо? Все будет просто отлично.
Девочка снова заговорила по-японски, но тут подоспела Сьюзен.
— Сделай так, чтобы она ничего не увидела.
— Постараюсь.
Сьюзен обратилась к Мико по-японски:
— Ты должна обещать нам одну вещь.
— Хорошо.
— Я понесу тебя на руках. Но ты должна крепко-крепко зажмуриться, прижаться ко мне лицом и не открывать глаза до тех пор, пока я тебе не разрешу. Надо будет потерпеть всего одну минутку. Обещаешь? А потом мы купим мороженое. Не знаю где, но мы непременно купим мороженое.
— Хорошо, тетя. А Железный Дровосек пойдет с нами?
— Да, обязательно, — по-японски заверила девочку Сьюзен. Она повернулась к Бобу. — Мико считает, что ты Железный Дровосек.
— Только не надо показывать ей, что за дрова я тут только что рубил.
— Не будем.
Взяв девочку на руки, она направилась к двери.
— Глазки закрыты?
— Да, тетя.
Выйдя из ванной, Окада-сан увидела двух снайперов, которые стояли с винтовками в руках, готовые проводить ее до машины.
— А у тебя неплохо получилось, умница-отличница, — заметил Свэггер.
— И у тебя тоже, деревенщина, — улыбнулась Сьюзен, унося ребенка.
Мико сидела на руках, послушно зажмурившись, и так и не увидела, что комната больше не белая.
Глава 44 ПРАВОСУДИЕ ЭДО
Боб спустился во двор как раз в тот момент, когда подъехали автобусы, чтобы забрать десантников. Он подошел к майору Фудзикаве.
— Какие у вас потери, майор?
— Мы вышли без потерь. Несколько серьезных порезов, на которые сейчас накладывают швы. Ушибы, растяжения связок, много синяков. Хуже всего дела у одного десантника, которого оглушил повар. Повару удалось бежать.
Свэггер сразу понял, кто этот «повар».
— Много убитых?
— Пятнадцать. Еще больше раненых. Наши медики латают раненых бандитов и вливают им физраствор. Можно считать, мерзавцам повезло. Если бы они имели дело с другой шайкой, их бы просто бросили умирать.
— Шестнадцать. Мне пришлось завалить одного жирного верзилу наверху. В любом случае, похоже, вы успеете убраться отсюда еще затемно.
— У нас осталось последнее дело.
Обернувшись, Фудзикава махнул рукой. Боб увидел Юичи Миву, стоящего на коленях в снегу, дрожащего от холода. Он был в одном халате-кимоно, с голой щуплой старческой грудью. Никто не трогал видеомагната, не говорил ему ни слова, однако у него на лице была написана обреченность.
— Наверное, вы не захотите видеть это, — сказал майор.
— Мне уже приходилось видеть подобное.
— Все будет сделано по старинке.
— Только так и будет правильно.
— Мои люди того же мнения. Мы голосовали. Решение было принято единогласно.
Фудзикава кивнул старшему сержанту Кендзи. Тот приблизился с красным свертком в руках, и Боб мгновенно понял, что в нем: аккуратно перевязанный чехол из красного бархата, в котором лежал меч. Майор Фудзикава быстро развязал тесемки и достал клинок без ножен, в котором Боб узнал тот меч, который достался его отцу на Иводзиме.
Майор Фудзикава подошел к стоящему на коленях старику.
Он обратился к нему по-японски, но капитан Танада шепотом начал переводить Бобу на ухо:
— Юичи Мива, это тот самый меч, которым Оиси, вассал Асано, в пятнадцатом году эпохи Генроку обезглавил Киру, предавшего его господина. Это тот самый меч, который подарил Филиппу Яно вот этот американец; он принадлежал семейству Яно по праву наследства, поскольку именно с ним пошел в свой последний бой на острове Иводзима майор Хидеки Яно. Это тот самый меч, ради которого ты безжалостно убил Филиппа Яно и его семью, думая только о собственном честолюбии. У тебя было все, но ты хотел большего. Я, майор Альберт Фудзикава из первой воздушно-десантной бригады японских сил самообороны, бывший заместитель полковника Филиппа Яно, согласно древней традиции по праву вассала хочу отомстить за смерть своего господина. Однако я предлагаю тебе выбор. Если хочешь, ты можешь прервать свою жизнь с помощью этого меча и тем самым по самурайскому обычаю восстановить свое доброе имя и честь. В противном случае я обезглавлю тебя как простого преступника.
Мива с вызовом выпятил грудь.
— Поступайте как вам угодно. Но только знайте, что вы убиваете человека, способного видеть будущее. Я заявляю, что смерть Яно и его семьи была неизбежной. Я борюсь за то, чтобы сохранить чистоту и целостность Японии. Я выступаю за древние традиции. Я борюсь с чужеземцами, а Яно-сан, как всем известно, принял сторону чужеземцев. Сейчас вы меня убьете. Пусть будет так. Я не стану отговаривать вас от мелочного отмщения. Оно свидетельствует лишь об одном: вы все жалкие людишки. Но вместе со мной умрет частица Японии. Я подставляю свою шею мечу, но пройдет время, и многие поймут, кого вы убили, и пожалеют о содеянном вами.
Падающий снег покрывал землю, заглушая звуки. Наступила полная тишина. Даже пленные, уложенные на землю, с почтением внимали происходящему, признавая важность момента. Старик наклонился вперед и вытянул шею, не только чтобы облегчить работу палачу, но и для собственного удобства. Майор Фудзикава взял меч в вытянутые руки. Капитан Танада вылил на клинок бутылку минеральной воды, очищая, освящая его. Затем Фудзикава вскинул руки и опустил их, выполняя безукоризненный синдзёкугирй, прямой вертикальный удар. Отполированное лезвие запело в холодном воздухе, устремляясь к цели. Рассечение плоти прошло практически бескровно. Голова отлетела с глухим стуком книги, упавшей на пол. Обезглавленное тело, постояв мгновение, повалилось вперед, дернулось один раз и застыло неподвижно. Красный поток начал рисовать на земле затейливые узоры, прожигая тонкий слой снега.
Майор быстро выполнил цибури, ритуально стряхнув с лезвия кровь, образовавшую на белом снегу абстрактную россыпь брызг.
И тут послышались звуки «Звездно-полосатого флага».
Только когда американский гимн дошел до строки «…и всю ночь наш флаг по-прежнему гордо реял там…», Свэггер осознал, что источником музыки является он сам. Это звонил забытый сотовый телефон, который передал ему Кондо, чтобы условиться о месте встречи.
Боб раскрыл аппарат.
— Половина шестого утра. Как я и обещал, я тебе звоню, — услышал он голос Кондо Исами. — У нас с тобой осталось одно дело.
— Ты совершенно прав, — ответил Боб. — Пожалуйста, назови время и место.
— Это совсем недалеко, гайдзин. Рядом, прямо за стеной, есть одно очень милое место. Парк Киёсуми. У пруда поверни налево. Смотри влево. Я буду ждать тебя на островке. Ты узнаешь меня без труда. Я буду с мечом.
Глава 45 СТАЛЬ ПРОТИВ СТАЛИ
Свэггер повернулся и, поднимая облака снежной пыли, направился к воротам с мечом работы Мурамасы за плечом. Выйдя в переулок, он повернул направо, прошел пятьдесят ярдов, затем свернул влево, входя через открытые ворота в парк Киёсуми, освещенный первыми лучами восходящего солнца.
Ему показалось, что он попал в сказочную страну. Свежевыпавший снег покрывал все вокруг; в воздухе царило полное спокойствие раннего утра. Прямо впереди Боб увидел пруд, плоскую зеркальную поверхность, которую время от времени разбивали волны, поднятые огромным карпом размером с форель, решившим показать свой золотистый бок. В одном углу мягко покачивался тростник, подчиняясь внутреннему ритму, а не возмущению воздуха; он был по-прежнему зеленый, потому что снег не мог удержаться на вертикальных стеблях. Вдалеке поднимался павильон: крытая черепицей крыша с загнутыми вверх концами, покрытая снегом, прочные опоры красного дерева и целое море окон в частых переплетах. Деревья тоже оделись в белое. Сосны безропотно держали на себе снег, ивы были не столь покладистыми и, подобно тростнику, оставались почти голыми. В воздухе кружили жирные утки, отъевшиеся в этом изобилии рыбы, хрустящий снег напоминал рассыпанный сахар, и весь пейзаж обладал совершенством гравюры древнего мастера. Картину не портило ни одно здание современной постройки. Это было настоящее хайку под названием «Парк, 5.32 утра, рассвет». Можно было еще добавить: «1702 год».
На островке слева Боб увидел человека, до которого оставалось еще около ста ярдов безмолвия. Боб направился по тропинке, прыгая по камням, огибающим небольшую бухточку, поднырнул под ветви ив, отыскал плавно изогнувшийся деревянный мостик и перешел по нему на остров.
Это был пятачок земли шагов тридцати в поперечнике, с берегом из старательно уложенных камней, покрытых искрящимся снегом. Здесь росли ивы, согнувшиеся под тяжестью снега, белого на зеленом, и все это было подкрашено пурпурными ленточками пробивающегося солнечного света, отраженного низкими плотными тучами. Время от времени на поверхности пруда расходились круги — это выныривал жирный карп, то ли в поисках чего-нибудь съестного, то ли просто чтобы икнуть.
Кондо Исами стоял, выставив ногу, любуясь собой. Как и Свэггер, он перекинул ножны с мечом за спину наподобие винтовки. На его широком красивом лице витала усмешка. Он был похож на джазового музыканта, готового начать импровизацию, или на футболиста, собирающегося пробить штрафной: накачанные мышцы под строгим черным кимоно, поза уверенного в себе воина, излучающая чуть ли не ощутимые тепловые волны.
— Ну, — спросил Кондо подошедшего Свэггера, — Мива умер достойно?
— Не совсем, — ответил тот. — Перед смертью он произнес совершенно бредовую речь.
— Увы, мне столько раз приходилось выслушивать все это. Но ты, Свэггер-сан, — я уверен, ты умрешь достойно.
— Сомневаюсь в этом, — возразил Свэггер. — Я собираюсь вопить как резаный. Но поскольку в ближайшие тридцать лет этого не произойдет, сейчас можно не беспокоиться.
Когда Кондо услышал это бахвальство, самодовольная усмешка на его на лице стала еще шире. Затем он кое-что заметил.
— О, вижу, мой отец дал тебе клинок работы Мурамасы. Он по-прежнему верит во всю эту чушь. Для меня будет большой радостью сегодня днем вернуть ему меч без каких-либо комментариев. Он сразу поймет, что это означает. Это станет моей местью ему. Какой трогательный семейный момент!
— На самом деле твой отец получит мешок, в котором будет лежать твоя голова.
— Раз папаша тебе помогает, это означает, что он отправлял тебя к Досю. Я тоже учился у Досю. Я тебе сочувствую. С Досю далеко не уйдешь. Твое воображение ограничено стариком. Если ты намереваешься продержаться против меня больше одной минуты, тебе следовало бы приготовить что-нибудь помимо восьми ударов. А когда я отрублю тебе голову, Досю тоже услышит об этом. Жаль, что я не смогу увидеть, как он отнесется к этому известию.
— А ты, похоже, нервничаешь. Слишком много говоришь. Я пришел сюда сражаться, а не болтать.
— Нет, я нисколько не нервничаю. Я сгораю от нетерпения. Сегодня у меня знаменательный день. Я не помог Миве одержать победу на выборах, и что с того? Подумаешь. Он занимался грязной порнографией. Зато мне сейчас предстоит сразиться с настоящим великим самураем и победить его, о чем я мечтал уже столько лет. Тем самым я одержу победу над своим отцом, а поскольку он является живой легендой самурайского духа, я тоже стану легендой.
— Ты говоришь так много, будто располагаешь всем временем на свете.
— И это действительно так. Позволь объяснить почему. Я гений, а гений всегда торжествует победу. Таков закон генетики. В моих жилах течет кровь сотен поколений фехтовальщиков. Далее, у меня есть опыт. Я тридцать два раза сражался в поединках на мечах — и во всех одержал победу. Я знаю, что это такое. У меня есть молодость, сила, энергия. И у меня есть над тобой еще одно преимущество: я знаю стиль Досю и те восемь ударов, которым он тебя обучил, и смогу без труда отразить любой из них одной рукой. Кроме того, мне известны особенности твоего стиля: все твои удары размытые, за исключением лучшего, миги кириаге, а движения ногами вообще никуда не годятся.
— Ты забыл одну мелочь: я жульничаю, — заметил Свэггер.
Мечи покинули ножны быстро, подобно мелькнувшим змеиным жалам, издав сдвоенный шелест полированной стали о дерево, прозвучавший особенно громко в тишине раннего утра. Кондо оказался гораздо расторопнее. Он настолько быстро обнажил свой меч, что Свэггер порадовался собственной предусмотрительности: он держался от противника на почтительном удалении. В противном случае Кондо смог бы рассечь его нукицуке, еще только выхватывая меч, и поединок закончился бы, не успев начаться.
Островок не оставлял пространства для маневра: Свэггер решил, что это ему только на руку: чем меньше он будет бегать, тем больше сил у него останется. Чем ближе он подойдет к противнику, тем выше будут его шансы. Если дело дойдет до беготни с размахиванием мечом, как это показывают в кино, он очень быстро выдохнется. Стоит ли тратиться на технические ухищрения, чтобы просто устать?
Решив положиться на агрессивность, свою давнюю подругу, Боб двинулся вперед, быстро рассекая островок пополам, опуская свое лезвие справа сверху на противника, который ждал его на упругих ногах, полностью сосредоточенный, выставив меч перед собой, словно готовый сделать выпад.
Забыв о скользящих перемещениях по дощатому полу спортивного зала, Боб шагнул вперед. Это был реальный мир: ему приходилось переступать через клочки травы, заметенной пушистым снегом, через камни. Он бросился вперед — «Кияй!» — со своим любимым кесагири справа, однако подвижный, словно ртуть, Кондо в последнее мгновение сместился в сторону, уходя с пути лезвия, развернулся и отплатил быстрым боковым ударом, очень сильным классическим йокогири. Свэггер каким-то образом с быстротой, о существовании которой даже не подозревал (и сразу понял, что надолго ее не хватит), выставил свой меч, отбивая удар. Сталь ударилась о сталь с музыкальным звоном — аккорд из оперы композитора, одержимого кровью и смертью, который очень обрадовался бы постановке финала под падающим снегом. Свэггер ощутил в ударе своего противника и силу его мышц, и точность. Мгновенно развернувшись, он отступил назад.
— Да, неплохо сойтись вплотную и быстро со всем покончить. Мы оба понимаем, что долго ты против меня не выдержишь. Каждая секунда является очком в мою пользу. Для того чтобы одержать над тобой победу, мне вовсе не обязательно торопиться, — с выводящей из себя усмешкой на лице сказал якудза. — Достаточно будет лишь дождаться, когда у тебя устанут руки.
Он сделал вид, будто расслабляется, но подсознание Боба, прочтя движения его тела, раскрыло обман. И действительно, уже в следующее мгновение Кондо из положения кажущейся мягкости мышц взрывом бросился вперед: выпад кобры, бросок волка, прыжок льва. Нет, его движение было настолько гладким, что в природе у него не было аналогов, оно было лишь тем, чем было, и никакое сравнение не могло передать его суть. Свэггер сам не смог бы сказать, как ему удалось остаться в живых, но в нем самом проснулось нечто по-кошачьи стремительное, и он, даже не пытаясь отразить меч, поспешно отступил назад, ответив одним неуклюжим ударом, который Кондо отбил без труда. Однако тот не стал развивать свое преимущество, а застыл на месте.
— Неплохо. Медленно, неловко, но ты все еще дышишь. Что ж, попробуем еще раз.
Цуки, прямой выпад, выброшенный резким выдохом воздуха из легких и сомкнутыми локтями, устремился Бобу в лицо, приближаясь с молниеносностью хищника, стараясь найти глаза, рот или горло, и на этот раз Свэггера спас только древний первобытный инстинкт, доставшийся ему чуть ли не от динозавров. Рывком отдернув верхнюю часть туловища перед сверкающим острием катаны, остановившимся в каком-то дюйме от его лица, он шагнул вправо, пытаясь нанести йокогири, удар сбоку, на этот раз только одной правой рукой, поскольку в процессе этого движения, казалось произошедшего несколько лет назад, левая разжалась, выпуская рукоять меча. Клинок Мурамасы рассек что-то — но это оказалась лишь ткань кимоно.
— О-о! — простонал Кондо, глубоко оскорбленный тем, что его гардероб испорчен лезвием.
Его ярость выплеснулась в удар наискось, коварный кесагири, который Боб не отбил, а лишь направил в другую сторону, мимо себя. И тут же послышался глухой стук и что-то вонзилось Бобу в лицо. Это была рукоять, поскольку противник, не имея свободного пространства, чтобы развернуть меч и снова задействовать лезвие, просто с силой ткнул ему в лицо рукоятью, выбивая из глаз искрящееся звездное небо и вспышки орудийных залпов.
Но Свэггер еще не был готов к смерти. Прыгнув вперед, он обхватил Кондо. Оба меча оказались выведенными из игры этим объятием, и Боб воспользовался случаем, чтобы отплатить любезностью за любезность. Его лоб обрушился на лицо Кондо. Менее крепкий противник упал бы на землю оглушенный, но Кондо, собрав силы, освободился из захвата и снова принял стойку.
Противники стояли друг против друга, жадно глотая воздух. Лица у обоих были окровавлены, глаза лихорадочно бегали, собирая информацию, взгляды были сосредоточены.
Кондо шумно выдохнул.
— Ты дерешься, как крестьянин, — сказал он.
— А я и есть крестьянин, — ответил Боб.
Настал его черед нанести цуки, быстрый выпад вперед, однако он целился ниже, намереваясь лишь пронзить грудь и сердце, чтобы противник умер от потери крови. Но выпад получился недостаточно быстрым. Казалось, удар растянулся на целый час, потому что мышцы Боба, в конце концов, прожили на этом свете уже почти шестьдесят лет, и хотя когда-то им не было равных в скорости, сейчас они потеряли несколько драгоценных миль в час.
Пронзив пустоту, Боб отступил назад и тотчас же сделал обманный выпад влево, понимая, что Кондо на это не купится и будет ждать удара справа. Поэтому он оказался готовым, когда через долю секунды блок, поставленный его противником, сам перешел в удар. Боб отразил этот удар и шагнул вперед, пытаясь обратить его в свою пользу. Но хотя меч Кондо прошел мимо, Боб на мгновение забыл, что у его противника две руки, и тот обхватил его второй рукой за шею. Свэггер отшатнулся назад, собираясь с силами, затем вдруг резко упал на одно колено и перебросил Кондо через плечо, опираясь на свой меч, чтобы удержать равновесие.
Равновесие-то ему удержать удалось, но это означало, что он никак не успеет вернуть лезвие в дело, и когда он наконец был готов нанести удар, его противник, ловко перекатившись по снегу, уже поднялся на ноги в облаке снежных искр и принял стойку. Волосы Кондо были растрепаны; он пожал плечами, давая себе небольшую передышку.
— Ты меня снова удивил. Схватка продолжается уже две минуты, тебе даже удалось пустить кровь, и ты до сих пор стоишь и огрызаешься.
У Боба не было слов, чтобы ответить своему противнику. Ему нестерпимо хотелось ощупать страшный синяк под глазом, который превращался в дополнительного врага — помимо возраста, отсутствия опыта и страха. Этот новый враг быстро разбухал, угрожая полностью закрыть левый глаз. А оставшись с одним глазом, он будет все равно что слепым.
Боб перевел дух, стараясь, чтобы это не бросалось в глаза, после чего перебрал имеющиеся у него возможности.
Луна отражается в холодном ручье, как в зеркале.
Нет. Не то.
Думать о сексе.
Плохая мысль.
Думать о косе, о гладких движениях лезвия, рассекающего прохладный воздух Айдахо.
Но в тот самый момент, когда Боб решил думать о косе, коса сама пришла к нему — в мощном кесагири. Какой это был восхитительный удар! Возможно, лучший из всех, что были нанесены до сих пор. Вся сила была сосредоточена в четырех дюймах летящего острия — немыслимое количество атмосфер; лезвие готово было разрезать все, что угодно, любое растение или животное, и если бы Бобу не повезло, оно рассекло бы его от ключицы до пупка, вывалив все его тайны, розовые и мокрые, на восхитительный белый снег.
Каким-то чудом увернувшись от меча, Боб снова попытался ткнуть противника головой в лицо, при этом стараясь включить в игру и свое лезвие; однако его удар пришелся вскользь, подобный скорее оплеухе, а когда его меч очутился там, где находился Кондо, Кондо там уже не было. Он успел отскочить на безопасное расстояние.
Боб жадно глотнул воздух.
Господи, каким же старым и уставшим чувствовал он себя!
— Тебе стало страшно? Я вижу это по твоим глазам. Ты признаёшь свое поражение. Замечательно. Я могу сделать все быстро. Ты ничего не почувствуешь. Все мои противники просто падали на землю, не сказав ни слова, не издав ни звука. Я ни разу не слышал крика. Восемь секунд кислорода в мозгу истекают очень быстро. Ты даже не успеешь почувствовать боль.
Ответом Боба стал йокогири слева направо, сопровождаемый надлежащим «кияй!», потому что выдох в нужный момент времени ускоряет движение лезвия. Он аккуратно рассек воздух надвое. Менее опытный противник упал бы на две стороны разом. Но Кондо просто отступил назад, сделал пируэт, принимая оборонительную стойку, высоко поднял меч и, шагнув вперед с криком «хай!», нанес стремительный удар наискось. К счастью, нервная система Свэггера все еще была взведена до предела, и он успел среагировать, быстро отскочив не назад, а вперед и тем самым избежав встречи с закаленной сталью. Однако Кондо опомнился так быстро, гироскопическая механика его локтей была такой совершенной, что ему моментально удалось нанести новый мощный удар, на этот раз свою версию йокогири слева направо, гораздо более безупречно исполненную, чем удар Боба, гораздо более изящную, достойную воплощения на экране. Боб уклонился от удара, лишь отбросив достоинство и в отчаянии отдавшись порыву. Зловещее острие вспороло рукав куртки и почти на дюйм погрузилось в плоть, однако удар был нанесен с таким хирургическим мастерством, что боль пришла только несколько секунд спустя.
Затем плечо обожгло, и Свэггер почувствовал запах своей собственной крови. На темной ткани куртки расплылось еще более темное пятно. Рана серьезная, глубокая, почти до самой кости. На нее нужно будет накладывать швы, иначе через час он умрет от потери крови. Однако внутренности, сердце и легкие не задеты, кости целы, поток нейронов от нервных окончаний к головному мозгу не нарушен. Просто чертовски больно.
Боб развернулся влево, наткнулся на что-то твердое и потерял какую-то долю секунды, обходя иву. В этот момент Кондо нанес еще один йокогири, настолько молниеносный, что глаз не успел за ним проследить. Боб лишь вздрогнул, не успевая поставить блок, слишком усталый, чтобы уворачиваться.
Однако вместо того, чтобы вскрыть ему горло, превратив его в лопнувшую сточную трубу, лезвие потеряло десятую часть своей скорости, налетев на толстую ветку ивы, скользнуло сквозь нее, не задерживаясь, и остановилось в нескольких дюймах от его лица.
— Здорово, правда? — сказал Кондо. — В кино ты такого не видел, да?
И правда не видел. Ибо весь мир, казалось, окутал снежный буран. Это был снег с листьев ивы, осыпавшийся вниз вместе с рассеченной веткой, образуя белую пелену, облака, туман, недостаточно плотный, чтобы полностью скрыть окружающее, но воскресивший в памяти миф о знаменитом поединке, пересказанный тысячу лет спустя знаменитым рассказчиком.
Свэггер нанес кириаге, восходящий удар слева направо, свой наилучший выбор, но выполнил его слишком медленно.
— Мне приходилось видеть и кое-что получше, — снисходительно заметил Кондо. — Право, думаю, за такой удар Досю следовало бы тебя хорошенько отчитать.
Боб уже не воспринимал издевки; он стоял, пытаясь отдышаться.
— Тебе нечего возразить? Ты выдохся. Это был твой последний удар. Ты истощен. У тебя больше не осталось наступательной энергии.
Не дав ему договорить, Свэггер сделал выпад вперед, прямой цуки, но в этом ударе не было силы, и он все равно встретил лишь пустоту, которую только что занимая Кондо.
Свэггер жадно глотнул кислород. Ему никак не удавалось отдышаться. Господи, ну где же второе дыхание? Кто дал ему сегодня выходной?
— Свэггер, позволь мне закончить. Ну зачем тебе распоротый живот, вывалившиеся внутренности, крики, боль? Я могу положить быстрый конец твоим страданиям.
Свэггер ответил ударом наискось сверху вниз, таким неуклюжим и плохо скоординированным, что Кондо воспринял его чуть ли не как оскорбление. Лезвие прошло от него не меньше чем в семи дюймах. Боб понял, что у него в запасе почти ничего не осталось.
— Эй, старый лев, просто дай мне закончить все, быстро и чисто.
Боб благоразумно не послушался этого совета, откликнувшись на него синдзёкугири, вертикальным ударом вниз, но медлительным и абсолютно безобидным.
— Если тебе не удалось убить меня в самом начале, ты вообще не сможешь меня убить, — заметил Кондо. — Ну хорошо, я сделал предложение. Я отдаю тебе должное. Это было замечательно. Ты мужественно сражался. Но партия закончена. Еще пять ударов, из которых ты сможешь выдержать только четыре. Ты умрешь с честью, великий самурай.
— Да пошел ты! — только и смог предложить в ответ отчаявшийся мозг обессилевшего бойца.
— Хай! — воскликнул Кондо.
Удары последовали так быстро, что взгляд Свэггера не успевал за ними следить. Лишь первобытный умирающий воин у него глубоко внутри, взяв на себя его инстинкты, сумел довольно сносно отразить первый удар слева наискось, второй удар справа наискось, кое-как поставил меч горизонтально, отбивая третий удар снизу вверх, метнулся вправо, уворачиваясь от четвертого, снова справа наискось, но все-таки оказался беспомощным перед пятым, заключительным ударом, боковым йокогири.
Нет времени.
Нет сил.
Нет скорости.
Лезвие Боба не могло поспеть за мелькнувшей сталью, которая, казалось, еще больше ускорялась, приближаясь к его телу.
Это был безукоризненный йокогири, Кондо вложил в него все свои силы и мастерство. Как он и обещал, его клинок беспрепятственно преодолел вымотанную линию обороны Свэггера. С графической четкостью Кондо представил себе, что произойдет дальше.
Якиба — закаленное острие — проходит через бедро, рассекая его, направляется вверх, крушит головку бедра за счет неотвратимой физики собственной энергии удара, затем рассекает тазовую кость и перерубает бедренную артерию, выпуская на свободу поток крови. Разорванная артерия извергает свое содержимое в воздух бурлящим фонтаном, превращающим белый снег в пурпурную слякоть. А лезвие, еще не растерявшее свою энергию, движется дальше, разделяя мягкие ткани, и наконец выходит на свободу, завершив ампутацию. Боб падает, истекая кровью. Клиническая смерть, возможно, приходит и не мгновенно, но определенно в течение двух секунд.
Однако хотя мозг говорил Кондо, что все это неминуемо произойдет, случилось нечто иное. Вместо этого он ощутил неожиданную дрожь лезвия, успевшего лишь чуть-чуть погрузиться в бедро и тут же застывшего. Рукоять едва не вырвалась у него из рук, и он с трудом успел ее удержать, почему-то вспомнив одно древнее изречение. Кто это сказал? Где, когда? Почему оно так знакомо?
«Сталь режет плоть, сталь режет кость, сталь не режет сталь».
Опомнившись, Кондо попытался отступить назад. Но не успел.
Это был миги кириаге, удар слева направо вверх, подобный движению косы, лучший прием Свэггера, отточенный до совершенства на пустынных холмах Айдахо под немилосердным палящим солнцем. Со своей стороны, злобный старик Мурамаса также сделал все, что мог. Его лезвие жаждало крови, поднимаясь прямо от бедра, через крупные и мелкие сосуды, через влажные органы и ткани, открывая целый анатомический урок человеческих внутренностей, чтобы они смогли исторгнуть свое черное содержимое на снег. Это был далеко не лучший удар Свэггера, ибо ему не хватило силы и лезвие остановилось на полпути, не дойдя до позвоночника и уж тем более не поднявшись до легких, чтобы лишить тело кислорода и нарушить биомеханику внутреннего строения тела. Однако даже Досю признал бы его достаточным.
Боб выдернул меч и, увидев далекое так, словно оно было вблизи, а близкое так, словно оно было вдалеке, довольно изящно перешел в следующую наиболее подходящую стойку, касуми («туман»): меч горизонтально над плечами, удерживаемый вывернутыми запястьями.
— Похоже, тебе все-таки стало страшно? — спросил Боб.
Ему показалось, он увидел мелькнувший страх на искаженном лице Кондо: «Я смертный, сейчас я умру, мое время истекло, почему, почему, почему?»
Касуми Боба словно по волшебству сама собой выплеснулась в цуки, не слишком прицельный, но все же достаточно хороший: острие вонзилось Кондо в горло, рассекло гортань и шейную артерию, наполовину перерубило позвоночник и на долю секунды удержало его от падения.
Боб освободил меч, и Кондо повалился на землю, извергая из страшных ран огненно-красную жидкость. Его лицо стало отрешенным, взгляд устремился в пустоту, рот обмяк. Упав, он поднял облачко розоватого снега.
Отступив от поверженного противника, Свэггер пощупал свое бедро, где сталь, вставленная в человеческую плоть тридцать лет назад благодаря русскому снайперу во Вьетнаме, остановила блестящий удар Кондо. Это был единственный козырь Свэггера, и он поступил мудро, разыграв его в последнюю очередь. Разрез был аккуратный, но неглубокий; из него, пульсируя, вытекала черная жидкость, однако бурного гейзера не было, из чего следовало, что ни одна крупная артерия не задета и ему не грозит смерть от потери крови. Боб быстро приложил к ране тампон, закрывая ее тканью, пропитанной составом, способствующим свертыванию крови. Он понимал, что без швов все равно не обойтись и их надо наложить в течение часа, если у него до тех пор хватит сил. Достав второй тампон, Боб прижал его к кровоточащей резаной ране на левом плече.
Господи, как же больно!
Отойдя назад, он отыскал ножны и застыл на мгновение.
«Сделай все, как полагается, — подумал он, — Поблагодари этот долбаный меч».
Чувствуя себя довольно глупо, Боб взял меч горизонтально перед собой, поклонился, благодаря маленького японского божка, заключенного в стали, и как можно старательнее произнес: «Домо аригато».[36] Затем, поскольку на полированном лезвии темнело пятно, он резко дернул им вправо, оставляя на снегу узор красных брызг, — цибури, профессиональное движение, запечатленное во всех фильмах.
А теперь ното — завершение: Боб убрал меч в ножны, как того требовали правила, отводя тусклую поверхность лезвия через направляющие пальцы левой руки, одновременно сжимая сайя до тех пор, пока не дошел до самого кончика, после чего аккуратно вставил кончик в отверстие ножен и натянул на лезвие деревянную оболочку, скрывающую и оберегающую его. И все это движение завершилось мягким стуком эфеса, наткнувшегося на дерево.
Его часы показывали 5.39 по токийскому времени. Развернувшись, Боб посмотрел на труп человека, которого только что убил. Кондо лежал в розовом шербете крови, смешанной со снегом. Кровь больше не хлестала, а струилась. Поднявшееся солнце пробивало напалмовыми лентами низкие тучи. Откуда-то налетел ветер и принес облако снега, закружившегося белым вихрем над островком. Из глубины пруда к поверхности поднялся жирный золотой карп и, икнув, оставил после себя расходящиеся круги.
Свэггер снова посмотрел на труп. Конечно, можно было бы отрубить голову, как он и обещал. Однако если честно… какой в этом смысл?
Глава 46 ДЕЛА КАБИНЕТНЫЕ
Она приехала в американское посольство ровно в 8.45, потому что в наши дни для прохода через службу безопасности требуется добрых пятнадцать минут. На ней был новой брючный костюм, купленный недавно в дорогом магазине, ладно скроенный, из серой шерсти в мелкую полоску, белая шелковая блузка, жемчужное ожерелье, туфли с круглыми носами на платформе и очки в оправе от Армани. Волосы были забраны назад в строгий хвостик, губы подведены помадой «Ревлон», на ресницах тушь «Ив Сен-Лоран». Она тщательно почистила зубы и пять раз прополоскала рот, избавляясь от перегара виски.
Она вошла в его приемную ровно в девять утра, а он, разумеется, заставил ее подождать десять минут — своеобразное унижение, первое из тех, которые ее ждали, если, конечно, ей удастся пережить ближайшие несколько минут, — и лишь затем пригласил войти.
— Сьюзен, как это мило, что ты присоединилась к нам.
— Дуг, я страшно сожалею, но…
Дуг окончил военно-морскую академию в Аннаполисе, и, хотя ему так и не пришлось послужить на боевых кораблях, его кабинет был заполнен всяким морским вздором вроде бронзовых секстанов, карт и моделей парусников. В посольстве кабинет называли «капитанским мостиком», но никогда — в присутствии Дуга. Он был из тех, кто требует, чтобы результаты были готовы еще вчера, а затем забывает спросить о них завтра.
— Садись, садись.
Сьюзен уселась напротив. Перед ней был грузный мужчина с крупной головой и красным лицом, на десять лет старше ее, из старинной семьи, представители которой вот уже три поколения работали в ЦРУ. Его седеющие волосы были коротко острижены, и на работе он неизменно носил строгий костюм. В целом Дуг представлял собой старательно выполненную имитацию того человека, каким Боб Ли Свэггер являлся естественным образом, без долгой работы над собой.
— Послушай, я не должен учить азам такого профессионала, как ты: черт побери, я должен иметь возможность связываться с тобой двадцать четыре часа в сутки. Именно для этой цели у нас есть сотовые телефоны, пейджеры и все остальное. Но если ты будешь выключать эти чертовы штуковины, у нас ничего не получится!
— Я ничего не выключала. Я просто не могла ответить, потому что находилась в очень щекотливом положении.
— Что-нибудь такое, что нужно обсудить с главой отделения?
— Все в порядке, Дуг. Это касалось Свэггера.
— Я тебя предупреждал, что со Свэггером у нас ничего не получится. Он слишком стар, слишком медлителен, слишком упрям, от него будут одни только неприятности.
«Любопытно было бы услышать, козел, как ты все это сказал бы самому Свэггеру!»
Однако Сьюзен решила подыграть начальнику:
— Понимаю, это я предложила притащить Свэггера сюда. Как выяснилось, обуздать его оказалось гораздо сложнее, чем я предполагала. Однако теперь все замечательно, все великолепно, и, как только мне удастся уладить нужные вопросы, я вышвырну его из страны. Впрочем, он добился кое-каких успехов. Он…
— Мне нужен подробный отчет. Он должен быть готов к завтрашнему утру.
— Будет сделано. Это все? У меня…
— О нет, Сьюзен. О нет, это еще не все. Тут дело не только в Свэггере. Это были лишь цветочки. На самом деле все гораздо серьезнее. Какого черта ты без моей санкции отправила запрос осуществить орбитальное наблюдение за семью жилыми и тринадцатью нежилыми зданиями в районе большого Токио?
— А, вот оно что.
— Да, вот именно.
— Это имело отношение к операции.
— В Лэнгли поднялся большой переполох.
— Я сделала одно предположение, возможно, оно оказалось ошибочным. Мне потребовалось срочно его проверить.
Имея дело с таким самовлюбленным человеком, как Дуг, очень важно изобразить раскаяние. Открытый вызов лишь привел бы его в ярость, а разъяренный он становился еще большим сумасбродом, чем спокойный.
— Объясни мне, почему, черт побери, было так важно, чтобы наши «птички» таращились на особняки и склады в Японии, в то время как они могли бы следить за ракетными пусковыми площадками в Северной Корее, китайскими военно-морскими базами, центрами подготовки «Талибана» и бог знает еще за чем?
— У меня есть один человек, он поставляет кое-какую информацию, в основном мелкого пошиба, но мало ли что. Каким-то образом ему удалось пронюхать, что некий жутко богатый японец питает симпатии в определенном направлении, при этом его поведение может быть крайне непредсказуемым. Для конкретной операции информации было недостаточно — я не стала организовывать наружное наблюдение, не поставила в известность японскую разведку, потому что этот человек обо всем узнал бы, не проникла к нему в дом, не установила прослушивание, не стала вербовать осведомителей в его организации. Но я решила приглядеться к нему внимательнее.
— Ну же, Сьюзен, ты что-то недоговариваешь.
— Понимаешь, Дуг, в Токио куча небоскребов. Если бы в один из них врезался пассажирский самолет, мы бы выглядели глупо. К тому же при этом погибло бы много народу. Я пыталась найти тонкую грань между чрезмерным рвением и ответственностью за свое дело. Пыталась выполнить свою работу. Мне пришлось шагнуть через твою голову, потому что, если бы ты заартачился, мы бы потеряли недели. К тому же, насколько я припоминаю, тебя здесь все равно в тот момент не было, так что получать согласующую подпись было не у кого.
— Знаешь, Сьюзен, так можно оправдать все, что угодно.
— Да, Дуг, знаю. Однако…
— Ну и что тебе удалось разузнать о господине Миве?
— О, в Лэнгли сопоставили, что к чему?
— Да. Там очень недовольны. Что тебе удалось выяснить?
— Ну, если честно, ничего. В одном особняке было замечено то, что можно назвать необычной активностью. То есть очень много людей, машин, постоянное движение во внутреннем дворе. Возможно, это было деловое совещание, возможно, речь шла о корпоративной встрече. Затем, поскольку я предварительно навела справки об этом Миве, мне пришло в голову, что тут каким-то боком замешана якудза Насколько мне известно, у него крепкие связи с якудзой. Однако инфракрасные датчики не обнаружили наличия взрывчатых веществ, спектроскоп не уловил радиоактивного излучения, а биохимических сенсоров у нас пока что нет.
— Сьюзен, обещай мне, что у Юичи Мивы ни один волос с головы не упадет.
«Гм, — подумала Сьюзен, — а может ли упасть волос с уже отрубленной головы этого негодяя?»
— Дуг, ни один человек, находящийся под моей командой или хотя бы под моим влиянием, и пальцем не тронул Юичи Миву. Мы наблюдали за ним с высоты трехсот миль, только и всего. Ничего более осторожного и ненавязчивого нельзя придумать. Если кто-то что-нибудь и узнает, то только из-за утечки. Я не буду иметь к этому никакого отношения.
— Это точно?
— Я собиралась лишь еще несколько раз понаблюдать за ним с «верхнего этажа», для полной уверенности. Ну, может быть, пощупать его издалека. Только и всего. Я просто проверяла полученную информацию.
Дуг откинулся назад. Было видно, что он испытал огромное облегчение.
— Ну хорошо. Замечательно. Этого человека нельзя трогать, даже следить за ним. На него просто не нужно обращать внимания.
— Разумеется.
— Как будто его не существует. Это понятно?
— Разумеется.
— До тех пор, пока ты не придумаешь, как его уничтожить.
— А-а-а…
— Вот почему в Лэнгли такой переполох. Вот в чем все дело.
Выдвинув ящик письменного стола, глава токийского отделения достал пухлую папку с неизменным штампом «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО» на обложке.
— Это досье на Миву. Мы обратили на него внимание еще несколько лет назад. Тогда он едва не ушел на дно. Ему принадлежала якудза, ему принадлежали банки, и вдруг все это дало течь. Мива убедил себя в том, что всему виной американцы, устроившие заговор против него: мафия хочет прибрать к рукам японскую порнографию, и для этого его самого нужно уничтожить. Он олицетворял японскую порнографию; черт побери, он олицетворял саму Японию. Поэтому Мива обратился за помощью к врагам своих врагов, к Северной Корее, пообещав, что, если помогут ему, он отплатит тем же и принадлежащие ему газеты запоют нужные песни. Корейцы дали ему деньги. Они не могут накормить собственный народ, но зато у них нашлись миллионы для какого-то японского порномагната, чтобы тот снимал фильмы, содержание которых я не могу даже передать.
— Отсосы и групповуха.
— Спасибо, Сьюзен. Я знал, что на тебя можно положиться. Так или иначе, Мива грамотно распорядился деньгами, рано понял преимущества Интернета, отыскал кое-какие омерзительные ниши, отточил технологическое совершенство, выправил положение — и стал мультимиллиардером. Так что, похоже, чутье твоего осведомителя не подвело. Нам надо определиться с тем, что делать, и только после этого начинать действовать.
— Я все поняла.
— А сейчас этот Мива поглощен выборами короля порнографии или чего-то в таком духе. Здесь все это есть. Ему нужно обязательно победить на этих выборах, добиться какого-то статуса. Он должен сделать что-то большое, чтобы к нему гурьбой потянулся простой люд.
Сьюзен лишь едва заметно усмехнулась. Ник получил все это еще неделю назад. Он опередил провидцев из Лэнгли на целых семь дней.
— Если Мива добьется победы, следующим шагом станет вручение ему ордена Хризантемы первой степени, высшей награды, которой в Японии может быть удостоено гражданское лицо. Его лоббисты уже несколько месяцев протаскивают через парламент соответствующий закон.
А вот это уже что-то новенькое.
— Тем самым Мива немедленно получит легитимность, это даст ему безграничное влияние, откроет перед ним все двери. А он — агент Северной Кореи. Он сможет сделать для своих хозяев то, о чем те даже не мечтали. И это затронет не только японцев, но и нас.
— Японцы об этом знают?
— Нет. Один из наших источников находится в Северной Корее, и если мы расскажем японцам о Миве, они поймут, что у нас в Пхеньяне есть «ухо». А потом, может быть, кто-то узнает об этом уже от них. Понимаешь?
— Конечно.
— Сьюзен, забудь о своей ошибке насчет Свэггера и оставь все в прошлом. Эта задача потребует от тебя максимума изобретательности и воображения. Отныне она становится твоим абсолютным приоритетом: ты должна срочно придумать, как пустить Миву под откос, однако сделать это нужно будет так, чтобы к нам не вело никаких следов. Мы должны остаться в стороне, чистыми. Но это должно произойти до того, как Мива провернет свой рекламный трюк и получит награду из рук императора. Тебе предстоит раскопать что-то такое, о существовании чего, скорее всего, не подозревают даже сами японцы. Сделать это будет непросто, однако, Сьюзен, ты должна это сделать. От этого зависят твоя и моя головы.
— Каковы временные рамки? — спросила Сьюзен.
— Ну, примерно неделя тебе понадобится, чтобы осмотреться на месте и найти источники, еще одна уйдет на разработку плана, потом нужно будет согласовать его с начальством, и только потом можно будет приступить к выполнению. У тебя есть по крайней мере три месяца. Но не больше. Я понимаю, это трудно, но иногда нам приходится решать трудные задачи.
— Хорошо, — сказала Сьюзен. — Предположим, я решу этот вопрос… скажем, сегодня к половине пятого?
— Что? Сьюзен, это не шутка. Ты даже не…
— Дуг, разве похоже, что я шучу?
— Я… а не слишком ли ты самоуверенная?
— Ты так считаешь? Дуг, следующей весной тебя должны отозвать в Лэнгли. А на твое место пришлют какого-нибудь очередного варяга, который ни хрена не смыслит в наших делах.
— Сьюзен, ты меня обижаешь.
— Дуг, сам подумай. Ничего личного, но мне так надоело подчиняться дилетантам! Итак, сегодня, половина пятого. Хорошо, Дуг? А уже в половине шестого ты отправишь в Лэнгли первую из многих, очень многих телеграмм, в которой расхвалишь меня, рекомендуя на должность следующего главы отделения вместо всех твоих дружков-пердунов. Договорились?
— Ты хоть понимаешь…
— Договорились?
На самом деле сообщение о смерти Юичи Мивы вследствие «естественных причин» поступило в 15.25. Сьюзен уложилась в отведенный срок с запасом в час и пять минут.
Глава 47 НОТО (ЗАВЕРШЕНИЕ)
Он очнулся на вторые сутки и еще двое лежал, получая жизненные силы только из капельницы над головой. Проваливаясь в бессознательное состояние и снова всплывая, он чувствовал, что многие части его тела покрыты бинтами, видел потолок, видел время от времени кого-нибудь из медперсонала, отмечал медленное течение времени.
На третий день он уже мог сидеть в кровати, и к нему вернулись обрывки воспоминаний. На четвертый день сознание прояснилось и воспоминаний стало больше. Приблизительно в это время японских медсестер как-то ненавязчиво сменили два американских парня, которых он определил как фельдшеров морской пехоты Соединенных Штатов в штатском, исходя исключительно из того, что они называли его «ганни». Однако ребята знали свое дело, и кому какое дело, что за ведомство их сюда направило?
На пятый день его мозг успокоился настолько, что он смог смотреть телевизор. Он быстро обнаружил, что вся страна погружена в… ну, не совсем в траур, а скорее во что-то другое, наверное, в болезненную зачарованность, в ощущение всеобщей издевки, в злорадство по поводу чужой трагедии. Все это было вызвано внезапной кончиной Юичи Мивы по прозвищу Сёгун, одного из признанных гениев японского голубого экрана, миллиардера, сколотившего состояние на порнографии, основателя агрессивной компании «Сёгунат аудио-видео», а впоследствии и владельца газет, радиостанций, магната средств массовой информации, бонвивана и борца за чистоту национальных традиций.
Свэггер следил за событиями по двуязычным выпускам новостей. Мива, которому, по слухам, должны были вручить орден Хризантемы высшей степени, скоропостижно скончался от удара. Свэггер был одним из немногих, кто знал, что это был за удар и каким оружием он был нанесен. И, смотря телепередачи, он приходил к выводу, что Япония вовсе не скорбит по поводу внезапной смерти магната. В конце концов, он занимался порнографией. В любом случае, эту новость вскоре затмили другие.
Наконец ему удалось раздобыть переносной компьютер. Подключившись к Интернету, Боб вышел на страничку «Джапан таймс» и запросил номер за день, следующий за поединком на островке в парке. На странице внутренних новостей он нашел короткую заметку, которую искал: в парке Киёсуми был обнаружен неопознанный труп, предположительно принадлежащий бойцу якудза или человеку, провинившемуся перед якудзой, если учесть характер смертельных ран. Приводились слова капитана полиции, выражавшего беспокойство: хотя братство «8-9-3» нередко прибегает к насилию, обычно эти преступления происходят в таких злачных районах, как Кабукичо. Капитан опасался, как бы появление трупа в мирном изяществе исторического парка Киёсуми не знаменовало собой новую фазу криминальных разборок.
Больше в газете ничего не было. Никто не навещал Боба, никто не брал у него показания, заявления, комментарии, отчет. Он просто лежал в палате, восстанавливая силы, читал газеты, смотрел телевизор, поедал сырые яйца, бутерброды с огурцами, котлеты и всевозможную рыбу в большом количестве.
Через неделю его раны осмотрели и перебинтовали, ему дали новую порцию антибиотиков и болеутоляющих, после чего объявили, что он годен к дальнему перелету. Ему принесли новый костюм и подложный паспорт на имя Томаса Ли.
— Ганни, нам сказали, что, когда вы прилетите в Лос-Анджелес, вас встретит человек из госдепа. Он попросит отдать этот паспорт, который затем исчезнет. Я в этих делах ничего не смыслю, но нам сказали, что этот Томас Ли также исчезнет.
— И кто вам это сказал?
— О, сами знаете. Ребята в костюмах. Больше я ничего не могу добавить.
— Я тебя понял, сынок.
Одевшись, Боб собрал свои скудные пожитки: паспорт, билет на самолет, вылетающий в семь вечера, и больше ничего. Ключей от мотоцикла не было. Впрочем, это не имело значения.
Больница настояла на кресле-каталке. Один из фельдшеров докатил Боба до микроавтобуса без каких-либо надписей. На улице уже покусывал морозец. В Бойсе такая погода стоит в январе. Боб медленно перебрался в микроавтобус, опираясь на здоровую руку и здоровую ногу.
— Вы все поняли, ганни?
— Достаточно, чтобы вернуться домой.
— Что ж, трогаемся. Времени у нас в обрез.
Всю долгую дорогу до аэропорта Нарита никто не разговаривал. По сути дела, Боба уже второй раз выдворяли из Японии, и он понимал: надо радоваться, что он не попал в тюрьму. Запруженные городские улицы, тесные жилые кварталы, многоуровневые развязки, притоны продажной любви, шоссе — все мелькнуло мимо, и наконец через два часа впереди показалось невысокое обтекаемое здание терминала номер два международного аэропорта Нарита.
Микроавтобус остановился, и Боб вышел. Следом за ним вышел один из фельдшеров.
— Бен припаркует машину и присоединится к нам. Надеюсь, вы ничего не имеете против, но мы должны оставаться с вами до тех пор, пока вы не пройдете через предпосадочный контроль.
— Разумеется, каждый должен выполнять свое дело.
Все прошло гладко. Боб прошел через просторный серый зал международных вылетов, зарегистрировался на рейс, предъявил паспорт, получил посадочный талон — отлично, отлично, он летит первым классом, совсем неплохо, — и ребята проводили его до контроля.
— С этим всегда бывает головная боль, — объяснил Боб. — У меня стальное бедро, так что начинают трезвонить все колокола.
— Никаких проблем, — заверил его один из ребят. — Мы поможем.
— Послушайте, — спросил Боб, — и это все?
— Что вы имеете в виду?
— Ну, никто меня не допрашивал, никто не брал у меня показания, никто даже не задавал никаких вопросов. Я ничего не знаю о судьбе тех, с кем был связан. Там была одна маленькая девочка…
— Ганни, мы простые санитары. Мы не имеем никакого отношения к большой политике. Они хотят именно этого.
— Снова эти «они»!
— Извините, ганни.
— Да я просто хотел убедиться, что с этой девочкой все в порядке. Понимаете, она еще совсем маленькая.
— Ничем не можем вам помочь, ганни. Нам ничего не сказали.
— О… ну хорошо, хорошо.
Боб прошел контроль, и на этот раз сигнализация не сработала. Его пропустили без лишних церемоний. Он кивнул ребятам, оставшимся за перегородкой, они кивнули в ответ, но уходить явно не собирались. Поскольку выход отсюда был только один, очевидно, ребята намеревались оставаться здесь, пока не убедятся, что неугомонный Свэггер благополучно вылетел.
Боб направился к выходу на посадку, благоразумно обойдя стороной торговый зал, где несколько месяцев назад так памятно сорвался с катушек. Он чувствовал… да, что? На самом деле особого удовлетворения не было. Боб чувствовал себя старым. Раны болели, походка была неуверенная, но, по крайней мере, он был не на костылях и не в кресле-каталке. Кроме того, Боб ощущал в себе странную пустоту. Серое строгое освещение как нельзя лучше подходило к его настроению — это вряд ли была депрессия, скорее чувство усталости, бесполезности, никчемности. Быть может, даже разочарования. Бобу никак не удавалось подобрать подходящее слово. Казалось бы, все позади, все кончено, он возвращается домой и все такое…
Надежда не покидала его до самого конца. Быть может, Окада-сан все-таки приедет, быть может, она привезет малышку Мико, быть может, они обменяются парой слов на прощание. И тогда все случившееся обретет какую-то определенность, ощущение законченности. Однако этого так и не произошло, и наконец объявили посадку на самолет.
Лезвие летело через жесткие заросли, вгрызаясь с чистотой и силой, подбрасывая в воздух срезанные пучки, которые пронизывающий ветер разносил по всему склону. Назад и вперед, назад и вперед — коса пожирала отросшую траву. Боб быстро нашел свой ритм, двигался легко, непринужденно.
Разумеется, ему пришлось начинать заново. За те несколько месяцев, что он провел в Японии, склон успел полностью зарасти. И сейчас под низким зимним небом трудно было определить, где он уже косил, а где еще нет. Боб работал четвертый день подряд; воздух был холодный, дул резкий ветер, однако, повинуясь принципу, который он даже не смог бы описать словами, он вернулся сюда, взял в руки косу и снова принялся за нескончаемый труд.
— Тебя гложет совсем другое, — заметила Джулия. — На этот склон тебе наплевать. Но тебе что-то не дает покоя. Уж я-то вижу. Тебе нужна помощь.
— Милая, со мной все в порядке. Я начал дело, и сейчас надо его завершить.
— Тебе нужно обязательно выговориться кому-нибудь — о том, что произошло в Японии. Может быть, не мне, может быть, не знакомому и не другу, а специалисту. Я еще ни разу не видела тебя в таком подавленном состоянии с тех пор, как ты много лет назад появился в дверях моего дома, весь продырявленный. Боб, если ничего не предпринимать, это тебя доконает.
— Да в Японии ничего плохого не произошло, — бросил Боб. — Наоборот, все говорят, мы сделали большое дело, добились успеха. И вот я вернулся домой, все просто замечательно, и меня ждет эта работа.
— Ну да, только ты вернулся домой, как всегда, усталый и грустный и с новым набором шрамов. Такие шрамы можно получить только в смертельной схватке. Но тут что-то еще. Хуже. Я это чувствую. Умер близкий тебе человек, которого ты очень любил, но ты не можешь кричать об этом. Дорогой, ты должен найти место, чтобы закричать и дать выход своему горю.
— Если честно, были моменты, когда мне приходилось туго. Да, один человек умер. И я, к сожалению, ничего не смог поделать. Но дело не в этом. Я должен тебе все рассказать. Там был один ребенок, одна маленькая девочка, и я очень хотел ей помочь. Но ничего не смог сделать. Так что она потеряна. Не умерла, а просто потеряна. Только и всего. Когда-нибудь я расскажу тебе подробнее, но не сейчас.
— Я очень сожалею. Маленький ребенок — это было бы замечательно, — сказала Джулия. — Он оживил бы наш дом. Может быть, я бы его даже полюбила. Я устала жить с брюзжащим старым медведем, так неужели маленький ребенок может быть еще хуже этого?
Даже Ники, ненадолго вернувшейся домой, не удалось достучаться до сердца отца.
— Есть тут что-то такое, что ему становится больно от одного только упоминания об этом ребенке, — сказала ей мать. — А он слишком упрям, чтобы хоть немного отдохнуть и обратиться за помощью.
— Все будет в порядке. Ты ведь его знаешь. Он и не с таким справлялся.
— Но когда-нибудь это окажется выше его сил. Быть может, как раз настал такой день.
— Нет, все будет хорошо, — постаралась успокоить мать Ники, сама не веря своим словам.
Казалось, отец был здесь, но в то же время его здесь не было, словно открылась зияющая дыра, которая потом лишь затянулась тонкой пленкой.
Ребенок? Что это может быть за ребенок?
Семья жила в уютном доме на окраине Бойсе, и со стороны все выглядело замечательно. Заботливый отец, красивая жена, очаровательная дочь; время от времени все трое ужинали в ресторане или совершали поход в кино. Ну да, все просто замечательно, денег хватает с избытком, все трое обаятельные и привлекательные — настоящие американские аристократы, не по рождению, а благодаря своей силе и умению. Благословленные здоровьем и духовным мужеством, они обрели еще и достаток и могли гордиться собой. Вот образец, к которому нужно стремиться. И никто, даже любящая женщина не могла разглядеть, что гложет Боба.
Он косил, косил и косил. Первый день был самым трудным. Каждое движение причиняло новую боль. И жизненные силы тоже куда-то делись. Он оказался не таким крепким, каким себя помнил. Многое растерял. К концу первого часа Боб тяжело дышал, губы его пересохли. В последующие несколько дней он немного освоился и на третий день даже перенес небольшой буран, осыпавший его колючим снегом и принесший похолодание.
Похоже, и сегодняшний день предвещал нечто подобное, хотя выступивший пот служил неплохой защитой от дождя и холода. Вдалеке, разумеется, высились горы, темно-багровые, с теряющимися в облаках вершинами. Зимой протянувшаяся до самого их подножия прерия высохла, стала желтой, освободившись от растительности, так что вся земля приобрела какой-то желтоватый, истощенный, даже мертвый вид. Однако вся эта картина была, несомненно, западной; в ней не было ничего от Востока, от Японии: одни бесконечные холмы и равнины, низкие, черные, зловещие тучи и шрамы горных хребтов, затерявшихся в облаках в тридцати милях к востоку.
Примерно в четыре часа дня вдалеке показалась машина Ники. Что здесь делает эта чертова девчонка? Однажды в конце лета, до того как все это началось, Боб привозил ее сюда, но она больше ни разу не возвращалась и никогда не говорила об этой поездке. Боб был удивлен, что его дочь вспомнила дорогу, потому что по пути к земельному участку удалившегося на покой отставного сержанта морской пехоты нужно было пару раз сворачивать на безымянные проселочные дороги, не обозначенные ни на одной карте. Кроме того, он чувствовал, что Ники дома скучно и ей не терпится вернуться в Нью-Йорк. Быть может, она серьезно поругалась с матерью и, решив уехать раньше срока, завернула к нему, чтобы попрощаться? Один раз такое уже случалось.
Машина остановилась у подножия склона, и Боб направился вниз.
Сначала он разглядел за рулем свою дочь, радостно улыбающуюся. Затем увидел, что Ники приехала не одна. Дверь открылась, и из машины вышла Сьюзен Окада.
У Боба внутри что-то всколыхнулось, может быть, надежда. Он собрался с духом.
— Нет, вы только посмотрите, кто к нам пожаловал! Леди из посольства!
— Привет, Свэггер. Я не могла не заглянуть в твою берлогу.
— Господи, как же я рад тебя видеть!
— Ты спас мне жизнь, а я тебя так и не поблагодарила.
— Лучшей благодарностью явилась жизнь девочки.
— Что ж, справедливо. Но ты заслуживаешь отчета о том, чем все это закончилось.
— Да, с тех самых пор я ломаю голову.
— Начнем с того, что официальные японские власти быстренько все замяли. Сражение, убитые — ничего этого не было. Никакого скандала. Дело закрыли, не успев открыть. Никто не хотел, чтобы о нем узнала широкая публика.
— Понимаю. Иначе пришлось бы слишком много всего объяснять.
— А объясняться никто не любит. Однако два дня спустя майор Фудзикава и капитан Танада сами обо всем доложили своему командованию.
— Боже милосердный!
— Вот именно. Они решили, что иначе нельзя. Самурайская честь и все такое.
— И что с ними сталось?
— Пока что не известно. У них взяли показания, после чего всех отправили в отпуск, а правительство тем временем решает, как с ними быть дальше. Сам понимаешь, восемнадцать человек умерли, в том числе мультимиллиардер. Дело нешуточное. С другой стороны, семнадцать из этих восемнадцати — мелкие бойцы якудза, которые могли умереть сотней разных грязных способов. А восемнадцатый — это Мива. У Мивы не осталось ни власти, ни наследников. В конце концов, он занимался порнографией. К тому же, как выяснилось, у него имелись очень нежелательные связи за рубежом, так что тут возникли свои проблемы. И наконец, якудза не пожелала расстраивать сложившиеся рабочие отношения, чтобы отомстить за его смерть, потому что на самом деле он к ней не принадлежал. Так что, надеюсь, в ближайшее время все будет закрыто и забыто. Японцы в таких делах поднаторели.
— Ты можешь помочь нашим друзьям?
— На самом деле от меня почти ничего не зависит. Надеюсь, все рассосется само собой. Во всяком случае, совершить харакири их не заставят точно.
— Ну, хоть что-то. А ты как?
— Как это ни странно, мне все случившееся оказалось только на руку. Долгая история, по-прежнему засекреченная, но, как я уже сказала, у Мивы имелись кое-какие связи, которые очень беспокоили многих в нашем ведомстве, и его устранение — на самом деле это ты его устранил — пошло мне на пользу. Меня ждет повышение. Я буду новой королевой.
— Окада-сан, ты рождена, чтобы стать королевой. Рад, что я посодействовал в этом. И все же я должен спросить о девочке. С ней… с ней все в порядке?
— Ей стало лучше. Ночами ее больше не мучают кошмары.
— Наверное, это самое главное. И все же я жалею о том, что больше не встретился с ней. Конец получился каким-то безумным, я потерял и тебя, и Мико. Вы просто исчезли. Это произошло так внезапно.
— Я отвезла девочку к себе домой, а затем с ней поступили как надо. Теперь ей больше нечего бояться.
— Я не могу спокойно думать о том, что малышка в больнице.
— Она не в больнице.
— О, все-таки удалось найти того, кто взял ее к себе в семью? Что ж, оно и к лучшему. Надеюсь, ей будет хорошо.
— Мико пришлось совершить долгое путешествие.
— Она попала в семью к гайдзинам?
— В Японии у нее никого не осталось. Нам пришлось долго искать того, кто будет ее любить.
— Надеюсь, она попала в хорошую семью.
— Я уверена, это очень хорошая семья, Свэггер-сан. Ники!
Услышав, как Сьюзен ее позвала, радостная Ники вылезла из грузовичка, сжимая в объятиях какой-то укутанный сверток, живой, озорной, машущий руками. Боб узнал Мико.
Девочка посмотрела на Свэггера, и у нее зажглись глаза.
— Мико, это Свэггер-сан. Железный Дровосек. Он пришел и спас тебя. Помог тебе.
Мико долго смотрела на Боба, затем робко уткнулась в грудь Ники, потом нашла мужество снова посмотреть на него, пришла к выводу, что все в порядке, и улыбнулась.
— Привет, малышка, — сказал Боб. — Какая ты сегодня нарядная! Прямо-таки персик, вот что я скажу.
— Ну же, обними ее, — сказала Ники, протягивая ему ребенка.
Девочка бросилась ему на шею, и он крепко прижал ее к груди.
— Как я рад снова видеть тебя, — прошептал Боб, боясь, как бы Окада-сан и его дочь не увидели, что он плачет. Большие парни не плачут, это железное правило. — Как я рад снова видеть ее.
Боб пытался разобраться, в чем дело. Окаде каким-то образом удалось удочерить девочку, и вот она привезла ее… И куда же она ее привезла?
— Это ты сейчас так говоришь, но, может быть, запоешь совсем по-другому лет через пятнадцать, когда она приведет домой кавалера с серьгами в бровях, — усмехнулась Сьюзен.
— Что?
— Иностранцу очень трудно усыновить японского ребенка, но, как выяснилось, Мико удовлетворяет всем критериям. Установив это, я поняла, что просто не могу остаться в стороне. Поэтому я пошла к послу, тот отправился к премьер-министру, и, может быть, кто-то шепнул кому-то кое-что об определенных закулисных делах. Одним словом, осталось еще много бумажной волокиты, но все заинтересованные стороны сошлись в том, что будет лучше как можно скорее переправить малышку сюда, а с формальностями разбираться уже потом. Свэггер-сан, поздоровайся со своей новой дочерью.
— Господи, — прошептал Боб, — не могу в это поверить…
— Мама просто в восторге! — воскликнула Ники. — Сейчас она закупает детскую кроватку, игрушки и все остальное.
— Что ж, малышка, — сказал Боб, еще крепче прижимая к груди свою дочь, — пора ехать домой.
От автора
Читатели, знакомые со всей сагой о Свэггерах, обратят внимание на то, что рассказ о героическом подвиге Эрла на Иводзиме несколько отличается от того, что было изложено раньше, причем это касается даже даты и номера части. Продвигаясь по этому длинному повествованию, ставшему делом всей моей жизни, я постоянно обнаруживаю мелкие нестыковки между отдельными книгами и стараюсь по возможности их исправлять. Мне остается только надеяться, что вы отнесетесь ко мне благожелательно и поймете, что подобные неточности являются неизбежными. Со своей стороны обещаю: если мне когда-нибудь удастся убедить какого-либо издателя решить сложный вопрос с правами (в частности, речь идет о трилогии, каждый том которой выходил в новом издательстве!) и собрать все воедино, я постараюсь устранить все такие погрешности.
Я также должен признаться, что великому Мусаси, которого часто цитировали в данной книге, принадлежит множество волнующих изречений об искусстве владения мечом, однако фразы «Сталь режет плоть, сталь режет кость, сталь не режет сталь» среди них нет. Эти слова сказал Хантер, сидя у себя в кабинете на третьем этаже своего дома в Балтиморе, штат Мэриленд.
Другими словами, читатель не должен упрекать меня в недостаточно глубоком знании темы мечей. В конце концов, я писатель, а не самурай; я сочиняю сюжеты, а не рассекаю врагов. Моим оружием является слово, а не катана. Мой рассказ основан преимущественно на вторичных источниках, великом множестве книг и дюжине фильмов о самураях, как шедевров, так и второсортных. Возможно, истинных знатоков расстроит то, что в своем повествовании, стараясь придать описанию разных поединков различный дух, я перемежаю терминологию фехтования с терминами единоборств; присылайте гневные письма по электронной почте на адрес Hunterdoesn'tcare@aol.com.[37]
Поддержку и помощь мне оказали мои друзья. Мой давний приятель Ленни Миллер поделился со мной своим заразительным энтузиазмом. То же самое можно сказать о Гэри Голдберге, к тому же Гэри — лучший в мире специалист по «Всемирной паутине»! — свел меня с доктором Дэвидом Фаулером, судебно-медицинским экспертом из штата Мэриленд, который посвятил мне целый час, обсуждая особенности резаных ран, нанесенных мечом, что было очень полезно для такой кровавой книги, как эта. Мой товарищ по охоте и бывший коллега Джон Бейнбридж оказал неоценимую услугу своим прирожденным даром вычитывать текст в поисках ошибок. Джефф Уэбер из далекой Калифорнии предложил несколько чрезвычайно полезных идей, которые я с радостью включил в свой текст. Джеймс Грейди, живущий в Вашингтоне, тоже помог вычитывать черновые наброски, как и Джей Карр, бывший кинокритик из «Бостон глоб», который, удалившись на покой, перебрался в Вашингтон и стал моим хорошим другом.
Боб Бирс продолжает поддерживать неофициальную интернет-страничку Стивена Хантера, поскольку официальной до сих пор нет. Что он с этого имеет, я так никогда и не узнаю, — от меня уж точно ничего, однако ему удалось сделать нечто весьма солидное. Убедитесь в этом сами, заглянув на Stephenhunter.net. Еще раз большое спасибо, Боб.
Четыре человека из огромного мира «Вашингтон пост» оказали мне неоценимую помощь. Великий Кунио Фрэнсис Таннабе, проработавший сорок лет обозревателем в отделе международной литературы, помог мне с японскими именами и внимательно прочитал готовую рукопись. Он также написал предсмертное стихотворение Хидеки Яно, указав, что мой вариант на японском языке звучать не будет. Энтони Файола, блестящий токийский корреспондент «Пост», просветил меня относительно порнографического бизнеса в современной Японии и его различных руководящих структур. Томоэ Муриками Це изобразила текст первого варианта предсмертного стихотворения иероглифами кандзи. Пол Ричард забросал меня книгами по японскому искусству. Я очень признателен всем четверым.
Когда книга уже была почти готова и известие о ее предстоящей публикации каким-то образом попало в Интернет, я получил по электронной почте сообщение от Марка Шрайбера, писателя, переводчика и человека, знающего все обо всех, который с 1965 года живет в Токио. Среди его многих выдающихся работ особое место занимает редактирование сборника «Токийская желтая пресса», в котором перепечатываются самые сумасбродные статьи из периодических японских изданий. Марк вызвался прочитать рукопись, проверяя ее в тех областях, в которых Хантер нередко плутает. Порой мне казалось, что он работает напряженнее меня. Так, однажды он отправился в Кабукичо, нашел то место, где Кондо Исами мог опробовать меч, измерил его, сфотографировал, запечатлел на плане и переслал мне все это по электронной почте. А я в то время пил, смотрел по телевизору футбол, спал — и снова пил. В целом Марк нашел больше десяти ошибок, которые вывели бы из себя читателей, знающих Токио лучше, чем я после двухнедельного пребывания в городе. Я также должен добавить, что во всех оставшихся ошибках ни Марк, ни другие мои помощники не виноваты; вся вина лежит на мне одном. Как я уже сказал, гневные письма можно отправлять на электронный адрес Hunterwon'trespond@aol.com.[38]
Не могу не упомянуть также своих коллег, которые поддерживали меня на протяжении всей работы: Майкла Корду и Дэвида Розенталя из издательства «Саймон и Шустер», а также моего литературного агента Эстер Ньюберг из Ай-си-эм.
Позвольте также выразить глубочайшую признательность самим японцам за то, что они такие чертовски интересные. Особо я должен упомянуть своих трех муз — Сакуру Сакараду, Юи Сето и Сихо. В своем посвящении я уже выразил свою глубокую признательность тем творцам, которые отобразили самурайский дух на экране; должен также добавить: в каком-то смысле эти фильмы спасли мой рассудок. Для тех, кому это интересно, открою, что этой книгой я обязан периоду глубокой личной депрессии, который я пережил в бытность профессиональным кинокритиком. Кажется, американское кино в то время опустилось ниже некуда. И вот среди этого болота посредственности я вдруг посмотрел великий фильм «Сумеречный самурай» Йодзи Ямады — и мигом возродился к жизни. После этого на протяжении двух лет я смотрел только самурайские фильмы (за единственным исключением «Перестрелки в Америке»), что в конце концов оформилось в мысль написать самурайский роман, действие которого происходило бы в эпоху враждующих кланов. Однако у меня хватило ума сообразить, что от подобной книги, написанной гайдзином, насмотревшимся самурайских фильмов, вряд ли можно будет ожидать чего-либо хорошего, — ну как ее назвать, «Воспоминания самурая»? И тогда я решил попытаться объединить тему самураев и поединков на мечах с классическим американским боевиком. Результат вы держите в руках.
И наконец, я должен поблагодарить свою жену Джин Марбеллу, лучшую из лучших. Целый год она терпеливо жила в окружении мечей, самурайских фильмов, книг об искусстве сражаться на мечах, о производстве мечей, о полировке мечей и о коллекционировании мечей, — книг, которые валялись кипами по всему дому. Ни одной жалобы, ни одного упрека, она даже изображала интерес к фехтованию и якудзе. Замечательная девчонка!
Примечания
1
Сокращение от «Semper fideliti» (лат.) — «Всегда верен» (девиз морской пехоты США). — Здесь и далее примечания переводчика.
(обратно)2
В начале 1945 года японский главный штаб, видя неизбежность поражения, выступил с обращением, в котором говорилось: «Единственный выход для Японии заключается в следующем: сто миллионов человек бросятся на врага, жертвуя своей жизнью, и тем самым лишат его желания воевать дальше».
(обратно)3
Эдо — название Токио в 1457–1869 годах.
(обратно)4
Ямато Такэру — японский народный герой.
(обратно)5
Совсем спятил (исп.).
(обратно)6
Имеется в виду «Великая восточноазиатская сфера взаимного процветания» — проект, созданный и осуществлявшийся правительством и вооруженными силами Японской империи в период правления императора Хирохито. Проект предусматривал создание блока азиатских народов под эгидой Японии. С поражением Японии во Второй мировой войне «Сфера сопроцветания» потерпела крах.
(обратно)7
Один из персонажей романа С. Хантера «…И ад следовал за ним», герой Второй мировой войны. Его образ срисован с Оди Мерфи, самого прославленного американского солдата, отмеченного всеми правительственными наградами. После войны он успешно снимался в кино.
(обратно)8
От англ. Gunnery Sergeant — комендор-сержант.
(обратно)9
Здесь имеется в виду, что на фронт попадали в первую очередь те, кто не имел влиятельных связей: потомки выходцев из Ирландии и стран Восточной Европы, а также чернокожие и испаноязычные американцы.
(обратно)10
Заключенное в 1814 году соглашение, положившее конец англоамериканской войне.
(обратно)11
Макартур Дуглас — в 1945–1951 годах командующий американскими оккупационными войсками в Японии.
(обратно)12
Миямото Мусаси — знаменитый японский самурай, живший в XVII веке, родоначальник нового стиля фехтования, автор монументального труда об искусстве фехтования.
(обратно)13
Эрп Уайатт Берри Стрэпп — легендарная личность эпохи освоения Дикого Запада, авантюрист, якобы очистивший несколько поселений от бандитов. Однако серьезные исследования показывают, что в действительности он просто сводил счеты с соперниками.
(обратно)14
Ронин — самурай без хозяина.
(обратно)15
Тосиро Мифуне — выдающийся японский киноактер, неоднократно воплощал на экране образы самураев, в том числе в фильмах Акиры Куросавы.
(обратно)16
В дзен-фехтовании существует тайное учение «Луна в воде», которое доступно лишь ученикам, достигшим высшего уровня. Задача в том, чтобы понять, как луна, будучи единственной, отражается всюду, где только есть вода; такое знание достигается в состоянии «мусин» — безмыслия, не-умности. (Прим. ред.)
(обратно)17
В конце 1950 года перешедшие пограничную реку Ялуцзян китайские войска окружили в районе Чанчжинского водохранилища на севере Корейского полуострова вооруженные силы ООН, состоявшие в основном из американских войск. Тяжелые бои велись в условиях сильных морозов. Положение американцев было настолько критическим, что рассматривался вопрос о тактическом применении ядерного оружия. Чосин — японское название реки Чанчжин; в западной литературе используется именно оно, поскольку войска ООН пользовались трофейными японскими картами.
(обратно)18
Поселок на юго-востоке штата Пенсильвания, где зимой 1777/78 года был разбит лагерь Континентальной армии Дж. Вашингтона. От голода, холода и болезней из 11 тысяч человек умерли больше 2,5 тысячи, однако регулярной муштрой удалось сохранить боевой дух и дисциплину.
(обратно)19
Додж-Сити — город в юго-западной части штата Канзас. В XIX веке стал символом необузданных нравов времен освоения Дикого Запада. Он подвергался многочисленным налетам бандитов. Для защиты граждане города наняли вольных стрелков — их реальные и вымышленные похождения стали основой многих вестернов.
(обратно)20
Ягуи Муненори, мастер меча из дома Ёкугава. Обучал владению мечом двух сёгунов династии Токугава.
(обратно)21
В Пэррис-Айленде, штат Южная Каролина, находится крупнейший центр подготовки морской пехоты США.
(обратно)22
Место, где проходят тренировки и соревнования в японских боевых искусствах.
(обратно)23
Буквальный перевод японского слова «укиё», описывающего многие стороны жизни Японии, но в первую очередь относящегося к поиску наслаждений в жизни.
(обратно)24
Персонаж комиксов, а затем и фильмов о Супермене, обычный, ничем не примечательный человек, за обликом которого скрывается Супермен.
(обратно)25
Фильм «Последний самурай» (2003).
(обратно)26
По-японски «телохранитель». Название фильма Акиры Куросавы, герой которого (в исполнении Тосиро Мифуне) в одиночку расправляется с преступными кланами, захватившими власть в городе.
(обратно)27
Речь вдет о морском сражении у атолла Мидуэй 4 июня 1942 года, ставшем переломным моментом войны на Тихом океане. Американские самолеты, поднявшиеся с авианосцев соединения адмирала Ф. Флетчера, в условиях непогоды потеряли друг друга и вышли на японскую эскадру адмирала Т. Нагумо порознь. Поднявшиеся с японских авианосцев истребители отразили налет американских торпедоносцев, но, когда они сели на свои корабли, чтобы заправиться горючим, подлетели американские пикирующие бомбардировщики. В течение пяти минут были потоплены три японских тяжелых авианосца, оставшиеся без прикрытия с воздуха. Автор (или Сёгун) допускает ошибку, поскольку адмирал Р. Спрюэнс принял командование только 6 июня, после гибели флагманского авианосца Флетчера.
(обратно)28
Мечи (япопск.).
(обратно)29
Кэш Джонни — известный американский исполнитель музыки в стиле кантри. Проходил курс лечения от наркозависимости.
(обратно)30
Распространенное в некоторых странах обращение к американцу.
(обратно)31
«Благородство в неудаче: Трагические герои в истории Японии», книга американского автора Айвена Морриса, вышедшая в 1988 году и мгновенно ставшая бестселлером по обе стороны океана.
(обратно)32
«Морские котики» — подразделения сил специального назначения ВМС США, предназначенные для ведения разведки и диверсионных действий на морском и речном побережье и в портах.
(обратно)33
Стюарт Марта — американская предпринимательница, писательница, издатель, входит в десятку самых влиятельных женщин США.
(обратно)34
Эти события описаны в романе «…И ад следовал за ним».
(обратно)35
Цусингура (дословно: «доблесть преданных вассалов») — в японском искусстве сюжет, посвященный подвигу сорока семи ронинов, отомстивших за смерть своего господина.
(обратно)36
Большое спасибо (японск.).
(обратно)37
Название этой интернет-странички можно перевести как «Хантеру все равно».
(обратно)38
Название этой интернет-странички можно перевести как «Хантер все равно не ответит».
(обратно)
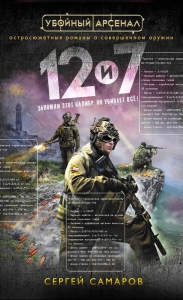

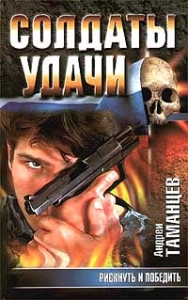



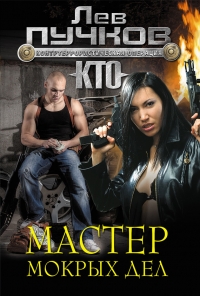
Комментарии к книге «47-й самурай», Стивен Хантер
Всего 0 комментариев