Николай Филиппович Пономарев Коммуникационный менеджмент власти: институциональные теории и дискурсивные практик Учебное пособие
© Пономарев Н.Ф., 2016
© Издательство «ФЛИНТА», 2016
Введение
Публичная информационная политика влиятельных акторов сегодня рассматривается в качестве центральной стратегии их публичной подотчетности перед гражданами как обязательного требования к демократической системе любого типа. Соответствующая коммуникативная деятельность все чаще обозначается термином «коммуникационный менеджмент» с тем, чтобы подчеркнуть ее стратегическую сущность – активное формирование массовых восприятий и оценок конкретных сегментов социальной реальности в интересах конкретных акторов за счет конструирования выигрышных публичных образов их достижений, действий и программ с целью укрепления собственной легитимности и повышения эффективности собственно инструментальной деятельности. По сути дела, это система манипулятивных воздействий на позиции стейкхолдеров как референтных социальных субъектов, обладающих и желанием, и возможностями увеличить или уменьшить шансы актора (в частности, органа власти, корпорации или общественной организации) на достижение поставленных политических, экономических или социокультурных целей.
В учебном пособии раскрываются теоретические обоснования и прагматические факторы, которые оправдывают целесообразность применения фрейминга, риторики и (частично) логической рациональной аргументации не только в коммуникациях влиятельных акторов с журналистами и прочими целевыми группами, но и при разработке сущностных политических, социокультурных и экономических программ во «внутреннем» координативном дискурсе.
В отличие от традиционного подхода к планируемым публичным коммуникациям, который обозначается политически корректным словосочетанием «связи с общественностью», в основе предлагаемой в данном учебном пособии концепции коммуникационного менеджмента лежит представление о том, что рациональные граждане, ориентированные на публичное обсуждение спорных вопросов как взаимный и равноправный обмен логически обоснованными аргументами (в духе «коммуникативной ситуации» по Юргену Хабермасу), существуют скорее в виртуальном мире делиберативной демократии, а не во внешнем окружении акторов, озабоченных решением собственных функциональных проблем. Разумеется, коммуникационный менеджмент включает и нечто вроде «информационного диалога», но нацелен прежде всего на конструирование конкретных фрагментов социальной реальности в интересах конкретного актора (или группы акторов). Этот проверенный на практике подход целиком укладывается в парадигму социального конструктивизма и дискурсивного институционализма, что составляет первое его отличие от доминирующей в высшей школе «модели высшего мастерства» Джеймса Грюнига.
Второе отличие состоит в том, что публичные коммуникации влиятельных акторов рассматриваются в контексте усиления сопряженности социетальных полей, пересечение норм и ценностей которых порождает новые, комплексные полевые и институциональные логики. Внимание акцентируется на политизации массмедиа, медиатизации политики и, что самое главное, на рекреатизации (и даже игровизации) деятельности любых публичных акторов под влиянием популярной культуры и поля шоу-бизнеса.
Наконец, третья особенность данного учебного пособия – попытка анализа публичных коммуникаций влиятельных акторов как стратегического сторителлинга, осуществляемого на основе нарративизации собственной деятельности и социального окружения.
Подчеркнем, что рассмотренные технологии и практики коммуникационного менеджмента могут применяться любыми акторами и сопровождать социальные практики в любой функциональной сфере.
Данное учебное пособие базируется на ранее изданной монографии [Пономарев 2014], при концептуальной и текстовой переработке которой в доступную для студентов форму автор, руководствуясь принципом научной добросовестности, счел необходимым сохранить (почти) полный список использованных научных работ.
Глава 1 Определение проблемы и установка повестки дня
«Социальные проблемы в принципе суть продукты коллективного определения, а не самостоятельного существования как набора объективных социальных обстоятельств с особой внутренней структурой… Социальная проблема – это точка фокуса расходящихся и конфликтующих интересов, намерений и целей. Именно взаимодействие этих интересов и целей формирует способ, которым общество разрешает любые социальные проблемы» [Blumer 1971: 298, 301].
Социально-политическая миссия органов власти – регулирование развития находящихся под их юрисдикцией подведомственных территорий как административно-территориальных единиц. Органы власти должны в публичном дискурсе обосновывать и оправдывать правомерность и результативность политических курсов, решений и программ, чтобы сохранять и укреплять свою легитимность как безусловное право управлять и принуждать. Чем строже деятельность власти соответствует интересам, нормам и ценностям граждан, тем выше легитимность власти и общественное доверие. В частности, императив публичной подотчетности обязывает чиновников и депутатов объяснять, каким образом их действия и планы соответствуют долгосрочным общественным интересам и актуальной социальной ситуации. Если убедительная публичная подотчетность укрепляет легитимность, то неудача ослабляет легитимность и общественную поддержку.
Легитимность состоит из прагматического компонента (актор удовлетворяет интересам стейкхолдеров), морального компонента (актор следует социокультурным ценностям) и когнитивного компонента (деятельность актора соответствует социальным нормам). Имеются в виду воспринимаемые «полезность» (1), «резонанс» (2) и «нормативность» (3) как оценки, на формирование которых актор влияет в публичном дискурсе, представляя свои управленческие решения, политические курсы, программы, повестки дня, процедуры и действия как эффективные, благотворные, этичные и необходимые. Эта дискурсивная легитимация власти все больше доминирует над «рационализацией» как ссылкой на инструментальную эффективность и «авторизацией» как ссылкой на традицию, обычай или референтную фигуру.
Коммуникативный дискурс представляет собой публичное представление, обсуждение и легитимацию политическими лидерами, правительственными спикерами, партийными активистами и спин-докторами разработанных в координативном дискурсе политических идей с участием членов оппозиционных партий, социальных движений и групп интересов, а также ученых, лидеров местных сообществ, гражданских активистов, интеллектуалов, массмедиа, блогеров, экспертов, политических комментаторов и «мозговых центров», которые стремятся частично или кардинально изменить политический курс власти в собственных интересах.
Участники дискурса конкурируют друг с другом за отбор и определение значимых для них спорных вопросов как социальных проблем, требующих приоритетного внимания и решения. Иначе говоря, социальная проблема – это социальный конструкт, продукт коллективного определения, а не самоочевидный набор объективных социальных обстоятельств. Такого рода «определение проблем» и продвижение их в институциональную, публичную и медийную повестки дня осуществляется «публичными антрепренерами», которые используют собственные ресурсы для мобилизации политической, общественной и медийной поддержки благоприятных для конкретных акторов политических программ. В их число входят высшие избираемые или назначаемые должностные лица, лоббисты, политические партии, социальные движения, профессиональные ассоциации, группы интересов, гражданские активисты или массмедиа, взаимодействующие друг с другом на публичных аренах, где социальные проблемы идентифицируются, интерпретируются, формулируются и представляются.
Определение проблемы («проблематизация») включает причинно-следственное объяснение нежелательных для актора обстоятельств и систему когнитивно-оценочных и аффективных координат для необходимых действий, которая ограничивает диапазон возможных решений, соучастников и критериев эффективности. Несоответствие между числом потенциальных проблем и ограниченными размерами публичных арен, на которых они обсуждаются и решаются, обостряет конкуренцию публичных антрепренеров и соответствующих акторов.
Перечислим факторы, повышающие эффективность проблематизации или депроблематизации:
– усиление драматичности представления проблемы за счет простых формулировок, ярких символов, отрицания существования проблемной ситуации, акцента на неотложности других затруднений как более пагубных; дискредитации других антрепренеров; подчеркивания естественности, приемлемости или неизбежности ситуации как беспроблемной; оценки предлагаемых антрепренерами решений как невнятных, негодных или неприемлемых;
– усиление культурного резонанса публичного представления с популярными культурными предпочтениями или мифологическими темами;
– усиление дискурсивного соответствия публичного представления актуальным политическим пристрастиям и интересам господствующих социальных групп (политических, экономических, культурных, религиозных, гражданских);
– усиление моральных, нормативных и политических причинно-следственных связей проблемы и способов ее разрешения с претензиями других акторов и другими проблемами;
– отбор для публичного представления публичной арены с большей вместимостью;
– отбор для публичного представления публичной арены, которая по содержанию и структуре соответствует специфике проблемы.
Определение проблемы тесно связано с формированием публичной повестки дня, состоящей из спорных вопросов как сущностных или процедурных конфликтов между двумя или более акторами из-за распределения ресурсов или социальных позиций.
Публичная повестка содержит широко распространенные и значительные затруднения, которые в данный период интересуют значительную часть граждан и относятся (по мнению членов сообщества или общества в целом) к компетенции органов власти. В дискурсивном контексте – это ранжированный список ключевых тем общественного мнения, формирующих фокус общественного внимания и ограничивающих произвол акторов при идентификации проблем и выборе решений.
Институциональная повестка – это формализованный список проблем, которые составляют актуальное проблемное поле конкретного органа власти для принятия решений в данный период.
Рассмотрим факторы, которые влияют на формирование институциональной повестки дня.
1. Поддержка спорного вопроса «политическими привратниками» – принимающими решения должностными лицами, политическими лидерами и лоббистами, штатными советниками и экспертами, – которые устанавливают порядок рассмотрения вопросов, вводят, смягчают или отменяют процедуры, а также вступают в неформальные сделки с влиятельными акторами и находят компромиссные решения. Политические привратники подвержены скрытому внутреннему лоббированию или открытому внешнему лоббированию, которое проявляется в прямых обращениях, мобилизации групп интересов, медиа-историях, судебных исках, парламентских расследованиях или в публичных экспертных комментариях.
2. Тенденция отдавать первенство старым вопросам, которые когда-то входили в институциональную повестку, но либо по своей сути нуждаются в периодической модификации, либо остались нерешенными, либо их решения оказались неэффективными.
3. Претензии некоторых внешних групп удовлетворяются политическими привратниками с большей вероятностью, потому что:
– располагают большими ресурсами или способны мобилизовать больше ресурсов;
– занимают стратегические позиции в социуме;
– пользуются большим общественным уважением или имеют прямой доступ к политическим привратникам или «политическим антрепренерам»;
– успешно взаимодействуют с массмедиа, которые готовы поддержать их требования в публичном дискурсе.
– включают в свой состав влиятельных политических привратников, которые имеют перед ними моральные обязательства;
4. Степень соответствия спорного вопроса полномочиям и компетенции данного органа власти.
5. Техническая сложность спорного вопроса удерживает бюрократов от публичного дискурса из-за опасений общественного непонимания.
6. Наличие у органа власти технологий, которые ранее подтвердили свою эффективность при решении (вроде бы) похожих проблем, в силу чего предпочтение отдается привычным вопросам.
7. Высокая рентабельность инвестирования собственных ресурсов влиятельных чиновников (или депутатов) в решение вопроса. В общем виде: включение вопроса X в повестку дня в большей степени отвечает интересам актора, чем вопроса Y, если этот актор располагает ресурсами, которые необходимы для решения вопроса X. Чем больше предполагаемый выигрыш, тем больше усилий прилагает актор для внедрения вопроса X в повестку дня.
8. Феномен «казенного пирога»: политические акторы часто берутся за решение проблемы узкой группы граждан в обмен на публичную поддержку или денежные пожертвования. Эти затраты большей частью удовлетворяют потребности маленькой избранной группы, хотя производятся из государственного бюджета. Например, американские сенаторы склонны пренебрегать широкомасштабными национальными программами в пользу локальных программ, которые политически выгодны конкретным акторам, но суммарно могут быть неэффективными. Более того, издержки на местные проекты растворяются в национальном бюджете, поэтому конкретный сенатор не несет персональной ответственности.
9. Возможность за счет введения вопроса в институциональную повестку оправдать усиление властных полномочий, расширить бюрократическую структуру или разработать целевую программу для выгодного инвестирования собственных ресурсов.
10. Необходимость решения неотложных социальных проблем согласно пороговым значениям статистических «индикаторов реальности», которые устанавливают принимающие решения лица.
11. Преодоление экономических, социальных и политических последствий чрезвычайных происшествий и форсмажорных обстоятельств.
12. Подстройка к публичной повестке дня и общественному мнению.
13. Медиатизация политики.
После того как акторы определили проблемы и приняли предварительное решение об их включении в институциональную повестку, они переходят к публичному дискурсу, чтобы внедрить их вместе с определениями в медийную повестку дня, а далее транзитом в публичную повестку.
Формирование медийной повестки дня – это процесс кристаллизации и изменения тематических приоритетов массмедиа, в ходе которого раскручивается «спираль узнаваемости» и у аудитории создается впечатление о значимости проблем и правильности мнений, вписанных в медиа-истории. Медийная повестка как верхняя часть ранжированного списка популярных медиатопиков иногда не коррелирует или даже отрицательно коррелирует с «реальной повесткой» как иерархией социальных проблем, определяемых пороговыми значениями статистических «индикаторов реальности».
Установка медийной повестки дня – это деятельность акторов по управлению формированием медийной повестки дня с конечной целью повлиять на публичную повестку (и далее на общественное мнение) и/или на институциональную повестку посредством коммуникационного менеджмента.
Каждая социетальная система реагирует только на значимые для ее собственных внутренних операций сигналы внешней среды и преобразует их в приемлемую для себя форму. Соответственно, вероятность взаимных переходов вопросов в паре «институциональная повестка – медийная повестка» определяется степенью их одновременного соответствия медиалогике и политической логике, а степень их взаимных преобразований зависит от степени сопряженности и рефракции полей политики и журналистики.
Степень влияния массмедиа на институциональную повестку дня обусловлена следующими факторами: социальный статус и тип массмедиа (1), интенсивность и устойчивость медиатопиков (2), тональность освещения вопроса в массмедиа (3); качества вопроса (4), тип институциональной повестки (5), фазы деятельности органа власти (6), специфика политической ситуации (7), ранг вопроса в повестках дня (8), специфика процедур принятия решения (9).
В публичном дискурсе власть продвигает «декларируемую повестку дня», которая (а не собственно институциональная повестка) частично проецируется на публичную и медийную повестки. Она состоит из «адвокатских историй», удостоверяющих результативность и оперативность действий власти для решения проблем из публичной и/или медийной повестки дня в конкретных актуальных или будущих социальных ситуациях.
Любое социетальное поле обладает способностью к «рефракции», т. е. переопределяет сигналы из других полей в собственной логике. В частности, в поле политики социальные феномены (события, ситуации, действия, субъекты) предстают как политические проблемы, в поле журналистики как темы для медиа-историй, а в поле науки как темы для научных исследований. Для минимизации такого рода преобразований при переводе вопросов из институциональной или публичной повестки в медийную повестку дня политики или гражданские активисты подстраивают собственные действия и адвокатские истории к медиалогике (проще говоря, представляют их в коммуникативном дискурсе под видом информационных поводов). Соответственно, журналисты ориентируют собственные медиа-истории на политические проблемы и общественное мнение. Эта коммуникативная трансформация усиливает сопряженность институциональной, публичной и медийной повесток дня, но не уничтожает автономность социетальных полей, поскольку в координативном дискурсе политики, журналисты и гражданские активисты принимают решения, исходя прежде всего из собственных интересов.
Итак, коммуникационный менеджмент власти как реализация императива публичной подотчетности нацелен на формирование в коммуникативном дискурсе позитивных представлений о ее деятельности в выигрышной когнитивно-ценностной системе координат. Технологии коммуникационного менеджмента, высшая цель которого – укрепление легитимности власти за счет сближения публичной и медийной повесток дня с институциональной повесткой, должны рассматриваться как социальный ресурс, позволяющий власти манипулировать публичным дискурсом за счет формирования выигрышных для себя представлений о социальных феноменах.
Вопросы и задания
1. Объясните, как установка повестки дня связана с определением проблем.
2. Охарактеризуйте специфику разных типов повестки дня.
3. Попытайтесь выявить декларируемую повестку дня конкретного органа власти.
4. Перечислите и охарактеризуйте факторы, которые влияют на формирование институциональной повестки дня.
5. Приведите пример рассогласования медийной и публичной повестками дня.
Глава 2 Когнитивные схемы и социокультурные сценарии
«Поистине в мире каждый момент, тем самым сейчас, происходит бесконечно много событий. Всякая попытка передать в словах все то, что сейчас действительно происходит, сама по себе смешна. Нам остается одно – построить самим, по нашему разумению, конструкцию действительности, предположить, что она отвечает истине, и пользоваться ею как схемой, сеткой, системой понятий, которая дает нам хоть приблизительное подобие действительности» [Ортега-и-Гассет 2003: 120].
Социальная реальность конструируется социальными субъектами в виде индивидуальных и коллективных представлений как продуктов отбора и интерпретации нескончаемого потока социальных феноменов. Фрагменты реальности вписываются в целостные перцептивные и когнитивно-ценностные схемы, обеспечивающие коллективную социокультурную координацию за счет преобразования индивидуальных восприятий в наборы артефактов, которые осваиваются индивидами в социализации, (осознанно или неосознанно) используются в стандартных социальных ситуациях и воспринимаются как само собой разумеющиеся феномены. Перцептивные и когнитивные схемы выполняют функции матрицы при реагировании, узнавании, категоризации, понимании, выборе и принятии решений. Это и отпечатки опыта, понимаемые в соответствии с коллективной историей, и неосознаваемые матрицы ожиданий, через которые индивид воспринимает и упорядочивает социальные феномены в зависимости от их социокультурной значимости.
Культура как система смыслов и символов, убеждений, чувств и ценностей решающим образом обусловливает индивидуальное и коллективное поведение, предписывает формы социального взаимодействия, обозначает цели и средства, устанавливает границы для правильного, возможного и отклоняющегося поведения. Схемы помогают индивидам осмысливать ситуации, прогнозировать развитие событий, выбирать типы приемлемого поведения, задают категоризацию феноменов, порождают смыслы и ожидания, навязывают умозаключения, формируют намерения и мнения, вынуждают индивидов действовать (или бездействовать) с ориентацией на содержащиеся в культуре разрешения и запреты.
В социальных практиках схемы непрерывно изменяются. Правомерность конкретных схем подтверждается или опровергается в зависимости от их прогностической эффективности: предпочтение отдается схемам, которые обеспечивают более ясные и точные предсказания в отношении большего числа событий. При этом ранее воспринятое и усвоенное в значительной степени определяет, что будет воспринято и усвоено индивидами впоследствии.
Когнитивно-оценочные схемы воплощаются в социальной коммуникации с помощью «репертуаров интерпретации», которые маркируются в ситуации природными объектами, материальными артефактами, символами, фигурами речи и другими способами. Компоненты ситуации, не отвечающие никаким схемам, либо игнорируются, либо переопределяются, либо домысливаются. Мера ситуативного влияния символического маркера (и, соответственно, схемы) зависит от степени внимания, интересов, убеждений, жизненного опыта, желаний и установок конкретного участника. Взаимопонимание участников тем больше, чем ближе друг к другу их ситуационные модели как конкретизации социокультурных сценариев.
Социокультурные сценарии – это схемы для представления знаний о шаблонных и тематически единых ситуациях (событий) вместе с описанием нормальной для данной культуры ролей участников, последовательности действий, их результатов и последствий. Сценарии состоят из ряда сцен, имеют ячейки для ролей, реквизита, начальных условий и результатов, которые заполняются типичными и взаимозависимыми ситуативными переменными. Социокультурные сценарии позволяют субъектам интерпретировать не только события, но и истории о событиях на основе подсказок (например, ключевых слов или метафор), а также апостериори (задним числом) опознавать роли персонажей в истории о событии.
Некоторые социокультурные сценарии хранятся в долговременной памяти в виде историй, которые соединяют друг с другом ментальные пространства, разные по размерам, масштабам, степени сложности и абстрактности. Новые ментальные пространства («смешанные пространства») ситуативно порождаются социальными субъектами с помощью картирования (феномен «концептуальной интеграции»). Прототипическая сеть интеграции состоит из четырех ментальных пространств: два на входе, «родовое пространство» и «смешанное пространство» (бленд). Ментальные пространства на входе соединяются с родовым пространством, содержащем их общие когнитивные схемы как основания для сравнения. Бленд конструируется из конкретных признаков пространств на входе, объединяет соответствующие события и представляет собой новую когнитивную схему, которая включает новые выводы, доводы, идеи, побуждения, эмоциональные реакции. Бленд влияет на оценку событий на входе, побуждает к изменению оценки ситуации и используется в риторических целях, для создания шуток, новых концептов и культурных сценариев и т. п.
Бленды порождаются посредством изобретательных действий, установления аналогий, драматических представлений или метафоризации. Разновидностью концептуальной интеграции является метафоризация, одно из главных средств символического конструирования и интерпретации социальных феноменов. Метафоризация часто активирует социокультурные сценарии и формирует истории.
Метафоризация позволяет использовать один упорядоченный и четко выделенный феномен для понимания менее определенного феномена. Применительно к событиям метафоризация рассматривается как частичная проекция реляционной структуры события-источника (т. е. состава типичных участников с приписанными ролями, а также типичные обстоятельства взаимодействия) на событие-мишень, т. е. картирование. Другими словами, метафорическая проекция определяет значимость конкретных характеристик события-мишени. В результате событию-мишени приписываются причинность, обусловленность, целенаправленность и последствия.
Выбор события-источника навязывает набор альтернатив для решения проблемы в событии-мишени, Провоцируемые метафоризацией выводы истинны только относительно мира события-источника. Новые метафоризации содержат в себе эмоционально-экспрессивную окраску события-мишени и способны активировать нестандартные для осмысления события-мишени схемы, высвечивая или наоборот затеняя некоторые аспекты опыта. В отличие от явных рациональных логических аргументов скрытые выводы метафоризации не осознаются как результаты убеждения и принимаются индивидом как должное.
Конвенциональные метафоры как устоявшиеся результаты привычных метафоризаций (т. е. эксплуатации привычных событий-источников) обретают статус коллективных схем и далее используются для категоризации и осмысления потока социальных феноменов. Например, распространение новых социальных практик часто сопровождается конкуренцией новых и старых метафоризаций.
Согласно другой точке зрения, суть метафоризации в том, что к «фокусу» прилагается система общепринятых «ассоциируемых импликаций», связанных с «рамкой»: метафора отбирает, выделяет и организует одни характеристики объекта и игнорирует другие, тем самым задавая новую перспективу восприятия и оценки фокуса. Метафоризация скрыто включает суждения о «фокусе», которые обычно прилагаются к «рамке», т. е. отбирает, выделяет и организует одни характеристики «фокуса» и затеняет другие. Например, при описании битвы как шахматной партии шахматная терминология выполняет функции фильтра, регулирующего отбор и подчеркивающего значимость тех особенностей сражения, которые при выборе другой «рамки» остались бы незамеченными.
В публичном дискурсе метафоризация – важная коммуникативная стратегия нарративизации, которая преобразует социальные феномены в связные истории и задает предписание для действия.
Итак, социальная реальность конструируется в социальной коммуникации из репертуаров интерпретации. Восприятие, осмысление и оценка ситуации осуществляются с помощью социокультурных сценариев, которые активируются и преобразуются концептуальной интеграцией и метафоризацией.
Вопросы и задания
1. Какими факторами ограничивается влияние когнитивнооценочных схем на поведение индивида в конкретной ситуации?
2. Приведите и объясните случаи использования разных социокультурных сценариев для одной и той же сенсомоторной ситуации.
3. Опишите три социокультурных сценария.
4. Приведите примеры смешанных пространств.
5. Как метафоризация используется в определении проблем?
Глава 3 Центральные и периферийные когнитивные стратегии
«Люди рациональны в лучшем случае в контексте своей осведомленности, а они осведомлены только о крошечных, фрагментированных аспектах реальности» [Simon 1985: 302].
Рассмотрим несколько моделей рациональности, которая, как предполагается, лежит в основе принятия органами власти управленческих решений.
Согласно модели «всеобъемлющей рациональности», при принятии решений предпочтения определяются через исходы, которые известны и фиксированы; а субъекты, принимающие решения, максимизируют чистую выгоду или полезность, выбирая альтернативы с самым высоким уровнем выгоды (за вычетом расходов). Предполагается, что эти субъекты обладают исчерпывающим знанием о ситуации, знают все альтернативные решения вместе с вероятностями и последствиями, объективно (как бы со стороны) наблюдают за процессом и стремятся к максимизации выигрыша. Однако решения сложных проблем чаще зависят от случайного сочетания контекстных, социальных и политических факторов, а также от ситуативных желаний, чем от рациональной диагностики, оценки и отбора лучшего варианта. В результате обычно рассматриваются лишь несколько вариантов действия, частные решения принимаются с учетом продвижения к более масштабной цели и скорее обеспечивают защиту от сбоев, чем гарантированный большой выигрыш. Согласно теореме Эрроу, в социуме вообще не существует никакого рационального метода максимизации общественного блага, кроме установления строгих ограничений на упорядоченность предпочтений индивидов, т. е. использования ресурсов власти.
Согласно концепции «ограниченной рациональности», индивиды все-таки делают рациональный выбор, который, как подчеркивается, ограничен неопределенностью ситуации, недостатком сведений, эвристическими упрощениями и когнитивными способностями. Поведение рационально, если оно целесообразно, т. е. соответствует конкретным целям в данной ситуации.
При отборе и решении сложных проблем индивиды часто пренебрегают «жесткой рациональностью» и предпочитают методы «мягкой рациональности». Если первая лежит в основе логической аргументации и формализации для оценки индивидуальной силы аргументов, то вторая базируются на их сравнении по силе. Мягкая рациональность предполагает оправдание выводов, а не доказательства истинности; применения эвристик, а не логических правил; выдвижение гипотез, а не дедукцию или индукцию; прагматическую интерпретацию, а не внеконтекстное толкование.
Решение и поведение актора оценивается наблюдателем как иррациональное, если видимая цель актора несовместима с другими его целями, которые кажутся наблюдателю более важными (1); актор исходил из неверных «фактов» (2) или пренебрег уместными «фактами» (3); актор сделал неправильные выводы из признаваемых наблюдателем «фактов» (4); актор проглядел значимые альтернативные стратегии (5). Впрочем, большинство индивидов в повседневной жизни не располагают ни способностями, ни временем принимать лучшие из возможных решений и руководствуются принципом «разумной достаточности»: они перебирают варианты до тех пор, пока не найдут достаточно хорошую альтернативу, которая не является оптимальной с точки зрения более осведомленных, компетентных в логике и заинтересованных субъектов.
Все эти формы иррациональности предлагается рассматривать как формы «ограниченной рациональности», которая обусловливает принятие решений и соответствующее поведение.
В частности, центральная (системная) стратегия обработки сообщений требует от индивидов значительных когнитивных усилий и устойчивых навыков логического мышления, поэтому используется лишь при наличии высокой мотивации и повышенного внимании к проблеме. Чем лучше когнитивные (в том числе логические) способности (1) и острее желание приложить существенные умственные усилия (2), чем больше свободного времени (3) и чем меньше отвлекающих факторов (4), тем вероятнее, что индивид прибегнет к центральной (системной) стратегии обработки сообщения или анализа ситуации. В остальных случаях индивиды предпочитают периферийную (эвристическую) стратегию с ориентацией на выпуклые эвристики-триггеры как уместные подсказки (символические маркеры), а не убедительные доводы. Обнаружено, что первоначальные сильные аргументы смягчают влияние последующих эвристических подсказок, а первоначальные сильные подсказки – влияние последующих слабых аргументов.
Индивиды, склонные к поиску острых ощущений, вообще предпочитают драматичные и эмоциональные истории с эффектом напряженного ожидания и выразительным музыкальным фоном, а вовсе не цепочки логических умозаключений. Таким образом, понимание индивидами социальных феноменов больше зависит от эмоций, образов и символов, чем от «фактов» или слов. Например, при одновременном восприятии образов и комментариев в выпуске новостей зрители склонны запоминать не слова, а картинки, которые с помощью «визуального фрейминга» как выбора поля зрения, угла зрения и сцены решающим образом обусловливают интерпретацию новостей. Яркие образы или символы как минимум служат намеками и/или составляют аффективно-когнитивное ядро телевизионной истории, которая побуждает зрителя к конкретной интерпретации освещаемого события.
Согласно концепции «рациональной иррациональности», индивиды склонны избегать утомительной рациональной обработки сведений о состоянии дел за пределами повседневного жизненного мира (например, в политической сфере). Вместо этого они поддаются эмоциям, пристрастно и слишком высоко оценивают данные, которые подтверждают их взгляды и недооценивают или игнорируют опровергающие сведения. Для оценок используются произвольные точки отчета, частота упоминания отождествляется с частотой встречаемости, привлекательность источника влияет на его достоверность, выводы делаются не по правилам логики, а согласно эвристикам. Если «рациональные невежды», по меньшей мере, признают, что они малосведущи и готовы воспользоваться дополнительными сведениями, то «рационально иррациональные всезнайки» убеждены, что знают абсолютно все, что необходимо для правильного решения (например, на политических выборах).
В соответствие с концепцией «рационального невежества», большинство граждан не хотят расширять свои знания о политике, поскольку, по их мнению, вероятность того, что конкретный голос определит победу конкретного кандидата, настолько мала, что даже минимальные затраты на поиск исчерпывающих сведений перевешивают потенциальный выигрыш. В результате граждане ориентируются при вынесении суждений о политических проблемах или политических акторах на эвристики или собственные эмоциональные реакции, а не на аргументы и факты.
Феномен «рациональность при недостатке информации» состоит в том, что граждане обычно оценивают политические решения на основе небольшого количества подсказок, жестко придерживаются своих убеждений и стереотипов, сопротивляются коррекции первоначально неточных или ложных сведений, предпочитают простые и понятные доводы, ориентируются на заявления элиты и неосознанно отождествляют политические процедуры с собственными способами решения повседневных проблем.
Благодаря эффекту «мотивированный скептицизм», индивиды некритично соглашаются с доводами в поддержку своей позиции, но крайне критичны к опровержениям, используя разнообразные тактики: они избегают, игнорируют, исключают, отвергают, воздерживаются от оценки, заново интерпретируют, изредка подправляют свои убеждения или все-таки соглашаются с доводами. В то же время они активно используют контрдоводы, чтобы высмеять или признать недействительными суждения, которые несовместимы с собственными представлениями и ценностями. Подобного рода предубеждения настолько широко распространены в социальном окружении индивида, что воспринимаются им как бесспорные и неопровержимые доводы. В силу этого политики предпочитают «нелогическую аргументацию», которая в отличие от логической аргументации, подталкивающей граждан к логическим умозаключениям об истинности предлагаемых идей, преимущественно побуждает сторонников к правильным действиям, конструируя пристрастные представления о социальной реальности из репертуара интерпретаций и уместного (признанного в публичном дискурсе как правдоподобные причины) «репертуара аргументов» по конкретной проблеме.
В качестве доводов используются философские принципы, догматы веры, нравственные ценности и стандарты, нормы права, ссылки на пословицы, афоризмы, данные эксперимента и/или на результаты практической деятельности с одновременным возбуждением эмоциональных реакций и эксплуатацией разного рода психологических феноменов. Например, эффективность установки повестки дня основана на том, что при прочих равных условиях уже знакомые утверждения или доводы часто оцениваются как более убедительные по сравнению с новыми, а знаменитые субъекты или объекты как более привлекательные. Более того, буквальное и многократное повторение одного и того же мнения даже одним и тем же актором увеличивает число его сторонников. Однако поскольку рациональное логическое убеждение особенно ценится гражданами как отличительный признак демократии, то политики все же используют приемы логической аргументации, но скорее для укрепления собственной легитимности, а не для достижения рационального согласия.
Итак, при принятии решений и в социальных взаимодействиях индивиды предпочитают периферийные стратегии, ориентируясь скорее на эвристики, которые активируют социокультурные сценарии с готовыми выводами, а не на оценку рациональных доводов и логической правильности умозаключений.
Вопросы и задания
1. Перечислите факторы, которые способствуют центральной обработке сведений.
2. Перечислите факторы, которые способствуют периферийной обработке сведений.
3. Возможно ли одновременное использование актором рациональных доводов и эвристических подсказок?
4. Приведите примеры доводов в «нелогической аргументации».
5. Почему политики все-таки прибегают к рациональной аргументации?
Глава 4 Технологии оправдания и обвинения
«Политики не занимаются образованием общественности. Вместо этого они используют риторику, чтобы активировать психологические механизмы, которые искажают суждение. Они представляют изолированные, нерепрезентативные факты; они осуществляют тенденциозное кадрирование спорных вопросов и скорее стремятся вызвать эмоциональную реакцию, чем побудить к рациональному обсуждению» [Kuklinski, Quirk 2000: 24].
Позиция актора в любом публичном дискурсе дает ему возможности, права, статус и ресурсы (в том числе власть), одновременно ограничивая его претензии и действия. Достижение и удержание статуса обеспечивается риторикой как дискурсивной техникой стратегической коммуникации, которая нацелена на достижение выгодного для актора преобразования координативного или коммуникативного дискурса, и, соответственно, изменение восприятий и интерпретаций конкретных социальных феноменов.
Риторическая ситуация – это ситуация неопределенности и острой необходимости, которую актор за счет стимулирования дискурса намерен преобразовать в проблемную ситуацию, чтобы видоизменить или устранить конкретную «безотлагательность», представляющую собой воспринимаемое актором и другими участниками коммуникации качество конкретной ситуации как сильной или слабой, реальной или нереальной, значимой или ничтожной, знакомой или новой, исправимой или неисправимой дискурсом. В состав риторической ситуации входят только те компоненты актуальной или потенциальной ситуации (индивиды, события, объекты и отношения), которые актор может видоизменить с помощью дискурса, не прибегая к сущностным действиям.
Реальная риторическая ситуация отличается от софистической ситуации (когда надуманная острая необходимость представляется актором как реальная), ложной ситуации (когда компоненты ситуации – результат ошибки или невежества актора), фантазий (когда «безотлагательность» и аудитория воображаются актором) и фиктивной риторической ситуации в истории.
Хотя в любой риторической ситуации присутствует преобладающая «безотлагательность» как организующий принцип, риторические ситуации отличаются друг от друга по структуре:
– в риторической ситуации могут одновременно присутствовать несколько совместимых (или несовместимых) «безотлагательностей», которые требуют от акторов ответа;
– несколько риторических ситуаций одновременно могут конкурировать за внимание акторов;
– индивиды из аудитории риторической ситуации A могут также входить в аудитории риторических ситуаций В, C и D;
– аудитория риторической ситуации может быть рассеянной в пространстве, навязывать актору несовместимые ограничения или не осознавать свои возможности сдерживать активность ритора.
Ритор ограничен в воздействиях на членов аудитории риторической ситуации их убеждениями, установками, традициями, интересами, мотивами, характерами, доказательствами, стилями, признаваемыми ими фактами и документами, а также «институциональной логикой». Риторическая ситуация навязывает актору и аудитории вербальные реакции, подобно тому как сенсомоторная ситуация определяет действия (например, как при гребле на каноэ или игре в футбол). Каждая риторическая ситуация развивается до благоприятного момента для подобающего риторического ответа, а далее она распадается, и запоздавший ответ актора теряет смысл. Повторение сопоставимых ситуаций с сопоставимыми ответами порождает риторические формы, словарь, грамматику и стиль, которые составляют новый дискурс как ансамбль идей, понятий и категорий, посредством которых осмысливаются феномены со своими ограничениями для любых новых ответов.
Риторика используется на публичных форумах, где предпринимаются коллективные попытки проблематизировать ситуацию за счет предъявления претензий, жалоб или требований. И наоборот, контрриторика – это набор дискурсивных стратегий для депроблематизации ситуации, т. е. отрицания значимости выдвигаемых претензий, жалоб и требований.
Для четкого выражения требований акторы используют мотивы, идиомы и стили. Мотивы – это повторяющиеся темы и фигуры речи (например, метафоры), которые сгущают и высвечивают ядро социальной проблемы («кризис», «злоупотребление», «скандал», «заговор», «бомба замедленного действия»). Риторические идиомы оправдывают претензии, содержат ссылки на нравственные ценности, побуждают к симпатии (например, риторика утраты, риторика предоставления права, риторика угрозы, риторика неразумности, риторика бедствия, риторика воздаяния. Стили придают претензиям характерную для актора форму, понятную и приемлемую для аудиторий со сходными мотивами и идиомами (например, гражданский стиль как гражданская позиция, а не позиция группы интересов, или юридический стиль, предполагающий «истца» или «адвоката»).
«Риторика действия» акцентирует внимание на пагубности игнорирования спорного вопроса и подталкивает аудиторию к его немедленному решению как острой социальной проблемы. «Контрриторика» как зеркальное отражение риторики действия наоборот удерживает аудиторию от каких-либо действий:
– рассказывание анекдота как микроистории о конкретном случае, который противоречит претензиям претендента на проблематизацию спорного вопроса;
– натурализация как представление социальной проблемы в качестве неизбежной, беспрецедентной и неразрешимой;
– гиперболизация как преувеличение разрыва между наличными и необходимыми для решения социальной проблемы ресурсами, а также декларация бессилия перед проблемой; это преуменьшение наличных ресурсов для решения социальной проблемы;
– антитипизация – как представление социальной проблемы в качестве единичного, изолированного и редкого случая;
– недопустимые издержки как акцент на том, что издержки при решении социальной проблемы превышают возможную выгоду;
– детематизация как переключение внимания на предвзятость, корыстность, некомпетентность, социальную безответственность претендента и на неэффективность предлагаемых мер;
– неискренность как разоблачение истинных намерений претендента;
– истерия как обвинение претендента в чрезмерной эмоциональности.
Делиберативная риторика подталкивает индивидов к размышлениям, переоценке, выражает и передает новые знания, исключает угрозы, ложь и приказы. Плебисцитарная риторика («политическое потворство») используется для подстройки актора к уже существующим предпочтениям (например, общественному мнению) и предполагает периферийную когнитивную стратегию для побуждения аудитории к согласию.
Далеко не все политические мероприятия, программы и курсы оказываются успешными: некоторые из них не достигают заявленных целей, обходятся значительно дороже, сопровождаются некомпетентными и неэтичными поступками должностных лиц и, наконец, имеют непреднамеренные негативные последствия. Большинство промахов остаются незамеченными гражданами и лишь некоторые получают статус «политического фиаско». В отличие от технократического провала, который приводит к осязаемым социальным исходам, политическое фиаско подразумевает негативную оценку политического курса другими политическими акторами и гражданами, но первое и второе необязательно сопровождают друг друга. Иначе говоря, даже вполне разумный и эффективный политический курс может получить на публичной арене клеймо политического фиаско, которые, как и политический успех, конструируются в публичном дискурсе.
Для разъяснения собственного поведения, неподобающего или непредвиденного в конкретном социокультурном контексте, для минимизации разрыва с ожиданиями «стейкхолдеров» как субъектов, располагающих возможностями и желанием для воздействия на актора, от действий которого они зависят, и, в конечном счете, для собственной легитимации акторы конструируют «отчеты» из одобряемых стейкхолдерами словарей мотивов. Отчет с неприемлемым словарем мотивов может восприниматься как признак умственного расстройства или неподобающего скепсиса актора. Отчет также отвергается стейкхолдерами, если не соответствует по своей форме воспринимаемой значимости действия или события.
Для нейтрализации обвинений стратегии «корпоративной апологии»:
– опровержение: молчание или отрицание свершения события или отрицание негативных последствий события;
– каузальная атрибуция (причинно-следственные объяснения): непредвиденные и/или неконтролируемые обстоятельства; действия или бездействия конкретных или неопределенных субъектов (в том числе «потусторонние силы»); поиск «козла отпущения»; «распыление ответственности»; приписывание вины обвинителю, конкурентам или массмедиа; дискредитация аналитиков; неизбежность события как следствия предыдущих событий;
– рефрейминг (смена системы аффективно-когнитивных и оценочных координат): отрицание значимости события; акцент на позитивных последствиях и минимизация негативных последствий; отрицание уместности и правомерности стандартов оценки события как негативного; смена системы координат (например, политической на экономическую, социокультурной на моральную) для оценки события; новое определение события для минимизации воспринимаемого ущерба;
– смена перспективы: использование выигрышных критериев для успеха или неудачи; «общественный выигрыш больше индивидуальных потерь»; оправдание высшей целью; напоминание о ранее содеянном благе; акцент на нетипичности события; сравнение с другими негативными событиями; адаптация к общественным настроениям; нетипичность для актора; неизбежная реакция на действия других акторов;
– оправдание: минимизация участия актора; неполная информированность или дезинформированность; недостаточность или отсутствие полномочий; подчинение решению свыше; отрицание умысла; благие намерения; выбор из двух зол; отрицание ущерба; виктимизация жертвы; «меньшее зло» по сравнению с другими акторами»; верность актора своим приверженцам; исправление негативных последствий деятельности других акторов; действие как самореализация актора;
– извинение и заискивание: принятие ответственности, выражение сожаления и просьба о прощении, обещание компенсаций для жертв, заявление о проведении собственного расследования; обязательство впредь предотвращать подобные события.
Поспешные попытки оправдания (например, публичное опровержение слуха) чаще всего оказываются контрпродуктивными (феномен «нет дыма без огня»): чрезвычайное происшествие (или разоблачительная медиа-история) привлекают общественное внимание только в момент их свершения (или появления) и без подпитки интересными подробностями быстро наскучивают и аудитории, и журналистам (феномен «выгорание темы»).
Для обоснования обвинений применяются приемы «менеджмента обвинений» как зеркальные варианты «корпоративной апологии».
Обнаружены как минимум три стратегии избегания публичной подотчетности: «мистификация» как ссылка на особые обстоятельства; «бегство по вертикали» как ссылка на волю высшее руководство; «незаконность» как ссылка на неправомерность требований вопрошающего.
Несмотря на призыв приверженцев «делиберативной демократии» реагировать лишь на рациональные логические суждения, граждане восприимчивы скорее не к рациональной логической аргументации, а к так называемой «риторике искренности» и, более того, сами поощряют акторов, которым удается убедить их в своей бескорыстности. Политическая риторика – это не диалог, ориентированный на поиск истины с помощью корректных приемов ведения спора, а скорее эклектическая полемика с использованием приемов софистики.
Итак, нерациональность и нелогичность большинства граждан оправдывает использование политическими акторами риторических приемов как манипуляций восприятием и оценкой социальных феноменов.
Вопросы и задания
1. Совместимы ли открытый диалог и риторика?
2. Перечислите параметры риторической ситуации и объясните их смысл.
3. Приведите примеры использования контрриторики.
4. Приведите примеры использования приемов корпоративной апологии и менеджмента обвинений.
5. Проиллюстрируйте примеры избегания публичной подотчетности.
Глава 5 Сущность, типология и приемы фрейминга
«Фрейминг влияет на то, как аудитории думают о спорных вопросах не тем, что делает какие-то аспекты более выпуклыми, но тем, что вызывает схемы интерпретации, которые влияют на толкование входящей информации» [Scheufele 2000: 309].
Политические конкуренты имеют разные намерения, исходят из определенных допущений, неодинаково оценивают и осмысливают одни и те же социальные феномены. Они считают значимыми разные «факты», одни и те же «факты» осмысливают по-разному и отбирают только такие «факты», которые не противоречат их собственным адвокатским историям. Такого рода неосознаваемые когнитивные операции, а также преднамеренные действия акторов по отбору и акцентированию в ситуациях и адвокатских историях конкретных качеств социальной феноменов, чтобы выдвинуть на первый план определение проблемы, ее причинно-следственное объяснение, моральную оценку и рекомендации для ее решения, обозначаются термином «фрейминг» [Entman 1993].
Посредством фрейминга актор создает и навязывает аудитории систему когнитивно-оценочных и аффективных координат для обсуждения и истолкования социальных феноменов в неоднозначной ситуации, активируя в качестве неявных предпосылок когнитивные схемы, социокультурные сценарии, культурные модели, ценности и нормы. Фрейминг – это компонент разработки актором политического курса и его реализации в дискурсивной конкуренции за политически выгодное определение проблемы и ее решения. Результат фрейминга – это фрейм.
Фрейм как центральная организующая идея для осмысления события, маркируется в сообщении яркими метафорами, наглядными примерами, хлесткими фразами, броскими образами; содержит разнообразные приемы оправдания и обоснования (причины, последствия и апелляции к моральным принципам и нормам) и неявно соединяет описываемое событие с широко известными культурными феноменами.
В публичном дискурсе «спонсоры фреймов» проблематизируют значимые для себя социальные феномены в собственных интересах за счет конструирования и активного распространения «адвокатских фреймов». Будучи публичными антрепренерами, они создают коллективные шаблоны интерпретации, которые наряду с репертуарами интерпретаций и репертуарами аргументов ложатся в основу новых «проблемных сетей», укрепляют «адвокатские коалиции», «дискурсивные коалиции», «эпистемические сообщества» и «политические сообщества». Наиболее распространенные в публичном дискурсе фреймы как продукты фрейминга воспринимаются как здравый смысл, включаются в набор коллективных символических ресурсов и влияют на социализацию индивидов.
Фрейминг побуждает адресата к применению скорее периферийных, а не центральных когнитивных стратегий. В отличие от убеждения фрейминг не предлагает аргументы и не активирует логические схемы умозаключения, а повышает степень приемлемости уже существующих соображений, регулирует диапазон уместных соображений, навязывает новые соображения, чтобы при вынесении суждений или принятии решений адресат принимал в расчет одни аспекты ситуации и игнорировал другие. С этой целью акторы и публичные антрепренеры фокусируются на достоверности источника, провоцируют сильные аффективные состояния, быстро переключаются с одной темы на другую и ссылаются на силу, власть и статус.
Интуитивно понятно, что не все фреймы одного и того же социального феномена одинаково обоснованы и равноценны. Для сравнения фреймов используются три критерия: «красота» как красноречивость формулировки неявных доводов; «истинность» как проверяемость неявных допущений для неосознаваемых выводов; «справедливость» как соответствие культурным моделям.
Чем сильнее «культурный резонанс», «эксперенциальная соразмеримость» и «эмпирическое правдоподобие» результирующего фрейма, тем выше вероятность того, что фрейминг побудит аудиторию к искомой актором интерпретации конкретных событий или ситуаций. Фрейминг воплощается в коммуникации тематическими и оценочными ключевыми лексемами, речевыми шаблонами, визуальными стереотипами, «оглушительными цитатами», хлесткими фразами, яркими метафорами, броскими образами, наглядными примерами, рекомендациями референтных фигур, встроенными микроисториями» и историями успеха, «личными свидетельствами» и статистическими данными, заголовками и подзаголовками, фотографиями и подписями под фотографиями, первыми абзацами и заключительными фразами. Посредством фрейминга акторы маскируют собственные стратегические замыслы «невинными» словесными конструкциями с самоочевидными оценками и доводами.
Фрейминг – это один из способов «нарративизации» как интерпретации социальных феноменов в формате историй. Следовательно, эффективность фрейминга зависит еще и от «связности» как сюжетной непротиворечивости и «верности» как соответствия ценностям аудитории. Помимо вербализации (словесного оформления) и символизации (использования красноречивых символов) для фрейминга применяются риторические приемы, а также феномен «интертекстуальности», под которым понимается включение в сообщение аллюзий, реминисценций или цитат из особого рода «прецедентных текстов». Значит, к приемам фрейминга можно добавить популярные цитаты, афоризмы, крылатые слова, пословицы, поговорки, загадки, имена известных персонажей. Подчеркнем, что фреймы опознаются и типологизируются только при сопоставлении историй, посвященных одному и тому же социальному феномену.
Как известно, избиратели принимают решение голосовать за конкретного кандидата, исходя из оценки его приверженности и способности распознавать и эффективно решать проблемы в значимом для них тематическом (проблемном) поле. Сходными соображениями руководствуются и потребители, когда принимают решение о покупке, ориентируясь на то, в какой степени качества товара или услуги соответствуют решению их проблем в конкретной сфере жизнедеятельности. Позиционирование как заблаговременное фокусирование на «тематических атрибутах» субъекта или объекта, идеального для решения конкретных проблем, базируется на когнитивном эффекте «прайминг».
Прайминг как когнитивная стратегия неявно задает систему тематико-атрибутивных координат для последующего опознания конкретного социального феномена в качестве оптимального выбора для адресата. Значит, прайминг как заблаговременная схематизация будущих восприятий и оценок может рассматриваться как разновидность фрейминга.
«Тематический прайминг» заранее ограничивает возможные способы решения проблем за счет того, что фокусируется на конкретных темах при заблаговременном обсуждении социальных феноменов. «Атрибутивный прайминг» заранее ограничивает круг социальных субъектов или объектов как агентов или инструментов решения проблем, поскольку заблаговременно связывает их конкретные атрибуты именно с их решением.
В зависимости от объекта и цели различают как минимум пять видов фрейминга:
– интерактивный фрейминг – это подбор ментального пространства для общей категоризации ситуации, выбор ее ментальной модели и совместное конструирование участниками ситуационной модели для осмысления и согласования действий;
– мотивационный фрейминг – это побуждение лидерами членов своих групп к слаженным коллективным действиям посредством согласования ценностей и целей;
– проблемный фрейминг – это диагностика и/или оценка и/или объяснение причин и/или приписывание ответственности и/или прогноз последствий и/или предписание действий, которые совершает актор в отношении конкретного спорного вопроса;
– фрейминг новостей – это создание и использование журналистами медиафреймов как представлений в медиасфере актуальных спорных вопросов;
– медиафрейминг – это конструирование и продвижение акторами в медиасферу адвокатских историй с целью повлиять на состав и качество медиафреймов спорных вопросов, а также на медиаконтент в целом.
Для фрейминга используются как минимум пять технологий в разных сочетаниях: метафоризация (метафорический фрейминг), визуализация (визуальная риторика), схематизация (сценарный фрейминг), нарративизация (нарративный фрейминг), рекреатизация (фикциональный фрейминг). Соответственно, в социальных практиках используются, например, метафорический фрейминг новостей, визуальный медиафрейминг, сценарный интерактивный фрейминг, фикциональный проблемный фрейминг и т. п.
Итак, акторы для определения социальных феноменов в качестве проблем и передачи их интерпретаций стейкхолдерам в публичном дискурсе используют разнообразные виды и формы фрейминга (включая прайминг), а также открытое аргументативное и неявное эвристическое обоснование правильности собственных оценок, решений, планов и действий.
Вопросы и задания
1. Объясните факторы неизбежности и эффективности фрейминга.
2. Приведите примеры фрейминга, ориентированного на разные цели.
3. Как связаны друг с другом установка повестки дня и фрейминг?
4. Приведите примеры тематического прайминга.
5. Приведите примеры нарративного медиафрейминга.
Глава 6 Медиалогика и фрейминг новостей
«Ничто не попадает в (национальную) политическую повестку дня (в США) без согласия восьми человек, а именно, главных редакторов «Ассошиэйтед Пресс», «Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон Пост», «Тайм», «Ньюсуик», Эй-Би-Си, Эн-Би-Си и Си-Би-Эс» [Entman 1993: 52].
Ключевую роль в формировании когнитивно-оценочного и аффективного контекста коммуникативного дискурса играют массмедиа, поэтому дискурсивная легитимация власти преимущественно осуществляется в форме политических медиарилейшнз как инструментальных и коммуникативных взаимодействий политических акторов и антрепренеров с журналистами и блогерами.
Журналисты склонны скорее принимать предлагаемое акторами сырье для медиа-историй (или непосредственно адвокатские истории) и представлять новости в развлекательной форме (феномен «инфотейнмента»), чем подвергать сомнению достоверность источников информации, проверять «факты» и представлять аудитории «объективные описания» социальной реальности. Вместе с тем власти не следует рассчитывать на абсолютное превосходство собственных адвокатских историй в медиасфере: однозначное и единодушное одобрение любого социального феномена противоречит медиалогике (например, нормам «конфликт мнений» или «ценностная дихотомия») и медиаконкуренции. Кроме того, продолжительность «медиасериалов» на основе адвокатских историй ограничена феноменом «выгорание темы».
Медиадискурсе мифологизирует и ритуализирует социальную реальность, реактивирует традиционные и порождает новые мифы и, более того, порождает автономную и самодостаточную медиареальность, воспринимаемую аудиторией как истинное положение дел, а не один из возможных миров. Когнитивные и символические артефакты массмедиа формируют образы правильной социальной реальности и правильных действия в социокультурных ситуациях.
На производство новостей влияют «медиалогика» (журналистские ценности, нормы, рутины и технологии); давление рекламодателей, аудитории, рыночной экономики, идеологических императивов и культурных ценностей; специфика национальной медиасистемы и т. д. Одно из требований медиалогики – оценка события как информационного повода, качества которого совпадают с качествами «хорошей истории»: конфликт, скандал, курьез или сенсация; негативные социальные последствия; большое количество участников; главный герой – референтная или статусная фигура; эмоциональность. При создании медиа-историй журналисты используют приемы визуализации, выдвигая на первый план зрелищные характеристики события в ущерб анализу его причин и последствий как социального феномена, тем самым облегчая осмысление сложных социальных феноменов. При этом медиа-истории содержат в себе и описания, и объяснения, и аргументы.
Поскольку журналистика как социальная практика – это сторителлинг (рассказывание историй), то выпуски новостей конкурируют в социокультурном пространстве за общественное внимание не столько с другими источниками информации, сколько с другими способами развлечения: радикальные конструктивисты вообще отрицают различие между развлечением и даже «качественной журналистикой».
Запрос массовой аудитории на простые и увлекательные объяснения социальных феноменов приводит к тому, что журналисты используют как минимум следующие практики медиасхематизации:
1. Практика «проблемного дуализма»: журналисты сводят трактовку запутанного социального феномена к двум противоположным мнениям, которых придерживаются знакомые, предсказуемые и легитимные участники, эксперты или комментаторы.
2. Практика «информационной фильтрации»: журналисты выборочно используют уже имеющиеся и ищут новые сведения о событиях, которые соответствую знакомым, излюбленным, популярным или доминирующим фреймам, метафорам или «инвентарным историям».
3. Практика «сериализации»: журналисты предпочитают события с перспективой неожиданного развития, чтобы в дальнейшем развить первоначальную медиа-историю в «медиасериал».
4. Практика «групповой верификации»: журналисты представляют конкретное событие как (якобы) демонстрацию актуальной проблемы и одновременно упоминают (якобы) аналогичные события.
5. Практика «когнитивного баланса»: журналисты при интерпретации социальных феноменов вынуждены балансировать на грани «заумь – трюизм», поскольку согласно модели «зазор любопытства», индивид прилагает когнитивные усилия для понимания сообщения только в том случае, если пробел между его знаниями и предъявленными сведениями составляет умеренную величину. Аудитория игнорирует и слишком сложные, и тривиальные медиа-истории.
6. Практика «утрированной символизации»: журналисты интерпретируют незначительное происшествие или инцидент (в первую очередь, с известными акторами) как красноречивое свидетельство или дурное предзнаменование;
7. Практика «нарочитой драматизации»: журналисты (прежде всего, в период «информационного вакуума») в медиа-историях о рутинных событиях усиливают их второстепенные с точки зрения сущностных причин и следствий характеристики.
8. Практика «когнитивного сглаживания»: неминуемая схематизация социальной реальности журналистами сглаживает различия между (совершенно) разными, с точки зрения их участников, событиями.
Фрейминг новостей порождает медиафреймы, которые акцентируют конкретные параметры социальных феноменов, влияют на оценки их причин и последствий, а также неявно побуждают аудиторию к конкретным кластерам умозаключений и действий.
С одной стороны, медиафреймы помогают аудитории, располагающей ограниченными временем, вниманием и способностями, понимать социальные феномены в контексте медиа-историй. С другой – они как когнитивные схемы позволяют самим журналистам быстро и без особых усилий классифицировать, постигать и оценивать непрерывный поток разрозненных событий. Очевидно, что крайне упрощенные истолкования в массмедиа сложных социальных феноменов препятствуют серьезному публичному дискурсу об идеалах, проблемах и жизненных интересах граждан.
Некоторые популярные медиафреймы и медиа-истории со временем становятся частью журналистского мировоззрения, состоящего из неявных допущений, когнитивно-оценочных схем, метафоризаций, нарративных форм и инвентарных медиаисторий. Эта медиакультура лежит в основе понимания, интерпретации и оценки журналистами социальных феноменов, позволяет быстро их сортировать и упорядочивать в разъясняющие медиа-истории в статусе новостей, формирует групповую солидарность журналистского сообщества. Журналистское мировоззрение – это часть медиалогики и один из источников пристрастности массмедиа, вследствие которой журналисты вопреки провозглашаемому императиву «объективности» часто следуют «историям в тренде». Более того, популярные медиафреймы иногда (на время) превращаются для аудитории в неосознаваемые и неоспоримые коллективные схемы для оценки ситуативных и долгосрочных социальных феноменов и даже переходят в разряд социокультурных сценариев и культурных моделей.
Существует множество иерархических типологий медиафреймов, поскольку потенциально бесконечно число событий и интерпретаций, а также уровней их обобщенности:
– «эпизодические медиафреймы» представляют события как единичные и уникальные, а «тематические медиафреймы» связывают их с цепочкой других событий как проявлений одной и той же проблемы;
– «конкретно-проблемные медиафреймы» представляют конкретные события и темы, а родовые – широко применяются к диапазону разных тем в течение долгого времени и в разных социокультурных контекстах;
– «ценностные медиафреймы» представляют события как столкновения моральных принципов или базовых ценностей, «материальные» – подчеркивают вещественные последствия действий, «проблемные» – объясняют предлагаемые варианты решения, «стратегические» – акцентируются на эгоистичности субъектов как участников событий.
Конкуренция спонсоров фреймов расширяет пространство решений проблем, стимулирует публичный дискурс по поводу альтернатив, облегчает опознание приемлемых вариантов. Ресурсное превосходство позволяет некоторым акторам преобразовывать адвокатские истории в доминирующие медиаистории и далее в публичные истории.
Итак, массмедиа конструируют социальную реальность в виде специфических медиа-историй, которые соответствуют медиалогике, основаны на популярных медиа-фреймах и конструируются с прямым или косвенным участием других акторов, вовлеченных в медиарилейшнз.
Вопросы и задания
– Перечислите и охарактеризуйте качества информационного повода.
– Приведите примеры практик медиасхематизации.
– Приведите примеры медиафреймов разного типа.
– Рассмотрите случай конкуренции медиафреймов.
– Приведите примеры популярных медиа-историй.
Глава 7 «Объективность» и «беспристрастность» журналистики
«В отличие от других профессий журналистика лишена отчетливых атрибутов, которые позволили бы ей пользоваться эксклюзивной и неоспоримой франшизой повествовать о социальном мире. Ничто не защищает журналистику от внешней критики: ни специальное техническое знание, ни формальная сертифицированная подготовка, ни эзотерический профессиональный язык, ни создание бесспорно полезного для социума продукта… В конечном итоге, неважно, как пресса стремится достичь «объективности», ее заявления постоянно впутаны в политические пререкания в публичной сфере. Репортеры должны непрерывно подтверждать обоснованность новостных описаний и анализов на фоне большого числа соперничающих взглядов и альтернативных авторитетов» [Kaplan 2006: 176–177].
Множественность медиа порождает у граждан впечатление о бесконечном многообразии независимых интерпретаций социальных феноменов, скрывая тот факт, что массовая коммуникация ограничена разными формами косвенного контроля, осуществляемого и государством, и частными корпорациями, от формального регулирования до давления со стороны рекламодателей и источников информации. Журналисты не столько контролируют производство новостей, сколько отбирают и интерпретируют многочисленные адвокатские истории, поступающие от других акторов как источников информации, и преобразуют их в относительно целостные и достоверные для аудитории медиа-истории. Более того, концентрация большей части массмедиа в медиахолдингах приводит к уменьшению разнообразия и описываемых событий, и способов их интерпретации.
Подстройка массмедиа к интересам рекламодателей («коммерциализация»), в значительной степени обеспечивающих финансовое благополучие изданий, приводит к согласованности медиатопиков с рекламными посылами. В результате выпуски новостей отождествляются с производством коммерчески выгодных развлечений, неумолимо падает финансирование расследовательской журналистики и стремительно распространяется феномен «монетизация новостей», который противоречит нормативному предназначению журналистики – расширять и улучшать публичный дискурс.
Угроза применения карательных санкций по отношению к массмедиа за публичную критику действий власти и корпораций или просто за освещение событий, которые противоречат господствующему общественному мнению, еще более ограничивает спектр разрешенных тем и позиций.
Зарегистрированная исследователями однородность медиаисторий объясняется еще пятью факторами.
Во-первых, феноменом «медиаконсонанса»: разные массмедиа получают сведения из ограниченного списка легитимных источников. В итоге набор популярных информационных поводов как сырья для медиа-историй в конкретный период времени в значительной степени ограничен.
Во-вторых, феноменом «групповой журналистики»: журналисты, работающие в разных медиаформатах (телевидение, радио, печатная пресса, Интернет), так или иначе ориентируются на действия коллег при отборе событий как информационных поводов. Это своеобразное проявление феномена «группомыслия», результат которого – неформальное и неосознаваемое единомыслие журналистов при отборе событий.
В-третьих, феноменом «новостной каскад»: элитные масс-медиа в значительной степени определяют медийную повестку дня для менее статусных изданий, которые вынуждены ее придерживаться, чтобы не потерять аудиторию, ожидающую «информационной уместности» и оперативности.
В-четвертых, склонностью журналистов к «со-ориентации»: популярные медиафреймы применительно к конкретному социальному феномену с большой вероятностью будут использованы и другими массмедиа. Эти взаимные отсылки и взаимные подтверждения формируют общие когнитивно-ценностные ориентиры, что активирует феномен «спираль умолчания»: граждане оценивают единодушие в медиасфере как позицию уже сложившегося большинства и воздерживаются от публичного высказывания других мнений, чтобы не оказаться в меньшинстве. В результате из публичного дискурса вытесняются альтернативные мнения, что приводит к формированию реальной группы большинства.
В-пятых, вышеперечисленные феномены в совокупности часто порождают в медиасфере «новостную волну», которая подталкивает журналистов к развитию уже популярных медиа-топиков и медиасюжетов за счет поиска только тех сведений, которые подтверждает их значимость и достоверность. «Спираль умолчания» продолжает закручиваться, уменьшая вероятность появления других медиафреймов и других медиа-историй, вычеркивая инакомыслящих из медиадискурса (феномен «символическое упразднение»). Например, журналисты освещают только те протестные действия, которые не противоречат медийной повестке дня. В лучшем случае действия и адвокатские истории инакомыслящих представляются в медиа-историях как тривиальные, маргинальные или вообще незаконные. В результате они вынуждены прибегнуть к «контрспину аутсайдера», чрезмерно драматизируя свои действия для привлечения внимания массмедиа, что часто затмевает социальную и политическую сущность их коллективных претензий.
Не существует одного единственного или самого верного способа публичного представления любого социального феномена. Большинство медиа-историй субъективны, поскольку являются скрытыми или явными оценками социальных феноменов в зависимости от осознанных или неосознаваемых интересов и намерений как минимум журналистов как авторов, поэтому акторы не могут рассчитывать на «объективное» (с их точки зрения) истолкование в медиасфере их собственных действий. Поскольку большинство индивидов не знают о том, что участники и наблюдатели по-разному воспринимают конкретные ситуации, то они склонны обвинять журналистов в пристрастном освещении, или в несправедливой критике.
Пристрастность массмедиа проявляется в выборе постоянных источников информации: преимущественное право доступа на редакционные площади или в редакционный эфир получают источники с высоким уровнем легитимности, которая измеряется пятью индексами:
– «законность» – адекватность целей и действий актора социальным нормам (тем не менее, группы меньшинств могут нарастить легитимность за счет создания информационных альянсов с другими группами);
– «позитивность» – положительная эмоциональная оценка актора со стороны журналиста (например, личная симпатия);
– «жизнеспособность» – объем финансовых ресурсов, опыта, компетенции, политического влияния, а также количество сторонников актора;
– «стабильность» – групповая сплоченность, стратегическая последовательность и коммуникативная активность актора и его сторонников;
– «кредитность» – подтверженная перепроверками и опытом взаимодействия достоверность адвокатских историй актора.
Более легитимные источники вынуждают журналистов приспосабливаться к собственным бюрократическим структурам, процедурам и организационным ритмам. В свою очередь частое упоминание источника информации в медиасфере усиливает его влияние на журналистов, способствует его превращению в ньюсмейкера и, в частности, увеличивает вероятность прямого цитирования, а не произвольного истолкования его сообщений.
Пристрастные медиа-истории теряют убедительность по мере расширения доступа граждан к альтернативным мнениям: серия пристрастных новостей одних массмедиа частично нейтрализуется пристрастными медиа-историями в других масс-медиа и социальных сетях.
О намеренной предвзятости конкретного массмедиа можно говорить лишь в тех случаях, когда в выпусках новостей постоянно выявляются отчетливые схемы тождественной интерпретации любых действий одних и тех же социальных субъектов. Эта пристрастность либо помогает им доминировать в публичном дискурсе над другими акторами, либо, наоборот, создает помехи. Впрочем, когда журналисты получают от актора бесплатные услуги (оплата дорожных расходов для прибытия на место важных событий или участие в увеселительной прогулке под предлогом «погружения в тему»), со стороны аудитории было бы наивным ожидать беспристрастную медиа-историю (феномен «халявная журналистика»).
Вопросы и задания
– Перечислите и охарактеризуйте факторы пристрастности массмедиа.
– Каким образом можно оценить коммерциализированность конкретного массмедиа?
– Объясните и приведите примеры феномена новостной волны.
– Назовите качества легитимного источника.
– Назовите факторы, которые ослабляют объективность масс-медиа.
Глава 8 Сопряжение и рекреатизация в публичной сфере
«В глазах политиков медиасистема третьего тысячелетия принимает угрожающие размеры зверя с головой гидры, многочисленные рты которого постоянно и шумно требуют, чтобы их накормили… Журналистское «пищевое бешенство» становится неистовым. Время для политической и журналистской рефлексии и оценки ужалось» [Blumler, Kavanagh 1999: 213].
«Публичная сфера стала скорее ареной для рекламы, чем для рациональных/критических дебатов. Законодатели ставят спектакли для избирателей. Организации с особыми интересами используют паблисити для усиления престижности собственных позиций, игнорируя темы настоящих дебатов. Массовая коммуникация используется как повод, чтобы дать потребителям возможность солидаризироваться с публичными позициями или имиджами других. Все это равносильно возвращению версии репрезентативной публичности, на которую общественность реагирует скорее шумным одобрением или отказом одобрять, чем критическим дискурсом» [Calhoun 1992: 7].
Важнейший продукт социальных взаимодействий – социальные институты как устойчивые во времени, но эластичные к предпочтениям социальных субъектов и типичным обстоятельствам собрания взаимосвязанных формальных и неформальных норм, процедур и практик, которые посредством контроля и принуждения предписывают социальным субъектам должное поведение и уместные стратегии коммуникации в конкретных сферах деятельности. Институты определяют должное и возможное действие, поскольку содержат не только формальные правила и процедуры, но и системы символов, социокультурные сценарии и моральные образцы, которые формируют когнитивно-оценочные и аффективные системы координат для интерпретаций и действий. Регулятивные, нормативные и культурно-когнитивные компоненты института задают «логику правомерности»: они подтверждают или опровергают правомерность действий акторов применением или отсутствием юридических санкций, моральным одобрением или осуждением, культурным резонансом или диссонансом.
Институциональные логики – это коллективно конструируемые, исторические сценарии социальных практик, культурные символы, неявные допущения, ценности и убеждения, посредством которых акторы осмысливают повседневную деятельность, организуют пространство-время и воспроизводят свое существование. Как формальные и неформальные правила для надлежащего и одновременно успешного поведения они воспроизводятся в конкуренции акторов за влияние, власть и социальный статус.
Акторы, вовлеченные в кооперацию по созданию конечного продукта, чаще и с большими обоюдными последствиями взаимодействуют друг с другом, вырабатывают общую систему смыслов и со временем формируют «организационное поле», которое упорядочивается «полевой логикой», состоящей из материальных практик и символических артефактов, которые диктуют акторам должные цели (высшие ценности) и правомерные способы их достижения (нормы). Например, организационное поле «автомобилестроение» состоит из автопроизводителей, их ключевых поставщиков, главных инвесторов, основных потребителей, специализированных страховых кампаний, конкретных органов правового регулирования и т. п.
Акторы следуют полевой и институциональной логикам, чтобы приобрести легитимность, ресурсы, стабильность, устойчивость и перспективы выживания. Например, автопроизводители конкурируют друг с другом за ресурсы внутри организационного поля «автомобилестроение», а также с акторами из других организационных полей, входящих в институт «производство».
Различают три вида «структурного изоморфизма» как адаптации актора к требованиям полевой и институциональной логик: нормативный изоморфизм как усвоение актором полевых или институциональных ценностей, норм и стандартов; подражательный изоморфизм как адаптация актора к поведению успешных акторов в организационном поле или в институциональном контексте; принудительный изоморфизм как результат давления на актора в организационном поле или в институциональном контексте.
Полевые и институциональные логики изменяются в конкуренции и кооперации публичных антрепренеров, которые стремятся встроить собственные ценности и нормы конкретных акторов в полевую и институциональную логики. Например, автопроизводители формируют общественные представления о «желательных автомобилях» и влияют на юридические стандарты удовлетворительных автомобилей, чтобы облегчить собственную ответственность и повысить уровень продаж. Публичные антрепренеры разрабатывают и реализуют в публичном дискурсе проекты институционализации конкретных наборов ценностей и правил, мобилизуя других заинтересованных акторов посредством фрейминга, метафоризации, риторики и стори-теллинга. Намеренное или неосознанное согласование акторами институциональных логик (феномен «сопряжение институтов») порождает «гибридные организационные поля». Например, параллельная ориентация политиков на медийную повестку и медиалогику, а журналистов – на институциональную повестку и политическую логику ведет к разрастанию и укреплению политических медиарилейшнз (медиаполитического поля).
Направление и сила вектора сопряжения журналистики и политики описываются в диапазоне от абсолютной независимости массмедиа до их полной подчиненности политической власти.
Согласно концепции «сторожевые псы», журналисты скептически наблюдают за действиями власти, защищая граждан от дезинформации и одновременно подталкивая власть к публичной подотчетности. По менее жесткому стандарту «охранной сигнализации», массмедиа побуждают рядовых граждан к действию только тогда, когда спорные вопросы из медийной повестки дня совпадают с вопросами из публичной повестки. Социально активные граждане сами непрерывно наблюдают за политической сферой, чтобы вовремя обнаружить главные угрозы для своих сообществ (модель «наблюдающие граждане»). На первом этапе они «пробуждаются» медиа-историями с референтными фигурами, далее в роли доверенных лиц через массмедиа формулируют и передают своих заботы и рекомендации менее внимательным и активным гражданам, что помогает последним публично выражать уже готовые «здравые мнения». Таким образом, масс-медиа действуют как посреднический политический институт, родственный партийной системе и системе групп интересов («медиадемократия»). При этом журналисты акцентируют внимание на эгоизме политиков и раскручивают «спираль цинизма», что в конечном итоге отталкивает граждан от активного политического участия и приводит к падению общественного доверия к политикам.
В соответствие с «теорией индексации», причастные к масс-медиа профессионалы, от членов совета директоров до рядовых корреспондентов, производят своеобразную калибровку событий, ориентируясь на диапазон мнений, высказанных в публичных дебатах по данной теме. Проще говоря, частота и длительность упоминания, интерпретация и оценка значимости события в медиа-историях, а также отбор героев и комментаторов зависят от расстановки позиций и диапазона мнений влиятельных властных акторов. Эта концепция перекликается с концепцией «сеть новостей», согласно которой журналисты настраиваются на ожидания, высказывания и поведение элиты, рассчитывая получить статус политических акторов.
Согласно модели «караульная собака», массмедиа концентрируются на поддержании порядка и защите политической системы, освещая социальные феномены с точки зрения интересов власти. В такого рода «пиар-демократии» социальная реальность конструируется преимущественно полититехнологами и спин-докторами на службе у политиков. Несмотря на то, что многие чиновники и депутаты знакомы с механизмами производства новостей, контактируют с журналистами и скептически оценивают объективность массмедиа, они иногда сами попадают в ловушку, ориентируясь при принятии решений на сформированные при их же активном участии медиа-истории, а не на «индикаторы реальности» и оценки экспертов.
В «модели пропаганды» полностью отрицается автономность поля журналистики: массмедиа встроены в институты собственности и власти, действуют в унисон и способствуют укреплению их господства. Солидарность массмедиа, правительства и корпораций скрепляется общими соображениями экономической эффективности, политической целесообразности и социокультурного единогласия. Журналисты время от времени атакуют отдельных политических акторов, но акцентируют внимание на личных недостатках, а не на системных изъянах. Они используют преимущественно «эпизодические медиафреймы», т. е. предпочитают увлекательные медиа-истории, а не обстоятельные обзоры. Массмедиа критикуют правительство только при конфликте элит и только в такой ситуации могут повлиять на политический курс. На оркестрованные политические спектакли журналисты часто реагируют всего лишь язвительными нападками на политиков, а не критическим анализом их деятельности, который подталкивал бы граждан к публичной делиберации по поводу неотложных социальных проблем.
Власти и собственники не нуждаются в том, чтобы постоянно и назойливо контролировать медиаконтент или вводить жесткую цензуру с карательными санкциями: достаточно назначать на должность редакторов своих идеологических единомышленников, которые будут искренне отстаивать «правильные позиции». Соответственно, мнения государственных и корпоративных спикеров и экспертов часто принимаются редакциями без тщательной проверки и достоверного документального подтверждения. Редакторы чувствуют себя обязанными размещать малодостоверные истории и беззубую критику, чтобы не испортить отношения с властью и корпорациями. В результате идеологические догмы свободно «проскальзывают» в сознание аудитории без критического обсуждения: легитимность власти и корпораций как источников информации позволяет через медиадискурс встраивать в публичный дискурс выигрышные смыслы, которые подтверждают, легитимируют и продвигают их интересы. Господствующая в политической сфере и усвоенная журналистами дихотомия «свой – чужой» порождает кардинальные различия при описании действий своей власти (и ее союзников) и «чужих». Таким образом, «модель пропаганды» объясняет результативность «контроля мыслей» в демократиях тем, что идеологическая индоктринация сочетается с формированием впечатления о свободе слова и свободе прессы.
Поскольку популярные медиафреймы во многом определяют координаты допустимой публичной политики, политики вынуждены в коммуникативном дискурсе приспосабливать как минимум свою риторику под медиалогику. Расхождение институциональной повестки с медийной повесткой или жесткая критика в массмедиа иногда подталкивают политиков к поспешным действиям или к отказу от эффективной (согласно «индикаторам реальности») политической программы из-за возможной отрицательной реакции со стороны журналистов (эффект «политического отсечения»). К сходным последствиям приводят чрезмерная подстройка к публичной повестке или потакание общественному мнению. В результате власть часто предпочитает скорее тактические и символические действия, перспективные с точки зрения благоприятного освещения в массмедиа или позитивной реакции граждан, чем стратегические и сущностные решения, которые могут быть восприняты журналистами и гражданами негативно. Иначе говоря, политик больше озабочен возможным репутационным уроном от своих действий, чем заинтересован в потенциальном репутационном выигрыше («теория перспективы»).
Усиление сопряжения журналистики и политики лишает рядового гражданина шансов стать полноправным участником публичной делиберации о социальных проблемах и принять активное участие в формировании публичной повестки дня. Гражданам приходится выбирать темы для обсуждения из медийной повестки, составленной журналистами, которые осознанно или неосознанно согласовали ее с политиками и корпорациями. Чтобы ослабить уязвимость к манипуляциям, гражданам следует выработать «скептический рефлекс», который позволил бы опознавать в медиасфере ложь, но подобная «интеллектуальная самооборона» предполагает готовность непредвзято оценивать «факты», проверять на истинность неявные допущения и отслеживать аргументацию.
Политики зависят от сотрудничества с агентами из «поля пиара» (политтехнологами, имиджмейкерами, пиар-консультантами, спичрайтерами, спин-докторами) и все реже вступают в прямые и спонтанные контакты с массмедиа, прибегая к инструментально-коммуникативным технологиям «спин-контроля» («спин-докторинга», «спина») как ситуативным манипулятивным воздействиям на журналистов.
«Спин-доктор» формирует группу «избранных журналистов», которые не только получают облегченный доступ к тщательно отобранным спикерам, но и периодически поощряются «эксклюзивной информацией», в том числе в режимах «не под запись» и «утечка информации». Спикеры поддерживают с членами группы «дружеские отношения», подкрепляемые общими переживаниями в совместных поездках на места катастроф и стихийных бедствий. У журналистов как членов группы складывается ощущение своей гениальности и исключительности. В результате журналисты и политики неосознанно симпатизируют друг другу и взаимодействуют по сценарию «ты мне – я тебе» (причем без явного нарушения журналистской корпоративной этики), что гарантирует одобрительные (как минимум «объективные») политические медиа-истории.
С одной стороны, спин-доктора существенно снижают трудозатраты журналистов на поиск и анализ сведений, поскольку обеспечивают устойчивый приток в массмедиа адаптированных к медиаформату «информационных субсидий». С другой – они усиливают зависимость журналистов от организации (в частности, органа власти), поскольку фильтруют состав спикеров (должностных лиц с правом комментирования деятельности организации), контролируют время, место и способы коммуникации политиков с журналистами. По сути дела, спин-доктора предвидят действия редакторов и фактически управляют поведением журналистов как рассказчиков медиа-историй. Чем сильнее эта «производственная зависимость», тем сильнее контроль власти над массмедиа (феномен «коалиционная журналистика»).
Уязвимость журналистов к спин-контролю усиливается их желанием казаться инсайдерами, у которых есть доступ к «первым лицам», в том числе и экспертам на заднем плане, которые по контрасту с официальными заявлениями знают «правдивую версию». Более того, журналисты увлекаются подробным описанием роли, которую они якобы играют в политической сфере, а также анализом используемых политиками коммуникативных технологий (феномен «мета-освещение»).
Распространение спин-контроля ускоряет «пиаризацию журналистики» как оккупацию медиасферы пиарщиками, способствует угасанию «расследовательской журналистики» и расцвету «чурналистики» (англ. choumalism) как склонности редакторов размещать пресс-релизы и адвокатские истории в (почти) первоначальной форме на редакционных площадях или в редакционном эфире под видом «автономных журналистских публикаций». Одновременно спин-контроль подстегивает «политику избегания вины», т. е. уход политиков от решения сложных социальных проблем и сведение коммуникативного политического дискурса к развлечению и отвлечению.
Сопряжение институтов обнаруживается не только в политизации массмедиа и медиатизации политики, но и в «рекреатизации» журналистики и политики как адаптации к «логике популярной культуры» (в частности, к «логике шоу-бизнеса»).
До недавнего времени идеальным медиаформатом считались «жесткие новости» как «беспристрастные описания» социальной реальности, которые гарантируют гражданам «информированный выбор». Однако практика нарративизации ведет к заполнению медиасферы «мягкими новостями», в которых преобладает сенсационность, драматичность, эмоциональность, моральные суждения и которые вызывают простой человеческий интерес, привлекают аудиторию, ищущую скорее развлечений, а не объяснения причинно-следственных связей. Подобного рода «дешевый фрейминг» позволяет аполитичным аудиториям экономить на когнитивных усилиях и одновременно освобождает их как граждан от личной ответственности за социальные неурядицы.
Программные области медиаконтента – новости, реклама и развлечения – должны специфически маркироваться, но масс-медиа все чаще вместо проверенных сведений, глубокого анализа, серьезной дискуссии и репортажа с места события выдают в эфир развлечения. Другими словами, журналистика сопрягается с шоу-бизнесом: новости и развлечения становятся частями единого зрелища, сцементированного рекламой. Развлекательный характер художественных и документальных фильмов, рекламных роликов, комиксов и даже выпусков новостей еще больше размывает границы между сведениями и развлечением, вымыслом и реальностью. Такого рода «медиафикции» в буквальном смысле конструируют людей, места, события и диалоги, но в то же время они имеют много общего с «мягкими новостями»: например, ситкомы тоже акцентируются на «человеческих историях», игнорируют социальные проблемы, драматичны и сенсационны.
Любой вымысел содержит два вида сведений. Первые относятся только к истории, связность и логичность которой оценивается как «нарративный воспринятый реализм». Правдоподобность вторых оценивается как «внешний воспринятый реализм», который как бы отражает «объективную реальность». Хотя зрители смотрят вымышленную историю прежде всего для развлечения, они все же узнают нечто и о реальном мире. Следовательно, медиафикции (а не только «жесткие» и «мягкие» новости) влияют на восприятие и оценку социальных феноменов, чем объясняется все более активное участие акторов в каких угодно ток-шоу.
Компоненты медиаконтента образуют континуум на оси «факт – вымысел» (если под «фактом» понимать событие, реальность которого признают, по меньшей мере, несколько наблюдателей):
1) репортаж журналиста-наблюдателя с места событий в реальном времени;
2) репортаж журналиста-участника с места событий в реальном времени;
3) медиа-история спустя некоторое время после события;
4) медиа-история с использованием «фактов» и «вымысла» («факциональная журналистика»);
5) «пиар-журналистика» как пристрастные в пользу конкретных акторов интерпретации спонтанных или инсценированных событий;
6) документальная и/или художественная реконструкция событий (докудрама);
7) инсценированные развлекательные истории о событиях (ток-шоу);
8) рекламные ролики и сюжеты с «продакт плейсмент»;
9) развлекательные передачи без обсуждения актуальных событий.
Рекреатизация не только увеличивает долю «мягких новостей» и медиафикций в медиаконтенте, но и преобразует медиалогику: домыслы используются как новости, неподтвержденные сведения как «факт», слухи как доказательство, медиа-истории создаются на основе единственного источника. Поскольку «рекреатизация новостей» повышает «монетизацию новостей» (т. е. тенденцию небезвозмездно размещать пиар-сообщения в выпусках новостей), то журналистика постепенно становится одной из форм «трансмедийного сторителлинга» как коммерчески выгодного рассказывания развлекательных историй с использованием нескольких платформ (книга, фильм, вебсайт, игра, фанфикс).
Рекреатизация массмедиа ускоряет рекреатизацию (прежде всего, публичной) политики. Например, формат «реалити ньюс» благоприятствует инсценировке и режиссированию политиками сложных для понимания политических конфликтов в виде эмоциональных межличностных столкновений, стороны которых оцениваются аудиторией подобно персонажам теледрам, т. е. практически независимо от «фактов и свидетельств». Политика в целом переживается гражданами через эмоциональные адвокатские истории и медиа-истории с популярными сценариями, актерами и бутафорией. Популярная культура и шоу-бизнес все больше влияют на публичную политику. Кстати, отвержение гражданами некоторых политических курсов частично объясняется неумением конкретных политиков подстраиваться к «логике популярной культуры».
Степень развлекательности символической акции или истории напрямую связана с ее эмоциональностью. Эмоции не только выражают чувства, но и постоянно влияют на восприятие, оценку и умозаключения, облегчая решение некоторых проблем: сила доводов в некотором смысле пропорциональна силе чувств, которые они возбуждают. Компетентные политики не устраняют эмоции из публичного дискурса (как этого требуют некоторые сторонники делиберативной демократии), а наоборот стремятся удовлетворять эмоциональные потребности граждан, поскольку холодная рациональность в когнитивном плане ничуть не эффективнее горячей дискуссии.
В публичном дискурсе эмоции помогают акторам устанавливать контакт с аудиторией. Например, хотя граждане серьезно относятся к экономическим проблемам, они выбирают прежде всего тех политиков, которые искренне защищают свои идеи, вызывают эмоциональный отклик, умело используют риторические приемы, включая сатиру, иронию и осмеяние.
Наименее осведомленные в политике индивиды не имеют никаких политических убеждений, не нуждаются в сведениях о политике, поэтому «жесткие новости», которые требуют значительных умственных усилий, никак не могут на них повлиять.
Осведомленные индивиды наоборот располагают устойчивыми политическими убеждениями, поэтому выборочно принимают только обоснованные и соответствующие их ценностям «жесткие новости». Добавим, что неизвестно, сколько и какой информации достаточно индивидам для принятия рациональных политических решений.
Сущностные сведения о политике, встроенные в «мягкие новости», усваиваются аудиторией «прицепом», так сказать «на закорках» собственно развлекательного содержания: ток-шоу косвенно влияют на выбор, по крайней мере, аполитичных избирателей («эффект Опры»). Рост доли «мягких новостей» открывает политикам новые возможности для коммуникаций с аполитичными гражданами, увеличения числа и объема групп поддержки и укрепления собственных лидерских позиций.
Фикциональный фрейминг, основанный на рекреатизации, тесно связан с нарративным фреймингом и визуальной риторикой как множеством символических акций с помощью визуальных средств, которые помогают осмысливать социальные феномены в социокультурном контексте (марши, митинги, демонстрации, гражданские акции, «уличный театр», настенные росписи, плакаты, карикатуры, медиасобытия, рекламные трюки). Символические акции, в основе которых лежат минимальные сущностные действия, подкрепляют, оспаривают или переформатируют распространенные допущения и ценности, влияют на коллективное поведение и преумножают «имиджевые кредиты». В частности, публичное и эмоциональное принятие политиком ответственности на себя становится политическим ритуалом, который может эффективно блокировать общественное расследование моральной ответственности всех вовлеченных в политическое фиаско должностных лиц.
Публичный дискурс все чаще используется для рекламы и пиара, чем для рациональных и аргументированных дискуссий: политики инсценируют спектакли для граждан, а корпорации продвигают собственные цели. Даже «театральная публичность» как форма непосредственной коммуникации замещается медиатизированными ритуалами, неотличимыми от голливудских зрелищ.
Итак, сопряжение журналистики и политики осуществляется в форме политизации массмедиа и медиатизации политики, которые ускоряют формирование гибридного медиаполитического поля. Подстройка политической логики и медиалогики к логике популярной культуры приводит к рекреатизации журналистики и политики, что неизбежно сказывается как на сущности, так и на способах реализации коммуникационного менеджмента власти.
Вопросы и задания
– Объясните сущность и функции институциональной логики.
– Сравните попарно концепции взаимоотношений журналистов и политиков.
– Приведите примеры адаптации публичной политики к медиалогике.
– Приведите и проанализируйте примеры рекреатизации политики.
– Назовите позитивные и негативные последствия рекреатизации политики.
Глава 9 Политический сторителлинг и символические акции
«Когда политические акторы формулируют политический нарратив, они пытаются добиться того, чтобы аудитория (граждане, массмедиа, политики и политические партии, адвокаты спорных вопросов или принимающие решения лица) подтвердила предпочтительный для них политический рецепт» [Boswell 2010].
В поле медиарилейшнз органы власти используют юридическое и экономическое принуждение, а также свои возможности как легитимных источников информации, чтобы влиять на публичное определение проблем и формирование медийной повестки дня. «Менеджмент новостей» как собственно коммуникативный аспект медиарилейшнз – это активное участие власти в дискурсивном производстве новостей и медиаконтента в целом за счет предъявления журналистам и блогерам адвокатских историй (в том числе, в форме перформансов). Результативность менеджмента новостей измеряется тем, в какой степени медиадискурс об актуальных проблемах по своим когнитивным, оценочным и аффективным параметрам соответствует интересам актора, а именно, медийная повестка дня – декларируемой повестке, медиафреймы – адвокатским фреймам, медиа-истории – адвокатским историям. Успешные дискурсивные интервенции в медиасферу укрепляют легитимность власти, что в свою очередь увеличивает ресурсы, необходимые для менеджмента новостей (феномен «кумулятивное неравенство»).
Для определения и включения спорных вопросов в институциональную, публичную или медийную повестку помимо риторических приемов акторы (в том числе и органы власти) все чаще используют технологии сторителлинга, т. е. конструирования и трансляции стейкхолдерам адвокатских историй для достижения конкретных целей.
История – это семиотическая интерпретация расставленных в причинно-временной последовательности реальных или выдуманных происшествий с участием разумных и чувствующих субъектов, смысл действий которых определяется целостной конфигурацией и единым значением. Истории порождают более яркие и устойчивые представления в памяти, чем абстрактные отчеты вроде риторических или объяснительных текстов, поскольку соответствуют человеческой склонности организовывать сведения в нарративном формате.
История – это форма осмысления социальной реальности посредством соединения вроде бы независимых и разрозненных фрагментов в соотнесенные друг с другом части целого. Истории конструируются и рассказываются для того, чтобы манипулировать аудиторией: развлекать, производить впечатление, предупреждать, запугивать, морализировать, убеждать, информировать, объяснять, возбуждать симпатию, вселять надежду.
История устанавливает, упорядочивает и осмысливает причинно-следственные связи событий в виде сюжета и без прямой отсылки к «объективным», внешним по отношению к «миру истории» факторам. Такая «утилитарная история» состоит из сети ограничивающих друг друга центральных и поддерживающих фреймов. Первые выражают главные доводы автора, а вторые обеспечивают истории «связность», хотя часто не имеют отношения к подразумеваемым выводам. Соответственно, для активации в памяти уже усвоенной утилитарной истории необязательно предъявлять ее адресату полностью: достаточно упомянуть ключевые лексемы, метафоры и образы, которые выражают центральный фрейм.
В нарративном фрейминге популярная инвентарная история (от слухов и телерекламы до романов и священных текстов, от сказок до реальных жизненных повествований) проецируется на конкретное событие и порождает выгодное для актора / автора представление. Подобно метафоризации, нарративизация позволяет понимание одного социального феномена спроецировать на менее четкий феномен. Иначе говоря, нарративизация – это разновидность концептуальной интеграции, которая нормализует социальную реальность за счет картирования на «обескураживающие события», например, мифов как правдоподобных для членов социокультурной группы сценариев.
Мифы как «миротворящие истории» претендуют на истину в последней инстанции, содержат побуждения к должным действиям и запреты неприемлемых действий. «Рациональные мифы», легитимирующие институты и организации, обладают иммунитетом к опровергающим «фактам и свидетельствам», поскольку индивиды экономят когнитивные усилия, необходимые для проверки на истинность, предпочитая принимать на веру вроде бы достоверные и эмоциональные истории. Следовательно, запоминаемые, вспоминаемые и достойные пересказа истории необязательно должны соответствовать «фактам». Более того, даже очевидно недостоверные сведения индивиды склонны использовать для понимания конкретного события в том случае, если еще не располагают никакими другими объяснениями (эффект «продолженного влияния»). В результате истории об одном и том же событии конкурируют не за статус более истинных или логически более убедительных, а за статус более достоверных с точки зрения разных адресатов, поскольку необязаны подтверждать обоснованность содержащихся в них сведений. Правдоподобную историю невозможно опровергнуть, поскольку внутри нее рациональные и иррациональные аргументы неразличимы, а «факты и свидетельства» выбраны и сплетены в сюжет по произволу автора / актора.
Сами акторы не поддаются «лучшим аргументам», а рядовые граждане эмоционально привязаны к правдоподобным интерпретациям, которые формируются правдоподобными историями. Истории соединяют несопоставимые с точки зрения «объективных экспертов» эпизоды в значимое целое без швов, поэтому их приемлемость оценивается тем, насколько они внутренне последовательны и эмоциональны, а не соответствием «объективной истине».
Сторителлинг как рассказывание историй все чаще применяется в пиаре, маркетинге, рекламе, судопроизводстве, психотерапии и других социальных практиках. Помимо специфических качеств автора / источника / рассказчика (авторитарность, авторитетность, известность, искренность, компетентность, надежность, объективность, привлекательность, «семиотическое мастерство», статус, сходство, точность) эффективность сторителлинга определяется следующими качествами:
– «рассказываемость истории» как отклонение ее сюжета от инвентарных историй как канонических интерпретаций сходных событий;
– «связность истории» как оценка непротиворечивости действий, состояний и качеств персонажей;
– «жанровая адекватность» как формальное соответствие истории жанровым канонам;
– «верность истории» как соответствие ценностям инвентарных историй;
– «увлекательность истории» как сюжетная непредсказуемость;
– «эмоциональность истории» как способность активировать сильные эмоции.
В совокупности все эти качества могут активировать феномен «транспортации»: насыщенная эмоциями и образами история фокусирует внимание и когнитивные усилия адресатов на автономном «мире истории», который переживается индивидом как личный опыт в реальном мире. Это когнитивно-аффективное состояние «транспортации» представляет собой специфическое проявление феномена «телеприсутствие», когда индивид совершает «ментальное путешествие» из сенсомоторного «реального мира» в воображаемый «мир истории» и воспринимает «факты истории» как «факты реальности», испытывает эмоции, неотличимые от эмоциональных реакций в «реальном мире», и некритично усваивает даже те идеи «мира истории», которые противоречат его убеждениям (феномен «отказ от недоверия»). Таким образом, изменение интерпретаций социальных феноменов посредством сторителлинга происходит не благодаря рациональным и логическим доводам, а в результате переживания «мира истории» и неосознанного усвоения поведенческих норм и ценностей ее персонажей.
Транспортация усиливается за счет включения в основное повествование мнений референтных фигур («экспозиция оценок»), ярких примеров («экземплификация»), эмоциональных микро-историй («встроенных нарративов») и «отчетов очевидцев».
Истории воплощаются не только в повествованиях о событиях (в диегетической форме), но и в таких «символических акциях» (в миметической форме) как рекламные трюки, псевдособытия, медиасобытия, перформансы. В частности, «ритуалы доверия» демонстрируют коллективную приверженность членов организации идеалам социальной ответственности. Влияние символической акции на соучастников и наблюдателей зависит от ее эмоциональности, реалистичности, самоочевидности и спонтанности.
Символические акции конкурируют с «фокусирующими событиями» как неожиданными и редкими происшествиями, которые наносят немедленный ущерб (или сигнализируют о возможности существенного ущерба в будущем) стейкхолдерам. Граждане и массмедиа узнают о «фокусирующем событии» практически одновременно с заинтересованными акторами, что сокращает возможности акторов первыми представить и навязать гражданам и журналистам адвокатскую историю. Неожиданная активизация групп интересов, политической оппозиции, политических антрепренеров, новостных массмедиа, девиантных и зависимых групп может привести к новым негативным последствиям. В результате акторы вынуждены определять проблемы в условиях, крайне неблагоприятных для принятия взвешенных решений.
«Фокусирующие события» используются публичными антрепренерами для драматизации собственных претензий в форме историй. Некоторые из подобных «событий-триггеров» попадают в поле зрения журналистов, вписываются в устойчивые медиафреймы и «разгоняются» в медиасфере до «политических волн», которые вытесняют «горячие темы» из медийной повестки дня.
Посредством нарративизации акторы отбирают, категорируют, вербализуют и представляют в визуальной форме конкретные социальные феномены и устанавливают между ними (псевдологические) причинно-следственные связи, которые допускают одни и исключают другие выводы. Эти адвокатские истории (или «каузальные истории») подтверждают уместность действий актора в конкретных ситуациях, т. е. их соответствие «логике правомерности» и «логике расчета». Закрепившиеся в публичном дискурсе истории (а тем более получившие статус инвентарных историй) сопротивляются изменению даже при наличии противоречивых данных, измеряемых «индикаторами реальности». Вместе с тем абсолютное и вечное господство любой истории в публичном дискурсе невозможно, поскольку любая социальная группа, сумевшая создать влиятельную «дискурсивную коалицию», может сдвинуть ее на периферию.
Сторителлинг как рассказывание историй активно используется в координативном и коммуникативном политическом дискурсе, где политики и политические антрепренеры навязывают другим участникам предпочтительные когнитивно-оценочные и аффективные координаты восприятия и интерпретации социальных феноменов и предлагаемых решений. Предлагается две дихотомии для классификации политических адвокатских историй: целеустремленные (1) или неуправляемые (2) действия и намеренные (3) и ненамеренные (4) последствия. Соответственно, выделяются четыре типа причин: «автоматизм» (2 + 3), «случайность» (2 + 4), «умысел» (1 + 3) и «промашка» (1 + 4). Политическая история драматизирует политический дискурс, например, «истории упадка» объясняют, как правильная политика может спасти от катастрофы, а «истории контроля» предлагают способы восстановления спокойствия и порядка.
Распространение и внедрение идеологии как системы ценностных координат тоже опирается на сторителлинг, который подтверждает обоснованность конкретных политических принципов, ценностей, убеждений и установок.
Нарративизация и рекреатизация публичной политики с использованием символических акций позволяет акторам подстроиться к ожиданиям и рядовых граждан, и журналистов. Политический перформанс как символическая акция – это последовательность тематически связанных символических действий, осуществляемых по значимому для актора социокультурному сценарию и маскируемых под спонтанное событие. Время и место проведения перформанса, его материальнотехническое обеспечение и презентация выбираются с учетом медиалогики и визуального медиаформата. В идеале наблюдатели перформанса и журналисты воспринимают его не как лицедейство, а как спонтанное событие. Успешные политические перформансы относятся к разряду предумышленных «фокусирующих событий», хотя иногда отличить спонтанные события от перформансов невозможно. Злоупотребление перформансами может создать у рядовых граждан и журналистов впечатление о том, что конкретные политики как персонажи не предпринимают никаких сущностных действий для решения социальных проблем.
Итак, сторителлинг как социальная практика рассказывания или разыгрывания историй все более активно используется в публичной политике, имплицитно формируя ценности, нормы и поведенческие паттерны граждан.
Вопросы и задания
– Приведите примеры сторителлинга в рекламе.
– Приведите пример политической истории.
– Сравните две идеологии как истории.
– Приведите примеры политических перформансов.
– Перечислите позитивные и негативные последствия драматизации публичной политики.
Глава 10 Делиберация и делиберативная демократия
«Большие размеры и сложность современного управления делают невероятным, что большинство граждан смогут когда-либо достичь уровней знания и рациональности, необходимых для делиберативной демократии, даже если они будут лучше информированными, чем в настоящее время» [Somin 2010].
Уровень легитимности власти зависит от того, насколько широкими возможностями располагают граждане для участия в публичном дискурсе по определению и оценке социальных проблем, анализу и отбору их решений, в какой степени публичная повестка дня влияет на институциональную повестку, и, соответственно, на действия органов власти. Граждане охотнее признают решения власти правильными, а их последствия (даже противоречащие их интересам) приемлемыми, если процедуры принятия решений воспринимаются как вразумительные и прозрачные.
Делиберация – это публичное выражение и тщательное коллективное обсуждение обоснованных мнений участников о вариантах решения спорных вопросов на основе согласованных критериев и с намерением прийти к разумному коллективному выбору, с готовностью каждого пересмотреть свои предпочтения при обсуждении высказываний и претензий соучастников. Делиберация нацелена не на открытие «истины» или достижение победы, а на выработку решений, обоснованных и приемлемых для всех ее участников, и одновременно отвечающих интересам затрагиваемых проблемой социальных групп и организаций. Гарантией успешной делиберации является участие граждан с сущностно разными знаниями, опытом и доводами, готовыми принимать во внимание контрдоводы, сомневающимися в своей правоте, но способными к смене позиций, чтобы достичь согласия. Делиберация является одним из факторов легитимности власти, или стратегией дискурсивной легитимации.
Делиберация как повсеместно распространенная и институционализированная социальная практика, повышающая качество определения социальных проблем, выработки политических действий, коррекции политических программ, составляет сущность «делиберативной демократии» (или «дискурсивной демократии») как формы государственного устройства, в которой свободные и равные граждане (или их полномочные представители) обосновывают свои позиции, обмениваясь взаимоприемлемыми и доступными доводами, чтобы принять обязывающие всех граждан решения, обязательные для исполнения в настоящем, но открытые для изменения в будущем. Участники делиберации размышляют об общем благе, выходя за пределы личных интересов, преобразуя и согласуя свои позиции с более общими коллективными потребностями местных сообществ и общества в целом. Делиберативная демократия поощряет информационную открытость, не допускает утаивания информации, обман, ложь, угрозы или обещания. На первый план выдвигаются диалог, а не компромиссные сделки конкурентов; публичное предъявление, взвешивание, принятие или отвержение доводов, а не приватный акт голосования; наконец, восприимчивость власти по отношению к обоснованным пожеланиям граждан, а не к стохастическому мнению большинства.
Процедуры отбора, вовлеченность и результаты участия граждан в конкретной делиберации варьируют от самоизбранного подмножества генеральной выборки до оплачиваемых профессиональных посредников, от зрителя на публичных слушаниях до должностного лица в качестве эксперта, от удовлетворения чувства гражданского долга до формирования особых органов соучастия в государственном и муниципальном управлении. Сначала орган власти предлагает решение социальной проблемы делиберативному органу, который после обсуждения возвращает исправленную версию, далее в решение вносятся поправки, оно снова передается в делиберативный орган и т. д. (модель «многократной делиберации»). Эта «петля обратной связи» неоднократно повторяется, вовлекая в себя другие органы власти и делиберативные группы. В качеств площадок для делиберации используются парламентские слушания, общественные советы, экспертные и гражданские панели, гражданские жюри, политические ток-шоу, дискуссионные интернет-форумы в режиме реального времени.
Охарактеризуем категорические императивы делиберации.
1. Коллективный дух
Участники как уполномоченные представители выражают интересы и ценности своих групп, но при этом стараются изменять свои позиции с учетом новых доводов / контрдоводов и с ориентацией на общее благо. Впрочем, делиберация вполне совместима с открытым предъявлением эгоистических мотивов, поскольку впечатление искренности убедительнее очевидного лицемерия. Участники осознают, что целесообразнее переформулировать свои предложения как взаимополезные, а не выдвигать на первый план частные интересы. Даже участники, которые изначально намеревались навязать свою позицию соучастникам, в коллективном обсуждении на самом деле начинают ориентироваться на «дух коллективности» (феномен «цивилизующая сила лицемерия»). Заметим, что абсолютное тождество провозглашенных участником претензий его подлинным, по мнению соучастников, интересам может ими оцениваться как попытка обмана («парадокс искренности»).
2. Поиск консенсуса
Участники стремятся принять решение на основе общего согласия (но необязательно единодушия) без проведения голосования по правилу большинства, которое используется только в том случае, если эти попытки не увенчаются успехом.
3. Взаимное уважение
Участники проявляют восприимчивость и терпимость к другим мнениям, признают их право выдвигать приемлемые доводы, обоснованно оспаривать свидетельства, формировать повестку дня и вносить согласованные изменения в процедуры обсуждения.
4. Равное участие
Участники независимо от распределения власти, авторитета, когнитивных способностей и коммуникативных навыков располагают одинаковыми возможностями представлять доводы, отвечать на контрдоводы и давать собственные интерпретации обсуждаемого спорного вопроса.
5. Рациональность
Участники предлагают и критически оценивают рациональные логические аргументы.
6. Инклюзивность
Участники представляют интересы как можно большего количества затрагиваемых конкретным спорным вопросом групп, которые определяются и отбираются заранее, что расширяет диапазон уместных дискурсов как основы для плодотворного обсуждения.
7. Публичность
Инициаторы конкретной делиберации заранее сообщают всем заинтересованным гражданам ее тематику и процедуры, а массмедиа обеспечивают доступную площадку для публичного дискурса по поводу спорного вопроса до начала и во время делиберации, тем самым формируя «делиберативный медиаконтент» как собрание конфликтующих мнений и оправданий.
8. Обязательность и изменяемость решений
Участники изначально признают свои обязательства исполнять будущее решение, но если оно принято по правилу большинства, то меньшинство вправе рассчитывать на его пересмотр (или даже на изменение процедур отбора участников и регламента обсуждения), если представит в следующем раунде более весомые доводы / контрдоводы.
9. Внешнее влияние
Результаты обсуждения прямо или косвенно сказываются на немедленном или отсроченном принятии решений даже теми акторами, которые не являются ее непосредственными участниками. Как минимум речь идет об учете выработанных рекомендаций при подготовке и коррекции органами власти политических программ.
Полномасштабной реализации этих требований в социальной практике препятствуют несколько факторов.
– Стремясь к консенсусу, участники делиберации поддаются внутригрупповому конформизму, прекращают поиски новых доводов / контрдоводов и принимают либо крайне рискованные, либо тривиальные решения (эффект «групповой поляризации»).
– Рядовые граждане не имеют достаточно способностей, знаний, навыков и интереса к коллективным обсуждениям сложных социальных проблем. Упорное стремление активных участников к рационально-логическому консенсусу подталкивает некомпетентное и бедное ресурсами меньшинство к безрассудным эмоциональным протестам за рамками делиберации (феномен «демократия инсургентов»). Более того, оценка значимости довода / контрдовода сильнее зависит от частоты его предъявлений, чем от его качества, поэтому наиболее активные участники (особенно искушенные в эмоциональном сторителлинге) добиваются более выгодных для себя решений.
– Увеличение числа участников и расширение диапазона спорных вопросов часто сводит делиберацию к пустой говорильне, в то время как граждане, которые остались вне делиберации оценивают принятые решения как недостаточно легитимные («проблема масштаба»). Другими словами, усиление инклюзивности повышает демократичность делиберции и одновременно ослабляет ее эффективность («дискурсивная дилемма»).
– Публичность делиберации вынуждает участников демонстрировать своим группам принципиальность и даже утаивать информацию, которая могла бы оказаться полезной для достижения компромисса. Вследствие этого принятие сущностных решений все чаще перемещается на неформальные арены и непрозрачные площадки, где акторы скорее совершают сделки, чем обмениваются рациональными аргументами.
Различают шесть вариантов использования делиберации властью.
1. Делиберация как манипуляция: власть создает делиберативные группы с учетом собственных политических интересов и с участием своих представителей, чтобы добиться одобрения гражданами фактически принятой политической программы.
2. Делиберация как информирование: представители власти проводят публичные встречи, чтобы обнародовать программы и ответить на вопросы граждан.
3. Делиберация как консультации: власть организует публичные слушания, чтобы дать гражданам возможность высказать свои мнения и предложения (чаще всего необязательные к исполнению).
4. Делиберация как партнерство: официальные совещательные органы обязывают должностных лиц публично объяснять свои решения и учитывать выработанные рекомендации.
5. Делиберация как делегирование власти: власть создает «окружные ассоциации» с существенными полномочиями по распоряжению землей и имуществом.
6. Делиберация как гражданский контроль: власть содействует формированию «городских собраний», наделенных полномочиями для принятия решений по открытому списку вопросов.
Итак, делиберация может применяться как инструмент легитимации власти в коммуникативном дискурсе в небольших местных сообществах, вряд ли может использоваться в координативном дискурсе для разработки политических программ и должна стать компонентом коммуникационного менеджмента власти как один из инструментов ее легитимации.
Вопросы и задания
– Объясните сущность и качества делиберации.
– Перечислите и охарактеризуйте императивы делиберативной демократии.
– Охарактеризуйте факторы, ограничивающие делиберацию.
– Приведите примеры региональных и местных делиберативных групп.
– Приведите примеры влияния делиберации на политические решения.
Глава 11 Диалоговый пиар и стратегические коммуникации
«Нелепо предполагать, что взаимодействие между, например, компанией «Шелл Ойл» и публикой из неквалифицированных рабочих в развивающейся стране, может быть симметричным просто потому, что это взаимодействие симметрично по форме. Еще более нелепо предполагать обратное, а именно, что взаимодействие между этой рабочей публикой и «Шелл Ойл» может быть симметричным, если рабочие занимают правильную позицию и желают компромисса» [Leitch, Neilson 1997: 19].
Несмотря на существование множества нормативных, описательных и инструментальных подходов к связям с общественностью (и коммуникационному менеджменту), сегодня в научном сообществе и преподавательской практике до сих пор доминирует «модель высшего мастерства» Джеймса Грюнига.
Согласно этой модели, и организация как субъект связей с общественностью, и «публики» как адресаты должны ориентироваться на достижение взаимопонимания, поэтому изменяют свои предпочтения, если таковые препятствуют сотрудничеству. Цель пиара – непрерывный диалог организации и «публик» для установления и развития взаимовыгодных отношений, взаимопонимания и уважения на основе принципа «все выигрывают». Организация стремится к соблюдению баланса своих частных интересов с интересами «публик» и прилагает усилия для того, чтобы действовать этично, исходя из допущения, что индивиды как члены «публик», в сущности, рациональны и искренне стремятся достичь консенсуса. Пиар-диалог, в котором пиарщики выполняют функции медиаторов, организуется в соответствие с нормами этики, поэтому его результаты являются этически приемлемыми, хотя никогда не соответствуют полностью ценностям организации и «публик». Подчеркивается, что речь ни в коем случае не идет об убеждении, которое этически неприемлемо в пиаре как открытом диалоге. В «перспективе сотворчества» организация и «публики» – это равноправные участники отношений, которые для организации превыше ее целей. «Публики» не превращаются в инструменты, но наоборот являются партнерами при принятии решений.
«Диалоговая модель пиара» как развития «двусторонней симметричной модели» зиждется на пяти принципах:
1) «дух взаимного равенства»: организация и «публики» ориентированы на сотрудничество, манипуляции или контроль запрещены;
2) «релевантность и вовлеченность»: организация сообщает «публикам» о затрагивающих и интересующих их вопросах, а «публики» способны и желают четко определять и предъявлять свои требования к организации;
3) «эмпатия»: организация и «публики» доверяют друг другу, выслушивают друг друга без предубеждений, споров и поспешных опровержений;
4) «осознание риска»: организация и «публики» осознают, что уязвимы к манипуляции, заранее принимают уникальность и индивидуальность друг друга;
5) «приверженность»: организация и «публики» проявляют честность и прямоту, качество взаимоотношений для них выше собственной выгоды, они стремятся понять ценности, убеждения и позиции друг друга.
В 2011 г. Джеймс Грюниг предъявил обновленный вариант модели под названием «парадигма стратегического менеджмента», ужесточающей требования к пиарщикам, которые должны не только активно участвовать в принятии организационных стратегических решений, но и гарантировать участие членов «публик» с правом голоса.
Веря в рациональность «публик», Джеймс Грюниг и его сторонники возлагают на организацию как субъект пиара жесткие обязательства:
1) «доступ»: члены «публики» получают доступ к пиарщикам, а высшие управленцы организации обеспечивают членам «публики» доступ к процессам принятия организационных решений;
2) «открытость»: и организация, и члены «публик» открыты и откровенны друг с другом, хотят делиться своими мыслями, заботами и проблемами, а также своей удовлетворенностью или неудовлетворенностью друг другом;
3) «уверения в обоснованности»: каждая сторона считает интересы другой стороны обоснованными и демонстрирует свою приверженность поддерживать взаимовыгодные отношения;
4) «работа в сетях»: организация создает сети или коалиции с теми же социальными группами, что и ее «публики»;
5) «распределение задач»: организация и «публики» распределяют между собой общие задачи для разрешения взаимосвязанных или изолированных проблем;
6) «интегральные стратегии разрешения конфликтов»: организация и «публики» приобретают искомую выгоду благодаря поиску общих или взаимодополняющих интересов, стремлению к решению проблем в диалоге и к совместному принятию решений.
Речь идет о высокой «социальной ответственности» организации перед «публиками», которая имеет три аспекта: предпринимать морально оправданные действия, а не руководствоваться эгоистическими мотивами; проявлять честность и уважение к «публикам»; действовать справедливо при распределении выгод и бремени «совместного проживания» в демократии. Убеждение в этой системе координат этично, только если проходит строгий «тест TARES»: «правдивость сообщений», «искренность убеждающего субъекта», «уважение к убеждаемому субъекту», «беспристрастность убеждающего призыва», «социальная ответственность убеждающего субъекта».
Члены группы «радикального пиара» характеризуют «модель высшего мастерства» как попытку совмещения реальных стратегических приоритетов инструментальной эффективности с идеалистическими принципами этической коммуникации по Юргену Хабермасу.
В основе «модели высшего мастерства» лежат как минимум семь неявных допущений:
1. Рациональность и этичность: организация и «публики» действуют преимущественно рационально и этично, воздерживаясь от риторики. Если организации удалось убедить «публику» изменить предпочтения, не меняя собственных предпочтений, то, следуя логике Джеймса Грюнига, «публика» совершила невыгодную сделку, а организация либо применила обман или хитрость, либо принудила «публику» к сделке с помощью угроз. Если убеждение понимать как способ подталкивания «публики» к невыгодной сделке, то оно и в самом деле равносильно манипуляции и влечет за собой нарушение этических принципов. Но как быть с публичными социальными кампаниями, которые убеждают «публику», например, во вреде курения или пользе гимнастики? Добавим, что феномен «мягкой рациональности» опровергает постулат о повсеместной рациональности социальных субъектов.
2. Ресурсное равенство: организация и «публики» имеют одинаковый доступ к ресурсам, но на самом деле граждане существенно отличаются друг от друга по богатству, доходу, статусу, навыкам, знаниям, информированности, возможностям социального контроля и доступа к влиятельным акторам.
3. Примат консенсуса: организация и «публики» всегда ориентированы на взаимопонимание. Если консенсус и социальная гармония – это высшая цель пиара, то организации и «публики» могут скрывать информацию, которая ему препятствуют, или наоборот поставлять только ту информацию, которая ему способствует. Иначе говоря, организация и «публика» все-таки прибегнут к манипуляциям, пусть даже из благих намерений достичь согласия. В результате порождается порочный круг ситуативных ложных консенсусов, которые препятствуют заключению долгосрочных соглашений. Акторам следует отказаться от стремления к консенсусу и ограничиться «прозрачностью» как открытым признанием, объяснением и оправданием отличной от мнения «публик» собственной позиции по спорному вопросу. Правда, такая стратегия тоже не без изъянов: маневрирование между несовместимыми претензиями «публик» и собственными целями вынуждает актора компенсировать ущерб из-за отказа от выгодных для нее действий за счет явно невыполнимых публичных обещаний.
4. Диалогичность: коммуникации организации и «публик» – это открытый диалог. На практике конкурирующие социальные акторы для достижения стратегических целей чаще используют манипуляции, а не «коммуникативные действия» в духе «идеальной речевой ситуации». Более того, диалогическая коммуникация как обмен идеями вовсе необязательно предполагает постоянное согласие участников друг с другом и даже государственная пропаганда предполагает учет ответной реакции. Осознав безуспешность (или даже вредность) попыток постоянно согласовывать корпоративные интересы с интересами «публик», организация ограничивается отношениями с «публиками»-единомышленниками, которые с большой вероятностью будут отвечать взаимностью и подстраиваться к ее позиции. Это ценностное предпочтение «гомогенных публик» в итоге превратит «диалоговый пиар» в несимметричную коммуникацию: многие социальные субъекты, заинтересованные в решении проблем, порожденных действиями организации, останутся без внимания и уж тем более без возможности участвовать в разработке и принятии корпоративных решений. Более того, императив «диалогового пиара» с акцентом на равенстве и консенсусе порождает не только «ценностное пренебрежение» при отборе «публик», но и «прагматическую несправедливость»: организация вступает в диалог только с теми группами, которые ее руководители считают полезными, или озвучивают самые громкие претензии, игнорируя слабые и самые уязвимые группы.
5. Нессиметричная автономность: организация должна учитывать интересы «публики», которые в свою очередь необязаны учитывать ее стратегические цели. Как известно, субъекты всех социетальных полей и институтов в той или иной степени ориентируются на логики своих контрагентов и, следовательно, «публики» неизбежно адаптируются к логике организации.
6. Внеконтекстность: коммуникации организации с «публиками» не зависят от ее полевой или институциональной специфики. Напомним, что каждое социетальное поле и каждый институт содержат собственные логики, которые определяют нормы и правила ее действий и коммуникаций.
7. Дух публичности: цель пиара – это максимизация общественной выгоды. Однако пиар – это стратегические коммуникации, которые оптимизируют достижение организацией собственных целей, что, в принципе, может увеличить общественное благо.
«Модель высшего мастерства» не отвечает ни целям пиара как коммуникационного менеджмента, ни интересам «публик», поскольку компромисс или примирение в публичном дискурсе далеко не всегда удовлетворяют эгоистичным корпоративным интересам: пиар-диалог и защита собственных интересов могут противоречить друг другу.
«Двухсторонняя симметричная модель» на практике используется лишь теми акторами, которые располагают ограниченным доступом к политической власти и массмедиа. Например, в политической сфере превалируют убеждающие и рекламные технологии, которые никак нельзя назвать симметричными, но которые целесообразны в когнитивном и социальном смысле, поскольку на практике связывают расплывчатые социальные и политические концепции с ключевыми политическими акторами, тем самым очеловечивая политику.
Напомним, что политики в попытках усилить влияние на граждан больше полагаются на производство и демонстрацию «броских образов», а не на рациональную аргументацию: этого требуют и массовая аудитория, и медиаформат. Иначе говоря, на первый план выходит «менеджмент видимости» и «менеджмент человечности». Заметим, что «визуальная риторика» вообще выпадает из системы координат «симметричность – консенсус – этичность».
Политический пиар превращается из «менеджмента отношений» в «управление впечатлениями», которые все чаще формируются опосредованно и без прямых контактов актора со стейкхолдерами, отделенными от актора в пространстве и времени.
Пиар рассматривается как набор дискурсивных технологий, используемых актором, чтобы преобразовывать когнитивноценностные системы и властные позиции участников дискурса для достижения собственных целей. Пиар обеспечивает легитимацию актора за счет конструирования в координатах дискурса целевых групп скорее «ощущения одобрения», а не «когнитивного единодушия».
Модель «рефлективного коммуникационного менеджмента» допускает в зависимости от решаемых задач применение разных наборов информационных, убеждающих, реляционных и дискурсивных стратегий для оптимизации осмысления социальных феноменов стейкхолдерами в интересах актора:
1) «информационная стратегия» – распространение сведений для заинтересованных стейкхолдеров о планах и решениях организации (односторонняя и рациональная коммуникация);
2) «убеждающая стратегия» – продвижение планов и решений организации для контроля над стейкхолдерами (односторонняя и ограниченно рациональная коммуникация);
3) «реляционная стратегия» – установление и поддержание взаимовыгодных отношений организации со стейкхолдерами для достижения согласия по значимым вопросам, чтобы обеспечить сотрудничество и избежать конфликтов (двусторонняя и рациональная коммуникация);
4) «дискурсивная стратегия» – содействие диалогу организации и стейкхолдеров для формирования новых смыслов (двусторонняя и ограниченно рациональная коммуникация).
Однако эта модель все-таки допускает существование рациональных организаций и «публик» и не включает стратегии, которые активно используются, например, в политическом пиаре (перформансы, рекламные трюки или политические истории). По всей видимости, образцы реализации «диалогового пиара» бессмысленно искать в политике, коммерции или шоу-бизнесе, но стоит присмотреться к «благотворному пиару» пациентских или благотворительных организаций, который напоминает диалог и предполагает коррекцию позиции актора в ответ на реакцию аудитории.
Обратимся к проблематике отношений организации с масс-медиа.
Джеймс Грюниг считал, что непрерывный диалог с ключевыми «публиками» избавит организацию от рисков внезапного освещения в массмедиа угрожающих ее интересам спорных вопросов, поскольку организация узнает о потенциальных проблемах заранее: чем симметричнее пиар, тем меньше зависимость организации от журналистов. На практике все оказывается с точностью наоборот, и значимость медиарилейшнз продолжает расти.
В «модели взаимовозможности» пиар и журналистика исследуются как относительно автономные области публичной коммуникации, которые не могут эффективно функционировать вне взаимодействий, влияют друг на друга и подстраиваются друг к другу на организационном и межличностном уровнях. С одной стороны, пиар-служба организации продвигает корпоративную повестку дня, чтобы повлиять на медийную повестку дня, а журналисты влияют на корпоративную повестку дня (это пример «взаимной индукции»). Пиар-служба организации подстраивается к медиалогике, чтобы превратить пиар-сообщение в медиа-историю, а журналисты принимают во внимание специфику организации, чтобы получить от организации пиар-сообщение (информационную субсидию) по «горячей теме» (это пример «взаимной адаптации»).
Самостоятельность пиарщиков ограничивается требованиями акторов, которые нанимают их для конструирования и распространения адвокатских историй под видом значимых публичных историй и медиа-историй. В то же время пиарщики обеспечивают однородность социального знания и играют важную роль в увековечивании социальных ценностей, норм и практик, помогая акторам становиться и оставаться влиятельными агентами.
Политические акторы усвоили, что взаимодействия с масс-медиа – это неотъемлемая часть выработки политических решений, осуществления политических курсов и проведения коммуникативных кампаний для формирования общественного мнения. Менеджмент новостей требует тщательной подготовки информационного повода и выбора подходящего формата для коммуникаций с гражданами и журналистами, который гарантировал бы первоочередное восприятие и освещение адвокатской истории в нужной интерпретации. Цель – добиться того, чтобы массмедиа и блогеры сообщили о повестке дня политического актора (например, органа власти) в благоприятной тональности и правильном контексте, критикуя оппонентов и внутрипартийных диссидентов.
Итак, модели «диалогового пиара», встроенные в модель делиберативной демократии, лишь в ограниченной степени могут быть использованы для коммуникативного сопровождения политических курсов.
Вопросы и задания
– Перечислите и охарактеризуйте сущностные качества «модели высшего мастерства».
– Сопоставьте императивы делиберативной демократии и «диалогового пиара».
– Назовите негативные последствия попыток применить «модель высшего мастерства» в социальной практике.
– Оцените неявные допущения «диалогового пиара» в институциональном, дискурсивном и когнитивном контекстах.
– Приведите примеры использования стратегий коммуникационного менеджмента.
Глава 12 Политический пиар и пиар-кампании
«Дискурс представляет собой мощный властный ресурс, посредством которого социальные институты и индивиды осуществляют свою саморепрезентацию, легитимацию, идентификацию, конструирование и продвижение тех или иных образов реальности, производят позиционирование в социокультурном, политическом и экономическом пространстве» [Русакова, Русаков 2008: 5].
Для оценки качества подготовки политических программ предлагается использовать десять критериев:
1) «проблемоцентричность»: анализ текущей ситуации и ее отклонения от желательной или идеальной ситуации;
2) «каузальность»: объяснение проблематичности текущей ситуации, анализ причин и факторов ее возникновения, приписывание ответственности за ситуацию конкретным акторам;
3) «целеориентированность»: описание желательной или идеальной ситуации;
4) «инструментальность»: описание системы мероприятий для достижения установленных целей в сочетаниях «цели-средства»;
5) «делегативность»: распределение полномочий среди исполнителей конкретных мероприятий;
6) «клиентоцентричность»: описание конкретных социальных групп, затронутых проблемой (проблемных групп), а также объяснение того, каким образом предлагаемые мероприятия соответствуют их интересам;
7) «бюджетообеспеченность»: описание источников и объема финансирования предлагаемых мероприятий;
8) «валидность»: ссылки на авторитетные источники или прецеденты для подтверждения обоснованности проблематизации текущей ситуации, предлагаемой системы мероприятий и выделенных проблемных групп (научные исследования, статистические данные, законодательные и политические прецеденты, ценности, нормы и т. п.);
9) «детализированность»: конкретность диагностического, прогностического и инструментального анализа проблемной ситуации;
10) «последовательность»: объяснение того, как предлагаемая система мероприятий соответствует сущности и причинно-следственным связям установленной проблемы и как она способствует решению проблемы.
Итоговый показатель – «полнота программы» – ранжирует по качеству существующие варианты политических документов, посвященных одной и той же проблемной ситуации. Напомним, что в парадигме социального конструктивизма определение проблемы важнее решения проблемы, а фрейминг целей – важнее выбора оптимальных способов их достижения.
Политический пиар (или «политический коммуникационный менеджмент) – это публичная коммуникативная деятельность, посредством которой политический актор (включая органы власти) регулярно («принцип непрерывности») разъясняет стейкхолдерам свои действия как реализацию политической программы в актуальном социокультурном контексте, чтобы в конечном итоге укрепить собственную легитимность. Выбор видов (мотивационный фрейминг, проблемный фрейминг, медиафрейминг) и технологий (метафоризация, визуализация, сюжетизация, рекреатизация, прайминг, риторика, логическая аргументация), способов представления (повествование или символическая акция), семиотических кодов (вербальные, визуальные, аудиальные), степени фикциональности («документальность – вымышленность») и каналов трансляции пиар-сообщений («непосредственные – прямые – опосредованные») обуславливается прагматическими факторами и ситуативными задачами актора (информировать, убеждать, создавать впечатление, побуждать к действиям, укреплять доверие).
Политические пиар-кампании содержательно базируются на декларируемой повестке дня и частично соответствуют требованиям, предъявляемым к публичной делиберации («коллективный дух», «публичность», «поиск консенсуса», «обоснованность доводов», «приемлемость доводов», «непрерывность») и эффективному сторителлингу («связность истории», «верность истории», «эмоциональность истории»). Приведем примерный список тем политического пиара органов государственной власти и местного самоуправления:
– текущие мероприятия по реализации стратегии развития подведомственной территории и повышения жизненного уровня населения;
– неотложные действия при форс-мажорных обстоятельствах;
– взаимодействие с другими регионами и районами для осуществления программы развития подведомственной территории;
– поддержка местных экономических и культурных субъектов в конкуренции с субъектами из других регионов;
– регулирование процессов имущественного расслоения на подведомственной территории;
– предпринимаемые меры по социальной защите населения (по группам) подведомственной территории;
– поощрение проявления социальной ответственности экономическими субъектами, действующими на подведомственной территории;
– реализация федеральных и региональных социальных программ, в частности, обеспечение финансирования за счет лоббирования интересов подведомственной территории;
– привлечение внебюджетных средств на социальные программы за счет крупных компаний, действующих на подведомственной территории;
– предупреждение и разрешение социальных конфликтов в административно-территориальной общности;
– участие в разрешении конфликтов разных групп интересов на подведомственной территории, например, создание трехсторонних комиссий с участием профсоюзов, работодателей и власти;
– поддержка социально позитивных социальных групп и организаций, действующих на подведомственной территории;
– обеспечение экологической безопасности жителей подведомственной территории;
– взаимодействие с органами правопорядка и специальными службами, а также материально-финансовая поддержка милиции общественной безопасности;
– продвижение позитивных социальных ценностей (патриотизм, «забота о ближнем», семья) в административно-территориальной общности;
– формирование и продвижение положительного имиджа подведомственной территории на региональном, федеральном и международном уровнях для увеличения ее инвестиционной привлекательности (маркетинг и брендинг территории);
– сотрудничество с влиятельными гражданскими, культурными, экономическими, политическими и информационными акторами, которые действуют на подведомственной территории;
– материально-финансовая поддержка учреждений культуры и искусства;
– привлечение региональных и федеральных экономических субъектов к развитию инфраструктуры подведомственной территории;
– материально-финансовая поддержка местных массмедиа;
– выделение грантов для активизации участия некоммерческих объединений в реализации программ в «социальной сфере»;
– выделение грантов научным организациям на разработку и реализацию инновационных программ на подведомственной территории;
– конструктивное взаимодействие с местными отделениями политических партий и общественно-политических движений;
– оперативный учет общественного мнения при формировании и коррекции стратегии и тактики своей деятельности;
– интерпретация результатов опросов общественного мнения по актуальным социальным проблемам;
– вклад общественных консультативных советов и делиберативных групп в разработку и коррекцию социальных программ;
– развернутые комментарии к свежим статистическим данным о ситуации на подведомственной территории;
– обоснование приоритетности решаемых органом власти проблем;
– компетентность руководителей и работников как управленцев;
– нравственные качества руководителей и работников как граждан;
– персональный имидж главного руководителя органа власти.
Для предварительного тестирования соответствующих адвокатских историй используются как минимум следующие параметры:
– «прагматичность»: идея истории соответствует адвокатскому фрейму;
– «прецедентность»: сюжет истории базируется на популярной «инвентарной истории» или популярной медиаистории;
– «яркость»: наличие в истории метафор, символов и иллюстраций;
– «драматичность»: увлекательность и эмоциональность истории;
– «злободневность»: история связана с актуальной проблемой адресата;
– «медийность»: история соответствует медиалогике и медиаформату;
– «понятность»: история соответствует когнитивным навыкам адресата;
– «приемлемость»: история соответствует ценностям адресата;
– «фактичность»: история имеет легальное документальное подтверждение;
– «кредитность»: рассказчик (источник) соответствует теме истории.
Различают пиар-кампании пяти типов:
1. Рутинная пиар-кампания поддерживает публичную и медийную повестку дня в приемлемом для органа власти состоянии.
2. Программная пиар-кампания освещает реализацию органом власти конкретной политической программы.
3. Имиджевая пиар-кампания формирует положительное общественное мнение об органе власти.
4. Проблемная пиар-кампания посвящена нейтрализации негативных последствий для органа власти чрезвычайного происшествия или кризисной ситуации.
5. Конфликтная пиар-кампания («информационная война») нацелена на дискредитацию политических оппонентов и/или деморализацию протестных групп. Технологические провалы и/или политическое фиаско органов власти время от времени вызывают публичный политический протест в виде шествий, демонстраций, пикетов, актов гражданского неповиновения (включая т. н. «майдан» и «оккупай»). Такое противостояние иногда намеренно стимулируется провокаторами, заинтересованными в ослаблении политических конкурентов и использующими стратагемы «вбивать клин» и «сталкивать лбами». Действия протестных групп подрывают легитимность (вплоть до делегитимации) и вынуждают власть вносить коррективы в способы решения конкретных социальных проблем, политические программы, институциональную повестку или даже изменять политический курс. Негативные массовые настроения активизируются не столько из-за объективно неблагоприятной социальной ситуации (согласно «индикаторам реальности»), сколько из-за того, что ее параметры противоречат ранее сделанным властью в публичном дискурсе обещаниям («закон Токвиля»). Событием-триггером протестной акции становится решение, которое принято вопреки доминирующему в публичном дискурсе мнению и воспринимается гражданами как ущемление их законных прав, произвол или несправедливость. Протестная группа создается гражданскими активистами и политической оппозицией, которые используют событие-триггер в своих интересах, эксплуатируя энергию стихийного массового недовольства. На первом этапе применение властью насильственных мер социально осуждается и нецелесообразно, поскольку может привести к радикализации протестной группы. Приоритетная стратагема – «вытаскивать хворост из-под очага» – реализуется, в первую очередь, с помощью имеющихся у власти административных полномочий, позволяющих применять юридические санкции по отношению к любому социальному субъекту, который действует на подведомственной территории. Это не что иное, как воздействие на лидеров протеста строго в рамках закона, в частности, за счет привлечения внимания к их неправомерной деятельности (безотносительно источника конфликта) со стороны контролирующих и правоохранительных органов. Прежде всего законным репрессиям подвергаются союзники оппозиции (стратагема «грозить акации, указывая на шелковицу»): официально запрещаются «опасные для жизнедеятельности местного сообщества» массовые мероприятия; местные рекламные и пиар-кампании, собственники помещений и массмедиа побуждаются к отказу от коммерческих контактов с лидерами протеста, уничтожаются агитационные материалы, перекрывается доступ в медиасферу. Если эти инструментальные методы не ведут к локализации и ослаблению протестной акции, протестная группа обретает статус ньюсмейкера, а ее вожак становится лидером общественного мнения, тогда на втором этапе власть развязывает против оппозиции «информационную войну», в которой изначально имеет преимущество (эффект «бонус властителя»). Протестная группа представляет свои действия как справедливые и формирует отрицательное общественное мнение о власти, используя приемы «менеджмента обвинений» и «риторики действия». Чтобы предотвратить «эффект детонации и «эффект домино», власть продвигает в публичном дискурсе контристорию, которая опровергает правомерность «коллективной истории» и дискредитирует лидеров протеста. Проще говоря, власть и оппозиция вступают в «информационную войну» как особую разновидность взаимосвязанных пиар-кампаний.
Рассмотрим ключевые задачи, которые необходимо решить при подготовке программы любой пиар-кампании.
I. Цель и идея пиар-кампании.
Цель пиар-кампании – формирование у стейкхолдеров представления о конструктивной роли органа власти в стабильном развитии подведомственной территории и, соответственно, стимулирование выгодного для власти политического поведения граждан. Следовательно, надо сконструировать адвокатские фреймы, которые устроят стейкхолдеров и в совокупности составят идею медиакампании, воплощенную в адвокатской истории. Далее адвокатская история преобразуется в «публичные истории» с «публичными фреймами», похожими на адвокатские фреймы.
II. Аудит пиар-кампаний оппонентов.
Аудит пиар-кампаний оппонентов позволит с большой степенью точности спрогнозировать их дальнейшие коммуникативные действия. Аудит сводится к инвентаризации и оценке рельефности адвокатских историй, которые продвигаются оппонентами в публичном дискурсе и, в конечном счете, к выявлению их адвокатских фреймов как навязываемых стейкхолдерам интерпретаций деятельности органа власти.
III. Адвокатский фрейм пиар-кампании.
Адвокатский фрейм пиар-кампании задает контекст интерпретации стейкхолдерами транслируемых органом власти адвокатских историй. В адвокатском фрейме содержатся оценки возможных решений проблемы (приемлемых или неприемлемых), значимости проблемы в социальном контексте, предпринимаемых участниками проблемной ситуации действий (правильных или ошибочных), а также обозначаются социальные субъекты, которые должны нести ответственность за принятие конкретного решения и/или его реализацию.
IV. Выбор тем, событий и действий.
Планирование пиар-кампании подразумевает не только выбор адвокатского фрейма, но и тем адвокатских историй.
V. Выбор массмедиа как пересказчиков адвокатских историй.
Перечислим параметры массмедиа с точки зрения целей пиар-кампании:
1. Объем лояльной аудитории как количество социальных субъектов, которые постоянно используют массмедиа как источник новостей.
2. Оперативность как средний промежуток времени между событием и новостями о событии в массмедиа.
3. Уровень доверия как оценка стейкхолдерами достоверности новостей в массмедиа.
4. Компетентность и профессионализм авторов медиаконтента.
5. Сфокусированность как доля стейкхолдеров в аудитории массмедиа.
6. Медиаформат как специфика производства, функционирования и содержания медиа-историй. Предпочтительная стратегия – это одновременное использование массмедиа разных форматов.
VI. Отбор рассказчиков адвокатских историй («вестников»).
Адвокатские истории озвучивают должностные лица, уполномоченные представители или неофициальные вестники по поручению органа власти. «Вестник» представляет спорный вопрос стейкхолдеру при личных встречах или через массмедиа и должен восприниматься как компетентный специалист, который предлагает решение, явно соответствующее интересам стейкхолдеров. В некоторых ситуациях предпочтительнее «вестники» из числа референтных фигур, формально не имеющих отношения к органу власти.
VII. Технологии драматизации адвокатских историй.
Хотя в связи с развитием Интернета существенно возросло число способов ретрансляции адвокатских историй, значимость перформансов с непосредственным участием стейкхолдеров наоборот повысилась. Результативный перформанс должен обладать следующими качествами:
– тема перформанса соответствует деятельности и имиджу актора и одновременно актуальным потребностям и ценностям стейкхолдеров;
– перформанс строится на знакомом стейкхолдерам социокультурном сценарии, который фокусируется на акторе как главном герое;
– среди наблюдателей перформанса есть представители массмедиа;
– сценарий перформанса предполагает активное вовлечение наблюдателей в совместные символические действия;
– перформанс провоцирует (подталкивает) отсутствующих стейкхолдеров к действиям, которые отвечают интересам актора;
– перформанс проводится на ограниченной или огороженной площадке (сцене) (символическая идентификация перформанса).
Перформанс позволяет актору одновременно решить три задачи:
1) оказать на участников и наблюдателей мощное прямое воздействие за счет эмоционального заражения;
2) передать стейкхолдерам идею актора посредством возникших по поводу перформанса массовых слухов;
3) представить перформанс как информационный повод, который не только породит медиа-истории, но и опосредованно повлияет на отсутствующих стейкхолдеров.
Цель любой медиакампании как компонента пиар-кампании – добиться максимального сходства результирующего медианарратива как совокупности медиа-историй («медиатизированных адвокатских историй», «журналистских публикаций», материалов «на правах рекламы» и «автономных журналистских публикаций») на тему медиакампании со стимулирующим пиар-нарративом как совокупностью распространенных актором адвокатских историй (пресс-релизов, пиар-историй, перформансов и рекламных материалов).
Для оценки медиакампании предлагается использовать пять индексов:
1) индекс «диагностирующая результативность медиакампании» – это степень соответствия популярного медиафрейма вопроса его адвокатскому фрейму;
2) индекс «оценочная результативность медиакампании» – это степень соответствия преобладающих оценок вопроса в медианарративе его оценкам в пиар-нарративе;
3) индекс «дискурсивная результативность медиакампании» – это доля «автономных журналистских публикаций» по темам медиакампании в общем числе тематических медиа-историй в медианарративе;
4) индекс «медиарезультативность медиакампании» – это изменение ранга темы медиакампании в медийной повестке дня по сравнению с начальной ситуацией;
5) индекс «социальная результативность медиакампании» – это изменение ранга и оценки темы медиакампании в публичной повестке дня или изменение общественного мнения по сравнению с начальной ситуацией.
Подчеркнем, что никакой орган власти не в состоянии полностью контролировать результаты медиакампании. Массмедиа одновременно являются и технологическими каналами коммуникации, и информационными акторами, которые не просто регистрируют происходящие события и адвокатские истории, а «просеивают» их на основе собственных критериев и вставляют в медиа-истории редакционные оценки и мнения. Более того, контекст восприятия и оценки конкретной медиа-истории непредсказуемым для органа власти создается конкретным масс-медиа, редактор которого специфическим образом и по своему произволу форматирует конкретный номер газеты, конкретную теле– или радиопередачу, ежедневный контент интернет-сайта.
Итак, политический коммуникационный менеджмент осуществляются в виде непрерывной серии пиар-кампаний разных типов.
Вопросы и задания
– Оцените, какие виды и технологии конструирования пиар-сообщений использовались в конкретной пиар-кампании.
– Объясните, каким образом можно оценить значения индексов медиакампании.
– Сравните два-три массмедиа по коммуникативным параметрам.
– Создайте паспорт конкретного политического перформанса.
– Разработайте программу медиакампании на конкретную тему.
Заключение
Стремительное развитие технологий массовой коммуникации потребовало пересмотра классических нормативных моделей, лежащих в основе коммуникационного менеджмента как целенаправленного управления публичной интерпретацией социальных феноменов в интересах конкретных политических, экономических и прочих акторов.
В публичной сфере слова и действия трудно разделить, поскольку они влияют друг на друга и поддерживают друг друга как воплощения идей, доводов, убеждений, претензий и конструируемых социальных феноменов. В частности, «воспринимаемое достоинство» товара, формируемое маркетинговыми коммуникациями, в большей степени влияет на темпы и объемы сбыта по сравнению с его «объективируемыми качествами», а правильные публичные коммуникации власти становятся столь же значимыми для ее легитимности, что и эффективные политические курсы.
Традиционное наименование этой деятельности – «связи с общественностью» – не соответствует фактическому содержанию и, более того, препятствует дальнейшей разработке ее теоретического обоснования. Нормативная парадигма «модели высшего мастерства» провоцирует исследователей к бесплодным попыткам переосмысления изначально расплывчатых базовых концептов («общественные связи», «публики», «консенсус») и одновременно вынуждает акторов расходовать дефицитные ресурсы на адаптацию стратегических коммуникаций к теоретически невыполнимым и во многом пагубным для стратегических целей императивам.
Перечислим некоторые выводы, которые следуют из подобного переосмысления.
Рациональное осмысление социальной реальности, которое требует от индивидов устойчивых когнитивных навыков и сильной мотивации, в массовой коммуникации уступает место периферийным стратегиям обработки сведений. При восприятии, интерпретации и оценке социальных феноменов индивиды неосознанно ориентируются на впечатления, индуцированные подсказками и эмоциональными стимулами, которые выражены в адвокатских историях и медиаисториях специфическими маркерами.
Индивиды осмысливают социальные феномены и, соответственно, предпочитают получать сведения о социальной реальности в виде более или менее связных историй, чем описаний или объяснений.
При конструировании адвокатских историй (помимо фрейминга как активации когнитивных схем) влиятельные акторы скорее прибегают к метафоризации, схематизации, сюжетизации и риторике, чем к рациональной аргументации.
Социальные проблемы дискурсивно конструируются влиятельными акторами на основе собственных интересов и с учетом пороговых значений «индикаторов реальности».
Журналисты при отборе и представлении социальных феноменов руководствуются медиалогикой, а также используют устойчивые и порождают новые медиафреймы как схемы интерпретации и оценки. Медийная повестка дня формируются в результате интерференции медиалогики, политической логики и логики популярной культуры, а также рефракции политической и публичной повесток дня.
Политические акторы в конкурентной борьбе конструируют политические истории как вербализации, визуализации и рекреатизации политических курсов в соответствии с политической логикой и далее продвигают их в публичную и медийную повестки в сопряжении с медиалогикой, логикой популярной культуры и общественным мнением. Политические антрепренеры конструируют сообщения в форме адвокатских историй и далее транслируют их журналистам в надежде на появление в медиасфере цикла увлекательных медиаисторий. Эти прагматические истории оправдывают решения и действия политиков в проблемных ситуациях, апеллируя к так называемому здравому смыслу, а не к рациональным соображениям.
С одной стороны, политики укрепляют свои позиции за счет внедрения в массовое сознание через массмедиа выгодные для себя определения социальных феноменов и, соответственно, улучшают возможности для осуществления собственного политического курса. В частности, публичная подотчетность власти как магистральный способ формирования и укрепления ее легитимности осуществляется в публичном политическом дискурсе посредством политических нарративов и политической риторики.
С другой стороны, предпринимаемые политиками непопулярные меры, которые напрямую и неблагоприятно влияют на жизни граждан, подвергаются детематизации, не вызывая ажиотажа или протестных акций. Такого рода «символические конструкты» нередко самими политиками начинают восприниматься как подлинная «объективная реальность», что приводит к принятию неверных решений и ослаблению, а не укреплению легитимности.
Ускоренная нарративизация и рекреатизация социальной реальности приводят к тому, что и выпуски новостей, и публичные дискуссии (включая делиберативные) почти неотличимы от продуктов сценического сторителлинга и событийного маркетинга в интересах конкурирующих акторов. Уже сегодня поле публичной коммуникации эффективно контролируется «дискурс-менеджерами» и «контент-сомелье» (Виктор Пелевин), которые по заказу правящих элит формируют горизонты возможного, должного и правильного.
Приемы софистики и спин-контроля
Абдукция – обоснование тезиса без достаточных доводов: «все объекты B тождественны объектам А, поскольку все A и все B обладают свойством X».
Аргумент к авторитету – ссылка на мнение референтной фигуры.
Аргумент к большинству – ссылка на то, что мнение актора совпадает с мнением большинства.
Аргумент к личности – оскорбительная или пренебрежительная оценка актором адресата.
Аргумент к науке – ссылка на результаты (якобы) научных исследований по проблеме.
Аргумент к невежеству – ссылка на (якобы) общеизвестные сведения по проблеме, достоверность которых адресат не может проверить.
Аргумент к очевидцам – ссылка на высказывания (якобы) очевидцев события.
Аргумент к публике – пробуждение в адресате симпатии к актору и антипатии – к конкуренту.
Аргумент к силе – высказывание угроз по отношению к адресату.
Аргумент к состраданию – пробуждение в адресате сочувствия к актору.
Аргумент к традиции – ссылка на то, что мнение актора о событии или проблеме соответствует традиции.
Аргумент к тщеславию – чрезмерно положительная оценка актором личностных качеств адресата.
Аргумент к числу – ссылка на очень большие или, наоборот, очень маленькие количественные значения параметров проблемы для обоснования или, наоборот, опровержения мнения актора.
Аргументация от противного – опровержение тезиса за счет выведения из антитезиса следствий, которые признаются адресатом достоверными и противоречат тезису.
Асимметричная аргументация – предъявление адресату сильных аргументов и/или только слабых контраргументов.
Блеф – имитация актором ресурсного превосходства для введения адресата в заблуждение.
«Будничный рассказ» – описание единичной ситуации (события) как регулярной.
«В огороде бузина» – установление в сообщении маловероятных причинно-следственных отношений между действиями (поступками) социального субъекта или между социальными явлениями.
Виртуализация события – описание происшедшего или происходящего события как маловероятного.
«Враждебная театрализация» – описание социально значимых действий соперника как перформанса.
Высмеивание – описание качеств и действий конкурента с целью возбудить к нему презрение адресата.
Демагогия – рассуждения актора о высших социальных ценностях вместо ответа на конкретные вопросы адресата.
Демонизация – приписывание конкуренту ответственности за все социально негативные события.
Детализация – удержание выигрышной для актора темы в медийной повестке дня за счет регулярных вбросов в медиасферу новых и интересных подробностей.
Дискредитация – действия для подрыва доверия целевых групп к конкуренту, его союзникам и/или используемым ими каналам коммуникации.
«Железный занавес» – запрещение органом власти проводить социальному субъекту массовую акцию на конкретной сценической площадке, обоснованное якобы объективными обстоятельствами.
«Закон Лундта»: источник, который первым передал сообщение о значимом событии, в дальнейшем воспринимается адресатом как более достоверный.
«Зона Уэйта»: журналисты склонны больше интересоваться тем, что скрывают влиятельные акторы, чем тем, о чем эти акторы заявляют публично.
Имитация сотрудничества – воздействия актора, воспринимаемого адресатом как партнера, в своих интересах, но без намерения нанести урон адресату.
Индукция доверия – демонстрация адресату таких качеств актора, которые укрепляют его доверие к этому актору (искренность, привлекательность, сходство, компетентность, известность, авторитетность, авторитарность).
Информационное вытеснение – генерирование актором «информационных поводов» для отвлечения внимания целевых групп от сообщений конкурентов или негативных сообщений об акторе.
Информационный потоп – целенаправленная передача множества тематически разрозненных пиар-сообщений для дезориентации аудитории.
Коммуникативная вакцинация – заблаговременное и дозированное распространение негативных сообщений об акторе для ослабления убедительности прогнозируемых обвинений.
Коммуникативный паразитизм – использование актором коммуникативных мероприятий других социальных субъектов в своих интересах.
«Констатация факта» – описание маловероятной, но выгодной для актора ситуации как реальной.
«Круг в доказательстве» – обоснование тезиса с помощью аргументов, которые являются его парафразом.
Маскирующая детализация – упоминание большого количества второстепенных компонентов ситуации (события) для отвлечения внимания адресата от значимых, но негативных для интересов актора компонентов.
«Материализация духов» – описание интеллектуального артефакта (абстракции) как реального природного или социального субъекта.
Мнимый выбор – предъявление адресату двух решений конкретной проблемы, одно из которых явно хуже другого.
Односторонняя аргументация – предъявление аргументов и умолчание контраргументов.
Передергивание – расширение или сужение тезиса соперника для опровержения ранее предъявленных им доводов.
Подкуп – передача адресату ресурсов за действия, которые он не имеет права или не хочет производить.
«Подсадные утки» – организация обращений «рядовых граждан» в массмедиа для управления дискуссией в прямом эфире.
«Подтасовка карт» – опровержение доводов, ранее высказанных конкурентом по менее значимой проблеме.
Приклеивание ярлыков – обозначение участников ситуации (события) лексемами или символами, выражающими стереотипы или прототипы.
Пристрастное масштабирование – использование выигрышного для актора критерия при оценке собственных действий или действий конкурентов.
«Пробный шар» – заблаговременное сообщение о варианте решения злободневной социальной проблемы для выявления реакции целевой группы.
Разоблачение – представление конкурента в сообщении как злонамеренного актора.
Рефлексивный прайминг – опровержение неудачных высказываний ответственных должностных лиц под предлогом «разъяснения позиции».
Розыгрыш – вовлечение адресата в инсценированное событие для провоцирования выгодного для актора и безвредного для адресата поведения.
Самокритика по пустякам – упоминание актором собственных несущественных недостатков.
«Соломенное чучело» – упоминание и опровержение самых слабых контраргументов конкурента.
Сужающая синекдоха – приписывание каждой части всех качеств целого.
Угроза – обещание актора в случае неподчинения применить по отношению к адресату карательные социальные санкции.
Уравнивание «корреляция – причина» – описание простой связи двух событий как причинно-следственной.
Уравнивание «после – вследствие» – описание события, которое произошло после какого-то события, как последствия этого события.
«Утечка информации» – якобы запрещенное актором распространение сообщений как якобы секретных.
«Уход в сторону» – игнорирование вопроса адресата с одновременной сменой обсуждаемой темы на выгодную для актора тему.
Цензура – введение органом власти официального запрета на распространение сообщений на конкретные темы.
Шантаж – принуждение адресата действовать в интересах актора под угрозой распространения негативных сообщений об адресате.
Список рекомендуемой литературы
1. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. М., 1995.
2. Бурдье П. О телевидении и журналистике. М., 2002.
3. Гундарин М.В. Теория и практика связей с общественностью: основы медиарилейшнз. М., 2007.
4. Зенгер Х. Стратагемы. О китайском искусстве жить и выживать: в 2 т. М., 2004.
5. Лакофф Д., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем. М., 2008.
6. Луман Н. Реальность массмедиа. М., 2005.
7. Марков А.А. Связи с общественностью в органах власти. М., 2014.
8. Пономарев Н.Ф. Коммуникационный менеджмент: драматизация публичной политики. Пермь, 2014.
9. Попов В.Д. (общ. ред.). Информационная политика. М., 2003.
10. Русакова О.Ф., Русаков В.М. PR-дискурс: теоретико-методологический анализ. Екатеринбург, 2008.
11. Талеб Нассим Николас. Черный лебедь. М., 2009.
12. Хилгартнер С., Боск Ч.Л. Рост и упадок социальных проблем: концепция публичных арен // Средства массовой коммуникации и социальные проблемы: хрестоматия / сост. И.Г. Ясавеев. Казань, 2000. С. 18–53.
13. Appel M., Richter T. Transportation and need for affect in narrative persuasion. A mediated moderation model // Media Psychology. 2010. Vol. 13. P. 101–135.
14. Birkland T.A. Focusing events, mobilization, and agenda setting // Journal of Public Policy. 1998. Vol. 18 (1). P. 53–74.
15. Boswell J. Policy narratives in a deliberative system // Australian Political Science Association Conference. September 26–28, 2010. University of Melbourne.
16. Bovens M. Public accountability // The Oxford Handbook of Public Management / eds. E. Ferlie, L. Lynne, C. Pollitt. Oxford: Oxford University Press, 2004. P. 182–208.
17. Bülow-Møller A.V. Corporate apologia and the attribution of guilt // Rhetorical Aspects of Discourses in present-day society / eds. L. Dam, L.-L. Holmgreen, J. Strunck. Newcastle: Cambridge Scholars Press, 2009. P. 340–358.
18. Cobb R.W., Elder C.D. The politics of agenda-building: An Alternative perspective for modern democratic theory // The Journal of Politics. 1971. № 33 (4). P. 892–915.
19. Gamson W.A. A constructionist approach to mass media and public opinion // Symbolic Interaction. 1988. № 11. P. 161–174.
20. Green M.C., Strange J.J., Brock T.C. (eds.). Narrative impact: Social and cognitive foundations. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates, 2002.
21. Grunig J.E. Public relations and strategic management: Institutionalizing organization-public relationships in contemporary society // Central European Journal of Communication. 2011. № 1. P. 11–31.
22. Jones M.D., McBeth M.K. A narrative policy framework: Clear enough to be wrong? // The Policy Studies Journal. 2010. Vol. 38 (2). P. 329–353.
23. Kingdon J.W. Agendas, alternatives and public policies. N.Y.: Harper Collins Publishers, 1984/1995.
24. Kuklinski J.H., Quirk P.J. Reconsidering the rational public: Cognition, heuristics, and mass opinion // Elements of political reason / eds. A. Lupia, M. McCubbins, S. Popkin. N.Y.: Cambridge University Press, 2000. P. 153–182.
25. Marx G. External efforts to damage or facilitate social movements: Some patterns, explanations, outcomes, and complications // The Dynamics of Social Movements / eds. M. Zald, J. McCarthy. Cambridge: Winthrop, 1979. P. 94—125.
26. McCombs M.E., Shaw D.L. The agenda setting function of mass media // Public Opinion Quarterly. 1972. № 36. P. 176–185.
27. Mulligan K. Truth in fiction: The Consequences of fictional framing for political opinions // Paper prepared for presentation at the Annual Meeting of the American Political Science Association. June 19, 2012.
28. Pfetsch B. Government news management // The politics of news, the news of politics / eds. D. Graber, D. McQuail, P. Norris. Washington: Congressional Quarterly Press, 1998. P. 70–93.
29. Schmidt V. A. Discursive institutionalism: The Explanatory power of ideas and discourse // Annual Review of Political Science. 2008. Vol. 11 (1). P. 303–326.
30. Scott M.B., Lyman S.M. Accounts // American Sociological Review. 1968. Vol. 33 (1). P. 46–62.
31. Stockwell S.E. Spin doctors, citizens and democracy // Government Communication in Australia / ed. S. Young. Melbourne: Cambridge University Press, 2007. P. 130–143.
32. Stoker K.L., Tusinski K.A. Reconsidering public relations’ infatuation with dialogue: Why engagement and reconciliation can be more ethical than symmetry and reciprocity // Journal of Mass Media Ethics (e-Publications@Marquette). 2006. Vol. 21 (2–3).
33. Stone D.A. Policy paradox and political reason: The Art of political decision making. N.Y: W.W. Norton and Company, 1988.
Список использованной литературы
1. Бодрунова С.С. Современные стратегии британской политической коммуникации. М., 2010.
2. Бурдье П. Клиническая социология поля науки // Социоанализ Пьера Бурдье. Альманах Российско-французского центра социологии и философии Института социологии Российской Академии наук / отв. ред. H.A. Шматко. М., 2001.
3. Бурдье П. О телевидении и журналистике. М., 2002.
4. Вежбицкая А. Сравнение – градация – метафора // Теория метафоры / ред. Н.Д. Арутюнова. М., 1990. C. 133–154.
5. Гудков Д.Б. Прецедентные феномены в текстах политического дискурса // Язык СМИ как объект междисциплинарного исследования / отв. ред. М.Н. Володина. М., 2003.
6. Дай Т., Зиглер Л. Демократия для элиты. Введение в американскую политику. М., 1984.
7. Зенгер Х. Стратагемы. О китайском искусстве жить и выживать: в 2 т. М., 2004.
8. Луман Н. Власть. М., 2001.
9. Луман Н. Реальность массмедиа. М., 2005.
10. Муфф Ш. К агонистической модели демократии // Логос. 2004. № 2 (42). P. 180–197.
11. Ноэль-Нойман Э. Общественное мнение. Открытие спирали молчания. М., 1996.
12. Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс. М., 2003.
13. Русакова О.Ф., Русаков В.М. PR-дискурс: теоретико-методологический анализ. Екатеринбург, 2008.
14. Улановский А.М. Теория речевых актов и социальный конструкционизм // Постнеклассическая психология. Социальный конструкционизм и нарративный подход. 2004. № 1.
15. Хабермас Ю. Теория коммуникативного действия // Вестник Московского университета. Философия. 1993. № 4. C. 43–63.
16. Шумпетер Й.А. Капитализм, социализм и демократия. М., 1995.
17. Яноу Д., ван Хульст М. Фреймы политического: от фрейм-анализа к анализу фреймирования // Социологическое обозрение. 2011. Т 10. № 1–2. С. 87—113.
18. Altheide D.L. Media logic and political communication // Political Communication. 2004. Vol. 21 (3). P. 293–296.
19. Altheide D.L., Snow R.P. Media logic. London: Sage Publications, 1979.
20. Amsterdam A.G., Bruner J.S. Minding the law. Cambridge: Harvard University Press, 2000.
21. Appel M., Richter T. Transportation and need for affect in narrative persuasion. A mediated moderation model // Media Psychology. 2010. Vol. 13. P. 101–135.
22. Arnold W.E., McCroskey J.C. The credibility of reluctant testimony // The Central States Speech Journal. 1967. Vol. 18. P. 97—103.
23. Arrow K. Social choice and individual values. N.Y.: John Wiley and Sons, 1951.
24. Baker S., Martinson D.L. The TARES test: Five principles for ethical persuasion // Journal of Mass Media Ethics. 2001. Vol. 16 (2–3). P. 148–175.
25. Baum M.A. Circling the wagons: Soft news and isolationism in American public opinion // International Studies Quarterly. 2004. Vol. 48 (2). P. 313–338.
26. Baum M.A. Sex, lies, and war: How soft news brings foreign policy to the inattentive public // American Journal of Political Science. 2002. № 96. P. 91—109.
27. Baum M.A., Jamison A.S. The Oprah effect: How soft news helps inattentive citizens vote consistently // The Journal of Politics. 2006. Vol. 68 (4). P. 946–959.
28. Benford R.D., Snow D.A. Framing processes and social movements: An Overview and assessment // Annual Review of Sociology. 2000. № 26. P. 611–639.
29. Bennett W.L. Beyond pseudoevents: Election news as reality TV // American Behavioral Scientist. 2005. Vol. 49 (3). P. 364–378.
30. Bennett W.L. News: The Politics of illusion. N.Y.: Longman, 1984.
31. Bennett W.L. Toward a theory of press-state relations in the United States // Journal of Communication. 1990. Vol. 40 (2). Р. 103–125.
32. Bennett W.L., Lawrence R., Livingston S. When the press fails: Political power and the news media from Iraq to Katrina. Chicago: University of Chicago Press, 2007.
33. Bentele G., Liebert T., Seeling S. Von der Determination zur Intereffikation: Ein integriertes Modell zum Verhaltnis von Public Relations und Journalimus // Aktuelle Entstehung von Offentlichkeit. Akteure, Strukturen, Veranderungen / eds. G. Bentele, M. Haller. Konstanz: UVK, 1997. S. 225–250.
34. Bessette J.M. Deliberative democracy: The Majority principle in republican government // How democratic is the constitution? // eds. R.A. Goldwin, W.A. Schambra. Washington: American Enterprise Institute for Public Policy Research, 1980. P. 102–116.
35. Bird S.E. The audience in everyday life: Living in a media world. N.Y.: Routledge, 2003.
36. Birkland T. A. Focusing events, mobilization, and agenda setting // Journal of Public Policy. 1998. Vol. 18 (1). P. 53–74.
37. Bitzer L.F. The rhetorical situation // Philosophy and Rhetoric. 1968. № 1. P. 1—14.
38. Black М. Metaphor // Black M. Models and metaphor. Studies in Language and Philosophy. Ithaca: Cornell University Press, 1962. P. 25–47.
39. Blader S.L., Tyler T.R. A Four-component model of procedural justice: Defining the meaning of a «fair» process // personality and social psychology bulletin. 2003. Vol. 29 (6). P.747–758.
40. Blumer H. Social problems as collective behavior // Social Problems. 1971. № 18. P. 298–306.
41. Blumler J.G., Kavanagh D. The Third Age of political communication: Influences and features // Political Communication. 1999. № 16. P. 209–230.
42. Boorstin D.J. The image: Or what happened to the American dream. N.Y.: Atheneum, 1962/1977.
43. Boswell J. Policy narratives in a deliberative system // Australian Political Science Association Conference, September 26–28, 2010, University of Melbourne.
44. Bovens M. Public accountability // The Oxford Handbook of Public Management / eds. E. Ferlie, L. Lynne, C. Pollitt. Oxford: Oxford University Press, 2004. P. 182–208.
45. Bülow-Møller A.V Corporate apologia and the attribution of guilt // Rhetorical Aspects of Discourses in present-day society / eds. L. Dam, L.-L. Holmgreen, J. Strunck. Newcastle: Cambridge Scholars Press, 2009. P. 340–358.
46. Calhoun C. Introduction: Habermas and the public sphere // Habermas and the public sphere / ed. C. Calhoun. Cambridge: MIT Press, 1992. P. 1—50.
47. Campbell M.C., Docherty J.S. What’s in a frame? (that which we call a rose by any other name would smell as sweet) // Marquette Law Review. 2004. Vol. 87 (4). P. 769–781.
48. Caplan B. The logic of collective belief // Independent Institute. Working Paper № 4. October 1999. URL:
49. Cappella J.N., Price V, Nir L. Argument repertoire as a reliable and valid measure of opinion quality: Electronic dialogue during campaign 2000 // Political Communication. 2002. Vol. 19. P. 73–93.
50. Chaiken S., Liberman A., Eagly A.H. Heuristic and systematic information processing within and beyond the persuasion context // Unintended thought / eds. J.S. Uleman, J.A. Bargh. N.Y.: Guilford Press, 1989. P. 212–252.
51. Cobb R.W., Elder C.D. Participation in American politics: The Dynamics of agenda-building. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1972/1983.
52. Cobb R.W., Elder C.D. The politics of agenda-building: An Alternative perspective for modern democratic theory // The Journal of Politics. 1971. № 33 (4). P. 892–915.
53. Coman M. Media anthropology: An Overview // Paper for European Association of Social Anthropologists (EASA) Media Anthropology Network e-seminar May 17, 2005.
54. Cook T.E. Governing with the news: The News media as a political institution. Chicago: University of Chicago Press, 1998.
55. Coombs W.T. The protective powers of crisis response strategies: Managing reputational assets during a crisis // Journal of Promotion Management. 2006. Vol. 12 (3). P. 241–260.
56. Craig G. Living with spin. Political and media relations in mediated public life // Southern Review. 2003. Vol. 36 (3). P. 82–91.
57. Crouse T Boys on the bus: Riding with the campaign press corps. N.Y.: Random House, 1973.
58. Cuthbertson G.M. Political myth and epic. Michigan: Michigan State University Press, 1975.
59. Dascal M. Two pronged dialectic / ed. M. Dascal. Leibniz: What kind of rationalist? // Dordrecht: Springer, 2009. P. 37–72.
60. Davies N. Flat Earth News: An аward-winning reporter exposes falsehood, distortion and propaganda in the Global Media. London: Chatto and Windus, 2008.
61. Davis A. Public relations democracy: Public relations, politics and the mass media in Britain. Manchester: Manchester University Press, 2002.
62. Dayan D., Katz E. Media events: The live broadcasting of history. Cambridge: Harvard University Press, 1992.
63. de Vreese C.H., Elenbaas M. Media in the game of politics: Effects of strategic metacoverage on political cynicism // The International Journal of Press/Politics. 2008. Vol. 13 (3). Р. 285–309.
64. DiMaggio P.J. Interest and agency in institutional theory // Institutional Patterns and Organizations: Culture and Environment / ed. L.G. Zucker. Cambridge: Ballinger, 1988. P. 3—21.
65. DiMaggio P.J., Powell W.W. The Iron Cage Revisted: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields // American Sociological Review. 1983. Vol. 48. P. 147–160.
66. Dolezel L. Narrative worlds // Sound, sign and meaning. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1979.
67. Donohue G.A., Tichenor P.J., Olien C.N. A guard dog perspective on the role of media // Journal of Communication. 1995. Vol. 45 (2). P. 115–132.
68. Downs A. An economic theory of political action in a democracy // The Journal of Political Economy. 1957. Vol. 65 (2). P. 135–150.
69. Downs A. Up and down with ecology – The «issue-attention cycle» // Public Interest. 1972. № 28. Р. 38–50.
70. Dryzek J.S. Deliberative democracy and beyond: Liberals, critics, contestations. Oxford: Oxford University Press, 2002.
71. Dryzek J.S. Discursive democracy: Politics, policy, and political science. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.
72. Dryzek J.S. Legitimacy and economy in deliberative democracy // Political Theory. 2001. Vol. 29 (5). P. 651–669.
73. Dryzek J.S., Niemeyer S. Discursive representation // American Political Science Review. 2008. № 102. P. 481–493.
74. Dutton J.E., Ashford S.J. Selling issues to top management // Academy of Management Review. 1993. Vol. 18. P. 397–428.
75. Edelman M.J. Political language: Words that succeed and policies that fail. N.Y: Academic Press, 1977.
76. Ellwood J.W., Patashnik E.M. In praise of pork // Public Interest. 1993. № 110. P. 19–33.
77. Elsbach K.D., Sutton R.I. Acquiring organizational legitimacy through illegitimate actions: A marriage of institutional and impression management theories // Academy of Management Journal. 1992. Vol. 35 (4). P. 699–738.
78. Elster J. Deliberation and constitution making // Deliberative democracy / ed. J. Elster. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. P. 97—122.
79. Entman R.M. Framing: Toward clarification of a fractured paradigm // Journal of Communication. 1993. Vol. 43 (4). Р. 51–58.
80. Entman R.M. Projections of power: Framing news, public opinion, and U.S. foreign policy. Chicago: University of Chicago Press, 2004.
81. Esser F., D’Angelo P. Framing the press and the publicity process // The American Behavioral Scientist. 2003. Vol. 46 (5). P. 617–641.
82. Fauconnier G., Turner M. Conceptual projection and middle spaces // April 1994. Report 9401. Department of Cognitive Science, University of California, San Diego, La Jolla, California 92093-0515.
83. Fauconnier G., Turner M. The way we think: Conceptual blending and the mind’s hidden complexities. N.Y.: Basic Books, 2002.
84. Fischer F., Gottweis H. Introduction // The argumentative turn revisited. Public policy as communicative practice / eds. F. Fischer, H. Gottweis. Durham: Duke University Press, 2012. P. 1—27.
85. Fishman M. Manufacturing the news. Austin: University of Texas Press, 1980.
86. Foote J.S. Coorientation in the network television newsprocessing system: Coverage of the United States house of representatives // Paper presented at the Annual Meeting of the International Communication Association, Acapulco, Mexico. 18–23 May 1980.
87. Fredriksson M., Pallas J., Wehmeier S. Public relations and neo-institutional theory // Public Relations Inquiry. 2013. Vol. 2 (3). P. 183–203.
88. Freeman R.E. The politics of stakeholder theory: Some future directions // Business Ethics Quarterly. 1994. № 4. P. 409–421.
89. Fung A. Varieties of participation in complex governance // Public Administration Review. 2006. № 66. P. 66–75.
90. Galston W. Liberal purposes: Goods, virtues, and duties in the liberal state. Cambridge: Cambridge University Press, 1991.
91. Galtung J., Ruge M.H. The structure of foreign news: The Presentation of Congo, Cuba and Cyprus in four foreign newspapers // Journal of Peace Research. 1965. Vol. 2 (1). Р. 64–90.
92. Gamson W.A. A constructionist approach to mass media and public opinion // Symbolic Interaction. 1988. № 11. P. 161–174.
93. Gamson W.A., Lasch K.E. The political culture of social welfare policy // Center for Research on Social Organization, University of Michigan. Working Paper № 242 (1981).
94. Gamson W.A., Meyer D.S. Framing political opportunity // Comparative perspectives on social movements / eds. D. McAdam, J.D. McCarthy, M.N. Zald. N.Y: Cambridge University Press, 1996. Р. 275–290.
95. Gandy O.H. Beyond agenda setting: Information subsidies and public policy. Norwood: Ablex, 1982.
96. Gitlin T. The whole world is watching: Mass media in the making and unmaking of the new left. Berkeley: University of California Press, 1980.
97. Green M.C., Brock T.C. The role of transportation in the persuasiveness of public narratives // Journal of Personality and Social Psychology. 2000. Vol. 79 (5). Р 701–721.
98. Green M.C., Strange J.J., Brock T.C. (eds.). Narrative impact: Social and cognitive foundations. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates, 2002.
99. Grunig J.E. Public relations and strategic management: Institutionalizing organization-public relationships in contemporary society // Central European Journal of Communication. 2011. № 1. P. 11–31.
100. Grunig J.E., Hunt T. Managing public relations. N.Y.: Holt, Rinehart and Winston, 1984.
101. Gubrium J.F., Hostein J.A. Narrative ethnography // Handbook of emergent methods / eds. S.N. Hesseiber, P. Leavy. N.Y.: Guilford Press, 2008. P. 241–264.
102. Gutmann A., Thompson D. Why deliberative democracy? Princeton: Princeton University Press, 2004.
103. Haas P.M. Introduction: Epistemic communities and international policy coordination // International Organization. 1992. Vol. 46 (1). P. 1—35.
104. Hajer M.A. Discourse coalitions and the institutionalization of practice: The Case of acid rain in Britain // The Argumentative turn in policy analysis and planning / eds. F. Fischer, J. Forester. Durham: Duke University Press, 1993. P. 43–76.
105. Held D. Models of democracy. Stanford: Stanford University Press, 1987.
106. Herman E.S., Chomsky N. Manufacturing consent: The Political economy of the mass media. N.Y.: Pantheon Books, 1988.
107. Hilgartner S., Bosk C. The rise and fall of social problems: A public arenas model // American journal of sociology. 1988. Vol. 94 (1). P. 53–78.
108. Hjarvard S. The mediatization of society. A Theory of the media as agents of social and cultural change // Nordicom Review. 2008. Vol. 29 (2). P. 105–134.
109. Hunold C. Corporatism, pluralism, and democracy: Toward a deliberative theory of bureaucratic accountability // Governance. 2001. Vol. 14 (2). P. 151–167.
110. Ibarra P.R., Kitsuse J.I. Vernacular constituents of moral discourse: An Interactionist proposal for the study of social problems // Constructionist Controversies: Issues in Social Problems Theory (Social Problems and Social Issues) / eds. D.R. Loseke, J. Best. Hawthorne: Aldine de Gruyter, 1993. P. 21–54.
111. Iyengar S. Is anyone responsible? How television frames political issues. – Chicago: University of Chicago Press, 1991.
112. Jacobs R.N. Producing the news, producing the crisis: Narrativity, television and news work // Media Culture and Society. 1996. № 18. P. 373–397.
113. Janis I. Victims of groupthink. Boston: Houghton Mifflin, 1972.
114. Jenkins H. The revenge of the origami unicorn: Seven principles of transmedia storytelling. December 12, 2009. URL:
115. Jones M.D., McBeth M.K. A narrative policy framework: Clear enough to be wrong? // The Policy Studies Journal. 2010. Vol. 38 (2). P. 329–353.
116. Kahneman D., Tversky A. Prospect theory: An Analysis of decision under risk // Econometrica. 1979. № 47. Р. 263–291.
117. Kaplan R.L. The news about new institutionalism: Journalism’s ethic of objectivity and its political origins // Political Communication. 2006. Vol. 23. P. 173–185.
118. Kelly G. The psychology of personal constructs. N.Y.: W.W. Norton, 1955/1991.
119. Kent M.L., Taylor M. Toward a dialogic theory of public relations // Public Relations Review. 2002. № 28. P. 21–37.
120. Kepplinger H.M. Reciprocal effects: Toward a theory of mass media effects on decision makers // The Harvard International Journal of Press/ Politics. 2007. Vol. 12 (2). Р 3—23.
121. Kim S-H., Scheufele D.A., Shanahan J. Agenda-setting, priming, framing and second-levels in local politics // Journalism and Mass Communication Quarterly. 2002. Vol. 79 (1). Р 7—25.
122. Kingdon J.W. Agendas, alternatives and public policies. N.Y.: Harper Collins Publishers, 1984/1995.
123. Korzybski A. Science and sanity. Lakeville: International non-Aristotelian Library Publishing Company, 1933.
124. Kosicki G.M. The media priming effect: News media and considerations affecting political judgments // The Persuasion Handbook. London: Sage Publications, 2002.
125. Kuklinski J.H., Quirk P.J. Reconsidering the rational public: Cognition, heuristics, and mass opinion // Elements of political reason / eds. A. Lupia, M. McCubbins, S. Popkin. N.Y.: Cambridge University Press, 2000. P. 153–182.
126. Lakoff G., Johnson M. Metaphors we live by. Chicago: University of Chicago, 1980.
127. Lee N.J., McLeod D.M., Shah D.V. Framing policy debates: Issue dualism, journalistic frames, and opinions on controversial policy issues // Communication Research. 2008. Vol. 35 (5). Р 695–718.
128. Leitch S., Neilson D. Reframing public relations: New directions for theory and practice // Australian Journal of Communication. 1997. Vol. 24 (2). P. 17–32.
129. L’Etang J. Radical PR – catalyst for change or an aporia? // Ethical Space: The International Journal of Communication Ethics. 2009. Vol. 6. (2). P. 13–17.
130. Lewin K. Channels of group life // Human Relations. 1947. № 1. Р. 143–153.
131. Loewenstein G.The psychology ofcuriosity: A Review and reinterpretation // Psychological Bulletin. 1994. Vol. 116 (1). P. 75–98.
132. Maltese J.A. Spin control: The White House Office of Communications and the management of presidential news. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1994.
133. Mansbridge J.J. A deliberative theory of interest representation // The politics of interests: Interest groups transformed / ed. M.P. Petracca. Boulder: Westview Press, 1992. P. 32–57.
134. March J.G., Olsen J.P. Rediscovering institutions: The Organisational basis of politics. N.Y.: Free Press, 1989.
135. Marder M. This is watchdog journalism // Nieman Reports. 1998. Vol. 53 (2).
136. Marx G. External efforts to damage or facilitate social movements: Some patterns, explanations, outcomes, and complications // The Dynamics of Social Movements / eds. M. Zald, J.
137. McCarthy. Cambridge: Winthrop, 1979. P. 94—125.
138. McCombs M.E. Media agenda-setting in a presidential election: Issues, images, and interest. N.Y.: Praeger, 1981.
139. McCombs M.E., Shaw D.L. The agenda setting function of mass media // Public Opinion Quarterly. 1972. № 36. 176–185.
140. McQueen D., Jackson D., Moloney K. The «prisation» of news and media literacy. An audience reception study // Future of Journalism Conference, 8–9 September 2011, Cardiff University. 2011.
141. Messaris P., Abraham L. The role of images in framing news stories // Framing public life: Perspectives on media and our understanding of the social world / eds. S.D. Reese, O.H. Gandy, A.E. Grant. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates, 2001. P. 215–226.
142. Meyer J.W., Rowan B. Institutionalized organizations: Formal structure as myth and ceremony // American Journal of Sociology. 1977. Vol. 83 (2). P. 340–363.
143. Meyer D.E., Schvaneveldt R.W. Facilitation in recognizing pairs of words: Evidence of dependence between retrieval operations // Journal of Experimental Psychology. 1971. № 90. Р. 227–234.
144. Miller N.R. Logrolling // The Encyclopedia of Democratic Thought / eds. P.B. Clarke, J. Fowerake. London: Routledge, 1999.
145. Moloney K. Rethinking public relations: PR propaganda and democracy. London: Routledge, 2006.
146. Molotch H.L, Protess D.L, Gordon M.T. The media-policy connection: Ecologies of the news // Political Communication Research / ed. D. Paletz. Norwood: Ablex, 1987. Р. 26–48.
147. Moscovici S., Zavalloni M. The group as a polarizer of attitudes // Journal of Personality and Social Psychology. 1969. Vol. 12 (2). P. 125–135.
148. Motion J., Leitch S. A toolbox for public relations: The oeuvre of Michel Foucault // Public Relations Review. 2007. Vol. 33 (3). P. 263–268.
149. Mulligan K. Truth in fiction: The Consequences of fictional framing for political opinions // Paper prepared for presentation at the Annual Meeting of the American Political Science Association. June 19, 2012.
150. Nagel E. The structure of science: Problems in the logic of scientific explanation. London: Routledge and Kegan Paul, 1961.
151. Nooteboom B. Towards a dynamic theory of transactions // Journal of Evolutionary Economics. 1992. Vol. 2 (4). P. 281–299.
152. Olson L.C., Finnegan C.A., Hope D.S. Visual rhetoric in communication. Continuing questions and contemporary issues // Visual rhetoric. А reader in communication and American culture / eds. L.C. Olson, C.A. Finnegan, D.S. Hope. Los Angeles: Sage Publications, 2008.
153. Orren G.R. Thinking about the press and government // Impact. How the press affects federal policymaking / ed. M. Linsky. N.Y.: W.W. Norton, 1986. Р 1—20.
154. Page B.I., Shapiro R.Y., Dempsey G. What moves public opinion? // American Political Science Review. 1987. Vol. 81 (1). Р. 23–43.
155. Paley J. Narrative machinery // Narrative and stories in health care: Illness, dying and bereavement / eds. Y. Gunaratnam, D. Oliviere. Oxford: Oxford University Press, 2009. P. 17–32.
156. Pan Z.D., Kosicki G.M. Framing analysis: An Approach to news discourse // Political Communication. 1993. № 10. P. 55–75.
157. Petrocik J.R. Issue ownership in presidential elections, with a 1980 case study // American Journal of Political Science. 1996. № 40. Р 825–850.
158. Pettit P. Deliberative democracy and the discursive dilemma // Philosophical Issues. 2001. № 11. P. 268–299.
159. Petty R.E., Cacioppo J.T. Attitudes and persuasion: Classic and contemporary approaches. Dubuque: William C. Brown, 1981.
160. Pfetsch B. Government news management // The politics of news, the news of politics / eds. D. Graber, D. McQuail, P. Norris. Washington: Congressional Quarterly Press, 1998. P. 70–93.
161. Pitkin H. The concept of representation. Berkeley, University of California Press, 1967.
162. Polkinghorne D. Narrative knowing and the human sciences. Albany: State University of New York Press, 1988.
163. Popkin S.L. The reasoning voter: Communication and persuasion in presidential campaigns. Chicago: University of Chicago, 1994.
164. Potter J., Wetherell M. Discourse and social psychology: Beyond attitudes and behaviour. London: Sage Publications, 1987.
165. Reese S.D. Setting the media’s agenda: A Power balance perspective // Communication Yearbook 14 / ed. J. Anderson. Beverly Hills: Sage Publications, 1991. P. 309–340.
166. Roberts N.C., King PJ. Policy entrepreneurs: Their activity structure and function in the policy process // Journal of Public Administration Research and Theory. 1991. Vol. 2. P. 147–175.
167. Roskos-Ewoldsen D.R., Roskos-Ewoldsen B., Dilman Carpentier F. Media priming: An Updated synthesis // Media effects: Advances in theory and research / eds. J. Bryant, M.B. Oliver. N.Y.: Routledge, 2009. P. 74–93.
168. Ryan M.-L. Cheap plot tricks, plot holes, and narrative design // Narrative. 2009. Vol. 17 (1). P. 56–75.
169. Ryan M.-L. Embedded narratives and tellability // Style. 1986. Vol. 20 (3). P. 319–340.
170. Sabatier P.A. An advocacy coalition framework of policy change and the role of policy-oriented learning therein // Policy Science. 1988. Vol. 21. P. 129–168.
171. Scheufele D.A. Agenda-setting, priming, and framing revisited: Another look at cognitive effects of political communication // Mass Communication and Society. 2000. № 3. Р. 297–316.
172. Schmidt V.A. Discursive institutionalism: The Explanatory power of ideas and discourse // Annual Review of Political Science. 2008. Vol. 11 (1). P. 303–326.
173. Schudson M. The good citizen: A History of American public life. N.Y.: Free Press, 1998.
174. Scott M.B., Lyman S.M. Accounts // American Sociological Review. 1968. Vol. 33 (1). P. 46–62.
175. Simon H.A. Administrative behavior: A Study of decision-making processes in administrative organization. N.Y.: Macmillan, 1947/1976.
176. Simon H.A. Human nature in politics: The Dialogue of psychology with political science // The American Political Science Review. 1985. Vol. 79 (2). P. 293–304.
177. Snow D.A., Benford R.D. Ideology, frame resonance and participant mobilization // Structure to action / eds. K. Klandermans, N. Tarrow. Greenwich: JAI, 1988. P. 197–219.
178. Somin I. Deliberative democracy and political ignorance // Critical Review. 2010. Vol. 22 (2–3). P. 253–279.
179. Spector M., Kitsuse J.I. Constructing social problems. N.Y.: Aldine de Gruyter,1987.
180. Steenbergen M.R., Bachtiger A., Sporndli M., Steiner J. Measuring political deliberation: A Discourse Quality Index // Comparative European Politics. 2003. № 1. P. 21–48.
181. Steuer J. Defining virtual reality: Dimensions determining telepresence // Journal of Communication. 1992. Vol. 42 (4). P. 73–93.
182. Stockwell S.E. Spin doctors, citizens and democracy // Government Communication in Australia / ed. S. Young. Melbourne: Cambridge University Press, 2007. P. 130–143.
183. Stoker K.L., Tusinski K.A. Reconsidering public relations’ infatuation with dialogue: Why engagement and reconciliation can be more ethical than symmetry and reciprocity // Journal of Mass Media Ethics (e-Publications@Marquette). 2006. Vol. 21 (2–3).
184. Stone D.A. Policy paradox and political reason: The Art of political decision making. N.Y: W.W. Norton and Company, 1988/2002.
185. Strange J.J. How fictional tales wag real-world beliefs // Narrative impact. Social and cognitive foundations / eds. M.C. Green, J.J. Strange, T.C. Brock. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates, 2002. P. 263–286.
186. Suchman M.C. Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches // Academy of Management Review. 1995. Vol. 20 (3). P. 571–610.
187. Sumpter T., Tankard J.W. The spin doctor: An Alternative model of public relations // Public Relations Review. 1994. Vol. 20 (1). P. 19–27.
188. Hart M. Het woeden der gehele wereld. Amsterdam: Arbeiderspers, 1993.
189. Taber C.S., Lodge M. Motivated skepticism in the evaluation of political beliefs // American Journal of Political Science. 2006. № 50. P. 755–769.
190. Tewksbury D., Jones J., Peske M.W., Raymond A., Vig W. The interaction of news and advocate frames: Manipulating audience perceptions of a local public policy issue // Journalism and Mass Communication Quarterly. 2000. № 77. Р 804–829.
191. Thelen K., Steinmo S. Historical institutionalism in comparative politics // Historical institutionalism in comparative politics: State, society, and economy / eds. S. Steinmo, K. Thelen, F. Longstreth. N.Y.: Cambridge University Press, 1992. P. 1—32.
192. Thornton P.H., Ocasio W. Institutional logics // The Sage Handbook of Organizational Institutionalism / eds. R. Greenwood, C. Oliver, K. Sahlin, R. Suddaby. London: Sage Publications, 2008. P. 371–388.
193. Tuchman G. Making news: A Study in the construction of reality. N.Y.: Free Press, 1978.
194. Tuchman G. The symbolic annihilation of women by the mass media // The manufacture of news: Deviance, social problems and the mass media / eds. S. Cohen, J. Young. Beverly Hills: Sage Publications, 1981. Р 169–185.
195. Leeuwen T. van, Wodak R. Legitimizing immigration control: A Discourse-historical perspective // Discourse Studies. 1999. Vol. 1 (1). P. 83—118.
196. van Ruler B., Vercic D. Reflective communication management // Paper presented at the 53rd Annual Conference of the International Communication Association «Communication in Borderlands». May, 23–27, 2003. San Diego, CA, USA.
197. Walton D. Deceptive arguments containing persuasive language and definitions // Argumentation. 2005. Vol. 19. P. 159–186.
198. Weick K.E. Sensemaking in organizations. Thousand Oaks: Sage Publications, 1995.
199. Wessler H. Investigating deliberativeness comparatively // Political Communication. 2008. Vol. 25 (1). P. 1—22.
200. Wolfsfeld G. Media and political conflict: News from the Middle East. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
201. Wolfsfeld G. Political waves and democratic discourse: Terrorism waves during the Oslo peace process // Mediated politics: Communication in the future of democracy / eds. W.L. Bennett, R.M. Entman. N.Y.: Cambridge University Press, 2001. P. 226–251.
202. Young I.M. Communication and the other: Beyond deliberative democracy // Democracy and difference – Contesting the boundaries of the political / ed. S. Benhabib. Princeton University Press, 1996.
203. Zaller J.R. A new standard of news quality: Burglar alarms for the monitorial citizen // Political Communication. 2003. № 20. P. 109–130.









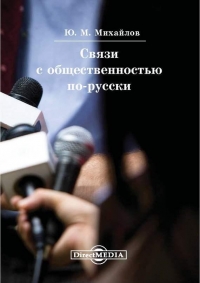
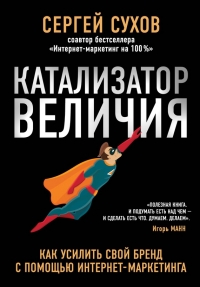
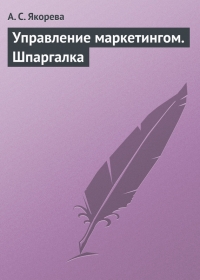
Комментарии к книге «Коммуникационный менеджмент власти», Николай Филиппович Пономарев
Всего 0 комментариев