Джером К.Джером. Трое на четырех колесах
ГЛАВА I
Необходимость переменить образ жизни. Нравоучительный случай, доказывающий плохие последствия обмана. Нравственная трусость Джоржа. Идеи Гарриса. Рассказ об опытном моряке и неопытном спортсмене. Веселая команда. Опасность плавания при береговом ветре. Дух противоречия у Этельберты. Гаррис предлагает путешествие на велосипедах. Джорж сомневается насчет ветра. Гаррис предлагает Шварцвальд. Джорж сомневается насчет гор. План Гарриса относительно подъема на горы. Миссис Гаррис прерывает беседу.
— Нам необходимо переменить на время образ жизни, — сказал Гаррис.
В эту минуту дверь полуоткрылась и в ней показалась головка миссис Гаррис. Этельберта прислала ее напомнить мне, что нам нельзя засиживаться, потому что Кларенс остался дома совсем больной. Мне лично беспокойство Этельберты кажется излишним. Если мальчик с самого утра выходит гулять с тетей, которая при его первом многозначительном взгляде на окно кондитерской заводит его туда и до тех пор угощает булочками с кремом, пока он настоятельно не начнет утверждать, что больше не может есть — то нет ничего подозрительного, когда он после этого за завтраком съедает только одну порцию пудинга. Но Этельберта приходит в ужас и решает, что у ребенка начинается какая-то серьезная болезнь.
Миссис Гаррис прибавила еще, чтобы мы поскорее шли наверх, так как Муриэль будет читать вслух комическое описание праздника из «Волшебного царства». Муриэль — старшая дочка Гарриса, умная, бойкая девочка восьми лет; мне больше нравится, когда она читает серьезные вещи; но мы ответили, что сейчас докурим папиросы и придем, а Муриэль пусть подождет. Миссис Гаррис обещала удержать ее, насколько возможно, и ушла. Лишь только дверь закрылась, Гаррис повторил прерванную фразу:
— Да, положительно нам нужна перемена.
Явился вопрос, как это устроить. Джорж предложил уехать «по делу». Такие вещи могут предлагать только холостяки: они воображают, что замужняя женщина не умеет ни перейти через улицу, когда ее выравнивают паровым катком, ни справляться с «делами» мужа. Я знал одного молодого инженера, который решил съездить в Вену «по делу“»и сказал об этом жене. Она пожелала узнать, по какому делу. Он отвечал, что ему необходимо осмотреть земляные работы в окрестностях Вены и написать о них отчет. Она заявила, что тоже поедет. Он считал земельные работы вовсе неподходящим местом для молодой прелестной женщины и так и сказал ей. Но оказалось, что она сама это прекрасно знает и вовсе не собиралась ходить с ним по разным канавам и туннелям, а будет ждать его возвращения в городе: в Вене можно прекрасно провести время, ходя по магазинам и делая покупки. Выпутаться из неудачного предложения оказалось невозможным; и мой приятель десять дней подряд осматривал земельные работы в окрестностях Вены и писал о них отчеты для своей фирмы, решительно никому ненужные, которые жена собственноручно опускала в почтовый ящик.
Я бы не хотел, чтобы Этельберта или миссис Гаррис принадлежали к такому типу жен; но, хотя они и не принадлежат, а к «делам» без крайней надобности все-таки прибегать не следует.
— Нет! — возразил я. — Надо быть честным и прямодушным. Я скажу Этельберте, что человек не может вполне оценить счастье, пока пользуется им ежедневно. Я скажу ей, что решаюсь оторваться от семьи на три недели (по крайней мере), чтобы в разлуке понять окончательно, как меня судьба балует счастьем. Я объясню ей, — продолжал я, повернувшись к Гаррису,— что это тебе мы обязаны такой...
Гаррис поспешно опустил на стол стакан вина:
— Я бы предпочел, чтобы ты не объяснял подробностей своей жене, — перебил он. — Если она начнет обсуждать подобные вопросы с моей женой, то... то на мою долю выпадет слишком много чести.
— Ты ее заслуживаешь.
— Вовсе нет. Собственно говоря, ты первый высказал эту мысль; ты сказал, что ненарушимое счастье у домашнего очага пресыщает и утомляет ум.
— Я говорил вообще!
— И мне такая мысль показалась очень меткой; я хотел передать твои слова Кларе: она ведь очень ценит тебя, как умного человека.
— Нет, лучше не передавай, — перебил я в свою очередь, — вопрос несколько щекотливый, и надо поставить, его проще: скажем, что Джорж это выдумал, вот и все.
У Джоржа положительно нет никакого понятия о деликатности, он меня очень огорчает: вместо того, чтобы с радостью вывести двух старых товарищей из затруднения, он начал говорить неприятности:
— Вы им скажите, или я сам скажу то, что я действительно предлагал: отправиться всем вместе, с детьми и с моей теткой в Нормандию, в один старый замок, который я знаю; там чудный климат, в особенности для детей, и прекрасное молоко. И я прибавлю, что вы моего плана не одобрили и решили, что одним нам будет веселее.
С таким человеком, как Джорж, нечего любезничать; Гаррис отвечал ему серьезно:
— Хорошо. Мы наймем этот замок. Ты обязуешься привезти свою тетку, и мы проведем целый месяц в недрах семейства; ты будешь играть с детьми в зверинец: с прошлого воскресенья Дик и Муриэль только о том и толкуют, какой ты чудный гиппопотам. Джея дети тоже любят, и он займется с Эдгаром рыбной ловлей. Нас будет всего одиннадцать душ — как раз милое общество, чтобы устраивать пикники в лесу; Муриэль будет нам декламировать, она знает уже шесть стихотворений, а остальные дети живо нагонят ее.
У Джоржа в сущности очень мало энергии. Он сразу переменил тон, только не изящно: он отвечал, что если у нас хватит низости устроить такую штуку, то, конечно, он ничего не может сделать. К этому он прибавил, что если я не намерен выпить все красное вино, то и он попросил бы стаканчик.
Таким образом первый пункт выяснился. Осталось решить окончательно — как нам развлечься втроем.
Гаррис по обыкновению стоял за море: он знал какую-то яхту, с которой мы могли бы отлично управиться сами без лентяев-матросов, уничтожающих всю поэзию плавания; но оказалось, что и мы с Джоржем знаем эту яхту: она вся пропитана запахом трюмной воды, которого не может рассеять никакой морской ветер; негде спрятаться от дождя, кают-компания длиною в десять футов, а шириной в четыре, и половина ее занята разваливающейся печкой; утреннюю ванну приходится брать на палубе и потом бегать за полотенцем, которое подхватило ветром. Гаррис с юнгой взяли бы на себя всю интересную работу с парусами, а мне с Джоржем предоставили бы чистить картофель, — уж я это знаю.
Мы отказались.
— Ну, наймем в таком случае хорошую настоящую яхту со шкипером, — предложил Гаррис, — и будем плавать по-аристократически.
Этому я тоже воспротивился. Я знаю, что значит иметь дело со шкипером! Его любимое занятие — стоять в гавани против избранного кабака и ждать попутного ветра.
Много лет назад, когда я был еще молод и неопытен, мне случилось испытать «плавание»на наемной яхте со шкипером. Три обстоятельства вовлекли меня в эту глупость: во-первых, я случайно получил хороший заработок; во-вторых, Этельберте ужасно захотелось подышать морским воздухом, и в-третьих, мне попалось на глаза заманчивое объявление в газете «Спортсмен»: «Любителям морского спорта. — Редкий случай! «Головорез», 28-тонный ял. Собственник судна, по случаю внезапного отъезда, согласен отдать свою «борзую моря»внаем на какой угодно срок. Две каюты и кают-компания; пианино Воффенкоффа; вся медь на судне новая. Условия: 10 гиней в неделю. Обращаться к Пертви и К0, Бокльсберри».
Это звучало как волшебный ответ на тайные мечты. «Новая медь»меня не интересовала: мы могли бы обойтись и со старой, даже без чистки, но «пианино Воффенкоффа»меня покорило!... Я представил себе Этельберту, наигрывающую в вечерний час мелодичную песню с припевом, который стройно подхватят голоса команды... А наша «борзая моря»несется легкими скачками по серебристым волнам...
Я взял кэб и немедленно отправился в номер третий по Бокльсберри. Мистер Пертви оказался ничуть не гордым джентльменом; я нашел его в конторе довольно скромного вида на третьем этаже. Он показал мне изображение яхты акварелью: «Головорез» летел против ветра, с палубой, наклоненной к горизонту воды под прямым углом; на палубе не было видно ни одной души — все, очевидно, сползли в море. Я обратил внимание хозяина яхты на такое неудобство положения судна, при котором пассажирам оставалось прибивать себя к палубе гвоздями; но он отвечал, что «Головорез» изображен в ту минуту, когда он «огибал» какое-то место на гонках, на которых получил приз. Об этом факте мистер Пертви говорил таким тоном, как о событии, известном всему миру; поэтому мне не хотелось расспрашивать о подробностях. Два черных пятнышка на картине возле рамы, которые я принял сначала за мошек, оказались яхтами, пришедшими вслед за «Головорезом» в день знаменитой гонки. Фотографический снимок с того же судна, стоящего на якоре в Гревзенде, производил меньше впечатления; но так как все ответы на мои вопросы были удовлетворительны, то я сказал, что нанимаю яхту на две недели. Мистер Пертви нашел такой срок очень подходящим; если бы я захотел заключить условие на три недели, то ему пришлось бы мне отказать, но двухнедельный срок замечательно удачно совпадал с временем, которое было уже обещано после меня другому любителю спорта.
Затем мистер Пертви осведомился, есть ли у меня в виду хороший шкипер, и когда я сказал, что нет, то это тоже оказалось замечательно удачным (судьбе, видимо, захотелось побаловать меня): у мистера Пертви не был еще отпущен прежний шкипер яхты, мистер Гойльс, — человек, который еще никого не утопил в своей жизни и знает море как собственную жену.
«Головорез» стоял в Гарвиче, и, пользуясь свободным утром, я решил съездить и осмотреть его сейчас же. Я еще поспел к поезду в 10 ч. 45 м. и около часу был на месте.
Мистер Гойльс встретил меня на палубе. Это был толстяк очень добродушного и почтенного вида. Я объяснил ему мое намерение объехать Голландские острова и затем подняться к северу к берегам Норвегии. «Вот-вот, сэр!»— отвечал толстяк с видимым одобрением и восторгом. Он увлекся еще больше, когда начали обсуждать вопрос о съестных припасах и потребовал такое количество провианта, что я был поражен; если бы мы жили во времена адмирала Дрейка или испанского владычества на морях, я подумал бы, что мистер Гойльс собирается в дальнее и незаконное плавание.
Тем не менее он добродушно засмеялся и уверил меня, что лишнего мы ничего не возьмем: если что-нибудь останется, то матросы поделятся и возьмут с собой по домам. Казалось, таков был обычай на яхте. Когда количество всех съестных припасов было установлено и очередь дошла до напитков, то я почувствовал странное обязательство заготовить продовольствие для всего экипажа на целую зиму, но молчал, чтобы не показаться скупым. Только когда мистер Гойльс с большой заботливостью осведомился, сколько бутылок будет взято собственно для матросов, то я скромно заметил, что не намеревался устраивать никаких оргий.
— Оргий! — повторил мистер Гойльс. — Да они выпьют эти капли с чаем. Надо нанимать хороших людей и обращаться с ними хорошо; тогда они будут хорошо работать и являться по первому вашему зову.
Я не чувствовал желания, чтобы они являлись по первому моему зову; у меня в сердце зародилась антипатия к этим матросам, прежде чем я их увидел. Но мистер Гойльс был очень воодушевлен, а я очень неопытен и подчинился ему во всем. Он обещал, что «не прозевает ни крошки и справится со всем сам, с помощью только двух матросов и одного мальчика». Не знаю, к чему последнее относилось — к провианту или к управлению яхтой.
По дороге домой я зашел к портному и заказал себе подходящий костюм с белой шляпой; портной обещал поспешить и приготовить его вовремя. Когда я, вернувшись, рассказал все Этельберте, она пришла в восторг и взволновалась только одним обстоятельством: успеет ли она сшить себе платье. Это совсем по-женски!
Наш медовый месяц кончился еще недавно — и кончился, благодаря посторонним условиям, раньше, чем мы этого желали; поэтому теперь нам захотелось вознаградить себя, и мы решили не приглашать с собой ни души знакомых. И слава Богу, что так решили. В понедельник костюмы были готовы, и мы отправились в Гарвич. Не помню, какой костюм приготовила себе Этельберта; мой был весь обшит узенькими белыми тесемочками — очень интересно.
Мистер Гойльс встретил нас на палубе радушным приветствием, что завтрак готов. Надо отдать ему справедливость: поварские способности были у него хорошие. О способностях остального экипажа мне судить не пришлось; одно могу сказать — ребята скучать не любили.
Я думал, что как только команда отобедает, мы подымем якорь и пойдем в море... Я закурю сигару и вместе с Этельбертой буду следить, облокотившись на поручень, за мягко тающими на горизонте белыми скалами родного берега...
Мы исполнили свою часть программы, но при совершенно пустой палубе.
— Они, кажется, не спешат отобедать, — заметила Этельберта.
— Если они в две недели собираются съесть хотя половину запасов, то нам их нельзя торопить: не поспеют, — отвечал я.
Прошло еще несколько времени.
— Они, вероятно, все заснули! — заметила опять Этельберта. — Ведь скоро пять часов, пора чай пить.
Тишина действительно стояла полная. Я подошел к лестнице и окликнул мистера Гойльса. Мне пришлось кликнуть три раза, и тогда только он появился на зов. Почему-то он казался более старым и «рыхлым», чем прежде; во рту у него была потухшая сигара.
— Когда вы будете готовы, капитан, мы тронемся,— сказал я.
— Сегодня мы не тронемся, с вашего позволения, сэр.
— А что такое сегодня? Плохой день?
У моряков много примет, и я думал, что мистеру Гойльсу не понравился чем-нибудь самый день.
— Нет, день ничего; только ветер, кажется, не хочет меняться.
— А разве ему нужно меняться? Как будто он дует прямо в море.
— Вот-вот, сэр! Именно: он бы и нас отправил прямо в море, если бы мы снялись с якоря. Видите ли, сэр, — прибавил он в ответ на мой удивленный взгляд, — это ветер береговой.
Ветер был действительно береговой.
— Может быть, за ночь переменится! — И, одобрительно кивнув головой, мистер Гойльс разжег потухшую сигару. — Тогда тронемся: «Головорез» хорошее судно.
Я вернулся к Этельберте и рассказал о причине задержки. Она была уже не в том милом настроении, как утром, и пожелала узнать, почему нельзя поднять паруса при береговом ветре.
— Если бы ветер был с моря, то нас выбросило бы обратно на берег, — заметила она. — Кажется, теперь самый подходящий ветер.
— Да, тебе так кажется, дорогая моя, но береговой ветер всегда очень опасен.
Этельберта пожелала узнать, почему береговой ветер всегда очень опасен. Ее настойчивость огорчила меня.
— Я этого не сумею объяснить, но идти в море при таком ветре было бы ужасным риском, а я тебя слишком люблю, моя радость, чтобы рисковать твоей или своей собственной жизнью.
Я думал, что объяснил очень мило, но Этельберта только пожалела, зачем уехала из Лондона днем раньше, чем следовало, и ушла в каюту.
Мне стало почему-то досадно. Легкая качка яхты, стоящей на якоре, может испортить самое блестящее настроение.
Утром я был на ногах чуть свет. Ветер дул прямо с севера. Я сейчас же отыскал шкипера и сообщил ему о своем наблюдении.
— Да, да, сэр. Очень печально, но мы этого изменить не можем.
— Как? Нам и сегодня нельзя тронуться с места?!
— Видите ли, сэр, если бы вы хотели идти в Ипсвич — хоть сейчас! Сколько угодно! Но так как наша цель Голландские острова, вот и приходится сидеть.
Я передал эти новости Этельберте, и мы решили провести весь день в городе. Гарвич место вообще не веселое, а к вечеру совсем скучное. Побродив по ресторанам, мы вернулись на набережную. Шкипера на месте не было. Вернулся он через час в более веселом настроении, чем мы, даже в очень веселом; если бы я не слыхал от него лично, что он пьет ежедневно только один стакан грогу перед сном, то принял бы его за пьяного. На следующее утро ветер дул с юга. Шкипер встревожился, говоря, что если это будет продолжаться, то нам нельзя ни двигаться, ни стоять на месте. У Этельберты начало зарождаться чувство острой неприязни к яхте, и она объявила, что предпочла бы провести неделю в надежной купальне. Два дня прошли в большом беспокойстве. Мы спали на берегу в гостинице. В пятницу ветер задул с востока. Я встретил шкипера на набережной и сообщил ему радостную весть. Он даже рассердился:
— Что вы, сэр! Если бы вы больше понимали, то видели бы, что ветер дует прямо с моря!
Тогда я спросил серьезно:
— Скажите пожалуйста, что я нанял? Плавучий дом или яхту? Что это такое?
— Это — ял, — ответил он, несколько озадаченный.
— Дело в том, — продолжал я, — что если это плавучая дача, то мы купим плюща, побольше цветов и постараемся сделать жилище поуютнее. Если же штуку возможно двинуть с места...
— Двинуть с места! Да нам нужен только попутный ветер.
— А что вы называете попутным ветром?!
Шкипер молчал.
— За эту неделю ветер был с запада, с севера, с юга и востока. Если вы мне укажите еще на какую-нибудь часть света, откуда мы должны ждать попутного ветра, то я буду ждать. Но если у вас компас обыкновенный и если наш якорь не прирос еще к морскому дну, то мы его сегодня подымем!
Он понял, что я решился.
— Хорошо, сэр, — ответил он. — Вы хозяин, а я — работник. Теперь у меня остался на попечении только один ребенок, и, в случае чего, ваши душеприказчики, конечно, окажут помощь моей вдове.
Его серьезность поразила меня.
— Мистер Гойльс, — сказал я, — будьте со мной откровенны: бывает ли на свете такая погода, при которой мы могли бы выйти из этой противной ямы?
— Видите ли, сэр, если бы мы очутились в море, все пошло бы как по маслу; но дело в том, что выйти из гавани в этой скорлупе,— дело не шуточное.
Разговор окончился трогательным обещанием шкипера «следить за погодой, как мать следит за спящим младенцем». В следующий раз я увидел его в полдень: он следил за погодой из окна «Цепи и якоря».
В пять часов того же дня счастье мне слегка улыбнулось: я встретил на улице двух товарищей, которые должны были остановиться на время в Гарвиче, так как на их яхте поломался руль. Наша история не удивила, а рассмешила их: мы забежали за Этельбертой в гостиницу и вчетвером прокрались на набережную к нашему судну. Мистер Гойльс все еще следил за погодой из окна ближайшего кабака. Застав на месте только юнгу, мы были очень довольны; товарищи взяли на себя управление яхтой, и через час мы уже весело неслись вдоль берега. На ночь остановились в Альдборо, а на следующий день добрались до Ярмута. Здесь надо было расстаться с товарищами и закончить плавание. Все запасы мы распродали на берегу с аукциона; это было не особенно выгодно, но зато капитану Гойльс у ничего не осталось.
Я оставил «Головореза»на попечение местного моряка, который за пару соверенов взялся доставить его обратно. Мы вернулись в Лондон по железной дороге.
Может быть и бывают яхты не такие, как «Головорез», и шкиперы не такие, как мистер Гойльс, но единственный опыт восстановил меня против тех и других.
Джорж тоже нашел, что прогулка на яхте была бы слишком ответственным удовольствием, и таким образом этот план провалился.
— Ну, а река? — предложил Гаррис. — Ведь мы на ней когда-то славно погуляли!..
Джорж молча затянулся сигарой; я взял щипцы и раздавил еще один орех.
— Не знаю... — заметил я. — Темза теперь стала какая-то другая... Сыро на ней, что ли, но только у меня от речного воздуха всегда ломит поясницу.
— Представь себе, я замечаю то же самое, — прибавил Джорж.— Когда я последний раз гостил у знакомых на реке, то ни разу не мог спать дольше семи часов утра.
— Я не настаиваю, — заметил Гаррис. — Я предложил вообще, а при моей подагре, конечно, на реке мало удовольствия.
— Мне лично приятнее всего было бы подышать горным воздухом, — сказал я. — Что вы скажете относительно прогулки пешком по Шотландии?
— В Шотландии всегда мокро, — заметил Джорж. — Я там был два года назад и в продолжение трех недель ни разу не был сух, — вы понимаете, что я хочу сказать.
— В Швейцарии довольно мило, — заметил Гаррис.
— В Швейцарию нас никогда не отпустят одних,— сказал я. Мы должны выбирать местность, где не могут жить ни хрупкие женщины, ни дети; где ужасные гостиницы и ужасные дороги; где нам придется бороться с природой, работать собственными руками и, может быть, умирать с голода.
— Тише, тише! — прервал Джорж. — Не забывай, что я отправляюсь с вами.
— Придумал! — воскликнул Гаррис. — Отправимся на велосипедах!
На лице Джоржа выразилось сомнение.
— На велосипедах в горы?.. А подъемы? А ветер?
— Так не везде же подъемы, есть и спуски; а ветер не обязательно дует в лицо, иногда и в спину.
— Я этого никогда не замечал, — упорствовал Джорж.
— Положительно, лучше прогулки на велосипедах ничего не выдумаешь!
Я готов был согласиться с Гаррисом.
— И я вам скажу, где именно, — продолжал он. — В Шварцвальде.
— Да ведь это все в гору! — воскликнул Джорж.
— Во-первых, не все, а во-вторых (Гаррис осторожно оглянулся и понизил голос до шепота) — они там проложили на крутых подъемах маленькие железные дороги, такие вагончики на зубчатых колесах...
В эту минуту дверь отворилась и вошла миссис Гаррис. Она объявила, что Этельберта надевает шляпку, а Муриэль, не дождавшись нас, уже прочла описание праздника из «Волшебного царства».
— Соберемся завтра в клубе в четыре часа,— шепнул мне Гаррис, вставая.
Я передал распоряжение Джоржу, подымаясь рядом с ним по лестнице.
ГЛАВА II
Щекотливое дело. Что Этельберта должна была сказать. Что Этельберта сказала. Что миссис Гаррис сказала. Что мы сказали Джоржу. Отъезд назначен на среду. Джорж указыает на возможность развить наш ум. Мы с Гаррисом сомневаемся. Кто больше работает на тандеме? Мнение человека, сидящего сзади. Мнение человека, сидящего спереди. О том, как Гаррис потерял свою жену. Здравый смысл моего дяди Поджера. Начало истории о человеке, у которого был мешок.
Я «открыл огонь» в тот же вечер. Мой план сражения был следующий: я начну раздражаться из-за пустяков; Этельберта это заметит; я должен буду признать ее замечание справедливым и сошлюсь на переутомление; это поведет к разговору о моем здоровье вообще и к решению принять немедленные и действенные меры.
Я думал, что при помощи легкой тактики с моей стороны Этельберта сама обратится ко мне с речью в таком роде:
— Нет, дорогой мой, тебе нужна перемена, полная перемена обстановки! Будь умным и уезжай на месяц... Нет, не проси меня ехать с тобой: я знаю, это было бы тебе приятно, но я не поеду. Я сознаю, что мужчине иногда необходимо общество других мужчин. Постарайся уговорить Джоржа и Гарриса ехать с тобой. Поверь мне, что такой ум, как твой, требует отдыха от мелочей домашней жизни. Забудь на время, что детям нужны уроки музыки, новые сапоги, велосипеды и приемы ревенного порошка по три раза в день; забудь, что есть на свете кухарки и обойщики, и соседские собаки, и счеты из мясных лавок. Удались в какой-нибудь зеленый уголок, где для тебя все свежо и ново, и где твой истомленный ум отдохнет для новых светлых мыслей. Уезжай на время: тогда я пойму твою доброту и твои достоинства, — потому что, как простая смертная, я могу стать равнодушной даже к свету солнца и к красе месяца, пользуясь ими постоянно. Уезжай — и возвращайся еще более милым, если это только возможно!
Но даже в том случае, когда наши желания исполняются, это происходит не совсем в той форме, как мы мечтали... Во-первых, Этельберта даже не заметила моей раздражительности. Пришлось самому указать ей на это; я сказал:
— Прости меня. Сегодня я себя как-то странно чувствую.
— Разве? Я ничего не заметила. Что с тобой?
— Сам не знаю. Уже несколько последних недель у меня накоплялась какая-то тяжесть.
— А, это вино! — спокойно заметила Этельберта.— Ты ведь знаешь, что не можешь выносить ничего крепкого, а у Гарриса всякий раз пьешь.
— Нет, не вино! Это что-то более серьезное, более. .. нравственное, — отвечал я.
— Ну, так ты опять читал рецензии, — заметила она более сочувственно. — Почему ты не исполняешь моего совета бросать их прямо в печку?
— И вовсе не рецензии! — отвечал я.—За последнее время мне попались две-три отличные!..
— Так в чем же дело? Какая-нибудь причина должна быть.
— Нет никакой причины; в том-то и дело, что я могу назвать это чувство только безотчетным беспокойством, которое охватило все мое существо.
Этельберта поглядела на меня несколько странно, но ничего не сказала. Я продолжал:
— Эта давящая монотонность жизни, эти дни невозмутимого блаженства — они гнетут меня!
— Я бы не стала ворчать на это, — заметила Этельберта. — Могут настать дни в другом роде, которые нам еще меньше понравятся.
— Не знаю, — отвечал я. — По-моему, при постоянной радости даже боль должна быть приятным разнообразием. Для меня лично вечное блаженство без всякого диссонанса кончилось бы сумасшествием. Вполне признаю, я человек странный; бывают минуты, когда я сам себя не понимаю и ненавижу...
Очень часто монолог в таком роде — с намеками на тайные, глубокие страдания — трогал Этельберту; но в этот вечер она была удивительно хладнокровна; относительно вечного блаженства она заметила, что незачем забегать вперед навстречу горестям, которых, может быть, никогда не будет; по поводу моего признания насчет странности характера она философски посоветовала примириться с подобным фактом, говоря, что это не мое дело, если окружающие согласны выносить мое присутствие. А насчет однообразия жизни согласилась вполне:
— Ты не можешь себе представить, как мне хочется иногда уйти даже от тебя! — заметила она. — Но я знаю, что это невозможно, так и не мечтаю.
Никогда прежде не слыхал я от Этельберты подобных слов; они меня ужасно огорчили.
— Ну, это не любезное замечание со стороны жены! — заметил я.
— Знаю, оттого я раньше и молчала. Вы, мужчины, никогда не поймете того, что как бы женщина ни любила, но бывают минуты, когда даже любимый человек становится ей в тягость. Ты не знаешь, до чего мне иной раз хочется надеть шляпку и уйти — не давая отчета, куда я иду, и зачем иду, и надолго ли, и когда вернусь! Ты не знаешь, как мне иногда хочется заказать обед, который я и дети ели бы с наслаждением, но от которого ты убежал бы в клуб! Ты не знаешь, как мне иногда хочется пригласить какую-нибудь женщину, которую я люблю, хотя ты ее терпеть не можешь; пойти в гости туда, куда мне хочется; лечь спать тогда, когда я устала, и встать тогда, когда мне больше не хочется спать!.. Но люди, которые живут вдвоем, обязаны постоянно уступать один другому, и это даже иногда полезно.
Впоследствии, обдумав слова Этельберты, я нашел их вовсе не глупыми, но тогда пришел в негодование:
— Если тебе хочется от меня отделаться...
— Ну, не изображай идиота. Если я хочу от тебя иногда отделаться, так только на время, для того, чтобы забыть некоторые углы твоего характера; для того, чтобы вспоминать, какой ты славный в других отношениях, и ждать твоего возвращения домой с таким же нетерпением, как в былые дни, когда твое присутствие еще не вызывало во мне некоторого равнодушия... Я, может быть, несколько привыкла к тебе, как привыкают к солнцу!
Мне не понравился этот тон. Этельберта рассуждала о возможной разлуке с мужем каким-то легкомысленным образом, вовсе не женственным, не подходящим к случаю и вовсе не симпатичным! Мне стало досадно. Мне уже вовсе не хотелось уезжать и развлекаться. Если бы не Джорж и Гаррис — я сразу отказался бы от плана. Но отказываться было поздно, и я не знал, как выпутаться с достоинством.
— Хорошо, Этельберта, — отвечал я. — Сделаем так, как ты хочешь: ты отдохнешь от моего присутствия. Но, если это не дерзость со стороны мужа, то я хотел бы узнать, как ты воспользуешься временем нашей разлуки?
— Мы наймем дачу в Фолькстоне и поедем туда с Кэт. Если ты согласен доставить Кларе Гаррис удовольствие, то уговори Гарриса поехать с тобой, а она присоединится к нам. Нам бывало очень весело вместе — прежде, когда вас, мужчин, еще не было на нашем горизонте — и мы с удовольствием пожили бы так опять!.. Как ты думаешь, — продолжала Этельберта,— удастся ли тебе уговорить Гарриса?
Я сказал, что попробую.
— Вот милый! — отвечала Этельберта. — Постарайся! Можете уговорить и Джоржа отправиться с вами.
Я заметил, что от Джоржа мало пользы, так как он — холостяк, и некому будет воспользоваться его отсутствием. Но женщины никогда не понимают сатиры. Этельберта просто заметила, что не пригласить его было бы невежливо. Я обещал пригласить.
Я встретил Гарриса в клубе в четыре часа и спросил, как дела.
— О, отлично, — отвечал он. — Уехать вовсе не трудно.
Но в его тоне не слышалось полного удовлетворения, и я потребовал объяснений.
— Она была нежна, как голубка, — продолжал он уныло, — и сказала, что Джорж очень остроумно изобрел эту поездку, которая принесет много пользы моему здоровью.
— Ну, что же тут дурного?
— В этом нет ничего дурного, но она заговорила о других вещах.
— А! Понимаю...
— Ты ведь знаешь ее давнюю мечту о ванной комнате?
— Слыхал. Она и Этельберту подговаривала.
— Ну, так вот: я обязан был немедленно согласиться на устройство ванной; не мог же я отказать, когда она меня так мило отпустила. Это обойдется мне в сто фунтов, если не больше.
— Так много?
— Еще бы! По одной смете шестьдесят.
Мне стало его жаль.
— А затем еще печь в кухне, — продолжал Гаррис.— Считается, что все несчастья в доме за последние два года происходили из-за этой печки.
— Я знаю, с кухонными печами всегда история. У нас на каждой квартире, со времен свадьбы, дело с ними идет все хуже и хуже. В настоящее время наша печка отличается даже ехидством: она «делает сцену» каждый раз, когда приходят гости.
— А у нас теперь будет отличная, — заметил Гаррис, но без всякой гордости в голосе. — Клара нашла это большим сбережением, если сделать обе работы одновременно... Мне думается, если хочет женщина купить бриллиантовую тиару, она будет убеждена, что избегает расходов на шляпку.
— А сколько будет стоить печь? — спросил я. — Меня этот вопрос заинтересовал.
— Не знаю; вероятно, еще двадцать фунтов. И затем рояль... Ты мог когда-нибудь отличить звуки одного рояля от другого?
— Одни как будто бы громче других, — отвечал я, — но к этой разнице легко привыкнуть.
— В нашем рояле, оказывается, совсем плохие дисканты... Кстати, ты понимаешь, что это значит?
— Это, кажется, пискливые ноты, — объяснил я. — Все блестящие пьесы на них кончаются.
— Ну, так вот: говорят, что на нашем рояле мало дискантов; надо больше! Я должен купить новый рояль, а этот поставить в детскую.
— А еще что? — спросил я.
— Больше, кажется, она ничего не могла придумать.
— Когда вернешься домой, то увидишь, что уже придумала.
— Что такое?
— Дачу в Фолькстоне.
— Зачем ей дача в Фолькстоне?
— Чтобы провести там лето.
— Нет, она поедет с детьми к своим родным в Валлис, нас приглашали.
— Может быть, она и поедет в Валлис, но до Валлиса или после Валлиса она поедет еще в Фолькстон. Может быть, я ошибаюсь — и был бы очень рад за тебя, — но предчувствую, что говорю верно.
— Наша поездка обойдется порядочно дорого,— заметил Гаррис.
— Джорж преглупо выдумал.
— Да, не надо было его слушаться.
— Он всегда все портит.
— Ужасно глуп.
В эту секунду мы услышали голос Джоржа в прихожей: он спрашивал, нет ли писем.
— Лучше ему ничего не говорить, — предложил я. — Уже слишком поздно.
— Конечно. Мне все равно пришлось бы теперь покупать рояль и устраивать ванную.
Джорж вошел очень веселый:
— Ну, как дела? Добились?
В его тоне была какая-то нотка, которая мне не понравилась, и я видел, что Гаррис ее тоже заметил.
— Чего добились? — спросил я.
— Как чего? Чтобы выбраться на свободу!
Я почувствовал, что пора объяснить Джоржу положение вещей.
— В семейной жизни, — сказал я, — мужчина предлагает, а женщина подчиняется. Ее долг подчиняться. Все религии этому учат.
Джорж сложил руки на груди и устремил глаза в потолок.
— Конечно, мы иногда шутим на эту тему, — продолжал я, — но на деле всегда выходит одинаково. Мы сказали Этельберте и Кларе, что едем: конечно, они опечалились и хотели ехать с нами; потом просили нас остаться; но мы им объяснили свое желание — вот и все; не о чем было и толковать.
— Простите меня, — отвечал Джорж,— я не понял. Женатые люди рассказывают мне разные вещи, и я всему верю.
— Вот это-то и плохо. Когда хочешь узнать правду, приходи к нам, и мы тебе расскажем всю правду.
Джорж поблагодарил и мы перешли к делу.
— Когда же мы отправимся? — спросил Джорж.
— По-моему, чем скорее, тем лучше.
Гаррис, вероятно, боялся, как бы жена еще чего-нибудь не выдумала. Назначили отъезд на среду.
— А какой мы выберем маршрут? — спросил Гаррис.
— Ведь вы, господа, конечно, хотите воспользоваться путешествием для умственного развития? — заметил Джорж.
— Ну, не много ли это будет! Зачем же подавлять других людей нашим развитием? — заметил я. — До некоторой степени, пожалуй, можно, если не будет стоить больших трудов и издержек.
— Это мы устроим, — отвечал Джорж. — Мой план таков: поедем в Гамбург на пароходе, посмотрим Берлин и Дрезден, а оттуда — через Нюренберг и Штутгард — в Шварцвальд.
Гаррис забормотав что-то; оказалось, что ему вдруг захотелось в Месопотамию: «там, говорят, есть хорошенькие местечки».
Но Джорж не согласился; это было совсем не по дороге; и он уговорил нас ехать на Берлин и Дрезден.
— Конечно, Гаррис и я поедем по обыкновению на тандеме, а Джорж...
— Вовсе нет, — строго перебил Гаррис. — Ты с Джоржем на тандеме, а я отдельно.
— Я не отказываюсь от своей доли труда, — перебил я в свою очередь, — но не согласен тащить Джоржа все время. Это надо разделить.
— Хорошо, — согласился Гаррис, — разделим, труд пополам, но с непременным условием, чтобы и Джорж работал!
— Чтобы что?.. — переспросил Джорж.
— Чтобы и ты работал! — строго повторил Гаррис.— И в особенности при подъемах.
— Господи помилуй! Неужели ты сам не чувствуешь никакой необходимости в гимнастике?
Из-за тандема всегда выходят неприятности: человек, сидящий впереди, воображает, что он один работает, и что тот, кто сидит за ним, просто катается, а человек, сидящий сзади, глубоко убежден, что передний пыхтит нарочно и ничего не делает. Это трудноразрешимый вопрос! Когда осторожность подсказывает вам не убивать себя излишним усердием, и справедливость шепчет на ухо: «Чего ради ты его везешь? Ведь это не кэб, и он не седок твой», — то делается как-то неловко при искреннем вопросе товарища: «Что случилось? Потерял педаль?»
Скоро после своей женитьбы Гаррис попал однажды в затруднительное положение, благодаря невозможности знать, что делает человек, сидящий за вами на тандеме. Они с женой путешествовали таким образом по Голландии. Дороги были неровные и велосипед сильно подбрасывало.
— Сиди крепко, — заметил Гаррис жене, не оборачиваясь.
Миссис Гаррис показалось, что он сказал: «прыгай»! Почему ей показалось, что он сказал «прыгай», когда он сказал «сиди крепко»— это до сих пор неизвестно. Миссис Гаррис объясняет так:
— Если бы ты сказал: «сиди крепко»— чего ради я бы спрыгнула?
А Гаррис объясняет:
— Если бы я хотел, чтобы ты прыгала, зачем бы я сказал: «сиди крепко»?
Самая горечь катастрофы уже прошла, но они до сих пор спорят по этому поводу.
Словом, миссис Гаррис, спрыгнула с тандема в полном убеждении, что исполняет приказание мужа, а Гаррис помчался вперед, усиленно работая педалями, в полном убеждении, что жена сидит у него за спиною. Сначала миссис Гаррис подумала, что ему пришло в голову похвастаться, как хорошо он въедет на вершину холма один. Они оба были еще молоды в те дни и часто устраивали такие вещи. Она ожидала, что доехав до верху, он спрыгнет с велосипеда и, грациозно облокотись на него в непринужденной позе, подождет ее. Но когда молодая женщина увидела, что ее муж, домчавшись до горизонта холма, перелетел через него и исчез по ту сторону, ею овладело сначала изумление, потом негодование и, наконец, ужас. Она взбежала наверх и стала громко звать Гарриса, но он ни разу даже не повернул головы. На ее глазах он удалялся с быстротою ветра, пока не исчез в лесу, мили за полторы от холма. Она села и расплакалась. В это утро у них произошла маленькая размолвка и ей пришло в голову, не обиделся ли он настолько, что сбежал!..
У нее не было денег; она не понимала по-голландски. Проходившие люди начали останавливаться и собирались вокруг нее с сожалением; она старалась объяснить жестами свое несчастье. Они поняли, что она что-то потеряла, но не могли понять — что, именно и отвели ее в деревню; там привели к ней полисмена. Тот долго вникал в ее пантомиму и вывел заключение, что у нее украли велосипед. Сейчас же полетели во все концы телеграммы, и за четыре мили нашелся в одной деревне злополучный мальчишка, ехавший на старом дамском велосипеде. Захватили его и привезли в телеге, вместе с велосипедом, к миссис Гаррис. Но та выказала полное равнодушие к обоим, и голландцы отпустили мальчишку на свободу, окончательно отупев от удивления.
Между тем Гаррис продолжал катить на тандеме с большим наслаждением. Ему казалось, что он очень окреп и вообще стал лучше ездить. Вот он и говорит (как думал — своей жене):
— Я уже давно не чувствовал такой легкости на этом велосипеде. Вероятно, это действие здешнего воздуха!
Потом он прибавил, чтобы она не боялась, и он покажет ей, как скоро можно ехать, если работать изо всей силы. И, нагнувшись вперед, Гаррис помчался... Дома и церкви, собаки и цыплята мелькали на мгновение перед его глазами и исчезали бесследно. Старики глядели ему вслед, качая головами, а дети встречали и провожали восторженным криком.
Таким образом Гаррис проехал миль пять. Вдруг — как он теперь объясняет — он почувствовал, что что-то неладно. Молчание его не поразило: ветер свистел в ушах, сам велосипед тоже производил порядочный шум, и Гаррис не ожидал услышать ответа на свои слова. Но на него вдруг нашло ощущение пустоты. Он протянул назад одну руку и встретил пустое пространство... Скорее свалившись, чем спрыгнув на землю, он огляделся: за ним тянулась окаймленная темным лесом прямая белая дорога и на ней — ни души... Он вскочил на велосипед и полетел обратно. Через десять минут он был на том месте, где дорога разделялась на четыре ветви. Он остановился, стараясь вспомнить, по которой из них приехал. В это время проезжал голландец, сидя по-дамски на лошади. Гаррис остановил его и объяснил, что потерял жену. Тот не выказал ни удивления, ни сожаления. Пока они разговаривали, приблизился другой фермер, которому первый рассказал дело не как несчастный случай, а как хорошую историю. Второй фермер удивился, почему Гаррис так беспокоится; последний выбранил обоих, вскочил на тандем и покатил наудачу по средней дороге. Через несколько времени ему повстречались две молодых женщины под руку с молодым человеком, с которым они кокетничали напропалую. Гаррис спросил, не видали ли они его жену. Молодые женщины осведомились, какого она вида. Гаррис знал по-голландски недостаточно, чтобы описать дамский туалет, и описал жену вообще, как красавицу среднего роста. Это их не удовлетворило: приметы были недостаточны; так всякий мужчина может предъявить права на красивую женщину и требовать к себе чужую жену! Они желали знать, как она была одета; но этого Гаррис не мог припомнить ни за какие коврижки. Я вообще сомневаюсь, может ли мужчина вспомнить, как была одета женщина, если прошло больше десяти минут со времени их разлуки. Гаррис, впрочем, сообразил, что на его жене была голубая юбка и потом что-то такое от талии до шеи, на чем эта юбка держалась; осталось у него еще смутное представление о поясе; но какого сорта и какого цвета была блузка?.. Зеленая? Голубая? Или желтая? С воротником или бантом? И что было на шляпке — перья или цветы? И вообще была ли это шляпка? Он боялся дать неверные показания, чтобы его не услали Бог знает куда. Молодые женщины хохотали и еще больше раздражали моего друга. Их спутник, которому видимо хотелось отделаться от Гарриса, посоветовал ему обратиться в полицию ближайшего городка. Гаррис так и сделал. Ему дали лист бумаги и велели составить подробное описание жены, с указаниями, когда и где он ее потерял. Он этого не знал; все, что он мог сообщить, это название деревни, где они последний раз завтракали; оттуда они выехали вместе. Полиции дело показалось подозрительным; сомнительно было во-первых, действительно ли потерянная дама — его жена? Во-вторых, действительно ли он ее потерял? В-третьих, почему он ее потерял?
Кое-как, с помощью хозяина гостиницы, который немного говорил по-английски, Гаррису удалось успокоить их подозрения. Ему обещали действовать и к вечеру доставили миссис Гаррис в закрытой телеге, вместе со счетом. Встреча не была нежной. Миссис Гаррис — плохая актриса и не умеет скрывать своих чувств; а в этом случае, по ее собственному признанию, она и не старалась скрывать их...
Решив, кому из нас ехать на тандеме, а кому на велосипеде, мы перешли к вечному вопросу о багаже.
— Обычный список, я думаю! — сказал Джорж, собираясь записывать.
Это я обучил их такому умному правилу, а меня научил давным-давно дядя Поджер.
— Прежде чем начинать укладываться — всегда говорил он, — составь список.
Он был аккуратный человек.
— Бери лист бумаги, — начинал он, — и запиши все, что может понадобиться; потом просмотри — и зачеркни все, без чего можно обойтись. Вообрази себя в кровати: что на тебе надето?.. Хорошо, запиши (и прибавь перемену). Ты встаешь. Что ты делаешь прежде всего? Моешься? Чем ты моешься? Мылом? Записывай: мыло. Продолжай, пока не покончишь с умываньем. Потом — одежда. Начинай с ног: что у тебя на ногах? Сапоги, ботинки, носки, записывай. Продолжай, пока не дойдешь до головы. Что еще нужно, кроме одежды? Немножко коньяку, — записывай. Запиши все, тогда ничего не забудешь.
Такому плану дядя Поджер всегда следовал сам. Составив список, он тщательно просматривал его, чтобы убедиться, не забыто ли что; а затем просматривал вторично — и вычеркивал все, без чего .можно обойтись. А затем терял список.
Джорж сказал, что с собой мы возьмем только самое необходимое, дня на два, а главный багаж будем пересылать из города в город.
— Мы должны быть осторожны, — заметил я. — Я знал однажды человека, который...
Гаррис посмотрел на часы.
— Мы послушаем про твоего человека на пароходе, — перебил он. — Через полчаса я должен встретиться с Кларой на вокзале.
— Это не длинная история, я расскажу ее меньше чем в полчаса и...
— Не трать ее понапрасну, — заметил Джорж. — Мне говорили, что в Шварцвальде случаются дождливые вечера, так мы там, может быть, будем рады твоей истории. Теперь нам нужно окончить список.
Я вспоминаю, что сколько раз ни пытался рассказать эту историю, так мне ни разу и не удалось. А между тем это была правдивая история!
ГЛАВА III
Единственный недостаток Гарриса. Патентованная велосипедная лампочка. Идеальное седло. Любитель механик. Его орлиный взор. Его приемы. Его веселый характер. Его невзыскательность. Как от него отделаться. Джорж в роли пророка Джорж в роли наблюдателя человеческой природы. Он предлагает сделать опыт. Его осторожность. Согласие Гарриса — при известных условиях.
В понедельник после обеда зашел ко мне Гаррис, у него в руках был номер газеты «Велосипедист».
— Послушай доброго совета и оставь это в покое,— сказал я.
— Что оставить в покое?
— Это «новейшее, патентованное, всепобеждающее изобретение, переворот в мире спорта»и т.д. — словом, величайшую глупость, объявление, которое тебя, конечно, прельстило.
— Послушай, ведь нам придется подыматься по крутизнам, — возразил Гаррис, — и я полагаю, что хороший тормоз нам необходим.
— Тормоз нам необходим, это верно, — заметил я. — Но всяких механических штук, которые нас будут только поражать неожиданными выходками, нам вовсе не нужно.
— Это приспособление действует автоматически.
— Тем более можешь мне о нем не рассказывать. Я инстинктивно чувствую, что это будет... По дороге в гору тормоз охватит колесо как железными клещами и нам придется тащить велосипед на плечах. Воздух на вершине горы вдруг окажет на него благотворное влияние, и тормоз начнет раскаиваться; за раскаянием последует благородное решение трудиться и помогать нам — и по дороге с горы гнусное изобретение навлечет только стыд и позор на нашу голову... Говорю тебе, оставь. Ты хороший малый, но у тебя есть один недостаток.
— Какой? — спросил Гаррис с негодованием.
— Ты слишком доверчиво относишься ко всяким объявлениям. Какой бы идиот ни придумал чего-нибудь для велосипедного спорта — ты все испробуешь. Тебя до сих пор оберегал добрый дух, но ему было немало возни с тобой. Не выводи его из терпения.
— Если бы каждый думал таким образом, — возразил Гаррис, — то в нашей жизни не было бы никакого прогресса. Если бы никто не пробовал новых изобретений, то мир остановился бы на точке замерзания. Ведь только...
— Я знаю все, что можно сказать в защиту твоего мнения, — перебил я, — и отчасти соглашаюсь с ним; но только отчасти: до тридцати пяти лет можно производить опыты над всякими изобретениями, но после тридцатипятилетнего возраста человек обязан о себе заботиться. И ты, и я уже сделали в этом направлении все, что от нас требовалось; в особенности ты: тебя чуть не взорвало патентованной газовой лампочкой. ..
— Это была моя собственная ошибка, я ее слишком туго завинтил.
— Совершенно этому верю: ведь по твоей теории следует пробовать всякие глупости, чтобы посмотреть, что из этого выйдет. Я не видал, что именно ты сделал. Я только помню, как мы мирно ехали, рассуждая о Тридцатилетней войне, когда твоя лампочка вдруг выстрелила, и я очутился в канаве; и еще буду долго помнить лицо твоей жены, когда я ее предупредил, чтобы она не беспокоилась, потому что тебя внесут по лестнице двое людей, а доктор с сестрой милосердия приедут через пять минут.
— Отчего ты тогда не поднял лампочки? Я хотел бы узнать, отчего она выстрелила.
— Времени не было: ее пришлось бы искать и собирать часа два. А что касается взрыва, то всякий человек, кроме тебя, ожидал бы его — уже по той простой причине, что в объявлении эта лампочка была названа «безусловно безопасной». А потом, помнишь твой электрический фонарик?
— Что же? Ты сам говорил, что он давал отличный свет!
— Да, он давал отличный свет на главной улице Брайтона, так что даже испугал одну лошадь; а когда мы выехали в темные предместья, то тебя оштрафовали за езду без огня. Вероятно, ты не забыл, как мы разъезжали с твоим фонарем, горящим в яркие солнечные дни как звезда; а когда наступал вечер, твои фонарь угасал с достоинством существа, исполнившего свой долг.
— Да, этот фонарь меня немного раздражал, — пробормотал Гаррис.
— И меня тоже. А седла!... — продолжал я (мне хотелось его пробрать хорошенько). — Разве есть еще на свете седло, которого бы ты не испробовал?
— Я полагаю, что должны же когда-нибудь изобрести удобные седла!
— Напрасно полагаешь. Может быть, и есть лучший мир, в котором велосипедные седла делаются из радуги и облаков, но в нашем мире гораздо проще приучить себя ко всему твердому и жесткому, чем ожидать прекрасного... Помнишь седло, которое ты купил для своего велосипеда в Бирмингеме? Оно было раздвоено посередине и ужасно напоминало пару почек.
— Оно было устроено сообразно с анатомией человеческого тела! — продолжал защищаться Гаррис.
— Весьма вероятно; на крышке ящика, в котором ты его купил, изображен был сидящий скелет, или, точнее, часть сидящего скелета.
— Что ж, этот рисунок показывал правильное положение тех...
— Лучше не входи в подробности, — перебил я. — Рисунок этот всегда казался мне неделикатным.
— Он был совершенно правилен!
— Может быть; но только для скелета, а для человека, у которого на костях мясо — это одно мучение; ведь я его пробовал, и на каждом камушке оно щипалось так, словно я ехал не на велосипеде, а на омаре. А ты на нем катался целый месяц!
— Надо же было исследовать серьезно!
— Ты жену измучил, пока исследовал это седло: она мне жаловалась, что никогда ты не был более несносен, чем в тот месяц... Помню еще седло с пружинкой, на которой ты подпрыгивал, как...
— Не «с пружинкой», а «седло-спираль»!
— Хотя бы так, но во всяком случае для джентльмена тридцати пяти лет прыгать над седлом, стараясь попасть на него — занятие вовсе неподходящее.
— Приспичили тебе мои тридцать четыре...
— Сколько?
— Мои тридцать пять лет! Ну, как хочешь: если вам с Джоржем не нужно тормоза, то не обвиняйте меня, когда на каком-нибудь спуске перелетите через крышу ближайшей церкви.
— За Джоржа я не отвечаю: он иногда раздражается из-за пустяков; но я постараюсь тебя выгородить, если случится такая штука.
— Ну, а как тандем?
— Здоров.
— Пересмотрел ты его?
— Нет, не пересматривал и никому другому не позволю дотронуться до самого отъезда.
Я знаю, что значит разбирать и пересматривать машины. В Фолькстоне на набережной я познакомился с одним велосипедистом, и мы с ним однажды условились отправиться кататься на следующий день с самого утра. Я встал против обыкновения рано — по крайней мере раньше чем всегда — и, сделав такое усилие, остался очень доволен собой; благодаря хорошему настроению, меня не рассердило то, что знакомый заставил ждать себя полчаса. Утро было прелестное, и я сидел в саду, когда он пришел.
— А у вас, кажется, хороший велосипед, — сказал он. — Легко ходит?
— Да как все они: с утра легко, а после завтрака немного тяжелее.
Он неожиданно схватил велосипед за переднее колесо и сильно встряхнул его.
— Оставьте, пожалуйста: так можно испортить велосипед,— сказал я. Мне стало неприятно: если бы велосипед и заслуживал взбучки, то скорее от меня, чем от него: все равно, как если бы чужой человек принялся ни за что ни про что бить мою собаку.
— Переднее колесо болтается, — объявил он.
— Нисколько не болтается, если его не болтать.
— Это опасно, — продолжал он. — У вас найдется отвертка?
Не следовало поддаваться, но мне пришло в голову, что он, может быть, действительно смыслит в этом деле. Я отправился в сарай за инструментами, а когда вернулся, он сидел уже на земле с колесом между колен, играя им как брелоком, а остальные части велосипеда валялись тут же, на дорожке.
— С вашим велосипедом случилось что-то неладное, — сказал он.
— Похоже на то! — заметил я, но он не понял насмешки.
— Ступица подозрительна!
— Вы не тревожьтесь, пожалуйста. Лучше вставим колесо на место и отправимся.
— Да уж теперь все равно: надо воспользоваться случаем и разобрать его.
Он говорил таким тоном, словно колесо вывалилось само собой; в одну минуту он что-то отвинтил — и на дорожку посыпались маленькие стальные шарики.
— Ловите, ловите их! — закричал он взволнованным голосом. — Не дай Бог, если мы их потеряем!
Полчаса мы ползали по дорожке, отыскивая шарики. Мой знакомый повторял с ожесточением, что потерять хоть один шарик — значит испортить велосипед, и объяснил, что, разбирая его, необходимо заметить предварительно количество шариков. Я обещал последовать разумному совету, если мне придется когда-ни-будь разбирать велосипед.
Всех шариков нашлось шестнадцать, я положил их в свою шапку, а шапку поставил на ступеньки крыльца. Это было не особенно умно, но чужая глупость заразила меня.
Не успел я оглянуться, как он выразил великодушное желание осмотреть кстати и цепь, и принялся немедленно снимать покрышку. Я было хотел остановить его и передал замечание одного опытного спортсмена: «Лучше купить новый велосипед, чем снимать самому покрышку с цепи». Но он отвечал с убеждением:
— Так говорят те, которые ничего не понимают. Не может быть ничего легче.
И действительно, через три минуты футляр лежал на дорожке, а Эбсон усердно искал винтики, которые куда-то исчезли (к счастью, я не встречал этого господина с тех пор, но, кажется, его звали Эбсон).
— Удивительно! Ничего так таинственно не исчезает, как винты! — повторял он.
В эту минуту в дверях показалась Этельберта и очень удивилась, видя, что мы еще не тронулись с места.
— Теперь уже скоро! — отвечал он. — Я только разобрал велосипед вашего мужа, чтобы осмотреть, все ли в порядке: за этими машинами необходимо следить, даже за самыми лучшими.
— Когда вы кончите и захотите умыться, можете пройти в кухню, — заметила Этельберта и прибавила, что она с Кэт отправляется покататься под парусом, но к завтраку непременно вернется.
Я готов был отдать золотой, чтобы только отправиться вместе с нею; глупец, ломавший на моих глазах велосипед, уже вытянул из меня всю душу. Здравый смысл шептал мне, что я имею полное право взять его за шиворот и вытолкать из моего сада; но я слабый человек, когда дело касается отношений с другими людьми, и продолжал молча смотреть, как разрушали мою собственность.
Он перестал отыскивать винты, говоря, что они всегда находятся в ту минуту, когда меньше всего ожидаешь, и принялся за цепь. Сначала он натянул ее так, что невозможно было сдвинуть с места, а потом отпустил вдвое слабее, чем она была сначала. После этого он решил вставить переднее колесо.
В продолжение десяти минут я держал сам велосипед, а он старался поставить колесо; после этого я предложил поменяться местами; поменялись. Через минуту он вдруг почувствовал необходимость пройтись по дорожке, сжав пальцы между колен; прогуливаясь, он объяснил, что пальцы надо очень беречь, чтобы не прищемить их. Наконец колесо попало на место. В ту же секунду он разразился хохотом.
— Что случилось? — спрашиваю.
— Я осел! — говорит, а сам заливается.
Тут я почувствовал к нему уважение и поинтересовался узнать, каким образом он пришел к этому открытию.
— Да ведь мы забыли шарики! — отвечал он.
Я оглянулся. Моя шапка лежала на земле, а любимый молодой пес Этельберты поспешно глотал остальные шарики один за другим.
— Он умрет! — воскликнул Эбсон.
— Нет, ничего, — отвечал я. — На этой неделе он уже съел шнурок от ботинок и пачку иголок; щенкам природа иногда подсказывает подобные вещи. Но меня очень беспокоит велосипед.
У Эбсона был счастливый характер.
— Что-ж, соберем все, что осталось, и вложим на место! — весело сказал он. — А затем положимся на судьбу.
Нашлось одиннадцать шариков. Через полчаса пять из них были вставлены с одной стороны и шесть с другой. Колесо болталось так, что это заметил бы каждый ребенок. Эбсон казался уставшим и, вероятно, с удовольствием отправился бы домой, но теперь я решил не отпускать его. Моя гордость — велосипед — был разбит; о катанье нечего было и думать; мне хотелось только отплатить Эбсону. Поддержав его упавшее настроение стаканом эля, я сказал:
— Смотреть на вашу ловкость — просто наслаждение. Слабым людям полезно видеть в других столько энергии, столько уверенности в себе!
Одобренный таким образом, он принялся надевать футляр на цепь. Сначала он работал с одной стороны, прислонив велосипед к стене дома; потом с другой стороны, прислонив его к дереву; потом я должен был держать велосипед посреди дорожки, а он лежал на спине, головой между колес, и работал снизу, капая на себя по временам машинным маслом; потом он заметил, что я ему только мешаю, перегнулся через велосипед поперек, вроде вьючного седла — и рухнул, на голову. Три раза он восклицал: «Ну, теперь готово!», но затем прибавлял: «Нет! Хоть повесьте, а все еще не готово!». В последний раз он прибавил еще несколько слов, но я стараюсь их забыть.
После этого он окончательно освирепел и напал на мой несчастный велосипед, как на живое существо; но тот не позволил оскорблять себя безнаказанно. В бойкой драке положение сторон поминутно менялось: то велосипед лежал на дорожке, а Эбсон на нем — то Эбсон на дорожке, а велосипед на нем; если человеку и удавалось наскочить на врага и с победоносным видом сжать его коленями — то ненадолго: в следующее мгновение враг быстро поворачивался и наносил своей ручкой ловкий удар прямо в голову человеку.
Было три четверти первого, когда Эбсон поднялся с земли, всклоченный, грязный и исцарапанный и, вытирая вспотевший лоб, проговорил: «Ну, довольно!».Я отвел его в кухню, где он и привел себя в порядок, насколько это было возможно без помощи соды и перевязочных материалов.
Отправив его домой, я взвалил велосипед на извозчика и повез его к мастеру. Тот посмотрел и спросил, чего я от него хочу.
— Я хочу, чтобы вы его поправили, насколько возможно.
— Нелегкое дело. Но я попробую!
Эта «проба»обошлась мне в два фунта и десять шиллингов, но не привела ни к чему: в конце лета я поручил в одном магазине продать мой велосипед за сколько возможно; не желая, однако, обманывать публику, я просил предупредить, что велосипед был в употреблении целый год.
—Лучше не обозначать, сколько именно времени он был в употреблении, — снисходительно отвечал на это коммиссионер. — Между нами говоря, ведь этой уловкой все равно никого не поймаешь. Не будем говорить ничего ни про год, ни про десять лет службы, а возьмем за него сколько дадут.
Я не настаивал и предоставил все дело ему; наконец кто-то дал пять фунтов стерл., и в магазине мне сказали, что это даже очень много.
Да. Хотя я лично больше люблю ездить на велосипеде, чем разбирать его, но в разборке есть тоже много гимнастики и даже удобств: для этого не нужно ни хорошей погоды, ни гладких дорог, ветер не мешает, и все что требуется — это молоток, отвертка, тряпки и бутылочка машинного масла. Положим, вид делается подозрительный и у велосипеда, и у мастера, но ведь нет радости без помехи. Если велосипедист похож на паяльщика, то это еще не большая беда, так как дальше первого верстового столба он все равно не уедет. Оба вида спорта одновременно недостижимы: надо быть или механиком, или велосипедистом.
Если что-нибудь случается с моим велосипедом, когда я катаюсь за городом, я сажусь на краю дороги и жду, пока проедет телега. При этом опасность является только со стороны проезжающих любителей «разборки»: увидя лежащий на боку чужой велосипед, они соскакивают на всем ходу и бросаются к нему с дружелюбно-восторженным кликом. Прежде я пробовал отклонять любезность следующими словами:
— Ничего, ничего! Пожалуйста, не беспокойтесь из-за меня... Поезжайте дальше, прошу вас.
Но теперь я научен многими опытами и всегда говорю:
— Оставьте меня в покое, или я размозжу вам голову!
С помощью таких слов и решительного вида можно еще отделаться от беды...
Джорж пришел перед вечером узнать, все ли будет готово к среде.
— Все, — отвечал я,— кроме, может быть, тебя и Гарриса.
— А что твой тандем?
— Здоров.
— Не надо ли его разобрать и пересмотреть?
— Возраст и опыт научили меня, что в жизни очень редко можно говорить с убеждением, но в данном случае ты задаешь вопрос, на который я еще могу ответить с непоколебимой уверенностью: нет, мой тандем не требует ни чистки, ни разборки, и если я доживу до среды, то никто в мире к нему не притронется.
— Что это ты заговорил высоким стилем? Я бы на твоем месте не раздражался понапрасну. Ведь придет день, когда между тобой и ближайшей велосипедной мастерской очутится какой-нибудь из холмов Шварцвальда, и тогда ты будешь кричать и ворчать на всех, требуя, чтобы тебе подавали отвертку, масло, молоток и держали велосипед.
Я раскаялся:
— Прости меня... Сегодня заходил ко мне Гаррис.
— А! В таком случае я понимаю, не объясняй. И кроме того, я пришел поговорить о другом.
С этими словами Джорж подал мне маленькую книжечку в красном переплете. Это был «Спутник по Англии» для немецких путешественников. В нем заключались разные вопросы и ответы, необходимые, по мнению автора, в разговоре. Первая глава была «На пароходе», последняя — «У доктора»; самая длинная была посвящена разговорам на железной дороге, причем, вероятно, предполагалось, что общество в вагоне будет состоять из идиотов, и невежд: «Можете вы от меня отодвинуться, сэр?» — «Невозможно, сударыня, мой сосед слишком толст». — «Не попробуем ли мы расположить наши ноги?» — «Пожалуйста, держите локти вниз». — «Не стесняйтесь, сударыня, если мое плечо вам мешает». — «Я требую, чтобы вы отодвинулись, так как я едва дышу». Вероятно считается, что к этому времени все уже должны передраться и лежать на полу, тем более, что заключительная фраза выражает искреннюю благодарность судьбе: «Благодарение Богу! Наконец-то мы приехали!».
В конце книжки помещался ряд полезных советов немецким путешественникам: беречь здоровье, путешествовать с дезинфецирующим порошком, запирать на ночь спальню на ключ и тщательно проверять сдачу мелкой монетой.
— Не блестящее издание, — заметил я, — возвращая книжку Джоржу, — я бы не посоветовал никакому немцу пользоваться им в Англии: его бы осмеяли. Но представь себе, что я видел лондонские издания для путешественников-англичан — совершенно такие же глупые! Это какой-нибудь ученый идиот, знающий наполовину семь языков, пишет подобные книжки и вводит в заблуждение порядочных людей.
— Но ты не можешь отрицать, что эти издания в большом спросе, — заметил Джорж. — Они ведь продаются тысячами, и в каждом европейском городе есть люди, которые болтают всякий вздор из этих «Спутников».
— Может быть, — отвечал я, — но, к счастью, их никто не понимает. Я сам замечал людей, стоящих на углах улиц или на вокзалах с подобными книжками в руках — и никто из толпы понятия не имеет, на каком языке говорят эти иностранцы и что они хотят сказать; впрочем, это, может быть, к лучшему, а то бы их начали, пожалуй, оскорблять.
— Вот мне и пришло в голову испытать, что выходит в тех случаях, когда их понимают? — сказал Джорж.— Я предлагаю в среду утром приехать в Лондон пораньше и отправиться за покупками с этим спутником в руках. Мне нужно кое-что приобрести — шапку и пару спальных туфель, — а пароход отходит из гавани только в полдень; у нас останется больше часа на опыт. Я хочу непременно поставить себя в положение иностранца и узнать, как он себя чувствует при таких разговорах.
Предложение мне понравилось; это напоминало спорт. Я даже выразил желание сопутствовать и ждать Джоржа у дверей каждого магазина; я прибавил, что и Гаррис, вероятно, присоединится, хотя не к Джоржу, а ко мне.
Но план Джоржа был несколько иной: Гаррис непременно должен сопутствовать ему внутри лавки, на всякий случай (у Гарриса вид основательный), а я обязуюсь стоять в дверях и звать, в случае чего, полисмена.
Мы взяли шапки, пошли к Гаррису и объяснили ему новое предприятие. Он внимательно просмотрел книжку и заметил:
— Если ты начнешь разговаривать с сапожниками по этой книжке, то я могу принести мало пользы: тебя отнесут прямо в больницу.
Джорж рассердился.
— Ты говоришь так, словно я глупый мальчишка-забияка!.. Не стану же я выбирать самые нелепые фразы; напротив: я хочу сделать серьезный опыт и буду говорить только вежливые вещи.
При таком условии Гаррис согласился нам сопутствовать и отъезд был окончательно назначен на среду.
Глава IV
Объяснение, почему в доме у Гарриса не нужны будильники. Общительность юного поколения. Бдительный страж. Его таинственность. Его суетливость. Занятие до завтрака. Добрая овца и злая овца. Печальная судьба добродетели. Новая печь Гарриса. Как дядя Поджер выходил из дома. Почтенные деловые люди в роли скороходов. Мы приезжаем в Лондон. Мы разговариваем на языке путешественников.
Во вторник вечером приехал Джорж и остался у Гарриса ночевать. Мы предпочли такое решение его собственному плану: он предлагал, чтобы в среду утром мы с Гаррисом заехали за ним по дороге в Лондон; но «заехать» за Джоржем поутру — это значит будить его, трясти, вытаскивать из постели, помогать ему отыскивать различные предметы туалета, участвовать в укладке вещей и после всей этой утомительной траты сил еще сидеть и смотреть, как он завтракает (одно из пренеприятных занятий для постороннего наблюдателя).
Вот если бы Джорж жил у Гарриса, — мне приходится иногда ночевать у него, — тогда другое дело: он был бы готов вовремя. В этом доме вы обыкновенно просыпаетесь среди ночи (может быть, и позже, но вам так кажется) от топота кавалерийского полка, промчавшегося мимо дверей... Ваш ум, потревоженный среди первого сна, рисует одну за другой ужасные картины: нападение разбойников, конец, света, взрыв газа... Вы инстинктивно спускаете ноги с кровати и напряженно прислушиваетесь. Ждать приходится недолго: где-то наверху хлопает дверь и кто-то с быстротой молнии съезжает вниз по лестнице на подносе с посудой. Раздается гулкий удар чего-то круглого о вашу дверь и одновременно с этим солидное замечание: «Вот видишь!».
Вы бросаетесь искать по всей комнате платье, но еще очень темно, ничего не видно, а платье положительно исчезло с того места, куда было положено с вечера. В ту минуту, когда вы стараетесь засунуть голову под шкаф — в поисках туфель — топот кавалерии проносится опять в верхний этаж, слышится частый упорный стук в дальнюю дверь, затем настает тишина и чей-то тоненький голос нежно спрашивает:
— Папа, мне можно вставать?..
Разрешения на этот вопрос не слышно, но отчетливо доносятся ответы папе другим голоском, солидным:
— Нет, это только ванночка скатилась... Нет, она не ушиблась ни капельки!.. Только промокла, да!.. Хорошо, мамочка, я им скажу... Нет, нет, они не шалили, это случайно!.. Хорошо, спокойной ночи, папа.
Затем тот же голос продолжает авторитетным тоном:
— Вот видишь, нельзя еще вставать. Папа говорит, что слишком рано. Иди и ложись спать.
Вы тоже ложитесь снова в кровать и слышите, как кого-то насильно тащут в комнату, находящуюся над вами. Некоторое время вы следите за борьбой; слышится попеременно то треск кровати (причем вздрагивает потолок вашей комнаты), то отчаянная попытка сбежать. Наконец возня затихает и вы засыпаете.
Через некоторое время — как вам кажется, очень скоро — вы снова открываете глаза от инстинктивного сознания чьего-то присутствия... Уже рассвело, дверь открыта настежь, и вы видите в ней четыре личика, одно над другим, с серьезно устремленными на вас глазами. Торжественный и безмолвный осмотр продолжается несколько времени — словно вы какая-нибудь удивительная редкость, — после чего старший приближается и дружелюбно присаживается на край постели.
— Мы не знали, что вы уже не спите. А я давно проснулся.
— Я так и думал, — отвечаете вы.
— Папа не любит, чтобы мы вставали очень рано, — продолжает мальчуган. — Он говорит, что мы можем помешать другим. Поэтому, конечно, мы не должны вставать.
Это говорится тоном глубокого достоинства, вынесенного из сознания исполненного долга.
— А теперь вы еще не встали? — задаете вы вопрос.
— О, нет! Мы еще не одеты (с последним спорить нельзя). Папа по утрам чувствует себя очень усталым, потому что он страшно много работает днем. А вы по утрам тоже чувствуете себя усталым?
Тут он оборачивается и замечает, что трое остальных тоже вошли в комнату и сидят на ковре полукругом. Их позы и лица выражают прежнюю наблюдательность и ожидание какой-нибудь интересной выходки с вашей стороны, словно вы фокусник.
Такое поведение малышей конфузит старшего брата перед гостем, и он повелительно приказывает им выйти из комнаты. Они слишком хорошо воспитаны, чтобы спорить: не произнеся ни единого звука, они вскакивают и моментально бросаются все вместе на него. Вы видите только четыре пары рук и ног, мелькающих во всех направлениях. Ни слова не слышно из этой копошащейся кучи: таков, вероятно, этикет, выработанный любителями раннего вставания. Если на вас есть какой-нибудь спальный костюм, вы вскакиваете, и возня увеличивается вдвое; если же вы любите спать с удобством, то приходится оставаться под одеялом и делать строгие замечания, на которые детвора не обращает ни малейшего внимания. Через некоторое время старший мальчик выпроваживает остальных из комнаты и затворяет за ними дверь; но моментально дверь отворяется снова, и в комнату как шар влетает Муриэль: у нее большие волосы и она зацепилась ими за замок. Она сама ненавидит их и, схватив одной рукой, другой начинает с ожесточением выдергивать их из замка. Брат помогает ей выпутаться и затем ловко орудует головой сестры, как холодным, но крепким оружием против осаждающего извне неприятеля. Решительное средство действует, и вы слышите поспешный топот шести убегающих ног. Победитель возвращается на свое место, к вам на кровать. Он нисколько не рассержен и уже забыл свою возню.
— Я больше всего люблю утро, — говорит он мечтательно.— А вы?
— Да, иногда... Утро не всегда бывает спокойно.
Мальчик не обращает внимания на условность ответа. По его личику пробегает задумчивое выражение и он говорит:
— Я бы хотел умереть утром. Утром все так красиво!
— Может быть и умрешь, если твой отец пригласит когда-нибудь ночевать очень раздражительного человека.
Несколько секунд длится молчание, после чего философское настроение оставляет мальчугана.
— Теперь весело в саду. Может быть, вы хотите встать и поиграть со мной в крикет? — предлагает он.
Собственно говоря, ложась спать, вы не собирались подыматься в шесть часов утра и играть в крикет; но это все-таки лучше, чем лежать в постели с открытыми глазами, и вы соглашаетесь.
За завтраком вы слышите объяснение, что вам не хотелось спать, вы рано проснулись, встали и пошли в сад поиграть...
Всякий должен быть предупредителен к гостям, и дети Гарриса, хорошо воспитанные, искренно предлагают свое участие в развлечениях. Миссис Гаррис обыкновенно замечает одно: гость должен быть строже и обязан требовать от детей в следующий раз, чтобы они были одеты как следует. Гаррис же трагически уверяет, что я в одно утро разрушаю все результаты разумного воспитания.
В день нашего отъезда, в среду, Джорж попросил разбудить его в четверть шестого, обещая показать детям разные штуки на велосипеде. Но проснулся он в пятом часу...
Тем не менее, надо отдать справедливость детям Гарриса: если вы им толково объясните, что не собираетесь вставать на рассвете и расстреливать привязанную к дереву куклу, а намерены по обыкновению встать в восемь, когда принесут чашку чаю — то они сначала искренно удивятся, потом извинятся и даже огорчатся. Поэтому, когда Джорж не мог объяснить, что его разбудило — желание встать, или же бумеранг домашнего производства, влетевший в окно, — то старший мальчик открыто признал себя виновным и даже прибавил:
— Мы должны были помнить, что дяде Джоржу предстоит утомительный день, и должны были отговорить его от раннего вставания!..
Впрочем для Джоржа встать иногда пораньше — дело полезное. В минуту просветления он предложил даже, чтобы в Шварцвальде нас будили в половине пятого, но мы с Гаррисом воспротивились: совершенно достаточно вставать в пять и выезжать из дома в шесть; таким образом можно каждый день делать половину пути до наступления жары и отдыхать после полудня.
Сам я проснулся в среду в пять часов; это было даже раньше, чем нужно; ложась спать, я приказал сам себе: “Проснуться ровно в шесть!“ Я знаю людей, которые просыпаются минута в минуту тогда, когда велели себе проснуться. Им стоит только проговорить, кладя голову на подушку: «В четыре тридцать», «в четыре сорок пять», «в пять пятнадцать» — и больше не о чем беспокоиться. В сущности это удивительная вещь; чем больше думать, тем она становится непонятнее. Какое-то бессознательное «я» считает время, пока мы спим; ему не нужно ни солнца, ни часов, оно караулит в темноте и в назначенную минуту шепчет: «Пора!»
Еще удивительнее, что один сторож, живший у устья реки, обязан был просыпаться по своей службе за полчаса до высшего уровня прилива, и ни разу в жизни не проспал! Он говорил мне, что прежде, в молодости, он с вечера определял время следующего прилива и внушал себе, когда проснуться; но потом и об этом заботиться перестал: усталый, бросается он на постель и спит глубоким сном до той минуты, когда остается ровно полчаса до высокой воды — то есть, каждый день разно!.. Витает ли несознаваемый дух этого человека над темными водами, пока он спит без сновидений, или же законы вселенной так же ясны ему, как ясны взору человека цветы и деревья при солнечном свете?..
Кто бы он ни был, но мой бессознательный страж волнуется, суетится и, перестаравшись, будит меня слишком рано. Иной раз я прошу его: «В половине шестого! Пожалуйста!» — но он собьется со счета и в ужасе будит меня в половине третьего. Я смотрю на часы и с досадой вижу его ошибку. Но он хочет оправдаться: «Может быть, часы остановились?» Я прикладываю их к уху: нет, идут. «Может быть, испортились?.. Наверное, теперь половина шестого, если не больше!..» Чтобы успокоить его, я беру свечку и иду вниз, в гостиную, посмотреть на большие часы. Ощущения человека, когда он среди ночи бродит по дому в одном халате и мягких туфлях, вероятно, знакомы большинству людей: все предметы, в особенности с острыми краями, лезут навстречу, хотя днем, когда человек в сапогах и солидном платье, они не обращают на него ни малейшего внимания и требуют, чтобы он приближался к ним собственными силами.
Поглядев на большие часы, я возвращаюсь в постель раздраженный и жалею, зачем просил бессознательного стража помочь мне. Но он продолжает суетиться и от четырех до пяти часов будит меня каждые пять минут, после чего наконец утомляется и предоставляет все дело горничной — которая приходит постучать в дверь получасом позже обыкновенного.
Так вот, в среду я встал и оделся в пять часов, лишь бы отделаться от излишней услужливости невидимого стража. Но я не знал, за что приняться.
Все вещи и тандем были уже уложены и отправлены в Лондон накануне; поезд наш отходил только в десять минут девятого... Я сошел в кабинет, думая поработать. Но ранее утро, при пустом желудке — неподходящее время для занятий! Написав несколько страниц, я перечел их. Иногда о моих трудах выражаются не совсем вежливо, но ничего, достойного, этих трех глав, никогда еще сказано не было... Я порвал их, бросил в корзину и начал размышлять: существует ли такое благотворительное учреждение, которое оказывает помощь исписавшимся авторам?.. Размышление было печальное. Я положил мяч в карман и отправился на лужайку, где у нас играют в гольф. Несколько овец паслись там лениво и заинтересовались моей игрой. Одна славная старая овечка отнеслась ко мне особенно симпатично; очевидно, она не понимала игры, но ее привело в умиление такое раннее занятие человека на лугу. Как бы я ни кинул мяч, она блеяла с явным восторгом:
— Преле-естно! Вели-коле-еп-но!
Между тем как другая — противное, нахальное создание — все время блеяла мне под руку, лишь бы только помешать:
— Сквее-еерно! Совсем сквее-рно!
И вдруг мой мяч со всего размаху попал в нос симпатичной овце... Она, бедная, понурила голову, а ее соперница сразу переменила тон и, засмеявшись самым дерзким, вульгарным смехом, злорадно заблеяла:
— Пре-лестно! Вели-коле-еп-но!
Так в нашем мире всегда страдают добрые и хорошие. Я бы охотно дал полкроны, чтобы попасть в нос не милой, а противной овце.
Я пробыл на лугу дольше, чем намеревался, и когда Этельберта пришла сказать, что уже половина восьмого и завтрак на столе, я оказался еще не выбритым. Этельберте ужасно не нравится, когда я бреюсь впопыхах: она находит, что после этого я имею каждый раз такой вид, будто пытался зарезаться, и поэтому все знакомые могут подумать, что мы живем Бог знает как! И кроме того, к моему лицу — по ее мнению — не следует относиться легкомысленно.
Я недолго прощался с Этельбертой, это могло бы ее расстроить. Но я хотел сказать несколько прощальных слов детям — в особенности насчет моей удочки, которую они обыкновенно употребляют в мое отсутствие в качестве палки, когда при играх требуется обозначить на земле место.
Я не люблю бежать на станцию... До нее оставалось четверть мили, когда я нагнал Джоржа и Гарриса. Пока мы подвигались втроем крупной рысью, Гаррис успел сообщить мне, что он чуть не опоздал из-за новой печки: ее затопили сегодня в первый раз, кухарку обдало кипятком, а почки взорвало со сковородки на воздух. Он надеялся, что к его возвращению жена привыкнет к свойствам новой плиты.
Мы захватили поезд в последнюю секунду. Очутившись в вагоне и едва переводя дух, я вспомнил, как дядя Поджер двести пятьдесят раз в году выезжал с поездом в 9 ч. 13 м. утра в город. От его дома до станции было восемь минут ходьбы, но он всегда говорил:
— Лучше выйти за пятнадцать минут и идти с удовольствием.
А выходил всегда за пять минут — и затем бежал.
И уж не знаю почему, но через поляну, отделяющую сам городок от станции, бежал к девятичасовому поезду не один дядя Поджер, а несколько десятков джентльменов — все спешащие в Сити, все солидной наружности, все с черными портфелями и газетой в одной руке и с зонтиком в другой; все они не то чтобы действительно скоро бежали, но очень старались и были чрезвычайно серьезны. Поэтому на лицах их выражалось искреннее негодование при виде разносчиков, нянек и мальчишек, останавливавшихся, чтобы поглядеть на них. Среди этих любителей всякого рода зрелищ завязывалась даже в эти несколько минут азартная, хотя невинная игра:
— Два против одного за старичка в белом жилете!
— Десять против одного за старца с трубкой, если он не перекувырнется, пока добежит!
— Столько же за Багряного Короля! (прозвище, данное одним юным любителем энтомологии отставному военному, соседу дяди Поджера, который обыкновенно имел очень достойный вид, но сильно краснел от физических упражнений).
Мой дядюшка и остальные джентльмены много раз писали в местную газету, жалуясь на нерадивость полиции, и редакция помещала от себя горячие передовые статьи об упадке чувства вежливости среди жителей — но это не приводило ни к чему.
И нельзя сказать, чтобы дядя Поджер вставал слишком поздно, нет, все помехи являлись в последнюю минуту: позавтракав, он немедленно терял газету. Мы всегда знали, когда дядя Поджер что-нибудь терял, по выражению негодования и удивления, которое появлялось на его лице. Ему никогда не приходило в голову сказать:
«Я — рассеянный человек, я все теряю и никогда не помню, куда что положил; я ни за что не найду потерянного без чужой помощи. Я, должно быть, надоел всем ужасно; надо постараться исправиться».
Напротив, по его логике все в доме были виноваты, если он что-нибудь терял, — кроме него самого.
— Да ведь я держал ее в руке минуту тому назад!— восклицал он.
По негодующему тону его голоса можно было подумать, что он живет среди фокусников, которые прячут вещи нарочно, чтобы позлить его.
— А не оставил ли ты ее в саду? — спрашивала тетя.
— К чему же я оставил бы газету в саду? Мне газета нужна в поезде, а не в саду!
— Не положил ли ты ее в карман?
— Пощади, матушка! Неужели ты думаешь, что я искал бы газету целых пять минут, если бы она была у меня в кармане?.. За дурака ты меня считаешь, что ли?
В эту минуту кто-нибудь подавал ему аккуратно сложенную газету:
— Не эта ли?
Дядя Поджер жадно схватывал ее со словами:
— Так и есть, непременно всем нужно брать мои вещи!
Он открывал портфель, чтобы положить в него газету, но вдруг останавливался, онемев от оскорбления.
— Что такое? — спрашивала тетя.
— Старая!.. От третьего дня! — произносил он убитым голосом, бросая газету на стол.
Если бы хоть раз попалась под руку вчерашняя газета, то и это было бы разнообразием, но неизменно она была «от третьего дня».
Затем новую газету находил кто-нибудь из нас, или же оказывалось, что дядя Поджер сидел на ней сам. В последнем случае он улыбался — не радостно, а усталой улыбкой человека, попавшего в среду безнадежных идиотов.
— Эх вы! Все время газета лежит у вас под самым носом и никто...
Он не оканчивал фразы, так как очень гордился своей сдержанностью.
После этого тетя вела дядю Поджера в переднюю, где по заведенному правилу происходило прощанье со всеми детьми. Сама тетушка никогда не выходила из дома дальше, чем к соседям, но и то прощалась с каждым членом семьи, «так как не знала, что может случиться в следующую минуту».
По обыкновению оказывалось, что кого-нибудь из детей не хватает. Тогда остальные шестеро, не медля ни секунды, с гиканьем и криком бросались искать его; но в следующую минуту потерянный младенец появлялся как из-под земли — большею частью с весьма основательным объяснением своего отсутствия — и отправлялся оповещать остальных, что он найден. Все это занимало минут пять, в продолжение которых дядя Поджер успевал найти зонтик и потерять шляпу. Когда все и все были в сборе, часы начинали бить девять. Их торжественный звук обыкновенно производил смущающее действие на дядю Поджера: он бросался вторично целовать одних и тех же, пропускал других, забывал, кого он уже поцеловал и кого еще нет — и должен был начинать сначала. Иногда он уверяя, что дети нарочно перепутываются (и я, по совести, не берусь защищать их). Огорчался он еще и тем, что у кого-нибудь часто оказывалась совершенно липкая физиономия, причем обладатель этой физиономии бывал особенно нежен.
Если все шло слишком гладко, старший мальчик вдруг объявлял, что все часы в доме отстают на пять минут, из-за чего он опоздал накануне в школу. При этом известии дядя Поджер бросался к калитке, где вспоминал, что с ним нет ни зонтика, ни портфеля. Моментально все дети кидались за забытыми вещами, причем на скорую руку происходила борьба за зонтик и драка за портфель. Когда все было вручено дяде Поджеру и он пускался рысцой по дороге, мы возвращались в дом и находили на столе в передней какую-нибудь вещь, которую он непременно хотел взять с собой в этот день в город.
Было немного позже девяти, когда мы вышли в Лондоне на вокзале Ватерлоо и, как решили заранее, сейчас же приступили к опыту, предложенному Джоржем. Открыв «Спутник» на странице, озаглавленной «На извозчичьей бирже», мы подошли к одному извозчику, приподняли шляпы и пожелали ему «доброго утра».
Но, очевидно, этого парня не смутил бы вежливостью ни один иностранец, даже настоящий. Крикнув соседу: «Эй, Чарльз! Подержи-ка коня!» — он спрыгнул с козел и ответил нам таким рыцарским поклоном, который отдал бы честь лучшему профессору танцев. При этом он приветствовал наш приезд в Англию от имени всего народа и выразил сожаление, что королевы Виктории нет в данное время в Лондоне.
На такую речь мы не могли ответить ни одним словом: в «Спутнике» не было решительно ничего подходящего. Мы только вежливо попросили отвезти нас, если возможно, на улицу Вестминстерского моста, причем назвали его «кучером».
Он приложил руку к сердцу и отвечал, что это будет для него наслаждением.
Заглянув в «Спутник», Джорж задал следующий по порядку вопрос:
— Сколько это будет стоить?
Такой грубый подход к материальной стороне дела явно оскорбил чувства извозчика. Он отвечал, что никогда не берет денег от знатных путешественников и попросит от нас только какую-нибудь безделушку на память: бриллиантовую булавку, золотую табакерку или что-то в таком роде...
Опыт зашел слишком далеко: вокруг нас начала собираться толпа. Не говоря больше ни слова, мы сели в кэб и отъехали среди восторженных кликов.
Остановили мы извозчика за народным театром подле сапожной лавки, которая имела подходящий для нашей цели вид, это была одна из тех лавок, которые переполнены товаром так, что он в них даже не помещается; лишь только поутру отворяются ставни, как груды сапог размещаются снаружи у входа; десятки ящиков с сапожным товаром стоят один на другом у дверей и даже по другую сторону тротуара, в канавке; сапоги висят гирляндами поперек окон, рыжие и черные башмаки как виноград обвивают решетчатые ставни и образуют фестоны, над входом. Внутри лавки почти темно и все завалено сапогами.
Когда мы вошли, хозяин с молотком и отверткой в руках открывал ящик свежего товара.
Джорж снял шляпу и проговорил:
— Доброго утра!
Человек даже не обернулся. Он продолжал усердно возиться над своим делом и промычал что-то такое, что могло быть и ответом на приветствие, и чем-нибудь совсем другим. Он мне сразу не понравился.
— Мистер Н. посоветовал мне обратиться к вам, — продолжал Джорж, заглянув в «Спутник».
Хозяин лавки в сущности должен был ответить так: «Мистер Н. очень почтенный джентльмен, и я очень рад услужить его знакомым». Но вместо этого он проворчал:
— Не знаю. Никогда не слыхал.
Такой ответ уничтожал весь предварительный план разговора. В книжке дано было несколько вариантов разговора с сапожниками, и Джорж выбрал самый вежливый из них: в нем сначала много говорилось о «мистере Н.», и когда между покупателем и лавочником устанавливались хорошие отношения, первый просил дать ему «дешевые и хорошие» ботинки. Но мы напали на грубого материалиста, который не придавал никакой цены тонкой беседе. С такими людьми необходимо приступать прямо к делу. Поэтому Джорж решил оставить «мистера Н.» в покое, перевернул страницу и задал вопрос из другого «разговора с сапожником»:
— Мне говорили, что вы держите сапоги для продажи.
Нельзя сказать, чтобы это было удачно: среди сапог, окружавших нас со всех сторон, оно звучало даже дико.
Человек положил молоток и отвертку и взглянул на нас первый раз.
— А вы думали, я их для чего держу? Чтобы нюхать?— сказал он глухим, хриплым голосом. Это был один из тех людей, которых трудно сдвинуть с места, но раз они разойдутся, то приходят в азарт.
— А вы думали, я что делаю? — продолжал он. — Собираю их для коллекции? Вы думали, я держу лавку для поправления своего здоровья? По-вашему, я должен быть влюблен в сапоги, и только любуюсь ими, и не могу расстаться ни с одной парой? Вы думали, тут международная выставка сапог? Или историческая коллекция обуви?.. Вы слыхали когда-нибудь, чтобы человек держал лавку и не продавал сапог? Для красоты они тут, что ли? Вы верно думаете, что я получил приз за глупость, а?
— Я приду в другой раз, когда у вас будет больший выбор. А до тех пор — до свидания!
Я всегда говорил, что эти книжки никуда не годятся.
Мы вышли из лавки и поехали дальше. Сапожник, стоя на изукрашенном сапогами крыльце, провожал нас какими-то замечаниями; мы ничего не слышали, но проходящие, по-видимому, находили в них интерес.
Джорж хотел заехать еще к другому сапожнику и повторить опыт, уверяя, что ему действительно нужно купить пару туфель; но мы уговорили его отложить эту покупку до приезда в какой-нибудь иностранный город, где лавочники, без сомнения, более привычны к подобным разговорам и более любезны. Относительно шляпы, однако, Джорж остался непоколебим, утверждая, что без нее он не может путешествовать; поэтому пришлось остановиться у небольшой лавчонки со шляпами и шапками.
Здесь хозяин оказался совсем в другом роде: это был маленький, живой человек с умными глазами; он скорее помогал, чем мешал нам. Когда Джорж спросил его по книжке: «Есть ли у вас шляпы?» — он не рассердился, а только остановился на месте и почесал подбородок.
— Шляпы! — повторил он. — Позвольте мне подумать. Да... да! (тут по его лицу пробежала счастливая улыбка уверенности). У меня действительно есть шляпы. Только почему вы меня об этом спрашиваете?
Джорж объяснил, что ему нужна дорожная шляпа, причем просил «обратить усиленное внимание на то, чтобы шляпа была хорошая».
Лицо человека сразу опустилось.
— А!.. Вот уж тут я не могу быть вам полезным: если бы вам понадобилась плохенькая, скверная шапочка, годная разве на то, чтобы вытирать окна, я бы вам предложил самую подходящую, но «хороших» шляп — нет! Мы их не держим. Впрочем, подождите минутку! — прибавил он, видя недоумение и разочарование на выразительной физиономии Джоржа и открывая один из ящиков. — Тут у меня есть одна шляпа, хотя и не совсем хорошая, но не такая негодная, как весь мой остальной товар. Вот! Что вы о ней скажите? Можете вы обойтись без такой шляпы?
Джорж одел ее перед зеркалом и, выбрав подходящую фразу из книжки, сказал:
— Эта шляпа мне достаточно удобна. Но думаете ли вы, что она мне к лицу?
Человек отступил на несколько шагов и поглядел на Джоржа орлиным оком:
— Говоря откровенно — нет!
Затем он повернулся ко мне и Гаррису и прибавил:
— Красота вашего друга очень тонкая: она есть, но ее можно не заметить. И в этой шляпе ее именно можно не заметить!
Тут Джорж догадался, что пора прекратить опыт.
— Все равно, — сказал он, — а то мы опоздаем на поезд. Сколько она стоит?
— Самая большая цена за эту шляпу четыре шиллинга и шесть пенсов, она и того не стоит!.. Прикажите завернуть в желтую или белую бумагу?
Джорж отвечал, что возьмет ее как есть, заплатил деньги и вышел из лавки. Мы последовали за ним.
На Фенчор-стрит надо было расплатиться с извозчиком: мы сторговались на пяти шиллингах. Он еще раз отвесил нам изящный поклон и просил напомнить о нем австрийскому императору.
Сев в поезд, мы обсудили опыты и должны были признать, что два раза провалились с позором. Джорж разозлился и выкинул книгу за окошко.
Наш багаж и велосипеды оказались в целости на пароходе, — и ровно в полдень, с приливом, мы тронулись вниз по реке, к морю.
ГЛАВА V
Необходимое отступление от темы. Поучительная история. Достоинство этой книжки. Журнал, который не совсем удался. Его программа. Еще одно достоинство этой книжки. Старая тема. Третье достоинство этой книжки. «Какой это был лес?» Описание Шварцвальда.
Рассказывают об одном шотландском парне, который, собираясь жениться на любимой девушке, выказал типичную шотландскую осторожность. После многочисленных наблюдений в своем кругу, он заметил, что большинство браков приводит к плачевным результатам только вследствие ложного представления, которое складывается у жениха или невесты друг о друге. Это представление всеща прекрасно, всеща преувеличенно. И он решил избегнуть обычного разочарования: не должно быть преувеличенных достоинств — и не будет разбитого идеала. Поэтому, сделав предложение, парень говорил честно:
— Я бедняк, я не могу дать тебе ни денег, ни земли, Дженни.
— Но ты отдаешь мне самого себя!
— Я хотел бы дать тебе что-нибудь кроме себя. Лицо-то у меня неудачное.
— Нет, нет! Другие парни куда хуже тебя.
— Я не видал таких, милая, и не хотел бы видеть.
— Честный, прямой человек, Дэви, на которого можно положиться, лучшем чем беспутный красавец: такой только на девушек заглядывается да горе в дом приносит.
— Ты на это не рассчитывай, Дженни: бывает, что не из-за самого пестрого петуха на птичьем дворе перья летят! Всем известно, как я за девушками бегал, и тебе со мной не легко придется.
— Но ты добрый! И ты очень любишь меня, я это знаю.
— Да, люблю, хотя не знаю, долго ли буду любить. И я добрый тогда, когда все делается по-моему. Я не терплю, чтобы мне перечили. У меня дьявольский характер, это тебе и мать моя скажет: я весь в отца, а он нельзя сказать чтоб исправился к старости!
— Ты очень строг к себе. Ты честный человек, Дэви. Я знаю тебя лучше, чем ты сам себя знаешь; ты будешь хорошим мужем и мы заживем счастливо.
— Может быть, но я сомневаюсь. Тяжкое это дело для жены и ребят, когда человек не может оторваться от стаканчика; а меня тянет к нему, словно у меня рыбье горло! Пью, пью, как лосось из Тэйского озера — и не могу напиться.
— Но ты хороший парень, когда в трезвом виде?
— Бывает, если все делается по-моему.
— Однако ты не оставишь меня и будешь работать для меня?
— Вероятно, не оставлю, но о работе ты не толкуй: терпеть не могу и думать-то о ней!
— Во всяком случае, ты будешь стараться?
— Из моего старанья добра не выйдет; и не думаю, чтобы ты даже им осталась довольна. Мы все слабые греховодники, а я — самый слабый из всех.
— Ну-ну! Зато ты правдив. Многие парни, чего не пообещают бедным девушкам, а потом только губят их! Ты поговорил со мной честно, и я пойду за тебя: посмотрим, что из этого выйдет.
О том, что из этого вышло — история умалчивает: но всякий чувствует, что после такого уговора женщина не имела права ни жаловаться, ни упрекать. Может быть, она это все-таки делала вопреки логике — это и с мужчинами случается, — но у мужа оставалось благотворительное сознание того, что он предупредил жену обо всем, и следовательно никакие упреки им не заслужены.
Я хочу быть таким же честным, как шотландский жених. Я хочу предупредить читателя обо всех недостатках моей книги. Я не хочу, чтобы за нее принимались с надеждами, которым суждено разбиться. Я не хочу никаких недоразумений. Из моей книжки никто не извлечет никакой пользы.
Если кто-нибудь думает, что, прочтя ее, можно потом отправиться путешествовать по Германии и Шварцвальду — то это большая ошибка: он заблудится очень скоро, и чем дальше станет пробираться, тем больше наживет себе хлопот. Распространять полезные сведения мне не удается, это не мое дело. Я прежде думал иначе, но теперь научен опытом.
В первое время моей карьеры журналиста я сотрудничал в журнале, который был предшественником многих популярных современных изданий. Наша цель и гордость заключалась в том, что мы соединяли приятное с полезным. Различать — что именно было приятно, а что полезно — предоставлялось читателям.
Мы писали о том, как надо жениться. Эти статьи заключали длинный ряд разумных, серьезных советов, и если бы наши читатели им следовали, то образовали бы кружок таких счастливых людей, которым бы завидовали всё мужья и жены. Мы объяснили подписчикам, как можно разбогатеть, если только завести у себя кроликов; мы доказывали это фактами и вычислениями. Вероятно, наши читатели удивлялись, почему мы сами, в полном составе редакции, не бросим журналистику и не устроим кроличьего завода. Я слыхал от многих знающих людей, что стоит завести двенадцать хороших кроликов — и через три года, при мало- мальски добросовестном отношении к делу, они будут давать две тысячи фунтов стерлингов дохода в год. И этот доход начнет еще увеличиваться; может быть, человеку и денег девать некуда, но они будут прибывать сами собой, т.е. от этих двенадцати кроликов. Но в то же время я знал нескольких людей, которые заводили самую отборную дюжину — и совершенно напрасно; ни один фермер от этого не разбогател; всегда что-нибудь мешало.
Мы сообщили, сколько лысых людей находится в полярных странах (по точным вычислениям); сколько королевских сельдей поместится между Лондоном и Римом, если их укладывать в линию, головой к хвосту; так что всякий желающий положить ряд королевских сельдей от Лондона до Рима мог знать вперед, сколько ему придется купить их. Мы сообщили, сколько слов средним числом произносит в день обыкновенная женщина. Вообще мы давали читателям такой полезный и разумный материал, который мог бы поставить их головой выше подписчиков всех остальных журналов.
Мы внушали читателям правила этикета: как обращаться к пэрам и архиепископам и как есть суп. Мы обучали молодых людей грациозности и танцам — посредством точных диаграмм. Мы разрешили все их философские сомнения и напечатали список таких высоких правил, какие сделали бы честь и проповеднику.
Журнал не пошел только в денежном отношении, и нам пришлось ограничить число сотрудников. Я помню, мой отдел назывался «Советы матерям»; я его писал с помощью квартирной хозяйки, которая развелась с первым мужем и похоронила четверых детей, так что должна была знать подробности домашней жизни. В моем ведении был еще столбец «Заметки о меблировке и украшении домов» с рисунками и «Советы начинающим литераторам». Надеюсь, что последние принесли им больше пользы, чем мне самому.
Болезненная, тихая женщина в сером старомодном платье с чернильными пятнами, нанимавшая комнатку в бесконечно длинной улице с простыми лавками, заведывала отделом «Хроника большого света». Последняя вся состояла из тонких намеков того пошиба, который и теперь еще не исчез из подобных статей: «На последнем балу в палаццо князь С., — мы не называем имени, — князь говорил мне такие вещи, которые не совсем нравились графине Н., но лучше не входить в подробности!». Бедная маленькая женщина: если бы ей провести хоть один вечер в палаццо князя С., то, может быть, румянец вернулся бы на ее поблекшие морщинистые щеки.
«Юмористика» находилась в руках мальчишки-посыльного, которому предоставлялась для этого куча старых газет и пара хороших ножниц.
Вести журнал было нелегко. Вознаграждение денежное равнялось почти нулю. Но вознаграждение нравственное было, как всегда, огромно: журналистика — это игра в школу; мы любим играть в школу в детстве; потом продолжаем ее молодыми людьми, потом стареем и едва плетемся к гробу, но все еще увлекаемся игрой в школу. А в этой игре так приятно быть учителем! Так приятно посадить остальных детей в ряд, а самому ходить веред ними с палочкой! И журналистика чувствует, что ходит с палочкой; поэтому у нее столько приверженцев, несмотря на многие тяжелые стороны труда. Государство, правительство, общество, народ, искусство, наука — все другие дети сидят перед нею в ряд, а она их учит.
Я отвлекся, но отвлекся потому, что хотел объяснить, отчего мне больше не хочется учить никого. Вернемся к фактам.
В одном письме в редакцию, подписанном «Воздухоплаватель», требовали сведений о том, как добывать водород. Оказалось, что очень легко — как я узнал, когда сходил в библиотеку Британского музея. Но для верности я все-таки предупредил «Воздухоплавателя», кто бы он ни был, что следует действовать осторожно и принять все необходимые меры. Что же я мог еще сделать? Тем не менее через десять дней явилась в редакцию какая-то женщина пунцового цвета; она тащила за руку двенадцатилетнего молодца, которого объявила своим сыном. У него не замечалось на физиономии положительно никакого выражения; бровей у него тоже не было. Мать вытолкнула его вперед и стащила с него шапку. Под шапкой оказалась гладкая поверхность, испещренная серыми точками — вроде крутого очищенного яйца, посыпанного перцем.
— Это был красавец ребенок на прошлой неделе!— заявила женщина пунцового цвета, придавая своему голосу оттенок приближающегося негодования, чтобы мы поняли, что это еще только начало.
— Какое же обстоятельство его так изменило?— спросил редактор.
— Вот какое обстоятельство! — и она бросила ему чуть не в лицо последний выпуск нашего журнала с моим ответом о добывании водорода; параграф был подчеркнут красным карандашом.
Редактор прочел его внимательно и потом спросил, указывая на отрока:
— Это и есть «Воздухоплаватель»?
— Да! Это был «Воздухоплаватель» еще на прошлой неделе! Это был прекрасный, невинный ребенок! А теперь — посмотрите на его волосы!
Редактор посмотрел. Он был серьезный, тихий человек.
— Может быть, они вырастут? — спросил он.
— Может быть, вырастут, а может быть, и не вырастут! — отвечала женщина, усиливая негодующие ноты.— Я желаю знать, что вы ему теперь предложите?
Редактор предложил вымыть отроку голову. Я думал, что женщина бросится на него, но она удержалась, дав полную волю только голосу. Она требовала не купанья, а вознаграждения. Досталось тут кстати нашему журналу вообще, его направлению, его самомнению, его подписчикам...
Терпеливо выслушав горячий монолог женщины, редактор предложил ей пять фунтов стерлингов. Тогда она успокоилась и ушла вместе с поврежденным «Воздухоплавателем». Редактор обернулся ко мне и сказал:
— Не думайте, что я браню вас, — нисколько. Тут вашей вины нет, тут судьба. Но, друг мой, лучше, если вы будете придерживаться исключительно нравственных советов: это ваш стиль, в нем вы безусловно талантливы, но оставьте в покое «полезные сведения»! Я не говорю, чтобы вы их писали неправильно или недобросовестно — нет, но в этом направлении вам просто не везет; оставьте.
Мне следовало послушаться умного человека. Жаль, что я этого не сделал: и мне, и другим было бы легче. Мне действительно не везет давать полезные советы. Если я составляю для приятеля маршрут от Лондона до Рима, то он непременно потеряет багаж в Швейцарии (если не утонет при переезде через канал). Когда я помогаю другу выбрать при покупке хороший фотографический аппарат, то он потом непременно попадает в руки немецкой полиции за фотографирование крепостей. Однажды я вложил всю душу в дело, объясняя знакомому, как ему поехать в Стокгольм и жениться там на сестре своей покойной жены; час отъезда парохода, лучшие гостиницы в Стокгольме — все подробности были указаны с величайшей точностью; а между тем он со мной с тех пор не говорит.
Так вот, вследствие всего этого я решил твердо и бесповоротно удержаться теперь от малейших практических советов; и если я справлюсь со своей неудачной страстью, то читатель не найдет на этих страницах ни одного толкового сведения, ни описания городов, ни исторических воспоминаний, ни нравоучений.
Я однажды спросил иностранца-путешественника, каким ему показался Лондон.
— О, это огромный город, — отвечал он.
— Но что произвело на вас самое сильное впечатление?
— Люди.
— Ну, а сравнительно с Парижем, Римом, Берлином — что вы нашли особенного?
Он пожал плечами.
— Лондон больше. Что ж еще можно сказать?
Действительно, все муравейники похожи один на другой. Известное число улиц, широких или узких, в которых суетятся маленькие существа; эти бегут, спешат, те полны важности, третьи — хитрости; одни борются с непосильной ношей, другие нежатся на солнце, здесь огромные склады пищи, там тесные каморки, в которых маленькие существа спят, едят и Любят; а там — уголки, где складываются мелкие белые кости. Один муравейник больше, другой меньше, вот и все. Одно гнездо лежит на песке, а другое между скал. Одно построено недавно, а другое в незапамятные времена, когда еще и ласточек не знали.
Не найдет читатель в этой книге и романтической истории. В каждой долине, под каждой крышей был случай, который вы сами можете воспеть в стихах и в песне, а я скажу вам только суть: жила девушка и жил мужчина, он полюбил ее и уехал.
Эта монотонная песня написана на всех языках, очевидно, молодой человек обошел весь свет... Его помнят в сентиментальной Германии, в голубых горах Эльзаса, по берегам морей. Он странствует, как Вечный Жид, но девушки продолжают прислушиваться к удаляющемуся топоту его коня...
В опустевших развалинах, где звучали когда-то живые голоса, ютится теперь только эхо минувшего. Прислушайтесь — здесь все то же, знакомое... Напишите песню сами: человеческое сердце — или два; несколько страстей (их ведь немного, не больше чем полдюжины); немножко зла, немного добра; смешайте все это, прибавьте в конце дыханье смерти — и выберите любое из названий: "Пещера невинности", "Очарованная башня", "Могила в темнице", "Прыжок любовника"— все годится, потому что содержание одно и то же...
Наконец, в моей книжке не будет описаний природы. Это не от лености с моей стороны, а от воздержания. Нет ничего легче для описания, чем картины природы, и нет ничего труднее и скучнее для чтения. Когда Гиббон принужден был судить о Геллеспонте по описаниям путешественников и английские студенты имели представление о Рейне главным образом из «Комментария Юлия Цезаря», тогда каждому бродяге действительно надлежало описывать по мере сил всякий виденный клочок земли. Но железные дороги и фотография переменили это все. Для того, кто видел дюжину картин, сотню фотографий и тысячу печатных рисунков Ниагары, поэтическое описание водопада крайне утомительно. Один американец — большой любитель поэзии — говорил мне, что альбом шотландских озер, купленный за восемнадцать пенсов, дал ему более ясное представление, чем все тома наших поэтов, вместе взятые; он прибавил еще, что описание съеденного обеда имеет в его глазах столько же достоинств, как описание природы, потому что кушанье можно оценить только языком, как природу — только глазами.
Я с ним согласен, и каждое описание природы в книжках напоминает мне урок в жаркий летний день, когда я сидел в классе вместе с другими мальчуганами...
Это был урок английской литературы. Мы только что закончили чтение длинной поэмы, название и автора которой я, к стыду моему, позабыл. Помню, что поэма не понравилась нам тем, что она была длинна, хотя других недостатков мы в ней не заметили. Когда последние строфы были прочтены и книги закрыты, учитель — ласковый седой джентльмен — пожелал, чтобы мы рассказали поэму своими словами.
— Ну, скажите мне, — обратился он к первому ученику, — о чем тут говорится.
Мальчик опустил голову и отвечал сконфуженным тоном, как о предмете, о котором он никогда не заговорил бы сам:
— О девице, сэр...
— Да, — отвечал учитель, — но я хочу, чтобы ты рассказывал своими словами: ведь мы говорим не “девица", а “девушка". Продолжай.
— О девушке... — повторил первый ученик, еще более смущенный объяснением, — которая жила в лесу.
— В каком лесу?
Мальчик внимательно исследовал свою чернильницу и посмотрел на потолок.
— Ну, — сказал учитель нетерпеливо. — Ведь ты читал описание этого леса целых десять минут и теперь не можешь ничего вспомнить?
— «Сучки дерев, изогнутые ветви...» — начал мальчик.
— Нет, нет! Я не хочу, чтобы ты повторял слово в слово! Ну, расскажи по-своему, какой это был лес.
— Обыкновенный лес, сэр.
— Скажи ему, какой это был лес, — обратился учитель к следующему мальчугану.
— Зеленый лес, сэр!
Учителю стало досадно; он назвал второго мальчика «тупицей» и вызвал третьего. Этот сидел уже как на горячих углях, весь красный от нетерпения и размахивал правой рукой, как семафор; он вскочил и ответил бы в следующую секунду, даже если бы его не вызвали.
— Темный и мрачный лес, сэр! — воскликнул он с облегчением.
— Темный и мрачный лес, — повторил учитель с видимым одобрением. — А почему он был темный и мрачный?
Третий мальчик не оплошал:
— Потому что солнце не могло туда проникнуть!
Учитель почувствовал, что попал на поэта.
— Да. Потому что солнце, — или вернее лучи света не могли туда проникнуть. А почему они не могли проникнуть?
— Потому что листья были очень густы, сэр.
— Очень хорошо. Итак, девушка жила в темном и мрачном лесу, сквозь густую листву которого не проникали лучи света. Теперь — дальше! Что росло в этом лесу? — обратился учитель к четвертому мальчику.
— Деревья, сэр.
— А что еще?
— Мухоморы, сэр.
Учитель не был уверен относительно мухоморов, но, справившись с книгой, нашел, что мальчик прав.
— Совершенно верно. Мухоморы росли в этом лесу. Ну, а что еще? Что бывает в лесу под деревьями?
— Земля, сэр.
— Нет, нет! Что растет еще, кроме деревьев?
— Кусты, сэр.
— Кусты. Очень хорошо. Теперь мы подвигаемся. Ну, а что еще? — и учитель указал на мальчугана в конце класса, который думал, что лес от него еще очень далеко, и занимался поэтому игрой в крестики и нолики сам с собой.
Потревоженный и раздосадованный, но чувствуя, что обязан прибавить что-нибудь к лесу со своей стороны, он встал и отвечал наугад.
— Черника, сэр.
Это была ошибка. В поэме не упоминалось о чернике.
— Ну, конечно: надо же было что-нибудь человеку есть! — сострил учитель. Раздался смех. Довольный своим остроумием, учитель вызвал мальчика со средней скамейки:
— Что было еще в этом лесу?
— Поток, сэр.
— Совершенно верно. И что он делал?
— Журчал, сэр.
— Нет, нет! Это ручей журчит, а поток?
— Ревет, сэр!
— Верно. Поток ревел. А что заставляло его реветь?
Мальчик встал в тупик. Другой — который, правда, не считался у нас блестящим учеником — высказал свое предположение:
— Девушка, сэр!
Тоща учитель изменил форму вопроса:
— Когда поток ревел?
Тут пришел опять на помощь третий мальчик:
— Позвольте ответить! Поток ревел, когда падал со скалы.
Многих это удивило... Промелькнуло представление о том, какой жалкий был этот поток: не стоило реветь всякий раз, когда падаешь со скалы. Но учитель остался доволен ответом.
— Ну, а кто жил еще в лесу, кроме девушки?
— Птицы, сэр.
— Да, птицы жили в лесу, а кроме птиц?
Но наше воображение истощилось. Дальше птиц мы ничего не могли придумать;
— Ну же! — старался помочь учитель. — Какие это животные с хвостами, которые бегают по деревьям?
— Кошки, сэр!
Опять ошибка. Поэт не писал ни слова о кошках. Учитель хотел, чтобы мы назвали белок.
Остальных подробностей об этом лесе я так и не запомнил. Кажется, были еще там кусочки голубого неба, а на них тучи, и из этих туч шел иногда на девушку дождь.
Я тогда не понимал и теперь не понимаю, почему описание первых трех учеников было недостаточно. При всем уважении к поэту надо признать, что лес во всяком случае был «обыкновенный». И все книжные описания природы кажутся мне столь же излишними, как и перечисление всего, что было в этом лесу.
Я мог бы описать подробно все красоты Шварцвальда, его скалы, его веселые равнины, его хвойные леса по крутым склонам гор, его пенящиеся горные потоки (в тех местах, где аккуратные немцы еще не заключили их в приличные деревянные желоба) и беленькие деревни, и одинокие фермы. Но меня мучит подозрение, что вы пропустите все это. И даже если не пропустите, если вы более деликатны (или менее слабохарактерны) — то все-таки достаточно немудреных, простых строк из путеводителя:
«Живописная горная местность, окаймленная с юга и с запада долиной Рейна, к которой круто спускаются отроги гор. Почва состоит главным образом из слоев разного песка и гранита. Нижние отроги покрыты огромными хвойными лесами. Местность орошена многочисленными горными потоками, а густо населенные долины плодородны и хорошо возделаны. Гостиницы хороши, но местные вина следует выбирать с осторожностью».
ГЛАВА VI
Как мы попали в Ганновер. О том, что делают за границей лучше, чем у нас. Разоблачение одной тайны. «Коренной француз» как предмет развлечений. Отцовские чувства Гарриса. Искусство поливать улицы. Патриотизм Джоржа. Что Гаррис должен был сделать. Что Гаррис сделал. Мы спасаем Гаррису жизнь. Город, в котором не спят Извозчичья лошадь с критическими наклонностями.
Мы прибыли в Гамбург в пятницу после тихого и ничем не замечательного морского переезда, а из Гамбурга отправились в Берлин через Ганновер.
Это не совсем прямой путь; но как мы там очутились — я могу объяснить не иначе, как негр объяснял судье, каким образом он попал к дьякону на птичий двор:
— Да, сэр. Полисмен говорит правду. Я там был, сэр.
— А, так вы это признаете? Как же вы объясните, что вы там делали в двенадцать часов ночи?
— Я только что хотел рассказать, сэр. Я пошел к масса Джордану с дынями, сэр; в мешке были дыни, сэр. И масса Джордан был очень ласков и пригласил меня зайти, сэр.
— Ну?
— Да, сэр. Масса Джордан очень хороший господин, сэр. И мы сидели и сидели, и говорили и говорили...
— Очень может быть, но я хотел бы знать, что вы делали на птичьем дворе у дьякона?
— Я это и хочу рассказать, сэр. Было очень поздно, когда я вышел от массы Джордана; вот я и говорю себе: “Смелее, Юлиус!... Потому что будет история с твоей бабой". Она у меня женщина разговорчивая, сэр, и...
— Да, но забудьте о ней, пожалуйста, в этом городе кроме вашей жены есть еще очень разговорчивые люди. Ну-с, как же вы попали к дьякону? Его дом за полмили в стороне от пути к вашему.
— Вот это я и хочу, объяснить, сэр!
— Очень рад слышать. Но как же вы объясните?
— Вот я об этом и думаю... Я, кажется, отступил, сэр.
Так и мы “отступили" немножко.
Ганновер производит первое впечатление вовсе не интересное, но постепенно оно изменяется. В нем собственно два города: широкие улицы с новейшими постройками и роскошными садами, а рядом средневековые узкие переулки с нависшими над ними фахверковыми постройками. Здесь можно видеть за низкими каменными воротами широкие дворы, окруженные галереями, где раздавался когда-то топот дорогих коней и теснились запряженные шестерней коляски в ожидании богатого владельца и его нарядной жены; но теперь на этих дворах суетятся только дети и цыплята, а на резных балконах висят для проветривания изношенные платья.
В Ганновере чувствуется какая-то английская атмосфера. .. В особенности по воскресеньям, когда магазины закрыты, а колокола звонят — невольно вспоминаешь ясное лондонское воскресенье.
Если бы это впечатление испытал я один, то приписал бы его фантазии, но даже Джорж поддался такому же чувству: когда мы с Гаррисом вернулись после завтрака с маленькой прогулки, то нашли его сидящим, в самом удобном кресле, в курительной комнате — он сладко дремал.
— Хотя я не особенный патриот, но признаю, что в английском воскресенье есть что-то привлекательное! — заметил Гаррис. — И как новое поколение ни восстает против старого обычая, а жаль было бы с ним расстаться.
С этими словами он присел на один конец дивана, я на другой — и мы устроились , поудобнее, чтобы составить компанию Джоржу.
Говорят, в Ганновер следует ездить, чтобы учиться самому лучшему немецкому языку. Но неудобство заключается в том, что за пределами Ганновера никто этого “самого лучшего“ немецкого языка не понимает. Остается или говорить хорошо по-немецки и жить всегда в Ганновере, или же говорить плохо и путешествовать. Германия так долго была разделена на отдельные крошечные государства, что образовалось несколько наречий. Немцы из Познани принуждены разговаривать с немцами из Виртемберга по-французски или по-английски; и молодые англичанки, которые за большие деньги научились немецкому языку в Вестфалии, глубоко огорчают своих родителей, когда не могут понять ни слова из того, что им говорят в Мекленбурге.
Правда, иностранец, свободно говорящий по-английски, тоже затруднится, если ему придется объясняться в Йоркширских деревнях или в беднейших трущобах Лондона; но этого сравнивать нельзя: в Германии каждая провинция выработала особенное наречие, на котором не только говорят простые люди, но которым гордится интеллигенция. В Баварии человек из образованного круга признает, что северное наречие правильнее и чище, но тем не менее будет учить своих детей только родному, южному.
В следующем столетии немцы, вероятно, разрешат этот вопрос тем, что все будут говорить по-английски. В настоящее время в Германии почти каждый мальчик и девочка, даже среднего класса, говорят по-английски; и не будь наше произношение так деспотически-своеобразно, нет сомнения, что английский язык стал бы всемирным в течение нескольких лет. Все иностранцы признают его самым легким для теоретического изучения. Немцы, у которых каждое слово в каждой фразе зависит по меньшей мере от четырех различных правил, уверяют, что у англичан грамматики вовсе нет. В сущности она есть; только ее, к сожалению, признают не все англичане и этим поддерживают мнение иностранцев. Последних еще затрудняет кроме головоломного произношения наше правописание: оно действительно изобретено, кажется, для того, чтобы сдерживать самоуверенность иностранцев, а то они изучали бы английский язык в один год.
Иностранцы изучают языки не по-нашему: оканчивая среднюю школу в возрасте около пятнадцати лет, они могут свободно говорить на чужом языке; а у нас придерживаются правила — научиться как можно меньше, тратя на ученье как можно больше времени и денег. В конце концов мальчик, прошедший у нас хорошую среднюю школу, может медленно и с трудом разговаривать с французом о его садовницах и тетках (что несколько приторно для человека, у которого нет ни тех, ни других); в лучшем случае он может с осторожностью делать замечания о погоде и времени и перечесть неправильные глаголы и исключения. Только кому же интересно слушать примеры собственных неправильных глаголов и исключений из уст английского юноши?
Это объясняется тем, что в девяти случаях из десяти французский язык у нас преподают по учебнику, написанному когда-то одним французом в насмешку над нашим обществом. Он комически изобразил, как разговаривают англичане по-французски и предложил свою рукопись одному из издателей в Лондоне, где тогда жил. Издатель был человек проницательный, он прочел работу до конца и послал за автором.
— Это написано очень остроумно! — сказал он французу. — Я смеялся в некоторых местах до слез.
— Мне очень приятно слышать такой отзыв, — отвечал автор. — Я старался быть правдивым и не доходить до ненужных оскорблений.
— Очень, очень остроумно! — продолжал издатель. — Но печатать такую вещь как сатиру — невозможно.
Лицо француза вытянулось.
— Видите ли, вашего юмора большинство читателей не поймет: его сочтут вычурным и искусственным; поймут только умные люди, — но эту часть публики нельзя принимать в расчет. А у меня явилась вот какая мысль! — И издатель оглянулся, чтобы убедиться, одни ли они в комнате; затем наклонился к французу я продолжал шепотом: — Издадим это как серьезный труд, как учебник французского языка.
Автор смотрел, широко раскрыв глаза, безмолвный от удивления.
— Я знаю вкус среднего английского учителя,— продолжал издатель. — Такой учебник будет совершенно согласоваться с его способом обучения! Он никогда не найдет ничего более бессмысленного и более бесполезного. Ему останется только потирать руки от удовольствия.
Автор решился принести искусство в жертву наживе и согласился. Они только переменили заглавие, приложили словарь и напечатали книжку целиком.
Результаты известны каждому школьнику: этот учебник составляет основу нашего филологического образования. Его полноправность исчезнет только тогда, когда изобретут что-нибудь еще менее подходящее.
А для того, чтобы мальчики не научились языку каким-нибудь случайным образом, у нас приставляют к нему«коренного француза»; свойства его следующие: он родом из Бельгии (хотя свободно болтает по-французски), неспособен научить никого и ничему на свете и одарен несколькими смешными качествами. При таких условиях он представляет предмет шуток и шалостей среди монотонного ученья; его два-три урока в неделю делаются комическими представлениями, которых ученики ждут с большим удовольствием. А когда через несколько лет родители едут с мальчиком в Дьепп и находят, что он не умеет даже позвать извозчика, то это приводит их в искреннее изумление.
Я говорю об «изучении» французского языка, потому что мы только ему и обучаем нашу молодежь. Если мальчик говорит хорошо по-немецки, то это часто принимается за признак равнодушия к родине, и к чему у нас тратят все-таки время на поверхностное знакомство с французским языком, я решительно не понимаю; это только смешно. Уж лучше старинный взгляд, что полное незнание чужих языков — респектабельнее всего!
В немецких школах система другая: здесь один час посвящен ежедневно иностранному языку, чтобы дети не забыли того, что выучили в прошлый раз. Для развлечения не приглашают никаких «коренных иностранцев», а учит немец, который знает чужой язык, как свои пять пальцев. Мальчики не называют его ни «жабой», ни «колбасой», и не устраивают на его уроках состязаний в доморощенном остроумии. Окончив школу, они могут разговаривать не только о перочинных ножиках и о тетках садовников, но и о европейской политике, истории, о Шекспире — и об акробатах-музыкантах, если о них зайдет речь.
Смотря на немцев с англо-саксонской точки зрения, я, может быть, и упрекну их при случае, но многому можно поучиться у них, в особенности относительно разумного преподавания в школах...
С южной и восточной стороны Ганновер окаймлен великолепным парком. В этом парке произошла драма, в которой Гаррис играл главную роль.
В понедельник после обеда мы катались по широким аллеям; кроме нас было много других велосипедистов и вообще гуляющей публики, потому что тенистые дорожки парка — любимое место прогулки в послеобеденные часы. Среди катающихся мы заметили молодую и красивую барышню на совершенно новом велосипеде. Видно было, что она еще новичок, и чувствовалось, что настанет минута, когда ей понадобится посторонняя помощь. Гаррис, с врожденной ему рыцарской вежливостью, предложил нам держаться вблизи барышни. Он объяснил — уже не в первый раз — что у него есть собственные дочери (пока только одна), которые со временем превратятся тоже в красивых взрослых девиц; поэтому он естественно интересуется всеми взрослыми красивыми девицами до тридцатипятилетнего возраста: они напоминают ему семью и дом.
Мы проехали мили две, когда заметили человека, стоявшего на перекрестке пяти аллей и поливавшего их из рукава помпы. Рукав, поддерживаемый маленькими колесиками, тянулся за ним как огромный червяк, из пасти которого вырывалась сильная струя воды; человек направлял ее в разные стороны, то направо, то налево, то вверх, то вниз, поворачивая конец рукава.
— Это гораздо лучше, чем наши бочки с водой! — восторженно заметил Гаррис (он относится строго ко всему британскому). — Гораздо проще, скорее и экономнее. Ведь этим способом можно в пять минут полить такое пространство, какого не польешь с нашими перевозными бочками в полчаса.
— Да! — иронически заметил Джорж, сидевший за моей спиной на тандеме. — И этим способом очень легко полить также целую толпу людей, прежде чем они успеют уйти с дороги.
Джорж — в противоположность Гаррису — британец до мозга костей. Я помню, как сильно Гаррис оскорбил его патриотизм, заметив однажды, что в Англии следовало бы ввести гильотину.
— Это гораздо аккуратнее, — прибавил он.
— Так что ж, что аккуратнее! — в негодовании воскликнул Джорж. — Я англичанин, и виселица для меня достаточно хороша!
— Наши телеги с бочками, — продолжал он, — в данном случае, имеют отчасти свои неудобства; но они могут замочить тебе только ноги, и от них легко уйти, а от такой штуки не спрячешься ни за углом улицы, ни на лестнице соседнего дома.
— А мне доставляет удовольствие смотреть на них, — возразил Гаррис. — Эти люди так ловко обращаются со всей этой массой воды! Я видел, как в Страсбурге человек полил огромную площадь, не оставив сухим ни одного дюйма земли и не замочив ни на ком ни одной нитки. Удивительно, как они наловчились соразмерять движения руки с расстоянием. Они могут остановить струю воды у самых твоих носков, перенести ее через голову и продолжать поливку улицы от каблуков. Они могут...
— Замедли-ка ход, — обратился ко мне в эту минуту Джорж.
— Зачем? — спросил я.
— Я хочу встать. На этого человека действительно стоит посмотреть. Гаррис прав. Я встану за дерево и подожду, пока он кончит работу. Кажется, представление уже начинается: он только что окатил собаку, а теперь усердно поливает тумбу с объявлениями. У этого артиста не хватает, кажется, винтика в голове. Я предпочитаю обождать, пока он кончит.
— Глупости! — отвечал Гаррис. — Не обольет же он тебя.
— Вот я в этом и хочу убедиться, — и Джорж, спрыгнув с велосипеда, стал за ствол роскошного вяза и принялся набивать трубку.
Мне не было охоты тащить тандем самому; я тоже встал, прислонил его к дереву и присоединился к Джоржу. Гаррис прокричал нам, что мы позорим старую Англию, или что-то в этом роде — и покатил дальше.
В следующее мгновение раздался нечеловеческий крик. Я выглянул из-за дерева и увидел, что отчаянные вопли испускала молодая барышня, которую мы обогнали, но о которой совсем забыли, занявшись вопросом о поливке. Теперь она твердо и прямо ехала сквозь густую струю воды, направленную на нее из рукава помпы. Пораженная ужасом, она не могла догадаться ни спрыгнуть, ни свернуть в сторону, и ехала напрямик, продолжая кричать не своим голосом. А человек был или пьян, или слеп, потому что продолжал лить на нее воду с полнейшим хладнокровием. Со всех сторон раздались крики и ругательства, но он не обращал на них внимания.
Отцовское чувство Гарриса было возмущено. Взволнованный до глубины души, он соскочил с велосипеда и сделал то, что следовало: подбежал к человеку, чтобы остановить его. После этого Гаррису оставалось бы удалиться героем, при общих аплодисментах, но вышло так, что он удалился, напутствуемый оскорблениями и угрозами.
У него не хватило находчивости: вместо того, чтобы завинтить кран помпы и затем поступить с человеком как он находил справедливым в данную минуту (он мог бы заняться им как мячом, и публика вполне одобрила бы это) — Гаррис вздумал отнять у него рукав помпы и окатить в наказание его самого. Но у человека мысль была очевидно такая же: не желая расставаться со своим оружием, он решил воспользоваться им против вмешательства и промочить Гарриса насквозь.
Результатом было то, что через несколько секунд они облили водой всех и все на пятьдесят шагов в окружности, кроме самих себя. Какой-то освирепевший господин из публики, которого так окатили, что ему было безразлично, какой еще вид может принять его наружность, выбежал на арену и присоединился к схватке. Тут они втроем принялись азартно орудовать рукавом по всем направлениям, как радиусом из центра шара. Могучая струя то взвивалась к небесам — и оттуда обливала всю площадь блестящим дождем, то они направляли ее прямо вниз на аллеи — и тогда люди отскакивали от земли, не зная, куда деть свои ноги, то водяной бич описывал окружность на высоте трех-четырех футов от земли и сгибал всех людей пополам.
Никто из троих не хотел уступить, никто не мог догадаться повернуть кран, — словно они боролись со стихийной силой. Через сорок пять секунд (Джорж следил за часами) — вся площадь была очищена: все живые существа исчезли, кроме одной собаки, которая храбро вскакивала в сотый раз на ноги, хотя ее моментально опять повертывало и относило водой то на правом, то на левом боку; тем не менее, она лаяла с негодованием, очевидно, считая такое явление величайшим беспорядком в природе.
Велосипедисты побросали свои машины и попрятались за деревья. Из-за каждого ствола выглядывала возмущенная физиономия.
Наконец, нашелся умный человек: рискуя всем, он пробрался к водопроводной тумбе и завинтил кран. Тогда из-за деревьев стали выползать существа, в большей или меньшей степени похожие на мокрые губки. Каждый был возмущен, каждый хотел высказаться.
Наружность Гарриса сильно пострадала; сначала я не мог решить, что будет более удобно для доставки его в гостиницу: корзина для белья, или носилки. Джорж выказал в данном случае большую сообразительность, спасшую Гарриса от гибели: стоя за дальним деревом, он остался сух и потому мог подбежать к нему скорее других; Гаррис хотел было начать объяснение, но Джорж прервал его на полуслове:
— Садись на велосипед и уезжай скорее. Поезжай зигзагами, на случай если будут стрелять. Мы поедем следом за тобой и будем им мешать. Они не знают, что ты из нашей компании, и — можешь положиться! — мы не выдадим тайны.
Не желая портить мою книгу никакими преувеличениями, я показал это описание самому Гаррису. Но он находит его преувеличенным: он говорит, что только «побрызгал»на публику. Однако, когда я предложил ему сделать для проверки опыт и стать на расстоянии двадцати пяти шагов от того места, откуда я «побрызгаю»на него из рукава помпы — он отказался. Затем он нашел еще одно преувеличение, уверяя, что от катастрофы пострадало не несколько десятков человек, а «душ шесть»; но опять-таки, когда я предложил съездить вместе в Ганновер и разыскать всех, кого он побрызгал — он уклонился и от этого.
Таким образом, я могу по совести считать мой рассказ вполне правдивым описанием события, о котором часть обывателей Ганновера, несомненно, вспоминает с горечью до сих пор.
Выехав из Ганновера перед вечером, мы благополучно добрались до Берлина как раз вовремя, чтобы поужинать и пройтись перед сном. Берлин несимпатичный город; вся деятельность слишком сосредоточена в самом центре, а вокруг царит безжизненный покой. Знаменитая улица Унтер-ден-Линден представляет попытку соединить Оксфорд-стрит с Елисейскими полями; получается что-то невнушительное, некрасивое, слишком широкое. Театры изящны и хороши; здесь на сценическую постановку и на костюмы обращено меньше внимания, чем на сами пьесы; последние не идут, как у нас, сотни раз подряд, а чередуются, так что вы можете ходить в один и тот же театр целую неделю и увидите все разные пьесы. Опера недостойна здания, в котором помещается. Кафешантаны носят не комический, а грубый и вульгарный характер.
В ресторанах самое большое оживление замечается от полночи до трех часов утра, но после этот большинство посетителей все-таки встает в семь часов и принимается за работу. Берлинцы, кажется, разрешили вопрос, каким образом обходиться без сна.
Я знаю еще только один город, где жизнь продолжается ночью: это Петербург. Но там не встают так рано, как в Берлине. В Петербурге ездят в загородные сады после театров; там оживление начинается только с двенадцати часов: едут туда в санях целых полчаса, и около четырех часов утра на Неве становится тесно от возвращающейся по домам публики. Это представляет удобство для тех, кто уезжает с ранними поездами: можно поужинать со знакомыми и затем прямо отправляться на вокзал, не затрудняя ни других, ни себя ранним вставанием.
Джорж и Гаррис согласились со мной, что долго в Берлине оставаться не стоит, а лучше ехать прямо в Дрезден. Везде можно увидеть то же самое, что в Берлине, за исключением, конечно, самого города; поэтому мы решили просто покататься и осмотреть его внешние достопримечательности. Швейцар гостиницы представил нам обыкновенного извозчика, говоря, что он все покажет и объяснит в самый короткий промежуток времени. Мы согласились. Как было условлено, извозчик явился за нами в девять часов утра; это был разумный, бойкий, знающий человек; по-немецки он говорил чисто и понятно и даже знал несколько слов по-английски, которые прибавлял для усиления речи. Словом, сам извозчик был отличный, но его лошадь... Более несимпатичного животного я не встречал!
Она отнеслась к нам самым неприязненным образом, лишь только увидела нас. Я вышел из подъезда первым. Она посмотрела сбоку и оглядела меня с ног до головы холодным, леденящим взглядом. Потом повернулась к знакомому коню, стоявшему перед ней носом к носу, и заметила (лошадь была так беззастенчива, а ее голова так выразительна, что я не мог бы ошибиться):
— Какие чучела встречаются в летнее время!
В эту минуту вышел Джорж и остановился рядом со мной на тротуаре. Лошадь опять оглянулась и посмотрела на моего друга... По всему ее туловищу пробежала дрожь; даже не дрожь, а судороги, на которые я считал способными только камелеопардов. Очевидно, Джорж произвел еще более сильное впечатление, чем я.
— Поразительно!.. — заметила она опять, обращаясь к знакомому. — Вероятно, есть такое место, где их специально выращивают.
И противная лошадь принялась слизывать у себя с левого плеча мух, словно лишилась в раннем детстве родной матери и выросла под присмотром кошки. Мы с Джоржем молча заняли свои места в экипаже в ожидании Гарриса.
Он появился через минуту. Мне лично его костюм показался очень милым: белые фланелевые брюки до колен и такая же куртка — сшитые нарочно для катанья в жаркую погоду; шляпа к этому костюму была действительно не совсем обыкновенная, но зато хорошо защищала от солнца.
Лошадь взглянула, воскликнула «Боже небесный!» — и понесла по Фридрихштрассе, оставя на тротуаре Гарриса с извозчиком. Нас нагнали только на углу Доротеенштрассе.
Я не мог разобрать всего, что хозяин сказал своему коню, он говорил очень быстро и взволнованно; я уловил только несколько фраз:
— Надо же мне как-нибудь зарабатывать деньги! Твоего мнения никто не спрашивает. Чего ты вмешиваешься? Знай свое дело, пока дают есть.
Лошадь прервала выговор очень просто, тронувшись дальше.
— Ну так поедем, нечего разговаривать! — отвечала она ясным лошадиным языком. — Только будем по возможности держаться боковых улиц.
Перед Бранденбургскими воротами извозчик остановился, сложил кнут и вожжи и, сойдя с козел, начал нам рассказывать о Тиргартене и Рейхстаге. Сообщив его точную длину, ширину и высоту (как настоящий проводник), он пустился в описание ворот, объяснив, что они построены из песчаника; он только что сравнил их с афинскими «Проперлеями» — как лошадь перестала лизать себе ноги и оглянулась на хозяина; она ничего не сказала, только посмотрела. Он запнулся и начал нервно рассказывать сначала, на этот раз ворота вышли у него похожими на «Порперлеи»...
Лошадь не стала больше слушать и повернула назад по Унтер-ден-Линден. Извозчик успел вскочить на козлы, но не мог уговорить ее вернуться куда он хотел. Она продолжала бежать рысцой, и по движению ее плеч видно было, что она говорила:
— Ведь они уже видели ворота, чего же еще? Довольно с них. А подробностей ты сам не знаешь, да они и не поняли бы тебя, даже если б ты знал все отлично.
Так продолжалось наше катанье по всем главным улицам; лошадь соглашалась останавливаться на минуту, чтобы дать нам расслышать название мест, но все объяснения и описания прерывала моментально, преспокойно трогаясь дальше. Она рассуждала правильно:
— Ведь им нужно только рассказать дома, что они видели. Если же я ошибаюсь, и они умнее, чем кажутся на вид — то могут прочесть где-нибудь и узнать больше, чем от моего старика, который видел только один путеводитель. Кому может быть интересно, сколько футов в какой-нибудь башне? Ведь этого не вспомнишь через пять минут! А кто вспомнит, у того значит нет ничего другого в голове. Хозяин раздражает меня своей болтовней. Всем нам давно пора завтракать!
Подумавши, я право не могу упрекнуть это белоглазое животное в глупости. Во всяком случае, мне потом случалось быть в обществе таких проводников, при которых я был бы рад вмешательству оригинальной лошади.
Но «мы не ценим милостей», как говорят шотландцы; и в тот день на голову странной лошади сыпали не благословения, а жестокие укоры.
ГЛАВА VII
Недогадливость Джоржа. Любовь к порядку. Воспитанные птицы и фарфоровые собаки. Их преимущества. О том, какая должна быть горная долина. Август Сильный. Гаррис дает представление; равнодушие публики. Джорж, его тетка, подушка и три барышни
Где-то по дороге между Берлином и Дрезденом Джорж, долго смотревший в окно, спросил:
— Почему это в Германии люди прибивают ящик для писем не к дверям своего дома, как у нас, а к стволам деревьев? Да еще на самой верхушке! Меня бы раздражало лазить каждый раз так высоко, чтобы посмотреть, нет ли писем. И относительно почтальона это жестоко: не говоря о неудобстве, но при сильном ветре, да еще с мешком за плечами, это положительно опасно. Впрочем я, может быть, напрасно осуждаю немцев,— продолжал он, видимо, под впечатлением какой-то новой мысли. — Может быть, они применили к обыденной жизни усовершенствованную голубиную почту? Но все-таки непонятно, почему бы им в таком случае не обучить голубей опускаться с письмами пониже. Ведь даже для нестарого немца должно быть утомительно лазить по деревьям.
Я проследил за его взглядом и отвечал:
— Это не ящики для писем: это гнезда. Ты все еще не понимаешь германского национального духа. Немец любит птиц, но они должны быть аккуратны. Если птица предоставлена собственному произволу, она настроит гнезд ще попало, а между тем это вовсе не красивый предмет с немецкой точки зрения: гнездо не выкрашено, нет на нем ни лепной работы, ни флага; оно даже не закрыто: птицы выбрасывают из него веточки, кусочки червей и всякую всячину; они не деликатны, они ухаживают друг за другом, мужья ссорятся с женами, жены кормят детей — все на виду! Понятное дело, это возмущает немца-хозяина, он обращается к птицам и говорит: «Вы мне нравитесь, я люблю на вас смотреть, люблю ваше пение, но мне вовсе не нравятся ваши манеры, и я предпочел бы не видеть подробностей вашей домашней жизни. Вот, возьмите себе закрытые деревянные домики! Живите в них как угодно, не пачкайте моего сада и вылетайте тогда, когда вам хочется пить».
В Германии вдыхаешь пристрастие к порядку вместе с воздухом; здесь даже грудные дети отбивают такт трещотками: птицам пришлось подчиняться общему вкусу и они уже соглашаются жить в деревянных ящиках, считая, в свою очередь, невоспитанными тех родных и знакомых, которые с глупым упорством продолжают вить себе гнезда в кустах и изгородях. Со временем весь птичий род будет, конечно, приведен к порядку. Теперешний беспорядочный писк и щебетанье исчезнут, каждая птица будет знать свое время, и вместо того, чтобы надрываться без всякой пользы в четыре утра, в лесу, — горластые певцы будут прилично петь в садиках, при пивных, под аккампанимент рояля. Все ведет к этому: немец любит природу, но он хочет довести ее до совершенства, до блеска «Созвездия Лиры». Он сажает семь роз с северной стороны своего дома и семь роз с южной, и если они растут неодинаково, то он не может спать по ночам от беспокойства. Каждый цветок у него в саду привязан к палочке: из-за нее не видно иногда самого цветка, но немец покоен: он знает, что цветок там, на месте, и что вид у него такой, какой должен быть. Дно пруда он выкладывает цинком, который вынимает потом раз в неделю, тащит в кухню и чистит. В центре садовой лужайки, которая иногда бывает не больше скатерти и непременно окаймлена железными прутиками, помещается фарфоровая собака. Немцы очень любят собак, но больше фарфоровых, чем настоящих: фарфоровая собака не роет в саду ям, чтобы прятать остатки костей, и цветочные клумбы не разлетаются из-под ее задних ног по ветру в виде земляного фонтана. Фарфоровый пес — идеальный зверь (с немецкой точки зрения), он сидит на месте и не пристает ни к кому; если вы поклонник моды, то его очень легко переменить или переделать, согласно с новейшими требованиями «Собачьего Клуба»; а если придет охота пооригинальничать, или сделать по собственному вкусу, то можно завести особенную собаку — голубую или розовую, а за небольшую приплату даже двухголовую. Ничего этого нельзя добиться от живой собаки.
В определенный день осенью немец пригибает все цветы к земле и прикрывает их японскими циновками, а в определенный день весной вновь открывает их и подвязывает к палочкам. Если теплая, светлая осень держится слишком долго или весна наступает слишком поздно — тем хуже для цветов. Ни один серьезный немец не изменит своих правил из-за капризов солнечной системы; если нельзя управлять погодой, то можно не обращать на нее внимания.
Среди деревьев самой большой любовью в Германии пользуется тополь. В других, неопрятных странах могут воспевать косматый дуб, развесистый каштан, колышащийся вязь, но немцу все это режет глаз. Тополь гораздо лучше: он растет над тем местом, куда его посадили и как его посадили; характер у него не бестолковый, нет у него нелепых фантазий, не стремится он ни лезть во все стороны, ни размахивать ветками. Он растет так, как должно расти порядочное дерево; и постепенно все деревья в Германии заменяются тополями. Немец любит природу — но при том условии, при котором одна дама соглашалась любить дикарей, а именно: чтобы они были воспитанные и больше одеты. Он любит гулять в лесу — если дорожка ведет к ресторану, если она не слишком крута, если по бокам тянутся канавки для стока воды и через каждые двадцать шагов есть скамеечка, на которой можно посидеть и вытереть лоб; потому что сесть на траву так же дико для немца, как для английского епископа скатиться с верхушки холма, на котором устроены народные гулянья. Немец охотно любуется видом с вершины горы — если там прибита дощечка с надписью, куда и на что глядеть, и если есть стол и скамейка, чтобы можно было не разорительно освежиться пивом и закусить принесенными с собой бутербродами. Если тут же на дереве он усмотрит полицейское объявление, запрещающее ему куда-нибудь повернуть или что-нибудь делать — то это дает ему чувство полного удовлетворения и безопасности.
Немец одобряет даже дикую природу — если она не слишком дикая; в случае излишества дикости, он принимается за работу и подчиняет себе все, что нужно. Я помню, как однажды забрел в окрестностях Дрездена в прелестную узкую долину, спускавшуюся к Эльбе. Дорожка вилась рядом с горным потоком, который ревел и рвался, покрытый пеной, среди голяшей и леса, покрывавшего берега. Я шел все дальше и дальше, совсем очарованный, — как вдруг за крутым поворотом увидел человек сто рабочих, которые деятельно вычищали долину и приводили в порядок горный поток: валуны и скалы, мешавшие течению воды, выкапывались и вывозились на телегах; по выравненным берегам шла деятельная кладка кирпичей на цементном растворе; нависшие деревья и кусты, запутанные побеги ползучих растений — все это вырывалось с корнем или вытягивалось в одну линию. Пройдя еще дальше, я дошел до того места, которое было уже подчинено предписанным правилам красоты: широкая, гладкая полоса воды медленно и сонно текла по песчаному горизонтальному дну, которое через каждые сто метров осторожно спускалось по трем широким деревянным ступеням; вдоль берегов тянулась каменная набережная, законченная скатом для стока дождя; на одинаковое расстояние в обе стороны земля была вычищена, выровнена и правильно засажена рядами молоденьких тополей, из которых каждый был прикрыт щитом с северной стороны и привязан к железному стержню. Местные власти надеются, что через два года эта долина будет «окончена» по всей длине и явится возможность гулять по ней. На расстоянии каждых пятидесяти метров будет стоять скамейка, каждых ста метров — полицейское объявление, и каждой полумили — ресторан.
То же самое происходит с долиной Вертааль между Мемелем и Рейном — а когда-то это было одно из самых восхитительных мест Шварцвальда! Ни поэты, ни администраторы в Германии не любят, чтобы природа подавала дурной пример детям. Рев воды возмущает начальство. «Ну, ну! — говорит оно. — Это еще что такое? Безобразие! Извольте прекратить весь этот шум и течь прилично; не можете, что ли? Люди подумают, что вы Бог знает где находитесь!» И начальство дает местным водам цинковые трубы, и деревянные желоба, и ступенчатые спуски, и учит их уму разуму.
Опрятная страна, что и говорить!..
Мы приехали в Дрезден в среду вечером и остались там до понедельника. Это самый симпатичный город в Германии, но надо жить в нем, а не заезжать на несколько дней. Его музеи и картинные галереи, дворцы, и сады, и прекрасные окрестности полны исторического интереса — все это чарует, если проживешь целую зиму, но ошеломляет при поверхностном осмотре. Здесь нет такого веселья, как в Париже или Вене, которое скоро становится приторным; очарование Дрездена Тише, солиднее — по-немецки, и дольше сохраняется — тоже по-немецки. Для любителей музыки Дрезден все равно, что Мекка для магометан: за пять марок можно достать кресло в опере, к сожалению, вместе с чувством неприязни на будущее время ко всем английским, французским и американским оперным театрам.
Как-то неловко видеть в современном чинном и скромном Дрездене памятник курфюрсту Августу Сильному, которого Карлейль называет «греховодником». Он оставил после себя тысячу детей и запирал требовательных, по его мнению, избранниц в тюрьмы и замки, где до сих пор показывают комнаты, в которых они страдали и умирали. Много таких замков рассыпано вокруг Дрездена — как костей на поле битвы,— и описание этих развалин в путеводителях относятся к разряду тех, которых воспитанным немецким барышням лучше не читать. Портрет этого чувственного, грубого человека висит в прекрасном музее, который он построил когда-то для боя диких зверей. Но в лице с нависшими бровями видна энергия и вкус, которыми нередко отличаются чувственные натуры. Дрезден обязан ему многими прекрасными сооружениями.
Но больше всего удивляют здесь путешественника электрические конки. Огромные, чистые, длинные вагоны несутся по улицам со скоростью от десяти до двадцати миль в час, огибая углы со смелостью машиниста-ирландца. В них ездят все, за исключением офицеров, которым это не разрешено; и носильщики с вещами, и разодетые дамы, отправляющиеся на бал — все едут вместе. Поезд этой электрической конки внушает большое почтение: все и все на улицах спешат дать ему дорогу; если вы зазеваетесь и попадете под блестящие вагоны, но случайно останетесь живы, то вас, поднявши, немедленно оштрафуют за недостаток почтительности.
Как-то после завтрака Гаррис отправился погулять по городу один. Когда мы в тот же вечер сидели на «Бельведере» и слушали музыку, он довольно неожиданно объявил, что у немцев нет никакого юмора.
— Почему ты так думаешь? — спросил я.
— Да вот, сегодня, — отвечал он, — я хотел получше осмотреть город, и поместился для этого на наружной площадке электрической конки; знаешь, на этой...
— Stehplatz?
— Вот именно. Ну, ты конечно заметил, что вагоны внезапно трогаются с места, внезапно останавливаются, а углы огибают как ошалелые.
Я утвердительно кивнул головой.
— Нас было на площадке человек шесть, — продолжал Гаррис. — Я ведь еще не привык, и когда вагон неожиданно двинулся — меня дернуло назад, и я повалился прямо на толстого господина, стоявшего за мной; тот, вероятно, тоже был не особенно тверд на ногах и, в свою очередь, чуть не раздавил мальчика, державшего трубу в зеленом чехле. Ни один из них не улыбнулся, оба только надулись. Я собрался было извиниться, когда вагон вдруг замедлил ход — и я очутился в объятиях седого господина, похожего на профессора, который стоял против меня. Представь себе, что и он не улыбнулся! Ни один мускул не дрогнул на его лице!
— Может быть, он думал о чем-нибудь другом,— заметил я.
— Так не могли же все они думать о чем-нибудь другом: в продолжение пути я не пропустил ни одного из них, на всех падал по нескольку раз! Они уже знают, когда надо покрепче держаться на ногах — и неужели же им не казалось комичным то, как меня кидало на все стороны и я судорожно хватался за всех соседей! Я не говорю, что тут был тонкий, изящный юмор — но во всяком случае я насмешил бы у нас большинство публики. А у немцев физиономии приняли только выражение усталости, в особенности у того, на которого я свалился пять раз.
С Джоржем вышло в Дрездене маленькое приключение. На площади Старого Рынка мы заметили магазин, в витринах которого были выставлены очень красивые подушки, атласные, с вышивками ручной работы. В магазине, собственно, продавались не мебельные вещи, а стекло и фарфор, но эти подушки продавались здесь, вероятно, по случаю. Мы часто проходили мимо, и Джорж каждый раз останавливался и рассматривал их. Он говорил, что его тетке понравилась бы такая подушка.
Джорж очень внимателен к своей тетке; он помнил о ней во время всего путешествия: каждый день писал ей длинные письма, из каждого города посылал подарки. По-моему, он слишком усердствует; я ему доказывал, что эта тетка может встретиться с другими его тетками, расскажет обо всех подарках, другие найдут племянника несправедливым — выйдут неприятности. У меня самого есть тетки, я знаю, как надо быть осторожным. Но Джорж не слушается.
И, вот, в субботу после завтрака он попросил нас с Гаррисом подождать и никуда не уходить, пока он сходит в этот магазин купить подушку. Мы прождали довольно долго и удивились, когда он вернулся с пустыми руками. На вопросы о подушке он отвечал, что не покупал никакой подушки, что раздумал, и что его тетке вряд ли нужна подушка. Очевидно, ему не повезло; что-то было неладно. Мы старались разузнать, в чем дело, но напрасно; он был неразговорчив; после двадцатого вопроса — или около того — он начал отвечать совсем односложно.
Тем не менее вечером, когда мы остались вдвоем, он вдруг сам заговорил откровенно:
— Эти немцы в некоторых случаях ужасные чудаки.
— А что такое? — спросил я.
— Да вот, насчет подушки.
— Для тетки?
— Отчего же не для тетки? (Джорж взъерошился в одну секунду, я не встречал ни одного человека такого щепетильного относительно теток!) — Почему я не могу послать тетке подушку?..
— Не волнуйся, — отвечал я. — Я не спорю, я даже уважаю тебя в этом случае.
Успокоившись, он продолжал:
— В окне, если помнишь, выставлено четыре штуки: все приблизительно одинаковые и все с одинаковым ярлыком «Цена 20 марок». Я не могу хвастаться особенным знанием немецкого языка, но во всяком случае меня везде понимают, и я, в свою очередь, понимаю, что мне говорят, — конечно, если не гогочут по-гусиному. Ну вот, вхожу я в магазин. Ко мне подходит маленькая молоденькая девушка, хорошенькая и застенчивая — такая, от которой ни в каком случае нельзя было ожидать ничего подобного! Я никогда в жизни не был так поражен.
— Поражен? Чем?
Джорж имеет обыкновение перескакивать на самый конец, когда рассказывает начало истории, это ужасно несносная привычка.
— Поражен тем, что случилось, тем, о чем я тебе рассказываю... Она улыбнулась и спросила, чего я желаю. Я прекрасно понял ее вопрос, нельзя было ошибиться. Вот я и положил на прилавок монету в двадцать марок и говорю:
— Пожалуйста, дайте мне подушку.
Она вытаращила на меня глаза так, как будто я просил целую перину. Я подумал, что она не расслышала, и повторил то же самое громче. Если б я вздумал потрепать ее по подбородку, то и тогда ее лицо не могло бы выразить большего удивления и негодования.
— Вы, вероятно, ошиблись, — сказала она.
Мне не хотелось пускаться в длинный разговор, в котором я действительно мог бы запутаться, поэтому я указал пальцем на мои деньги и отвечал коротко и ясно:
— Ошибки нет. Дайте мне подушку. Подушку в двадцать марок.
Тут подошла другая продавщица, старше на вид. Когда первая повторила ей мои слова, та страшно взволновалась, не хотела даже сначала поверить, что я такой человек, которому может понадобиться подушка! Она сама переспросила меня:
— Вы сказали, что вам нужна подушка?
— Я сказал это уже три раза и повторяю в четвертый: мне нужна подушка!
— Этого вы не получите! — отвечала тогда старшая девица.
Я начал сердиться. Если бы мне не была в самом деле нужна подушка, я мог бы выйти из магазина. Но я решил купить то, что хотел и что видел собственными глазами в окне, с надписями, которые доказывали, что эти вещи лежат для продажи. Не обязан же я был объяснять им, для чего и для кого мне нужна подушка! Заявление старшей девицы меня возмутило, и я отвечал решительно:
— Нет, я получу подушку!
Кажется, это понятно и просто; а между тем девицы потребовали помощи: к ним присоединилась еще третья — хорошенький чертенок с блестящими глазами и задорной улыбкой; в другое время я не отказался бы поболтать с ней, но в этот раз такое подкрепление показалось мне совершенно излишним: целых три продавщицы из-за одной подушки! Больше никого не было в магазине, видимо, они представляли всю его силу.
Прежде чем первые две сообщили третьей половину нашего разговора — та принялась фыркать от смеха; это была барышня именно из таких, которые готовы фыркать каждую минуту. Тут они принялись трещать наперерыв, поглядывая на меня каждую секунду, и скоро все трое начали давиться от смеха, глупенькие девочки! Можно было подумать, что я какой-нибудь клоун.
Когда третья из них несколько справилась со своим фырканьем, она подошла ко мне и спросила:
— А получив «это», вы уйдете?
Я не понял ее сразу и она повторила:
— Когда вы получите... подушку... вы уйдете... отсюда... сейчас же?
Я только о том и думал, чтобы уйти, и, понятное дело, согласился. Но все-таки прибавил, что без подушки я из лавки не выйду, хотя бы мне пришлось здесь оставаться всю ночь.
Тогда она снова присоединилась к своим подругам. Я думал, что они достанут мне с окна подушку, и дело будет кончено. Но вместо того произошла самая удивительная вещь: две первые идиотки встали за спиной у третьей и начала подталкивать ее по направлению ко мне. Так они приближались, продолжая давиться и фыркать, пока передняя не очутилась у меня под самым носом. Понятное дело, я стоял как ошалелый — и прежде чем успел что-нибудь сообразить, она поднялась на цыпочки, положила руки мне на плечи и поцеловала меня! После этого, спрятав лицо в передник, она убежала вместе с другой, а оставшаяся отворила мне дверь с такой уверенностью, что я вышел на улицу, как во сне, оставив на прилавке двадцать марок. Я не скажу, чтобы поцелуй мне был неприятен: но я его не требовал, — я ждал подушку!.. Мне неохота возвращаться теперь в эту лавку. Я ничего не понимаю.
— А что ты у них спрашивал? — спросил я.
— Подушку!
— Я знаю, что тебе нужна была подушка, но каким ты словом называл ее по-немецки?
— «Ein Kuss», — отвечал Джорж.
— Ну, так тебе нечего жаловаться. Ты немножко спутал: «Kuss» значит поцелуй, а не подушка, а подушка по-немецки — «Ein Kissen». Ты требовал поцелуя в двадцать марок и — судя по твоему описанию третьей барышни — можно сказать, что ты не переплатил. Но все же мне кажется, что лучше не рассказывать об этом Гаррису: мне помнится, что у него тоже есть тетка...
Джорж согласился, что лучше не рассказывать.
ГЛАВА VIII
Мистер и мисс Джонс из Манчестера. Достоинства какао. Способ достижения всеобщего мира Окна, как соблазнительное средство для доказательства прав. Проводник; его пороки. Судьба любителей немецкого пива Гаррис и я делаем доброе дело. Обыкновенная статуя. Идеальное место — без перца. Женщина и город.
Мы сидели на большом Дрезденском вокзале в ожидании поезда в Прагу или, вернее, в ожидании той минуты, когда предержащие власти выпустят нас на платформу. Джорж, уходивший купить в витрине несколько книжек на дорогу, вернулся с растерянными, круглыми глазами.
— Я их видел, — сказал он.
— Кого видел?
Он был так поражен, что даже не мог ответить связно:
— Там. Они идут сюда. Оба. Увидите сами. Я не шучу. Они живые.
Тогда в газетах много писали про морскую змею, и в первую секунду мне пришло в голову, что Джорж встретился с таинственным страшилищем; но я скоро сообразил, что в центре Европы, за триста миль от берега моря, это было бы невозможно. Не успел я переспросить его, как он схватил меня за руку:
— Гляди!.. Разве не правда?
Я повернулся и увидел то, что вряд ли случается часто видеть англичанам, сидящим дома: путешествующего британца с дочерью — в таком виде, какой считается для нас обязательным по мнению континентальных жителей. «Милорд»и «мисс», во плоти и крови представлявшие оригинал того, что по традиции изображается в европейских юмористических журналах и на сценах, были перед нами воочию (если это нам только не снилось) — безукоризненные до корней волос. Милорд был высок, худ, с желтыми волосами, огромным носом и длинными торжественными бакенбардами, введенными когда-то в моду любимцем публики, актером Донбрэри. Поверх костюма из материи в мелких крапинках, на нем было легкое пальто, почти до пят. С белого пробочного шлема спускалась зеленая вуаль, на боку висел бинокль, и в руке, обтянутой сине-зеленой перчаткой, он нес «альпеншток», конец которого возвышался над его головой.
Девица была длинная и угловатая. Я не сумею описать ее костюма; мне мог бог помочь в этом только покойный дедушка, которому ее платье показалось бы, может быть, более обыкновенным, чем мне. Я могу только сказать, что из-под него, неизвестно к чему, видны были щиколотки (если читатель позволит мне упоминать подобные вещи!), которые, с художественной точки зрения, следовало бы прикрыть. Ее шляпа напомнила мне старинную поэтессу, миссис Геманс. На ней были «прюнелевые»ботинки на резинках, вязаные перчатки без пальцев, пенсне и саквояж, привязанный к поясу; в руках она тоже несла альпеншток и общим видом походила на узкую, длинную подушку, надетую на ходули.
Гаррис бросился за своей фотографической камерой, но, конечно, напрасно. Мы уже знаем, что если Гаррис мечется во все стороны, как заблудившийся пес, и кричит: «Где моя камера? В какую пропасть она провалилась? Неужели никто не видал, где моя камера?»— то значит встретилось что-нибудь такое, что достойно фотографического снимка.
Они не ограничились наружностью: медленно выступая, они глазели на все стороны, рассматривая все подробно. У девицы был в руках «Спутник»с разговорными фразами, а у джентльмена открытый том Бедекера; обращаясь к носильщикам и лакеям, он преспокойно упирал в них конец своего альпенштока, чтобы привлечь внимание. А барышня восклицала «Шокинг!»и отворачивалась при виде каждого объявления о какао.
В последнем случае ей можно найти оправдание: неизвестно почему, но фабриканты какао считают его питательность настолько большой, что для дам, пьющих какао, не требуется не только никакой другой пищи, но даже одежды: судя по расклеенным повсюду объявлениям, в Англии для потребителей какао достаточно одного ярда кисеи, а на континенте даже и то лишнее. Но это между прочим.
Конечно, «англичане»немедленно привлекли всеобщее внимание. Их французского языка никто не понимал, а пробуя говорить по-немецки, они сами себя не понимали. Пользуясь возможностью помочь им, я подошел и заговорил. Они были крайне любезны. Джентльмен объявил, что его фамилия Джонс и что он родом из Манчестера; но, к моему удивлению, Манчестер был ему очень мало знаком. Я спросил, куда они направляются; он отвечал, что это зависит от многих обстоятельств. Я спросил, не мешает ли ему «альпеншток»на улицах населенного города; он признался, что иногда мешает. Я спросил, не трудно ли ему видеть предметы сквозь вуаль; он объяснил, что вуаль предохраняет лицо от мух. Я обратился к барышне с вопросом, не находит ли она ветер слишком холодным; она отвечала, что находит — в особенности на углах...
Я, конечно, задал все эти вопросы не подряд, а среди разговора, и мы расстались очень любезно.
Поразмыслив, я пришел к определенному выводу относительно подобных явлений. Один господин во Франкфурте, которому я описал впоследствии странную пару, говорил, что он видел их в Париже через три недели после столкновения из-за Фашоды; а приказчик одного железоделательного английского завода, встретясь со мной недавно в Страсбурге, вспоминал, что он видел их в Берлине во время возбуждения, вызванного трансваальским вопросом. По всей вероятности — это актеры, нанятые в видах сохранения международного мира. Французское министерство иностранных дел, желая прекратить озлобление толпы, требующей войны с Англией, наняло эту удивительную парочку и отправило их гулять по Парижу. Толпа, увидев, живые образчики британских граждан, начала смеяться и негодование превратилось в веселье, так как жажда убийства не может относиться к тому, кто смешен. Успех этой уловки навел странствующих актеров на мысль предложить свои услуги германскому правительству — и это тоже, как известно, достигло благой цели.
Английскому правительству следовало бы позаимствоваться примером. Было бы полезно держать поблизости наших министерских зданий в Лондоне несколько низеньких толстых французов и рассылать их по стране, когда является необходимость: пусть бегают, подергивая плечами и уплетая бутерброды с лягушками. Хорошо тоже было бы выпускать по временам ряд неопрятно одетых немцев с прямыми космами неподстриженных волос; им достаточно расхаживать с длинными трубками и говорить: «So». Наш народ смеялся бы, замечая: «Как! Воевать с такими-то? Да ведь это глупо».
Если правительство не согласно, я предложил бы этот способ «Лиге мира»...
В Праге мы невольно задержались: это один из самых интересных городов в Европе. Стены Праги дышат историей и поэзией, каждое ее предместье было полем брани. Это город, в котором действительно могла зародиться реформация и Тридцатилетняя война.
Но невольно думается, что в Праге происходило бы вдвое меньше волнений — если бы не широкие соблазнительные окна старой архитектуры. Первая из исторических катастроф началась там с того, что из окон ратуши выбросили семь ратманов прямо на пики стоявших внизу гусситов. Второй знаменитый «бросок из окон»был в старом замке, в Градчане: здесь выбросили из окон имперских советников.
Если другие вопросы оканчивались миром, то вероятно потому, что они обсуждались в темных погребах; а окна представляют для истинного пражца слишком увлекательный довод для доказательства его прав.
В Теинской церкви стоит изъеденная червями кафедра, с которой проповедовал Иоган Гус. Здесь раздается теперь голос католического священника, тогда как в далеком Констанце полузаросший плющом камень обозначает место, где Гус и Иероним умерли на костре. История любит посмеяться над человечеством!.. В этой же Теинской церкви покоится прах Тихо Браге, известного астронома, который, однако, защищал старое заблуждение, думая, что земля представляет центр вселенной.
По грязным, словно сдавленным переулкам Праги не раз спешил слепой Жижка и свободомыслящий Валленштейн. Крутые спуски и извилистые улицы упорно осаждались легионами Сигизмунда и жестокими таборитами; испуганные протестанты скрывались от императорских войск; у городских ворот стучались саксонцы, баварцы и французы, а на мостах теснились «святые»Густава Адольфа.
Присутствие евреев всегда составляло отличительную черту Праги. Иногда они присоединялись к резне христиан друг с другом, и флаг, развевающийся над сводами «Старо-новой школы»(одной из синагог) доказывает, как храбро они помогали Фердинанду против шведов протестантов. Еврейский квартал в Праге — «гетто»— один из древнейших в Европе; восемьсот лет тому назад маленькие, тесные синагоги были переполнены молящимися, тогда как их жены благоговейно прислушивались из-за массивных стен с проделанными для этого отверстиями. Прилегающее к «гетто»кладбище, «Дом живых», представляет место, где должны покоиться останки каждого пражского еврея; поэтому с течением столетий узкое место переполнилось костями, и могильные памятники лежат грудами, словно вывернутые духом тех, кто борется за свое место под землею...
Стены «гетто»постепенно уничтожаются, но евреи все еще держатся родного места, хотя там растет теперь новый великолепнейший квартал.
Когда мы были в Дрездене, нам советовали не говорить в Праге по-немецки; расовая вражда чехов к немцам так сильна во всей Богемии, что лучше не выказывать своей приверженности к народу, влияние которого среди чехов уже не то, что было прежде.
Тем не менее, мы говорили по-немецки: иначе нам пришлось бы совсем молчать. Чешский язык считается очень древним и разработанным; в его азбуке сорок две буквы — это для нас похоже на китайщину; такому языку шутя не научишься. Мы решили, что безопаснее объясняться по-немецки, чем рисковать. И действительно, никаких неприятностей не вышло. Может быть, мы обязаны этим сообразительности, чуткости чехов; они могли заметить какую-нибудь микроскопическую ошибку в грамматике, какой-нибудь намек на иностранный акцент — и догадались, что мы не немцы! Впрочем, утверждать этого я не могу.
Для безопасности мы все-таки взяли проводника. Безупречного проводника я никогда не встречал; но у этого было два крупных недостатка. Первый из них заключался в том, что он слабо говорил по-английски; даже трудно было назвать это английским языком. Впрочем, его нельзя винить: он учился у дамы-шотландки. Я порядочно понимаю шотландское наречие; для того, кто не хочет отстать от современной английской литературы, это необходимо; но все тонкости, да еще измененные по правилам немецкой грамматики, да при славянском акценте — просто убивают всякую сообразительность!.. Сначала нам постоянно казалось, что проводник задыхается и вот-вот умрет на наших руках. Но в продолжение дня мы привыкли и отделались от инстинктивного стремления валить его на спину и раздевать, лишь только он открывал рот. К вечеру мы стали даже понимать половину его речи — и таким образом открыли второй порок этого человека: оказалось, что он изобрел средство для ращения волос и уговорил одного из местных аптекарей изготовлять и продавать его. Половину времени он употреблял на то, что описывал будущее благосостояние человечества — когда оно будет пользоваться его снадобьем. Так как мы одобрительно прислушивались к его восторженным звукам — полагая, что последние относятся к красоте видов и построек, — то он увлекся окончательно и не было никакой возможности удержать его от излюбленной темы. Старинные дворцы и развалины церквей вызывали в нем презрительное отношение, как пустяки, развивающие болезненный декадентский вкус. Что нам за дело до героев с отбитыми головами? Какой смысл в изображениях лысых святых? Мы должны интересоваться живущим человечеством — девушками с роскошными волосами и юношами со свирепыми усами, какие изображены на этикетках «Конгео»!.. Бессознательно он разделял всю историю мира на две эпохи: старую — с больным, озлобленным родом людским (до употребления «Конгео»), и новую — с веселым, круглолицым, счастливым человечеством (после появления «Конгео»). При подобных взглядах трудно быть проводником в средневековом городе.
Он прислал нам по бутылке своего снадобья в гостиницу. Оказалось, что мы настоятельно просили его об этом при самом начале знакомства. Я лично не берусь ни хвалить, ни бранить новое средство: мне столько раз приходилось испытывать разочарования, что я больше никаких средств не пробую; и кроме того, «Конгео» слегка пахнет керосином, что вовсе неудобно для женатого человека. Джорж отослал все три бутылки своему знакомому в Лидсе.
В Праге нам в свою очередь удалось оказать Джоржу серьезную услугу. С некоторого времени мы стали замечать, что он сильно увлекается пильзенским пивом; это восхитительный напиток, в особенности в жару — но коварный!.. С ним надо быть осторожным; голова от него не кружится, а между тем фигура портится ужасно. Въезжая в Германию, я всегда говорю себе: «Ну, пива я пить не стану. Гораздо лучше местное вино с содовой водой и изредка стакан воды из щелочного источника. А пива — никогда! Или почти никогда...»
Это полезное решение; я его советую всем путешественникам. Его только трудно выполнить. Джорж вперед отказался связывать себя обещаниями.
— В умеренном количестве пиво даже полезно. Пара стаканов в день никому не может принести вреда!
Может быть, Джорж и прав; нас тревожили не пара стаканов, а полдюжины, которые он выпивал.
— Это надо прекратить, — сказал Гаррис. — Дело становится серьезным.
— Джорж объясняет это наследственностью, — отвечал я. — У них в роду все страдали хронической жаждой.
— Так на это есть «Аполлинарис»: его можно пить с лимонным соком сколько угодно. Меня беспокоит фигура Джоржа; он скоро потеряет всю свою стройность,— беспокоился Гаррис.
Судьба способствовала благому намерению, и скоро план борьбы был готов.
В это время в Праге для украшения города собирались воздвигнуть новую статую, — памятник кому-то, но я забыл кому. Статуя был обыкновенная, как полагается: человек с вытянутой шеей верхом на коне, который ходит только на задних ногах. Но в частностях статуя представляла крупные особенности: человек держал в вытянутой руке не меч, а собственную шляпу с перьями; а у лошади, вместо обычного роскошного водопада, был такой жалкий остаток хвоста, что поневоле являлось сомнение, стала ли бы лошадь с подобным хвостом гарцевать на задних ногах.
Памятник стоял на небольшой площади, недалеко от моста, но он был помещен там только временно: городские власти благоразумно решили сделать сначала опыт и убедиться — где самое лучшее место для памятника. С этой целью сделаны были с него три копии — простые и грубые, из обыкновенных досок, но такой же величины: получились профили, на которые, конечно, невозможно было смотреть вблизи, но которые давали правильное впечатление на известном расстоянии. Профили эти были расставлены на всех подходящих для памятника местах: одна подле моста Франца-Иосифа, другая на открытом месте за театром и третья посреди Венцельской площади.
— Если Джорж всех этих статуй не заметил, — сказал Гаррис (мы с ним гуляли вдвоем, так как Джорж остался в гостинице писать тетке письмо),— то мы его исправим сегодня же вечером. Он станет опять хорошим и стройным человеком.
За обедом мы осторожно исследовали почву; оказалось, что Джорж не имеет представления о копиях статуи. И вот, отправившись вечером гулять, мы повели его прямо к настоящему памятнику. Он хотел ограничиться, по обыкновению, поверхностным осмотром и идти дальше, но мы подвели его вплотную и настояли на том, чтобы осмотреть памятник добросовестно. Четыре раза обвели мы Джоржа вокруг статуи, чтобы он запомнил мельчайшие подробности; рассказали ему историю человека, которому сооружен памятник, сообщили имя скульптора, точную величину и точный вес статуи. Кажется, ему все это сильно надоело, но мы все-таки не отстали, пока он не был насыщен познаниями, как губка водой; он, наверное, ни о чем на свете никогда не знал так много, как в тот вечер о памятнике. Отошли мы, наконец, только с тем условием, чтобы завтра утром он пришел еще раз полюбоваться статуей при дневном свете; и кроме того, заставили его тут же, при нас, записать точно место, на котором стоит памятник.
Затем мы зашли в любимую пивную Джоржа, сели рядом и, пока он угощал, рассказывали разные истории о людях, которые сходили с ума от пива, умирали молодыми от пива и принуждены были расставаться с прекрасными возлюбленными — тоже от пива.
Часов в десять мы тронулись домой. Было ветрено, мрачные разорванные тучи быстро неслись по небу, закрывая по временам бледную луну.
— Мы пойдем другой дорогой, — сказал Гаррис. — Можно вернуться в гостиницу по набережной. Там должно быть дивно при лунном свете!
Пока мы шли, Гаррис рассказал историю об одном сумасшедшем, которого он видел на свободе последний раз в такую же точно ночь: они шли вдвоем по набережной Темзы, и знакомый страшно испугался: ему привиделась у Вестминстерского моста статуя герцога Уэллингтона — тогда как всем известно, что она стоит на Пикадилли.
В эту минуту мы подошли к первой из трех копий. Она стояла на маленькой загороженной площадке, прямо против нас, по другую сторону улицы. Джорж внезапно остановился и прислонился к парапету набережной.
— Что такое? — спросил я. — Голова закружилась?
— Нет... Меня всегда поражает, как все статуи похожи одна на другую...— отвечал он глухим голосом, не отрывая взгляда от темного силуэта.
— Я не могу с тобой согласиться, — заметил Гаррис.— Картины действительно встречаются очень сходные, но в каждой статуе есть что-нибудь своеобразное. Возьмем, например, хоть тот памятник, который мы сегодня осматривали: он изображал всадника на коне: много бывает всадников на конях, но не таких.
— Напротив, совершенно таких же! — раздраженно возразил Джорж. — Вечно и лошадь та же самая, и всадник тот же самый! Глупо не соглашаться с этим.
Он, казалось, сердился на Гарриса.
— Почему ты так думаешь? — спросил я.
— Почему я так думаю? — и Джорж быстро повернулся ко мне. — Да ты посмотри на эту штуку!
— На какую штуку?
— Да вот эту!.. Посмотри: та же лошадь с остатком хвоста стоит на задних ногах, тот же человек без шляпы, тот же...
— Это ты рассказываешь, — перебил Гаррис, — о памятнике на Рингплатц.
— Нет! Я говорю об этом памятнике!
— О каком «этом»? — спросил Гаррис.
Джорж поглядел на него; но Гаррис мог бы быть отличным актером: его лицо выражало только дружеское сочувствие, смешанное с тревогой.
Джорж повернулся ко мне. Я попробовал, насколько мог, скопировать на своей физиономии выражение Гарриса, прибавив еще от себя легкую укоризну.
— Позвать тебе извозчика? — спросил я мягко и нежно.
— На какого мне дьявола извозчик? — вдруг крикнул Джорж самым неблагодарным тоном. — Да что вы, шутки не понимаете, что ли?.. Гулять с вами все равно что со старыми бабами! — И он быстро зашагал через мост.
— Очень рад, что ты только пошутил, — сказал Гаррис, догоняя Джоржа. — Я знаю один случай размягчения мозга, которое началось с того, что...
— Дурак!.. — перебил Джорж. — Ты знаешь все на свете.
Он был крайне нелюбезен.
Мы повели его мимо театра, говоря, что это самая короткая дорога; это действительно была ближайшая дорога.
На площади за театром гордо вздымался деревянный всадник на коне... Джорж взглянул — и опять остановился.
— Что с тобой? — ласково спросил Гаррис. — Не болен ли ты в самом деле?
— Я не верю, что это самый близкий путь! — проговорил Джорж.
— Напрасно не веришь. Уверяю тебя, что ближе нет дороги.
— Все равно я пойду по другой. — И Джорж свернул в сторону, оставляя нас позади.
Идя по Фердинандштрассе, Гаррис завел со мной разговор о сумасшедших домах: он утверждал, что они недостаточно хорошо устроены в Англии: один из его товарищей, находясь в сумасшедшем доме...
— У тебя, кажется большая часть товарищей находится в сумасшедших домах! — грубо перебил опять Джорж, желая этим сказать, что Гаррис выбирает себе друзей среди помешанных.
Но Гаррис не рассердился:
— Действительно, это странно, — проговорил он задумчиво и тихо. — Сколько моих товарищей сошли с ума!.. Иногда просто страшно делается.
На углу Венцельской площади Гаррис, шагавший впереди, остановился и, засунув руки в карманы, заметил с восхищением:
— Прелестное место, не правда ли?
Мы с Джоржем тоже взглянули вперед. На расстоянии двухсот метров, на фоне бурного неба вздымался конь с жалким хвостом. Всадник, сняв шляпу, указывал ею прямо на луну. Это была самая лучшая из трех копий. При такой обстановке она давала полную иллюзию.
— Если вам не трудно, — заговорил Джорж покорным, подавленным голосом, без всяких признаков негодования или грубости, — если вам не трудно, то нельзя ли позвать извозчика?..
— Мне так и казалось, что ты нездоров, — заметил Гаррис. — Голова кружится?
— Немножко...
— Я это раньше заметил, только не хотел тебе говорить, — продолжал Гаррис. — Тебе мерещится всякая чушь, не правда ли?
— Нет, нет! Я не знаю, что это такое...
— А я знаю, — торжественно и мрачно отвечал Гаррис. — Это последствия немецкого пива! Я знал случай с одним человеком, который...
— Пожалуйста, теперь не рассказывай!.. Я вполне верю, только у меня странное чувство — не хочется ни о чем слушать...
— Это от пива: ты к нему можешь привыкнуть.
— Вероятно!.. С сегодняшнего дня я больше пить не буду. Пиво мне вредно.
Мы отвезли Джоржа домой и уложили в постель. Он был очень послушен и все время благодарил нас.
Впоследствии, после удачного дня на велосипедах и отличного обеда, мы дали ему хорошую сигару, убрали все вещи с ближайших столов и затем рассказали, как мы его вылечили.
— Вы говорите, сколько там было этих деревянных копий со статуи? — спросил Джорж, когда мы кончили.
— Три.
— Только три? Наверное?
— Наверное! — отвечал Гаррис. — А что?
— Нет, я так... Ничего.
Но кажется, Джорж не поверил другу...
Из Праги мы направились в Нюренберг, через Карлсбад. Говорят, что истинные немцы, умирая, едут в Карлсбад, как американцы —в Париж. Но это сомнительно: удобств здесь нет никаких. Здесь полагается вставать в пять часов и отправляться «гулять» вокруг шпруделя и оркестра музыки, в страшной давке. Здесь слышно больше наречий, чем раздавалось на Вавилонской башне. Польские евреи, русская аристократия, китайские мандарины, турецкие паши, норвежцы— имеющие такой вид, словно они выскочили из пьес Ибсена, — француженки с парижских бульваров, испанские гранды, английские графини, черногорцы, миллионеры из Чикаго... Здесь можно достать всю роскошь современной цивилизации — за исключением перца. «За деньги» его не дают вовсе, на пять миль в окружности; а «за любовь» — дают так мало, что не стоит брать. Перец считается отравой для здешних пациентов; и те, кто не в состоянии или не обязаны придерживаться диеты, устраивают пикники в тех местах, где можно на свободе насладиться перечной оргией.
Путешественника, ожидающего от Рюренберга впечатлений средневекового города, ждет разочарование. Странных поворотов, изгибов и поэтических уголков здесь немало, но они окружены и скрыты современной архитектурой. Собственно говоря, город — как женщина — на столько стар, на сколько он кажется старым; возраст Нюренберга несколько замаскирован свежей краской, штукатуркой и нарядным освещением; но, вглядевшись, легко заметить его морщинистые, серые стены.
ГЛАВА IX
Гаррис нарушает закон. Опасности, ожидающие услужливых людей. Преступления Джоржа. Рай земной, с точки зрения молодого англичанина. Разочарования, ожидающие его в Англии. Обилие развлечений в Германии. Закон о тюфяках. Воспитанная собака. Невоспитанный жук. Люди, которые делают то, что должны делать. Дети, которые делают то, что должны делать — и другие дети. Ограниченная свобода.
Между Нюренбергом и Шварцвальдом каждый из нас умудрился попасть в неприятную историю.
Начал Гаррис. Мы были тогда в Штудтгардте; это прелестный, чистый, светлый городок — маленький Дрезден; даже еще лучше Дрездена, потому что все близко и все небольшое: небольшая картинная галерея, небольшой музей редкостей, половина дворца-—и больше ничего; осмотрев все это, можно гулять и наслаждаться с чистой совестью.
Гаррис начал с того, что выказал неуважение к властям; он оскорбил сторожа; он принял его не за сторожа, а за пожарного, и назвал его «ослом».
Хотя в Германии не позволено называть сторожей ослами, но Гаррис в данном случае был совершенно прав. Дело вышло таким образом: мы гуляли в городском саду, когда Гаррису вздумалось перешагнуть через протянутую над травой проволоку; рядом был выход из сада — настоящая калитка, но Гаррису, вероятно, проще показалось прямо шагнуть на тротуар, что он и сделал. Стоявший у калитки сторож немедленно указал ему на объявление: «Проход запрещен»и объяснил Гаррису, что он совершил противозаконный поступок. Гаррис поблагодарил (он уверяет, что не заметил объявления, хотя оно, несомненно, там было) — и хотел идти дальше; но сторож потребовал, чтобы он перешагнул обратно. Тогда Гаррис логически заметил, что, переступая обратно, он вторично нарушит предписание, чего не желал бы делать. Сторож сообразил справедливость этого замечания и потребовал тогда, чтобы Гаррис сейчас же вошел опять в сад через калитку и немедленно вышел через нее же обратно. Тут-то Гаррис и назвал его ослом. Это стоило ему сорок марок и задержало нас в Штудтгардте на целый день.
Вслед за Гаррисом отличился я — украв велосипед. Я не хотел ничего красть, я хотел только принести пользу. Мы были на платформе вокзала в Карлсруэ, когда я заметил в товарном вагоне отходившего поезда велосипед Гарриса. Никого не было поблизости, чтобы помочь мне, и я в последнюю секунду извлек его оттуда собственными руками и торжественно покатил по платформе — как вдруг увидел настоящий велосипед моего друга, прислоненный к стене за кучей жестяных сосудов с молоком. Очевидно, я ошибся и «спас» чью-то чужую собственность.
Положение было не совсем удобное. В Англии я отправился бы к начальнику станции и объяснил бы ему ошибку; но в Германии этим не удовольствуются: здесь полагается водить человека по разным местам, чтобы он объяснил свой поступок по крайней мере шести разным лицам; а если кого-нибудь из них не застанешь, или ему неохота слушать объяснения в данную минуту, — то вас оставят переночевать до завтра. В виду этого я решил поставить чужой велосипед где-нибудь не на видном месте и затем пойти прогуляться, не подымая никакого шума. Заметив в стороне сарайчик, казавшийся очень подходящим, я только что подкатил к нему велосипед, — как меня усмотрел железнодорожный служащий в красной шапке, имевший вид отставного фельдмаршала. Он подошел и спросил:
— Что вы здесь делаете с велосипедом?
— Хочу его убрать в сарай, чтобы не мешал на дороге.
Я постарался выразить тоном моего голоса, что оказываю этим любезность — но чиновник был не из чутких людей; вместо благодарности он начал меня допрашивать:
— Это ваш велосипед?
— Не совсем, — отвечал я.
— Чей же он?
— Право не могу вам сказать: я не знаю, чей он.
— Откуда же вы его взяли? — В этом вопросе зазвучала оскорбительная подозрительность.
— Из товарного вагона, — отвечал я с достоинством, какое только мог выразить в эту минуту. — Я просто ошибся, — прибавил я откровенно.
— Я так и думал, — сказал чиновник, не давая мне договорить, и в ту же секунду свистнул.
О том, что последовало затем, вспоминать не интересно. Благодаря судьбе — которая бережет некоторых из нас — в Карлсруэ у меня оказался знакомый, пользующийся некоторым влиянием; это было крайне удачно, и мне удалось выскользнуть из-под грозившего меча; но в местной полиции до сих пор думают, что, выпустив меня сухим из воды, они сделали страшный промах.
Вся эта история повергла нас в большое замешательство, из которого последовало третье преступление. Мы потеряли Джоржа, и он отличился пуще всех. Впоследствии выяснилось, что он ждал нас у дверей полицейского управления: но нам очень хотелось уехать поскорее, мы его не заметили, не подумали хорошенько и, решив, что он уехал вперед, вскочили в первый же поезд, проходивший в Баден.
Бедный Джорж, прождав понапрасну до усталости, пришел на вокзал и убедился, что мы уехали вместе со всем багажом и его деньгами — бывшими у меня в кармане, как у общего кассира. Оставленный на произвол судьбы, с несколькими мелкими монетами в кошельке, Джорж махнул рукой на все законы и решил идти напролом, по пути позора и бесчестия.
Когда мы с Гаррисом прочли все его преступления, указанные в присланной из суда повестке, — у нас волосы стали дыбом.
Надо сказать, что путешествовать по Германии — дело довольно сложное. Вы покупаете на станции билет с обозначением места, откуда и куда едете; вы думаете, что этого достаточно, но сильно ошибаетесь. Поезд подходит: вы стараетесь пробиться сквозь толпу и занять место, но кондуктор отстраняет вас величественным мановением руки. Где доказательства на право проезда? Вы показываете билет, но он объясняет, что билет ничего не значит; это лишь первый шаг: теперь надо идти в кассу и прикупить другой билет — на право проезда в скором поезде. Вы идете, покупаете и возвращаетесь в радостном настроении, думая, что все треволнения кончены. Действительно, вас пускают в вагон; но тут выясняется, что сесть вы не имеете права. Вы обязаны взять третий билет — «плацкарту»— и сидеть на указанном месте, пока вас не привезут, куда следует.
Я право не знаю, что может выйти, если человек купит первый билет, дающий ему право проезда, но откажется от второго и третьего. Заставят ли его бежать за поездом? Или позволят приклеить на себя билет и поместиться в товарном вагоне?.. И что сделают с пассажиром, который, имея добавочный билет для скорого поезда, откажется купить плацкарту? Положат ли его на сетку для зонтиков, или позволят вывеситься из окна?..
У Джоржа хватило денег только на билет третьего класса в медленном поезде. Чтобы избегнуть разговоров с кондукторами, он подождал, пока тронулся поезд, и уже тогда вскочил в него. Тут и начались преступления нашего друга, предусмотренные законом:
«Вскакивание в поезд на ходу».
«Вскакивание в поезд, несмотря на замечание железнодорожного служащего».
«Езда в скором поезде с билетом для обыкновенного пассажирского».
«Отказ доплатить разницу в цене». (Джорж говорит, что он не отказывался, а просто ответил, что у него нет добавочного билета и нет денег, и предложил вывернуть карманы; все, что у него нашлось— около тридцати пфеннигов).
«Проезд в вагоне высшего класса, чем указанный на билете».
«Отказ доплатить за эту разницу в цене». (Джорж говорит, что не имея денег, он согласился перейти в третий класс, — но третьего класса в поезде не было; предложил поместиться в товарном вагоне,— но они об этом и слушать не хотели).
«Сиденье на нумерованном месте». (Ненумерованных мест не было вовсе).
«Хождение по коридору». (Трудно сообразить, что ему оставалось делать, когда они не позволяли сидеть даром).
Но объяснений в Германии не допускается, то есть им не придают никакого значения, и путешествие бедного Джоржа от Карлсруэ до Бадена обошлось в конце концов столько, сколько, по всей вероятности, не платил еще ни один путешественник.
Легкость, с которой постоянно попадаешь в Германии в какую-нибудь историю, наводит меня на мысль, что это идеальная страна для молодого англичанина: студентам, молодым кандидатам на судебные должности, офицерам запаса армии на половинном жалованьи — развернуться в Лондоне очень трудно; для среднего здорового юноши британской крови развлечение тогда только доставляет истинное удовольствие, если оно является нарушением какого-нибудь закона. То, что не запрещено, не может дать ему полного удовлетворения. Попасть в затруднительное положение, «влететь в историю» для юного англичанина — блаженство; а между тем, в Англии это требует большого упорства и настойчивости со стороны любителя.
Я как-то беседовал на эту тему с одним почтенным знакомым, церковным старостой. Мы не без тревоги просматривали с ним 10-го ноября[1] дневник происшествий: у него есть собственные сыновья, а у меня на попечении находится племянник, который, по мнению любящей матери, пребывает в Лондоне специально для изучения инженерного искусства. Но близких нам имен в числе молодежи, взятой накануне в полицию, не числилось — и мы разговорились вообще о легкомыслии и испорченности юношества.
— Удивительно, — заметил мой друг, — как крепко держатся традиции... Когда я был молод, этот вечер тоже обязательно кончался скандалом в ресторане Крайтирион.
— Бессмысленно это! — заметил я.
— И однообразно!.. Вы не можете себе представить, — говорил он, не сознавая, что по его суровому лицу разливается мечтательное выражение, — как может надоесть хождение по знакомой дороге в полицейский участок. А между тем, что же нам оставалось делать? Положительно ничего! Если мы, бывало, потушим фонарь на улице, — придет человек и зажжет его опять; если начнем «оскорблять» полисмена, — он не обращает ни малейшего внимания, как будто не понимает; а если понимает, то ему все равно. Когда находило желание вступить в бой со швейцаром у подъезда в театр, то это кончалось большею частью его победой и пятью шиллингами с нашей стороны; полное же торжество над ним обходилось в десять шиллингов. Это развлечение не привлекало меня, и я испробовал однажды то, что считалось у нас верхом молодечества: вскочил на козлы кэба, хозяин которого сидел в трактире — на Дин-стрит — и отъехал в качестве извозчика. На углу первой же площади меня подозвала барыня с тремя детьми, из которых двое ревели, а третий наполовину спал. Прежде чем я успел сообразить, что следует спастись бегством, она всунула малышей в кэб, заплатила мне вперед шиллингом больше, чем следовало (так она сама сказала), и дала адрес, куда везти детвору — на другой конец города. Лошадь оказалась уставшая, и мы плелись битых два часа. Более скучного развлечения я в жизнь мою не испытывал! Два раза отворял я окошечко и принимался уговаривать детей вернутся к даме, но каждый раз младший из них подымал неистовый рев. Когда я предлагал другим извозчикам перенять от меня седоков, они большею частью отвечали словами популярной тогда песни: «Не далеко ли, друг мой, ты зашел?..» Один из них предложил передать моей жене все прощальные распоряжения, а другой обещал собрать шайку и освободить меня, когда схватят.
Садясь на козлы, я представлял себе шутку совсем иначе: я думал о том, как завезу какого-нибудь ворчливого старика, отставного военного, миль за шесть от того места, куда ему нужно, в безлюдную местность, и оставлю его на тротуаре браниться. Из этого могло бы выйти развлечение — в зависимости от обстоятельств и от джентльмена, — но мне в голову не приходило, что придется отвозить на конец города беспомощных ребятишек. Да! В Лондоне, — заключил мой друг, — представляется очень мало возможности развлечься на противозаконном основании.
Я советовал бы нашей молодежи, любящей пошуметь, отправляться на время в Германию; не стоит только покупать сразу обратных билетов, так как срок — два месяца, а в этот промежуток времени можно не успеть выпутаться из всех «развлечений».
Здесь запрещается делать многое, что делать очень легко и очень интересно; существуют целые списки запретных поступков, от которых пришел бы в восторг молодой англичанин. Он может начать с самого утра — стоит только вывесить из окна тюфяк: здесь запрещается вывешивать из окон тюфяки. Дома он может вывеситься хоть сам — никому это не мешает и никто ему не запретит, лишь бы он не разбивал при этом окон и не вредил прохожим. Затем, в Германии запрещается гулять по улицам в таком платье, которое может показаться фантастическим: один мой знакомый шотландец, приехав в Дрезден, провел всю первую неделю в спорах с саксонским правительством из-за своего национального костюма. Его остановили на улице и спросили, что он делает в этом платье. Он отвечал коротко и ясно, что носит его. Они спросили, зачем он его носит. Он отвечал, что для тепла. Они прямо заявили, что не верят, посадили его в карету и отвезли в гостиницу. Понадобилось личное удостоверение английского консула в том, что это действительно национальный шотландский костюм, который носят почтенные, благонадежные люди. Дрезденские власти принуждены были уступить, но вряд ли изменили свое внутреннее убеждение. Когда один англичанин, приехавший в Германию охотиться со знакомыми офицерами, показался в надлежащем костюме у подъезда гостиницы, — его живо убрали в полицию, как был, на коне.
В Германии запрещается кормить на улицах лошадей, ослов и мулов — своих, равно как и чужих. Если на вас найдет неудержимое желание покормить чью-нибудь лошадь, вы должны уговориться об этом как следует, и явиться в назначенное место; там можете кормить, сколько угодно.
Запрещается на улицах и вообще в публичных местах бить стекло и посуду; а если разбили, обязаны подобрать все осколки. Я только не знаю, что полагается с ними делать, так как ни оставлять их, ни выбрасывать нигде не разрешается; остается носить с собой до конца жизни, или же съесть — это, вероятно, можно.
Запрещается стрелять на улицах из самострела. Положим, никому не приходит в голову стрелять на улицах из самострела, — но немецкие законы написаны не для одних нормальных людей, а также для сумасшедших. В Германии нет закона только насчет того, что запрещается стоять на голове посередине улицы. Но в ближайшем будущем кто-нибудь из государственных людей, сидя в цирке, сообразит важный, упущенный в законах пункт — и новое правило появится в числе других, аккуратно заключенное в рамку, во всех публичных местах, с указанием штрафа за его нарушение.
Это большое удобство в Германии: здесь каждый вид дурного поведения имеет определенную ценность; сотворив какую-нибудь глупость, вам не приходится проводить бессонную ночь, как у нас в Англии, размышляя о том, что с вами за это будет; отделаетесь ли вы предостережением, или придется заплатить сорок шиллингов, или же попадете пред очи правосудия в неудачную минуту и придется отсиживать семь дней ареста. Здесь все оценено заранее: вы можете разложить на столе все свободные деньги, открыть «полицейский регламент»и составить программу целого вечера из развлечений разнообразной стоимости.
Экономным людям я советовал бы начать с гулянья по неуказанной стороне тротуара. Это самое дешевое из запрещенных удовольствий; если выбирать безлюдные улицы, где полицейских мало, то весь вечер такого гулянья обойдется в каких-нибудь три марки.
Запрещается в германских городах ходить по улицам «скопом», в особенности после захода солнца. Я не знаю, из скольких человек должна состоять компания для того, чтобы она могла быть названа «скопом»— и никто не мог дать мне точных объяснений. Я как-то спросил знакомого немецкого офицера, который собирался в театр со своей женой, тещей, пятью детьми, двумя племянницами и сестрой с ее женихом: не рискует ли он нарушить закон «о хождении скопом». Мой знакомый осмотрел компанию и сказал:
— Видите ли, мы все принадлежим к одному семейству.
— Да, но в параграфе ничего не говорится о «семейных скопах»; там просто сказано: «запрещается ходить скопом». Вы не обижайтесь, но мне, право, кажемся, что ваша компания подходит под это название. Я не знаю, как взглянет полиция; я только хотел предупредить вас со своей точки зрения.
Мой знакомый готов был, тем не менее, посмеяться над такой «точкой зрения», но его жена, не желая рисковать и испортить вечер в самом начале, настояла, чтобы общество разделилось на две партии и сошлось только в вестибюле театра.
Есть еще один обыкновенный человеческий порок, который в Германии сильно преследуют: выбрасывание из окна разных вещей. Кошки не считаются оправданием. В начале моего пребывания в Германии я каждую ночь просыпался несколько раз из-за кошачьих концертов; наконец, освирепев, я приготовил как-то вечером маленький арсенал: два-три куска каменного угля, несколько твердых груш, пару свечных огарков, яйцо (вероятно, оно было лишнее, я его нашел на кухонном столе), пустую бутылку от содовой воды и еще несколько предметов в том же роде. Когда пришло время, я открыл окно и начал бомбардировку. Сомневаюсь, чтобы я кого-нибудь ранил; я вообще не знаю ни одного человека, который хоть раз в жизни попал бы в кошку, даже при дневном свете, — разве только, если целился во что-нибудь другое. Мне случалось видеть известных стрелков, бравших королевские призы на состязаниях, которые без промаха попадают в самый центр щита, в бегущего оленя и т.п.; но пусть бы они лучше попробовали попасть в обыкновенную кошку на расстоянии пятидесяти шагов.
Тем не менее, раздражавшее меня кошачье общество разошлось; может быть, им не понравилось яйцо: я и сам заметил, что яйцо не особенно свежее, когда брал его в кухне. Когда бы то ни было, но, считая событие оконченным, я лег снова в кровать и собрался уснуть.
Через несколько минут грянул отчаянный звонок.
Я попробовал оставить его без внимания, но это оказалось трудно. Пришлось одеть халат и спуститься вниз. У дверей стоял полицейский; в руках у него были все предметы, которыми я стрелял в котов — кроме яйца.
— Это ваши вещи? — спросил он.
— Они были моими, но теперь я с ними расстался. Кто хочет, может взять их себе. Если вы хотите — пожалуйста!
Он не обратил внимания на мое предложение и продолжал:
— Вы выбросили их из окна?
— Да, выбросил.
— Отчего вы их выбросили из окна?
Немецкий городовой твердо знает правила допроса; он никогда не пропустит ничего и спросит все по порядку.
— Оттого, что мне кошки мешали, — отвечал я.
— Какие вам кошки мешали?
Постаравшись придать голосу побольше сарказма, я отвечал, что не знаю «какие»; прибавил, что если полиция соберет всех местных котов в участок, то я согласен зайти и попробовать узнать их по голосу.
Немецкие городовые шуток не понимают, — да впрочем, это и к лучшему, так как шутить с ними здесь запрещается под страхом крупного штрафа; они это называют «непочтительностью к властям».
В данном случае полицейский отвечал, что они не обязаны помогать публике различать кошек, а просто заставят меня уплатить штраф.
Я спросил, что полагается делать в Германии, если нет возможности спать из-за кошек. Он отвечал, что можно подать жалобу на их собственников, после чего полиция сделает предостережение и, если окажется нужным, прикажет уничтожить их; а когда я спросил, каким образом мне разыскать «собственника» какой-нибудь кошки, то он, подумав, предложил следовать за ней до места жительства. После этого я замолчал, а то пришлось бы платить слишком много за «непочтительность к властям»; и без того мне история обошлась в двенадцать марок. Меня интервьюировали по этому случаю четыре полицейских, и никто из них не усомнился в важности «дела».
Однако есть еще более важное преступление, перед которым все остальные ничтожны: это хождение по траве. Нигде, никогда и ни при каких обстоятельствах в Германии ходить по траве не разрешается; ступить на нее было бы таким же святотатством, как протанцевать матросский танец на молитвенном ковре магометанина. Даже немецкие собаки воспитаны в чувствах глубокого уважения к каждой лужайке, и если вы здесь встретите собачонку, восторженно описывающую круги по траве, то можете быть уверены, что она принадлежит бессовестному иностранцу. В Англии, желая оградить место от собак, его окружают колючей проволочной сеткой; в Германии же просто ставится доска с надписью: «Собакам запрещено»— и ни один пес с немецкой кровью в жилах не подумает поставить на это место лапу. Я видел в парке старика-немца, садовника, который осторожно шагнул на траву в войлочных туфлях, поднял жука, серьезно опустил его на дорожку и постоял, чтобы убедиться, что тот не вернется на прежнее место. Бедный жук был пристыжен ужасно, поскорее спустился в канавку и повернул в первую же дорожку с надписью: «Выход».
Здесь все дороги в парках строго распределены, и ходить против указаний — значит рисковать своей свободой и благосостоянием. Есть дороги «для велосипедистов», «для пешеходов», «для верховой езды», «для легких экипажей», «для тяжелых экипажей», «для детей» и «для одиноких дам»; меня поражает, почему нет еще специальных дорожек «для лысых» и «для полных женщин». Это крупное упущение.
В дрезденском Большом Саду я встретил однажды даму, стоявшую в полном недоумении на перекрестке семи дорожек; над каждой из них была надпись, строго воспрещавшая проход всем, кроме указанных лиц.
— Мне совестно вас беспокоить, — сказала дама, узнав, что я говорю по-английски и читаю по-немецки, — но не можете ли вы объяснить, кто я и куда обязана идти?
Я осмотрел ее внимательно и, придя к заключению, что она «взрослая» и «пешеход», указал ей соответствующую дорожку. Она посмотрела и пришла в уныние:
— Но мне совсем не туда нужно! Не могу ли я пройти этим путем?
— Боже вас сохрани: это дорожка только для «детей».
— Но я их не обижу! — заметила дама с улыбкой; действительно, трудно было думать, чтобы она могла обидеть детей.
— Поверьте, сударыня, — отвечал я, — что я лично смело пустил бы вас по этой дорожке, даже если бы там гулял мой старший сын. Но здесь с законами шутить нельзя; вот ваша дорога — «Только для пешеходов», и я бы на вашем месте поспешил, потому что стоять и сомневаться тоже не полагается.
— Но, повторяю вам, мне туда вовсе не нужно идти!
— Вот «должно быть нужно туда идти!»— ответил я, и мы расстались.
На всех скамейках в парке тоже сделаны надписи; немецкий мальчик, чуть-чуть не сев от усталости на скамейку с надписью «Только для взрослых», — с ужасом вскакивает, заметив свою ошибку, и осторожно садится на другую, «для детей», стараясь не запачкать ее грязными сапогами.
Воображаю скамейку с надписью «Только для взрослых»где-нибудь у нас в Риджент-парке!.. Да все дети на пять миль в окружности сбежались бы, чтобы постоять или посидеть на ней хоть чуточку, и вокруг происходила бы горячая свалка за очередь. Ни одному «взрослому»не довелось бы отдохнуть на этой скамье никогда, так как он не в состоянии был бы пробиться сквозь толпу детишек.
А в Германии мальчуган покраснеет как рак от стыда, если ошибется, и ему сделают замечание. И нельзя сказать, чтобы здесь о детях не заботились: в определенных местах, на площадях, для них сложены кучи песка, где они могут делать все, что душе угодно; но душа каждого мальчугана зреет здесь на почве такой добропорядочности, что в неуказанном месте — и из частного, а не казенного песка — изготовление пирожков не доставило бы ему никакого удовольствия. Случайно вовлеченный в подобное искушение, он не успокоился бы до тех пор, пока отец не заплатил бы положенного штрафа и не задал бы ему самому трепку.
«Kinderwagen» — детская коляска — тоже занимает в «Уставе общественной благопристойности» целые страницы. Прочтя их, начинаешь думать, что человек, благополучно провезший детскую коляску через весь город — величайший дипломат; предписывается «не задерживаться» с ней на улицах, но запрещается катить ее скоро; запрещается наталкиваться на прохожих, но если прохожие сами натолкнутся — то полагается «уступать им дорогу». Если вы хотите остановиться с детской коляской, то обязаны прежде отправиться на то место, где позволено останавливаться с ними, — и уже там стойте: кружиться нельзя. Через улицу катить коляску не полагается, и если вы живете на другой стороне, то это ваша собственная вина; конечно, возить ее можно только по указанным местам и оставлять нигде нельзя. Словом, если кому-нибудь из нашей молодежи охота развлечься и поднять историю — то пусть отправляется по улицам немецкого городка с детской коляской; через полчаса он будет сыт по горло.
После десяти часов вечера здесь все двери должны быть на запоре, а после одиннадцати запрещается играть на рояле. В Англии мне никогда не хотелось ни играть самому, ни слушать игру на рояле после одиннадцати часов вечера; но здесь я чувствую полное равнодушие к музыке именно до одиннадцати, а потом с наслаждением слушал бы «Цампу» или «Молитву девушки»!.. Мне всегда хочется того, чего нельзя. А для немцев музыка после указанного чара уже не удовольствие, а проступок, тревожащий совесть.
Некоторая свобода предоставлена в Германии только студентам — и то до известной степени; граница этой свободы выработалась постепенно обычаем. Например, студенту разрешается засыпать в пьяном виде на улицах — но не на главных; на следующее утро полицейский доставит его без всякого штрафа домой — но при том условии, если он свалился с ног в тихом месте; поэтому, чувствуя приближение бессознательного состояния, выпивший студент спешит завернуть за угол, в переулок, и там уже спокойно протягивается вдоль канавки. В некоторых местностях города им разрешается звонить для развлечения у подъездов частных домов; квартиры в этих местах более дешевы, и вам необходимо знать тайный, условный способ звона во всех знакомых домах — иначе вы рискуете попасть под ведро воды, вылитой из верхнего этажа.
Позволяется также студентам гасить фонари — штук шесть в ночь; они уже это знают и считают сами; позволяется кричать, петь на улицах до половины третьего ночи и позволяется в некоторых ресторанах увлекаться флиртом с продавщицами; в виду этого в означенных ресторанах продавщицы выбираются солидного возраста и наружности — для избежания недоразумений.
Да; они большие законники, эти немцы!
ГЛАВА X
Баден-Баден с точки зрения путешественника. Раннее утро — каким оно представляется накануне. Расстояние на карте и на практике. Джорж входит в соглашение со своей совестью. Велосипедисты — на объявлениях. Велосипедисты — на дороге. Выводка фениксов. Самолюбивый пес. Наказанная лошадь.
О Бадене распространяться не стоит; это обыкновенное увеселительное место, очень похожее на другие увеселительные места. Отсюда мы уже серьезно собрались выехать на велосипедах и составили себе десятидневный маршрут по Шварцвальду, после чего хотели прокатиться вниз по долине Дуная, представляющей между Тетлингеном и Зигмарингеном самое красивое место в Германии. Здесь Дунай вьется узкой лентой между старыми деревушками, нетронутыми суетой мира; огибает древние монастыри, ютящиеся среди зеленых лугов, где стада овец пасутся под надзором скромных монахов, босых, с непокрытой головой и туго опоясанных веревкой. Дальше река мелькает среди дремучих лесов или голых скал, каждый зубец которых увенчан развалинами крепостей, церквей и замков, откуда видны Вогезы. Здесь одна половина населения считает горькой обидой, если с ними заговоришь по- французски; другая оскорбляется, если обратишься по- немецки, и обе выражают презрение и негодование при первом звуке английского языка. Такое положение вещей несколько утомляет и затрудняет нервного путешественника.
Мы не совсем точно выполнили программу поездки на велосипедах, потому что дела человеческие всегда несколько понижаются сравнительно с намерениями...
В три часа пополудни легко говорить с искренней уверенностью, что «завтра мы встанем в пять часов, слегка позавтракаем и в шесть уже тронемся с места».
— И будем уже далеко, когда наступит самое жаркое время дня! — говорит один.
— А в это время года утро бывает особенно прелестно, не правда ли? — прибавляет другой.
— О, конечно!
— Свежо, легко дышится...
— И полутона так красивы!
В первое утро намерение исполнено: компания собирается в половине шестого. Все трое в молчаливом настроении, с наклонностью ворчать друг на друга, на пищу — вообще на что-нибудь, лишь бы дать выход затаенному раздражению.
Вечером последнее выливается в сердитом замечании:
— Завтра, я думаю, можно выезжать в половине седьмого; этого совершенно достаточно!
— Но тогда мы не выполним нашего маршрута! — слабо протестует голос добродетели.
— Что ж такое! Предположения существуют для человека, а не человек для предположений. (При злом умысле можно переиначить самое добродетельное изречение). И, кроме того, ведь надо подумать о других: мы будим в гостинице всю прислугу!
— Здесь все встают рано, — робко продолжает голос добродетели.
— Прислуга не встала бы рано, если бы ее не заставили!.. Нет, будем завтракать в половине седьмого; тогда никому не помешаем.
И слабость человеческая прячется под предлогом доброго отношения к другим; мы спим до шести часов, уверяя совесть (которая, однако, остается при своем мнении), что это делается из великодушия. Такое великодушие простиралось иногда, сколько мне помнится, до семи часов.
Но не только наше предположение, а и расстояние часто изменяется: на практике оно оказывается совсем не таким, каким должно быть судя по вычислениям, сделанным астролябией.
— Семь часов — по десяти миль в час — итого семьдесят миль в день. Пустяки для велосипедиста!
— Кажется, по дороге есть холмы, на которые придется подыматься?
— Так ведь с другой их стороны придется спускаться!.. Ну, скажем, восемь миль в час: в день, значит, около шестидесяти. Если мы и на это не способны— то, согласитесь, вместо велосипедов можно было с удобством обзавестись креслами на колесах!
Действительно; рассуждая дома, кажется, что шестьдесят миль в день совсем немного. Но в четыре часа дня на дороге голос добродетели вынужден напомнить товарищам:
— Господа! Нам бы следовало двигаться... (он звучит уже не так уверенно, как утром).
— Ну, нет! Незачем суетиться. Отсюда прелестный вид, не правда ли?
— Да. Но не забудь, что нам до Блазена осталось двадцать пять миль.
— Сколько?
— Двадцать пять; может быть, немножко больше.
— Значит, по-твоему, мы проехали только тридцать пять миль?
— Да.
— Не может быть! У тебя неверная карта.
— Конечно, не может быть! — прибавляет другой недобродетельный голос. — Ведь мы едем с самого утра.
— То есть с восьми часов. Мы выехали позже чем хотели.
— В три четверти восьмого!
— Ну, в три четверти восьмого; и несколько раз останавливались.
— Останавливались, чтобы полюбоваться видом. Какой же смысл путешествовать и не видеть страны?
— И, кроме того, сегодня было так жарко, а нам приходилось подыматься по крутым дорогам!
— Я не спорю; я только говорю, что до Блазена осталось двадцать пять миль.
— И еще горы?
— Да. Два раза вверх и вниз.
— А ты говорил, что Блазен находится в долине.
— Да; последние десять миль представляют сплошной спуск.
— А нет ли какого-нибудь местечка между нами и Блазеном? Что это там на берегу озера?
— Это Титзее, совсем не по дороге. Нам бы не следовало так уклоняться.
— Нам совсем не следует переутомляться — это даже опасно!.. Хорошенькое местечко это Титзее, судя по карте. Там, вероятно, хороший воздух...
— Хорошо, я согласен остановиться в Титзее. Это ведь вы сами решили утром, что мы доедем до Блазена.
— Ну, положим, мне все равно. Что там может быть особенно интересного в Блазене? Какая-то глушь, долина... В Титзее наверное лучше.
— И близко, не правда ли?
— Пять миль отсюда.
Заключение хором:
— Остановимся в Титзее!
В первый же день нашей поездки Джорж сделал важное наблюдение (он ехал на одиночном велосипеде, а мы с Гаррисом впереди, на тандеме).
— Сколько я помню, — сказал он, — Гаррис говорил, что здесь есть зубчатые железные дороги, по которым можно подыматься на горы.
— Есть, — отвечал Гаррис, — но не на каждый же холм!
— Я предчувствовал, что не на каждый...— проворчал Джорж.
— И кроме того, — прибавил Гаррис через минуту,— ведь ты сам не согласился бы ездить все время с гор: удовольствие всегда бывает больше, если его заслужишь.
Снова наступило молчание, которое на этот раз прервал Джорж:
— Только вы, господа, не надрывайтесь из-за меня.
— Как это?
— То есть, если будут встречаться поезда, то не отказывайтесь от них из деликатности относительно меня: я готов пользоваться железными дорогами, даже если это нарушит стиль нашей поездки. Я уже целую неделю встаю в семь часов и считаю, что это чего-нибудь стоит... Вообще, не думайте обо мне.
Мы обещали не думать, и езда продолжалась в угрюмом молчании, пока его снова не прервал Джорж:
— Ты говорил, что твой велосипед чьей системы?
Гаррис сказал ему название фирмы.
— Наверное? Ты помнишь?
— Конечно, помню! Да что такое?
— Ничего особенного. Я только не нахожу в нем полного сходства с объявлениями.
— С какими объявлениями?
— С объявлениями этой фирмы. Я рассматривал в Лондоне перед самым отъездом изображение такого велосипеда: на нем ехал человек со знаменем в руке; он не работал, а просто ехал, наслаждаясь воздухом; велосипед катился сам собой, и дело человека заключалось только в том, чтобы сидеть и наслаждаться. Это было изображено совершенно ясно; а между тем твой велосипед совершенно ничего не делает! Он предоставляет всю работу мне; я должен стараться изо всех сил, чтобы он подвигался вперед. На твоем месте я заявил бы фирме свое неудовольствие.
Джорж был отчасти прав. Действительно, велосипеды редко обладают теми качествами, каких от них можно ожидать судя по объявлениям. Только на одном из рисунков я видел человека, который прилагал усилия к тому, чтобы ехать; но это был исключительный случай: за человеком гнался бык. В обыкновенных же обстоятельствах — как внушают новичкам авторы заманчивых картин — велосипедист должен только сидеть на удобном седле и отдаваться неведомой силе, которая быстро несет его туда, куда ему нужно.
В большинстве случаев изображается дама — причем вы наглядно видите, что никогда отдых для ума и тела не может быть так полон, как при велосипедной езде, в особенности по горной местности. Вы видите, что дама несется с такой же легкостью, как фея на облаке. Ее костюм для жаркой погоды — идеален. Правда, какая-нибудь старосветская хозяйка маленькой гостиницы, может быть, откажется впустить ее в столовую к общему завтраку, а недогадливый, но усердный полицейский пожалуй изловит ее и начнет закутывать, — но она на это не обращает внимания. С горы и в гору, по дорогам, которые способны изломать паровой каток, среди огромного движения экипажей, телег и народа — мчится она с ловкостью кошечки, прелестная в своей ленивой мечтательности... Белокурые локоны развеваются по ветру, прелестная фигурка воздушно держится на седле, ножки протянуты над передним колесом, одной ручкой она зажигает папиросу, в другой держит китайский фонарик, которым помахивает над головой.
Иногда это бывает простое существо мужского пола. Он не так совершенен как дама — но сидеть на велосипеде и ничего не делать ему все-таки скучно, поэтому он занимается хоть пустяками: стоит на седле и размахивает флагами, или пьет пиво (иногда вместо пива либиховский бульон), или, выехав на вершину горы, приветствует солнце поэтической речью... Что-нибудь ему надо же делать: ни один человек с живым характером не вынесет безделья.
Случается, что на объявлении изображена пара велосипедистов; и тогда становится очевидным, насколько велосипед удобнее для флирта, чем вышедшая из моды гостиная, или всем приевшаяся садовая калитка: он и она сели на велосипеды (конечно, указанной фирмы) — и больше им не о чем думать, кроме своего сладостного чувства. По тенистым дорогам, по шумным городским площадям в базарный день они свободно летят па «Самокатах Бермондской Компании несравненного тормоза» или на «Великом открытии Камберуэльской Компании» — и не нуждаются ни в педалях, ни в путеводителях. Им сказано, в котором часу вернутся домой, они могут разговаривать и видеть друг друга, и больше им ничего не надо... Эдвин, наклонившись, шепчет на ухо Анжелине милые, вечные пустяки, а Анжелина отворачивает головку назад, к горизонту, который у них за спиной, чтобы скрыть горячий румянец... А колеса ровно катятся рядом, солнце светит, дорога чистая и сухая, за молодыми людьми не едут родители, не следит тетка, из-за угла не выглядывает противный братишка, ничто не мешает... Ах, почему еще не было «Великого открытия Камберуэльской Компании» когда мы были молоды!..
Объявления добросовестно указывают и на то, что иногда молодые люди сходят на землю и садятся под изящными ветками тенистого дерева, на мягкой, высокой и сухой траве; у их ног журчит ручей, а велосипеды отдыхают после блестяще выполненного труда. Все полно тишины и блаженства.
Впрочем, я ошибся, говоря, что велосипедисты, изображенные на объявлениях, никогда не работают: нет, они работают, и даже с ужасным напряжением сил, покрытые крупными каплями пота, изможденные,— но это их собственная вина: все происходит оттого, что они упорствуют и не хотят ехать, например, на «Путнэйском Любимце»или на «Колеснице Баттерси» — как торжествующий велосипедист в центре картины— а плетутся на каких-то жалких машинах.
И почему все эти превосходные, удивительные велосипеды так малоизвестны? Почему по всей стране видны только жалкие машины, приводящие в уныние?..
Бедный, усталый юноша тоскливо отдыхает на камне у верстового столба; он слишком истощен, чтобы обращать внимание на упорно льющий дождь... Утомленные девицы, с мокрыми, развившимися волосами, каждую минуту смотрят на часы, боясь опоздать домой и чувствуя большое желание браниться... А вот запыхавшиеся, лысые джентльмены, ворчащие перед бесконечно длинной дорогой... Солидные дамы с темно-красным цветом лица, стремящиеся покорить противные, ленивые колеса...
Ах, отчего вы все не купили «Великого открытия Камберуэльской Компании», господа?..
А может быть, велосипеды, как и все на свете, не доходят до полного совершенства?..
Что безусловно очаровывает меня в Германии — так это собака. У нас, в Англии, все породы так хорошо известны, что начинают надоедать: все те же дворовые псы, овчарки, терьеры (белые, черные или косматые — но всегда забияки), бульдоги; никогда не встретишь ничего нового. Между тем в Германии попадаются такие собаки, каких вы раньше никогда не видали: вы даже не подозреваете, что это собаки, пока они не залают. Очень интересно!
Джорж однажды остановил такую собаку в Зигмарингене, и мы начали ее осматривать. Она внушала мысль о помеси пуделя с треской; я бы огорчился, если бы мне кто-нибудь мог доказать, что я ошибся в этом случае. Гаррис хотел сделать с нее фотографический снимок — но она вбежала по отвесной стене забора, прыгнула и исчезла в кустах.
Какая цель у здешних собачников — я не знаю;
Джорж думает, что они хотят вывести феникса. Может быть он и прав, потому что нам раза два встречались удивительные звери; но мне кажется, что практический немецкий ум не удовольствовался бы фениксами, которые без толку шатались бы по дворам, попадаясь людям под ноги; я склонен скорее думать, что они намерены вывести сирен и затем обучить их рыбной ловле.
Ведь немец не любит лени и не поощряет ее. По его мнению, собака несчастное существо: ей нечего делать! Не удивительно, что она чувствует какую-то неудовлетворенность, стремится к недостижимому и делает глупости. И вот немец дает ей работу, чтобы занять праздный ум делом.
Здесь каждый пес имеет важный, деловой вид: посмотрите как он выступает, запряженный в тележку молочника: никакой чиновник не может выступать с большим достоинством! Он, положим, тележки не тащит, но рассуждает так:
— Человек не умеет лаять, а я умею; отлично: пусть он тащит, а я буду лаять.
По его убеждению, это совершенно правильное распределение труда. Но он искренно принимает к сердцу дело, к которому причастен, и даже гордится им. Это приятно видеть. Если навстречу проходит другой пес — более легкомысленный и не занятый никаким делом — то происходит, обыкновенно, маленький разговор. Начинается с того, что легкомысленный отпускает какое-нибудь остроумное замечание насчет молока. Серьезный пес моментально останавливается, несмотря на огромное движение на улице:
— Извините пожалуйста, вы, кажется, что-то сказали относительно нашего молока?
— Относительно молока? Нет, ничего... — отвечает шутник. — Я только сказал, что сегодня хорошая погода, и хотел узнать... почем теперь мел.
— А, вы хотели узнать почем теперь мел? Да?
— Да. Благодарю вас... Я думал, что вы мне можете сообщить.
— Совершенно верно, могу. Мел теперь стоит столько, сколько...
— Ах, двигайся ты пожалуйста с места! — перебивает старуха-молочница, которой хочется поскорее развезти по домам все молоко, так как ей жарко и она очень устала. — Не останавливайся, а то мы никогда не кончим.
— Это все равно! Разве вы не слышали, что он сказал про наше молоко?
— Ах, не обращай внимания!.. Вот конка едет из-за угла, нас тут еще переедут.
— Да, но я не могу не обращать на него внимания: у каждого есть самолюбие!.. Скажите на милость! Ему интересно знать сколько стоит мел, а?! Так пусть же слушает: мел — стоит — столько — сколько...
— Ты сейчас все молоко перевернешь! — в ужасе кричит бедная старуха, напрасно стараясь справиться с негодующим помощником. — Ах, лучше бы я тебе дома оставила!..
Конка приближается; извозчик кричит; другой серьезный пес, запряженный в тележку с хлебом, приближается рысью, надеясь поспеть на место действия; за ним с криком бежит через улицу хозяйка-девочка; собирается толпа; подходит полицейский.
— Мел — стоит — в двадцать — раз больше, — чем ты будешь стоить, когда я тебя отделаю!.. — отчеканивает наконец серьезный помощник молочницы.
— О! Ты меня отделаешь?!
— Еще бы! Ах ты, внук французского пуделя! Сам только капусту есть, а еще...
— Ну, вот! Я знала, что ты все опрокинешь!— восклицает бедная женщина. — Я ему говорила, что он все опрокинет!..
Но он не обращает внимания; он занят. Через пять минут, когда движение по улице восстановлено, девочка подобрала и вытерла булки, и полицейский удалился, записав имена и адреса свидетелей — он оборачивается и смотрит на тележку.
— Да, я ее немножко перевернул! — признает он слишком очевидный факт. Но затем энергично встряхивается и прибавляет бодрым тоном: — Ну, зато я объяснил ему «сколько теперь стоит мел!» Больше он к нам не пристанет.
— Надеюсь, что не пристанет! — уныло замечает женщина, глядя на облитую молоком мостовую.
Но главное развлечение трудящегося, запряженного пса заключается в том, что он не позволяет другим собакам перегонять себя — в особенности с горы. В этих случаях хозяину или хозяйке остается бежать за ним, подымая по дороге вываливающиеся из тележки предметы: капусту, булки, или крахмальные сорочки, что случится.
Под горой верный пес останавливается и, запыхавшись, ждет хозяина. Тот подходит, нагруженный товаром до подбородка.
— Хорошо сбежал, не правда ли? — спрашивает пес, высунув язык и улыбаясь от удовольствия. — Если бы не подвернулся под ноги какой-то карапуз, я бы наверное прибежал первым. Такая досада, что я его не заметил!.. И чего он теперь орет?.. Что? Оттого что я свалил его с ног и переехал? Так почему же он не убрался с дороги?.. Удивительно, как у людей дети валяются где попало! Понятно, их всякий топчет. Это что?.. Столько вещей вывалилось? Ну, не важно же они были уложены. Я думал, вы аккуратнее... Что? Вы не ожидали, что я помчусь с горы как сумасшедший? Так неужели вы думали, что я хладнокровно позволю Шнейдеровской собаке перегнать себя? Вы могли бы, кажется, знать меня получше!.. Ну, да вы никогда не думаете; это уж известное дело. Все собрали? Вы «думаете, что все?!»... На вашем месте я бы не думал, а пошел до самого верха, чтобы убедиться. Что? Вы устали? Ну, в таком случае не обвиняйте меня, вот и все.
Упрям он ужасно: если он думает, что надо свернуть направо во второй переулок, а не в третий — то никто не заставит его дойти до третьего; если он вообразит, что успеет перевезти тележку через улицу — то потащит, и только тогда обернется, когда услышит, что ее раздавили у него за спиной; правда, в таких случаях он признает себя виновным, но в этом мало пользы. По силе и росту он обыкновенно равен молодому быку, а хозяевами его бывают слабые старики и старухи, или дети. И он делает то, что сам находит нужным. Самое большое для него наказание — оставить его дома и везти тележку самому; но немцы слишком добрый народ, чтобы делать это часто.
Зачем в Германии запрягают собак — решительно непонятно; я думаю, что только с целью доставить им удовольствие. В Бельгии, Голландии и Франции я видел, как их действительно заставляют тащить тяжелую поклажу и еще бьют; но в Германии — никогда! Бить животное здесь вообще неслыханное дело: им только читают нравоучения. Я видел, как один мужик бранил, бранил, бранил свою лошадь, потом вызвал из дома жену, рассказал ей, чем лошадь провинилась (да еще преувеличил вину) и они оба, став по бокам лошади еще долго говорили ей самые «жалкие» слова; лошадь терпеливо слушала, но наконец не вытерпела и тронулась с места. Тогда хозяйка вернулась к стирке белья, а хозяин пошел рядом с конем, продолжая читать нравоучения.
Здесь щелканье бича раздается по всей стране с утра до вечера, но животных им не трогают.
В Дрездене на моих глазах толпа чуть не разорвала извозчика-итальянца, начавшего бить свою лошадь.
ГЛАВА XI
Домик в Шварцвальде. Его «общительность». Его атмосфера. Джорж не хочет спать. Дорога, по которой нельзя заблудиться. Мой собственный природный инстинкт. Неблагодарность товарищей. Гаррис и наука. План Джоржа. Мы катаемся. Немецкий кучер. Человек, который распространяет английский язык по всему миру.
Забравшись как-то вечером в пустынную местность, слишком утомленные, чтобы плестись до города или деревни, мы остановились ночевать в одинокой крестьянской хижине. Большое очарование здешних горных домиков заключается в «общительности»: коровы помещаются в соседней комнате, лошади — над нами, гуси и утки — в кухне, а свиньи, цыплята и дети — по всему дому.
Просыпаясь, вы слышите хрюканье и оборачиваетесь.
— Здравствуйте! Нет ли у вас здесь картофельной шелухи? Нет, что-то не видно... Прощайте.
Вслед за этим, из-за притолоки вытягивается шея старой курицы; заглядывая в комнату и кудахтая, она любезно спрашивает:
— Прелестное утро, не правда ли? Надеюсь, я вам не помешаю, если зайду сюда позавтракать? Я принесла червячка с собой, а то в целом доме не найти покойного местечка; поесть не дадут с удовольствием... Я с детства привыкла кушать не торопясь, и теперь, когда вывела дюжину цыплят — не успеваю проглотить ни кусочка, они все растащат!.. Ведь ничего, если я помещусь у вас на кровати? Здесь они меня, может быть, не найдут.
Пока вы одеваетесь, в дверях то и дело появляются всклокоченные детские головы; вы не можете разобрать, к какому полу принадлежат любопытствующие фигурки — но надеетесь, что к мужскому. Захлопывать дверь не имеет смысла, потому что замка в ней вовсе нет, и каждый раз она снова торжественно отворяется, не успеете вы отойти на несколько шагов. Очевидно, вы с товарищами представляете исключительный интерес— в роде странствующего зверинца.
Завтракая, вы невольно сравниваете себя с блудным сыном: на полу поместилась пара свиней, у порога топчется компания гусей, оглядывая вас с ног до головы и ехидно критикуя свистящим шепотом; иногда в окошко заглянет корова.
Это сходство с порядками Ноева ковчега служит, вероятно, причиной того особенного запаха, которым отличаются хижины в Шварцвальде: если вы возьмете розы и лимбургский сыр, прибавите туда немного помады, вереска, луку, персиков, мыльной воды— смешаете все это с запахом моря и нескольких трупов — то получите нечто подобное; различить нельзя ничего: но здесь чувствуется все, что есть на свете. Горные жители любят такой воздух; они не проветривают своих домиков и нарочно берегут в них эту «хозяйственную» атмосферу. Если вам хочется подышать специально запахом хвойного леса или фиалок — для этого можно выйти за порог дома; но говорят, что подобные поэтические фантазии скоро проходят и заменяются искренней привязанностью к домашней уютности.
Так как мы собирались на следующий день пройти большой конец пешком, то с вечера решили встать как можно раньше — даже в шесть часов, если никому не помешаем. Мы спросили хозяйку, нельзя ли это устроить. Она отвечала, что можно: сама она разбудить нас не обещает — так как в этот день обыкновенно отправляется в город, миль за восемь — но кто-нибудь из сыновей уже вернется завтракать, так что услужит и нам.
Но будить нас не пришлось: мы сами не только что проснулись, но даже встали в четыре часа — не исключая Джоржа. Мы не могли больше спать. Я не знаю, в котором часу встает шварцвальдский крестьянин в летнее время: нам казалось, что семья наших хозяев «вставала» всю ночь. Начинается с внушительного топота больших сапог на деревянной подошве: это сам хозяин обходит весь дом, чтобы окинуть его привычным оком; пройдясь раза три вверх и вниз по лестнице (домик приклеен к склону горы) и проснувшись как следует, он отправляется в верхний этаж будить лошадей. Оказывается, что последние тоже обязаны пройтись по всему дому, прежде чем выйти на воздух. Затем хозяин идет вниз, в кухню и принимается рубить дрова; наколов изрядное количество, он приходит в хорошее настроение — и начинает петь. Тут поневоле придешь к заключению, что пора вставать.
Наскоро позавтракав в половине пятого, мы сейчас же вышли и отправились в путь. Нам нужно было перейти через гору; судя по расспросам в ближайшей деревушке, казалось, что заблудиться невозможно... Бывают такие дороги: они всегда приводят к тому месту, откуда вы вышли; и еще хорошо, ели приводят, — тогда, по крайней мере, знаешь, где находишься.
Я предчувствовал неудачу с самого начала. Не прошли мы двух миль, как дорога разделилась на три ветви. Изъеденный червями столб указывал, что одна из ветвей вела к месту, о котором мы никогда не слыхали и ни на какой карте не видали; средняя надпись отвалилась совершенно и исчезла без следа; третья несомненно относилась к той дороге, по которой мы пришли.
— Старик объяснил очень ясно, — напомнил нам Гаррис, — что надо держаться все время вправо и обходить гору.
— Какую гору? — капризно спросил Джорж. Перед нами их, действительно, было штук шесть разной величины.
— Он говорил, что мы придем по ней к лесу.
— В этом я не сомневаюсь! — сострил опять Джорж. (Примета была слабая, спорить нельзя: все горы кругом поросли лесом).
— И он сказал, — пробормотал Гаррис уже не так уверенно, — что мы дойдем до вершины через полтора часа...
— Вот в этом я очень сомневаюсь!
— Что же нам делать? — спросил Гаррис.
Надо сказать, что я очень легко ориентируюсь. Это не добродетель, и хвастаться тут нечем; но у меня, право, какой-то инстинкт, чутье узнавать местность. Конечно, не моя вина, если по дороге встречаются горы, реки, пропасти и тому подобные препятствия.
Я повел их по средней дороге. В том, что она не могла выдержать ни одной четверти мили по прямому направлению и через три мили вдруг уперлась в осиное гнездо — никто меня упрекнуть не может; если бы она вела куда следует, то и мы бы пришли куда следует; это ясно, как день Божий.
Даже несмотря на осиное гнездо, я не отказал бы товарищам в дальнейшем пользовании моим инстинктивным чутьем, — но ведь мог я ожидать хоть каплю благодарности! Я не ангел, признаюсь откровенно, и не люблю трудиться на пользу людей, которые не выказывают ничего кроме холодности и грубости. Кроме того, Гаррис и Джорж, вероятно, отказались бы следовать за мной дальше. Поэтому я умыл руки и предоставил Гаррису занять место вожака.
— Ну, — спросил он, — доволен ли ты собой?
— Совершенно! — отвечал я с груды камней, на которой сидел. — Сюда я довел вас целыми и невредимыми. Я повел бы вас и дальше, но каждому художнику необходимо сочувствие толпы! Вы, очевидно, недовольны тем, что не знаете, где находитесь; но, может быть, вы находитесь именно там, где нужно! Впрочем, я молчу; я не жду благодарности. Идите куда хотите, я вмешиваться не стану.
В моих словах, действительно, было много горечи— но ведь я не слышал еще ни одного ласкового слова.
— Послушай, между нами не должно быть недоразумений,— заметил Гаррис. — Джорж и я признаем покорно и искренно, что без твоей помощи мы никогда не зашли бы в это место! Поверь, мы отдаем тебе полную справедливость. Но, видишь ли, инстинкт иногда ошибается... Я предлагаю положиться на науку: где теперь солнце?
— А не лучше ли, — неожиданно заметил Джорж, — вернуться в деревню и положиться на мальчишку-проводника? Мы сберегли бы таким образом время.
— Мы только потеряли бы время! — решительно заявил Гаррис. — Оставь, пожалуйста. Не вмешивайся и не беспокойся. Это очень интересный способ, я о нем много читал.
Он вынул из кармана часы и начал кружиться с ними во все стороны.
— Ничего не может быть легче, — продолжал он. — Надо направить часовую стрелку на солнце, потом взять угол между ею и цифрой двенадцать, разделить его пополам — и секущая укажет на север! Очень просто.
Он повертелся еще минуты две и наконец решительно протянул руку к осиному гнезду:
— Вот, вот север! Теперь дайте мне карту.
Мы подали. Не оборачиваясь больше, он уселся на землю и начал рассматривать карту; потом объявил:
— Тодтмос находится на юго-юго-западе отсюда.
— Откуда «отсюда»? — спросил Джорж.
— Да вот с этого места, где мы сидим.
— А где мы сидим? — поинтересовался Джорж.
Гаррис было опешил, но скоро просиял:
— Да не все ли равно, где мы сидим?! Идем на юго-юго-запад, вот и все!.. Как это ты не понял? Тут и разговаривать нечего, только время теряем!
— Положим, я не совсем понял, — заметил Джорж, вставая и одевая на плечи ранец. — Но это, конечно, все равно: мы здесь находимся для свежего воздуха и для красоты, а всего этого сколько угодно.
— Да, да! — весело поддержал его Гаррис. — Ты не беспокойся: к десяти часам мы будем в Тодтмосе и отлично позавтракаем. Я не откажусь от бифштекса и омлета.
Но Джорж предпочитал не думать о съедобных вещах, пока не увидит крыш Тодтмоса.
Через полчаса ходьбы мы наткнулись на просвет между деревьями — и увидели ту деревню, через которую проходили рано утром; ее легко было узнать по оригинальной колокольне, с обвивавшей ее наружной лестницей.
Я рассердился. Три с половиной часа мы бродили, а отошли всего на четыре мили от места! Но Гаррис пришел в восторг:
— Ну, теперь мы знаем, где находимся!
— А ты, кажется, говорил, что это все равно,— напомнил ему Джорж.
— Для дела, конечно, все равно; но все-таки приятнее, если знаешь. Теперь я более уверен в себе.
— Приятнее, положим... — пробормотал Джорж. — Но пользы от этого мало.
Гаррис не слышал замечаний друга.
— Теперь, — продолжал он, — мы находимся на востоке от солнца; а Тодтмос находится на юго-западе от нас. Так что... (он остановился). Кстати, ты не помнишь ли, Джорж, куда указывала секущая: на север или на юг?
— Ты говорил, что на север.
— Наверно?
— Наверно; Но ты этим не смущайся: по всей вероятности, ты тогда ошибся.
Гаррис подумал, и его взгляд прояснился.
— Отлично! Конечно, на север. Как же она могла указывать на юг?! Непременно на север! Ну, теперь мы пойдем на запад. Вперед!
— Ладно, — отвечал Джорж.На запад так на запад. Я хотел только сказать, что теперь мы идем на восток.
— Что ты! Конечно, на запад.
— Нет, на восток.
— Ты бы лучше не повторял! Ты меня только смущаешь.
— Лучше смущать, чем идти в неверную сторону. Я тебе говорю, что мы идем прямехонько на восток.
— Какие глупости! Ведь солнце — вот где!
— Я солнце вижу даже очень ясно; может быть, по твоей науке оно и стоит там, где должно стоять; но я сужу не по солнцу, а по этой горе со скалистой верхушкой: она находится на севере от деревни, из которой мы вышли, значит, перед нами теперь восток.
— Правда. Я и забыл, что мы повернули.
— Я бы на твоем месте записывал, — проворчал Джорж.
Мы довернули — и зашагали в противоположном направлении. Дорога шла в гору. Минут через сорок мы добрались до высокой, открытой площадки... Деревня опять лежала прямо перед нами, внизу.
— Удивительно!.. — проговорил Гаррис.
— А я не вижу ничего удивительного, — возразил Джорж. — Если кружиться все время вокруг одной и той же деревни, то, понятное дело, она иногда мелькнет за деревьями. Я даже рад ее видеть: это доказывает, что мы не окончательно заблудились.
— Да ведь она должна быть у нас за спиной, а не перед носом!
— Подожди, очутится скоро и за спиной, если мы будем твердо держаться прежнего направления.
Я все время молчал, предоставляя им разговаривать вдвоем; но мне приятно было видеть, что Джорж начал сердиться: Гаррис действительно выдумал глупости со своим «научным способом».
Он задумался.
— Хотел бы я знать наверное, — проговорил он наконец, — указывала ли та секущая на север или на юг?..
— А тебе пора бы решить этот вопрос, — заметил Джорж.
— Знаешь что?! Она не могла указывать на север — и я сейчас объясню, почему!
— Можешь не объяснять! Я и так готов поверить.
— А ты недавно говорил, что она указывала на север.
— Неправда: я сказал, что ты говорил, а это большая разница. Если хочешь, пойдем в другую сторону: во всяком случае, это будет разнообразие.
Тогда Гаррис вычислил все сначала — только наоборот — и мы снова нырнули в густой лес. И опять, через полчаса нелегкого лазания по скалам мы очутились над той же деревней, на этот раз немного повыше; она находилась между нами и солнцем.
— Мне кажется, — сказал Джорж, полюбовавшись картиной, — что с этой точки зрения эта деревня самая красивая. Теперь мы можем спокойно спуститься в нее и отдохнуть.
— Невероятно, чтобы это была та же деревня! — воскликнул Гаррис. — Не может быть!
— Напротив: невероятно, чтобы нашлась совершенно такая же другая деревня, с такой же колокольней и такой же лестницей. Во всяком случае, решай: куда нам теперь идти?
— Я не знаю. Мне все равно! — отвечал Гаррис.— Я искренно старался, а ты только ворчал и смущал меня все время.
— Может быть, я действительно отнесся слишком строго, — признал Джорж. — Но взгляни на дело с моей точки зрения: один из вас говорит, что обладает каким-то безошибочным инстинктом — и приводит в чащу леса, прямо к осиному гнезду...
— Я не виноват, что осы устраивают гнезда в чаще леса, — перебил я.
— Я в этом тебя не виню и вовсе не спорю; я только излагаю факты. Другой — водит меня вверх и вниз по горам в продолжение нескольких часов «на научном основании», не зная где юг, где север, и не помня, поворачивал он направо или не поворачивал!.. У меня нет ни сверхъестественных инстинктов, ни глубоких научных познаний; но я вижу отсюда человека, который собирает в поле сено: я пойду и предложу ему плату за весь стог — вероятно марки полторы, не больше — за то, чтобы он бросил работу и довел меня до Тодтмоса. Если вы хотите следовать за мной, можете; если же намерены делать еще какие-нибудь опыты, то тоже можете, но только без меня.
План Джоржа был не блестящий и не оригинальный, но в ту минуту показался нам привлекательным. К счастью, мы недалеко отошли от дороги в Тодтмос, и, с помощью косаря, прибыли туда благополучно четырьмя часами позже, чем предполагали накануне. Для того, чтобы успокоить аппетит, понадобилось сорок пять минут молчаливой работы.
У нас было решено пройти от Тодтмоса к Рейну пешком; но после утомительной утренней прогулки мы предпочли нанять экипаж и прокатиться. Экипаж был живописный; лошадь можно было бы назвать бочкообразной — но в сравнении с кучером она была совсем угловатая. Здесь все экипажи делаются на две лошади, но впрягается обыкновенно одна: вид получается довольно неуклюжий, но зато такой, как будто вы всегда ездите на паре лошадей и только в этот раз случайно выехали на одной. Лошади здесь очень опытные и развитые: кучера большей частью спокойно спят на козлах, и если бы можно было отдавать лошадям деньги, то никаких кучеров не требовалось бы вовсе. Когда последние не спят и звучно щелкают бичом — я не чувствую себя в безопасности. Однажды мы катались в Шварцвальде с двумя дамами; дорога вилась как пробочник по крутому склону горы; откосы приходились под углом в семьдесят градусов к горизонту. Мы ехали вниз тихо и спокойно, видя с удовольствием, что возница спит, а лошади уверенно спускаются по знакомой дороге. Вдруг его что-то разбудило — нездоровье или неприятный сон: он схватился за вожжи и быстрым движением направил лошадь, приходившуюся с наружной стороны, к самому краю дороги; дальше идти ей было некуда и она сползла вниз, повисши на вожжах и постромках. Возница ничуть не удивился, лошади нисколько не испугались. Мы вышли из экипажа, кучер вытащил из-под сиденья большой складной нож, очевидно сохраняемый для этой цели, и спокойно, не колеблясь, перерезал постромки. Освобожденная лошадь скатилась на пятьдесят футов вниз, до следующего поворота дороги, и встала на ноги, ожидая нас. Мы сели снова и доехали до того места на одном коне; а там возница привязал ожидавшую лошадь несколькими кусками веревки, и катанье продолжалось. Интереснее всего было полнейшее спокойствие всех троих — кучера и обоих коней; видимо, они так привыкли к подобному сокращению пути, что я не удивился бы, если б он нам предложил скатиться целиком со всем экипажем.
Меня поражает еще одна особенность немецких кучеров: они никогда не натягивают и не отпускают вожжей. У них для регулирования езды есть тормоз — а скорость хода лошади их не касается. Для езды по восемь миль в час возница закручивает ручку тормоза немного, так, что он только слегка поцарапает колесо, производя звук словно пилу оттачивают; для четырех миль в час он закручивает сильнее, и вы едете под аккомпанемент нечеловеческих криков и стонов, напоминающих хор недорезанных свиней. Желая остановиться совсем, кучер завинчивает ручку тормоза до конца — и он останавливает лошадей раньше, чем они пробегут на длину своего корпуса. То, что можно остановиться иным, более естественным способом, очевидно не приходит в голову ни кучеру, ни самим лошадям; они добросовестно тянут изо всей силы до тех пор, пока не могут сдвинуть экипаж ни на полдюйма дальше; тогда они останавливаются. В других странах лошади могут ходить даже шагом, но здесь они обязаны стараться и бежать рысью; остальное их не касается. На моих глазах один немец бросил вожжи и принялся усиленно закручивать тормоз обеими руками — боясь, что не успеет разминуться с другим экипажем. Я нисколько не преувеличиваю.
В Вальдсгете — одном из маленьких городков шестнадцатого столетия, расположенном на истоках Рейна, мы встретили довольно обыкновенное на континенте существо: путешествующего британца, удивленного и раздраженного тем, что иностранцы не могут говорить с ним по-английски. Когда мы пришли на станцию, он объяснил носильщику и десятый раз «самую обыкновенную» вещь, а именно: что хотя у него билет куплен в Донаушинген, и он хочет ехать в Донаушинген посмотреть на истоки Дуная (которых там нет: они существуют только по рассказам) — но желает, чтобы его велосипед был отправлен прямо в Энген, а багаж в Констанц. Все это было, по его мнению, так просто! А между тем носильщик, молодой человек, но казавшийся в эту минуту старым и несчастным, довел его до белого калений тем, что ничего не мог понять. Джентльмену стало даже жарко от чрезмерных усилий втолковать носильщику суть дела.
Я предложил свои услуги, но скоро пожалел: соотечественник ухватился за предложенную помощь слишком ревностно. Носильщик объяснил нам, что пути очень сложны — требуют многих пересадок; надо было узнать все обстоятельно, а между тем наш поезд трогался через несколько минут. Как всегда бывает в тех случаях, когда времени мало, и надо что-нибудь разъяснить — джентльмен говорил втрое больше чем нужно. Носильщик, очевидно, изнемогал в ожидании свободы.
Через несколько времени, сидя в поезде, я сообразил одну вещь: хотя я согласился с носильщиком, что велосипед джентльмена лучше отправить на Иммендинген — как и сделал — но совершенно забыл дать указание, куда его отправить дальше, из Иммендингена. Будь я человек впечатлительный, я бы долго страдал от угрызений совести, так как злополучный велосипед, по всей вероятности, пребывает в Иммендингене до сих пор. Но я придерживаюсь философского учения видеть во всем лучшую, а не худшую сторону; быть может, носильщик догадался сам исправить мое упущение, а может быть, случилось простенькое чудо, и велосипед каким-нибудь образом попал в руки хозяина до окончания его путешествия. На багаж мы наклеили ярлык с надписью «Констанц», а отправили его в Радольфцель — как нужно было по маршруту; я надеюсь, что когда он полежит в Радольфцеле, его догадаются отправить в Констанц.
Но подробности не изменяют внутреннего характера этого случая, трогательность его заключалась в искреннем негодовании британца, который нашел немецкого носильщика, не понимающего по-английски. Лишь только мы обратились к соотечественнику, он высказал свои возмущенные чувства нисколько не стесняясь:
— Я вам очень благодарен, господа, такая простая вещь — а он ничего не понимает! Я хочу доехать в Донаушинген, оттуда пройти пешком в Гейзинген, опять по железной дороге в Энген, а из Энгена на велосипеде в Констанц. Но брать с собой багаж я не желаю: я хочу найти его уже доставленным в Констанц. И вот, целых десять минут объясняю этому дураку — а он ничего не понимает!
— Да, это непростительно, — согласился я.— Некоторые немецкие рабочие почти не знают иностранных языков!..
— Уж я толковал ему и по расписанию поездов, и жестами, — продолжал джентльмен, — и все напрасно!
— Даже невероятно, — заметил я. — Казалось бы, все понятно само собой, не правда ли?
Гаррис рассердился. Он хотел сказать этому человеку, что глупо путешествовать в центре чужой страны по разным замысловатым дорогам, не зная ни слова ни на каком другом языке, кроме своего собственного. Но я удержал его стремительность: я указал ему, как этот человек бессознательно содействует важному, полезному делу: Шекспир и Мильтон положили на него частицу своего труда, распространяя знакомство с английским языком в Европе; Ньютон и Дарвин сделали его изучение необходимым для образованных и ученых иностранцев; Диккенс и Уида помогли еще больше (хотя насчет последней мои соотечественники усомнятся, не зная того, что ее столько же читают в Европе, сколько смеются над ней дома). Но человек, который распространил английский язык от мыса Винцента до Уральских гор — это заурядный англичанин, неспособный к изучению языков, не желающий запомнить ни одного чужого слова и смело отправляющийся с кошельком в руке в какие угодно захолустья чужих земель. Его невежество может возмущать, его тупость скучна, его самоуверенность сердит, — но факт остается фактом: это он, именно он энглизирует Европу. Для него швейцарский крестьянин идет по снегу в зимний вечер в английскую школу, открытую в каждой деревне; для него извозчик и кондуктор, горничная и прачка сидят над английскими учебниками и сборниками разговорных фраз; для него континентальные купцы посылают своих детей воспитываться в Англию; для него хозяева ресторанов и гостиниц, набирая состав прислуги, прибавляют к объявлению слова: «Обращаться могут только знающие английский язык».
Если бы английский народ признал чей-нибудь язык кроме своего, то всесветный успех последнего прекратился бы. Англичанин стоит среди иностранцев и позвякивает золотом: «Вот, — говорит он, — плата всем, кто умеет говорить по-английски!». Он великий учитель. Теоретически мы можем бранить его, но на деле должны снять пред ним шапку: он проповедник нашего родного языка!
ГЛАВА XII
Мы огорчены низменными инстинктами немцев. Великолепный вид. Мнение континентальных жителей об англичанах. Унылый путник с кирпичом. Погоня за собакой. Неудобный для жизни город. Обилие фруктов. Веселый человек. Джорж находит, что поздно, и удаляется. Гаррис следует за ним, чтобы показать ему дорогу. Я не хочу оставаться один и следую за ними. Выговор, предназначенный для иностранцев.
Что возмущает душу интеллигентного англичанина— так это неинтересный, практический обычай немцев устраивать рестораны в самых поэтических местах; они не могут видеть волшебной долины, одинокой дорожки или шумящего водопада, чтобы не поставить там деятельного домика с надписью: «Wirtschaft»; это у них инстинктивная потребность. А между тем, разве высокие восторги могут вылиться во вдохновенную песнь над липким от пива столиком? Разве мыслимо предаваться отголоскам старины, когда тут же нас одолевает запах жареной телятины и шпинатного соуса?
Как-то мы подымались на гору сквозь чащу густого леса и философствовали.
— А наверху, — закричал Гаррис глубокую мысль, — окажется разукрашенный ресторан, где публика постыдно увлекается жареными бифштексами, фруктовыми пирогами и белым вином!
— Ты думаешь? — спросил Джорж.
— Конечно. Разве ты не знаешь их привычек!.. Ведь здесь ни одной рощицы he оставят для тихого созерцания, для одиночества; настоящий ценитель природы не может насладиться ни на одной вершине горы— все они осквернены угождением грубым человеческим слабостям!
— По моим расчетам, мы должны дойти туда в три четверти первого, если не станем терять времени,— заметил я.
— Да и противный «табльдот» будет уже готов! — проворчал Гаррис. — Здесь, вероятно, подают к столу местную форель из горных речек... В Германии от еды и питья никуда не уйдешь. Даже злость берет!
Мы продолжали путь, и благодаря окружающей красоте на время забыли возмущавшее нас обстоятельство. Я высчитал верно: в три четверти первого Гаррис, шедший впереди, сказал:
— Вот и добрались! Я вижу вершину.
— И ресторан? — спросил Джорж.
— Пока нет, но он конечно на месте, провались он совсем!..
Через пять минут выше идти было некуда; мы стояли на вершине горы. Поглядели на север, на юг, на восток и на запад; потом посмотрели друг на друга.
— Величественный вид! Не правда ли? — сказал Гаррис.
— Великолепный, — согласился я.
— Восхитительный, — заметил Джорж.
— И они хорошо сделали, — продолжал Гаррис, — что догадались убрать с глаз ресторан.
— Они его, кажется, спрятали.
— Это разумно; когда вещь не мозолит глаз, она перестает раздражать.
— Конечно, — заметил я, — ресторан на надлежащем месте никому не мешает.
— Хотел бы я знать, куда они его засунули?— спросил Джорж.
Лицо Гарриса вдруг озарилось вдохновением.
— А что, если мы поищем?!..
Вдохновение было симпатичное; даже я заинтересовался. Мы условились, что отправимся на исследование в разные стороны и снова сойдемся на вершине.
Через полчаса мы уже стояли друг перед другом. Слов не нужно было, лица показывали ясно, Что наконец нашлось в Германии прекрасное место, не оскверненное грубым употреблением пищи и питья!
—Я бы этому никогда не поверил, — вымолвил Гаррис, — а ты?
— Кажется, это единственная квадратная миля в Германии без ресторана, — отвечал я.
— И не странно ли, что мы — путешественники, иностранцы — открыли такое место! — сказал Джорж.
— Действительно, — заметил я, — это удачный случай: теперь мы можем удовлетворить возвышенное стремление к прекрасному, не оскорбляя его искушением низменных инстинктов. Обратите внимание на освещение этих гор вдали: восхитительно, не правда ли?
— Кстати, — перебил меня Джорж, — не можешь ли ты сказать, какой отсюда кратчайший путь вниз?
Я посмотрел в путеводитель и ответил:
— Дорога налево приводит в Зонненштейг; между прочим, там рекомендуется «Золотой Орел»; ходьбы туда два часа. Дорога направо длиннее, но зато «представляет прекрасную точку зрения на окружающую местность».
— По-моему мнению, — заметил Гаррис, — красивая местность со всех точек зрения одинаково хороша! Вы не согласны с этим?
— Я лично, — отвечал Джорж, — иду налево.
Мы последовали за ним.
Но спуститься скоро не удалось. В этих краях грозы собираются совершенно неожиданно, и раньше чем через четверть часа нам пришлось выбирать одно из двух: или искать убежища, или промокнуть до костей. Мы решились на первое и выбрали дерево, которое при обыкновенных обстоятельствах было бы вполне надежным убежищем. Но гроза в Шварцвальде — не совсем обыкновенное обстоятельство. Сначала мы утешали друг друга тем, что она не может долго длиться; а потом тем, что скоро нам нечего будет бояться промокнуть еще больше...
— При подобных условиях, — сказал Гаррис, — я был бы почти рад, если бы здесь оказался ресторан.
— Через пять минут я иду вниз, — объявил Джорж, — так как, промокнув, считаю излишним еще голодать впридачу.
— Эти горные, пустынные местности, — заметил я, — более привлекательны в хорошую погоду; а во время дождя, в особенности когда человек достиг того возраста, в котором...
В эту секунду нас окликнули. В пятидесяти шагах вдруг появился откуда-то толстый господин под огромным зонтиком; он вопросительно смотрел на нас.
— Вы не войдете внутрь?..
— Внутрь чего? — переспросил я, думая, что это один из тех идиотов, которые стараются острить, когда нет ничего смешного.
— Внутрь ресторана, — отвечал толстый господин.
Мы оставили наше убежище и подошли.
— Я звал вас из окна, — продолжал он, — но вы, вероятно, не слыхали. Гроза, может быть, не кончится раньше чем через час. Вы бы ужасно промокли!..
Почтенный и любезный толстяк даже волновался за нас.
— С вашей стороны было очень любезно выйти,— отвечал я. — Мы не сумасшедшие и не стояли бы здесь целых полчаса, если бы знали, что в нескольких шагах есть ресторан. Мы не подозревали о его существовании.
— Я так и думал, — заметил почтенный господин,— потому и пошел за вами.
Оказалось, что все сидевшие в ресторане смотрели на нас из окон и удивлялись, зачем мы там стоим с самым несчастным видом. Они бы, пожалуй, любовались нами до вечера, если бы не любезность толстого господина.
Хозяин ресторана оправдывался тем, что принял нас за англичан: на континенте все искренно убеждены, что каждый англичанин — помешанный; это мнение так же укоренилось, как мнение наших крестьян о французах: они думают, что каждый француз питается лягушками. И такое убеждение поколебать очень трудно.
Ресторанчик был отличный, с хорошей едой и очень порядочным вином. Мы просидели в нем часа два, высыхая, угощаясь и беседуя о красоте природы; и как раз перед тем, как собрались уходить, произошел маленький случай, доказавший, что зло производит в этом мире гораздо больше последствий, чем добро.
В столовую поспешно и взволнованно вошел новый посетитель. Вид у него был уставший, истощенный. Он нес в руке кирпич, с привязанной к нему веревкой. Войдя, он быстро прихлопнул за собой дверь, запер ее на задвижку и прежде всего долго и пристально поглядел в окно. Потом вздохнул с облегчением, сел, положил подле себя на скамейку кирпич и спросил еды и питья.
Во всем этом было что-то таинственное. Казалось странным, зачем он запер дверь, что будет делать с кирпичом, почему так взволнованно смотрел в окно. Но измученный вид незнакомца удерживал от вопросов и желания вступить с ним в беседу.
Постепенно он успокоился, закусил, перестал ежеминутно вздыхать, вытянул на скамье ноги, закурил гадкую сигару и, видимо, отдыхал.
Тогда это и случилось. Все произошло слишком неожиданно, чтобы можно было заметить подробности. Я только помню, как через кухонную дверь вошла девушка с кастрюлей в руке, прошла комнату поперек и подошла к наружной, входной двери. В следующую секунду в комнате было полное столпотворение — метаморфоза в роде тех, какие изображаются в цирке: вместо плывущих облаков, тихой музыки, колышущихся цветов и летающих фей — вдруг делается какой-то хаос: толпа мечется, полисмены прыгают и спотыкаются на ревущих бэби, франты борются с клоунами, мелькают колбасы, арлекины, ничто не стоит на месте ни секунды...
Лишь только девушка с кастрюлей отперла дверь, как она распахнулась настежь, словно злые силы давно ждали этого мгновения, притаившись снаружи. Две свиньи и курица как бомба влетели в комнату; за ними — терьер; кошка, спавшая на пивной бочке, моментально вскочила и приняла горячее участие в действии; девушка отбросила кастрюлю и грохнулась на пол; таинственный незнакомец вскочил и опрокинул стол со всем, что на нем было; из кухни выбежал хозяин и бросился по комнате за зачинщиком суматохи — терьером с острыми ушами и беличьим хвостом; рассчитав хорошенько удар ногой, хозяин хотел одним взмахом вышвырнуть собачонку из комнаты — но попал не в собачонку, а в одну из свиней, самую жирную. Удар был нешуточный, видно было, что бедному животному пришлось нелегко. Все огорчились за свинью, но больше всех конечно, сам хозяин; он перестал бегать, сел посередине комнаты и так заныл,взывая к небесам о справедливости, что жители окрестных долин, вероятно, приняли эти звуки на вершине горы за какое-нибудь новое явление природы.
Между тем курица с громким кудахтаньем, криком и хлопаньем крыльев мелькала одновременно во всех углах комнаты; она без всякого труда взбиралась по стенам до самого потолка, и скоро они вдвоем с кошкой снесли на пол все, что еще оставалось на местах. Через сорок секунд все девять человек, бывшие в комнате, старались поймать терьера или хотя бы ударить его ногой. Последнее некоторым удавалось, так как пес, несмотря на свалку, еще успевал по временам останавливаться и лаять; но удары не портили его настроения: видимо, он сознавал, что за всякое удовольствие следует платить, и охота на курицу и пару свиней стоили этого. Кроме того, он мог без труда заметить то удовлетворяющее обстоятельство, что на один удар по его бокам приходилось несколько ударов на каждое живое существо в комнате; в особенности не везло первой жирной свинье, которая так и не двигалась с места, принимая со стоном назначенные терьеру ожесточенные пинки. Погоня за этой собачонкой напоминала игру в футбол, при которой мяч исчезал бы каждый раз, когда играющий разбежался и хорошенько замахнулся на него ногой; дав изо всей силы пинка по пустому пространству, остается желать, чтобы на воздухе встретилась какая-нибудь точка сопротивления, которая приняла бы удар и избавила бы вас от удовольствия эффектно усесться на землю. Терьеру попадало только случайно, неожиданно для самих преследователей, так что они теряли равновесие и летели на пол — обязательно на ту же свинью; каждые полминуты на нее кто-нибудь сваливался — а онапродолжала лежать и кричать, не видя выхода из своего положения.
Неизвестно, сколько времени продолжалось бы столпотворение, если бы Джорж не догадался остановить его: он один из всех нас занялся другой свиньей — той, которая еще могла бегать и хотела бегать. Ловкими приемами он прижал ее в угол, из которого был только, один выход: в открытую дверь. Хитрость подействовала, и свинья с радостным воплем выскочила во двор, чтобы побегать на свежем воздухе вместо тесной комнаты.
Нам всегда хочется того, чего нет под рукой: оставшаяся свинья, курица, девять человек и кошка сразу потеряли всякий интерес в глазах терьера сравнительно с выбежавшей свиньей; он как вихрь помчался за исчезнувшей добычей — а Джорж захлопнул дверь и запер ее на задвижку.
Тогда хозяин встал и оглядел все имущество, лежавшее на полу.
— Игривая у вас собачка! — обратился он к странному посетителю с кирпичом.
— Это не моя собака, — угрюмо отвечал тот.
— Чья же она?
— Не знаю.
— Ну, это плохое объяснение! — заметил хозяин, поднимая портрет немецкого императора и вытирая с него рукавом пролитое вино. — Я не верю.
— Я знаю, что не верите, — отвечал человек. — Я и не ждал этого. Я устал уже доказывать людям, что это не моя собака... Никто не верит.
— Чем же вас привлекает этот чужой пес, что вы с ним гуляете? Чем он так хорош?
— Я с ним не гуляю: это он сам выбрал меня сегодня в десять часов утра и с тех пор не оставляет ни на минуту... Я было думал, что отделался, когда зашел сюда, он остался довольно далеко, занятый убийством утки... Мне, конечно придется платить за нее на обратном пути.
— А вы пробовали бросать в него камни? — спросил Гаррис.
— Пробовал ли я бросать в него камни?!.. — повторил человек презрительным тоном. — Я бросал в него камни до тех пор, пока руки чуть не отвалились! А он думает, что это такая игра, и приносит их мне обратно. Я битый час таскал с собой кирпич на веревке, надеясь утопить его — да он не дается в руки: сядет на шесть дюймов дальше, чем я могу достать, раскроет рот и смотрит на меня.
— Забавная история! — заметил хозяин. — Я давно не слыхал такой.
— Очень рад, если она кого-нибудь забавляет...— проговорил человек.
Мы оставили их с хозяином подбирать вещи, а сами вышли. В двенадцати шагах от двери верный пес ждал друга; выражение у него было уставшее, но довольное. Так как симпатии являлись у него, по-видимому, довольно неожиданно и легкомысленно, то мы в первую минуту испугались, как бы он не почувствовал влечения к нам; но он пропустил нас с полным хладнокровием. Трогательно было видеть такую привязанность к скромному человеку, и мы не старались ее подорвать.
Объехав весь Шварцвальд, мы покатили на велосипедах через Альт-Брейзах и Кольмар в Мюнстер, откуда сделали маленькую экскурсию в Вогезы (составляющие границу страны, где живут настоящие люди— по мнению немецкого императора).
Рейн окаймляет Альт-Брейзах то с одной, то с другой стороны; он был еще молод, когда добрался сюда, и не мог сразу решить — какое ему выбрать направление. Аль-Брейзах, представляющий скорее крепость на скале, имел в старину какой-то особенный интерес: кто бы с кем ни воевал, из-за чего бы ни началась борьба — Альт-Брейзах непременно был в деле. Все его осаждали, некоторые покоряли, но скоро снова теряли власть над ним; никто не мог с ним справиться. Житель древнего Альт-Брейзаха сам не всегда мог сказать о себе с уверенностью — чей он подданный: только что его причисляли к французам и он настолько научился по-французски, чтобы сознательно платить подати — как ему объявляли, что он уже австриец, человек начинал осматриваться, стараясь сообразить, как ему сделаться хорошим австрийцем — но вдруг оказывалось, что он больше не австриец, а немец; в последнем случае он оставался в сомнении — какой он именно немец и к какому сорту немцев из всей дюжины имеет отношение. То ему объявляли, что он протестант, то — католик. Единственное обстоятельство, дававшее устойчивость его существованию, была обязательная тяжелая плата за то, что он француз, или австриец, или немец. Когда начинаешь думать обо всех условиях жизни в средние века, то становится странным: что за охота была жить всемэтим людям — кроме королей и собирателей подати?
По разнообразию и красоте Вогезы с точки зрения путешественника гораздо выше Шварцвальда; здесь нет нарушающей поэзию зажиточности шварцвальдского крестьянина: разрушение и бедность повсюду удивительные. Развалины замков, начатых римлянами и оконченных трубадурами, ютятся на таких высотах, где, казалось бы, не место строиться никому, кроме орлов; но стоящие до сих пор остатки стен представляют целые лабиринты, в которых можно бродить часами.
Фруктовых и зеленых лавок в Вогезах не существует; составляющие их товары растут на свободе — бери сколько хочешь. Поэтому здесь трудно придерживаться составленного плана прогулки; в жаркий день фрукты представляют слишком сильное искушение для остановок. Малина, какой я не встречал больше нигде, земляника, смородина, крыжовник — все это растет на склонах гор, как у нас ежевика на полях. Здесь мальчишкам не приходится устраивать грабежей в садах; они могут объедаться до болезни без всякой? греха. Сады не огораживаются, и платы за вход в них не берут— как нельзя было бы требовать платы от рыбы, которая попала в ванну. Тем не менее, ошибки все-таки иногда случаются.
Мы проходили как-то после обеда по склону горы и задержались больше чем следовало сообразно требованиям гигиены, увлекшись фруктами, которые росли со всех сторон в огромном выборе! Начав с запоздавшей земляники, мы перешли к малине; потом Гаррис нашел дерево ренглотов с чудными зрелыми плодами.
— Это открытие, кажется, лучше всех прежних!— сказал Джорж.— Следует воспользоваться им обстоятельно. Совет был правильный.
— Жаль, что груши еще не поспели, — заметил Гаррис.
Но я скоро утешил его, найдя поблизости какие-то необыкновенные желтые сливы.
— Жаль, здесь холодно для ананасов, — сказал Джорж. — Я с удовольствием съел бы теперь свежий ананас! Все эти обыкновенные фрукты скоро приедаются.
— Вообще, здесь слишком много ягод и слишком мало фруктовых деревьев, — прибавил Гаррис. — Я бы не отказался от другого дерева ренглотов.
— А вот, сюда поднимается человек, — заметил я. — Он, вероятно, здешний и может нам указать, где еще растут ренглоты.
— Он взбирается довольно скоро для старика! — сказал Гаррис.
Человек действительно подымался к нам очень скоро; насколько можно было судить издали, он был веселого нрава: все время что-то кричал, пел и размахивал руками.
— Вот весельчак! — сказал Гаррис. — Приятно на него смотреть. Но почему он не опирается на палку, а несет ее на плече?
— Мне кажется, это вовсе не палка, — заметил Джорж.
— Что же это, если не палка?
— Да по-моему, скорее похоже на ружье.
Гаррис подумал и спросил:
— Надеюсь, мы не сделали никакой ошибки... Неужели это частный сад?
— Помнишь ли ты печальный случай, — сказал я, — на юге Франции два года тому назад? Какой-то солдат, проходя мимо сада, сорвал пару вишен; из дома вышел хозяин и, не говоря ни слова, застрелил его на месте.
— Да разве можно убивать людей за то, что они срывают фрукты, хотя бы и во Франции? — спросил Джорж.
— Конечно, нельзя, — отвечал я. — Это было незаконно. Единственное оправдание, приведенное его защитником, заключалось в том, что он был человек раздражительный и особенно любил вишни именно с того дерева.
— Я вспомнил теперь, — заметил Гаррис. — Кажется, местная община должна была тогда уплатить большое вознаграждение родственникам убитого солдата; вполне справедливо, конечно.
— Однако становится поздно, — заявил Джорж. — И мне надоело топтаться на одном месте... — С этими словами он живо начал спускаться по другому склону горы. Гаррис поглядел на него и заметил с беспокойством:
— Он упадет и расшибется! Здесь нельзя ходить так скоро... И, кроме того, ведь он не знает дороги!..
Через несколько секунд их уже не было видно. Мне стало скучно одному: я вспомнил, что с самого детства не испытывал приятного ощущения, когда сбегаешь с крутой горы — и мне захотелось возобновить его. Это не совсем правильное физическое упражнение; но говорят, полезно для печени.
На ночь мы остановились в Барре, хорошеньком городке на пути в Ст.Оттилиенберг. Интересная старинная гостиница устроена на горе монашеским орденом: прислуживают там монашки и счет подает дьячок. Перед самым ужином вошел в залу путешественник; вид он имел англичанина, но говорил на языке, которого я никогда прежде не слыхал; звуки казались изящными и гибкими. Хозяин гостиницы не понял ничего и глядел на путешественника в недоумении; хозяйка покачала головой. Он вздохнул и заговорил иначе: на этот раз звуки напомнили мне что-то знакомое, но я не знал, что именно. Снова он остался непонятым.
— А, черт возьми! — воскликнул он тогда невольно.
— О, вы англичанин?!.. — обрадовался хозяин.
— Мсье устал, подавайте скорее ужин! — заговорила хозяйка.
Оба они превосходно говорили по-английски, почти так же, как по-французски и по-немецки, и засуетились, устраивая нового гостя. За ужином он сидел рядом со мной, и я начал разговор о занимавшем меня вопросе:
— Скажите пожалуйста, на каком языке говорили вы, когда вошли сюда?
— По-немецки, — отвечал он.
— О!.. Извините, пожалуйста.
— Вы не поняли? — спросил он.
— Вероятно, я сам виноват, — отвечал я. — Мои познания очень ограничены... Так, путешествуя, запоминаешь кое-что, но ведь этого очень мало.
— Однако они тоже не поняли, — заметил он, указывая на хозяина и на хозяйку, — хотя я говорил на их родном наречии.
— Знаете ли, дети здесь действительно говорят по-немецки, и наши хозяева, конечно, тоже знают этот язык до известной степени, но старики в Эльзасе и Лотарингии продолжают говорить по-французски.
— Да я по-французски к ним тоже обращался, и они все-таки не поняли!
— Конечно, это странно, — согласился я.
— Более чем странно; это просто непостижимо! Я получил диплом за изучение новых языков, в особенности за французский и немецкий. Правильность построения речи и чистота произношения были признаны у меня безупречными. И тем не менее, за границей меня почти никто никогда не понимает! Можете ли вы объяснить это?
— Кажется, могу, — отвечал я. — Ваше произношение слишком безупречно. Вы помните, что сказал шотландец, когда первый раз в жизни попробовал настоящее виски? «Может быть, оно и настоящее, да я не могу его пить.» Так и с вашим немецким языком: если вы позволите, я бы вам советовал произносить как можно неправильнее и делать побольше ошибок.
Всюду я замечаю то же самое; в каждом языке есть два произношения: одно «правильное», для иностранцев, а другое свое, настоящее.
Невольно вспоминал я первых мучеников христианства в тот период моей жизни, когда старался выучить немецкое слово Kirche. Учитель мой, крайне старательный и добросовестный человек, непременно хотел добиться успеха.
— Нет, нет, — говорил он. — Вы произносите так, как будто слово пишется Kirchk-e, а между тем, в нем нет буквы «k»! Надо произносить вот так, вот...
И он в двадцатый раз за каждым уроком показывал мне, как надо произносить. Печально было то, что я ни за какие деньги не мог найти разницы между его произношением и своим; по моему глубокому убеждению , мы произносили это слово совершенно одинаково!
Тогда он принимался за другой способ:
— Видите ли, вы говорите горлом. (Совершенно верно: я говорил горлом). А я хочу, чтобы вы начинали вот отсюда! (и он жирными пальцами показывал, из какой глубины я должен был «начинать» звук).
После многочисленных усилий и звуков, напоминавших что угодно, только не храм — я извинялся и складывал оружие.
— Это, кажется, невыполнимо! — говорил я. — Может быть, причина заключается в том, что я всю жизнь говорил ртом и горлом и, боюсь, теперь уже поздно начинать по-новому.
Тем не менее, упражняясь часами в темных углах и на пустынных улицах (к великому ужасу редких прохожих) — я добился того, что мой учитель пришел в восторг: я выговаривал это слово совершенно правильно. Мне было очень приятно, и я оставался в хорошем настроении, пока не отправился в Германию. Там оказалось, что этого звука никто не понимает. Мои расспросы вызывали слишком много недоразумений. Мне приходилось обходить церкви подальше. Наконец я догадался бросить «правильное»произношение и с трудом вспомнил первобытное. Тогда, в ответ на расспросы, лица прохожих прояснялись, и они охотно сообщали, что «церковь за углом»или «вниз по улице» — как случалось.
Я вижу так же мало пользы в научном объяснении, которое требует каких-то акробатических способностей, но не приводит ни к чему; вот образчик такого объяснения:
«Прижмите миндалевидные железы к нижней части гортани. Затем, выгнув корень языка настолько, чтобы почти коснуться маленького язычка, постарайтесь концом языка притронуться к щитовидному хрящу. Наберите в себя воздух, сожмите глотку и тогда, не разжимая губ, скажите «Кароо».
И когда все это сделаешь, они еще недовольны.
ГЛАВА XIII
Некоторые нравы и обычаи немецких студентов. Мензура; ее «ненужная польза» — по мнению импрессиониста. Вкусы немецких барышень. Совет иностранцам. История, которая могла окончиться печально: о двух мужьях, двух женах и одном холостяке.
На обратном пути мы остановились в одном из университетских городов Германии, специально с целью проникнуть в обычаи студенческой жизни, и, благодаря любезности некоторых знакомых, любопытство наше было удовлетворено.
В Англии мальчик резвится и играет до пятнадцати лет, а после пятнадцати — работает; в Германии же работает — мальчик, а юноша — занимается играми. Здесь ребята отправляются в школу с семи часов утра, летом, а зимой с восьми, и учатся. В результате, шестнадцатилетний мальчик основательно знает математику, классиков и новейшие языки и знаком с историей в такой степени, в какой она может быть необходима только завзятому политику; если он не мечтает о профессорской кафедре, то обширность его познаний является излишней роскошью.
Он не спортсмен — и очень жаль, потому что мог бы быть хорошим спортсменом. Он в редких случаях умеет играть в футбол, чаще ездит на велосипеде, еще чаще — увлекается французским бильярдом в душных ресторанах, а в большинстве случаев употребляет время на питье пива, на дуэли и на свободное, бесцельное бродяжничество ради собственного удовольствия, для которого немцы придумали слово «Bummel».
Каждый студент принадлежит к какой-нибудь корпорации; последние делятся по своему изяществу и блеску на несколько степеней: принадлежать к одной из блестящих корпораций могут только сыновья богатых родителей, так как это удовольствие обходится до восьми тысяч марок в год; корпорации «Буршеншафт» и «Ландсманшафт» не так разорительны. Крупные общества разделяются на более мелкие, а те, в свою очередь, имеют свои особые ветви. При таком разделении придерживаются более или менее землячества — но только «более или менее»: оно так же не выдерживает строгой критики, как, например, Гордоновский полк шотландской гвардии, который наполовину состоит из уроженцев Лондона. Но главная цель выдерживается, а именно: чтобы университет подразделялся приблизительно на двенадцать отдельных корпораций, из которых каждая должна иметь строго определенные цвета знамени и шапок — а также строго определенную, излюбленную пивную, куда уже не допускаются члены других корпораций.
Главное занятие членов этих обществ состоит в том, чтобы драться с членами других обществ, или своими собственными. Немецкая студенческая дуэль, «мензура», описывалась так часто и обстоятельно, что я не хочу надоедать читателям новыми подробностями. Я, как импрессионист, хотел бы только передать первое впечатление, какое произвела на меня эта «дуэль», так как считаю, что именно первые впечатления — не затемненные еще ничьим вмешательством и сложившиеся без всякого постороннего влияния — бывают самые справедливые.
Испанцы и южные французы глубоко убеждены и стараются убедить каждого в том, что бой быков изобретен специально для удовольствия и пользы самих быков; что лошадь, которая по вашему мнению стонала от боли — вовсе не страдала, а просто смеялась над собственной неудачей, относясь иронически к картине, которую представляют ей вырванные внутренности; и испанец, и француз, сравнивая ее блестящую смерть в цирке с бесславной кончиной на бойне, приходят в такой заразительный экстаз, что вам надо упорно сохранять хладнокровие, иначе вы, вернувшись в Англию, начнете хлопотать о введении боя быков, как учреждения, развивающего рыцарство.
Нет сомнений, что Торквемадо искренно верил в пользу инквизиции для человечества. По его мнению, легкая встряска не могла принести ничего кроме добра любому располневшему джентльмену, страдающему припадками мускульного ревматизма. А спортсмены-охотники у нас в Англии находят, что каждой лисице можно позавидовать: она принимает участие в спорте по целым дням, не расходуя на это ни одного пенса и представляя центр всеобщего внимания.
Привычка ослепляет и заставляет нас не видеть того, чего не хочется видеть.
Гуляя по улицам германских городов, на каждом шагу встречаешь джентльменов с вечными следами дуэлей на лице. Дети здесь играют «в дуэль», сначала в детской, потом в школе, а затем, будучи студентами, уже серьезно играют в нее от двадцати до ста раз. Немцы убедили сами себя, что в этом нет ничего жестокого, ничего обидного, ничего унижающего. Защищая свои дуэли, они уверяют, что последние воспитывают в юношах смелость и хладнокровие. Если это и правда, то оно как будто бы лишнее в стране, где и без того каждый мужчина — солдат. И разве достоинства того, кто дерется перед зрителями ради приза, составляют особые достоинства солдата? Сомнительно! На поле сражения горячий характер приносит часто больше пользы, чем тупое хладнокровие к собственным страданиям. В сущности, у немецкого студента не хватает смелости, так как в данном случае она выразилась бы в отказе драться: ведь они дерутся не для собственного удовольствия, а из страха перед общественным мнением, которое запоздало на двести лет.
Знаменитая «мензура»вырабатывает одно — привычку к зверству. Говорят, она требует ловкости, но я этого не заметил; впечатление получается чего-то неприятного и смешного, как от драки в балаганных театрах. Мне рассказывали, что в аристократическом Бонне и в Гейдельберге, где много иностранцев, дуэли происходят в более выдержанном стиле: в хороших комнатах, в присутствии седовласых докторов, которые оказывают помощь раненым, между тем как ливрейные лакеи обносят публику угощениями; так что все получает вид живописной церемонии. Но в более скромных университетах, где рисоваться не для кого, студенты ограничиваются самым существенным и... непривлекательным. Право, настолько непривлекательна вся обстановка, что чувствительному читателю лучше пропустить это место: я не мог украсить действительности, да и пробовать не хочу!
Комната мрачная, голая; стены забрызганы пивом, кровью и стеарином; потолок закопчен сигарным дымом; пол усыпан опилками. Толпа студентов разместилась где попало — на деревянных скамьях и табуретках, на полу; все курят, разговаривают, смеются.
В центре комнаты стоят друг против друга соперники: огромные, неуклюжие, с выпученными глазами, в шерстяных шарфах, намотанных вокруг шеи, в каких-то фуфайках на толстой подкладке, похожих на грязные одеяла; руки, просунутые в тяжелые ватные рукава, подняты... Не то это воины, каких изображают на японских подносах, не то — неудачные фигуры для вычурных часов.
Секунданты тоже начинены ватой: на голове у них торчат шапки с кожаными верхушками; они ставят соперников в надлежащую позу — причем так и кажется, что послышится звук заводимой пружины... Судья садится на свое место, дает сигнал,— и немедленно раздаются пять быстрых ударов длинных эспадронов. Следить за борьбой неинтересно: нет ни движения, ни ловкости, ни грации (я говорю о собственном впечатлении). Тот, кто сильнее, кто может дольше держать в неестественном положении руки в толстых рукавах и огромный, неуклюжий меч — выигрывает.
Общий интерес сосредоточивается не на борьбе, а на ранах: последние приходятся обыкновенно по голове или в левую половину лица; иногда взлетает на воздух кусок кожи с черепа, покрытый волосами, — который впоследствии бережно сохраняется его гордым обладателем (или, вернее, его бывшим гордым обладателем) и показывается на вечерах гостям. Конечно, из каждой раны в обилии течет кровь; она брызжет на стены и потолок, попадает на докторов, секундантов и зрителей, делает лужи в опилках и пропитывает толстую одежду дерущихся... После каждого ряда ударов подбегают доктора и уже окровавленными руками зажимают зияющие раны, подтирая их шариками мокрой ваты, которые помощник держит готовыми на тарелке. Понятное дело, лишь только соперники снова становятся на место и продолжают свою «работу» — раны в ту же минуту раскрываются и кровь хлещет из них ручьем, почти ослепляя дерущихся и делая пол у них под ногами совершенно скользким. Иногда вы видите левую половину челюстей обнаженных почти до самого уха, отчего получается такой вид, как будто человек глупо ухмыляется в одну сторону, оставаясь серьезным для другой половины зрителей; а иногда ударом рассекут кончик носа, что придает лицу странно надменное выражение.
Мне кажется, сражающиеся не делают никаких попыток избегать ударов: стремление каждого студента заключается в том, чтобы выйти из университета с возможно большим количеством шрамов на лице. Победителем считается тот, которого больше исполосовали; к нему относятся восторги товарищей, зависть юнцов и поклонение девиц; изрезанный и заштопанный, он с гордостью разгуливает первый месяц после мензуры, не смущаясь тем, что на нем почти не заметно облика человеческого. Другой боец — на долю которого выпало несколько ничтожных ран — удаляется с места действия раздосадованный и огорченный.
Сама драка считается не столь важной и интересной, как перевязка ран, происходящая затем в соседней комнате, «перевязочной». Доктора только что со школьной скамьи, жаждущие практики после недавнего получения дипломов... Я должен прибавить по совести, что те из них, которых мне пришлось видеть самому, имели далеко не сострадательный вид и, кажется, находили большое удовольствие в своей работе; а работали они так, как не стал бы работать ни один порядочный доктор; но, по-видимому, обычаи мензуры требуют, чтобы перевязка ран была по возможности грубее и мучительнее — так что, может быть, молодых докторов винить и нельзя. То, как студент выносит перевязку ран, считается настолько же важным, как его стойкость в самой драке; товарищи наблюдают внимательно, требуя самого веселого и довольного вида несмотря на всю жестокость, с какой производится перевязка. Широкие, зияющие раны — самые желанные; их нарочно зашивают кое-как, чтобы шрам остался на всю жизнь. Счастливый обладатель основательного безобразия может смело рассчитывать обзавестись в течение первой недели любящей невестой — с приданным, выражающимся по крайней мере пятизначным числом.
Таких дуэлей бывает несколько в неделю, причем на каждого студента приходится до дюжины в год. Но бывает еще особая мензура, к которой зрители не допускаются: она происходит между студентом, опозорившим себя хоть малейшим движением во время дуэли с товарищем — и лучшим бойцом всей корпорации; последний наносит провинившемуся целый ряд кровавых ран; и только после этого, доказав свое уменье достойно принять наказание и не шелохнуться даже тогда, если с него наполовину срежут голову — студент считается отмытым от позора и достойным остаться в ряду своих товарищей.
Сомневаюсь, чтобы можно было привести серьезный довод в защиту подобного обычая. Во всяком случае, если мензура и имеет какое-нибудь полезное влияние — то только на самих дерущихся; на зрителей же — очень гадкое и злое!.. Я знаю свой характер настолько хорошо, что с уверенностью могу считать себя не особенно кровожадным существом, и впечатление, произведенное на меня мензурой, наверное, то же, какое выносит из нее каждый средний человек: прежде чем дело началось, у меня к любопытству примешивалась беспокойная мысль о том, как мои нервы выдержат предстоящее зрелище, хотя я успокаивал себя тем, что имею некоторое представление о хирургических палатах. Когда потекла кровь и начали обнажаться мускулы и нервы, я почувствовал жалость и отвращение. Но когда первая пара сражающихся заменилась второй — признаюсь, человеческое чувство начало во мне гаснуть; а когда еще двое молодцов принялись резать друг друга — «дело показалось мне в красном свете», как говорят американцы. Я вошел во вкус. Осмотревшись, я заметил на всех лицах такое же желание видеть новые раны, новую кровь... Если нужно развивать кровожадные инстинкты в современном человеке — то мензура вполне достигает цели; но нужно ли это?.. Мы гордимся нашей гуманностью и цивилизацией, но, отбросив в сторону лицемерие, все-таки должны признать, что под крахмальными манишками в каждом из нас сидит дикарь, с нетронутыми дикими инстинктами; он никогда не исчезнет; иногда он нужен нам — и тогда является по первому требованию; но подкармливать его — лишнее.
В пользу серьезной дуэли можно сказать многое; но в пользу мензуры — ничего. Это пустое ребячество, несмотря на всю жестокость игры; жестокость не придает ей серьезности. Ведь раны имеют собственную цену— не по величине, а по внутреннему смыслу, по облагораживающим их обстоятельствам. Вильгельма Телля справедливо считают одним из героев мира, но что сказали бы мы о клубе, устроенном обществом отцов с тою целью, чтобы два раза в неделю собираться компанией и сбивать яблоки с голов своих сыновей? Мне кажется, немецкие студенты с полным успехом достигали бы желанных результатов, попросту дразня диких кошек! Не стоит записываться членом клуба ради того, чтобы вам искромсали физиономию. Путешественники рассказывают об американских дикарях, которые выказывают свой восторг тем, что секут себя; но европейцам незачем следовать такому примеру. Мензура олицетворяет собой только нелепую сторону дуэли, и если немцы сами не видят, что увлекаться этим смешно, то их остается только пожалеть.
В Германии студенты поголовно пьянством не занимаются: большинство — народ трезвый, хотя и не особенно солидный; но меньшинство — признанные представители немецкого студенчества — ухитряются только сохранять до некоторой степени командование над своими пятью чувствами и таким образом пребывают в хроническом состоянии неполного опьянения, хотя пьют полдня и всю ночь напролет. Пьянство действует не на всех одинаково, и все-таки в каждом университетском городе Германии нередко встречаются юноши моложе двадцати лет с фигурой Фальстафа и цветом лица рубенсовского Бахуса. Давно известно, что немецкую девушку можно очаровать физиономией точно неловко сшитой из нескольких обрывков разных материй; но не могут же женщины находить интерес в одутловатой, распухшей коже и вытаращенных глазах!
А без последнего обойтись никак нельзя, если начинаешь в десять часов «утренним глотком»пива, а кончаешь в четыре часа на рассвете пирушкой, называемой «Kneipe». Последняя устраивается студентом, который приглашает товарищей — числом от дюжины до сотни — в излюбленный ресторан и затем угощает пивом и дешевыми сигарами столько, сколько допускает их собственное чувство самосохранения. Иногда пирушка устраивается всей корпорацией; характер ее зависит, конечно, от состава компании и может быть как очень шумным, так и очень мирным; но в общем— соблюдается дисциплина и строгий порядок.
При входе каждого нового товарища, все сидящие уже за столом встают, щелкают каблуками и отдают честь. Когда сборище в полном, составе, избирается председатель, обязанность которого заключается в командовании пением. На стол раскладываются печатные ноты — по одному экземпляру на каждых двух человек— и председатель кричит:
— 29! Первый куплет!
И первый куплет раздается дружным хором. У немцев часто встречаются хорошие голоса, петь они учатся, умеют все, так как хоровое пение пользуется среди них большой любовью — и поэтому эффект получается полный.
Содержание песен бывает иногда патриотическое, иногда сентиментальное, иногда весьма реалистическое — такое, которое смутило бы среднего юношу-англичанина — но немцы поют все одинаково: без улыбки, без смеха, без единой фальшивой ноты, с полной серьезностью, держа перед собой ноты, как книжку гимнов в церкви.
По окончании каждой песни председатель кричит: «Прозит!». Все отвечают: «Прозит!» — и осушают стаканы. Пианист-аккомпаниатор встает и кланяется; все кланяются ему в ответ; входит девушка и снова наполняет стаканы пивом.
Между песнями говорят тосты, но они вызывают мало аплодисментов и еще меньше смеха; считается более достойным и приличным важно улыбаться и кивать друг другу головами.
С особенной торжественностью пьют тост, называемый «Salamander» — в честь какого-нибудь почетного гостя.
— Теперь, — говорит председатель, — мы разотрем Salamander!
Все встают, торжественно-внимательные, как полк на параде.
— Все готово? — спрашивает председатель.
— Все! — в один голос отвечает компания.
— Ad excitium Salamandri! — провозглашает председатель. Все стоят начеку.
— Раз!.. — Все быстрым движением трут дном стакана по столу.
— Два! — Стаканы опять шумят, описывая круг.
— Три! Bibite! («пить!») — и все, залпом осушив стаканы, подымают их высоко над головой.
— Раз!.. — продолжает председатель; пустые стаканы катятся по столу, снова описывают круг, но производя на этот раз шум вроде волны, набегающей на низкий берег и уносящей с собой тысячи мелких камешков.
— Два!.. — Волна опять набегает и замирает.
— Три!.. — Все с размаху разбивают стаканы о стол и садятся по местам.
На этих пирушках бывают и состязания: два товарища в шутку ссорятся и вызывают друг друга на дуэль. Выбирается судья, приносят две неимоверно большие кружки пива, и соперники садятся рядом. Все глаза устремлены на них; судья дает сигнал и пиво исчезает в глотках. Тот, кто первый стукнет пустой кружкой о стол — победитель.
Иностранцам, которым приходит желание посмотреть «Kneipe» следует в самом начале вечера записывать свое имя и адрес на клочке бумажки и прикалывать его к сюртуку. Немецкие студенты народ вежливый и, в каком бы состоянии они ни были сами — но приложат все старания, чтобы развести гостей по домам; тем не менее, они не могут и не обязаны помнить адрес каждого гостя.
Мне рассказывали о трех англичанах, пожелавших из любопытства принять участие в «Kneipe», причем их любознательность чуть не кончилась плачевным образом из-за недостатка догадливости. Они сообразили вовремя, что не мешает написать свои адреса на визитных карточках, для общего, сведения, и сообщили свое намерение всей компании. Намерение вызвало общее одобрение, — и бумажки были аккуратно приколоты к скатерти против каждого из трех англичан. Но в этом и заключалась ошибка: им следовало приколоть их не к скатерти, а к собственным сюртукам, так как в продолжение «Kneipe» очень легко бессознательно переменить свое место.
Ранним утром председатель предложил отправить по домам всех, кто больше не в состоянии поднять голову со стола. Среди тех, для кого пирушка уже потеряла интерес, были три англичанина. Решили посадить их на извозчика и доставить куда следует под охраной более или менее трезвого студента. Если бы иностранцы догадались сидеть всю ночь на своих местах, то дело было бы очень просто; но они беспечно разгуливали в свое время по зале, так что теперь никто не знал, которому из джентльменов принадлежит каждая из трех карточек с адресами — и еще менее знали об этом сами джентльмены. Но в ту веселую минуту такое обстоятельство казалось сущим пустяком: налицо были три гостя и три карточки, и следовательно, все обстояло благополучно. Если у любезных хозяев и мелькнула мысль о могущем выйти беспорядке, но, вероятно, им в то время казалось очень легким рассортировать джентльменов на следующий день.
Как бы ни было, их усадили в экипаж под охраной студента, захватившего все три карточки, и проводили самыми радушными пожеланиями.
Немецкое пиво имеет одно достоинство: от него человек не делается ни раздражительным, ни шумливым, и ни к кому не пристает — что считается естественным для пьяного в Англии; опьянев от пива, хочется только молчать, остаться одному и спать; все равно где — где попало.
Студент велел извозчику ехать в ближайшее из трех указанных мест. Доехав по адресу, он вытащил из экипажа самого безнадежного из всех субъектов (вполне естественно было отделаться поскорее от «тяжелого случая») — и втащил его с помощью извозчика наверх. Здесь находился указанный на визитной карточке пансион. На звонок ответил сонный лакей. Они внесли свою ношу и огляделись — куда бы сложить ее. Дверь в чью-то спальню стояла открытой. Воспользовавшись удобным обстоятельством, они внесли туда ничего не возражавшего джентльмена, положили его на кровать, сняли с него то, что легко было стащить, и ушли, очень довольные собственной добросовестностью.
Поехали дальше, по второму адресу. Здесь им отворила дверь дама в капоте, с книжкой в руках. Студент взглянул на оставшиеся у него две карточки и спросил, имеет ли он удовольствие видеть госпожу Y. Случилось так, что это действительно была миссис Y — хотя все удовольствие встречи, по-видимому, относилось исключительно к студенту. Последний сообщил, что джентльмен, спящий в настоящую минуту у порога — ее супруг. Это сообщение не привело в восторг миссис Y; она молча открыла дверь в спальню и удалилась. Студент с извозчиком внесли джентльмена и положили его на кровать; но раздевать не стали — они уже начали уставать — и, не встретив больше хозяйки дома, удалились без разговоров.
На последней карточке значился адрес гостиницы; туда свезли оставшегося субъекта и передали ночному сторожу.
Между тем, часов за восемь до развозки джентльменов по адресам, в доме мистера и миссис X. происходил следующий разговор:
— Я, кажется, говорил тебе, дорогая моя, что меня приглашали сегодня на так называемую «Kneipe»? Что-то вроде холостяцкой пирушки, где студенты собираются петь, разговаривать и... и курить. Ну, знаешь, обыкновенная вечеринка!
— А!.. Что ж, иди. Надеюсь, тебе будет весело.
Миссис X. была милая и умная женщина.
— Это должно быть интересно, — заметил мистер X. — Любопытно посмотреть: мне давно хотелось... Может быть, то есть может случиться, что... что я немного дольше задержусь там.
— А что ты называешь «дольше задержаться»?
— Видишь ли, трудно сказать в точности... Студенты народ буйный, и когда они сходятся, то вероятно... вероятно, пьется много тостов. Я не знаю, какое это произведет на меня впечатление. Если удастся, я уйду пораньше — так, чтобы никого не обидеть, конечно; ну, а если нельзя будет, то...
Я уже сказал, что миссис X. была умная женщина, она перебила мужа:
— Ты лучше попроси здесь, чтобы тебе дали второй ключ от двери, вот и все. Я лягу спать с сестрой, и тогда ты мне не помешаешь, в какое бы время ни вернулся.
— Это отличная мысль! — согласился мистер X. — Мне всегда ужасно неприятно тревожить тебя. Я тихонько войду и проскользну в спальню.
Поздно ночью — или рано утром — Долли, сестра мисис X., приподнялась на постели и прислушалась.
— Дженни! — спросила она, — ты не спишь?
— Нет, милая. А ты почему проснулась? Спи спокойно.
— Что это за шум?.. Не пожар ли!
— Нет, нет. Это Перси вернулся; вероятно он споткнулся на что-нибудь в темноте. Не беспокойся, душечка, спи.
Долли заснула; но миссис X., как хорошая жена, решила встать и пройти в спальню, чтобы посмотреть, спокойно ли уснул ее муж. Накинув халат и туфли, она тихо вышла в коридор, а оттуда открыла дверь в свою комнату. Будить мужа она не собиралась: для этого понадобилось бы целое землетрясение. Она только зажгла свечу и приблизилась к спящему.
Это не был Перси. Это был какой-то мужчина ни капельки не похожий на Перси! Она почувствовала, что этот мужчина ни в каком случае не мог бы быть ее мужем. При настоящих обстоятельствах она даже почувствовала к нему отвращение — такое отвращение, что единственным желанием было поскорее отделаться от него!
Но тут она заметила в лице спящего что-то знакомое и, всмотревшись повнимательнее, вспомнила, что это мистер Y., женатый человек, у которого она с Перси обедала в первый день после приезда в Берлин.
Но как он сюда попал?..
Она поставила свечу на стол и, сжав голову руками, начала думать. Страшная правда скоро мелькнула в ее воображении: Перси отправился на «Kneipe» вместе с мистером Y.; произошла ошибка; мистера Y. доставили сюда, а Перси в эту минуту...
Тут миссис X. бросилась обратно в комнату сестры, наскоро оделась и бесшумно сбежала вниз по лестнице. На ее счастье, проезжал мимо дома ночной извозчик; она вскочила в экипаж и велела ехать по адресу миссис Y. Там она приказала извозчику подождать, вбежала наверх и решительно позвонила.
Дверь открыла миссис Y. — все еще в капоте и с книжкой в руках.
— Миссис X.?! — воскликнула она в удивлении.— Зачем вы сюда приехали?
— За моим мужем! — Больше бедная миссис X. ничего не могла придумать в эту минуту. — Он здесь?
Миссис Y. выпрямилась в негодовании:
— Миссис X.! Как вы смеете?!.
— Ах, поймите меня, ради Бога! Это все ужасная ошибка!.. Они принесли моего бедного мужа сюда не нарочно, но все-таки принесли... Посмотрите, умоляю вас!
— Милая моя, — отвечала миссис Y. (она была гораздо старше и спокойнее). — Не волнуйтесь. Они действительно принесли сюда джентльмена полчаса тому назад, и, сказать по правде, я на него даже еще не взглянула. Он там, в спальне; они сложили его на кровать и оставили как есть: если вы успокоитесь, мы стащим его вниз и доставим к вам так тихо, что никто кроме нас двух об этом не узнает.
Очевидно, самой миссис Y. захотелось теперь помочь знакомой даме. Она открыла дверь в спальню, и миссис X. вошла в нее; но через секунду выбежала с искаженным, бледным лицом:
— Это не мой муж!.. Что мне делать?
— Очень жаль, что вы впадаете в подобные заблуждения,— холодно проговорила миссис Y., направляясь в спальню.
— Да, но это и не ваш муж! — остановила ее миссис X.
— Вот глупости!..
— Нет, не глупости! Я знаю наверное, потому что только что оставила вашего мужа в моей квартире: он спит на кровати Перси.
— Как!.. Что он там делает?!
— Ничего не делает... Они его принесли и сложили! Я оттого и подумала, что Перси попал к вам!..
Обе женщины замолчали и глядели друг на друга. По другую сторону полуотворенной двери раздавался только храп спящего джентльмена.
— Так кто же здесь лежит? — первая спросила миссис Y.
— Я не знаю! Я его никогда не видела. Не знаете ли вы, кто это такой?
Миссис Y. только с шумом захлопнула дверь.
— Что же нам делать? — спросила миссис X.
— Я знаю, что мне делать: я еду к вам за моим мужем.
— Он очень сонный... — заметила миссис X.
— Ничего, не в первый раз он сонный, — отвечала миссис Y., застегивая пальто.
— Но где же Перси?!. — рыдала бедная маленькая миссис X., когда они вдвоем спускались по лестнице.
— Об этом уж вы, моя милая, узнаете от него самого.
— Если они так ошибаются, то могли сделать с ним Бог знает что!..
— Утром мы все узнаем, душечка. Не беспокойтесь.
— Ну, теперь я вижу, что «Kneipe» — ужасная вещь! Больше я никогда в жизни не пущу Перси на эти «Kneipe»!
— Дорогая моя,— заметила наставительно миссис Y. — Если вы будете исполнять ваш долг, то он никогда и не захочет уходить из дома.
И говорят, Перси больше никогда не уходил.
Но я все-таки думаю, что вся ошибка заключалась в прикалывании билетиков к скатерти. А ошибки в нашем мире жестоко наказываются.
ГЛАВА XIV
Несколько серьезных мыслей на прощанье. Немец с англо-саксонской точки зрения. Городовой. Инстинкт командования и подчинения. Купец. Новая женщина. Единственный упрек, который можно сделать немцам. «Виттеl» окончен.
— Всякий мог бы управлять этой страной, — заметил Джорж.
Мы сидели в саду гостиницы “Кайзер", в Бонне, глядя с высоты на Рейн. Это был последний вечер нашего бродяжничества; мы закончили предпринятый «Bummel», и на следующее утро предстояло «начало конца»: с ранним поездом мы отправлялись в обратный путь.
— Даже я мог бы управлять этой страной, — продолжал Джорж. — Я написал бы на листке бумаги все, что люди обязаны делать, велел бы это напечатать в хорошей типографии и приказал бы развесить по городам и деревням; вот и все.
В современном тихом и обстоятельном немце, находящем полное удовлетворение в том, что он платит подати и исполняет приказания тех, кто волей судьбы поставлен властвовать над ним — действительно трудно проследить черты его диких предков, для которых свобода была воздухом жизнью, условием существования; которые избирали вождей — но только для совета, а народ оставлял за собой право исполнять или не исполнять предписания, относясь презрительно к беспрекословному подчинению. В настоящее время в Германии много толкуют о социализме; но это социализм, который при других условиях быстро стал бы деспотизмом. Свобода воли и личности не искушает немца: он любит, чтобы им управляли: а недовольные — недовольны только формой проявления власти, но не самым ее существованием над ними.
Полицейский для немца — брамин. В Англии мы считаем городовых безобидной необходимостью; они служат у нас в качестве верстовых столбов, а в центре города оказывают помощь почтенным дамам, которые не могут сами перейти через улицу; кроме благодарности за эти услуги, мы не питаем к ним никаких особенных чувств. Но в Германии городовой вызывает благоговение и восторг. Для немецкого ребенка городовой — добрый волшебник: он устраивает площадки для игр, с песком, качелями и гигантскими шагами, интересные базары и бассейны для купанья; он же наказывает за шалости. Немецкое дитя стремится понравиться городовому: если он улыбнется — оно счастливо; жить в одном доме с ребенком, которого городовой погладил по голове — невыносимо, до такой степени он важничает.
Здесь каждый гражданин чувствует себя солдатом, а городовых признает офицерами. Городовой указывает ему, куда идти, и с какой скоростью, и как переходить мосты; если бы у мостов не было полиции, немец готов был бы сесть на землю и ждать, пока протечет река. На железнодорожных станциях его запирают в комнату, где он может умереть, и в надлежащее время передают кондуктору поезда — тоже, в своем роде, городовому: он усаживает немца на определенное место, довозит куда следует и там выпроваживает.
В Германии незачем о себе беспокоиться: все делается для нас и делается хорошо. Никто от вас не требует, чтобы вы за собой смотрели: никто не считает странным, если вы этого не умеете: смотреть за вами должен полицейский. Если вы беспомощный идиот и попадаете в какую-нибудь историю — то виноват он, а не вы. Где бы вы ни были и что бы вы ни делали, он заботится о вас, — заботится добросовестно и безупречно. Если вы что-нибудь потеряете — он найдет; если вы сами себя потеряете — он вас водворит куда следует; если вы не знаете, чего вам хочется — он вам объяснит; если вам хочется чего-нибудь полезного и хорошего — он достанет.
Частные поверенные в Германии не нужны: если вы хотите продать дом, или купить поле, государство похлопочет для вас. Если вас надули, государство начнет расследование дела. Государство вас страхует, женит и немножко развлекает азартными играми.
— Пожалуйста, вы только родитесь на свет Божий! — говорит немецкое начальство гражданину, — а мы сделаем все остальное. Дома и вне дома, в болезни и добром, здоровье, в труде и в удовольствии, всегда вам будет сказано что надо делать, — уж мы посмотрим, чтобы вы действительно сделали то, что надо. Ни о чем, пожалуйста, не беспокойтесь.
И немец не беспокоится. Если поблизости нет городового, он ходит, пока не увидит объявления: тогда прочтет его и делает то, что сказано.
Я помню, в каком-то немецком городе мне случилось проходить мимо парка, в котором играла музыка; в него вели двое ворот: у одних продавались билеты, а другие — за четверть мили от первых — стояли широко открытыми; здесь не было ни сторожа, ни городового, и каждый желающий мог бы свободно войти в парк и слушать музыку. Но никто не подумал войти в эти ворота: все под палящим зноем ползли к главному входу, где стоял человек и собирал входную плату,
Я видел тоже, как несколько мальчуганов стояли в томлении перед замерзшим прудом; место было одинокое, вокруг ни души, и они могли бы кататься на коньках часа три подряд — никто бы их не заметил; народ был далеко, за полмили, на другом конце пруда, да еще за поворотом, но мальчишки так и простояли, томясь желанием, но не сходя на лед только потому, что это запрещено.
Такие факты невольно наводят на сомнения: одной ли породы тевтоны с грешным родом людским? Может быть, это добрые духи, слетевшие на землю только для того, чтобы выпить стакан пива — которое, как им должно быть известно, можно пить только в Германии.
Здесь дороги из деревни в деревню обсажены фруктовыми деревьями: никто, кроме совести, не препятствует пользоваться ими. В Англии такое обстоятельство возбудило бы страшное волнение: дети умирали бы сотнями от холеры, доктора сбились бы с ног в борьбе с последствиями от зеленых яблок и неспелых орехов, и публика пришла бы в негодование, требуя, чтобы землевладельцам запретили устраивать вместо заборов и каменных стен живые изгороди из фруктовых деревьев — за счет детских желудков.
Для англо-саксонского ума представляется потерей времени проходить мимо целых стен фруктовых деревьев и не трогать их; по нашему мнению, смотреть хладнокровно на ветви, склоненные под тяжестью зрелых плодов, было бы насмешкой над дарами природы. А в Германии мальчик пойдет по такой дороге за несколько миль, в соседнюю деревню, чтобы купить там на пять пфеннигов груш.
Мне кажется, что приговоренному к смертной казни немцу можно было бы просто дать веревку и печатные правила: он отправился бы домой, прочел бы их внимательно и повесился бы у себя на заднем дворе, согласно всем пунктам. Я не удивился бы, услышав о таком случае.
Немцы хороший, добрый народ; может быть, самый лучший на свете. Наверное, в раю их гораздо больше, чем представителей других наций. Я только не могу понять, каким образом они туда попадают: невероятно, чтобы душа каждого отдельного немца самостоятельно влетала на небо; мне кажется, что их собирают партиями — и отправляют каждую партию под охраной умершего городового.
Карлейль по справедливости признал за пруссаками (и это относится ко всем германцам) одну великую добродетель: способность к выправке. Научите его работать и отправьте в Африку или Азию под начальством кого-нибудь носящего форму — и он будет делать что угодно, встретит хоть самого черта, если прикажут. Но сделать из него пионера очень трудно; предоставленный собственной сообразительности, он скоро погибнет: не от глупости, а оттого, что над ним нет начальства, которому можно слепо доверить себя самого. Немец так долго был ландскнехтом всех государств, что солдатчина вошла в его плоть и кровь. Он даже иногда страдает от ее избытка; мне рассказывали об одном лакее, незадолго перед этим окончившем военную службу: хозяин послал его с письмом в один дом и велел ждать ответа. Час проходил за часом, а человек не возвращался. Отправившись лично, хозяин застал его все еще в том доме, куда послал, хотя с ответным письмо в руке: он ожидал дальнейших приказаний.
Удивительнее всего то, что каждый человек, бывший сам по себе беспомощным существом, становится у них энергичным, сообразительным, находчивым — лишь только на него наденут форму и сделают начальником над другими. За других он готов отвечать, охранять их, управлять ими; он не умеет только управлять сам собой. Немец или повинуется, или командует. Остается одно: обучать их всех командовать — и затем отдавать каждого под его собственное начальство: тогда он будет отдавать сам себе разумные, смелые приказания и следить, чтобы они были исполнены.
У них один девиз: долг; а понятие о долге сводится, кажется, к следующему: «слепое повиновение каждому, кто носит блестящие пуговицы». Эта идея диаметрально противоположна той, на которой построено процветание англо-саксов; но так как и тевтонская раса тоже процветает — значит, в обеих системах есть истина. До сих пор Германии везло относительно правителей: тяжелое время настанет для нее тогда, когда испортится главная машина; но, может быть, вышеизложенный характер народа постоянно вырабатывает хороших правителей; это вполне вероятно.
В сфере торговли немец, мне кажется, всегда останется позади англо-саксов — если только его характер не переменится: теперь он слишком добродетелен для купца. Жизнь для него не представляет погони за богатством, он придает ей больше смысла; среди дня он запирает лавочку (даже банк и почтовую контору) на два часа и отправляется домой — пообедать в недрах семейства и вздремнуть за десертом. Такой народ не может соперничать с тем, который на пять минут отрывается от работы, чтобы позавтракать, стоя у прилавка, и спит с телефоном под кроватью.
В Германии не делается такого огромного различия между классами населения, чтобы ради положения в обществе стоило бороться не на живот, а на смерть. Правда, круг аристократов-землевладельцев держится у них как за неприступной стеной, но вне этого замкнутого царства положением не гордятся и не смущаются. Жена профессора и жена мастера со свечной фабрики каждую неделю встречаются в излюбленной кофейне и дружно обсуждают местные скандальные новости; доктора не брезгают обществом трактирщиков, с которыми выпивают не одну кружку пива; богатый инженер, собираясь с семьей на пикник, приглашает принять в нем участие своего управляющего и портного: те являются с чадами и домочадцами, со своей долей бутербродов и питья, и все отправляются вместе, а на обратном пути поют хором песни. При таком положении вещей незачем тратить лучшие годы жизни на то, чтобы приготовить себе достойную обстановку для старческого слабоумия. Вкусы и стремления немца — и даже его жены — остаются до конца дней нетребовательными. Они любят видеть в своем доме побольше красного плюща, позолоты и лакировки; но этим его понятия о роскоши удовлетворяются вполне; и может быть, это не хуже стиля Людовика XV в смеси с ложным стилем времен Елизаветы, электрическим освещением и массой фотографий... Иногда немец наймет художника и прикажет ему изобразить на главном фасаде своего дома кровопролитную битву (которой всегда мешает входная дверь), а в спальне над окнами парящего в воздухе Бисмарка. Но для того, чтобы полюбоваться хорошими мастерами, он идет в общественные картинные галереи и не разоряется на редкости даже тогда, если имеет деньги, так как в Германии еще не развилась страсть лезть в знаменитости, и пока нет обычая осаждать «знаменитостей» в их домашней обстановке, чтобы затем описывать все в газетах.
Немец любит покушать. В Англии встречаются фермеры, которые, жалуясь на разоряющее хозяйство, с успехом едят по семи раз в день; в России в продолжение одной недели в году бывает пиршество, которое не обходится без смертных случаев от объедения блинами; но это — исключение, имеющее в основе религиозный обычай. В Германии же развилось особенное уменье есть, «из любви к искусству», которого нет ни в одном другом государстве. Немец, только что встав, выпивает за одеванием несколько чаiек кофе с полдюжиной горячих булочек с маслом; но этого он не считает и в десять часов садится в первый раз к столу; в половине второго садится обедать — очень основательно: обед считается главной едой в продолжение дня, и он предается ему как важному делу часа два подряд; в четыре часа он отправляется в кофейню и полчасика занимается там уничтожением кофе и сладких пирожков. Затем целых три часа он не трогает ничего и только с семи начинает закусывать — и уже закусывает целый вечер: бутылку пива с бутербродами, потом где-нибудь в театре еще бутылку пива с холодным мясом и колбасами, потом еще бутылочку белого вина и яичницу, и наконец, перед самым сном — кусочек хлеба с колбасой и, для промывки, еще немного пива.
Но он не лакомка: французские повара и французские цены в немецких ресторанах не прививаются. Немец предпочитает пиво и свое местное белое вино самому дорогому шампанскому и красным французским винам. И хорошо делает, что предпочитает: когда француз-виноторговец отправляет бутылку в немецкую гостиницу, он вероятно, вспоминает Седан и злорадно улыбается; впрочем, его бутылки требуются по большей части невинными путешественниками-англичанами!.. Но, пожалуй, он и в этом случае имеет право улыбнуться и поставить свою бутылочку в счет за Ватерлоо.
В Германии никто не требует изысканных, дорогих развлечений, и никто их не устраивает; здесь все уютно и по-домашнему. Немцу не надо делать членских взносов по части разного спорта, он не поддерживает никаких общественных увеселительных учреждений, у него нет гордых знакомых богачей, для которых нужно нарядно одеваться. Его главное удовольствие— кресло в опере — стоит несколько марок; туда его жена и дочери ходят в платьях домашнего производства, накинув на голову платочки. В сущности, на этой безусловной простоте, царящей во всей стране, отдыхает глаз путешественника-англичанина. У немцев своих лошадей и экипажей очень мало; даже извозчиками мало пользуются — лишь тогда, когда нельзя сесть в электрический трамвай.
Такими способами немцы удерживают свою независимость. Здесь купцу незачем ухаживать за покупателями. Я как-то сопутствовал в Мюнхен одной барышне-англичанке в ее экскурсии по магазинам. Она привыкла к таким экскурсиям в Лондоне и Нью-Йорке и ворчала на все, что ей показывали; не потому, что ей ничего не нравилось, а потому, что у нее был такой обычай. Она считала полезным и для дела и для купца уверять, что все это она может купить в другом месте гораздо лучше и дешевле, что в его магазине вещи совершенно безвкусные, старомодные; что не из чего выбирать, что все вульгарное и не будет хорошо носиться.
Купец не спорил и не противоречил. Он спокойно уложил весь вынутый товар в представительные картонки, поставил их на представительные полки, вышел в маленькую гостиную за магазином и запер дверь.
— Что же это он не возвращается! — заметила барышня после того, как мы несколько минут просидели в ожидании. Ее тон выражал большое нетерпение, но ни вопроса, ни недоверия в нем не было.
— Я не думаю, чтобы он возвратился, — отвечал я.
— Почему? — спросила она в большом удивлении.
— Мне кажется, вы ему надоели. По всей вероятности, он сидит теперь за этими дверями с газетой и трубкой в зубах.
— Вот чудак! Я таких купцов никогда не видала!— воскликнула с негодованием моя знакомая, собирая свои пакеты и выходя из лавки.
— У них такой обычай: если вам вещи нравятся — покупайте, а если не нравятся, то они предпочитают не заниматься лишним разговором.
В другой раз я слышал в курительной комнате немецкой гостиницы рассказ англичанина, который я, на его месте, оставил бы про себя.
— Нечего и стараться, — трещал маленький англичанин, — сконфузить немца! Да они и дела не понимают. Вот здесь, на площади, я увидел в окне старинное издание «Разбойников»; вхожу и спрашиваю цену. За конторкой сидит с газетой какой-то несимпатичный старикашка.
— Двадцать пять марок, — говорит; и продолжает читать.
Я ему говорю, что видел несколько дней тому назад лучший экземпляр и всего за двадцать марок. (Известное дело, ведь всегда так разговаривают, когда покупают). А он спрашивает:
— Где?
— В Лейпциге, — говорю.
Тоща он, представьте себе, спокойно советует мне ехать в Лейпциг и купить там книжку! Ну, я, конечно, не обращаю внимания и спрашиваю, за сколько он уступит свой экземпляр.
— Я уже вам сказал, — говорит, — за двадцать пять марок. (Удивительно несимпатичный человек!).
— За это не стоит платить таких денег, — говорю я.
— А разве я сказал вам, что стоит? — Так и брякнул, представьте себе!
— Десять марок хотите?..
Тут он встал. Я думал, он выходит из-за прилавка, чтобы достать книгу, а он, оказывается, прямо подошел ко мне (огромный мужчина!), поднял меня за плечи и выставил на улицу!.. И ничего не сказал, только дверь захлопнул. Я никогда в жизни не был так поражен.
— Может быть, книжка стоила двадцать пять марок?— заметил я.
— Конечно стоила! Очень даже стоила! — отвечал маленький англичанин. — Но что же это за понятие о торговле?!
Если немецкий характер когда-нибудь переменится, то только благодаря немецкой женщине. Сама она быстро изменяется — как говорится, идет вперед. Десять лет тому назад ни одна немка, которой была дорога добрая слава и надежда выйти замуж, не посмела бы сесть на велосипед; теперь же они разъезжают по стране тысячами; старики, при виде их, качают головами, но молодые люди догоняют на своих велосипедах и едут рядом. Еще недавно катанье на коньках признавалось достаточно женственным только в том случае, если девушка беспомощно висела на руке своего родственника мужского пола; теперь же она самостоятельно выписывает восьмерки в углу пруда целыми часами, пока не придет на помощь какой-нибудь юноша. Она и в лаун-теннис теперь играет, и я даже наблюдал однажды — с безопасной точки зрения — как девушка правила лошадьми в двухколесном экипаже.
Она всегда хорошо образована; в восемнадцать лет она владеет двумя или тремя языками и уже забыла больше, чем английская женщина когда-либо знала. Тем не менее, образование немкам в прок не идет: выйдя замуж, она спешит освободить ум от лишнего балласта и предается кухне, где собственноручно изготовляет плохие кушанья.
Но предположим, ее осенит догадка, что женщине незачем посвящать себя всецело кухне, как мужчине незачем превращаться в деловую машину; предположим, что она захочет принять участие в общественной жизни своей страны!.. О, тогда ее влияние, как здорового и разумного друга, будет огромно и прочно.
Ведь надо помнить, что немец сентиментален и легко поддается женскому влиянию. Если говорится, что он самый лучший жених и самый скверный муж — то в этом виновата немецкая женщина: выйдя замуж, она не только забывает свою поэзию и романическую обстановку, но выгоняет их из дома щеткой и метелкой. Даже девушкой она не умела одеваться, а замужем немедленно забросит последние остатки порядочных костюмов и начнет заворачиваться во что попало,— по крайней мере такое получается впечатление. Она начинает ненавидеть свою фигуру, которая чуть не осталась фигурой Юноны, и свой цвет лица здорового амура — и начинает сознательно портить то и другое. Поклонение своей красоте она спешит продать за ежедневную порцию сладостей: каждый раз после обеда она отправляется в кофейню и набивает себя сладкими пирогами с кремом, запивая их обильным количеством шоколада. Конечно, в короткий промежуток времени она становится жирной, рыхлой, неповоротливой и положительно неинтересной. Когда она поборет в себе эту слабость и наклонность к вечерней порции пива, когда постарается сохранить с помощью физических упражнений свою фигуру и перестанет забрасывать после замужества все книжки, кроме поваренной — тогда страна найдет в ней новую неведомую силу. И, по-видимому, эта сила начинает уже проявляться в разных местах государства.
Интересно было бы видеть, что тогда произойдет; потому что немецкая нация все еще молода, и ее сила имеет значение для нашего мира; они народ добрый, хороший, который мог бы принести другим пользу; одно можно против них сказать — что они считают себя лучше всех; и это глупо. Они настолько увлекаются, что ставят себя выше англо-саксов: это так трудно понять, что можно объяснить только притворством.
— Конечно, у немцев есть достоинства, — заметил Джорж, — но немецкий табак я считаю смертным грехом всей нации. Я иду спать.
Мы встали и облокотились на низкую каменную ограду, следя за меркнущими огоньками на тихой, темной реке.
В общем, наш «Bummel» удался, — сказал Гаррис. — Мне уже хочется домой, но в то же время жаль, что все кончено... Не знаю, понимаете ли вы это чувство.
— А как ты объяснишь немецкое слово: Bummel? — спросил Джорж.
— Я задумался на минуту, прислушиваясь к неумолчному говору бегущей воды.
— Мне кажется, его можно объяснить так, — сказал я. — Бесцельный путь — длинный ли, короткий ли, определяемый только известным периодом времени, после которого мы должны вернуться туда, откуда вышли... Иногда этот путь лежит по шумным улицам, иногда по полям и мирным дорожкам; иногда нам дается на него несколько часов, а иногда — долгое время; но где бы он ни пролегал и сколько бы ни продолжался— наша мысль вьется по нему, как струйки сыпучего песка... Мимоходом мы улыбаемся и киваем головой своим спутникам; возле некоторых останавливаемся поговорить, с другими — проходим вместе несколько шагов... Встречаем много привлекательного по пути, хотя часто устаем немного... Но в общем, путь пройден с интересом, и нам становится жаль, когда «все кончено»!..



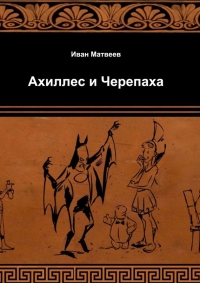
Комментарии к книге «Трое на четырех колесах», Джером Клапка Джером
Всего 0 комментариев