Марк Твен 14 из Sketches New and Old
Марк Твен. Простаки дома. Простаки за границей. — СПб.: Логос, 1998. — Серия: Марк Твен. Собрание сочинений (Библиотека П. П. Сойкина). — С. 689-808. (в издании переводы М. А. Энгельгардта 1911 г. незначительно отредактированы)
Из указанной книги выбраны 14 рассказов и эссе, которые до 1998 г. не переиздавались.
Желают получить сведения
Вашингтон, 10 декабря 1867 г.
Могу я получить сведения относительно островов, которые правительство намеревается купить?
Это мой дядя желает получить сведения. Он человек трудолюбивый и благонамеренный, желает зарабатывать свой хлеб честно и скромно, а главное, желает жить спокойно. Ему бы хотелось основаться где-нибудь и проводить свои дни в покое и тишине. Он пробовал поселиться на новом острове Святого Фомы, но говорит, что там еще ничего не устроено. Он приехал с attaché министерства иностранных дел, командированного с деньгами, чтобы уплатить за остров. Дядя положил свои деньги в тот же сундук, и, когда они вышли на берег, желая получить квитанцию, матросы взломали сундук и взяли все деньги, не делая никакого различия между казенными деньгами, которые они были вправе украсть, и дядиными, которые им следовало уважить, как частную собственность. Но он съездил домой и привез еще денег. Затем он схватил лихорадку. Там, знаете, семь сортов лихорадки, и так как его кровь была не в порядке, вследствие бессонницы и душевной тревоги, то прежде чем он вылечился от первой, к нему привязались и остальные шесть. Он не из тех людей, которые питают расположение к лихорадкам, хотя вообще человек благожелательный и всегда старается поступать по справедливости. Поэтому он был очень недоволен, когда убедился, что ему, по-видимому, Не миновать смерти.
Однако он уцелел и поправился, и начал строить ферму. Он окружил ее забором, но на другой день море разбушевалось и смыло большую часть постройки и унесло ее в Гибралтар или куда-то по соседству Дядя заметил только, со своей терпеливой манерой что постройка была смыта, и что он не хочет затруднять себя поисками, хотя думает, что ее унесло в Гибралтар. Тогда он купил участок на горе и построил здесь ферму, чтобы остаться в стороне, если море еще раз вздумает выйти на берег. Гора была хорошая, и ферма была хорошая, но это ни к чему не привело; в следующую ночь случилось землетрясение и все рассыпалось. Остались, знаете, только обломки и так перепутались с имением соседа, что невозможно было решить без судебного разбирательства, кому какой обломок принадлежит; а обращаться к суду он не хотел, так как для того, главным образом, и уехать на остров Святого Фомы, чтобы жить спокойно. Все, чего он хотел, это устроиться и жить спокойно.
Обдумав все снова, он решил еще раз попытать счастья на низменности, тем более, что ему вздумалось на этот раз устроить кирпичный завод. Он купил участок и заготовил сто тысяч кирпичей, намереваясь просушить их, а затем обжечь. Но счастье, по-видимому, было решительно против него. В ту же ночь, в этом самом месте, поднялся вулкан и поднял его кирпичный завод на две тысячи футов в высоту. Это его порядком рассердило. Он побывал наверху и убедился, что кирпичи обожжены довольно хорошо, но что ему не по силам свезти их вниз. Сначала он думал было, что правительство свезет за него кирпичи, так как, раз правительство купило остров, оно обязано охранять собственность человека, который приобрел ее, доверяя ему; но так как его главным желанием было жить спокойно, то он не стал хлопотать о субсидии, о которой одно время подумывал.
Он вернулся туда на прошлой неделе с двумя военными кораблями, желая объехать вокруг острова и высмотреть безопасное местечко, где можно построить ферму и жить спокойно; но сильная приливная волна загнала оба корабля внутрь острова, и сам он чуть не погиб при этом. После этого он отказался от обхода на корабле и упал духом. Теперь он не знает, что ему предпринять. Он пробовал устроиться на Аляске, но медведи до того приставали к нему и до того надоедали ему, что он должен был уехать оттуда. Он не мог чувствовать себя спокойно среди медведей, ходивших за ним по пятам. Тогда-то он и решил поселиться на новом острове, который мы купили, — острове Святого Фомы. Но он начинает думать, что остров Святого Фомы недостаточно спокойное место для человека с его наклонностями; и вот почему он желает знать, не намерено ли правительство в ближайшем будущем купить еще какие-нибудь острова. Он слыхал, будто правительство собирается купить Пуэрто-Рико для такого человека, как он. Правда ли, что правительство намерено купить его?
Рили — газетный корреспондент
Один из лучших людей в Вашингтоне — да и где угодно — Рили, корреспондент большой ежедневной газеты в Сан-Франциско.
Рили полон юмора и обладает жилкой убийственной иронии, так что разговор его в высшей степени занимателен (когда касается посторонних лиц). Однако, несмотря на наличие таких качеств, обладатель которых мог бы, по-видимому, писать блестящие и увлекательные статьи, корреспонденции Рили часто отличаются какой-то сверхъестественной торжественностью тона и вместе с тем самой педантической приверженностью к сухим фактам, что удивляет и огорчает всех, знающих его лично. Он объясняет это курьезное обстоятельство тем, что, отправляя его в Вашингтон, редакция поручила ему сообщать в газету факты, а не фантазировать, и было уже несколько случаев, когда он едва не лишился места за юмористические замечания, которых редакция не ожидала в его корреспонденциях, а потому и не понимала. Они принимались за темные и кровавые указания и предостережения обществам тайных убийц, вымарывались с молитвой и трепетом и бросались в печь. По словам Рили, желание написать блестящую и занимательную статью овладевает им порою с такой силой, что он не в состоянии с ним совладать; тогда он забирается в свое логовище и с упоением строчит без всякого стеснения; а потом, испытывая муки, понятные только матери, уничтожает милые детища своей фантазии и стряпает сухую статью требуемого образца. Я не раз видал Рили в таком положении и знаю, о чем он говорит. Сколько раз я смеялся вместе с ним удачному замечанию, а потом с грустью видел, как он перечеркивает его. Он говорил при этом: „Я должен был написать, иначе умер бы; а теперь должен вычеркнуть, иначе подохну с голоду. Они не потерпят этого, понимаете".
Я считаю Рили самым интересным собеседником, какого я когда-либо знал. Мы жили с ним в Вашингтоне зимой 1867—68 гг., переселяясь с места на место и обращая на себя внимание тем, что платили за квартиру, — поведение, которое всегда делает заметным человека в Вашингтоне. Рили рассказывал о своем путешествии в дни ранней юности в Калифорнию через Перешеек и по реке Сан-Джоан; и о своих похождениях в том краю: как он пек хлеб в Сан-Франциско, чтобы не умереть с голоду, продавал булавки, адвокатствовал, открывал устрицы, читал лекции, преподавал французский язык, держал кабак, был газетным репортером, устроил танцкласс, служил переводчиком с китайского языка в судах — эта последняя профессия оказалась очень доходной, так что Рили зарабатывал недурно и начал было откладывать, когда пришлось от нее отказаться, так как его переводы были признаны чересчур „вольными" — обстоятельство, которое, по мнению Рили, ему никак нельзя было ставить в вину, раз он не знал ни слова по-китайски и переводил только для того, чтобы честно заработать кусок хлеба. Интриги врагов привели к тому, что он был лишен места официального переводчика и заменен другим лицом, говорившим по-китайски, но не знавшим ни слова по-английски. Рассказывал Рили и о газете, издававшейся в области, которая теперь называется Аляской, тогда же представляла сплошной ледник, населенный медведями, моржами, индейцами и другими животными; и как этот ледник съехал наконец в море и уплыл, оставив на берегу всех платных подписчиков; когда же он оказался за пределами, до которых простирается юрисдикция России, народ восстал, отказался от присяги и перешел под английский флаг, рассчитывая зацепиться за берег и стать английской колонией, так как они плыли вдоль британских владений; но ветер с материка и извилистое течение унесли их оттуда, после чего они перешли под звездное знамя и направились к Калифорнии снова промахнулись и приняли мексиканское подданство, но опять-таки ни к чему; им не удалось пристать, и северо-восточные пассаты занесли их к Сандвичевым островам, где они перешли под каннибальский флаг и отпраздновали это роскошным пиром, на котором подавали людей, зажаренных целиком, причем было замечено, что чем сильнее человек любит своего друга, тем с большим аппетитом его ест; и когда они очутились под тропиками, вода так страшно нагрелась, что ледяная гора начала таять и сделалась до того скользкой, что дамы едва могли держаться на ней; когда же они находились уже в виду островов, грустный остаток некогда величественного ледника покачнулся сначала в одну сторону, потом в другую, а затем пошел ко дну, со всеми государственными архивами, и не только с архивами и с населением, но и с несколькими участками городской земли, которая повышалась в цене по мере того, как уменьшалась в объеме под тропиками, так что Рил и рассчитывал продать ее по тридцать центов фунт и сделаться богатым человеком, если бы ему удалось задержать провинцию еще на десять часов на поверхности моря и ввести ее в гавань.
Рили человек очень методичный, чрезвычайно сговорчивый, никогда не забывает о том, что нужно сделать, хороший сын, верный друг и постоянный, благонадежный враг. Он готов взять на себя какой угодно труд, лишь бы оказать услугу человеку, и потому у него всегда полные руки хлопот о беспомощных и беззащитных. Он к тому же на все руки мастер. Это человек, природное благодушие которого — неиссякающий родник. Он всегда готов помочь всем чем может всякому, кто нуждается в помощи, — и не только деньгами, так как это дешевая и ординарная благотворительность, но и руками и головой, подвергаясь усталости и жертвуя временем. Такие люди редки.
Рили обладает быстрым соображением, способностью живо и кстати подбирать цитаты и сохранять торжественное и мрачное, как задняя сторона надгробного памятника, выражение лица, когда отпускает особенно забавную шутку. Однажды в соседнем доме сгорела живьем негритянка. Рили сказал, что наша хозяйка будет за завтраком в растрепанных чувствах, так как, обладая слезливым характером, она не могла спокойно переносить подобные происшествия; и что самое лучшее с нашей стороны предоставить ей говорить одной и не подавать реплик — это единственный способ получить подливку, не разбавленную слезами. Рили прибавил, что всякий раз, когда по соседству случались похороны, подливка оказывалась водянистой в течение целой недели.
И точно, хозяйка явилась к завтраку в последнем градусе огорчения — совершенно раскисшая. На что бы она ни взглянула, все напоминало ей о бедной старухе негритянке, так что гречневые пирожки заставили ее всхлипывать, кофе — стонать, когда же появился бифштекс, она испустила такой вопль, что у нас волосы встали дыбом. Затем она принялась рассказывать о покойной, сопровождая это таким упорным ливнем, что мы оба промокли до нитки. В заключение перевела дух и сказала, всхлипывая:
— Ах, подумать, только подумать об этом! Бедное, старое, верное создание! Она была такая верная! Поверите ли, прослужила в одной и той же семье двадцать семь лет — и ни разу слова поперек не молвила, ни одной колотушки не получила! И такая ужасная смерть — сидела у раскаленной плиты в три часа утра, заснула, свалилась на плиту и буквально сжарилась! Не то, чтобы чуть-чуть подгорела, нет, буквально сжарилась, как жаркое! Бедное верное создание, как она спеклась! Я бедная женщина, но хотя бы мне пришлось истратить последний грош, я поставила бы памятник на могиле этой мученицы, и — мистер Рили, не будете ли вы так добры сочинить маленькую эпитафию, в которой было бы указано на ужасную смерть, доставшуюся ей на долю.
— Напишите: „Хорошо зажарено, добрая и верная слуга", — сказал Рили и не улыбнулся.
Статья мистера Блока
Наш уважаемый друг, мистер Джон Вильям Блок из Виргиния-Сити, зашел в редакцию, где мы исполняем обязанности помощника редактора, поздно ночью, с выражением глубокой и сокрушительной скорби на лице и тяжело вздыхая, осторожно положил на конторку напечатанную ниже статью, а затем поплелся вон. В дверях он приостановился, видимо пытаясь овладеть своими чувствами, чтоб говорить, а затем кивнул головой на рукопись, пробормотал прерывающимся голосом: „Один из моих друзей — о, какая жалость!" и залился слезами. Мы были так тронуты его горем, что не успели позвать его и попытаться утешить, как он уже исчез за дверьми. Газета уже была отправлена в печать, но зная, что наш друг придает важное значение публикации своей статьи, и питая надежду, что появление ее в печати доставит скорбное удовлетворение его сокрушенному сердцу, мы остановили печатание и поместили на наших столбцах:
Печальный инцидент
Вчера вечером, около шести часов, когда мистер Вильям Шуйлер, старый и почтенный гражданин Соутпарка, вышел из дома, чтобы отправиться в город, как он это обыкновенно делал в течение многих лет, за исключением только короткого промежутка весной 1850 года, когда он слег в постель из-за повреждений, полученных при попытке остановить закусившую удила лошадь, неосторожно став в ее кильватере, размахивая руками и крича, что, будь оно сделано минутою раньше, непременно должно бы было еще больше напугать животное, вместо того, чтобы задержать его бег, хотя и без того достаточно опасный для него самого и еще более печальный и прискорбный вследствие присутствия матери его жены, которая была здесь и видела это печальное происшествие, несмотря на то, что имелось, по крайней мере, основание, хотя и не было необходимости, чтобы она оказалась в другом месте, а не там, где оно случилось, так как вообще она отнюдь не отличалась подвижностью и не была всегда настороже, а совсем напротив, как утверждала, по слухам, ее мать, которой уже нет в живых, ввиду того, что она скончалась в полной надежде на радостное воскресение три с лишним года тому назад, как истинная христианка, без всякого лукавства или собственности, вследствие пожара 1849 года, уничтожившего все ее имущество дотла. Но такова жизнь. Пусть это мрачное происшествие послужит предостережением для нас всех и заставит нас попытаться вести себя так, чтобы, когда нам придется умирать, мы могли это сделать. Положим руку на сердце и поклянемся торжественно и искренне, что с этого дня мы будем воздерживаться от отравленного кубка. Первое издание „Калифорнийца".
Главный редактор явился и поднял гвалт, рвал на себе волосы, стучал кулаком по столу и обошелся со мной, как с мазуриком. Он сказал, что стоит ему поручить мне газету на полчаса, и меня непременно одурачит первый попавшийся мальчишка или первый попавшийся идиот. И он прибавил, что плачевная статья мистера Блока попросту образчик плачевной ерунды, что в ней нет точек, что в ней нет смысла, что в ней нет фактов и что не было никакой надобности помещать ее.
И все это результат моего добродушия. Будь я несговорчив и неотзывчив, как некоторые люди, я сказал бы мистеру Блоку, что не могу принять его сообщения в такой поздний час; но нет, его слезливая скорбь тронула мое сердце, и я обрадовался случаю сделать что-нибудь для облегчения его грусти. Я даже не прочел его статью, чтобы убедиться, что в ней нет ничего неладного, а только набросал наскоро несколько вступительных строк и послал в набор. И что же принесла мне моя деликатность?
Ничего, кроме целой бури оскорблений и самой художественной ругани.
Я сам прочту статью и посмотрю, дает ли она основание для всего этого шума. Если дает, то мы еще потолкуем с автором.
Я прочел статью и вынужден согласиться, что с первого раза она кажется немножко сбивчивой. Как бы то ни было, я прочту ее еще раз.
* * *
Я перечел ее вторично, и она показалась мне еще более сбивчивой, чем в первый раз.
* * *
Я перечел ее пять раз и, провалиться мне на месте, если я понимаю ее смысл. Она не выдерживает никакого анализа. В ней есть вещи, которых я совершенно не понимаю. Я не знаю, что же случилось с Вильямом Шуйлером. Он говорит о нем достаточно, чтобы заинтересовать читателя его участью, а затем бросает его. Кто такой Вильям Шуйлер, и в какой части Соутпарка он живет, и если он пошел в город в шесть часов, то пришел ли он туда, и если пришел, то случилось ли с ним что-нибудь? Он ли тот субъект, с которым случился „печальный инцидент"? Имея в виду чрезвычайную обстоятельность изложения, можно ожидать, что статья содержит больше сведений, чем я понял. На деле же она темна — не только темна, но совершенно непонятна. Был ли перелом ноги мистера Шуйлера, случившийся пятнадцать лет тому назад, тем „печальным инцидентом", который поверг мистера Блока в несказанную печаль и побудил его явиться в редакцию поздно ночью и остановить печатание, чтобы поведать миру об этом происшествии? Или этот „печальный инцидент" заключается в гибели имущества Шуйлеровой тещи в давние времена? Или он заключается в смерти самой этой особы три года тому назад? (Хотя, по-видимому, она умерла не от несчастного случая.) Одним словом, в чем заключается этот „печальный инцидент"? С какой стати этот слюнявый идиот Шуйлер стал в кильватер бежавшей лошади, крича и размахивая руками, если он хотел остановить ее? И каким образом несчастье могло случиться по милости лошади, если она уже пробежала мимо него? И что, собственно, должно послужить нам „предостережением"? И каким образом эта необычайная груда несообразностей может послужить нам уроком? А главное, причем тут отравленный „кубок", растолкуйте мне? Ведь не сказано, что Шуйлер пил, или что его жена пила, или что его теща пила, или что лошадь пила — к чему же в таком случае ссылка на отравленный кубок? Сдается мне, что если бы сам мистер Блок не осушил отравленного кубка, то он не стал бы поднимать такой суматохи из-за этого вздорного, выдуманного инцидента. Я читал и перечитывал эту нелепую статью с ее лукавой правдоподобностью, пока моя голова не пошла кругом, и все-таки не нахожу в ней ни склада, ни лада. По-видимому, какой-то инцидент действительно произошел, но невозможно определить, что это был за инцидент и кто от него пострадал. Я с прискорбием нахожу себя вынужденным предложить мистеру Блоку, если что-нибудь случится с кем-нибудь из его друзей, присоединять к своему сообщению об этом объяснительные примечания, которые дали бы мне возможность понять, что именно случилось и с кем это случилось. Я скорее готов допустить, чтобы все его друзья перемерли, чем еще раз оказаться на грани помешательства, пытаясь разобрать смысл другой такой же статьи, как вышеприведенная.
Петиция об авторском праве
Почтенному Сенату и Палате Представителей Конгресса
Так как Конституция гарантирует равные права всем гражданам, установленные Декларацией Независимости; и Так как По нашим законам право собственности на недвижимое имущество не ограничивается временем; и
Так как По нашим законам право собственности на литературные продукты интеллектуального труда гражданина ограничено сорокадвухлетним сроком; и
Так как Сорок два года являются в высшей степени справедливым и правильным сроком и достаточно продолжительным для пользования правом собственности:
То ваш петиционер, принимая к сердцу единственно интересы своего отечества, почтительнейше ходатайствует о распространении равных прав и одинакового и справедливого отношения на всех граждан посредством ограничения права на всякую собственность, в том числе и недвижимую, благотворным сроком в сорок два года. Этим ваше почтенное собрание осчастливит всех и заслужит всеобщую признательность. А ваш петиционер будет вечно молить Бога за вас.
Марк Твен
Пункт, не вошедший в эту петицию
Восхитительная нелепость ограничения права собственности на книги сорокадвухлетним сроком обнаруживается особенно рельефно, если принять во внимание тот факт, что не найдется ни одного автора, чьи книги прожили бы сорок два года или хотя бы половину этого срока; таким образом, законостряпатели „Великой" Республики сохраняют в ее постановлениях этот жалкий грабительский закон единственно ради ничтожной выгоды, получаемой за счет наследников приблизительно одного Бернса, или Скотта, или Мильтона в столетие. Это похоже на полководца, который устроил бы засаду с целью ограбить гнездо Феникса, выждав необходимые для этого сто лет.
Послеобеденный спич
На собрании американцев, праздновавших Четвертое июля в Лондоне
Господин Председатель, леди и джентльмены, благодарю вас за только что оказанную мне честь и постараюсь, в знак своей признательности, не утомлять вас многословием. Приятно праздновать в такой мирной форме, на этой древней почве отечества наших праотцов, годовщину события, порожденного войной с этой самой страной и доведенной до благополучного конца героизмом наших предков. Потребовалось почти столетие, чтобы установить между англичанами и американцами отношения дружбы и взаимного уважения, но я полагаю, что это наконец достигнуто. Важным шагом вперед в этом направлении явилось разрешение двух последних недоразумений при посредстве третейского суда, а не при содействии пушек. Другим важным шагом было то обстоятельство, что Англия приняла наши швейные машины, не приписывая себе — по своему обыкновению — их изобретения. Не менее важным шагом является и тот факт, что она ввела в употребление наши спальные вагоны. И я не нахожу слов, чтобы выразить, как глубоко я был тронут вчера зрелищем англичанина, заказавшего — совершенно свободно, по собственному побуждению — американский Cherry Cobber, — и, мало того, напомнившему буфетчику, с полным и солидным знанием дела, не забыть земляники. Общее происхождение, общий язык, общая литература, общая религия и... общие напитки — что же еще требуется, чтобы закрепить навеки братский союз между двумя нациями?
Наш век — век прогресса, и наша страна прогрессивная. Великая и славная страна, да! Страна, которая дала миру Вашингтона, Франклина, Вм. М. Твэда, Лонгфелло, Мотлея, Джея Гульда, Самюэля Ч. Помрея, последний Конгресс, не имевший себе равных (в некоторых отношениях), и Армию Соединенных Штатов, которая одержала победу над шестьюдесятью индейцами в течение восьми месяцев, загоняв их до полного изнеможения — что, видит Бог, гораздо лучше дикой резни. Мы имеем лучшую в мире систему уголовного судопроизводства, действенность которой подрывается только трудностью находить каждый день двенадцать человек, которые ничего не знают и не умеют читать. Могу прибавить, что у нас практикуется оправдание по невменяемости, которое избавило бы от ответственности самого Каина. Могу, кажется, также сказать, — и сказать с гордостью, — что у нас имеются законодатели, которые продаются по более высоким ценам, чем где бы то ни было на свете.
Я с восхищением укажу на наши железнодорожные компании, которые соглашаются оставлять нас в живых, хотя могли бы поступить наоборот, владея нами на правах полной собственности. В прошлом году они уничтожили только три тысячи семьдесят душ при столкновении поездов и раздавили всего двадцать семь тысяч двести шестьдесят неосторожных и бесполезных зевак. Компании искренне сожалели об убийстве этих тридцати тысяч человек и зашли в своем сострадании так далеко, что выплатили вознаграждение за некоторых из них — разумеется, добровольно, так как даже самый презренный из нас не посмеет утверждать, что мы имеем суд настолько изменнический, чтобы применить какую-либо статью закона против железнодорожной компании. Но, благодарение Богу, железнодорожные компании вообще расположены поступать справедливо и милостиво без всякого принуждения со стороны.
Я знаю случай, глубоко тронувший меня в свое время. После одной катастрофы компания прислала ко мне на дом останки моего дорогого старого родственника в корзинке, со следующей запиской: „Будьте любезны сообщить, во сколько вы его цените, — и вернуть нам корзину".
Можно ли представить себе более деликатное отношение?
Но мне не подобает стоять здесь весь вечер и хвастаться. Во всяком случае, вы не осудите человека за то, что он немножко похвастается достоинствами своего отечества Четвертого Июля. Когда же и пустить пыль в глаза, если не в этот день? Я позволю себе еще только одну похвальбу — и притом утешительную. Вот она. Мы имеем образ правления, который, предоставляя всем одинаковые шансы, никому не оказывает предпочтения. У нас ни один индивидуум не рождается с правом глядеть на своего соседа сверху вниз и относиться к нему с презрением. Да послужит это утешением тем из нас, которые не родились герцогами. И мы можем с надеждой взирать на будущее, имея ввиду, что как бы ни было плачевно современное состояние нашей политической нравственности, Англия сумела подняться из еще более недостойного состояния времен Карла I, когда куртизанки возводились в дворянское достоинство и все государственные должности служили предметом купли-продажи. Итак, для нас еще не потеряна надежда[1].
Модные убийцы
Я так много наслышался о знаменитой ворожее, мадам.., что посетил ее вчера. У нее смуглый цвет лица от природы, усиливаемый искусственными средствами, которые ей ничего не стоят. Волосы вьющиеся — черные как смоль, и, как мне показалось, она увеличивает их естественную привлекательность прогорклым маслом. Ее шея небрежно повязана красным платком — и при взгляде на него становится ясно, что другой платок слишком долго задержался в стирке. Я полагаю, что она нюхает табак. По крайней мере, волосы, украшающие ее верхнюю губу, были осыпаны чем-то вроде нюхательного табака. Она любит виски — я узнал это, лишь только она вздохнула. С минуту она пытливо всматривалась в меня своими черными глазами, а затем сказала:
— Довольно! Идем!
Мы пошли по темному и мрачному коридору — я старался не отставать от нее. Вдруг она остановилась и сказала, что так как в коридоре темно и много поворотов, то, может быть, лучше зажечь свет. Но мне показалось невежливым доставлять даме лишние хлопоты, и я сказал:
— Не стоит, мадам. Потрудитесь только вздохнуть еще раз, и я не отстану от вас.
Мы пошли дальше. Когда мы были в ее официальном и таинственном логовище, она спросила у меня день и час моего рождения и какого цвета были волосы моей бабушки. Я ответил насколько мог точно. Тогда она сказала:
— Молодой человек, призовите на помощь все ваше мужество — не бойтесь. Я открою вам прошлое.
— Сведения относительно будущего, вообще говоря, были бы...
— Молчите! На вашу долю выпало много огорчений, кое-какие радости, отчасти удачи, отчасти неудачи. Ваш прадед был повешен.
— Это ло...
— Молчите! Повешен, сэр. Но это не его вина. Он не мог избежать этого.
— Я рад, что вы отдаете ему справедливость.
— Ах, лучше пожалейте, что это сделал для него суд. Он был повешен. Его звезда пересекает путь вашей звезде в четвертом отделении пятой сферы. Следовательно, вы тоже будете повешены.
— Ввиду такой отрадной...
— Замолчите же, наконец. Вначале ваша натура не была преступной, но обстоятельства изменили ее, В девятилетнем возрасте вы крали сахар. В пятнадцатилетнем воровали деньги. В двадцатилетнем занимались конокрадством. В возрасте двадцати пяти лет совершили поджог. В тридцать лет, закоснев в преступлениях, сделались журналистом. Теперь вы читаете публичные лекции. Еще худшие дела предстоят вам. Вы будете избраны в Конгресс. Затем отправлены в исправительный дом. В заключение счастье вернется к вам — все пойдет ладно — вас повесят.
Я плакал. Достаточно горько было попасть в Конгресс; но быть повешенным — это казалось слишком печальным, слишком ужасным. Женщина, по-видимому, удивилась моему огорчению. Я сказал ей, что я думаю об этом. Она принялась утешать меня.
— Послушайте[2], — сказала она, — поднимите вашу голову — вам не о чем сокрушаться. Слушайте. Вы будете жить в Нью-Гемпшире. В вашей горькой нужде вам поможет семейство Броунов, то есть те из ее членов, которые уцелели от ножа убийцы Пайка. Они будут вашими благодетелями. Когда вы растолстеете за их счет и будете себя чувствовать благодарным и счастливым, вы пожелаете выразить чем-нибудь свою скромную признательность за их благодеяния, заберетесь к ним ночью и зарубите всю семью топором. Вы оберете их мертвые тела и прокутите деньги с бездельниками и кабацкими завсегдатаями Бостона. Затем вас арестуют, предадут суду, приговорят к виселице и посадят в тюрьму. Тут наступят ваши красные дни. Вы обратитесь к религии — обратитесь к религии, после того, когда все попытки добиться отмены приговора, или его смягчения, или отсрочки останутся тщетными. После этого, каждое утро и каждый вечер, самые лучшие, самые добродетельные дамы города будут собираться в вашей камере и петь гимны. Это покажет, что ваше преступление есть почтенное дело, хотя и не поможет вам спасти свою шею от петли. Затем вы напишете письмо с заявлением, что прощаете всем убитым вами Броунам. Оно приведет в восторг публику. Публика не может устоять против великодушия. После этого вас препроводят на эшафот с великой помпой, во главе внушительной процессии, состоящей из духовных особ, должностных лиц, почтенных граждан и молодых леди, задумчиво шествующих попарно с букетами иммортелей в руках. Вы взойдете на эшафот и обратитесь к этому многолюдному собранию, стоящему с обнаженными головами, с трогательной речью, сочиненной для вас священником. А затем, среди глубокой, торжественной тишины, вас — вас все-таки отправят в рай, сынок. Кругом не останется человека с сухими глазами. Это не вернет вам жизни, но зато вы будете героем! Вам будут завидовать. Найдутся такие, которые пожелают быть похожими на вас. Затем процессия проводит ваш труп до могилы, будет плакать над вашими останками — молодые леди снова запоют гимн, обойдут дважды или трижды вокруг вашего гроба и украсят его гирляндами цветов. Неужели это не пленяет вас? Глупый! Такая блестящая карьера, а вы горюете!
— Нет, мадам, — сказал я, — вы несправедливы ко мне. Я совершенно удовлетворен. Я не знал, что мой прадед был повешен, но это ничего не значит. Сознаюсь, мадам, что я занимаюсь журналистикой и чтением лекцией, но другие преступления, о которых вы упомянули, не сохранились в моей памяти. Во всяком случае, я, очевидно, совершил их — вы не станете обманывать незнакомца. Но пусть прошлое остается таким, как оно было, а будущее таким, каким оно может быть, — все это ничего не значит. Меня беспокоила только одна вещь. Я всегда чувствовал, что буду когда-нибудь повешен, и эта мысль иногда сильно смущала меня; но если вы ручаетесь, что это случится в Нью-Гемпшире...
— В этом не может быть ни тени сомнения!
— Благодарю вас, моя благодетельница! Простите мне этот поцелуй — но вы сняли тяжелое бремя с моей души. Быть повешенным в Нью-Гемпшире — великое счастье: это значит войти в иной мир вместе с лучшим нью-гемпширским обществом.
После этого я простился с ворожеей. Но, серьезно, прилично ли превращать казнь в комедию благочестия?
Новое преступление
В нашем отечестве за последние тридцать или сорок лет было несколько замечательнейших случаев умопомешательства, какие только знает история. Таков, например, случай Балдвина в Огайо двадцать два года тому назад. Балдвин с детства обнаруживал мстительный, злобный, сварливый характер. Он выбил одному мальчику глаз и никогда не раскаивался в этом. За ним числилось много подвигов в этом роде. Но в конце концов он совершил нечто серьезное. Он подошел к одному дому поздно вечером, в темноте, постучался и, когда хозяин отворил ему дверь, застрелил его, а затем попытался убежать, но был схвачен. За два дня перед тем он грубо оскорбил беспомощного калеку, и человек, в которого он всадил предательскую пулю, сбил его с ног. Таков был случай Балдвина. Судебное следствие тянулось долго и волновало весь город. Все говорили, что мстительный, бессердечный негодяй наделал достаточно гадостей и несомненно подвергнется каре закона. Но все ошибались; Балдвин совершил убийство в состоянии помешательства — чего никто не подозревал. Зашита доказала, что в половине десятого утра, в день убийства, Балдвин помешался и оставался в таком состоянии ровно до половины двенадцатого ночи. Это делало его невменяемым, и он был оправдан. Хорошо, что послушались адвоката, а не легкомысленных и возмущенных граждан, иначе бедное помешанное существо подверглось бы страшной ответственности за простой припадок безумия. Балдвин был отпущен на свободу, и хотя его родные и друзья естественно возмущались публикой за ее несправедливые подозрения и заявления, однако на этот раз они простили ей и не стали преследовать ее за клевету. Балдвины были очень богаты. Позднее этот самый Балдвин еще два раза подвергался внезапным припадкам умопомешательства и убивал людей, против которых имел зуб. В обоих этих случаях обстоятельства преступления были такими возмутительными и сами убийства до того жестокими и предательскими, что не будь Балдвин помешанным, он, без сомнения, угодил бы на виселицу. Потребовалось все влияние его семьи, чтобы добиться оправдания в одном из этих случаев; а в другом оно обошлось ему не менее десяти тысяч долларов. В этом последнем случае он грозил своей жертве убийством еще задолго до расправы с ней. И надо же было бедняге, в силу чистого каприза судьбы, проходить по темной аллее как раз в ту минуту, когда припадок умопомешательства привел сюда Балдвина, который выстрелил ему в спину из ружья, заряженного картечью.
Возьмем теперь случай Линча Гакетта в Пенсильвании. Он дважды публично бросался с палкой на немца-мясника, Бемиса Фельднера, и оба раза немец сбил его с ног кулаком. Гакетт был тщеславный, богатый, наглый господин, чрезвычайно гордившийся своим происхождением и родством и полагавший, что все должны относиться с почтением к его богатству. Получив трепку, он не мог переварить обиды и спустя две недели, во внезапном припадке умопомешательства, вооруженный с головы до ног, отправился в город и ждал два часа, пока не увидел Фельднера, идущего по улице под руку с женой. Когда же чета проходила мимо подъезда, в котором он прятался, он всадил нож в шею Фельднеру и уложил его на месте. Вдова подхватила падающее тело и осторожно опустила его на землю. Оба были залиты кровью. Гакетт шутливо заметил ей, что как бывшая супруга профессионального мясника, она, без сомнения, оценит артистическую меткость удара, который доставил ей возможность вторично выйти замуж, если она пожелает. Это замечание, равно как и другое, сделанное им одному из своих друзей, что со стороны человека с его положением в обществе убийство какого-то ничтожного обывателя является простой эксцентричностью, а не преступлением, — приводились защитой в доказательство его безумия, и таким образом Гакетт избежал наказания. Присяжные, впрочем, вряд ли бы сдались на эти доказательства, тем более, что Гакетт никогда раньше не обнаруживал признаков умопомешательства и почти мгновенно излечился от него под благотворным влиянием убийства; но когда защите удалось доказать, что троюродный брат отчима жены Гакетта сходил с ума, — и не только сходил с ума, но и обладал совершенно таким же носом, как у Гакетта, то ясно стало, что помешательство наследственно в их семье и что Гакетт имел право на убийство в силу законной наследственности. Разумеется, после этого присяжные оправдали его. Но если бы не милосердное Провидение, поразившее родственника мистрис Гакетт таким недугом, то ее муж, без сомнения, был бы приговорен к виселице.
Невозможно перечислить все чудесные случаи умопомешательства, ставшие известными публике за последние тридцать или сорок лет. Три года тому назад в Нью-Джерси разбиралось дело Дорджин. Горничная, Бриджет Дорджин, забралась ночью в спальню своей барыни и буквально искромсала последнюю на куски ножом. Затем она стащила тело на пол и долго колотила его стульями и тому подобными предметами. Потом распорола перину, высыпала на пол ее содержимое, облила керосином и подожгла. После этого взяла ребенка убитой женщины на свои окровавленные руки, побежала босая по снегу, к соседу, жившему за четверть мили оттуда, и рассказала там дикую, бессвязную историю о каких-то людях, которые пришли и подожгли дом; потом заплакала и, по-видимому, совершенно не замечая, что ее руки, платье и ребенок залиты кровью, прибавила, что боится, не зарезали ли эти люди ее барыню! Позднее было установлено, на основании ее собственных заявлений и свидетельских показаний, что госпожа всегда была добра к ней, так что мотивом убийства не могла служить месть; было также доказано, что девушка ничего не взяла из сгоревшего дома, даже собственных башмаков, так что и воровство не могло быть мотивом. Читатель наверное скажет: „В этом случае, конечно, последовало оправдание по невменяемости". Но читатель на этот раз ошибется. О невменяемости и речи не было. Судьи вынесли обвинительный приговор, никто не подавал петиций о помиловании, и несчастная была повешена.
Был в Пенсильвании юноша, странное показание которого опубликовано несколько лет тому назад. Оно с начала до конца представляет какой-то бессвязный бред, такова же была и его предсмертная речь на эшафоте. Целый год его преследовало желание обезобразить одну девушку, чтобы никто не захотел жениться на ней. Сам он не любил ее и не искал ее руки, но ему хотелось, чтобы и другие не искали. Он не желал провожать ее, но требовал, чтобы другие не смели делать этого. Однажды он отказался проводить ее на свадьбу, когда же она пошла с другим, засел на дороге, с целью либо вернуть их домой, либо убить провожатого. Целый год он томился своим диким желанием и наконец попытался привести его в исполнение, то есть попытался обезобразить девушку. Попытка слишком удалась. Он выстрелил ей в щеку (когда на сидела за ужином со своими родителями, братьями и сестрами), рассчитывая испортить ее красоту, но пуля уклонилась немного в сторону и уложила ее наповал. До последней минуты своей жизни он жаловался, что она повернула голову в самый критический момент. Так он и умер, убежденный, по-видимому, в том, что она сама была виновата в своей смерти. Этого идиота повесили. Никто не сослался на невменяемость.
Умопомешательство несомненно учащается в мире, а преступление вымирает. Скоро не останется убийств, — по крайней мере, заслуживающих упоминания. Раньше вы могли совершить убийство в состоянии умопомешательства, — ныне же если вы, обладая влиятельными друзьями и деньгами, убьете человека, это будет очевидным доказательством того, что вы помешаны. Равным образом, если в наши дни лицо хорошей фамилии, имеющей вес в обществе, украдет что-нибудь, это оказывается клептоманией и влечет за собой помещение в больницу. Если человек с высоким общественным положением прокутит свое состояние и завершит свою карьеру стрихнином или пулей, „временное расстройство ума" вполне объясняет этот факт.
Ссылка на невменяемость сделалась обычным явлением. Настолько обычным, что читатель ожидает ее встретить во всяком уголовном процессе. Она стала такой дешевой, такой общеупотребительной и часто такой банальной, что читатель презрительно улыбается, встречая ее в газетах. Скоро, кажется, человеку невозможно станет вести себя перед убийством так, чтобы его поведение не было доказательством умопомешательства. Если он толкует о звездах, он помешан. Если он кажется нервным и беспокойным за час до убийства, он помешан. Если он горюет о чем-либо, друзья покачивают головами и выражают опасение, что у бедняги „не все дома". Если, спустя час после убийства, он кажется расстроенным, удрученным и взволнованным, он бесспорно сумасшедший.
Право, нам требуются теперь не законы против убийства, а законы против помешательства. В нем, собственно, таится зло.
Спич в честь Общества Страхования от Несчастных Случаев
Произнесен в Гартфорде, на обеде в честь Корнелиуса Вальфорда, из Лондона.
Джентльмены. Я сердечно рад участвовать в чествовании нашего знаменитого гостя по такому случаю в этом городе, слава которого, как центра страхования, разнеслась по всему миру и заслужила нам прозвище Союза Четырех Братьев, работающих заодно: оружейная компания Кольта вырабатывает легкие и дешевые способы истребления нашей расы, общество страхования жизни выплачивает за жертвы этого истребления, мистер Баттерсон увековечивает их память своими прекрасными монументами, а наши коллеги из общества страхования от огня заботятся об их благополучии в будущей жизни. Я рад участвовать в чествовании нашего гостя — во-первых, потому, что он англичанин, а на мне лежит долг благодарности за гостеприимство, оказанное мне некоторыми из его соотечественников, а во-вторых, потому, что он симпатизирует страхованию и сумел привлечь к нему симпатии многих других.
Конечно, нет более благородного поприща для человеческой деятельности, чем ведение страховых предприятий, — в особенности по страхованию от несчастных случаев. С тех пор, как я сделался директором общества страхования от несчастных случаев, я почувствовал себя лучшим человеком. Жизнь приобрела в моих глазах большую ценность. Несчастные случаи явились передо мной в более благоприятном свете. Трагические происшествия наполовину потеряли свой ужас. Теперь я смотрю на калеку с признательным участием — как на живое объявление. Я утратил всякий интерес к политике — даже сельское хозяйство не волнует меня. Зато железнодорожная катастрофа представляет для меня теперь чарующий интерес.
Нет ничего выгоднее страхования от несчастных случаев. Я видел целые семьи, переходившие от нищеты к достатку единственно благодаря такой счастливой случайности, как перелом ноги. Ко мне приходили люди на костылях, со слезами на глазах благословляя это благодетельное учреждение. Никогда в жизни я не видал более восторженного выражения, чем то, которое появляется в глазах только что искалеченного человека, когда он шарит уцелевшей рукой в жилетном кармане и убеждается, что его страховая квитанция цела. И я не видал ничего печальнее, чем выражение лица другого исковерканного клиента, когда он убедился, что не получит даже на деревянную ногу. Я замечу здесь, просто для осведомления, что великодушное предприятие, которому мы дали название Гартфордское Страховое от Несчастных Случаев Общество[3], есть учреждение, на которое вполне можно положиться. Всякий, кто делается его клиентом, обязательно богатеет. Нет человека, который, взяв в нем полис, не был бы искалечен до истечения года. Я знаю одного бедняка, который так часто разочаровывался в других компаниях, что совсем упал духом, лишился аппетита, перестал смеяться — жизнь стала ему в тягость. Три недели тому назад он застраховался у нас, и теперь это самый счастливый, самый веселый человек в стране, получает хороший доход и новую пару изящных перевязок ежедневно и путешествует на носилках.
Прибавлю в заключение, что мое участие в чествовании нашего гостя отнюдь не становится менее сердечным от того, что я наговорил столько вздора, и я уверен, что могу сказать то же самое об остальных ораторах.
Джон-китаец в Нью-Йорке
Проходя мимо одного из гигантских американских чайных складов в Нью-Йорке, я увидел китайца, сидевшего перед ним в качестве вывески. Всякий проходящий упорно глядел на него до тех пор, пока только мог поворачивать голову, не рискуя свихнуть шею, а кучка людей остановилась и рассматривала его во всех подробностях.
Не позорно ли для нас, так много болтающих о цивилизации и человечности, ставить нашего ближнего в такое унизительное положение? Не пора ли подумать, в каком свете являемся мы сами, делая этого ближнего предметом легкомысленного любопытства, вместо сожаления и серьезного размышления? Передо мной было бедное создание, которое злая судьба изгнала из его природного заморского отечества, и страдания которого должны бы были тронуть ленивых зевак, столпившихся вокруг него; но так ли было на самом деле? Очевидно нет. Люди, называющие себя высшей расой, культурным и благородным народом, глазели на его странную китайскую шапку с остроконечной верхушкой, украшенной шариком, на его длинную косу, болтавшуюся вдоль спины, на коротенькую шелковую блузу с причудливыми кисточками и узорами (и, так же, как остальной его наряд, поношенную, изорванную и сидевшую крайне неуклюже), на синие шаровары, плотно стянутые у лодыжек, и на неуклюжие башмаки с тупыми носками и толстыми пробковыми подошвами. Осмотрев его с ног до головы, они отпускали какую-нибудь непристойную шутку над его иностранным нарядом или его печальным лицом и проходили мимо. Я душевно пожалел об одиноком китайце. Я спрашивал себя, какие мысли роятся за этим печальным лицом, и какие отдаленные сцены грезятся его блуждающим глазам. Не видит ли он себя в мыслях с близкими сердцу за десять тысяч миль отсюда, по ту сторону волнующихся пустынь Тихого океана, среди рисовых полей и перистых пальм Китая, в тени родных гор или в чаще цветущих кустарников и странных деревьев, неизвестных в нашем климате? Не слышатся ли ему время от времени, среди видений и грез, знакомый смех и полузабытые голоса, и не встают ли перед ним на мгновение дружеские лица минувших времен? Жестокая судьба, подумал я, постигла этого смуглого странника. В надежде, что кучка зевак будет тронута по крайней мере словами бедняги, если уж его жалкая одежда и мысль о его грустном изгнании не действуют на них, я дотронулся до его плеча и сказал:
— Полноте, не унывайте. Не Америка обращается с вами таким образом, а только один гражданин, в сердце которого жажда прибыли вытравила человечность. Америка оказывает широкое гостеприимство всем изгнанникам и угнетенным. Америка и американцы всегда готовы помочь несчастному. Деньги будут собраны — вы вернетесь в Китай — вы снова увидите ваших друзей. Сколько вы получаете?
— Четыре доллара в неделю на своих харчах и ни цента больше, черт бы их драл; правда, им приходилось тратиться на этот шутовской наряд, а он стоит недешево.
Этот изгнанник остается до сих пор на своем посту. Как видно, американские чаеторговцы, которым требуются живописные вывески, не могут обойтись без китайцев.
Болтовня гробовщика
— Вот, это мертвое тело, — сказал гробовщик, одобрительно похлопывая по сложенным рукам покойника, — был душа человек, во всех смыслах душа человек. Такой был покладистый, и скромник, и простецкий малый в свои последние минуты. Друзья требовали металлический гроб — вынь да положь. Я не брался доставить. Времени не было — всякий может понять.
Мертвое тело сказал, что ему это все единственно — пусть его засунут в какой угодно ящик, лишь бы он мог протянуться с удобством, а до фасона ему дела нет. Ему, говорит, не фасон важен, а простор в его последнем приюте.
Друзья требовали серебряную дверную доску на гроб, и чтобы обозначить на ней, кто он такой и откуда родом. Сами посудите, раздобудешь ли этакую пышную штуку в захолустном городишке? Что же сказал мертвое тело?
Мертвое тело сказал, чтобы выбелили его старый челнок, и намазали бы на нем ваксяной щеткой по трафарету его имя и общественное положение, да какой-нибудь священный стишок повеселее или что-нибудь этакое, и взвалили бы на могилу, и пусть он там трепыхается. И ни чуточки не огорчился — напротив, был спокоен и равнодушен, словно погребальная кляча; по его-де соображениям, говорит, в том месте, куда он отправляется, человеку много полезнее пустить пыль в глаза своей живописной добродетелью, а не миловидным гробом да нарядной дверной доской.
Великолепный был мужчина, нечего сказать. Вот семь лет вожусь с мертвыми телами, а с таким еще не имел дела. Приятно, знаете, хоронить такого человека. Чувствуешь, что твои труды ценят. Господи помилуй, ему одного хотелось — чтобы его упаковали, пока еще не протух. Он говорил, что у его родственников благие намерения, всеконечно благие, но их сборы затянут дело, а он не хочет залеживаться. Светлая была голова, другую такую не скоро найдешь — и спокойная, и хладнокровная. Просто куча мозгов — вот что он был такое. Чистая страсть. Громадное расстояние было от одного конца головы этого человека до другого. Сколько раз у него случалось страшнейшее воспаление мозга в каком-нибудь месте, а остальная часть и не знает о нем — ее оно ничуть не тревожит, все равно как восстание индейцев в Аризоне не потревожит Атлантических штатов.
Ну вот, родные хотели устроить пышные похороны, но мертвое тело сказал, что ему никакого форсу не нужно — никакой процессии — посадили бы, говорит, на дроги плакальщиков, а гроб привязать веревкой и волочь сзади. Все так подробно растолковал, ничего не пропустил. Прекраснейший был человек, такой простодушный, поверьте моему слову. Очень стоял на том, чтобы все было устроено, как ему хочется, и немало утешался своими маленькими затеями. Велел мне измерить его по всем направлениям; потом попросил священника стать перед длинным ящиком, накрытым скатертью, — будто перед гробом, — и сказать надгробную речь, приговаривая в удачных местах: „Анкор, анкор!" и заставляя выбрасывать похвалы на свой счет и всякую такую дребедень; а там распорядился кликнуть певчих, чтобы выбрать вещи, которые им следует спеть по этому случаю, и заставил их пропеть „Как ухлопали хорька", потому что всегда любил эту вещь, когда ему, бывало, взгрустнется, а торжественная музыка нагоняла на него тоску; и пока они пели со слезами на глазах (потому что его все любили), и друзья горевали кругом, он лежал, как веселое привидение, и старался отбивать такт и всячески показать, сколь ему приятно; а потом засуетился, заволновался и попробовал было подтягивать певчим — он, изволите видеть, всегда гордился своими талантами по певческой части; но только
открыл рот и собрался рявкнуть — дух-то у него и вылети.
Никогда я не видал, чтобы человек угас так внезапно. Ах, это была большая потеря — громаднейшая потеря для нашего бедного маленького захолустного городишки. Ну-ну-ну, некогда мне тут с вами болтать — вот заколочу крышку и айда. Помогите-ка мне поднять гроб, взвалим его на дроги и поплетемся. Это родные так распорядились — ноль внимания к его предсмертным распоряжениям; стоило телу умереть — и в ту же минуту все побоку; а кабы моя воля, то будь я проклят, если б не уважил его последнее желание и не поволок бы гроб за дрогами на веревке. Я так считаю, что ежели труп распорядился так поступить, чтоб вышло по его вкусу, то это его дело, и никто не имеет права его обманывать или насильничать над ним; и ежели труп поручил мне сделать то-то, так я и обязан сделать, хоть бы он распорядился набить из себя чучело, выкрасить ее желтой краской и сохранить на память, — так-то!
Он щелкнул бичом и поплелся за своими полуразвалившимися дрогами, а я пошел своим путем, обогатившись ценным сведением: что здоровое и благотворное веселье совместимо с любой профессией. Вряд ли я скоро его забуду, так как потребуется несколько месяцев, чтобы эти замечания и вызвавшие их обстоятельства изгладились из памяти.
О горничных
Всем горничным какого бы то ни было возраста и национальности шлю проклятие холостяка! Потому что они всегда кладут подушки на конце кровати, противоположном газовой горелке, так что, когда вы читаете и курите на сон грядущий (старинная и почтенная привычка холостяков), вам приходится высоко держать книгу, в неудобном положении, чтобы защитить глаза от чересчур яркого света.
Если они находят утром подушки на другом конце кровати, то не принимают этого внушения с дружелюбной готовностью; но, гордые своей абсолютной властью, и без всякого сострадания к вашей беспомощности, застилают кровать по-прежнему и втайне наслаждаются муками, которые их тирания причиняет вам.
Всякий раз после этого, найдя, что вы переложили подушки, они переделывают вашу работу и таким образом бросают вам вызов и отравляют жизнь, которую Господь даровал вам.
Если они не могут направить свет с неудобной стороны никаким другим способом, они отодвигают кровать.
Если вы отодвинули ваш чемодан на шесть дюймов от стены, так, чтобы крышка могла опираться на нее, когда вы его откроете, они всегда придвигают его обратно к стене. Они делают это нарочно.
Если вы желаете, чтобы плевательница стояла в определенном месте у вас под рукой, они не соглашаются на это и передвигают ее.
Они всегда прячут вашу другую пару сапог в недоступное место. Всего чаще они засовывают их под кровать так далеко, как только позволяет стена. Это для того, чтобы вам пришлось ползать в недостойной позе и отчаянно шарить в темноте машинкой для снимания сапог и ругаться.
Они всегда перекладывают коробочку со спичками. Они отыскивают для нее новое место каждый день, а там, где она находилась раньше, ставят бутылку или другой хрупкий стеклянный предмет. Это для того, чтобы вы разбили этот стеклянный предмет, шаря в темноте, и ввели себя в убыток.
Они вечно переставляют мебель. Возвращаясь домой вечером, вы можете быть уверены, что найдете письменный стол на том месте, где утром стоял платяной шкаф. И если, уходя из дома утром, вы оставите грязное ведро у дверей, а качалку у окна, то, вернувшись домой в полночь или около того, вы шлепнетесь, наткнувшись на качалку у дверей, а пройдя к окну, сядете в грязное ведро. Это вам не понравится. Но им это нравится.
Где бы и что бы вы ни положили, они не оставят этого на месте. Они возьмут эту вещь и переложат в другое место при первом удобном случае. Такова их природа. И кроме того, им доставляет удовольствие дразнить и допекать вас таким способом. Они умерли бы, если бы не могли делать пакостей.
Они всегда подбирают старые клочки ненужной бумаги, которые вы бросаете на пол, и старательно раскладывают на столе, а печку растапливают вашими драгоценными рукописями. Если есть какой-нибудь старый лоскуток, который надоел вам более всех остальных, так что вы мало-помалу дошли до полного изнеможения, стараясь отделаться от него, все ваши усилия в этом направлении останутся тщетными, потому что они всякий раз ухитрятся подобрать этот старый лоскуток и положить его на прежнее место. Это их веселит.
Каждая из них изводит больше помады, чем полдюжины мужчин. И если их уличат в похищении ее, они отпираются. Какое им дело до будущей жизни? Решительно никакого.
Если вы оставите ключ в дверях ради удобства, они отнесут его вниз и отдадут в контору. Они делают это якобы с целью оградить ваше имущество от воров; на самом же деле потому, что им хочется заставить вас лишний раз прогуляться вниз, когда вы вернетесь домой усталым, или послать за ключом служителя, каковой будет ожидать от вас на чай. В последнем случае, я полагаю, эти развращенные создания делятся между собой.
Они всегда пытаются прибирать вашу постель раньше, чем вы встали, нарушая таким образом ваш покой и подвергая вас мучениям, но после того, как вы встали, они не показываются до следующего утра.
Они делают всевозможные гадости, какие только могут придумать, и делают их единственно из злобы, без всякого другого основания.
Горничные не доступны никакому человеческому чувству.
Если мне удастся провести в Законодательном Собрании билль об уничтожении горничных, я обязательно сделаю это.
Злополучный жених Аврелии
Нижеизложенные факты я узнал из письма молодой леди, которая живет в прекрасном городе Сан-Хозе; она совершенно не знакома мне и подписывается просто „Аврелия-Мария" — имя, быть может, вымышленное. Но все равно, бедная девушка совсем раздавлена обрушившимися на нее несчастьями и сбита с толку противоречивыми советами бестолковых друзей и коварных врагов, так что не знает, что ей предпринять, чтобы выпутаться из паутины затруднений, в которой она, по-видимому, безнадежно запуталась. В этом безвыходном положении она обращается ко мне за помощью и умоляет меня о совете и наставлении с патетическим красноречием, которое могло бы тронуть сердце статуи. Вот ее грустная история.
Она говорит, что в возрасте шестнадцати лет встретила и полюбила со всем пылом страстной натуры молодого человека из Нью-Джерси по имени Вильям-сон Брекинридж Карутерс, который был шестью годами старше ее. Они обручились с согласия своих родственников и друзей, и одно время казалось, что характерной особенностью их жизненного пути будет отсутствие скорби, обычно выпадающей на долю человечества. Но в конце концов колесо фортуны повернулось; юный Карутерс заболел оспой в сильнейшей форме, и когда вылечился, лицо его походило на вафельницу и вся его красота пропала.
Сначала Аврелия хотела взять свое слово обратно, но сострадание к несчастному жениху заставило ее отложить свадьбу на год и подвергнуть его новому испытанию.
Как раз накануне того дня, когда должно было состояться венчание, Брекинридж, зазевавшись на воздушный шар, упал в колодец и сломал себе ногу, так что ее пришлось отнять выше колена.
Снова Аврелия хотела нарушить свое обещание, и снова восторжествовала любовь, и она отложила свадьбу, давая ему случай поправиться.
И снова несчастье обрушилось на злополучного юношу. Он потерял руку вследствие преждевременного выстрела пушки на празднике Четвертого июля, а три месяца спустя и другую (ее оторвало чесальной машиной). Сердце Аврелии готово было разорваться под гнетом таких несчастий. Она глубоко огорчалась, видя, что ее возлюбленный уходит от нее кусок за куском, и сознавая, что его может не хватить надолго при таком разрушительном процессе измельчения, в то же время не зная, как остановить его на этом ужасном пути; и в своем мучительном отчаянии почти сожалела, подобно маклерам, которые теряют, придержав бумаги, что не вышла за него с самого начала, раньше чем он так сильно обесценился. Однако бодрость духа вернулась к ней, и она решила потерпеть еще некоторое время противоестественные наклонности своего друга.
Снова приближался день свадьбы, и снова он был омрачен разочарованием: Карутерс заболел рожей и ослеп на один глаз. Родные и друзья невесты, находя, что она со своей стороны сделала больше, чем мог бы требовать от нее разумный человек, настаивали на окончательном разрыве, но Аврелия, после непродолжительного колебания, заявила с великодушием, которое делало ей честь, что спокойно обдумала это дело и не находит, чтобы Брекинридж был достоин порицания.
Итак, она дала ему новую отсрочку, а он сломал другую ногу.
Тяжелый был день для молодой девушки, когда она увидела хирургов, осторожно уносивших мешок, о содержимом которого она могла догадаться по предыдущему опыту, и ее сердце подсказало ей горькую истину, что еще частица ее друга утрачена. Она сознавала, что сфера ее привязанности сокращается все более и более с каждым днем, но еще раз отвергла настояния своих родных и возобновила обещание.
Незадолго до истечения срока, назначенного для бракосочетания, случилось новое несчастье. В прошлом году только один человек был скальпирован индейцами. Этот человек был Вильямсон Брекинридж Карутерс, из Нью-Джерси. Он спешил домой с радостью в душе, когда навеки потерял свои волосы, и в этот горький час он готов был проклинать неуместное милосердие, пощадившее его голову.
Теперь Аврелия находится в серьезном недоумении, как ей поступить. Она все еще любит своего Брекинриджа с истинно женским постоянством, — она все еще любит то, что остается от него, — но ее родные решительно противятся этому браку, так как он не обладает состоянием и потерял способность работать, а у нее недостаточно средств, чтоб содержать прилично себя и мужа.
„Что же мне делать?" — спрашивает она в мучительной и горестной тревоге.
Это деликатный вопрос; от него зависит счастье женщины и почти двух третей мужчины, и я чувствую, что взял бы на себя слишком большую ответственность, если бы решился на что-нибудь больше простого намека. Во что обойдется его ремонт? А если у Аврелии есть средства, то пусть она снабдит своего искалеченного возлюбленного деревянными руками и деревянными ногами, и стеклянным глазом, и париком, словом, полной наружностью; даст ему еще девяносто дней без льготного срока, и если он в течение этого времени не сломит себе шеи, пусть она рискнет обвенчаться с ним. Мне кажется, Аврелия, что риск не особенно велик, так как при его странной наклонности получать повреждения всякий раз, как представится удобный к тому случай, его первый же эксперимент будет стоить ему жизни, и, следовательно, дело кончится для вас благополучно, все равно, случится это до или после свадьбы. Ежели после свадьбы, то деревянные ноги и другие ценности, которыми он обладает, достанутся вдове, и ваша действительная потеря ограничится нежно любимым фрагментом благородного, но в высшей степени злополучного супруга, который честно стремился поступать хорошо, но не мог справиться со своими необычайными инстинктами. Попробуйте так поступить, Мария. Я тщательно и всесторонне обдумал это дело и не вижу для вас иного выхода. Со стороны Карутерса было бы гораздо остроумнее, если б он начал со своей шеи и сломал бы ее в виде первого опыта; но так как он, по-видимому, был вынужден избрать другой способ и производить над собою эксперименты как можно дольше, то, мне кажется, вам не следует упрекать его, раз это доставляет ему удовольствие. Мы должны сделать лучшее, что можем, при существующих обстоятельствах, и отнестись к нему снисходительно.
«Партийные воззвания» в Ирландии
Бельфаст чрезвычайно благочестивый город. То же можно сказать о всей Северной Ирландии. Половина населения протестанты, другая католики. Каждая сторона делает все, что может, для распространения своего учения и для привлечения неверующих на свою сторону. То и дело приходится слышать о трогательных примерах этого рвения. Неделю тому назад в Армаге состоялось большое собрание католиков по случаю закладки новой церкви, и, когда они расходились по домам, улицы были запружены толпами кротких и смиренных протестантов, которые швыряли в них каменьями, так что вся местность была забрызгана кровью. Я думал, что только католики пускают в ход подобные аргументы, но оказывается, что я ошибался.
Каждый человек в городе миссионер и носит за пазухой кирпич для увещевания заблудших. Закон пытался положить этому конец, но без особенного успеха. Постановлено было, что „Партийные воззвания", подстрекающего характера, не допускаются, и что с виновных будут взыскивать штраф в сорок шиллингов и судебные издержки. С этого времени в полицейских отчетах ежедневно можно читать о взысканиях. На прошлой неделе была присуждена к штрафу в сорок шиллингов и к уплате судебных издержек двенадцатилетняя девочка, громогласно заявившая на улице, что она „протестантка". Обычное восклицание: „К черту Папу!" или „К черту протестантов!" — смотря по тому, какой системы спасения душ придерживается восклицающий.
В Бельфасте рассказывают очень недурной анекдот. Он намекает на однообразный и неизбежный штраф в сорок шиллингов плюс судебные издержки — довольно обременительный для бедного человека. Рассказывают, будто полицейский наткнулся однажды в темном переулке на пьяницу, который, валяясь на земле, развлекался тем, что кричал: „К черту!", „К черту!"
Полицейский почуял поживу (половина штрафа достается донесшему о воззвании):
— Что вы кричите?
— К черту!
— Кого к черту? Что к черту?
— О, нет, заканчивайте сами — мне это не по средствам!
Мне кажется, тут прекрасно выразилось мятежное настроение, обузданное экономическим инстинктом.
Обстоятельства моей недавней отставки
Вашингтон, 2 дек. 1867
Я подал в отставку. По-видимому, правительство продолжает идти своим путем, но как бы то ни было, одной из спиц в его колеснице не хватает. Я служил письмоводителем в Сенатской Комиссии по конхологии и отказался от этой должности. Я не мог не заметить со стороны остальных членов правительства явного стремления лишить меня всякого голоса в Советах нации, и потому не мог сохранять за собой должность, без ущерба для моего самоуважения. Если бы я рассказал подробно о всех оскорблениях, которые сыпались на меня в течение той недели, когда я находился в непосредственных сношениях с правительством в силу моего официального положения, мой рассказ занял бы целый том. Они назначили меня письмоводителем Комиссии по конхологии и не дали мне товарища для игры на бильярде. Я перенес бы это, при всей возмутительности подобного поступка, если бы остальные члены правительства относились ко мне с той вежливостью, какой требовало мое положение. Но этого не было. Всякий раз, когда я замечал, что глава какого-нибудь ведомства вступил на ложный путь, я бросал все и отправлялся к нему и пытался направить его на путь истинный; и хоть бы кто-нибудь поблагодарил меня за это! Я явился, с наилучшими намерениями в мире, к Морскому министру и сказал:
— Сэр, я замечаю, что адмирал Фаррагут зря болтается по Европе, точно устроил для себя увеселительную поездку. Может быть, все это и очень хорошо, но мне оно представляется совсем в другом свете. Если ему там не с кем драться, велите ему вернуться домой. Совершенно незачем человеку таскать за собой целый флот в увеселительную поездку. Это слишком накладно. Заметьте, что я ничего не имею против увеселительных поездок морских офицеров — но разумных увеселительных поездок, но экономических увеселительных поездок. Кто им мешает прокатиться по Миссисипи на плоту.
Посмотрели бы вы, какая тут поднялась буря! Точно я, в самом деле, какое-нибудь преступление совершил. Однако я и ухом не повел. Я продолжал доказывать, что это и дешево, и полно республиканской простоты, и совершенно безопасно. Я продолжал утверждать, что для спокойной увеселительной поездки нет ничего лучше плота.
Тогда Морской министр спросил, кто я такой; когда же я ответил ему, что принадлежу к правительству, он пожелал знать, какую должность я занимаю. Я сказал, что, оставляя в стороне странность подобного вопроса со стороны члена того же правительства, могу ему сообщить, что состою письмоводителем Сенатской комиссии по конхологии. Тут-то он забушевал! Кончилось тем, что он приказал мне убираться и заниматься на будущее время своим делом. Моим первым побуждением было дать ему отставку. Так как, однако, это могло задеть и других, кроме него, а для меня, в сущности, было бесполезно, то я решил оставить его на месте.
В следующий раз я отправился к Военному министру, который не хотел принять меня, пока ему не сообщили, что я нахожусь в непосредственных сношениях с правительством. Не приди я по такому важному делу, я, пожалуй, не добился бы приема. Я попросил у него огонька (он в это время курил) и затем сказал ему, что я ничего не имею против его соглашения с генералом Ли и его товарищами по оружию, но решительно не могу одобрить его метода войны с индейцами на Равнинах. Я сказал, что он воюет с ними чересчур вразброд. Ему следовало бы собрать их в кучу в каком-нибудь удобном месте, где можно было бы заготовить достаточно провианта для обеих сторон, а затем устроить общую резню. Я утверждал, что всего убедительнее действует на индейца общая резня. Если же он не считает возможным допустить резню, прибавил я, то весьма надежное средство против индейца — мыло и просвещение. Мыло и просвещение действует не так быстро, как резня, но в конце концов неизбежно приводят к смертельному исходу. Полузарезанный индеец еще может поправиться, но если вы приметесь просвещать и умывать его, то рано или поздно это его прикончит. Это разрушает его организм, подтачивает самые основы его существования.
— Сэр, — заключил я, — наступил момент, когда кровожадная жестокость становится необходимостью. Предпишите мыло и букварь каждому индейцу, разбойничающему на Равнинах, и пусть он умрет!
Военный министр спросил меня, состою ли я членом Кабинета, и я отвечал утвердительно. Он осведомился, какую должность я занимаю, и я сказал, что занимаю должность письмоводителя в Сенатской Комиссии по конхологии. Затем я был подвергнут аресту за оскорбление должностного лица и провел в заключении лучшую часть дня.
После этого я совсем было решил молчать и предоставить правительству действовать, как умеет. Но долг призывал меня, и я повиновался. Я пошел к министру Финансов. Он сказал:
— Что прикажете?
Этот вопрос заставил меня отбросить церемонии. Я отвечал:
— Пунша с ромом. Он сказал:
— Если у вас есть дело, сэр, потрудитесь изложить его, да покороче.
Я выразил сожаление, что он так быстро переменил тему разговора, так как подобное поведение было очень оскорбительно для меня; но при существующих обстоятельствах я согласен посмотреть на это сквозь пальцы и перейти к делу. Затем я сделал ему самый серьезный выговор по поводу необычайной растянутости его отчета. Я сказал, что он размазан, загроможден ненужными подробностями и неумело составлен; в нем нет ни занятных описаний, ни поэзии, ни чувства, ни героев, ни интриги, ни картинок — ни даже простых политипажей. Ясное дело, никто не в состоянии одолеть его. Я уговаривал его не губить свою репутацию подобными произведениями. Если он рассчитывает на успех в литературе, то должен вносить больше разнообразия в свои писания. Надо избегать сухих деталей. Я сказал, что популярность календарей зависит главным образом от стихотворений и анекдотов, которые в них помещаются, и что несколько анекдотов, рассеянных в его годовом отчете, вернее обеспечат продажу, чем все перечисления внутренних доходов, которые он туда напихает. Все это я говорил самым любезным тоном, и тем не менее министр Финансов пришел в неистовое бешенство. Он даже назвал меня ослом. Он изругал меня ругательски и сказал, что если я еще раз вздумаю соваться в его дела, он вышвырнет меня в окно. Я отвечал, что коли так, коли нет никакого уважения к моему чину и званию, то я беру шапку и ухожу — и так и сделал. Он вел себя как новоиспеченный автор. Эти господа, издав первую книжку, воображают, что им уж и черт не брат. Не смей им и слова сказать.
Все время, пока я находился в непосредственных сношениях с правительством, выходило так, что всякое мое действие, подсказанное служебным рвением, навлекало на меня неприятности. А между тем все, что я делал, все, что я предпринимал, клонилось единственно ко благу отечества. Быть может, горечь моих обид побуждает меня к несправедливым и обидным заключениям, но мне положительно кажется, что министр Внутренних дел, Военный министр, министр Финансов и остальные мои confrerès с самого начала сговорились выжить меня из администрации. Довольно сказать, что я ни разу не присутствовал на заседании совета министров за все время моей государственной службы. Этого было довольно. Швейцар Белого Дома, по-видимому, вовсе не был расположен впускать меня, пока я не спросил, собрались ли остальные члены Кабинета. Он ответил утвердительно и впустил меня. Они все были в сборе; но никто не предложил мне сесть. Они уставились на меня с изумлением, точно на какого-то непрошенного гостя.
Президент спросил:
— Кто вы такой, сэр?
Я протянул ему карточку, на которой он прочел:
„Почт. Марк Твен,
Письмоводитель Сенатской комиссии
по конхологии".
Он осмотрел меня с головы до ног, точно никогда не слыхивал обо мне. Министр Финансов сказал:
— Это назойливый осел, который советовал мне поместить в мой отчет стихотворения и анекдоты, как это делают в календарях.
Военный министр сказал:
— Это тот самый полоумный, который явился ко мне вчера с предложением просветить часть индейцев до смерти, а остальных вырезать.
Морской министр сказал:
— Я узнаю этого юнца, он путался в мои дела на этой неделе. Он недоволен тем, что адмирал Фаррагут таскает за собой целый флот в увеселительную экскурсию, как он это называет. Его предложение какой-то нелепой увеселительной экскурсии на плотах слишком глупо, чтобы повторять его.
Я сказал:
— Джентльмены, я замечаю здесь стремление набросить тень на каждый акт моей служебной деятельности; я замечаю, кроме того, стремление лишить меня голоса в Совете нации. Я не получил повестки на сегодняшнее заседание. Только совершенно случайно я узнал, что сегодня назначено заседание Совета министров. Но оставим это. Я желаю знать одно: происходит здесь заседание Совета министров или нет?
Президент ответил: происходит.
— В таком случае, — сказал я, — приступим к делу, и не будем тратить времени на неприличные пререкания по поводу служебной деятельности каждого из нас.
Тогда вмешался министр внутренних дел и сказал благодушным тоном:
— Молодой человек, вы заблуждаетесь. Письмоводители комиссии конгресса не состоят членами Кабинета Министров. Даже швейцары Капитолия не состоят его членами, хотя это может показаться вам странным. Поэтому, при всем желании допустить вашу сверхчеловеческую мудрость к участию в наших совещаниях, мы по закону не можем этого сделать. Совет нации вынужден обходиться без вас; если это приведет к катастрофе, то да послужит утешением для вашего скорбного духа сознание, что вы словом и делом пытались предотвратить ее. Желаю вам всего хорошего. Прощайте.
Эти ласковые слова успокоили мою взволнованную душу, и я ушел, но слуги нации не знают покоя. Лишь только я вернулся в свое логовище в Капитолии и, как подобает члену правительства, положил ноги на стол, вошел один из сенаторов, членов конхологической комиссии, и накинулся на меня:
— Где это вы пропадали целый день?
Я ответил, что если кому-нибудь, кроме меня самого, есть до этого дело, то я могу сообщить, что был на заседании Совета министров.
— Совета министров? Любопытно знать, что вы там делали?
Я ответил, что отправился туда на совещание, вторично давая ему понять, что это вовсе его не касается. Тогда он заговорил самым нахальным тоном и в заключение сказал мне, что дожидался три дня, пока я перепишу ему доклад о каких-то там раковинах, раках, враках, — словом, о каком-то вздоре, имеющем отношение к конхологии, и что меня не могли нигде разыскать.
Это было уж слишком. Это было тем перышком, которое сломило спину клерикальному верблюду. Я сказал:
— Сэр, не думаете ли вы, что я намерен работать за шесть долларов в сутки? Если такова ваша мысль, то пусть Сенатская конхологическая комиссия поищет кого-нибудь другого. Я не намерен быть рабом вашей шайки! Оставайтесь со своей поганой комиссией. Дайте мне свободу или смерть!
С этого момента моя официальная связь с правительством прекратилась. Претерпев поношение в министерствах, претерпев поношение в Кабинете, претерпев поношение со стороны председателя комиссии, которую я согласился украсить своим присутствием, я уступил гонениям, удалился от опасностей и соблазнов высокого положения и покинул мое истекающее кровью отечество в опасную для него минуту.
Но я оказал услуги Государству и потому составил следующий счет:
Счет Американским Соединенным Штатам
от почт. письмоводителя
Сенатской конхологической комиссии:
За консультацию с военным министром . . . . . 50 долл.
За консультацию с морским министром . . . . . 50 долл.
За консультацию с министром финансов . . . . 50 долл.
За консультацию в кабинете министров . . . . . бесплатно
Путевые издержки в Иерусалим и обратно[4] via Египет, Алжир, Гибралтар и Кадикс, четырнадцать тысяч миль, по двадцать центов на милю . . . . . . . . . . 2800 долл.
Жалованье по должности Письмоводителя Сенатской конхологической комиссии, за шесть дней, по шесть долларов в день . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 долл.
Итого: 2986 долл.
Ни по одной статье этого счета мне не было уплачено, кроме несчастных тридцати шести долларов письмоводительского жалованья. Министр финансов, преследуя меня до конца, перечеркнул все остальные статьи и попросту написал на полях: „Оставить без последствий". Итак, грозная альтернатива налицо. Государство отказывается платить долги! Нация погибла.
В настоящее время я покончил всякие отношения с официальным миром. Пусть остаются на службе такие чиновники, которые позволяют себя третировать, как лакеев. Я знаю в разных ведомствах много таких, которым никогда не посылают повесток на заседание комитета министров, в которых представители нации никогда не обращаются за советом относительно войны, или финансов, или торговли, как будто у них нет никакого касательства к правительству, и которые тем не менее неукоснительно изо дня в день являются в канцелярию и работают. Они понимают свое значение для нации и бессознательно обнаруживают это в своих повадках и в манере заказывать кушанья в ресторанах — но они работают.
Я знаю одного, который занимается вырезкой всевозможных клочков из газет и наклейкой их в особую книгу — он делает иногда по восьми, по десяти вырезок в день. Делает не слишком хорошо, но все же делает как умеет. Это крайне утомительная работа. Она изнуряет душевные силы. А между тем он получает за нее только одну тысячу восемьсот долларов в год. Молодой человек с его мозгами мог бы нажить сотни тысяч долларов, посвятив себя какой-нибудь другой профессии. Но нет — его сердце принадлежит отечеству, и он будет служить ему до тех пор, пока останется хоть одна газетная вырезка. Я знаю служащих, которые не умеют грамотно писать, но и те скудные знания, которыми они обладают, они великодушно складывают к стопам отечества и трудятся и корпят за две с половиной тысячи долларов в год. То, что они пишут, приходится подчас переписывать заново другим служащим, но раз человек послужил своему отечеству, как умел, может ли отечество жаловаться? Есть чиновники, которые не занимают никакой должности, а ждут, ждут и ждут вакансии — терпеливо дожидаются возможности послужить своему отечеству, и за это ожидание получают каких-нибудь две тысячи долларов в год. Это грустно — это очень, очень грустно. Если у члена Конгресса имеется приятель, одаренный блестящими способностями, но не находящий занятия, к которому бы мог приложить свои таланты, он вверяет его своему отечеству, пристраивая его к местечку в каком-нибудь ведомстве. И этот человек остается рабом на всю жизнь и возится с бумагами в интересах нации, не находя с ее стороны никакого внимания, никакого сочувствия — и все это за какие-нибудь две или три тысячи долларов в год. Когда я составлю полный список чиновников различных ведомств с указанием того, что они делают и что они получают, вы увидите, что у нас нет и половины того количества, которое нам нужно, и что они не получают и половины того содержания, которое им подобает получать.
Примечания
1
По крайней мере, я собирался произнести этот спич, но за столом председательствовал наш посланник, генерал Шенк, который, после молитвы встал и произнес длиннейшую и нестерпимо тягучую речь, прибавив в заключение, что так как произнесение спичей, по-видимому, не особенно веселит гостей, то лучше будет обойтись на сегодняшний вечер без дальнейших речей, а посвятить его дружеской интимной беседе, которая поможет приятно скоротать время. Известно, что следствием этого заключения была смерть сорока четырех заготовленных речей в утробе ораторов. Уныние, мрачность, чопорность, водворившиеся с этого момента на банкете, надолго останутся тягостным воспоминанием для многих его участников. По милости этого необдуманного замечания генерал Шенк лишился сорока четырех лучших своих друзей в Англии. Многие говорили в тот вечер: „И такому-то человеку поручают быть нашим представителем в великом родственном государстве".
(обратно)2
В этом очерке ворожея рассказывает во всех подробностях историю убийства семьи Броуна Пайком, которого они приютили в Нью-Гемпшире. Она ничего не прибавляет, ничего не выдумывает, ничего не преувеличивает (смотри газеты Новой Англии за ноябрь 1869 года). Дело Пайк — Броун выбрано как пример, для иллюстрации обычая, господствующего не только в Нью-Гемпшире, но и во всех остальных штатах, — я разумею модный обычай навещать, ласкать, прославлять и оплакивать — что не мешает добиваться их казни и любоваться этим зрелищем — убийц вроде этого Пайка, со дня объявления смертного приговора до момента казни. Другая выдержка из „Temple Bar" (1866 г.) показывает, что этот обычай практикуется не только в Соединенных Штатах: „31 декабря 1841 года некто Джон Джонс, сапожник, зарезал свою возлюбленную, Мэри Галлам, дочь почтенного земледельца в Мансфильде, в графстве Ноттингэм. Он был казнен 23 марта 1842 года. Он был человек с непостоянными привычками и необузданными порывами страстей. Девушка отвергла его ухаживания, и он сказал, что если она не будет его, то не достанется никому. Когда он нанес ей первую, еще не смертельную рану, она умоляла его о пощаде, но видя, что он неумолим, просила дать ей время прочесть молитву. Он сказал, что помолится за обоих, и довершил свое преступление. Раны были нанесены сапожным ножом, горло варварски исполосовано. После этого он встал на колени и молил Бога сжалиться над двумя несчастными любовниками. Он не пытался бежать и сознался в своем преступлении. После ареста он держал себя очень прилично; приобрел расположение тюремного священника и был навещен епископом Линкольнским. Он ничуть не раскаивался в своем преступлении, но выражал полную уверенность, что соединится со своей жертвой на небесах. Многие благочестивые и сострадательные ноттингэмские дамы навещали его, и некоторые из них заявляли, что если был когда-нибудь истинный христианин, то именно он. Одна из этих дам прислала ему белую камелию в день казни".
(обратно)3
Оратор состоит директором этого общества.
(обратно)4
Областные делегаты обыкновенно получают путевые издержки туда и обратно, хотя, попав туда, никогда не возвращаются обратно. Почему мой счет путевых издержек был отвергнут, решительно не понимаю.
(обратно)

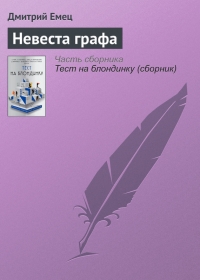
Комментарии к книге «14 произведений из сборника Sketches New and Old», Марк Твен
Всего 0 комментариев