Максим Кононенко День отличника Утопия
И слава Богу.
В. Сорокин, «День опричника»
2006–2007
Я свободен и счастлив. Я высокопоставлен. Я открываю глаза и смотрю на изысканного серого цвета потолок. Я талантлив. Мало кто может подобрать комбинацию свечей в помещении так.
Я называю этот красивый оттенок «афор явеш[1]». Никакой черноты. Никаких хлопьев копоти. Легкая серость. Как цвет моего служебного мерина.
Расстегиваю молнию спального мешка и вдыхаю чистейший воздух. В доме прохладно. Бодрит.
Выныриваю из мешка и привычным движением бросаю в печь пару крепких подсохших поленьев. Д.Россия жива березой. Березой и Березовой революцией. Тода раба,[2] герои! Лонг лив зе Проктер энд Гэмбл![3]
Поворачиваю la persienne,[4] и в дом врывается яркий солнечный свет. Над Москвой чистое голубое небо. С тех пор, как Д.Россия перестала зависеть от нефти, над ее городами перестал висеть удушливый смог. В этой стране так легко дышать! Воздух свободы свеж и кристально прозрачен. Воздух свободы справедлив и прекрасен. Я обнажен и распахнут навстречу этому воздуху. Я тоже прекрасен. Отимо![5] Рукоподаю новому дню.
Кукушка кукует семь сорок. Я подтягиваю вверх чугунные гирьки, ставлю на печь чайник с талым с вечера снегом, и отправляюсь в комнату-douche.[6]
Комната-douche — это место, где можно остаться совсем одному. Сбросить груз забот, растворить их в воде. Сквозь прозрачные двери душевой кабины проникают лучи веселого зимнего солнца. Вода весело сбегает по моей груди, ласково обтекая висящий на шее хьюман райтс вотч.[7] Я улыбаюсь себе и своей полной свободе. Мне хорошо здесь, под чистыми и холодными струями.
Передо мной — широкая полка из светлой березы. На полке — продукция «Проктер энд Гэмбл». Я выбираю сегодняшнее.
Шампунь и кондиционер в одном флаконе для солнечного понедельника. Жидкое мыло для морозного понедельника. Тюбик зубной пасты для второго послепохмельного понедельника.
Я правда выпил, но немного. Позавчера. В шабат не очень-то принято, но был национальный праздник — День поминовения всех Своих, в земле д. российской воссидевших. Основных из них три. Три главных хранителя Другой России, три ее сияющих правозащитника. Академик Андрей Дмитриевич Сахаров. Академик Дмитрий Сергеевич Лихачев. И академик Михаил Борисович Ходорковский. В министерстве накрыли большие столы, расставили на них цыплята табака, сациви, купаты, шашлыки и чебуреки. Говорил батоно Пархом. Хванчкару пили. Боржом пили. Нино пела «Тбилисо». Было здорово. Бон. Дэлисьё.[8]
Мы живем в либеральном демократическом обществе, и можем самостоятельно выбирать себе средства ухода за полостью рта, руководствуясь при этом лишь личной свободой и здравым смыслом. Однако наша свобода не должна ограничивать свободу других, и, по правилам хорошего тона, принятым среди интеллигентных людей, зубную пасту с послепохмельными добавками следует использовать как на первый, так и на второй день после принятия спиртных напитков. И это самый эффективный способ борьбы с извечным русским тоталитарным пьянством, поскольку послепохмельные добавки имеют специально подобранный дурной вкус, не заметный, впрочем, для окружающих. И теперь в этой свободной стране выпивают гораздо меньше.
А выпил — терпи, сказал я себе и, освободив одноразовую зубную щетку от упаковки, выдавил на нее коротенькую колбаску коричневой зубной пасты.
Раздался резкий отрезвляющий запах. Я попытался отвлечься.
Прекрасные слова говорил батоно Пархом. Просто замечательные. Дэр кунстмалер![9] Как это там было?
А на самом деле мы гордые И в ответ на потоки лести Мы отрежем словами твердыми: Экскьюзе-муа — много чести!Какие тонкие и умные строки! Рукопо… какая же гадость эта ваша послепохмельная зубная паста…
Батоно Пархом — гордый и свободолюбивый человек, годами безупречной службы доказавший свое право на честь. И я понимаю его! Вот я — всего лишь помощник министра. Пусть даже и самого министра свободы слова. Но даже мне приходится выслушивать столько записной и лицемерной лести, что иногда хочется попросту перестать рукоподавать собеседнику. Честное слово, так отвратительно!
Почистив зубы и ополоснув рот, я омываю свое молодое тело жидким мылом, а также споласкиваю волосы на голове шампунем и кондиционером в одном флаконе. Это прекрасно, когда на свете существует компания «Проктэр энд Гэмбл»! Гмадлобт,[11] высокорентабельная легкая промышленность, рост которой всегда сопутствует демократии! Хай живе[12] свободный ученый, первым сумевший соединить в одном флаконе шампунь и бальзам-вольюмайзер, который позволяет придать волосам объем даже при естественном высыхании без использования дополнительных косметических средств! Даже в холодной воде. Спасибо, таинственный незнакомец! Пою тебе хвалу! За простоту, за чистоту, за мыло и за душ. За всепрощение, за воскрешение, за очищенье наших душ! Рукоподаю технологиям.
Я пускаю в себя мощную струю любимого «Проктэр энд Гэмбл» «Запах помощника», бодро выхожу из комнаты-douche и подбрасываю в печь еще пару крепких поленьев.
Морозно до треска. Я очень люблю зиму. Д.Россия жива зимой. Зимой и березой. И, конечно же, революцией. Я разглядываю морозные узоры на окнах и включаю радио. Хрипит. Батарейки замерзли. Я ставлю радио поближе к печи — отогреться, а на саму печь, рядом с закипающим чайником, ставлю мой котелок с завтраком.
Я очень люблю свой котелок. Прекрасный котелок с антипригарным покрытием от «Проктэр энд Гэмбл». Мне подарили его в министерстве, всем коллективом. Вещь интеллигентная и очень практичная. Ани модэ лха,[13] сотрудники! «Проктер энд Гэмбл», ты думаешь о нас!
В котелке — нежнейший порридж[14] из превосходной американской кукурузы, улучшенной ведущими генетиками свободного мира. Пока завтрак и батарейки разогреваются, я подхожу к гардеробу и одеваюсь в рабочее. На мне: трусы и майка «Проктэр энд Гэмбл» для одинокого понедельника, носки «Проктэр энд Гэмбл» для официальных приемов, теплые ватные штаны для езды на мерине, рубашка и галстук для правительственной работы, теплый кошачий свитер грубой домашней вязки — подарок от правозащитников.
Талая вода в чайнике уже бурлит, уже подпрыгивает на пару алюминиевая крышечка c клеймом AMAL United Company.[15] Я снимаю крышечку и бросаю в чайник добрый кусок прекрасного грузинского плиточного чая. Кладу крышечку на место. Пусть заваривается покрепче — сегодня будет много работы.
Снова пробую включить приемник. Работает! Настраиваюсь на общенациональное «Эхо Москвы». В эфире радиошоу «Свободное утро». У микрофона — легенды демократической журналистики Ксюша Ларина и Ира Петровская. Идет традиционное понедельничное обсуждение воскресных телерадиопрограмм Жени Киселева «Итоги» и Вити Шендеровича «Итого».
— Вот сволочь! — говорит Ксюша своим низким грудным голосом, — До чего хорош! Просто гад! И паузы…и междометия…и порыв…
— А тембр бархатного голоса! — вторит ей Ира, — А улыбочка в усы! Эти подкупающие своей искренностью интонации… и каждая фраза — как в первый раз…
— И как всегда был великолепен Шендерович, — продолжает Ксюша, — Язва.
— Незаживающая язва, — подхватывает Ира, — Столько лет жить с обнаженным сердцем! Я так за него переживаю!
— Ужас! — соглашается Ксюша.
Я улыбаюсь, вспоминая вчерашний вечер. Этот восхитительный концерт Вити Шендеровича в программе «Итого», который показывают каждый день вот уже несколько лет, и который я могу пересматривать бесконечно. Откровенный и честный разговор о нас, об этой стране, о демократии и свободе.
Три часа концерта пролетели практически незаметно. Мы с Мишей сидели в телекомнате, держась за руки, и не отрывали глаз от голубого экрана. Миша — ды э мин кеастэ.[16] Мы не всегда сможем быть вместе, потому что я собираюсь стать правозащитником, но Миша понимает это и всячески меня поддерживает.
Вокруг нас сидели другие зрители, и мы чувствовали друг друга как самих себя, наслаждались свободой, которая дала нам возможность смотреть телевизор вот так, вместе, как будто бы все мы одна большая, единая общечеловеческая семья.
Когда Д.Россия страдала под гнетом царизма, авторитаризма и стабилинизма, каждый человек жил в одиночестве. Каждый вечер, а то и прямо с утра, люди прятались в телеэфире от суровых реалий жизни и духоты несвободы. И что это был за телефир! Пошлый и разнузданный вертеп, составленный из лицемерных, бравурных псевдо-новостей, восхвалений поработивших страну оккупантов и временщиков, щедро приправленный так называемым «юмором» ниже пояса, грубым и отвратительным, как федеральный чиновник в губернаторской бане. Че ун лимитэ а оньи коза![17]
Победа Березовой революции была предрешена после того, как оболваненные люди избавились от своих телевизоров, откликнувшись на предложение члена-корреспондента Березовского. Вырвавшись из зомбирующей паутины Кремля, граждане Д.России услышали голос свободы. И этот голос сказал им: довольно!
После того, как граждане этой страны избавились от телеприемников, они перестали быть быдлом. Д.Россиянин получил, наконец, долгожданную свободу собраний, и собрания эти стали массовыми и регулярными. Каждый вечер свободные люди собираются в специально учрежденных общественных телекомнатах, обустроенных благодаря грантам социально-ответственных и прозрачных коммерческих компаний. Индёндо пхумаси,[18] господа бизнесменские!
Собравшиеся в телекомнате имеют полную свободу выбора телеканала — разумеется, на основе консенсуса. Консенсус достигается путем переговоров и последующего голосования с учетом прав меньшинства. Вчера вечером выбор был таким: концерт Вити Шендеровича на Первом канале, традиционный воскресный правозащитный ход на канале «Демократическая Россия», воспоминания современников о деяниях Политзаключенных Академиков на канале «Правозащитная Мысль» и концерт клуба авторской песни на канале «Культура». Миша голосовала за бардов — ей очень нравилась Нателла Болтянская, настоящая звезда современной д. российской демократической музыки, в прошлом году представлявшая эту страну на фестивале «Демовидение». Я бы тоже не отказался лишний раз посмотреть на красавицу Нателлу, послушать её большую старинную гитару и прямые, честные и не всегда лицеприятные слова о нас и о нашей стране:
Hо он не из тех, не таковский, Чтоб душу продать за эффект. Товарищ М.Б. Ходорковский, Примите глубокий респект!Удивительной глубины текст! А ведь когда-то эфир был замусорен такой похабщиной, о которой и говорить-то стыдно. Какие-то «белки», «стрелки», лесбиянки, трансвеститы, фальшь, бездуховность и стыд. Хорошо, что теперь д. россиянам подобная пошлятина попросту не нужна.
Чего суетиться, покамест Hе время за вами придти. Мещанский. Чита. Краснокаменск — Этапы чужого пути.Наш древний родной ми минор и честные, искренние слова — что еще нужно для хорошей, демократической музыки? Нафинг.[19]
И все же — хороша Нателла, да не для всех. Большинство собравшихся в телекомнате проголосовали за Шендеровича. Мы с Мишей обрадовались и этому — мы любили Витю, его жалящий язык и острый взгляд, его добрую улыбку и открытость всему обществу. Миша посмотрела на меня горящими глазами и рукоподала свей теплой ладонью моему левому колену.
Шендерович блистал. Мы затаили дыхание.
— Я хотел бы писать, как Сименон, — говорил с большого экрана Витя, и от слов его на душе делалось тепло и уютно, — Сидеть, знаете ли, в скромном особнячке на берегу Женевского озера — и писать: «После работы комиссар любил пройтись по набережной Сен Лямур де Тужур до бульвара Крюшон де Вермишель, чтобы распить в бистро флакон аперитива с двумя консьержами».
По зрительному залу пронеслось изумленно-восторженное «Ах!» Уж сколько раз все мы слышали эти вечные слова, но каждый раз у нас захватывало дух от того, насколько легко и непринужденно творил Витя свои бессмертные шутки: «по набережной Сен Лямур де Тужур до бульвара Крюшон де Вермишель». Здорово! Великолепно! Да что там — ведь попросту гениально! И как только собравшиеся в зале выдохнули своё «Ах!», ряды грохнули от здорового и честного смеха свободных людей. Только при демократии возможен настоящий, истинный юмор, а не уродливый суррогат смутных времен, замешанный на животном страхе перед вездесущими старшими братьями.
Миша дрожала от возбуждения. Ее маленькая ладошка сильно сжимала мое колено.
Я улыбаюсь, вспоминая вчерашний вечер. Правы, ох как правы Ксюша Ларина и Ира Петровская, когда говорят об обнаженности сердца Вити Шендеровича! Оно даже не просто обнажено, оно у него вывернуто наизнанку! И теперь все мы, весь многонациональный д. российский народ, можем видеть, что у Вити в сердце. В самом нутри.
— Как-то не отпускает меня этот концерт Шендеровича, — говорит Ксюша, — Тончайшая вещь, созданная лиричным, незащищенным человеком. В Вите совершенно нет озлобленности, он не сводит счеты, не предъявляет претензий, не проклинает страну, погубившую его юность, никого не стремится наказать.
— Неподражаемый, — вторит ей Ира, — Замечательный!
С Ирой и Ксюшей трудно не согласиться. Уникальный журналистский коллектив не ошибается. Не имеет права ошибаться. Время ошибок закончилось. Настало время работы и наслаждения. Наслаждения свободой и истинной демократией.
Наливаю в кружку обжигающий чай. Снимаю крышку с котелка с порриджем. Рукоподаю утренней трапезе. Ем ложкой прямо из котелка. Запиваю чаем. Любэ добже зъесьць.[20] В понедельник нужно много энергии. Ее даст мне улучшенная американскими специалистами кукуруза.
На «Эхе Москвы» — новости.
Введены в строй семь новых нефтяных скважин в Сибири. Это прекрасно. Сибирская нефть принадлежит всему человечеству, и человечество ее, наконец, получило.
В Лондоне начались юбилейные Трегубовские чтения, посвященные изучению литературы, раскрывающей кровавую сущность стабилинизма.
Состоялась мировая премьера кинофильма «Жизнь диссидента — 4». Супергерой Александр Литвиненко после многолетнего перерыва снова вернулся на киноэкраны. На этот раз он противостоит коварным планам Кремля и ФСБ по сворачиванию демократических свобод в Соединенных Штатах Америки. Палдиес,[21] Мирамакс!
В Д.России увеличилось производство и экспорт современных высокотехнологичных моющих средств, а брак батареек уменьшился. Экономисты довольны таким развитием ситуации.
Открыт новый Правозащитный Центр. Услышав это, рукоподаю. Нет веры сильнее и праведнее, чем вера в общечеловеческие ценности и свободы. Вера в права человека. Да пребудут с нами свобода и демократия! Да пребудет с нами хьюман райтс вотч!
Я тоже готовлюсь стать правозащитником. О моем желании известно, где следует. В любой момент меня могут вызвать на Лубянку, в святая святых. Это изменит мою жизнь раз и навсегда, но я хочу этого и дерзаю. Жалко, конечно, что мы не сможем быть с Михаилой, но существует и внутренний долг. Так надо. Я должен. Трогаю хьюман райтс вотч.
Допив чай, я накрываю оставшийся порридж крышкой и готовлюсь выйти на улицу. Надеваю папаху, «аляску» на толстом слое синтепона (Гуанчжоу, восьмой сезон, каталожная вещь) и галоши от «Проктэр энд Гэмбл». Мало кто может подобрать комбинацию цветов так, как я. Красный галошный, белый «аляски» и синий папахи. Я талантлив. И Миша на самом деле не хочет, чтобы я уходил в правозащитники.
Я отворяю дверь и в облаке пара выхожу на мороз. Минус тридцать, если диктор не врет. Хотя на «Эхе Москвы» дикторы врать и не могут.
Во дворе уже стоит мой дымчато-серый служебный мерин. Бахтияр держит его под уздцы.
— Кант, — говорит Бахтияр без улыбки.
— Что — Кант? — переспрашиваю я с улыбкой.
— Каза болду,[22] — отвечает Бахтияр.
— Как? — удивляюсь я, — Снова?!
Бахтияр молча показывает мне пустую ладонь.
— Ырас![23] — восклицаю я, — Кант![24] Сегодня схожу на выдачу, Бахтияр. Будет и мерину в зубы, и нам с тобой в чай.
Вообще, разумеется, сахар — вреден. Сам я его не ем. Грузинский плиточный чай столь восхитителен вкусом, что сахаром его только портить. Но мерин и Бахтияр сладкое очень любят. Поэтому весь свой сахар я отдаю им. И от этого все время пропускаю момент, когда он заканчивается и надо снова идти на раздачу. Получается, что как раз сегодня и надо идти. Не забыть бы. Не проворонить.
Седлаю мерина. У меня прекрасный служебный мерин. Легкого серого цвета, очень похожего на цвет потолка в моей комнате. Я специально подбирал свечи так, чтобы не было хлопьев копоти и сажи. Чтобы не было черного. Мне нравятся мягкие, интеллигентные цвета. Большинство свободных людей не обращают никакого внимания на расстановку свечей в комнате. Ставят как попало. Некоторые даже вообще и не ставят. Живут до захода солнца, а потом залезают в мешок. Я этого не понимаю. Я не понимаю, как можно не почитать перед сном хорошую книгу. «Архипелаг Гулаг». Синявского и Даниэля. Антологию лучших статей, опубликованных в «Новой газете». Полное собрание сочинений Анны Степановны Политковской. Это же целый пленительный мир! Нам повезло, мы живем в свободном, демократическом обществе. А они, первоправозащитники, апостолы нашей свободы, гордые одиночки, жившие во враждебном тоталитарном окружении — кто они? Как им удавалось хранить в себе этот огонек свободы, который однажды воссиял рассветом Березовой революции? Почему они были такими? Зачем отдавали за нашу, тогда еще очень призрачную свободу самые свои жизни? От этих вопросов захватывает всю мою еще молодую духовность. Я знаю, что они верили — однажды Д.Россия воспрянет. Сбросит с себя тысячелетнее ярмо несвободы и воссоединится, наконец, с общечеловеческой семьей стран истинной демократии, входящих в либеральный и миролюбивейший блок НАТО. Они верили в это. Верили, выходя на Красную площадь. Верили, выходя на марш несогласных. Верили, кидаясь под резиновые палки озверевших омоновцев. Верили, уезжая в Израиль и Лондон. Верили в камерах Краснокаменска. Верили, падая под пулями гэбэшных убийц. Верили, умирая в страшных муках от отравления полонием двести десять. Они верили в это, и это пришло. Над этой страной воссияло солнце прекрасной свободы. Россия стала Другой. Рукоподаю им и верую с ними. Будем свободны! Всегда свободны!
Мерин мягко переступает по свежему снегу. Я с любовью осматриваю собственный дом. Вот оно — зримое и неиллюзорное завоевание демократии. То, чего не смогли бы мне дать ни царизм, ни социализм, ни даже олигархия. Очереди и ипотеки суть подлый обман городского народа. Нас долгие годы держали за быдло, но с приходом в страну свободы и демократии Д.Россия смогла, наконец, решить свой извечный вопрос. А вопрос этот был, как известно, квартирный.
Мог ли любой, пусть даже не такой высокопоставленный житель старой России, как я, рассчитывать на собственный дом на Тверской? Даже цари и олигархи такого позволить себе не могли. Потому что не знали они демократии. Не знали, как это можно так — поступиться личными прибылями ради всеобщего блага. Как это можно так — взять и снести весь этот сталинский многоэтажный и каменный мир, холодный, сырой и тяжелый, каждая ступенька парадных которого залита кровью невинно умученных граждан, так и не дождавшихся светлой и чистой Д.России, России Другой, свободной и честной перед собой и перед своим избирателем. Теперь все иначе. Вот он — мой дом. Когда-то на месте его стояло уродливое и малофункциональное здание — дом генерал-губернатора, красный и сумрачный монстр с аляповатым и пошлым сусальным декором. Когда царизм пал, генерал-губернатора гнали, но на место его в том склепе воссели секретари горкомов, мэры и председатели правительства города — такие же душегубы и взяточники, всеми фибрами своей чиновьичей кожи впитывавшие флюиды и эманации прошлого, казалось, навеки въевшегося в стены этого красного здания.
Мы сделали просто — сломали его. Сломали и все остальные бетонные муравейники, словно бы предназначенные для того, чтобы подавлять волю ютящихся в них горожан и снимающих. И над Москвой раскинулось солнце. То самое солнце, которое на протяжении столетий скрывалось чудовищным смогом и многоэтажными склепами. Открылись дороги, холмы и просторы. Все склоны холмов и просторы мы заняли красивыми мобильными домиками. А как среди этих прелестнейших домиков заиграло вдруг здание Фридом Хауз! Палатиум![25]
Я смотрел на свой дом, и широкая волна гордости поднималась во мне от самого седла мерина и до самой папахи. Один из самых ухоженных в городе. Один из самых уютных и чистеньких. Каждому, кто видел мой дом, хотелось устроить свой так же, а люди ведь даже не видели, до чего же красивый мой потолок, так чудесно раскрашенный обычной свечной копотью. Все же я очень талантливый. Есть во мне что-то такое, прекрасное. Гнутые желтые стены моего домика, выпуклые окна из коричневого солнцезащитного пластика, а главное, всегда свежепокрашенные и крепко накачанные колеса — все выдает рачительность и расторопность хозяина. И Бахтияра. В Москве установлены шесть миллионов индивидуальных жилых трейлеров — но мой, безусловно, один из уютнейших в городе.
Мерин словно бы чувствует мое удовольствие — он громко фыркает и оборачивается, глядя большим понимающим глазом на Бахтияра, присевшего возле прицепа. Бахтияр поднимает ладонь в рукавице и машет приветственно мерину. В светоотражающем красном фонаре трейлера проскакивает блик солнца. День начинается сказочно. Сегодня словно бы что-то случится. Прекрасное и важное. Я чувствую. Я улыбаюсь и дню, и себе, и Бахтияру, и мерину. И, конечно же, трейлеру. Рукоподаю всем и каждому, в ком жива и трепещет любовь к демократии. Атаманна лякум саада![26]
Картина масштабная. Сколько хватает глаз, от самой Манежной и до самой до Березовской — трейлеры, трейлеры, трейлеры. Желтые, синие, красные — сладостный миг в истории, когда, наконец, каждый другой россиянин имеет свой собственный, отдельный, практичный в эксплуатации дом. С собственной печкой. С комнатой-douche. Спальный мешок на густом синтепоне. Четыре ступеньки от двери во двор. И даже участок, где зимой можно поставить пушистую елку из химкинского полипропилена, а летом хорошо установить казан-мангал и испытать мужские удовольствия. Я улыбаюсь, вспоминая наветы злопыхателей — мол, революция хуже. И что при стабилинистах было централизованное горячее водоснабжение, а теперь его нет. Смешно слушать. Зачем оно нужно, это водоснабжение, если свобода подарила нам «Тайд»? Где угодно, в любых условиях, без ограничений используем «Тайд». «Тайд» универсален. «Тайд» содержит уникальное сочетание элементов, которое позволяет значительно улучшить качество стирки при минимальном использовании порошка. Такая система позволяет с легкостью отстирывать даже сложные пятна от чудо-йогурта, кетчупа, крови, грузинского чая и растворимого кофе «Фолджерс»! Даже на таких проблемных местах, как воротнички и манжеты! «Тайд» не выключают каждое лето на три недели. «Тайд» не течет по трубам, которые надо ремонтировать. «Тайд» есть всегда. «Тайд» будет всегда. Хочешь — лимон. Хочешь — альпийская свежесть. Хочешь — белые облака. А хочешь — подснежник.
Нет, никогда не надо себя обманывать. Не надо переть против большой исторической правды. Революция — метод. А результаты применения этого метода зависят лишь от честности помыслов тех людей, что революцию делают. Одни делают революцию так, что после нее приходится убивать миллионы не принявших. А другие вершат свое дело по-честному. И после такого восстания люди вдруг обретают прекрасное — истинную свободу. Истинное народовластие. Собственные дома, пусть даже без водопровода и канализации. Пусть! Пусть! Зато ведь свои собственные! А ради свободы можно и снегу натопить, и ведро с помоями пару раз в день на улицу вынести. Унскюль.[27]
Мерин осторожно спускается вниз по Тверской. Попутно мне следуют сотни чиновников — кто на лыжах, а кто прямо в валенках, кто на ослах, а кто и на меринах. Ликующий город. Мирный, улыбающийся, добрый, единый народ. И главное — свободный. Свободный! Свободный! Солнце искрится в сугробах, над Тверской поднимается пар от дыхания тысяч людей и животных — живая река медленно ползет к центру свободной Д.России. Мимо домов, мимо столовых, мимо правозащитных организаций — вниз, по Манежной, по Красной имени Ющенко — к черным стенам и башням Кремля, в центре которого возвышается величественная пирамида московской штаб-квартиры компании «Проктэр энд Гэмбл» с огромным сияющим хьюман райтс вотч на крыше заоблачного Пентхауза. Наш Фридом Хауз. Средоточение власти в Д.России. Рукоподаю великому городу. Рукоподаю древней крепости. Рукоподаю единому и неделимому народу Другой России — людям свободы и демократии. Модын госи чать твегирыль парамнида![28]
Со мною равняется доброезжая кобыла гнедко. На кобыле сидит мужчина в тулупе. Киргизская шапка, сапожки из сумки «Виттон» — я знаю мужчину, знакомы. Это Платон Любомиров, сотрудник отдела по управлению международным и внутренним терроризмом. У Платона лихая работа. Я бы с такою не справился. И вовсе не потому, что не смог бы. Я ведь такой же, как и Платоша, отличник. Мы с ним вместе заканчивали демократический факультет МГУ. У меня, как и у него, на груди висит алюминиевый опознавательный знак — большая, заметная буква «О». И я, как и он, внесен в почетную книгу лучших выпускников Московского Гарвардского — мы с Платоном очень похожи. Да и работа, если не брать во внимание частности, очень похожая. Я договариваюсь с журналистами, а Платон — с террористами. И те и другие — живые, свободные люди. И те и другие живут интересами, и те и другие ведь, в сущности, дети. Просто одни из них пишут, другие — взрывают. А я — человек тонкой душевной организации. В последнее время я люблю простые вещи, видимо, от пресыщенности сложными: мыслями, словами, эмоциями, проектами, радостью, которая внутри. Без всякой очередности — все подряд. Кукурузный порридж в антипригарном котелке от «Проктэр энд Гэмбл». Блеск идеально отшлифованной Бахтияром стали в зубах у моего служебного мерина. Доверительный голос Ксюши Лариной в нагретом на печи приемнике. Душистый вкус грузинского плиточного чая. Ореховая паста на лаваше. Мощная струя любимого… впрочем, я что-то отвлекся. Ведь мы о Платоше. Платоша — мужчина отчаянный. Это такие, как он, первыми продали свои телевизоры. Это такие, как он, установили первые палатки на улицах. Такие, как Платоша Любомиров, первыми стали жить в трейлерах. Такие, как он, первыми отказались от нефти и газа и перешли на дрова. Отчаянные пионеры Другой России. Люди, впервые в истории человечества решившие вопрос с террористами. И пусть я ничуть не уступаю Платону по деловым качествам, но мое психоэмоциональное внутреннее устройство позволяет мне быть наиболее эффективным в работе с провозвестниками свободы и демократии, в то время как мой сокурсник находит для себя более занимательным работать с реликтами авторитарной системы правления, коими и является самоопределившийся и тщательно охраняющий свои национальные традиции народ террористов.
— Как утро, Роман? — говорит мне Платоша.
— Свободен! — сияю в ответ.
— Как Михаила? — спрашивает мой однокурсник.
— Готовимся, — вздыхаю я грустно, — Все таки знаешь, так жаль расставаться.
— Ты сильный мужчина, — говорит мне Платоша, — Делай, что должен, и будь, что будет. Я позабочусь о Михаиле.
Я знаю, что Любомиров не лжет. Свободные люди вообще не умеют лгать — нам это незачем. И я знаю, что он позаботится о моей девушке. Но что-то чуть колет внутри. Что-то странное. Я знаю, что это — министерский демоаналитик назвал это «ревностью». Старинное чувство, атавизм эпохи тоталитарного общества. Миша свободна. Но древние инстинкты мешают мне ощутить это в полную силу. Мешают мне, равно с ней, насладиться этой свободой. Дышать ею всей полной грудью. Мелкое и подлое чувство собственности, чувство владения чужим телом и мыслями — вот что мешает мне самому освободиться окончательно и бесповоротно. Вот, из-за чего меня до сих еще не вызывают. Вот почему я пока не могу стать правозащитником. Я несвободен. Я несвободен. Но я постараюсь. Трогаю хьюман райтс вотч под свитером. Рукоподаю ему истово.
— Как твои террористы? — спрашиваю я у Платоши, чтобы отвлечься от воспоминаний о Михаиле.
— Наслаждаются жизнью, — отвечает Платоша, — Все время хотят что-нибудь праздновать. Как первое сентября — школу. Как осень — театр. А недавно пришли ко мне, просят — нельзя ли, Платоша, нам выделить часть американской авиабазы для взрыва артистов. Говорят, что у них вдруг упала рождаемость, и полевые командиры считают, что это им месть от Всевышнего. Что они совершенно расслабились и уже несколько лет не устраивали терактов с артистами.
— Именно с артистами? — удивляюсь я, вдруг позабыв о Мишутке.
— Именно с артистами, — кивает своей киргизской шапкой Платоша, — Пришлось договариваться. Еду сейчас утрясать последние детали. Решили им выделить в Шереметьево сектор. На грузовик с гексогеном. Сцену уже построили. Заодно и посмотрим, вырастет ли у них рождаемость после этого взрыва.
— Смелый ты парень, Платоша, — с уважением говорю я, — Мне как-то не по себе от всех этих взрывов.
— Что поделать, — пожимает плечами сокурсник, — Мы живем в многонациональной стране. И народ террористов ничем не отличается от любого другого народа Д.России. Одни не едят по полгода скоромного, другие режут баранов на улице, а третьи взрывают дома, захватывают школы и отказываются носить хьюман райтс вотч. И мы просто обязаны уважать интересы и обычаю любого народа этой страны. Мы толерантны.
— Мы толерантны, — охотно повторяю я вслед за Платошей.
— Приезжай, если хочешь, — говорит мне Платоша, — Сегодня они часов в пять заряжают. Посмотришь — должно быть красиво.
— Не знаю, — бормочу я в ответ, а сам про себя думаю: «А почему бы и нет? Отвлекусь заодно от Мишутки…»
— Я пришлю тебе голубя, — говорит мне Платоша, трогает рукою в толстой рукавице край своей киргизской шапки, легонько прихлопывает кобылу ногами и устремляется вниз, к Манежной, а через нее — на Красную площадь имени Ющенко.
На площади уже митинг. Традиционный утренний митинг, сбирающий всех, кто работает на неисчислимых этажах Фридом Хауза, расположенных ниже Пентхауза. Я вижу площадь, заполненную людьми в берестяных колпаках и с березовыми кольями в высоко поднятых руках, и людей этих столько, что мне не хватает взгляда охватить их. Я вижу потоки людей, которые вливаются в площадь и кричат от восторга: «Свободны! Свободны!!»
Мой мерин проходит через Манежную, мимо конного памятника Эйзенхауэру — человеку, победившему германский фашизм. Если бы не Соединенные Штаты Америки, никакой демократической революции в Д.России бы не было. Д.России бы вообще больше не было. Никто не забыт. Ничто не забыто. Рукоподаю великому воину. Виктори![29]
В широчайшем Демократическом проезде шеренгами стоят стоят раздающие. Рядом с ними — большие подводы с березовыми кольями и берестяными колпаками. Мне подают кол и хороший, крепкий колпак, сшитый пеньковой веревкой. С тех пор, как Д.Россия стала свободной, она смогла вернуть себе многие утраченные во время стабилинизма позиции. В том числе — и первое в мире место по экспорту продукции из натуральной конопли.
Я улыбаюсь. Мерин осторожно въезжает в на площадь. Красная площадь имени Ющенко. Майдан беспредельности. Символ нашей свободы. Каждое утро митинг на площади начинается с памяти. С памяти павших в борьбе за священное дело Березовой революции. На лобном месте — красавец с из хорошей семьи с благородными генами, истинный юкос, носитель исконной свободы, боевой либерал Леонид Борисович Невзлин, член-корреспондент Правозащитного Центра.
В каждой руке либерал держит по мегафону. На шее его висит тяжелый березовый хьюман райтс вотч.
— Памяти павших, — кричит Невзлин в два мегафона, — Будьте достойны!
— Достойны! Достойны!! Достойны!!! — повторяет за либералом майданная гуща.
Вверх взметаются тысячи рук, и в каждой из них — кол свободы и демократии.
— В борьбе за дело Хельсинкской группы будьте свободны! — кричит в мегафоны правозащитник.
— Всегда свободны! — отвечает ему великая площадь, — Всегда свободны!
Вокруг меня колья, колья, колья. Я чувствую березовый запах. Оказывается, это такое счастье — стоять в окружении огромного числа людей, в едином порыве скандирующих «Свободны! Свободны! Свободны!», чувствовать плечо соседа, круп его лошади, видеть вокруг горящие глаза под березовым колпаком и читать в каждом взгляде: «Будем свободны!». Честное слово, я каждое утро испытываю такой эмоциональный подъем — до срывающегося голоса, до слез на глазах и до сжатых до синевы кулаков… И это пьянящее чувство свободы, стократно усиливающееся твердой уверенностью, что люди вокруг ощущают то же, что и ты и готовы поддержать тебя в любую минуту, рукоподать тебе и всыпать овса твоей лошади в ясли.
— Во имя академика Сахарова! — кричит Невзлин в свои мегафоны.
— Свободны! Свободны!! Свободны!!! — рукоподает ему великая площадь, — ТАК![30] ТАК!! ТАК!!! ТАК!!!!
— Во имя академика Лихачева!! — кричит либерал, и колья стучат многотысячным лесом.
— Свободны! Свободны!! Свободны!!! — рукоподают лобному месту люди под кольями, — ТАК! ТАК!! ТАК!!! ТАК!!!!
— Во имя академика Ходорковского!!! — заходится Леня, срывая с шеи хьюман райтс вотч и поднимая его в вытянутой руке.
— Свободны! Свободны!! Свободны!!! — рукоподает майдан беспредельности, обнажая свои хьюман райтс вотч. Вынимаю свой хьюман райтс вотч и я, — Свободны! Свободны!! Свободны!!! ТАК! ТАК!! ТАК!!! ТАК!!!! Свободны! Свободны!! Свободны!!! ТАК! ТАК!! ТАК!!! ТАК!!!!
Крики постепенно стихают. Колья опускаются. Люди прячут свои хьюман райтс вотч под одежду. Я вижу вокруг себя раскрасневшиеся, довольные и готовые к работе лица граждан новой Д.России. Заряд бодрости и любви к демократии, который каждое утро дарит нам боевой либерал Невзлин, словно лучшая из батареек, будет питать каждого сотрудника до самого окончания рабочего дня, а многих из нас — и далее. Жить стало лучше! Жить стало демократичнее!
Ежеутренний митинг свободы еще пару мгновений держится слитно, потом вздрагивает, походит волнами и постепенно начинает распадаться на фракции. Люди на лыжах, в седле или пешими, тихонечко движутся в Кремль. Цитадель царской и тоталитарной России, на протяжении долгих столетий разделявшая властителей с гражданами этой страны, теперь является символом нового. Символом рождения светлого. Кремль был белым при царизме, красным при тоталитаризме, а теперь, при свободе и демократии, в знак покаяния перед предыдущими поколениями и в знак вечного траура перед невинно замученными режимом политзаключенными он выкрашен в торжественный черный цвет.
Высокая, толстая стена, консервативно и бережно охранявшая старое, по проекту архитектурного бюро Фостера треснула, словно бы скорлупа яйца, высвобождающая из своих недр стремительное и бескомпромиссное здание Фридом Хауза. Зигзагообразная трещина шириной в пятнадцать метров расположилась между Сенатской и Спасской башнями, прямо на месте кладбища большевистских убийц. Все, что осталось от этого некрополя — вмурованная в пол урна с прахом так называемого «космонавта» Гагарина, обманом якобы взлетевшего раньше первого в мире астронавта Алана Бартлета Шеппарда. Теперь и уже навсегда сотни тысяч людских ног каждый день будут говорить «космонавту» Гагарину, что в космосе нет место ничему несвободному. Слева от проема стены, выполненного в форме первого разлома авторитаризма в СССР — разлома крыши ресторана «Макдоналдс» на Березовской площади (включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, охраняется государством), располагается последнее надгробие тоталитарного кладбища — мемориальная пустая могила Инессы Арманд, символизирующая собой нерукоподаваемость без оправдания непричастностью. Справа от трещины — Музей Оккупации Д.России в уродливом здании бывшего мавзолея тирана и убийцы Ленина работы сталинского выкормыша, бездарности и посредственности Щусева. Ленин и Инесса Арманд теперь похоронены вместе в одном из бывших сибирских концлагерей — они, наконец-то, нашли друг друга там, где им и положено. К стене Музея Оккупации, прямо вдоль прохода в Кремль, прислонен обломок желтой стены так называемого Четырнадцатого Корпуса, в извилистых коридорах которого когда-то планировались самые гнусные тоталитарные злодеяния. Теперь этот корпус, как и все остальные корпуса тоталитарного Кремля, разрушен самою свободой. А на их месте сияет поляризованными стеклами великая пирамида Фридом Хауза — символа нашей свободы. Остался лишь этот, единственный кусок стены от проклятого корпуса. И каждый проходящий через пролом нерукоподает с ненавистью куску этой стены — последней святыне несвободного общества, адепты которого встречаются в Д.России и до сих пор — в условиях демократии.
Нерукоподаю камню и я. Проехав мимо Музея, я плавно въезжаю за стену, в пролом. Сразу же за проломом конные спешиваются, и Бахтияры разводят их лошадей по подземным конюшням. Спешиваюсь и я. Отдав мерина, кол и колпак подбежавшему Бахтияру, я низко кланяюсь величественному зданию. Снимаю папаху и рукоподаю компании «Проктэр энд Гэмбл». Поднимаюсь по социальной лестнице и вхожу в приветливо распахнутые мне навстречу автоматические стеклянные двери. Киваю привратнику-Бахтияру, расстегиваю «аляску» и прохожу в правый лифтовой холл. Социальные лифты — вот, чего так не хватало нам, молодым, в условиях автократии. Теперь эти лифты есть — по двенадцать на холл. Каждый человек, вне зависимости от состояния и социального положения, может воспользоваться этими лифтами для поднятия на любой из ста девятнадцати этажей современного российского общества. Я каждое утро, кроме выходных и праздничных дней, поднимаюсь на сто первый. Именно там располагается мое рабочее место — место помощника министра свободы слова.
В лифт вместе со мной заходят: две незнакомые девушки, сотрудник отдела маркетинга Семен Новопрудский, слоняющийся без дела террорист и ночная уборщица. Девушки спорят о последнем романе Лимонова, уборщица практически спит, Семен улыбается мне и собирается что-то сказать, как вдруг террорист распахивает свой макинтош. Под этой малоподходящей к морозу одеждой у террориста немало пластида.
— Простите, — говорит террористу Семен, — Я вижу, здесь нет детонаторов. Что-то случилось?
— Случилось, — бурчит террорист, отпуская полы макинтоша, — Мы задыхаемся от несвободы.
— Да разве же? — улыбаюсь я огорченному террористу, — Вам предоставлены все условия для отправления своих национальных обычаев. Взрывайте что угодно, захватывайте что угодно — но только уведомляйте власти о том, где вы будете праздновать. Чтобы эвакуировать людей и подыскать им другое рабочее место. Разве же здесь несвобода?
— А почему мы обязаны уведомлять власти? — горячо вопрошает террорист, — В конституции Д.России зафиксировано право на свободу собраний и политических акций.
— Мирных собраний, — поправляет террориста Семен, — И политических акций. А национальный террористический праздник — это не политическая акция. И уж никак не мирное собрание.
— Да отчего же не мирное? — не понимает террорист, — Разве ж мы злые?
Девушки забыли про Лимонова и с восторгом смотрят на спорщика. Ночная уборщица спит.
— Вы не злые, — успокаиваю я террориста, — Но мы же живем в толерантной стране. И каждый их нас имеет полное право на свободу. Вы — на свободу терактов. Мы — на свободу покоя.
— Но вы-то все время в покое, — ворчит террорист, — А я уже третью неделю таскаю на себе этот пластид и не имею возможности спокойно грохнуть его. Разве же здесь справедливость?
— Сегодня, — говорю я несчастному и улыбаюсь, — Сегодня в пять часов. На авиабазе в Шереметьево. Зарезервирован целый сектор для взрыва грузовика в гексогеном. С артистами. Если вам хочется — езжайте туда. Осуществите свой план. Тем Другая Россия и отличается от старой России. Мы — общество открытых возможностей.
— Сегодня в Шереметьево в пять? — переспрашивает меня террорист, — А откуда вы знаете?
— Я знаю, — умиротворяюще киваю террористу я, — Я — помощник министра свободы слова.
Девушки немедленно переводят свои глаза на меня. Ночная уборщица спит.
— Начальнички… — бурчит террорист и нажимает на кнопочку «Стоп».
Немедленно лифт останавливается, звякает крохотный колокольчик и широкие двери с легким шипением раскрываются.
— Ну смотри, начальничек… — бормочет террорист, выходя из кабины в холл семнадцатого этажа, — Если же сектор не зарезервирован — взорву его без всякого уведомления.
«Осторожно, двери закрываются» — говорит с потолка кабины лифта социальный работник. И двери действительно закрываются.
Две молодые девушки смотрят на меня в полном восторге. Ночная уборщица спит.
— Интересно, — говорит про себя Новопрудский, — Где он до вечера детонатор возьмет.
— Вообще это странно, — задумчиво говорю я, — Вот мусульмане, например, всегда, когда надо, имеют заправленного красной краской силиконового барана и нож. А террористы, почему-то, пластид имеют — а детонаторов нет. Может, нам надо подумать о какой-то программе федеральной поддержки малых народов? Может, снабжать их всем необходимым для ритуалов, камланий и взрывов?
— Я маркетолог, — отвечает Семен, — Я так понимаю — если спрос на теракт есть, то и детонатор найдется. А если на теракты спроса нет — то и пластид не поможет. Правильно я говорю?
Девушки немедленно переводят глаза на Семена. Ночная уборщица спит.
— Ну, в общем-то правильно, — соглашаюсь с Семеном я.
Лифт останавливается на сорок четвертом.
— Это мой, — говорит Семен и выходит из кабины.
Девушки снова начинают смотреть на меня. Ночная уборщица спит.
— Мне на сто первый, — немного смущенно говорю я.
— А нам по барабану, — отвечает одна из девушек, и вторая хихикает. Ночная уборщица спит.
Девушки выходят на семьдесят пятом. Здесь обучают эстонскому. Я осторожно смотрю на уборщицу. Ночная уборщица спит.
Сто первый этаж Фридом Хауза — один из важнейших. Здесь расположено небольшое, но крайне эффективное министерство свободы слова. Всего же в правительстве Д.России четыре министерства — министерство свободы слова, министерство логистики, министерство культуры и министерство Украины и Грузии. Каждое из министерств занимает по одному этажу Фридом Хауза, и только министерство Украины и Грузии занимает два этажа — так нужно для равноправия. То бардзо упшейме.[31]
Я вхожу в холл своего министерства, отряхиваю с красных галош последние остатки снега, снимаю «аляску» и говорю комплимент ассистентше Полине.
— Полина, — говорю я, — Ты сегодня прекрасно выглядишь.
Полина не отвечает. Я понимаю ее — этот комплимент она слышит от меня каждое утро вот уже несколько лет. Но что тут поделать — я не умею говорить комплиментов. Я профессионал совсем в других областях человеческой деятельности.
Мои образование и конек — это коммуникации с собой. Мыслительные технологии. Состояние высокой продуктивности, техника личного роста, быстрого обучения. Конфликтология и принципиальные переговоры. Слайдовые презентации, актерское мастерство и ораторское искусство. Коучинг, консалтинг, тим билдинг. Имидж, шейпинг и автодело. Я высокообразован. Нэль министэрио.[32]
В холле — четыре двери из высокопрочного пластика. Одна — на пожарную лестницу. Вторая — в коридор кабинетов сотрудников. Третья — в мой кабинет. Четвертая — в приемную самой министра свободы слова, легендарной воительницы русской свободы Евгении Бац. Рукоподаю приемной министра. Рукоподаю вечности. Уже через высокопрочную дверь, через пространство приемной, через стоящий в приемной большой аквариум и через всю воду в этом аквариуме я чувствую главное — министр не в духе. А ведь всего только девять утра понедельника. Стараюсь на цыпочках.
Где там, конечно… Едва я равняюсь с дверями приемной, как они с стремительно распахиваются и в холл вываливается какой-то неизвестный мне журналист. Он толст, волосат, неопрятен и бородат. В одной руке журналист держит погасшую сигарету, а в другой — не держит ничего.
— Вам должно быть стыдно за то, что вы сделали! — несется вслед журналисту из недр кабинета, — Я буду теперь следить за всеми вашими публикациями! Вашу статью я переслала правозащитникам! Я в Америке знаю важных людей! А теперь, — вон отсюда!
Изгнанный из святая святых журналист втыкается прямо в меня и поднимает глаза. Я вижу, что лицо его красного цвета — то ли от стыда, то ли от безудержного пьянства.
— Проблемы? — тихо спрашиваю я, практически не разжимая губ.
— Теперь уже нет, значит сказать… — бормочет газетчик, — Теперь уже, так сказать, э… кажется, нет…
— Вы должны уйти из профессии! — доносится из-за дверей кабинета, — Вон из профессии! Вон!
Краснолицый журналист весь прибирается, уменьшается в размерах и тихо прошмыгивает мимо меня к дверям лифта. Полина делает вид, что ничего не заметила. Из под стола тявкает ее гадкая маленькая собачка.
— Свободин! — кричит министр, словно бы чувствуя мое присутствие.
Впрочем, чего же тут чувствовать, если я просто должен быть в это время на своем рабочем месте, и если бы меня там не было — то о какой демократии могла бы идти речь в этой стране?
Я кротко вздыхаю и захожу в приемную. Министр сидит в кресле перед низким журнальным столиком. На столике лежит свежая свободная пресса. Двойные двери кабинета министра распахнуты, и из приемной видно, что по кабинету гуляет суровая вьюга. Женя так любит — работать в приемной, а в кабинете распахивать окна, чтобы впустить туда витающий на высоте ста этажей мощный ветер перемен и свободы.
— Свободин! — гремит министр, сверкая глазами и обращая свой орлиный профиль в сторону большого аквариума, в центре которого плавает небольшой, но очень натуралистично выглядящий айсберг, — Возьми, почитай.
Я беру газету и любопытствую насчет названия. «Сатаровский цербер». Ну, что ж… региональная пресса. И в Сатарове бывают газеты. Смешное название.
Передовица.
«Очнись, умытая Россия!»
Читаю с волнением вслух.
— Братья и сестры во Христе! Россия распята. Попаршивела земля дедов наших, поотравлены реки наши великие, поразрушена и почернела Москва белокаменная. Страшный враг, саранча либеральная, оккупировала наши поля и леса, понастроила заводов химических, отняла нефть, Богом данную…
— Да ты не это, ты здесь вот читай, — тычет мне Бац своим министерским пальчиком.
Читаю по тыкнутому.
— Гнусны они, яко червие, стервой-падалью себя пропитающее. Мягкотелость, извилистость, ненасытность, слепота — вот что роднит их с червием презренным. От оного отличны либералы наши токмо вельмиречивостью, коей, яко ядом и гноем смердящим, брызжут они вокруг себя, отравляя не токмо человеков, но и сам мир Божий, загаживая, забрызгивая его святую чистоту и простоту до самого голубого окоема, до ошария свода небесного змеиною слюною своего глумления, насмехательства, презрения, двурушничества, сомнения, недоверия, зависти, злобы и бесстыдства…
— Каково? — торжествующе спрашивает министр.
— Сорокинщина какая-то… — бормочу я в ответ.
— А вот это, вот это как? — снова тычет своим министерским пальчиком Женя.
Читаю по тыкнутому.
— Только на Волге-матушке построено двести четырнадцать богомерзских заводов химических. Засыпана Волга-река порошками стиральными, залита шампунями едкими, замазана пастой зубочистительной. И я бы назвал здесь фамилии тех, кто повинен в трагедии, но не заслужили они. А имя им всем — иуды проклятые. Вставайте, люди русские! Отряхнем с лаптей своих либеральную сволочь, растопчем ее сапогами и лаптями… долой жидократию… слава России… какая гадость, — говорю я Жене, дочитав материал.
— Гадость?! — удивленно смотрит на меня министр, — Да это преступление! Какова главная заповедь сотрудника свободных средств массовой информации?
— Проверять факты, — спокойно отвечаю я Жене.
— Правильно, — говорит министр, — А какова вторая заповедь?
— Быть свободным, — отвечаю я как Всеобщую декларацию прав человека.
— Вот именно, — говорит Женя, выхватывая у меня газету, — А здесь что? Химзаводов на Волге не двести четырнадцать, а давно уже двести шестнадцать. Факты не проверены. Но самое главное — не названы фамилии тех, против кого направлена эта статья. А что это?
— Внутренняя цензура, — отвечаю министру.
— Правильно, — говорит мне министр, — А цензура у нас запрещается. Даже и внутренняя. И я, как министр свободы слова обязана защитить эту свободу. И он больше ничего у нас не напишет.
— Выгнали из профессии? — спрашиваю я очевидное.
— И это в Сатарове! — словно не слышит меня Женя, — В городе, названном в честь человека, победившего извечную д. российскую коррупцию!
— Я слышал, — говорю я Жене с успокаивающей улыбкой, — Что у академика Сатарова в паспорте была ошибка. Что на самом деле его фамилия — Саратов. Представляете, как забавно — из-за ошибки в паспорте пришлось переименовывать целый город. Ведь если бы этой ошибки не было — Саратов так и остался бы Саратовым, но все бы думали, что он назван в честь человека, победившего коррупцию!
Женя пристально смотрит на меня.
— Ты, кажется, не понимаешь, — медленно произносит она голосом, от которого подводная часть аквариумного айсберга начинает увеличиваться прямо на глазах, — Ты думаешь, что это шуточки? И что завтра это выгнанное из профессии ничтожество просто пойдет разгружать батарейки? И всё?!
Холод от айсберга доходит и до меня. Икры покрываются гусиною кожею. Чешется.
— Я подам заявление на нерукоподаваемость, — тихо говорит министр свободы слова.
Я молчу ей в ответ. Здесь уже говорить нечего. Только что на моих глазах была решена судьба человека. Раз — и готово. Во имя революционной справедливости. Во имя свободы печати. Во имя демократических ценностей.
— Знаешь, — говорит мне вдруг Бац умягчившимся голосом, — Ведь когда-то они поступили так с нами. Силой заняли коридоры, засели в кабинетах, вышвырнули на улицы, в кочегарки, из профессии выдающихся профессионалов своего дела. Уникальные журналистские коллективы вынуждены были отправиться во внутреннюю эмиграцию, а то и просить политического убежища в странах истинной демократии. Такого ведь никогда больше не будет. А будут лишь эти… провинциальные алкоголики, вся эта лимита, имеющая борзоту полагать, что они нам сейчас покажут свободу. Весь этот фальшак…
Женя делает паузу и какой-то загадочный жест руками.
— Ты понимаешь, Свободин? — спрашивает она практически угрожающе, — Эти люди собираются учить нас, как делать д. российскую демократию!
— Мне кажется, — выдыхаю я весь запас своей смелости, — Что нерукоподаваемость — это… как бы сказать… не слишком ли за одну статью?
— А разве же врать об объемах нашего химического производства — это не слишком? — министр встает с кресла и идет к кабинету, — Разве же не проверять факты — это не слишком? Разве такая откровенная работа на эмиссаров стабилинизма — это не слишком?! Разве внутренняя цензура — это не слишком? Демократия, Свободин, должна быть с кулаками. И кулаки эти будут пудовыми. Нерукоподаваем! И точка!
Бац стоит в самом центре кабинета. Ее волосы убраны вьюгой, на кончике носа блестят крохотные капельки растаявших снежинок. Глаза министра сверкают, а гуляющий по помещению ветер создает подобающее этому сверканию веяние. Она очень красивая для своих уважаемых лет. В вырезе ее правозащитной блузки я вижу тонкой работы хьюман райтс вотч.
— Я… — начинаю было ответствовать.
— Отставить я! — командует вдруг министр, — Много чести! Будь свободен!
— Всегда свободен! — автоматически отвечаю я и поворачиваюсь на каблуках калош.
Разговор окончен. Покидаю кабинет и приемную. Волнуюсь. Страшусь. Маалесеф.[33]
Нерукоподаваемость — высшая мера наказания в свободном демократическом обществе. Уж лучше смертная казнь, простая и гуманная смертельная инъекция, или разработанная лучшими американскими специалистами капсула с цианидом в газовой камере… Существуют быстрые и эффективные способы прерывать жизнь, признанные всем демократическим мировым сообществом. Но нерукоподаваемость… видимо, преступление этого краснолицего журналиста и правда серьезно. Я пока не могу оценить весь масштаб этой серьезности, но ведь кто такой я? Простой помощник министра свободы слова, молодой специалист по коммуникации с собой и мыслительным технологиям. Я пока еще далеко не все могу понять и оценить правильно. А Евгения Бац — непререкаемый моральный авторитет. Журналист с большой буквы. Одна из буревестников Березовой революции. Пламенный глашатай свободы и демократии. И раз она говорит — нерукоподаваем, значит — нерукоподаваем. Я пойму это позже. Или не пойму. Но я постараюсь.
Прохожу в свой кабинет. Рукоподаю портретам Уильяма Проктэра и Джеймса Гэмбла. И снова меня передергивает и сотрясает от осознания того, что этот вот бородатый журналист, которого я несколько минут назад встретил в холле, больше никогда не сможет рукоподать. И никто никогда уже больше не рукоподаст ему. Страшно. Нет, не страшно! Мне не может быть страшно. Жителю свободной Д.России не может быть страшно, потому что никаких причин для страха в этой стране больше нет. Мы победили свой страх, выходя на марш несогласных, мы победили свой страх, избавляясь от телевизоров, мы победили свой страх, устанавливая палатки на Красной площади перед Кремлем. Мы победили свой страх, и никакого другого страха у нас уже нет. Нерукоподаваемый? Заслужил! А если не заслужил — оправдаем. Слава свободе, в этой стране эффективная и справедливая судебная система, которая обязательно разберется, кто и где был во дни Березовой революции, и на основе этого примет единственно верное и аргументированное решение.
Я сажусь за свой рабочий стол, вынимаю из берестяного стаканчика карандашик и включаю электрическую точилку. Не включается. Я пробую еще раз — нет. Никаких признаков жизни.
Капут.[34]
Д.Россия — страна зимы и суровых условий труда. Я выглядываю в холл и кричу ассистентше:
— Полина, а где электричество?
— Метель в Домодедово, — кричит мне Полина, — С утра было три самолета с батарейками. Два сели, третий ушел на Питер. Так что на свет и лифты хватило — а на точилки уже нет. Погода.
Я улыбаюсь. Демократия совершенна, но даже и демократия не может бороться с погодой. За годы свободы мы сделали многое, чтобы создать доступный каждому высокий уровень комфорта. Каждый гражданин свободной Д.России в обязательном порядке имеет надежный и теплый спальный мешок, запас березовых дров и свечей, а также необходимое количество батареек для радио. Иногда погода мешает завезти в Москву новую партию батареек. Но это ничего. Свечей и березы у нас предостаточно. При любой погоде нам будет тепло и светло. А батарейки — это так, блажь. Если не заработает лифт, на работу можно будет подняться по лестнице.
Я возвращаюсь в кабинет и снова сажусь за стол. Выдвигаю ящик и вынимаю оттуда маленький чеченский меч — подарок от правозащитников. Очиняю карандашик. Можно писать и делать пометки.
Пододвигаю к себе стопку сегодняшних газет, которые еще до моего прихода положила на стол Полина. Вчитаемся.
Столичная газета «Голос свободы». Большое интервью московского либерал-губернатора Александра Авраамовича Осовцова.
«- Александр Авраамович, это правда, что вы первым в этой стране завели себе личного карликового бегемота?
— Абсолютная правда. Я был первым. Это теперь карликовый бегемот, пасущийся возле трейлера — привычное зрелище, а тогда подобный шаг требовал большой внутренней свободы и раскрепощенности.
— Скажите пожалуйста, а вы не собираете ввести в этой стране моду на содержание, скажем, слонов?
— Плох тот либерал, который не хочет стать либералиссимусом. Так что наверняка дойдет дело и до слонов. Бахтияру — ему все равно, кого пасти.»
Вот человечище, с уважением думаю я. Соратник академика Ходорковского, истинный юкос, один из отцов-основателей партии «Другая Россия», пионер домашнего содержания крупных животных. Как я хочу быть похож на него! Но у меня другое призвание. Правозащита с бегемотами несовместима. Тотэй аринэнай кото дэс.[35] Бегемот не поместится в камеру.
Читаю газету «Твоя либеральная жизнь». Здесь, как обычно, одно безобразие.
Говард Ильич Новодворский,
сильнейший практикующий правозащитник высшей степени посвящения.
Руководитель Всероссийской ассоциации сильнейших правозащитников.
Приворот на свободу, кармический узел судеб, заговор на рукоподачу, контрправозащита.
Опыт свыше тридцати лет.
Рядом — интервью с этим Говардом.
«Лишь потомственный правозащитник, получивший свой дар по крови и отдавший всю жизнь правозащите, может совершать правозащитное действие любой сложности. Я свой дар получил от прадеда, а тот, в свою очередь, от своих дедов. По линии матери тоже получил правозащитную силу, и в результате во мне сосредоточена такая правозащитная сила, которая позволяет мне помогать людям в каждом вопросе, без ограничений».
Я чуть не смеюсь. Наверняка этот Говард Новодворский живет в трейлере из красного дерева, спит в спальном мешке на гагачьем пуху, а тюремного коридора ни разу в жизни не видел. Правозащитник, тоже мне. Читаю и дальше.
«- Говард Ильич, на одной конференции я познакомилась с уважаемым ученым, который сказал, что если говорить о правозащите, то по-настоящему серьезных специалистов не так уж и много и что он искренне восхищен правозащитником Новодворским. Что же именно несет в себе ваша правозащита?
— Объясню. Моя правозащита относится к высшей ступени — это правозащита силы, она дает возможность путем минимального точечного воздействия изменять реальность в нужном направлении и управлять событиями не только будущего, но и прошлого.
— Как это так? Прошлое изменить невозможно!
— Для кого невозможно? Для обычных людей невозможно, а для правозащитников, владеющих знанием, возможно. Я не стану вам объснять все тонкости — это непросто понять, скажу лишь, что даже в прошлом можно изменить цепь событий, перенаправив поток правозащитной энергии в нужное русло. Вот вам пример: люди подписали документы на грант, оставалось только утвердить в министерстве культуры — и назад хода нет! А мои клиенты этого не желали. Так вот я изменил события прошлого, и в бланке заявки появилась опечатка, на которую обратили пристальное внимание чиновники. Так заявку не утвердили, и мои клиенты добились своей цели…»
Шарлатан, разумеется. Нанотехнолог. Отмечаю публикацию галочкой. Надо будет обязательно обратиться в Правозащитный Центр — пусть разбираются. Тут пахнет люстрацией. Синту муйнту.[36]
Беру журнал «Ежедневные Грани». Здесь сегодня опубликовано новое стихотворение Льва Рубинштейна — поэта, правозащитника, человека-символа твердой гражданской позиции, великого патриота своей земли и ее людей. С нетерпением листаю журнал… вот оно!
Дила мшвидобиса, свобода. Мэ твій зраджений важишвили Мэ щасливо дивлюся зэмот I радію газапхули демократії Гамарджобат, свобода Шэн моя добра дэда I коли ми разом — замтари щорс I нам ніколи не буде цудад Саламо мшвидобиса, свобода Шэн мій єдиний мэгобари Коли шэн ахлос — завжди запхули I на душі каргад Хамэ мшвидобиса, свобода Зі мною зараз твоя калишвили Чвэн багато читаємо і слухаємо радіо I шэмодгома життя нам не страшна.[37]Потрясающе. Все же насколько красив украинско-грузинский язык! Я с нетерпением жду того дня, когда он станет основным государственным языком Д.России. Уже сейчас на этот язык свободы и демократии практически переведено полное собрание сочинений Галича, хотя по мне так можно было бы вполне обойтись и без Галича — хватило бы нам и Тараса Шевченко. А там кто знает — быть может случится когда-нибудь такое, сбудется мечта всех родившихся в свободной Д.России, и она сможет объединиться с республикой Украина и Грузия. Но нам еще надо бы заслужить это — мы младший брат украинско-грузинской свободы.
Перечитываю стихотворение еще раз. Как это красиво: «чвэн багато читаємо і слухаємо радіо, I шэмодгома життя нам не страшна». Лирично и мудро. Свободно! Надо бы выучить и прочитать Михаиле.
Беру, наконец, наилучшее. Старейшее свободное издание России — «Новая газета». Здесь работала Анна Степановна Политковская. Много лет назад, когда Анна Степановна погибла, всякая мерзкая шушера начала полоскать ее имя. Накропали статеек, которые и вспоминать-то особо не хочется. Грязь. И только «Новая газета» оказалась чиста, смогла сохранить эту чистоту и пронести ее через годы и выборы. А особенно удачны в «Новой» демократические анекдоты. Читаю весь в предвкушении.
«Ходорковский, Гусинский и Березовский попали в СИЗО к стабилинистам.
— Кто лучше всех научит нас своим гениальным схемам оптимизации налогоообложения, — говорят им стабилинисты, — Того мы выпустим из СИЗО. А остальных ждет басманное правосудие.
Раз такое дело, Гусинский рассказал стабилинистам свою схему. Стабилинисты отпустили его, и Гусинский уехал в Испанию. Тогда стабилинисты попробовали применить эту схему и попали под прокурора Салавата Каримова.
Раз такое дело, Березовский рассказал стабилинистам свою схему. Стабилинисты отпустили его, и Березовский уехал в Лондон. Тогда стабилинисты попробовали применить эту схему и снова попали под прокурора Салавата Каримова.
Раз такое дело, пришли стабилинисты к Ходорковскому и говорят: ты остался последний, все разбежались. Расскажи нам свою гениальную схему, и мы тебя выпустим.
А Ходорковский им говорит: мне и здесь нравится.»
Ах-ха-ха-ха-ха!!!! Я смеюсь так, что по спине моей пробегают мурашки. Мне и здесь нравится! Ну конечно! Ведь он же правозащитник! Нет, до чего же прекрасная и удивительная у меня работа. Постоянно видишь прекрасное. Парфэтман бьен![38]
Вдруг дверь моего кабинета без всякого предупреждения растворяется. В проеме рисуется решительная фигура министра свободы слова. В правой руке у нее — красная кружка дымящегося растворимого кофе «Фолджерс», а в левой — пакет с документами.
— Я вот что подумала, — говорит мне Женя, — В тебе живет какое-то странное сомнение.
— Сомнение? — недоуменно спрашиваю я, откладывая газеты.
— Сомнение в правоте нашего дела, — отвечает мне Женя, — Сомнение в справедливости. Я ведь видела эту твою реакцию на нерукоподаваемость. Ты испугался.
— Я испугался? — глупо спрашиваю я, поскольку нет смысла отрицать очевидное — я испугался.
— Ты испугался, — решительно говорит министр и кладет на мой письменный стол пакет с документами, — Ты сделаешь это.
Я снова чувствую холод от айсберга. Дрожу. Я допрыгался.
— Ты должен сам написать заявление на нерукоподаваемость, — понизив голос, молвит министр, — Ты должен развеять сомнения.
— Сомнения в чем? — искренне не понимаю я.
— Сомнения в том, что ты заодно, — отвечает мне Бац.
И тут я всё понимаю.
Ведь это проверка.
Инициация.
Я свободен и счастлив. Я высокопоставлен. Но что я могу более? Зачем я вообще существую на свете? Было бы глупо думать, что только затем, чтобы коммуницировать с самим собой. Глупо ведь даже представить, что для развития мыслительной практики. У меня есть высокая цель — я с самого детства мечтаю стать правозащитником. Правозащитником без страха и упрека. С горячим сердцем и холодным разумом.
Но что я сам сделал для того, чтобы стать этим правозащитником? Да, я всегда писал правду, я следил за соблюдением свободы слова — но разве же это и есть настоящее дело? Это всего лишь техническая работа. Таких не берут в правозащитники. В правозащитники берут только тех, кто самоотрекся. Для правозащитника важна твердость. Настоящие правозащитники полностью удаляются от мира и поселяются в бывших тюремных камерах, без хлеба и воды. Злые языки утверждают, что они питаются одною парашей, но лично я в это не верю. Отреченный правозащитник питается идеей. Идеей политической справедливости.
Истинная правозащита — это схима. За право быть правозащитником надо платить. Заявления, проверки, готовность — это все может быть. Но если ты не защитил ничьих прав — ты так и не сможешь стать правозащитником. Я в своей жизни пока еще не защитил ничьих прав. Что, в общем-то, и понятно — права человека в моей стране соблюдаются беспрекословно. Защищать тут, собственно, нечего. А раз нечего защищать — зачем же нужны правозащитники?..
— Свободин, — обращается ко мне вдруг ставшая родной Женя, — Ты должен выступить в защиту свободы слова.
— Я готов, — чуть слышно отвечаю я Жене.
— Не слышу, — говорит мне министр.
— Я готов выступить в защиту свободы слова, — с волнением в голосе повторяю я.
— Поклянись на хьюман райтс вотч! — требует Женя.
— Клянусь, — шепчу я, касаясь хьюман райтс вотч на моей груди.
— Это прекрасно, — говорит мне Министр, бросая на стол документы, — Подготовь заявление о нерукоподавании.
— Я?! — рассеянно спрашиваю я.
— Ты, — сухо отвечает мне Женя, — Хватит уже ерундой заниматься. Демократию и свободу надо защищать.
— Я всего лишь помощник… — совсем уже растерянно говорю я.
— Ты поклялся на хьюман райтс вотч, — повторяет мне Бац, тыча в документацию изящным предлинным пальцем.
Я пододвигаю папку к себе и раскрываю ее.
— Не бойся, — откуда-то сверху ворчит Женя Бац, — Каждый когда-нибудь делает это впервые. А самое главное…
Во мне что-то щелкает.
— А самое главное, — повторяет министр, — Это держать удар.
— Кто ударяет-то? — не понимаю я.
И тут мой министр заходится.
— Никто не ударяет тебя, да? — говорит Женя и даже подпрыгивает на месте, — Никто не тревожит, не трогает? И ты думаешь, что в жизни все правильно? И ты тут как будто бы просто так? Подумаешь — просто так бегаем. Работаем как бы на Женечку. А суть-то в чем, сволочь, в чем суть-то, а?! Зачем ты мне нужен беспомощный?!
Я окончательно теряюсь, бросаю на стол карандаш, попеременно смотрю то в документы, то на начальника, то снова на документы — но одинаково не вижу ни буковки ни там, ни сям, ни где еще можно бы…
— Хватит уж! — грохочет мне Бац, — Довольно-те быть полным ничтожеством! Вот то, что лежит на столе. Смотри-ка сам.
Смотрю уже по поручению, но как и раньше — не вижу слов.
— Смотри-ка сам, — твердит мне министр, кладя на затылок тяжелую руку.
— Ерунда какая-то… — бормочу я бессмысленно.
— Вот именно! — торжествует Бац, — Тут как бы все ерунда, ну а все же — свободная!
— А рукоподаваемость тут при чем? — спрашиваю я почти уже просто так.
— Здесь ты причем, а не рукоподаваемость, — говорит министр, и я окончательно теряюсь.
Надо бы взять себя в руки.
Беру.
Коммуницирую. Работаю на добро.
Правильно.
Смотрю в документы.
Кононенко Максим Витальевич, он же так называемый Паркер. Дата рождения неизвестна. Д.Россиянин (версия о еврейском происхождении не подтвердилась). Родился в городе Апатиты Мурманской области. Жил в Москве. Бежал от революции в Сатаров. Считает себя потомком донских казаков-старообрядцев. Иногда называет себя марсианином. Работает в ряде оппозиционных средств массовой информации.
Особенность стиля Паркера-Кононенко — регулярная немотивированная брань («мрази», «гной», «иуды») по адресу либеральных политиков и журналистов (как тех, с которыми он знаком, так и тех, кого не знает лично).
Высказывался за легализацию педофилии, зоофилии, каннибализма.
Недоброжелатели объясняют неадекватность бранных текстов Кононенко его алкоголизмом (сам признается, что «бухает»).
Демонстрирует политическое антизападничество и, особенно, антиамериканизм; американцев неизменно называет «пиндосами», а США — «Пиндостаном».
В долговечность Израиля не верит, призывает русских евреев вернуться в Россию.
Высказывает подчеркнутую ненависть к членам-корреспондентам Гусинскому, Невзлину и Березовскому.
Асоциален.
Нарушения прав человека:
Отрицает футбол.
Отрицает факт организации ФСБ взрывов домов в Москве.
Считает РПЦ «незаконной организацией».
У меня леденеет внутри. Каких-нибудь несколько десятков минут назад я столкнулся с этим, если так можно сказать, «человеком» в фойе министерства. Я даже дотронулся до него рукой!
Подташнивает.
Отрицание факта организации ФСБ взрывов домов в Москве — это преступление против человечности. Равное, если не превосходящее по своему цинизму такое преступление, как отрицание Холокоста и Голодомора! Но что такое отрицание факта организации ФСБ взрывов домов в Москве рядом с… нет, я так и не смог поверить своим глазам.
Считает РПЦ «незаконной организацией».
Это чудовищно. Я хватаюсь за хьюман райтс вотч и рукоподаю ему изо всех сил.
Это же просто в голове не укладывается.
— Как это, — бормочу я беспомощно, — Как это — называет РПЦ незаконной организацией?
Министр глядит на меня торжествующе. Показывает глазами.
И я перелистываю, отпуская мой хьюман райтс вотч.
Передо мной лежит белый, убористо исписанный лист бумаги. Это номер газеты «Сатаровский цербер». Экземпляр номер шестьсот пятьдесят девять. Интересно. Я всегда думал, что в Министерство присылается экземпляр номер один.
Читаю.
От заголовка мне уже становится плохо.
«Зомби матриарха».
«Матриарх» написано с маленькой буквы. Это немыслимо.
Я читаю дальнейшие строчки, и глаза мои закрываются. Я не мог и представить себе подобного уровня человеческого падения.
«Матриарху до правозащитного гриппа у интеллектуальной элиты страны, кажется, дела нет. Завтра этого матриарха поднимут на вилы вместе со всей остальной марионеточной властью, вместе со мной, и в Фридом Хаузе воссядет какой-нибудь Народный Царь, первым указом которого будет публичное посажение на березовый кол всех главных редакторов страны. Я не шучу. Уровень политической дискуссии в моей стране дошел до выяснения вопроса о праве главредов на жизнь.
Чтобы избежать такой невеселой „осени матриарха“, Людмиле Алексеевой надо сделать малое: одернуть свою тупеющую паству. Правозащита запрещает цензуру? Отлично. Выступи и скажи: „Правозащита запрещает цензуру. Но, пожалуйста, не надо мусорить. Правозащита — это движение мира.“ Но матриарх молчит. Видимо, ему нравится происходящее.»
Я просто теряю дар речи. Мало того, что слово «Матриарх» написано с маленькой буквы. Мало того, что имя Матриарха написано без указания отчества. Весь общий тон статьи — он же просто чудовищный! Сомнения в праведности правозащиты — ведь это же просто орисогын![39] Я снова рукоподаю хьюман райтс вотч.
Это ведь, знаете ли…
— Он хоть что-нибудь в своей жизни хорошего сделал? — спрашиваю я у министра уже безо всякой надежды.
— Было такое, — отвечает министр, — Однажды он выступил за гей-парады.
Я молча развожу руками.
— Надеюсь, ты понимаешь, что наше терпение лопнуло, — говорит мне министр, — Более этот с позволения сказать человек в мире свободных людей оставаться не должен. Страна должна знать своих изгоев. Готовь заявление.
— Здесь пахнет уже не запретом на рукоподаваемость, — тихо, но решительно говорю я, — Здесь пахнет уже Европейским судом реконструкции и развития.
— Европейский суд реконструкции и развития, — отвечает мне Женя, — Предназначен для тех, кого еще можно реконструировать и в ком еще есть потенциал для развития. В Кононенко такого потенциала уже нет. И реконструировать его не получится — не согласуют. Поэтому пиши-ка прошение. Я, такой-то такой-то, прошу рассмотреть вопрос о запрете применения рукоподавательных процедур в отношении такого-то… и подпись.
Министр выходит.
Я беру лист бумаги и молча пишу.
В Пентхауз. И.о. Президента. В Центр экстремальной журналистики. В Фонд защиты гласности. В Московскую Хельсинкскую группу. Директору комитета Конгресса по правам человека. Председателю Американского Хельсинкского комитета. Президенту Всемирной психиатрической ассоциации. Комиссару Совета Европы по правам человека. Комиссару Европейского Союза по внешним отношениям и Европейской политике соседства. Представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ. Федеральному министру иностранных дел Германии. Верховному комиссару ООН по правам человека. Американскому обществу редакторов газет. В организацию «Международная амнистия». В организацию «Канадские журналисты за свободу выражения». В организацию «Форум свободы». В организацию Freedom House. В организацию Human Rights Watch. В организацию «Досье на цензуру». В Международный центр журналистов. В Международную федерацию журналистов. В Международный пен-клуб. В Международный институт прессы. В Гильдию газет. В Североамериканскую ассоциацию радио- и телевещательных компаний. В Клуб зарубежной прессы. В организацию «Репортеры без границ». В общество профессиональных журналистов. Во Всемирную ассоциацию газет. Во Всемирный комитет за свободу прессы.
Я вдруг понимаю, что чем счастливее жизнь большинства, тем больнее решения, которые приходится принимать нам, помощникам. Высокопоставленным и свободным. Но все же — помощникам.
«Я возлагаю ответственность на политическое руководство старой России», - пишу я заученное, — «И прежде всего на тех, кто по Конституции отвечал за ситуацию в этой стране».
Этот типовой фрагмент заявления все мы учили в Московском Гарвардском Университете еще до работы здесь. Мы снимаем с себя всю ответственность за то, что творили прежние режимы в Д.России. В условиях истинной демократии источником власти является не режим, а сам многонациональный народ. То есть, я, министр, Полина, террорист в лифте и те самые две девушки, которым все было по барабану. Даже спящая уборщица — и та есть источник д. российской власти. И это прекрасно. И именно для того, чтобы интересы всех этих столь разных людей были представлены во властных структурах, вносились все демократические поправки в законодательство.
И главная из этих поправок — поправка номер один. Поправка, вводящая стопроцентный порог явки на выборы.
Всякая власть должна быть легитимна и избрана. И если хотя бы один человек не смог принять участие в голосовании — значит, результаты такого голосования нелегитимны. И нужен следующий тур голосования.
У нас такие туры проходят каждое третье воскресенье месяца. Никогда еще у Другой России не было избранного президента — только исполняющий обязанности оного в отсутствие электорального кворума. Д.Россия не заслужила еще своего демократического президента. Заслужит — проголосует. Проголосует — заслужит.
Рукоподаю легитимности.
«В газете „Сатаровский цербер“ систематически искажаются факты и нарушается принцип свободы слова, — пишу я в прошении, — Ее главный редактор недостаточно раскрепощен. Все это вкупе…»
Вдруг дверь растворяется сызнова, и в помещение входит малоприметный мужчина в простых перестиранных джинсах и в свитере грубенькой вязки. Влас его черен, а глаза ярко-пронзительны. На груди у мужчины сияет большой углепластиковый хьюман райтс вотч. Я замираю. Передо мной стоит истый правозащитник. Причем наверняка высокой степени посвящения.
— Роман Аркадьевич Свободин? — тихо спрашивает правозащитник, и сердце мое на мгновение останавливается. По имени и отчеству одновременно в этой стране давно уже называют только Своих — героев, академиков, членов-корреспондентов и Матриарха. Меня никогда еще в жизни никто не называл по имени-отчеству, и даже международный миротворческий контингент, проверяя документы на мерина, всегда говорит — Роман Свободин, демномер шестнадцать ноль восемь одиннадцать и три по пять. Храни меня, мой policeman,[40] но так, чтоб по отчеству — это для меня честь невозможная.
— Роман Аркадьевич, — мягко, но веско говорит правозащитник, — Скажите пожалуйста, ведь это же вы ководни[41] на празднике в честь Дня Всех Своих послу республики Украина и Грузия батоно Пархому за воротник заливали?
Теряю дар речи. Не помню. Пытаюсь рукоподать правозащитнику. Тщетно.
— Не помните… — грустно говорит правозащитник, — А ведь до чего смешно было… меня вообще-то Русланом зовут. Но зовите меня просто — Рецептер.
Мои ноги в калошах вдруг начинают чесаться. Я узнаю это лицо, так хорошо знакомое мне по транспарантам на митингах и демонстрациях.
Руслан Линьков.
Легенда д. российской правозащиты. Человек, лично спасший солдата с вырезанным кишечником. Человек, лично видевший трагедию марша несогласных на Невском, и рассказавший об этом миру. Да что там… ведь это именно он, сидевший стоявший сейчас передо мной спокойный человек с грустной улыбкой пытался загородить собой от пуль академика Галину Васильевну Старовойтову. Да, не загородил — но он ведь пытался! В то время как вся остальная страна смотрела «Аншлаг!» в телевизоре.
Я непроизвольно встаю.
Рецептер спокойно подходит к моему столу и садится на стул.
— Роман Аркадьевич, — говорит он и смотрит куда-то в никуда, — Опасные у вас имя и отчество. Вам нравится, когда вас называют по имени-отчеству?
Я снова молчу. Я не знаю, что и ответить. Мне страшно.
— Вам страшно, — словно читает мои мысли великий правозащитник, — Я знаю, вам страшно. Это хорошо. Если чиновнику страшно — правозащита работает.
Руслан слегка улыбается и разводит руками. Я рукоподаю и рукоподаю. А что мне еще остается?
— Вот вы стоите тут и рукоподаете, — говорит мне Руслан, и в голосе его слышна вечная мерзлота, — А чего вы рукоподаете? Кому вы рукоподаете? И зачем?
— Я… — растерянно бормочу я, — Вам рукоподаю. Правозащите. Свободе.
— Правозащите, — передразнивает меня Рецептер, — Свободе. Да что вы знаете о правозащите? Что вы знаете о свободе? Вы думаете, что свободны? Да вы же в тюрьме! Вы — политический заключенный! И все здесь, — Руслан обводит рукою мир, — Политические заключенные. И есть только один способ перестать быть политическим заключенным — это освободиться. Забыть о личном и забыть об общественном. Забыть обо всем на свете, кроме единственного — кроме прав человека. Вы понимаете?
— Я… понимаю, — отвечаю Руслану и дергаюсь. Я все же не думал, что я — и в тюрьме. Я ведь свободен и счастлив. Я высокопоставлен.
— Права человека — это основа, — продолжает Руслан, — Это фундамент, на котором и строится современное общество. Когда-то старая Россия была лишь придатком, кормившим Запад своей нефтяной сиськой просто для того, чтобы Запад успокоился и перестал спрашивать: а что там у вас в стране с правами человека? Почему у вас избивают правозащитников? Почему у вас погибают оппозиционные журналисты и неугодные власти политики?
Я вдруг понимаю, что если и дальше буду молчать, то Рецептер уйдет.
— Когда же Россия освободилась и стала Другой, все изменилось, — торопливо говорю ему я, — И сейчас мы производим больше всех в мире зубной пасты, стирального порошка и батареек. Мы производим их, а не выкачиваем из недр Земли. И это высокое счастье — видеть произведенные твоей страной товары народного потребления. Мы перестали быть сырьевым придатком Запада. Вместо того, чтобы тупо сжигать нефть и газ, мы используем высокотехнологические источники энергии. Бердский завод квадратных батареек. Уральский завод машиностроительных батареек. Производство в Тольятти. Новолипецкий аккумуляторный комбинат. Да мы, если захотим, можем весь мир завалить нашими батарейками!
— Опять завалить! — восклицает Руслан, — Опять завалить! Ну что за имперские амбиции! Д.Россия всегда должна знать свое место! Скажите, Свободин, что в Д.России превыше всего?
— Пентхауз превыше всего! — уверенно отвечаю я основополагающую статью д. российской Конституции.
— Права человека превыше всего! — говорит мне Рецептер, — Права человека! А вы — завалить. Да пока мы не научимся соблюдать права человека так, как в цивилизованных странах, нам и думать не следует о том, чтобы кого-нибудь чем-нибудь завалить! Силенок не хватит!
— Но мы ж стараемся, — пытаюсь полемизировать я.
— Не хватит! Не хватит! Не хватит! — оппонирует мне Рецептер.
— Упразднены все ненужные министерства, и в первую очередь — министерство обороны, — продолжаю полемизировать я, — Во-первых, в армии, как ни крути, всегда дедовщина, а во-вторых, Д.России больше не нужна армия. Нас надежно защищают миротворческие войска НАТО. За защиту мы отдали НАТО энергоресурсы этой страны. Во-первых, это позволило нам слезть, наконец, с нефтяной иглы. А во-вторых, это несправедливо, что Сибирь и ее недра до сих пор принадлежали одним нам, а не всему свободному миру.
— А почему? — вскакивает с моего места Руслан, — А почему при сокращении срока службы в армии до десяти дней мы все равно сталкивались с проявлениями дедовщины? Почему солдат, прослуживший три дня, мог издеваться и унижать солдата, прослужившего один день? Как это ему удавалось?
— Попустительство младших офицеров, — бубню я заученное, — Низкий общий культурный уровень призывников…
— Чушь!! — кричит Рецептер, — Чушь собачья!! Дедовщина в армии происходит от того, что не защищаются права человека! Вы понимаете?! Вы понимаете, что надо сделать для того, чтобы в армии не было дедовщины?! Отвечать!!
Могу отвечать. Я понятливый. Я все на ходу схватываю.
— Понимаю, — говорю я Руслану, — Для того, чтобы в армии не было дедовщины, в ней должны соблюдаться права человека.
— Именно! — восторженно подтверждает Руслан, садясь на мое место, и я ободряюсь.
— Чеченской республике Ичкерия предоставлена независимость, — продолжаю говорить я Рецептеру, — Стабилизационный фонд и золотовалютный запас выплачены в качестве компенсаций за советскую оккупацию Украине и Грузии, а также и странам Прибалтики. Д.Россия добилась, наконец, своего исключения из клуба большой восьмерки и из ВТО. Министерство культуры совместно с министерством свободы слова беспрестанно следят за тем, чтобы в федеральных СМИ не было пошлости. Проводится большая воспитательная работа по искоренению мата и пьянства. Вторым государственным языком в знак огромных культурных заслуг перед Д.Россией и для удобства гостей столицы признан украинско-грузинский язык. Ну скажите на все это — разве же мы не пытаемся освободиться?
— То есть, — говорит мне Рецептер, — Вы готовы признать, что доселе вы не были свободным. И что пытаетесь освободиться только сейчас. Зачем же вы носите хьюман райтс вотч?
— Да я… — теряюсь я, — Да это…
— Вот ответьте мне, Свободин, — устало произносит Руслан Линьков, — Какова минимальная разрешенная численность политической партии в Д.России?
— Три человека, — без сомнения отвечаю я.
— А почему именно три? — спрашивает Рецептер, — Почему не два, не один?
— Для того, чтобы можно было принять партийное решение с помощью голосования, — немедленно отвечаю я.
— Для принятия решения достаточно и одного человека, — говорит мне Руслан, — А три человека — это минимальная численность, при которой возможно появление меньшинства. Когда в партии два человека — в ней никогда не будет меньшинства. Подавляющее большинство может быть, а меньшинства — нет. А демократия — это когда учитывается мнение меньшинства. И если нет меньшинства — то нет демократии. Вы вот не знаете даже такой мелочи, а собираетесь защищать права. Чьи права вы собираетесь защищать?
— Человека, — бормочу я.
— Какого человека? — восклицает Рецептер.
— Того, чьи права нарушены… — снова теряюсь я.
— А могут ли быть нарушены права большинства? — спрашивает меня Линьков.
— Нет, — уверенно отвечаю я, — Это не демократично.
— То есть… — улыбается мне Рецептер.
— То есть, — догадываюсь я, — Если бы в партии было меньше трех человек, то не было бы меньшинства и правозащитникам нечего было бы защищать. И никто не смог обрести истинную свободу!
— Ну, какие-то мелочи вы все-таки соображаете, — утомленно вздыхает Руслан, — Хотя полностью человека освобождает все равно одна только смерть. А уж правящая право-левая объединенная демократическая партия «Другая Россия», положения устава которой вы тут только что старательно цитировали — она не свободна и вовсе. Свобода должна быть с кулаками. С кастетами. Свобода должна быть с булыжником. Иначе это будет уже не свобода, а так — демократия.
Голова у меня идет кругом. Я не отвечаю. Посмотрев на мое молчание, правозащитник смотрит на стол. На столе лежит документ.
— Так-так-так… — быстро говорит Рецептер, изучая бумагу, — Паркер… слышали мы про этого Паркера… та еще гадина. А сами-то вы что об этом думаете, Роман Свободин? Так вот сразу — и нерукоподаваемый?
— Я думаю, — решительно говорю я, — Что не за что там нерукоподоваемость вписывать. Ну это если по сердцу и по понятиям. А на самом-то деле, журналист этот реально достал уважаемых людей и министров своей собственной тупостью.
— Тупость не является критерием оценки свободы слова, — отвечает Руслан, — Критерием оценки свободы слова и журналиста является приоритет его внутренних установок.
— Это как это? — искренне не понимаю я.
— Свобода слова, — говорит мне Руслан, — Сначала свобода — а потом уже слова. Ибо сказано — сначала была свобода, а потом уже было и слово. Потому что свобода слова — это не слова свобода, как было до появления министерства. Когда слова было много — а настоящей свободы мало. Сплошная пропаганда фашизма и Холокоста. И все издевались.
И я вдруг пронзительно прозреваю. Ведь это же очевидно! Эх, Женя, Женя… а все это так просто. Причем тут Паркер-тире-Кононенко? Причем тут газеты? Свобода! Внутренняя свобода! Вот, что нам наиболее важно.
— Ты славный малый, — говорит мне вдруг строгий правозащитник, — Тебя бы еще через армию… впрочем, сейчас нам это уже недоступно. И все таки — что ты думаешь об этой нерукоподаваемости? Ну, о Паркере?
— О Паркере? — переспрашиваю я, не успев удивиться, — Да сволочь это Паркер. Цепной пес, охранитель и все такое. Трепет нам нервы уже столько лет… нерукоподать ему да и только. Но, честно сказать, есть у меня какой-то, как бы сказать, внутренний протест.
— Внутренний протест? — задумчиво говорит Рецептер, — Если есть внутренний протест — необходимо идти митинг протеста. Он проходит каждую субботу с одиннадцати до полудня.
Беседа становится несколько странной.
— Может, отведаем супчику? — осторожно говорю я Руслану, намекая ему на время обеда.
Нет, не подумайте, что мне очень хочется есть. Есть я совсем не хочу. Я обещал Бахтияру сахара — да. А еда — это лишь повод для правды. И еще это повод для того, чтобы отвлечь правозащитника от испытаний. Да, я понимаю, что он — лишь посланник, призванный оценить мою готовность к правозащите. Но я рукоподаю правозащите безмеренно, а правозащитник Руслан Линьков этому просто не верит. Он думает, что мне жалко Паркера. Минулла он вайкэуксиа.[42]
— Извольте, — отвечает Рецептер и следует из кабинета. Я отправляюсь за ним. Мы проходим через холл, вызываем лифт и молча стоим в его ожидании под наглыми и оценивающими взглядами Полины и ее гадкой собачки. Полина не любит правозащитников. Ей недостает истинной веры. Мало того, что она таскает с собой в министерство вот эту вот маленькую собачку. Но она ведь даже хьюман райтс вотч не носит!
Он думает, что мне жалко Паркера.
Мне трудно признаться, но это же правда. Я очень боюсь за этого Паркера.
Ну что он в сущности? Стареющий алкоголик из какого-то Сатарова, до которого на мерине-то и не доедешь. Loser,[43] давно уже променявший здоровье и счастье на упрямую и ожесточенную оппозицию свободе и демократии. И ладно бы еще он делал это за лишние продукты питания — но ведь оппозицию демократии в мире никто не грантует. Здесь нету бизнеса. То есть — он пишет все эти свои пасквили, истерит и кликушествует просто потому, что ему это нравится. Или у него есть какой-то там внутренний долг перед своими давно уже свергнутыми, фальшивыми идеалами. Кононенко омерзителен — но разве не должен правозащитник защищать каждого, вне зависимости от его омерзительности? Да, я сомневаюсь.
Двери лифта растворяются, мы входим в кабину и я нажимаю на кнопку «Столовая». В кабинке кроме меня и правозащитника: Семен Карпухин из отдела разгрузки, два гусеничных робота для отмывания стекол и неизвестная мне дама, вся в рыбном.
Семен, глядя на большой хьюман райтс вотч на груди правозащитника подбирается. Роботы стоят как убитые. Женщина в рыбном стесняется.
Мы молчим, и в этом молчании многое скрыто. Я неблагонадежен. Я никогда не смогу стать правозащитником, потому что первый же в моей жизни профессиональный правозащитник расколол мою гнилую и беспринципную сущность за несколько паршивых минут.
Рецептер молчит наверняка из разочарования. Я не подхожу им. И он попросту зря приехал.
Роботы молчат потому, что не умеют говорить.
Дама молчит потому, что… да, впрочем, откуда я знаю, почему молчат в лифтах какие-то женщины в рыбном.
Семен Карпухин хочет сказать. Я чувствую это. Чувствует это и правозащитник.
— Простите… — мнется Семен, — Вы ведь правозащитник? Руслан Линьков?
Рецептер кивает. Глаза его лед.
— Здорово! — восклицает Семен, — Это очень хорошо! А я Семен Карпухин, из разгрузки… Вы знаете, я давно хотел вас спросить…
— Третий самолет прилетел? — перебивает его Руслан.
— Какой самолет? — не понимает Семен.
— Третий самолет с батарейками, — поясняет Линьков голосом, от которого в моих жилах стынет не только кровь, но и все остальное.
— А… — облегченно выдыхает Семен, — Прилетел, куда ж он денется-то! Уже разгружают. Четыре контейнера! Самые лучшие…
— Хорошо, — снова перебивает его Линьков, — Хорошо, что разгружаются. Хорошо, что отборные.
Семен недоуменно смотрит на Рецептера, потом переводит взгляд на меня. Я делаю вид, что не понимаю его.
Скромненько тренькает колокольчик — лифт приехал на этаж со столовою. Мы с Линьковым выходим. Остальные едут дальше. Перед тем, как закрываются двери, я вижу смущенный взгляд Семена Карпухина. Он так и не понимает, что это было. Чего он хотел и зачем вообще заговорил с этим суровым правозащитником с прозрачными глазами, чистыми руками и горячим наверняка сердцем.
Я тоже испытываю неловкость. Мне словно бы стыдно за то, что Семен был в лифте, и за то, что он задавал тупые вопросы… то есть, все было еще хуже — он хотел задать вопрос, но не задал его. А может быть это и к лучшему. Кто его знает, какой вопрос ему бы пришел в голову… все же работа с батарейками — она опрощает.
Мы с Русланом проходим в столовую. Я помню, как Ксюша Ларина рассказывала по радио про писателя Чехова. Я беллетристики не читаю, она не правозащитная. Но вот Ксюша рассказывала, что если в литературном произведении на стене висит ружье, то оно обязательно выстрелит. Так было при старых режимах. В свободной Д.России ружье может висеть на стене сколько угодно. Оно не выстрелит. По разным причинам. Из-за нехватки патронов, из-за отсутствия батареек, из-за просроченной лицензии на теракты. Но оно не выстрелит.
Вот и Линьков — он ведь не выстрелил. Я понимаю это отчетливо ясно. Две девушки утром в лифте — они просто проехали этажом выше. Спящая уборщица — просто спала. Дама в рыбном сейчас в лифте — просто проехала. Семен Карпухин — он просто хотел задать глупый вопрос, а правозащитник его осадил.
Ничего не стреляет. Висит — не стреляет.
Рукоподаю обеденной трапезе.
В столовой безлюдно — во-первых, мы ранние. А во-вторых, многие брошены на разгрузку и загрузку в устройства питания запоздавших контейнеров с батарейками.
Подходим к раздаче. Сегодня в ассортименте: куриные окорочка, гэмблгеры и проктер-кола. Питательный бобовый суп и чудо-йогурт. Пока у нас есть такие друзья, как Соединенные Штаты Америки — мы никогда не будем испытывать недостатка ни в чем. В том числе и в полезной, низкокалорийной, но вместе с тем сытной пище. Я улыбаюсь. Мне нравится изобилие.
Рецептер берет себе гэмблгер с колой. Я — суп и чудо-йогурт. Мне нравится следить за собой. Я импозантен.
Садимся за столик возле окна. Великолепная сервировка. Все алюминий и пластик. По средней полосе широких столов расставлены вазы с искусственными цветами из ярославского полиэтилена. Отсюда открывается захватывающий вид на Москву. Трейлеры, трейлеры, трейлеры — насколько хватает глаз стоят трейлеры. Желтые, зеленые, красные — до самого до горизонта. Уютный, спокойный и безопасный мир, который стало возможным построить только после победы свободы и демократии. Рукоподаю территории. Каждый свободный д. россиянин живет в своем собственном доме. Это ли не сбывшаяся мечта многих и многих поколений д. российских людей! Гут![44]
Правозащитник вкушает. Я тоже вкушаю.
— Права человека, — говорит мне Руслан, — Это не просто слова. Это духовная основа современного общества.
Я обращаюсь во слух. Рукоподаю философии.
— Вот скажи мне, Свободин, — пронзительно смотрит на меня правозащитник, — Чем ты готов пожертвовать ради защиты прав человека?
— Всем, — не задумываясь отвечаю Рецептеру.
— Тебе кажется, что ты нащупал метод общения с правозащитниками, — улыбается мне Рецептер, — Ты думаешь, что если все время твердить про права человека — то тебя примут за своего. Хорошо, конечно, что ты хотя бы это придумал, но ты ведь не думаешь, что мы все такие наивные?
Я резко смущаюсь. Я пожимаю плечами и сосредоточенно ем свой питательный суп.
— Права человека, — говорит Руслан, — Это духовная сущность невероятной, практически абсолютной силы. По потенциалу заключенной в этой сущности духовной энергии, права человека превосходят любые религиозные символы, созданные человеком за всю историю его существования. Колоссальная сила прав человека заключается в их сущностном дуализме. С одной стороны это права. А с другой стороны эти права — человека. Понимаешь?
— Не очень… — бормочу я, не отрываясь от супчика. Мне становится стыдно.
— Ничего, — вдруг неожиданно мягко говорит мне Руслан, — Концепцию триединства тоже не каждый православный с ходу понять мог. А триединству от этого — хоть бы хны. Я объясню тебе. Это не так уж и сложно. Вот ты сказал, что ради прав человека готов пожертвовать всем.
Я снова смущаюсь.
— А самим собой ты готов ли пожертвовать? — спрашивает Линьков.
— Конечно, — отвечаю я искренне. Я даже готов оставить Мишу одну, раз это потребуется для соблюдения прав человека.
— Мы знаем, что у тебя есть девушка, — словно читает мои мысли правозащитник, — Ты готов пожертвовать ею ради прав человека?
— Ну… готов, — отвечаю я медленно.
— Похвальное рвение, — говорит мне Линьков, но теперь каким-то чужим, отстраненным голосом, — Но ведь и ты, и твоя девушка — тоже люди. И у вас с ней тоже есть свои права. Например, право быть вместе и создать демократическую, свободную семью. Оно гарантировано вам конституцией.
— Ну и что? — я не понимающе смотрю на Рецептера.
— Как это — что? — передразнивает меня правозащитник, доедая, наконец, гэмблгер, — Если ты жертвуешь человеком, который имеет права, ты нарушаешь эти его права. Не так ли? А если ты жертвуешь собой — ты нарушаешь свои права.
— Но ведь это мои права! — восклицаю я, — А я сам вправе решать, какими своими правами мне жертвовать.
— В том и ошибка, — понижает вдруг голос Руслан, — Права не твои. Это права человека. И нарушая свои права, ты тем самым нарушаешь права человека. А это уже преступление. Понимаешь?
— Нет — честно говорю я, глядя прямо в пронзительные глаза правозащитника.
— Еще бы ты понял, — улыбается правозащитник, — Это ведь основной вопрос демократии. У кого права есть, а у кого их нет.
— При демократии права есть у всех, — уверенно говорю я Руслану, — Разумеется, в рамках действующего законодательства.
— Так в том-то и дело, — говорит мне Линьков, — Что это не так. Рамки прав куда шире рамок законодательства. Ты не можешь нарушить свои права, потому что ты тоже человек. Но правозащитники добровольно принимают на себя схиму. Они отстраняются от мира и селятся в мрачных тюремных камерах. Они нарушают свои права. Почему?
Я снова пожимаю плечами. Мой супчик закончился.
— Потому что правозащитник жертвует не столько своими правами, — говорит мне Руслан, поднимаясь, — Сколько своей правозащитной праведностью.
Я тоже встаю, и мы идем из столовой. Я в странном смятеньи. Я отличник, я эрудирован и остроумен. Но я не понимаю ни слова из того, что говорит мне правозащитник Линьков. Сликти…[45]
— Отрицание прав человека, — говорит мне Рецептер, — Это преступление против человечности. Но правозащитные старцы, удаляясь в одиночные камеры, сами, добровольно отрекаются от множества прав. Таким образом, они нарушают законодательство. В этом и состоит основная сущность правозащиты, основной ее исторический конфликт с самою собой. Первый закон правозащиты. Первая ее аксиома.
— Какая? — заинтригованный, спрашиваю я.
— Чем больше ты защищаешь одни права, — отвечает Рецептер, — Тем больше ты нарушаешь другие. И первое следствие из этого правила: чем меньше ты защищаешь одни права, тем меньше ты нарушаешь другие. Ты чувствуешь?
— Что? — не понимаю я.
— Ты чувствуешь? — повторяет Руслан, — Чувствуешь? Чувствуешь?
— Вот сейчас почувствовал, — отвечаю я цитатой на цитату.
— Ничего ты не чувствуешь, — говорит правозащитник, — Ладно, я все что хотел повызнал. Теперь я поеду.
Мы стоим уже в холле, перед лифтами. Двери открываются. Правозащитник заходит в кабину. Кроме него там: давешняя женщина в рыбном, заметно заплаканная. Военный эксперт Гольц со штофом молдавского. Приехавшая обеду Полина. Собачка Полины.
Полина выходит из кабины, за ней выбегает собачка. Руслан Линьков заходит в кабину и поворачивается ко мне.
— Запомни, — говорит он, рукоподавая мне, — Сначала права, а потом — человека.
— Как со свободой слова, — отвечаю Рецептеру, рукоподавая в ответ, — Сначала свобода — а потом уже слово.
Руслан улыбается.
Осторожно, двери закрываются.
Я словно растерян.
На правой руке моей — память о рукоподавании. На левой — капелька чудо-йогурта «Проктэр энд Гэмбл». На груди моей хьюман райтс вотч.
Мне надо за сахаром.
Я подхожу к окнам холла и снова смотрю на залитую солнцем Москву. Внизу, у самого подножия Фридом Хауза стоит огромный обоз с батарейками. Сотрудники отдела разгрузки снимают с подвод картонные ящики с надписью Duracell и относят их вниз, в электрическую.
Я всё провалил. Не стать мне правозащитником. Быть вечным помощником. И разве же плохо? Вставать каждое утро, подбрасывать дров в печь, умываться, греть батарейки и слушать радио. Прекрасная, полная жизнь. В ней Миша, телекомнаты, утренний митинг и всенародные праздники: Новый год, День памяти жертв политических репрессий тридцатого октября и восьмое мая — День Победы Соединенных Штатов Америки во Второй мировой войне. Светлый праздник. Свобода и радость. Выборы каждую третью неделю. Полное счастье.
Но я хочу быть правозащитником. Правозащитником без страха и упрека. Правозащитником совести воли. Пэр ме ва бэне.[46]
Я смотрю на бескрайние холмы и поля трейлеров и пытаюсь вспомнить, когда мне впервые захотелось стать правозащитником. И не могу вспомнить. Это говорит лишь одно — мне нечего помнить. Мне предначертано. Я родился правозащитником. Но раз так — то меня должны отобрать и без всяких проверок-экзаменов. С другой стороны — я не чувствовал ответов на вопросы Рецептера. А значит — нет у меня таланта правозащитного.
Сомненья, терзания. Как будто ты женишься. Да, женишься. Вот взять Михаилу. Она всё понимает. И готова отпустить меня в камеры. Но ведь если меня не возьмут в эти камеры, если я так и не стану правозащитником — мы с ней навсегда будем вместе. И всю оставшуюся жизнь меня будут терзать те же сомнения — а почему она, собственно, была согласна на то, чтобы я стал правозащитником? Чтобы оставил ее? Ведь правозащитники не рукоподают друг другу интимно. У правозащитников нет семей. Они живут ради защиты прав человека. И только ради этого. А Миша — согласна. Значит, она не хочет жить со мной? Может, у нее кто-нибудь есть? Да даже если у нее кто-нибудь есть — какое до этого дело мне, ведь я все равно ухожу в правозащитники. Не в этом году — так в следующем. Рецептер придет и еще раз. Или не Рецептер, а кто-то другой — но они теперь будут ходить ко мне до тех пор, пока не поймут, что я подготовился. Что я морально и ментально готов к отречению. Что мне стала доступна духовность. И я сам так хочу пойти в камеру, да хоть в Краснокаменске, и никогда уже не видеть ни Фридом Хауза, ни Бахтияра, ни трейлеров. Краснокаменск! Вуаси мон адрэс.[47]
Окончательно запутавшись в мыслях, я отхожу от окна, вызываю лифт и отправляюсь в подвалы. В кабине на сей раз кроме меня никого нет. Есть только надпись на льду, покрывающем зеркало: «Прощай, немытая Россия!»
И смайлик.
Я вспоминаю передовицу Паркера-Кононенко. Ничего не стреляет. Висит — не стреляет.
Рукоподаю смайлику. Немытой России действительно больше нет. Свобода, демократия, шампуни и гели для душа «Проктер энд Гэмбл» давно уже отмыли ее. Уровень использования антиперспирантов д. российскими женщинами приблизился к европейскому. Слава свободе — очистились. Гигиена и демократия неразделимы.
Лифт останавливается и растворяются двери. Я выхожу в холл отдела раздачи. Передо мной — большая, весомая надпись: «Мы рядом, чтобы улучшить вашу жизнь. „Проктэр энд Гэмбл“». И прямо от надписи веером расходятся раздаточные коридоры: Коридор стиральных порошков и средств для белья. Здесь: «Ариэль»,«Тайд», «Миф» и «Ленор».
Коридор чистящих средств. Здесь: «Комет», «Фэйри» и уголь с песком.
Коридор средств женской гигиены и детских подгузников. Здесь «Олвэйз», «Памперс» и «Тампакс». Здесь презервативы из Баковки.
Коридор средств ухода за волосами. Здесь: «Вош энд Гоу», «Хэд энд Шолдерс», «Пантин Про-Ви», «Шамту» и «Хербал Эссенсес».
Коридор средств ухода за телом и лицом. Здесь: мыла «Камэй» и «Сэйфгард», дезодоранты «Сикрет» и «Олд Спайс», бритвы «Жилетт» и «Браун».
Коридор средств ухода за полостью рта. Здесь: «Бленд-а-Мед» на все случаи жизни и смерти, включая послепохмельное утро, подготовку к теракту и погребение, зубные щетки «Орал-Би», как на батарейках, так и с ручным приводом.
Коридор косметических средств. Здесь: полные линии продукции «Макс Фактор», «Дольче энд Габбана», «Гуччи» и «Хьюго Босс».
Коридор продуктов питания для людей и животных. Здесь: кофе «Фолжерс», грузинский плиточный чай, чипсы «Принглз» и освежающая «Проктер-кола». Гэмблгеры и питательный бобовый суп. Порридж, корм для кошек «Ямс» и гранулированный овес для лошадей. Все это очень вкусно и, безусловно, полезно.
Коридор бытовых изделий и топлива: подковы, гвозди, свечи, дрова, батарейки «Дюрасел», лыжи и мазь для них, карандаши и бумага, посуда, крючки и калоши.
Коридоры лекарств, деталей для трейлеров, спальных мешков, сала, конфет и одежды. Коридоры с книгами, музыкальными инструментами и билетами в баню. Коридоры, коридоры, коридоры с продукцией.
Двести торговых марок, тысячи наименований продукции, сотни миллиардов долларов годового оборота — ассортимент компании «Проктэр энд Гэмбл» практически бесконечен. И как прав был Пентхауз, выбравший именно эту компанию стратегическим инвестором в д. российскую экономику. Не нефтяных монополистов, не банки и не валютные фонды. А мирового лидера в производстве товаров народного потребления.
Нам сделали правильный выбор. Теперь мы свободны и обеспечены всем необходимым для повседневной жизни и творчества. Рукоподаю потреблению.
Мне нужен сахар, и я отправляюсь в коридор продуктов питания. Людей немного — сегодня понедельник, а большинство д. россиян отовариваются в пятницу. Передо мной у окошечка «сахар» стоят пятеро: два Бахтияра, Егор Расторгуев из прачечной, какая-то ассистентша с собачкой и давешняя женщина в рыбном. Рукоподаю Расторгуеву и удивляюсь той женщине — что ж она тут без пристани шастает?
— Простите, — говорю я даме, — Мы с вами видимся вот уже в третий раз за сегодня. Быть может, у вас что-то случилось?
— У меня?! — испуганно спрашивает женщина в рыбном, — А что, со мной что-то не так?
— Да нет, — я пожимаю плечами как можно приветливей, — С вами все в полном порядке. Правда, я вижу, вы плакали — но это ведь ваше личное дело. Мы живем в свободной стране, и каждый ее гражданин имеет полное право плакать когда и где ему вздумается.
— Я потерялась, — тихо говорит мне женщина.
— Потерялись во Фридом Хаузе? — спрашиваю я улыбаясь, — это бывает. Тут путано.
— Я потерялась в жизни, — еще тише говорит женщина, — Я не знаю, что делать мне дальше.
— А зачем же вы тогда стоите в очереди за сахаром? — удивляюсь я, — Ведь надо сначала определиться.
Меж тем два Бахтияра уже отоварились. Черед Расторгуева.
— Да я тут без причины, так встала, — поясняет мне дама, — Я просто не не знаю, куда мне идти дальше.
— Я помощник министра свободы слова, — говорю я таинственной женщине, — Я готовлюсь стать правозащитником. Вы обязательно должны рассказать мне, что с вами случилось. Если возможно — дайте мне получить немного сахара для моих мерина и Бахтияра, и потом мы с вами проследуем ко мне в кабинет, побеседовать.
Женщина краснеет, пугается и отходит немного в сторону.
Егор и неведомая мне ассистентша с собачкой берут сахару на двоих. В их глазах светятся радость и предвкушение. Я радуюсь вместе с ними и немного волнуюсь о Мише — как она переживет без меня? Ведь она же не ассистентша и у нее нет даже такой вот ужасной собачки.
— Роман Свободин, помощник министра, — говорю я в окошечко.
В окошечке — мальчик. И я умиляюсь. Свободный д. россиянин хочет работать. Ему нравится работать и зарабатывать статус. Да, денег в свободной Д.России не ходит — они порождают коррупцию. Но товары! Товары-то у нас все таки есть! И чем выше твой статус — тем больше тебе достается товаров. Если ты мальчик — то тебе полагается столько-то, если же ты Бахтияр — то столько-то. Если ты ассистентша — то столько-то, а если маленькая собачка — то столько-то. Ну а уж если ты помощник министра — то тут уже столько-то. Все нормы свободны и справедливы, поскольку устанавливаются невидимой рукой рынка. Сегодня невидимая рука рынка положила мне, Бахтияру и мерину средний холщовый мешок. Достаточно.
Мальчик берет мой идентификейшн,[48] сверяет демномер со списками, отходит куда-то внутрь каморочки и через мгновение возвращается с мешком средней емкости.
— Спасибо, — рукоподаю я и мальчику, беру мешок и делаю женщине в рыбном приглашающий жест. Она как бы всхлипывает, оглядывается почему-то на мальчика, смотрит на свои пальцы, вздыхает и медленно поправляет на себе рыбное.
Мы проходим по коридору, через холл, с обратной стороны которого висят большие портреты Уильяма Проктэра и Джеймса Гэмбла, написанные Ильей Кабаковым, подходим к лифтовым дверям, вызываем лифт, молча ждем его, когда лифт приезжает — молча заходим.
В кабине лифта вместе с нами: какой-то сотрудник с документами в руках, почтальон с пачкой газет и клеткой воркующих голубей, а также подозрительного вида либер в широких клетчатых штанах и с прической статуи Свободы на голове. На шее у либера висит громадный, безвскусно выполненный алюминиевый хьюман райтс вотч.
— Пожалуйста, не расстраивайтесь, — говорю я женщине в рыбном, — Сейчас мы поднимемся ко мне в кабинет и вы все мне расскажете.
— В кабинет… — подпрыгивая и без всяких приветствий говорит вдруг неизвестно кому молодой либер. Его интонации пренебрежительны, а руки не находят себе места, — Ща он поднимет ее к себе в кабинет, а? И че там?
— Простите? — осторожно спрашиваю я у либера.
— Ну че ты… — прыгает либер, и хьюман райтс вотч на его груди безобразно качается, — Ну че ты простите… Ты че тут самый демократический, да? Самый тут типа свободный? Эт че за чувиха с тобой? Проститутка?
Дама в рыбном вспыхивает подобно огню террориста. Я задыхаюсь от возмущения.
— Молодой человек! — произношу я как можно более стыдяще, — Что вы себе позволяете?!
— Че хочу то и позволяю, — дергает плечами либер, — У нас тут типа свободная страна или че? Или ты, типа, за несвободу? Я не понял… ты че, не свободен? Может, мне тебя научить свободе, а? Чтоб ты телок невольных в кабинеты свои не таскал… Слуга, бля, народный… Ну че ты? Ну че ты?
Ситуация становится странной. Женщина в рыбном окончательно смущена. Сотрудник с документами делает вид, что ничего не происходит. Почтальон старательно пересчитывает голубей.
На либера я один.
И что же, что так? Ведь я — будущий правозащитник. И сейчас первостепенное право несчастной женщины на честное имя и непоруганную репутацию бесстыдственно попирается. Попирается вот этим вот юным хулиганом, экстремистом от демократии. Антэкси…[49]
— Послушайте, юноша, — говорю я либеру, стараясь повторить интонации бесстрашного правозащитника Руслана Линькова, — А вам не кажется, что ваше место слишком далеко от параши, чтобы задавать мне такие вопросы?
— Че ты сказал?! — раскачивается из стороны в сторону либер, — Че ты тут вякаешь!? Я Тесак! Слышал, ты?! Я — Тесак! Я Латынину знаю!
И коротко, с локтя, либер бьет мне кулаком в лицо, прямо под правый глаз.
Женщина ахает. Почтальон еще старательнее считает своих голубей.
— Э!.. — говорит сотрудник с документами.
Но я уже чувствую, что его уверенность в превосходстве сломлена. Либер боится. Иначе бы он не стал распускать свои руки. А раз он боится — то мне стоит всего лишь усилить свое психологическое воздействие.
— Чем больше вы будете бить, — отвечаю я либеру, — Тем сильнее будет мое сопротивление.
Либер прыгает в сторону и бьет мне ногою в живот. Подломленный, я сгибаюсь. Либер продолжает скакать по всей кабине лифта. Раскачивающийся алюминиевый хьюман райтс вотч то и дело бьет его по подмышкам. Женщина смотрит на либера расширенными глазами. Почтальон вжимается в угол.
— Э!.. Э!.. — повторяет сотрудник с документами.
Их бин зэр траурихь.[50] Свобода в опасности. Я издаю незнакомый мне звук и бросаюсь на либера всей массой своего импозантного тела. Я все еще согнут, и кулак либера попадает в мое лицо откуда-то снизу, и сразу же в зубы. Мой рот заполняется кровью. Ненависть и стремление к сопротивлению заполняют все мое существо, но в этот момент я слышу пронзительный женский крик и следом за ним — пронзительный крик самого либера, ноги которого вдруг исчезают из поля моего зрения куда-то в сторону, а следом за ним проносятся тонкие щиколотки женщины в рыбном.
Я распрямляюсь и вижу, как женщина висит на сгорбленном либере, вцепившись руками в рога его прически. Либеру больно. Огромный хьюман райтс вотч беспомощно раскачивается у него между ног.
— Э!.. Э!.. — продолжает сотрудник с документами.
Почтальона уже не видно за клеткой.
В это мгновение тихонько тренькает и лифт останавливается. В открывшиеся двери, мимо недоуменных собравшихся выпрыгивает либер, а женщина в рыбном пытается добавить ему пинок под отвисший и клетчатый зад.
— Так его! — радостно вскрикиваю я, — Да! Венсеремос![51]
Двери лифта закрываются, не успев впустить собравшихся пассажиров, и мы устремляемся вверх.
— Вам не больно? — спрашивает меня женщина.
— О, нет, — гордо и смело отвечаю я ей, трогая рукой надувающийся синяк, — Пустяки. Защищать права человека — наша работа. А это — издержки.
Почтальон и сотрудник молчат.
— Простите, — практически не слышно спрашивает меня женщина, — А чьи права вы только что защищали? Мои?
— И ваши, конечно, — отвечаю я ей, — Ведь он пытался оскорбить вас. Но вообще, конечно, я защищал права человека. Я же готовлюсь стать правозащитником.
— Я что же — не человек? — удивляется женщина.
— Вы? — удивляюсь в ответ и я тоже, — Вы — не человек? А я-то все думаю, че это в рыбном… вы… вы правда андроид?
Женщина вспыхивает. По ее щекам текут слезы. Я, кажется, где-то ошибся.
— Ну, то есть, простите… — бормочу я растерянно, — Вы, конечно же, человек. Это я так… предположение. Я же знаю, что никаких андроидов не существует… что это все выдумки глумливых цепных псов сталибинизма….
Женщина уже практически рыдает.
— Да перестаньте же вы, — говорю я и мнусь, — Сейчас вы мне все расскажете, и тогда уже я вас обязательно защитю… защищу… буду защищать.
Звоночек снова тренькает, и лифт останавливается. Это как раз наш этаж. Я пропускаю женщину в рыбном вперед, выхожу следом за ней, а прямо за мной из лифта появляется почтальон. Автоматически замечаю, что сотрудник с документами — из посвященных. Он едет на этажи выше нашего. Там, до сто девятнадцатого — всё руководство. Включая и.о. Президента. Выше, до сто сорокового — Пентхауз. Те, кто выше и.о. Президента. Туда не лифт не ходит.
«Он был свидетелем моего героизма», - думаю я и довольствуюсь. Рукоподаю показаниям.
Полина смотрит на женщину непонимающе. Собачка ее вяло потявкивает.
— Это ко мне, — говорю я Полине, и веду даму в свой кабинет, — Нам кофе, пожалуйста.
Мы с дамой стремительно проходим к кабинету, но спиною я вижу, да попросту чувствую — Полина с собачкой делают нам вослед препротивные рожи. С приходом демократии и свободы в этой стране поменялось практически всё. А среди того немного, что так и не поменялось — это ассистентши и их маленькие собачки. Показная угодливость и хорошо скрываемая подлость — вот два основных качества этой породы людей и собачек. Я таким вообще даже бы не рукоподавал. Нам с ними — не по пути. Паро кыросыпчиё.[52]
Я открываю даме дверь в кабинет и она проходит. Я прохожу за ней следом и закрываю за собой дверь. Дама робка и смущается. Я великодушен.
— Как вас зовут? — спрашиваю я приветливо.
— Марина, — отвечает мне дама, — Марина Л.
— Не стоило так рисковать ради меня, — говорю я Марине Л., - Я бы непременно одержал победу над этим юношей. Моральное превосходство было за мной.
— Да… — отвечает мне дама и снова смущается, — Вы… вы простите меня… это… это как-то так непроизвольно вышло…
— Ничего страшного! — улыбаюсь я даме и рукоподаю ей, — Да вы присаживайтесь!
Дама присаживается. Присаживаюсь и я.
— Так что же у вас там такое случилось? — спрашиваю я и беру карандашик.
— Понимаете… — бормочет Марина Л., - Я немного запуталась… даже не знаю, как и сказать-то…
— Говорите все как есть, — приободряю я, осторожно трогая наливающийся под глазом синяк.
— Видите ли… — мнется несчастная женщина, — Когда-то давным давно я была стабилинисткой. Но потом мне показалось, что это теперь уже никому и не нужно. И тогда я решила…
Дверь кабинета стремительно растворяется, и в проеме появляется Полина с подносом в руках. С неизменно презрительным выражением своего красивого лица, Полина проходит к столу и выставляет на него следующее: чашку полутораложечного растворимого кофе для дамы, чашку полутораложечного растворимого кофе для меня, блюдечко с овсяным печеньем и розеточку с вареньем из проса.
— Что-нибудь еще? — строго спрашивает Полина, — Что это с вашим лицом?
Я ей в ответ лишь вежливо улыбаюсь.
Полина разворачивается и выходит из кабинета, непристойно вильнув бедрами и качнув восхитительным задом. Где-то в глубине коридора тявкает ее гаденькая собачка.
— Итак? — спрашиваю я у женщины, провожая Полину глазами и дуя на источающую густой пар поверхность своего кофе.
— А вот так, — странно отвечает мне женщина, — То есть — никак.
— Не понимаю, — честно признаюсь женщине я.
— Да что ж тут непонятного, — вздыхает Марина Л. и пробует кофе на вкус, — Когда я была стабилинисткой — мне было понятно, что и зачем я исповедую. А когда вдруг…
И она снова всхлипывает.
Я сижу за своим рабочим столом в кресле, смотрю на эту женщину и думаю — сколько же, сколько людей и судеб переломал этот выбор? Сколько честных и свободолюбивых стабилинистов однажды вдруг понимали, что что-то не так, что курс неверный, а режим — преступный. И всем им приходилось перешагивать не только через свои убеждения — но и через самих себя. Страшным топотом перешагивать. Потому что им надо было успеть. Успеть хотя бы часть своей жизни прожить в счастье и наслаждении. Ибо нет для человека высшего наслаждения, чем наслаждение демократией и свободой. Так говорит Бурджанадзе.
Женщина всхлипывает. И тут я решаюсь задать ей главный, особенный вопрос.
— Скажите пожалуйста, — я пытаюсь придать своему голосу наиболее сочувственный тон, — А почему вы все время одеты в рыбное?
— То есть как это — все время? — удивляется женщина и немного краснеет, — Да мы с вами виделись только в лифте мельком пару раз. Что это вы себе позволяете!?
— Я просил бы прощения, — отвечаю немедленно, — Но просто… это такая необычная одежда в наших краях.
— Ваши края — это где? — вдруг спрашивает меня Марина Л. сухим и хозяйственным тоном.
— Наши края — это здесь, — с готовностью развожу руки я, — В Кремле. Фридом Хаузе. В Москве. А почему вы спрашиваете?
— Ваши края… — тихо говорит женщина, — Они ваши, но не мои. Когда я была стабилинисткой, никому и в голову не приходило носить одежду, изготовленную из рыбы. Все носили одежду, изготовленную из кожи турецких животных. Чего нам тогда не хватало? Зачем нам теперь все вот это?!
— Как это — чего не хватало? — пораженно спрашиваю у Марины я, — Свободы! Нам не хватало воздуха! Мы жили душной атмосфере авторитаризма, тотальной цензуры и бюрократического произвола… Мы задыхались от несвободы!
— А сколько вам было лет, когда пришла революция? — вдруг спрашивает Марина.
Я очень не люблю этот вопрос.
— Ну… — отвечаю я ей, — Мне было… да какая разница, сколько мне было! Я всё помню!
— Зачем же вы врете… — устало вздыхает женщина.
Я утыкаюсь в свой кофе. Его удивительный запах очень бодрит. Кто-то из старших рассказывал мне, что когда-то давным давно бодрящие свойства кофе зависели не от его запаха, а от содержания в нем тонизирующих веществ. Но поскольку тонизирующие вещества наносят человеческому организму непоправимый вред, лучшие американские специалисты изобрели безопасный растворимый кофе, в котором таких веществ нет. И который, тем не менее, тоже очень бодрит, стоит его понюхать. Человеческий организм трепещет от этого запаха и мобилизуется на борьбу с ним, в то время как никакого физиологического вреда организму нет. Рукоподаю величайшей науке генетике, когда-то бесстыдно гнобимой тоталитарным режимом Сталина.
— Вы же ничего не помните! — восклицает женщина, — Вы молодой еще совсем юноша! Вы жертва государственной пропаганды, которая с рождения вбивает вам в голову, что при старом режиме все было очень плохо. А при старом режиме вовсе не все было плохо!
Я возмущаюсь.
— Что это вы такое мне говорите тут? — взволнованно поднимаюсь я с кресла, — Революция дала нам свободу! Счастье и наслаждение жизнью! До революции российские люди прозябали, их уровень жизни был оскорбительно низок!
— А как же одежда из кожи турецких животных? — удивляется женщина, — Она же была лучше рыбной!
— Вы искажаете исторические факты! — я стоек и принципиален, — Погодите, погодите…
Я роюсь в бумагах на столе.
— Вот! — торжественно поднимаю я перепечатку из журнала The Times, — Смотрите, как описывали честные западные журналисты стабилинистские авиалинии в две тысячи седьмом году.
Читаю:
«Самолеты советских времен марки „Туполев“, которые летают над российскими и китайскими просторами, вселяют страх еще до взлета. Уже в демонстрации мер безопасности, во время которой пассажиров призывают пользоваться „канатами аварийного покидания“ при возникновении чрезвычайной ситуации, есть нечто дезорганизующее.
Бортовые инженеры ходят с гаечными ключами туда-сюда по проходам, в рамках предполетной проверки приколачивая панельную обшивку на место.
После того как самолет поднимается в воздух, бортинженеры исчезают в туалетах, зачастую со степенными стюардессами, и на протяжении остальной части полета из-под дверей валит сигаретный дым. Тем временем пассажиры начинают пересаживаться и устраиваться поудобнее, чтобы спрятаться от морозного воздуха, просачивающегося сквозь дыры в плохо подогнанных запасных люках.
Неубывающая череда алкогольных напитков, которые носят в кабину, всегда вызывает беспокойство, но, по крайней мере, помогает объяснить неожиданные рывки самолета. У „Туполева“ нет автоматического поддержания скорости, и время от времени нога пилота давит чуть сильнее, и пассажиры оказываются вдавленными в свои кресла от перегрузки.»
Зачитав статью, торжествующе смотрю на женщину.
— Но теперь-то вообще нет никаких авиалиний… — тихо говорит она, — И никаких самолетов… разве что для батареек…
— Потому что лучше не иметь вообще никаких самолетов, — строго ответствую я, бросая бумау на стол, — Чем иметь такие, как описанные в этом журнале!
Взволнованно прохожусь по кабинету.
— Да что там самолеты! В обществе царила атмосфера страха и недоверия! В любой момент вас могли схватить и бросить в подвалы Лубянки! Услать в Краснокаменск! А то и просто — застрелить в темном подъезде из пистолета марки ТТ.
Женщина слушает меня с интересом.
— По улицам Москвы бродили медведи и пьяные бандиты, — рассказывал я, — Человека могли убить за бутылку водки! А межнациональные отношения? Погромы, сожженные магазины, социальная разобщенность и ненависть! И все это не чьи-то там выдумки, а документальная правда, зафиксированная в материалах библиотеки Инопресса! Пойдите туда, почитайте! Это на сорок восьмом.
— Инопресса… — говорит вдруг Марина мечтательно.
— И по дороге на сорок восьмой, — продолжаю я, — Вас никто не изнасилует в лифте.
— А либеры? — улыбается женщина.
— Это была спланированная провокация, — немедленно отвечаю я, — У нас тут вообще никаких либеров не бывает. За этим следят боевые грузины.
— Что же это у вас за демократия-то такая, — с сомнением говорит мне Марина, — Что ее надо защищать с боевыми грузинами?
— Почему надо? — удивляюсь Марине я, — Ничего не надо. Просто грузинам так хочется. Мы же живем в свободной стране.
— Грузины странные… — бормочет женщина в рыбном, — То они порождают Сталина с Берией… а теперь защищают русскую демократию…
— Сталин не был грузином! — возмущенно говорю я, — Вы что сюда пришли, проводить стабилинистскую пропаганду? Так вы не по адресу. Я — помощник министра свободы слова! И я хочу стать правозащитником! Меня вашей дешевой ложью не купишь!
— Не купишь… — снова мечтательно говорит мне Марина, — Как же давно это было… Осетия… митинги… Невзлин…
— Либерал-лейтенант Невзлин? — удивленно спрашиваю я, — Вы его знаете?
— Знаю, — тихо говорит женщина в рыбном, — Скажите, а кто же был Сталин? Ну, если он не был грузином.
— Вообще-то упоминать национальность человека не очень красиво, — отвечаю я женщине, — Но про Сталина можно. Как известно, злодей был иранец.
— Иранец? — удивляется женщина.
— Иранец, — киваю я, — Государства-изгои исправно поставляли своих эмиссаров для установления марионеточных режимов в несвободных странах третьего мира. И Сталин был одним из таких эмиссаров. Иранский шпион. Основатель Аль-Каиды…
— Да, да… — тихо бормочет Марина, — Я так ведь и думала… ведь все повторяется. Скажите, а вы ведь наверняка знаете украинско-грузинского посла?
— Батоно Пархома? — радуюсь я, — Имею честь и даже рукоподаю.
— А как вы думаете, — спрашивает женщина, — Он — грузин?
— А кто же?! — не очень понимаю вопрос, — Он же каждое свое выступление начинает со слов: я — грузин. У него и орден такой есть…
И вдруг я чувствую, что все идет как-то не так. Вот эта женщина в рыбном — ездит мимо меня весь день, напала в лифте на либера, да и либер этот откуда ни возьмись взялся. Теперь вот сидит здесь, разговоры странные разговаривает… Кто они все такие? Кто эта женщина? Чего она ко мне напросилась? Впрочем, это я сам же позвал ее…
Я вдруг становлюсь подозрителен. Наверняка этот Кононенко приехал не просто так. Кажется, тут целая шайка.
— Скажите, — спрашиваю я Марину честно и напрямик, — А вы знаете такого Кононенко?
— Паркера? — переспрашивает Марина, — Когда-то знала.
Ну точно. Я уже не сомневаюсь в том, что хулиганская шайка проделывает скверные шуточки. Ладно если бы просто морочили голову. Но нападение на помощника при исполнении служебных обязанностей — это уже уголовное преступление. За такое можно запросто словить пару лет условного нерукоподавания. И вообще надо бы рассказать обо всем этом Платоше Любомирову… бикоз…[53]
— А вы тоже знаете Паркера? — спрашивает вдруг женщина, — И как он теперь? Не спился еще? Все, вроде, к тому шло…
— Практически, — сухо киваю я, — Недолго осталось. А либера этого вы раньше не видели?
— Либера? Нет, — отвечает мне женщина.
Пытаюсь уловить лукавство в ее глазах. Но в глазах ее темно и заплаканно. Чего же она все-таки плакала?
— Вы знаете, — говорит Марина Л., отставляя в сторону кофе, — Пойду я, пожалуй.
Очень подозрительно.
— Куда же вы пойдете? — говорю я Марине в надежде выудить из нее дополнительную информацию о шайке бандитов и провокаторов, — Ведь мы с вами так и не поговорили о том, отчего же вы плакали.
— Да какая разница, — отвечает Марина и встает, — Женщины плачут.
— Но если вы плачете, — отвечаю я ей, — То значит, ваши права нарушаются. А значит, есть разница. Почему вы скитаетесь по зданию? Чего ищите? Что потеряли? Рассказывайте.
Марина вздыхает и снова садится.
— Скажите, — говорит она тихо-притихо, — А это правда, что правозащитники защищают права всех-всех людей?
— Разумеется, — гордо отвечаю ей я, — А как же! Правозащита не избирательна. Все свободные люди равны между собой.
— А несвободные? — еще тише спрашивает Марина.
— В каком смысле? — не понимаю я.
— В прямом, — отвечает Марина, — Вот я была стабилинисткой. И все у меня было хорошо. Хорошая квартира в центре Москвы, собственный металлический «мерин», заказы, почет, уважение. А потом я решила уйти на свободу. И вроде бы тоже все было хорошо — та же квартира, и «мерин», и заказы. Но вдруг случилась вся эта революция, и вдруг оказалось, что я никому не нужна больше. Понимаете?
— Не понимаю, — честно отвечаю ей я, — В нашем обществе нет ненужных людей. Квартира, металлический «мерин» — это все плен. Предмет зависти окружающих и моральные путы. Ведь вы же были несвободны, а теперь вы — свободны. У вас есть свой трейлер, хорошие лыжи… правда, почему же вы в рыбном?
— Нет, не этого я хотела, — шепчет мне женщина.
Она смотрит на меня огромными глазами, и я вдруг понимаю, что делаю что-то не то. Я зачем-то учу ее, делаю ей замечания. Но ведь не в этом судьба правозащитника. Я должен просто защитить ее права.
— Так что я могу для вас сделать? — спрашиваю я у Марины.
— Я хочу снова быть стабилинисткой, — отвечает Марина Л.
Сначала я в шоке. Беру себя в руки.
— Марина, — говорю я медленно подбирая слова, — Мы живем в свободной стране. В по-настоящему свободной стране. И в этой стране каждый выбирает себе идеологию по собственному желанию. Хотите быть стабилинисткой — будьте стабилинисткой. Никто не сможет помешать вам в вашем выборе системы ценностей. Не те времена.
— Это прекрасно, — говорит мне Марина, — Но это касается только тех, кто решил стать стабилинистом сейчас. А я была стабилинисткой до революции. И попала под закон о люстрации. Старых стабилинистов не берут на работу. Для нас нет заказов. Мы никому не нужны в этом обществе. Над нами просто смеются. Мы здесь — изгои. Белые вороны. Мы вынуждены носить одежду из рыбы! На нас всем плевать…
На глазах у Марины снова выступают крупные слезы.
Хорошенькое дело. Закон о люстрации… Тем более, что я почти уверен — это шайка бандитов и провокаторов. Ультрас. Гориллас. Они просто решили завербовать меня.
И они бы завербовали, если бы не одна маленькая ошибка. Конечно, они не могли и предположить, что я, простой помощник министра, отличник Московского Гарвардского, так запросто разгадаю их план.
Я встаю с кресла и быстро прохожусь по своему кабинету.
Нет, я не поддамся на провокацию. Но если я сделаю это открыто — мало ли, что ждет меня в будущем. Они могут обвинить меня в отказе защищать права человека. С другой стороны, если я соглашусь помочь стабилинистам — меня может ждать нерукоподаваемость. Закон о люстрации. Я умный. Я должен найти правильный выход. И да поможет мне хьюман райтс вотч.
Марина сидит и нюхает кофе.
Я смотрю на нее и пытаюсь представить себе, какое решение принял бы настоящий правозащитник. Например, тот же Рецептер.
«Чем больше ты защищаешь одни права, — вспоминаю я слова Руслана Линькова, — Тем больше ты нарушаешь другие права. И чем меньше ты защищаешь одни права — тем меньше ты нарушаешь другие права.» И вроде бы просто. И вроде бы… вот он спрашивал меня про Михаилу. И говорил, что становясь правозащитником, я нарушаю ее права. Софистика какая-то… дас гефэльт мир нихт.[54]
Вот взять эту женщину. Она — старая стабилинистка. И это кошмар. Но это ее выбор, и он должен быть уважаем. И я должен защитить ее права перед свободным, демократичным обществом. Кто я в таком случае? Тоже стабилинист. Линьков говорит, что для правозащитника это нормально. Но я так не думаю. Мне все же кажется, что он тоже меня провоцировал. Проверял и прощупывал. Правозащита не абсолютна. Она не может быть общей для всех. Да, старые правозащитники вроде Линькова думают, что защищать надо всех. Но зачем нам защищать изгоев нашего общества? Ведь если мы будем их защищать — они навсегда останутся в нашем обществе. А то и снова придут к власти… вернется все это… Не хочется.
Но как же свобода…
Я хожу по кабинету из угла в угол и думаю. Марина продолжает нюхать свой кофе. Боится поднять глаза.
Я принимаю решение.
Да, мне не хватает знаний. Ведь правозащита — ответственность. С утра я подписывал просьбу о нерукоподавании Кононенко. Но мне было жалко этого Кононенко. Сейчас передо мной сидит заплаканная женщина. И я вроде бы должен ей помочь, но не знаю, следует ли. А вдруг это провокация?
Отчего же ружье не стреляет? Когда оно выстрелит, многое вдруг станет проще.
Чем больше прав мы защищаем — тем больше прав мы нарушаем. Как хорошо, что Рецептер научил меня этому раньше! Чем меньше прав мы защищаем — тем меньше прав мы нарушаем. А я не хочу нарушать права, пока я не правозащитник. Вот стану правозащитником — буду защищать. А пока я хочу их не нарушать.
— Хорошо, — говорю я заплаканной женщине, — Я — правозащитник. И я защищаю права любого человека. Пусть он убийца, педофил, или даже стабилинист. Правозащита запрещает защиту только фашистов и тех, кто отрицает Холокост и Голодомор. Вы отрицаете Холокост?
— Холокост? — удивилась Марина, — Нет, не отрицаю.
— Тогда все прекрасно, — вру я ей ободряюще, — Я буду защищать ваши права. Права на труд, на общественное приятие, на рукоподаваемость и одежду на синтепоне.
— А… а когда? — немного растерянно спрашивает меня женщина.
— Что — когда? — не понимаю я.
— Когда вы начнете защищать мои права? — спрашивает Марина.
— Да прямо сейчас, — отвечаю я ей, — Я их уже защищаю. Вы носите хьюман райтс вотч?
— Конечно, ношу — женщина торопливо достает из под рыбного маленький хьюман райтс вотч и показывает его мне.
— Прекрасно, — говорю я, — Рукоподавайте ему искренне и многочестиво. И все будет хорошо.
— Спасибо! — женщина смотрит на меня с благодарностью, — Я чувствую себя защищенной. Мне это нравится. Все же нам женщинам так малого в жизни и надо…
Марина улыбается и я вижу в глазах ее радость.
— Женское счастье, — говорит мне Марина Л., - Был бы правозащитник рядом. А тем более такой молодой и красивый.
Она прячет хьюман райтс вотч. Я немного смущаюсь.
— Вы кофе-то весь вынюхали? — спрашиваю я Марину, — Еще не хотите?
— Нет, нет, спасибо! — спохватывается женщина и поднимается с места, — Я, пожалуй, пойду уже. Мне теперь уже лучше. Нашелся благородный человек, который сможет защитить мои права. Спасибо, спасибо, спасибо!
Марина направляется к выходу. Я смотрю на нее и думаю, что когда-то это была очень красивая женщина. Высокая, быстрая, какая-то вся пронзительная. Да почему же была — она и сейчас остается очень красивой. Ей бы только чуть-чуть права подзащитить… да избавиться, наконец, от этого рыбного…
Марина стоит в дверях кабинета.
— Еще раз большое спасибо, — говорит она мне, — Сделайте правильный выбор. И вам это обязательно зачтется.
Она стремительно выходит из кабинета и затворяет за собой дверь.
Я смотрю на закрытую дверь и думаю — что это было? Что означали ее последние странные слова? Правильный выбор. Зачтется. Мне кажется: она думает, что ей удалось завербовать меня. Ну конечно! Ведь это же шайка! А я расслабился, на красоту засмотрелся. Нет, тут надо обязательно принять меры. Надо связаться с боевыми грузинами…
Я немедленно сажусь за свой стол, беру бумагу, карандаш и пишу докладную записку.
«Батоно Пархом!
Сим смею уведомить Вас, что в нынешний день довелось мне встретить в присутствии несколько раз (а именно три) одну и ту же степенную даму, одетую в рыбное. Состояние оной дамы, будучи визуально заплаканным и несчастным, вызвало во мне стремление к состраданию и правозащите. Согласуясь с желанием и долгом правозащитника, я пригласил эту даму к себе в министерство, по дороге к которому вступил в неравную схватку с невесть откуда взявшимся огромным либером по кличке Тесак, сославшимся на профессора Латынину и стремившимся обесчестить даму, назвав ее проституткой (простите).
Защитив даму от поругания чести, я препроводил ее в свой кабинет. Угостил изумительным кофе „Фолджерс“ (модифицированные кофейные бобы c высокогорных плантаций Южной Америки, технология кристаллизации, позволяющая сохранить растворимому кофе запах свежесваренного). В общем, все чики-чики. Однако же смею доложить, что разговор наш с таинственной посетительницей вышел далеко за рамки обычного.
После серии точных и обезоруживающих вопросов мне удалось выяснить, что оная дама во времена оные была стабилинисткой, потом переметнулась, однако же после Березовой революции все одно попала под действие закона о люстрации. Теперь она бедствует, плачет, скитается и одевается в рыбное.
Просила о правозащите.
Я согласился для виду, в реальности внутренне отказав.
Смею предположить, что напавший на женщину либер, ровно как и присутствовавший утренним часом на приеме у министра сатаровский журналист Кононенко Максим (он же Паркер) — одна единая шайка, цели действия которой пока не понятны, но все же надеюсь.
Зовут эту даму Марина Л. Узнать ее можно по рыбному.
Засим кланяюсь, лезгиню и рукоподаю всепочтенно.
И да пребудет с нами хьюман райтс вотч.
Помощник министра Роман Свободин, отличник Московского Гарвардского».
Написав записку, я складываю ее в восемь раз, закладываю в голубиную капсулу, подхожу к двери и отворяю ее.
— Полина, — кричу я из дверного проема, — У нас голуби свободные есть?
— Вам-то как раз есть, — кричит мне в ответ Полина, чем-то щелкает, хлопают крылья, заливисто лает маленькая собачка и спустя мгновение мне на плечо садится серый голубь, к ноге которого прикреплено уже чье-то послание.
Я прохожу в кабинет, оприходую голубя и разворачиваю депешу.
— Любезный Свободин — написано в документе, — Как и договаривались, напоминаю тебе, что сегодня в 17 часов в пятом секторе американской военной базы в Шереметьево террористы произведут гексогеновый взрыв с уничтожением многих артистов. Ты изьявил желание посмотреть, и я жду тебя там в означенное выше время.
И подпись: Платон Любомиров, сотрудник отдела по управлению международным и внутренним терроризмом.
А я и совсем забыл. Смотрю на хронометр Timex. Третий час пополудни. И если сейчас я отправлюсь на мерине — то могу даже и не поспеть. Далековато.
Я надеваю на голубиную ногу послание послу республике Украина и Грузия, отправляю голубя в коридор, надеваю верхнее, беру мешок с сахаром, выхожу в фойе и прощаюсь в Полиной.
— Я в Шереметьево, — коротко, но солидно говорю я, — По терроризму.
Лифт подъезжает. Эффектно. Полина с собачкой смотрят мне вслед. Осторожно, двери закрываются.
В кабине кроме меня четверо: Сеня Волобуев, корпоративный чемпион по туризму, с огромным рюкзаком за спиной и лыжными палками в руках, какая-то ассистентша с собачкой и папкой в руках, оленевод Микеев и неизвестный мне юноша с томиком Бориса Акунина в руках.
— Что, Семен, — спрашиваю я у Волобуева, — снова в поход?
— Мне без похода нельзя, — густым низким голосом отвечает Семен, — Тренируюсь к международным конюховским играм. А что это у тебя на лице-то?
Это серьезно. Международные туристические игры имени Федора Конюхова — крупнейшее туристическое состязание в мире. Это вам не в теннис прыгать и не с горки на лыжах кататься — тут дело серьезное. Туристы отправляются в такие места, где и Конюхов не ходил, а таких мест на Земле практически не осталось. Семен — наша надежда на победу в этом году. Сейчас он второй в мировом рейтинге туристов-естествоиспытателей. Но обязательно будет первым. Примус![55]
— Ты сделаешь, — улыбаюсь я Волобуеву, — Ты обязательно сделаешь этого Панюшку.
Семен благодарно улыбается мне в ответ, но в глазах его я вижу сомнение. Уж слишком силен Панюшка. Слишком он где-то там, впереди, на первой строчке мирового рейтинга. В своих прочных ботинках за четыреста долларов исходил он уже практически весь мир. Сегодня — на годовщине оранжевой революции в Киеве, завтра — на похоронах очередного римского Папы, послезавтра — на Северном полюсе, а через три дня — в Париже, пьет кофе с правнучкой Наташи Геворкян. Как он все это успевает делать — не понимает никто. Но Семен обязательно его сборет. Я знаю это наверняка. Российский туризм — лучший туризм в мире. Что, кстати, подтверждает и Панюшка, который, по слухам, когда-то был гражданином Д.России, но ему не достало свободы. Что ж, история демократии в Польше, разумеется, богаче д. российской. Но мы тоже подтянемся!
— Он обязательно сделает! — горячо поддерживает меня юноша с Борисом Акуниным, — Вы знаете, я много читаю, и у меня есть теория. Свобода — это в первую очередь обновление. Исторически Д.Россия всегда производила только сырье. А теперь мы — мировые лидеры по производству товаров бытовой химии и батареек. Исторически Д.Россия была страной бедных — а теперь у каждого из нас есть собственный дом. Исторически в Д.России не было свободы слова — а теперь у нас есть специальное министерство для ее защиты. А бесплатная раздача продукции Проктэр энд Гэмбл? Да что говорить! Кстати, у вас под глазом синяк.
Я немного краснею.
— Вы отмечаете тенденцию? — взволнованно говорит юноша, — Я ее отмечаю! И Борис Акунин в своих программных статьях ее тоже отмечает! Мы обновляемся! Демократия и свобода дали нам возможность достигать цели, которые раньше мы даже не рисковали себе ставить. Две беды у нас было — дураки и дороги. Так что ж теперь? Дураков нет! И дорог — тоже! Потому что они не нужны. На работу мы ездим на лыжах и меринах, а батарейки везут самолетами.
— Ну, железные дороги-то есть… — бормочет Волобуев. Собачка ассистентши вертит хвостом.
— Простите, — осторожно обращаюсь я к юноше, — И что же из этого?
— Так это же очевидно! — восклицает юноша, — Мы обязательно выиграем у Панюшки!
— Надеюсь на это, — говорю я задумчиво, — Но нам чем же базируется ваша уверенность?
— Так я же говорю вам, — уже как-то снисходителен юноша, — На обновлении! Ведь если мы раньше хоть в чем-то проигрывали — то теперь обязательно выиграем.
— Мужчина не врет — говорит вдруг оленевод Михеев, — Чем старше олень — тем больше у него рога. А чем больше у оленя рога — тем больше у него авторитет.
Ассистентша отчего-то смущается, но ничего не говорит. Ее собачка гаденько тявкает.
Вдруг тренькает, и лифт останавливается. Двери его растворяются, и ассистентша с собачкой и папкой выходит в фойе. Оставшиеся смотрят на ее пугающий зад. «Осторожно, двери закрываются», - говорит невидимый голос, и двери действительно закрываются. Лифт движется дальше.
— Да ладно вам философствовать, — басит Волобуев, — Я выиграю. Мне б ботинки покрепче, как у Панюшки. Мои-то попроще. А будут ботинки — так…
— С ботинками всяк сможет, — говорит вдруг юноша с книгой, — Но это не подвиг. Чай, Панюшка тоже не с рождения в ботинках за четыреста долларов ходит. Заслужил. Статьями своими заслужил свободными и мнением высказанным. Вот и мы должны заслужить свои ботинки. Своим собственным, ответственным трудом. А там и победы проклюнутся.
— Так-то оно так… — бормочет Волобуев, а я вдруг глубоко задумываюсь.
И встает перед моими глазами вся картина Березовой революции. Вся — от начала и до самого ее великого конца, который еще даже не наступил.
Начало революции лучше всего описано в знаменитой, хоть и немного сумбурной статье Саши Рыклина «Уроки московских событий», которую теперь преподают в свободных демократических школах.
Я помню эти слова наизусть, потому что учил их вместе со всеми в юности:
«Завязкой московских событий были происшествия чисто сексуального, на первый взгляд, характера. Правительство города под давлением некоторых „поп-звезд“ даровало частичную автономию, или якобы автономию, принадлежавшим этим „звездам“ гей-клубам. Господа артисты получили самоуправление. Господа геи получили право проводить свои парады. В общей системе гебистско-олигархического гнета была пробита, таким образом, маленькая брешь. И в эту брешь сейчас же устремились с неожиданной силой новые революционные потоки! Мизерная уступочка, крошечная реформа, проведенная в целях притупления политических противоречий и „примирения“ разбойников с ограбляемыми, вызвала на деле громадное обострение борьбы и расширение состава ее участников. На гей-парады повалили несогласные. Стали получаться революционные народные митинги, на которых преобладали передовые борцы за свободу — пенсионеры и интеллигенция. Правительство вознегодовало. „Солидные“ поп-звезды, получившие самоуправление в гей-клубах, заметались и забегали от революционных гомосексуалистов к полицейскому, нагаечному правительству. Эти так называемые „артисты“ воспользовались свободой, чтобы изменить свободе, чтобы удерживать геев от расширения и обострения борьбы, чтобы проповедовать „порядок“ — перед лицом гомофобов и черносотенцев, господ Лужкова и Поткина! „Звезды“ воспользовались народной любовью, чтобы править дела народных палачей, чтобы закрыть гей-клуб, это чистое святилище разрешенной нагаечниками „культуры“, которое осквернили геи, допустив в них „подлых приспешников Запада“ для обсуждения „не разрешенных“ гебистской шайкой вопросов. Самоуправляющиеся „артисты“ предавали народ и изменяли свободе, ибо они боялись побоища в гей-клубе. И они были примерно наказаны за свою подлую трусость. Закрыв революционный гей-клуб, они открыли уличную революцию. Жалкие педанты, они уже ликовали было, наперерыв с негодяями Малерами, что им удалось потушить пожар в клубе. На самом деле, они только разожгли пожар в громадном мультикультурном городе. Они запретили, эти ходульные людишки, интеллигенции идти к гомосексуалистам; они только толкнули гомосексуалистов к революционной интеллигенции. Они оценивали все политические вопросы с точки зрения своего, насквозь пропитанного вековой казенщиной, курятника; они умоляли студентов пощадить этот курятник. Достаточно было первого свежего ветерка, выступления свободной и юной революционной стихии, чтобы все позабыли даже и думать о курятнике, ибо ветерок крепчал, превращаясь в бурю, направленную против основного источника всей казенщины и всего надругательства над русским народом, против гэбэшного самодержавия.»
Все позабыли даже думать о курятнике, ибо ветерок крепчал, превращаясь в бурю… Великие слова! Казалось бы — сказано просто, но сколько же силы в этих словах. Сколько же в них демократии! Дуодиет диви![56]
После разгона московского гей-парада, несогласные выплеснулись на улицы. Под удаленным руководством стратегического тандема Невзлина-Березовского, люди потребовали у власти ответа. Основным орудием сопротивления, по совету британской PR-компании «Белл Поттингер», был выбран березовый кол.
Главной проблемой сопротивления была его вопиющая немногочисленность. Пока пенсионеры и интеллигенция с березой в руках прорывали оцепления ОМОНа на маршах несогласных в разных городах страны, пока стратегический тандем Невзлина-Березовского впустую тратил огромные деньги на мобилизацию безответственности, основная масса населения бездумно просиживала у экранов своих телевизоров, транслировавших зомбирующие пропагандистские агитки. Нужен был какой-то важный политический ход, иначе сопротивление, как Джимми Хендрикс, захлебнулось бы в собственной рвоте.
И гений Бориса Березовского подсказал народу Д.России замечательный выход. Каждый из нас со школьных лет помнит эту знаменитую картину: лобби-бар лондонского отеля «Миллениум». Круглый стол, накрытый белой льняной скатертью. На забранных темно-серым шелком стенах — рукописные портреты отцов русской демократии. За столом, в черных траурных одеяниях сидит соратник академика Ходорковского, такой же юкос, как он, апостол свободы, член-корреспондент и либерал-лейтенант Леонид Борисович Невзлин. На лице его застыла гримаса ужаса и отвращения. Левой рукой правозащитник прижимает ко рту вышитый платок. В правой руке у него — политическое завещание зверски убитого мученика Саши Литвиненко. На столе лежит фотография Анны Степановны Политковской. Рядом со столом стоит Березовский. Левой рукой он успокаивающе обнимает Невзлина за плечо, а правая рука сжата в кулак и решительно упирается в поверхность стола. «Мы пойдем Другим путем» — словно бы говорит Невзлину Березовский. Лондонский отшельник первым понял, что бессмысленно использовать правду против неправды. Бессмысленно возвышать свой голос против молчания. Невозможно перекричать океан. Нельзя объять необъятное.
Другой путь — вот что предопределило победу Березовой революции. Другой путь подарил нам Другую Россию. И хотя революция была неизбежна, ожидать пробуждения сознательности и социальной ответственности у оболваненных безнравственными и пошлыми телепередачками масс можно было бы еще долго. А бороться с колоссальным пропагандистским ресурсом стабилинистов с помощью свободных и демократических СМИ, как пытался делать это сосланный за границу правозащитник Гусинский — неэффективно. Мощи бы не хватило.
И тогда был придуман Другой путь — гениальный проект по изъятию у населения телевизионной приемной аппаратуры. Если источник шума нельзя перекричать — то надо попросту заткнуть уши. А если кто-то не хочет затыкать уши — надо его мотивировать.
В лифте снова тренькает. Кабина останавливается и двери раскрываются. Фойе первого этажа. Практически холл. Мы с путешественником Волобуевым выходим. Оленевод и юноша с Акуниным едут в подвалы.
В вестюбиле суета. Снуют трудолюбивые Бахтияры. Гремят клетками с голубями деловитые почтальоны. Бегут ассистентши с непрерывно тявкающими маленькими собачками. Пахнет свободой и частной предпринимательской деятельностью. Средним классом потягивает.
Я улыбаюсь, подхожу к стене и встаю в небольшую очередь перед сигнальным пультом.
Как вдруг небольшое движение. Я вижу, что по вестибюлю разбегаются люди. Кто-то свистит в бахтиярский свисток. Раздается испуганный крик: «Много чести!»
У дверей вестибюля образуется большая людская прореха. В центре ее — небольшой человек. Он нечесан и грязен, в бороде его колтуны, а сквозь лохмотья и рубище то тут то там проглядывает покрытое коростой и струпьями темное тело. На груди человека нет хьюман райтс вотч.
— Кто же пустил его?! — раздается вокруг, — Да вы посмотрите! Много чести! А как его остановишь? Ведь и не притронешься! Много чести!
Человек оглядывается вокруг и вдруг негромко, но издевательски произносит:
— Однако, здравствуйте!
В вестибюле немедленно наступает гробовая тишина. Никто не смеет произнести ни слова — любой звук может быть расценен как ответ оборванцу. А отвечать оборванцу нельзя. Он — нерукоподаваемый. Если и можно сказать слово — то лишь специальное словосочетание «много чести». Таким образом ты покажешь нерукоподаваемому, что тебе известно о его социальном статусе, а заодно оповестишь окружающих о том, что с этим бывшим человеком не стоит иметь никаких отношений.
— Где Матвей? — неожиданно громко спрашивает нерукоподаваемый, медленно поворачиваясь вокруг своей оси, — Где Матвей?! Где Матвей, суки?!?
— Много чести, — шепчут те, на кого обращается взгляд нерукоподаваемого.
— Бляди! — кричит человек, подскакивая то к одному, то к другому краю выстроившегося вокруг людского круга, — Бляди!! Суки!!!
— Много чести, — отшатываются люди от человека, — Много чести…
— Сволочи!! — кричит человек все громче и бегает по краям человеческого круга как цирковая кобыла, — Мрази!!! Чемодан-вокзал-Лондон!!! Чемодан-вокзал-Израиль!!!
— Много чести, — шелестит по огромному вестибюлю, — Много чести…
— Гады!! — кричит нерукоподаваемый, — Чемодан-вокзал-Тбилиси!!! Отчитывайтесь в свой вашингтонский обком!!!
— Много чести, — перекатывается по вестибюлю волна осторожного шепота, — Много чести…
Неожиданно нерукоподаваемый успокаивается.
— Однако, до свидания, — говорит он обиженно, сутулит оборванными плечами и телепается к выходу.
Вздох огромного облегчения проносится по вестибюлю.
— Надо же…, - говорит стоящий передо мной чиновник в тельняшке, — Леонтьев. Давно я его не видел. С апреля. Его ж сам Пархом нерукоподаваемым сделал.
— Ужас какой…, - провожает нерукоподаваемого взглядом стоящая рядом с чиновником девочка в синем, трогая свой юношеский хьюман райтс вотч, — Нам в школе про него такое рассказывали… говорят, что как будто бы он считал Соединенные Штаты Америки врагами Д.России!
— Ничего себе… — бормочет чиновник, набирая звонок на пульте, — Ты только не вздумай повторять эти глупости на людях.
Пара уходит. Подходит и моя очередь. Я звоню один раз левым звоночком, четыре раза средним, и восемь раза правым. Потом еще один раза левым, три раза средним и ни одного раза правым. Сто сорок восемь тринадцать — это порядковый номер моего мерино-места в подземной конюшне. По отсутствию звонка правым звоночком дежурный Бахтияр понимает, что код закончен и подает сигнал на выдачу мерина. Через несколько минут я уже в седле, к которому приторочен мешок с сахаром, и тихонечко трогаю. Прикрываю глаза. Перед глазами снова встает эпическая картина русской демократической революции.
Да, тогда уже многие смеялись над Березовским. Его считали беспомощным, забытым романтиком. Списали со счетов активных врагов стабилинизма и все больше боролись с правозащитником Невзлиным. Что ж, если бы авторитарный режим не был так глуп — его было бы не победить. Но стабилинисты и их приспешники недооценили гений Бориса Березовского и его политическую прозорливость.
Через подставных лиц стратег построил в Москве многоэтажный, многоподъездный и многофункциональный элитный жилой комплекс «Другой путь». И стал продавать в нем метры за телевизоры. Один квадратный метр — за один телевизор, вне зависимости от его размеров и стоимости. В то время, время нефтяного дурмана и экономического забытья этой страны, время безудержных, галопирующих цен на мрачную каменную недвижимость, телевизор стоил приблизительно в двадцать раз меньше, чем один квадратный метр жилой площади. На этой тоталитарной разнице и сыграл великий бизнесмен и стратег.
Для покупки однокомнатной квартиры-студии в жилом комплексе «Другой путь» нужно было сто пятьдесят телевизоров. И люди бросились в магазины скупать эти телевизоры, а поскольку старорусский человек в массе своей был жаден и глуп, то в магазинах покупалось лишь сто сорок девять или сто сорок восемь телевизоров, а один или два недостающих телевизора отдавались из дома, благо на возраст и работоспособность принимаемых в оплату приборов никаких ограничений не налагалось.
После продажи первого корпуса здания в Москве возник розничный дефицит телевизоров. Люди принялись скупать телевизоры друг у друга. Цены на бытовую электронику стремительно выросли, но невидимая рука рынка расставила все по своим местам — за организацию программы потребительского кредитования населения в области торговли телеприемниками Леонид Борисович Невзлин впоследствии получил почетное звание боевого либерал-лейтенанта.
После продажи первых пятисот тысяч квадратных метров жилой площади власти заволновались. Делами таинственного застройщика заинтересовалась генеральная прокуратура и антимонопольный комитет. И здесь случилось то, чего никак не могли предвидеть стабилинисты, но что гениально предвидел стратег — москвичи стали отказываться покупать квартиры за деньги. Ведь даже после начала дефицита и подорожания телевизор все равно стоил в десять-пятнадцать раз меньше, чем квадратный метр в деньгах. А если кто-то купил метры за телевизоры — ищи дурака покупать их за деньги. И спустя каких-то несколько месяцев рынок мрачной каменной недвижимости в Москве рухнул из-за отсутствия спроса. Риэлтеры плюнули, застройщики плюнули — и началась торговля за телевизоры. Вскоре подтянулись Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург и Ростов-на-Дону.
Стабилинисты и ОМОНовцы, в совершенстве освоившие к тому времени оперативное управление уличными протестами, оказались совершенно не готовы к такому повороту событий. В мегаполисах стремительно распродавалось дорогое жилье, население не раздумывая расставалось с телевизорами, зрителей становилось все меньше, рейтинги телеканалов падали, рекламодатели уходили с телевидения в рекламу на обоях и фасадах домов. Спустя всего год с небольшим после начала операции «Другой путь» телевещание в стабилинистской России было полностью парализовано.
Дольше всех сопротивлялись футбольные болельщики. Но когда неизвестные умельцы (sic! высококвалифицированные американские специалисты) наладили трансляцию футбольных матчей на городской смог — расстались с телевизорами и болельщики. Власть пыталась было использовать те же методы и транслировать свою гнусную пропаганду на облачность — но никто не хотел выходить на улицы ради одной только пропаганды.
Я хорошо все это знаю, ведь я же отличник. Я медленно еду на мерине по Демократическому проезду. Когда-то тут находился так называемый «Исторический музей», прославлявший отвратительное, тоталитарное прошлое этой страны. С введением утренних митингов и учреждением Музея оккупации Д.России этот «музей» разобрали, чтобы расчистить дорогу для гражданского общества. Справа от меня — бескрайние просторы Чайна-тауна, где трейлеры похожи на пагоды. Слева — могила известного Натовца. Подвиг его неизвестен, но имя его бессмертно. У могилы стоят два огромных человекоподобных робота. Рукоподаю кибернетике. Рукоподаю свободолюбивому мирному блоку НАТО. Рукоподаю революции.
Кровавый режим пал от безвестности. Про него просто забыли. В то время как на улицах городов освобождающейся Д.России собирались миллионы футбольных болельщиков, смотревших трансляцию матчей на городской облачности, живущая в палатках и беспрестанно протестующая интеллигенция пропитывала их идеями социального протеста, свободы и демократии. Особенно болельщикам нравилась атрибутика протестующих — березовые колья и берестяные колпаки. И когда на Красной площади заработал бесперебойный майдан беспредельности — протестовать уже было нечего. Окна в Кремле были темными. Стабилинизм бежал. Березовая революция свершилась.
Двумя колоннами, с березовыми кольями в руках, все вышли — колонна на умершее уже Останкино, другая — на Юго-Западную, к зданию правления акционерного общества «Единые энергосистемы России».
Когда-то кровавый тиран по фамилии Ленин вывел дьявольскую сакральную формулу: «Коммунизм есть советская власть плюс электрификация всей страны». Эта формула стала проклятием старой России. Долгие десятилетия провела она под гнетом коммунистов, ставших предтечей стабилинистов и породивших кровавую гэбню. То было самые страшные годы в жизни этой страны. Но всему однажды приходит справедливый конец. Советскую власть удалось уничтожить победоносными демократическими танками девяносто третьего. Вторая же половина коммунизма — электрификация всей страны, — продолжала существовать и отравлять жизнь свободолюбивому народу Д.России еще долгие годы стабильности. А олицетворял эту электрификацию самый главный преступник страны — либерал-предатель, стабилинист и кровопийца по кличке Чубайс.
Чубайса штурмующие не нашли — ему удалось бежать, переодевшись в женское платье. Зато были найдены все рубильники и пульты управления. Свершилось великое энергетическое освобождение — Д.Россия избавилась от магистрального электричества.
Коммунизм растворился в истории. Д.России удалось, наконец, отряхнуться от стен, ограждавших ее от остального цивилизованного мира. Мы стали открыты мировому сообществу.
В ту ночь никто в Д.России не спал. Всех охватил энтузиазм. Свободные граждане смотрели в темное небо и воображали себе, как будут рады в Америке, и как будут рвать на себе волосы стабилинисты.
Единственной жертвой Березовой революции стал лоснящийся от нефтедолларов плюгавый телерадиогеббельс Владимир Соловьев. Не дожидаясь народного суда и приговора к нерукоподаваемости, он самолично обрушил на себя большой студийный софит.
Мой мерин везет меня вверх по Тверской. Хозяйки и Бахтияры уже начинают топить печи для ужина. Над улицей разносится сладкий запах березового дыма и легкий перестук топоров. Вот одна из хозяек повесила на веревку белье. Судя по виду — брюки для пятницы. Вот неизвестный мне Бахтияр починяет калошу. А вот и играются дети. Слепили бабу на морозе — руки, ноги, голова. Она стоит в нелепой позе, а на пузе у нее — хьюман райтс вотч из сосульки. Рукоподаю бабе. Рукоподаю великому городу. Хэппи![57]
Березовский вернулся в эту страну победителем. В каждом школьном учебнике истории есть знаменитая фотография: Панкисское ущелье, грузинская граница. Белый слон, на котором сидит Березовский. В правой руке у него — фотография героя Д.России Саши Литвиненко. В левой руке — хьюман райтс вотч.
Рукоподаю современникам. Прекрасный мир, прекрасные сердца. Подъезжаю к Березовской площади. Здесь, на позеленевшем от времени постаменте стоит фигура стратега. Он слегка понурил кучерявую голову. Его бакенбарды, кажется, плачут. За Д.Россию, за свободу без конца болит его большое упрямое сердце. «И долго буду тем любезен я народу, — написаны на постаменте простые и искренние слова Березовского, — Что чувства добрые в газетах пробуждал. Что в мой жестокий век восславил я свободу…».
Стратег не только восславил свободу. Он даровал ее Д.России, не попросив практически ничего взамен. И не возгордился тем, не взалкал, не стал академиком, а так и остался простым членом-корреспондентом. Его так и не стали называть по имени-отчеству, как других академиков и членов-корреспондентов. Он, как Василий Блаженный и Валерия Новодворская, остался навсегда вместе с народом Д.России. Не оторвался от земли. Наоборот — припал к ней всем телом. Несмотря на то, что сделал не меньше иных академиков.
«Слух обо мне пройдёт по всей Другой России, и назовёт меня всяк сущий в ней язык, и гордый внук славян, еврей, и ныне тихий чечен, и друг чечен грузин» — эти слова из политического завещания Березовского знает каждый младенец в этой стране. Потому что это должен знать каждый.
Стратег Березовский. Душа д. российской демократической революции. Ее пламенный трибун и политолог. Ее вечный правозащитник. Он наверняка достиг бы больших высот в нашем народном правительстве, если бы не выпал по нелепой случайности из панорамного окна сто тридцать восьмого этажа Фридом Хауза. Что он делал на том этаже — не знает никто, как, впрочем, никто и не знает, что вообще находится на этажах выше сто девятнадцатого, в Пентхаузе. А еще так никто и не знает — куда же он дел телевизоры. Сто миллионов телевизоров со всей бескрайней Д.России — где они?
Рукоподаю неизвестности.
Пытаюсь представить себе сто миллионов бытовых телевизоров. Зачем человечеству столько? Мерин тихо везет меня в сторону Белорусской — там начинается Железная дорога, и по ней я смогу уже врезать галопом. А пока что — ограничение скорости.
Сто миллионов бытовых телевизоров. Которые потребляют электроэнергию. Которая вырабатывается за счет сжигания нефти и заболачивания великих д. российских рек. Да ладно там рек! А опасная и угрожающая всему свободному миру ядерная программа стабилинистской Д.России — это ли не веская причина для того, чтобы мы отказались от использования электроэнергии?
А самое страшное состоит в том, что вся эта энергия тратилась только на то, чтобы распространять пустую и наглую ложь. Пропаганду. Сомнительные шутки и низкопробные сериалы. Подумать только, когда-то существовал мир, в котором не было ни Киселева, ни Шенденовича! Страшно даже подумать, как жили мои родители без всего этого. Как они страдали вечерами, лишенные правды и неиллюзорной свободы слова! В те страшные годы на всем российском телевидении была только одна женщина, которая позволяла себе бороться против системы и говорить только то, что она думает. А если кто-то не соглашался говорить с ней о том, что она думает — она заставляла человека отказаться от лицемерия и лжи. Раскрыться перед народом и правдою. Звали ту женщину красиво и странно — Марианна Максимовская. Никто не помнил, откуда она взялась, как никто и не понял, куда же она подевалась. Но имя ее навечно вписано в историю торжества правды и свободы этой страны.
Сто миллионов телевизоров. Ведь это же очень много. Куда Березовский мог их поставить?
Я слышу заливистый звон и разухабистое «Хэй!» Меня обгоняет богатая тройка, гонимая красным от водки и счастья шофером. На зге у коренного висит небольшая мигалка синего цвета. Пыхает ярко — видимо, свежие батарейки и галоген.
Вот не люблю же я этого! Показуха имперская. Стыдба! Остались еще недобитки тоталитарные, никак не способные забыть времена стабилинистского рабства без всякой ответственности. Причем наверняка лимита какая-нибудь необразованная, заместитель распределителя памперсов или начальник отдела уборки гуано за почтовыми голубями. И обгоняет меня, помощника министра свободы слова, человека с прекрасным образованием и, между прочим, отличника. Удивительное, поразительное хамство. Осколки бюрократического олигархата и преступного чиновничьего беспредела. Ай хэйт[58] бюрократию.
Хорошо о таких вот ничтожествах однажды сказал в одном из своих поучительных выступлений сам батоно Пархом:
«Глеболегычевы деревянные солдатики есть, они совсем рядом, вот прямо-таки среди нас, и забывать об этом нам, живым людям, не следует. Вот сейчас у них пошла такая деревянная мода — по мере возможности переодеваться в человеческие штаны и рубашки, мазать свои деревянные лица театральным гримом, запихивать в свои деревянные рты какую-то человеческую еду. Авось люди примут их за своих.
Мне бы не хотелось, чтобы вы, например, относились к этому их дурацкому маскараду как к чему-то естественному и самому собою разумеющемуся. Я думаю, что позволять деревянным солдатикам прикидываться людьми, — вот этот как раз и не „продуктивно“. Продуктивно — снова и снова тыкать их деревянными бошками в их же собственное деревянное дерьмо. Чтобы впредь им — и другим, еще только нарождающимся деревянным, — неповадно было. Пусть деревянные отвечают за свои деревянные же пакости. Это у них — короткая и неверная память. А люди по-прежнему помнят многое.»
Сколько мудрости в этих простых, казалось бы, словах! Да, люди по-прежнему помнят многое! Я, правда, не знаю, что это — «глеболегычевы», но это наверняка что-нибудь старо-грузинское.
Тройка скрывается впереди, разгоняя других ездоков и лыжников, и оставляя за собой облако снега, сверкающего в лучах склоняющегося к Обетованному Западу солнца.
«Ну и ладно, — думаю я, — Ведь это всего лишь вопрос времени. Следующее поколение чиновников вообще не будет знать о мигалках и тройках. Обо всей этой наглости. Ну, разве что свободная пресса напомнит. В назидание и для опыта жизненного».
Вот и уже Белорусская. После того, как народ Белоруссии принял ислам, стабилинисты хотели переименовать площадь и вообще позабыть о братской стране. И если бы не революция — они наверняка довели бы свой гнусный план до конца. Но теперь все в порядке, мы толерантны и веротерпимы (пусть даже мусульмане хьюман райтс вотч и не носят), а площадь как была Белорусской — таковой и осталась. А с нее расходится во все края необъятной Д.России Железные дороги. На самом деле это просто вежливая дань истории — дороги-то вовсе и не железные. Они алюминиевые. Восемь полос по три метра шириной каждая. Толщина алюминиевой плиты — сорок сантиметров. AMAL может себе позволить. Мерину надевают калоши — и он быстро, практически бесшумно перемещает своего седока на большое расстояние. Прекрасное изобретение эпохи высокотехнологичного производства в Д.России. Когда алюминиевые заводы страны принадлежали только лишь безответственным олигархам, они не давали стране ничего, кроме банок для пива и саянской пищевой фольги. Теперь, когда алюминиевое производство передано рачительным американским хозяевам, ситуация изменилась. Алюминием покрыты лучшие конебаны страны. Алюминиевой брусчаткой выложена Красная площадь имени Ющенко. Алюминиевые шатры венчают Кремлевские башни, а в алюминиевой посуде все мы готовим свой порридж. Мы едим алюминиевым ложками, а из алюминиевых кружек пьем свой зеленый плиточный грузинский чай. Мы счастливы — наш алюминий стараниями эффективного американского менеджмента остается в стране. Рукоподаю алюминию.
Мне — в Шереметьево. Мерин аккуратно вступает на начало Железной дороги. Алюминий ему нравится. Он предвкушает. Подскочивший откуда-то с краю Бахтияр неуловимым движением поднимает мерину ноги и надевает на каждую удобную мягкую калошу на толстой подошве из владимирской полихлорвинидной пластмассы. Сегодня калоши красные. И мне это нравится. Рукоподаю полимерам.
Благодарю Бахтияра и трогаю. Мерин плавно начинает свой спорый разбег. Окрестные трейлеры постепенно начинают сливаться в картину художника-экспрессиониста. Я пытаюсь мысленно выстроить на фоне этой бесконечной и пестрой цветной ленты сто миллионов бытовых телевизоров.
Сто миллионов бытовых телевизоров. Полупроводниковых, жидкокристаллических, плазменных и даже ламповых. Каждый объемом приблизительно в одну восьмую кубометра. Восемь телевизоров — кубометр. Сто миллионов телевизоров — двенадцать с половиной миллионов кубометров. Это… я быстро считаю, ведь я же отличник… это куб со стороной в три с половиной километра. Где-то в Д.России есть куб со стороной в три с половиной километра, состоящий из одних телевизоров. Яфэ![59]
В сравнении с масштабами этой страны — просто песчинка. А какой фантастический результат получился! Странно подумать… ведь получается, что свобода целой страны умещается в куб со стороной в три с половиной километра. Как-то не очень и много.
Мерин расшевеливается и несет, как пух, легонького отличника. Я только улыбаюсь, слегка подлетываю на своем пластиковом седле, ибо люблю быструю езду. И какой д. россиянин не любит быстрой езды да по правилам? Его ли душе, стремящейся к свободе, к правам человека и к демократии, не сказать иногда: «я отвечаю за всех!» — его ли душе не любить ее? Ее ли не любить, когда в ней слышится что-то восторженно-чудное?
Кажись, неведомая сила подхватила тебя на крыло к себе, и сам летишь, и все летит: летят километры, летят навстречу Бахтияры на облучках продуктовых кибиток, летит с обеих сторон город с пестрыми рядами трейлеров, с топорным стуком и бабьим криком, летит вся дорога невесть куда в пропадающую даль, и что-то страшное заключено в сем быстром мельканье, где не успевает означиться пропадающий предмет, — только небо над головою, да отсутствие туч, да склоняющееся солнце одни кажутся недвижны. Эх, мерин! Птица-мерин, кто тебя выдумал? Знать, у бойкого народа ты мог только родиться, в той земле, что не любит шутить, а ровнем-гладнем разметнулась на полсвета, да и ступай считать километры и скважины, пока не зарябит тебе в очи. И не хитрый, кажись, дорожный снаряд, не железным схвачен винтом, а наскоро живьем с одним топором да гвоздями снарядил и собрал тебя трудолюбивый расторопный Бахтияр. Не в китайских ботфортах наездник: калоши да рукавицы, и сидит черт знает на чем; а привстал, да замахнулся, да затянул песню — мерин вихрем, только дрогнула дорога, да вскрикнул в испуге сопутствующий лыжник — и вон она понеслась, понеслась, понеслась!.. И вон уже видно вдали, как что-то пылит и сверлит воздух.
Не так ли и ты, Д.Россия, что бойкий необгонимый мерин несешься? Свободой лучится под тобою алюминиевая дорога, гремят мосты, все отстает и остается позади.
Остановился пораженный свободным чудом Бахтияр: не молния ли это, сброшенная с неба? Что значит это наводящее сладость движение? И что за неведомая сила заключена в сем неведомом светом мерине? Эх, мерин, мерин, что за мерин! Вихрь ли сидит в твоей гриве? Чуткое ли ухо горит во всякой твоей жилке?
Заслышал с Шереметьево знакомый позывной, напряг медную грудь и, почти не тронув копытами алюминия, превратился в одну вытянутую линию, летящую по воздуху, и мчится весь вдохновенный свободой!.. Д.Россия, куда ж несешься ты? Дай ответ! К свободе — дает ответ. И к демократии. Чудным звоном заливается колокольчик; гремит и становится ветром разорванный в куски воздух; летит мимо все, что ни есть на земли, и, косясь, улыбаются ей приветливо и рукоподают ей другие народы и государства.
Я поднимаю голову к небу. Бесконечную синеву разрезает прямой белый след. Это летит в вышине надежный миротворческий истребитель НАТО. Мы с мерином летим вместе с ним. Я улыбаюсь. До чего же нам упростила жизнь демократия! Режим промывает мозги через телевизоры? В топку такие телевизоры! Агонизирует разложившася армия? В топку такую армию! Нас защитит миролюбивый блок НАТО. Не получается противостоять терроризму? В топку такое противостояние! Террористы — такие же люди, как мы. Страну пронизала коррупция? Без взятки не решить ни одного вопроса? Все решают деньги? В топку такие деньги! Гений победителя коррупции, члена-корреспондента Сатарова неоспорим: нет денег — нет и коррупции. А раз нет денег — то и нефть продавать не за что. В топку такую нефть! Отдать ее миролюбивому блоку НАТО за защиту вместо разложившийся армии. Отдали нефть — сразу выздоравливает экономика. Вместо тупого выкачивания из скважин — развитие высокотехнологичного химического производства с помощью цивилизованного западного инвестора. Все следует одно из другого и одно за другим. Свобода и демократия автоматически, сами собой, приводят к процветанию и благоденствию. Квартиры в Москве недоступны? В топку такие квартиры! Город превратился в каменные джунгли? В топку такие джунгли! Разобрать все каменные дома, а на освободившемся месте расставить персональные трейлеры. Прохудились коммуникации? В топку такие коммуникации! Воду принесут трудолюбивые Бахтияры. Помои вынесут тоже они. Заодно и с занятостью вопрос решился. Стало дорогим коммунистическое электричество? В топку такое электричество! Осветимся и батарейками. Испокон веков мечтала Д.Россия жить как Америка. И вот оно свершилось — живем. И припеваючи. Рукоподаю неумолимой логике исторического развития. Рукоподаю диалектике.
Вдали уже виден забор Шереметьево. Быстр мерин на алюминиевой дороге.
У огромных авиабазы ворот сидят на своих дровнях Бахтияры, на высоких вышках стоят с пулеметами натовцы. Здесь как нигде в другом месте видна разница между нашей начинающей демократией и демократией истинной, исторической, бескомпромиссной. Бахтияры что-то обсуждают, кричат «козлодаразина», а некоторые совершают намаз. Чего они ждут у дверей крупнейшей в Восточном полушарии мирной военной авиабазы имени батоно Саакашвили — трудно сказать. А вот с другой стороны, за высоким, убранным колючей проволокой забором, царит настоящая западная цивилизация. Никаких тебе калош, подков и меринов — одна только форменная одежда, автомобили «Шевроле» и пончики. Горячие, посыпанные пудрой, сочащиеся сахарным жаром пончики. Величайший из деликатесов на Земле. Там даже кофе, говорят, не нюхают, а пьют. Врать не стану — сам не видел. Но звучит как-то диковинно: пить кофе. Такая ж гадость… оно же ведь горькое!
Я приближаюсь к воротам. Бахтияры, завидев отличника, расступаются. Откуда-то голос с украинско-грузинским акцентом: «Хто тквэн? Ра гквиат?»[60]
— Свободин Роман, — отвечаю, осматриваясь, — Помощник министра свободы слова. По приглашению Любомирова.
Вижу на вышке мужчину в папахе и шароварах.
— Наїхали тут[61]… - ворчит мне мужчина все с тем же акцентом, и как бы нехотя растворяет автоматические ворота. Бахтияры ахают и рукоподают кто как может. Я медленно направляю мерина.
Такое, наверное, можно было бы видеть, если войти в лифт на сто девятнадцатом этаже, а выйти из него на сто двадцатом. Но лифты Фридом Хауза поднимаются только до сто девятнадцатого, на сто двадцатый на лифте едут уже вниз со сто сорокового. А на сто сороковой прилетают только на вертолетах. Это очень мудрое и безопасное решение — если в Пентхауз врежется какой-нибудь захваченный тоталитаристами летательный аппарат, то ниже сто двадцатого этажа огонь распространяться не будет. И все свободные д. российские служащие останутся невредимы. «Проктэр энд Гэмбл», ты думаешь о нас. Ты видишь нас. Мы здесь. Рукоподаю предусмотрительости.
«С другой стороны, — думаю я — Если захваченный тоталитаристами летательный аппарат врежется в здание ниже сто двадцатого этажа, то огонь не будет распространяться наверх. И Пентхауз останется невредимым. Тогда получается, что „Проктэр энд Гэмбл“ думает о них. Об эффективных западных менеджерах с блестящим образованием. Он думает обо всех. Вопрос лишь в том, куда именно врежется захваченный тоталитаристами летательный аппарат…»
Мы здесь с мерином — стоим на самом краю огромного алюминиевого поля. Сзади за нами закрываются циклопические ворота, а спереди слышен какой-то шум. Ситуация напоминает мне сериал «Кинг-Конг live», который был очень популярен в телекомнатах минувшей осенью.
Шум постепенно материализуется в огромный автомобиль «Шевроле». Поразительно, насколько бессмысленно это изобретение. Потребляя нефть, оно производит один лишь дым, в то время как мерин, потребляя овес, производит навоз, из которого впоследствии снова произрастает овес. Но что поделать — традиции. Как в Великобритании до сих пор существует монархия — так и в странах развитой демократии до сих пор существуют громоздкие автомобили. И это прекрасно! Я восхищаюсь подъехавшей ко мне металлической конструкцией. Рукоподаю инженерному гению. Мерин мой топчется то ли от ревности, то ли от неприятного запаха.
Блестящая черная дверь «Шевроле» растворяется, и из машины выходит Платон Любомиров, сотрудник отдела по управлению международным и внутренним терроризмом.
— Приехал таки! — улыбается мне Платоша, — А я и не думал! Чего у тебя с глазом-то?
— Я тут подсчитал объемы нашей свободы, — говорю я сотруднику спешиваясь, — Они не так уж и велики.
— Свободы? — удивляется мне Любомиров, — Объемы? О чем ты? Свобода ведь безгранична! Эй, Бахтияр! Мерина заберите! Что у тебя в мешке-то? Гексоген? Тоже решил попробовать терроризма?
— Это сахар для Бахтияра, — говорю я Платону.
Подходит Бахтияр и уводит мерина на стоянку.
— Сахар, говоришь? — загадочно смеется Платоша, — В Рязани вот, говорили, тоже был сахар… Так что там с объемом свободы?
— Это только так кажется, что она безгранична — поясняю я, — Но на самом деле свобода умещается в куб со стороной в три с половиной километра. Одна гора на демократическом Кавказе вполне вместит в себя всю д. российскую свободу.
— Я не понимаю тебя, — говорит мне Платоша, когда мы усаживаемся в кресло автомобиля.
— Я и сам себя не очень-то понимаю, — отвечаю я к Любомирову улыбаюсь, — Я просто посчитал общий объем изъятых Березовским у населения телевизоров.
— Так ты что же, — удивляется Платон, когда «Шевроле» трогается, — Ты думаешь, что наша свобода — она в телевизорах? И что если бы не Другой путь — у нас не было бы демократии?!
— Отчего же, была бы, — уверенно отвечаю я Любомирову, — Только, наверное, позже. Воспитание свободного самосознания у людей — это такое долгое дело. Уж проще когда телевизоры…
— На правильном месте, — говорит вдруг про себя Любомиров.
— Чего? — удивляюсь я.
— Работаешь на правильном месте, — говорит мне Платоша, — Сотрудник свободы слова должен не о самосознании думать.
— А о чем же? — не понимаю Любомирова я.
— Понятное дело, о чем, — отвечает мне Любомиров, — О свободе слова. То есть — о телевизорах. А о самосознании пусть подумает помощник министра самосознания.
— Так нету у нас такого министра, — говорю я Платошеньке.
— Значит, надо ввести, — кивает Платошенька.
«Шевроле» выезжает на летное поле. Насколько хватает взгляд раскинулось алюминиевое пространство. Слева стоят миротворческие истребители НАТО. Справа — миротворческие бомбардировщики «Стелс». Прямо по курсу разгружается большой миротворческий транспортный самолет с батарейками. Мощь этой страны потрясает. Но что мощь этой страны по сравнению с мощью любимой Америки, несущей свободу всему этому миру, от Черного моря до Украины, степей Средней Азии и ветвей ливанского кедра. Щорс![62]
— Нравится? — довольно испрашивает Платон.
— Значительно, — соглашаюсь я и оглядываюсь, — А где террористы?
— Да ты не волнуйся, — улыбается Любомиров, — Террористы появятся. Уж все заготовлено.
«Шевроле» мягко несется по серебристому полю. Садящееся солнце разливает по гладкой поверхности кровавые лужи. Волнуюсь. Как будет всё? Опасно ли? Нет, я конечно же видел теракты по праздникам. И с жертвами видел неоднократно. Но так, чтобы целый грузовик гексогена — не видел. Масштабно.
— Насчет Михаилы не парься, — говорит вдруг Платон Любомиров, — Не пропадет твоя Михаила.
— Чего это? — не понимаю я Любомирова, — Михаила-то тут при чем?
— Ну ты же готовишься в правозащитники, — говорит мне Платоша, — Вот я и говорю — не беспокойся. Прикроем.
— Да какие мне теперь правозащитники, — поникаю я, — Сегодня ко мне приходил Рецептер.
— Да ладно… — не верит Платоша, — Сам Рецептер?! Он ведь так просто из камеры не выходит. Значит, и правда — скоро в тюрьму.
— Да в какую тюрьму! — горестно восклицаю я, — Как бы не отхватить нерукоподаваемость.
— Нерукоподаваемость? — удивляется Платон Любомиров, — Тебе-то за что?
— Так ведь если бы можно было подумать, за что, — говорю я Платоше, — Если бы был хоть какой-то человек, которому можно было бы послать голубя с вопросом: «за что?». Так ведь нет человека такого. Не предусмотрено. Все определяет одна лишь демократическая процедура.
— Мне кажется, — уверенно говорит Платоша, — Что ты несколько переутомился. Тебе надо сходить в своему демоаналитику.
— Мой демоаналитик говорит, — вздыхаю я Любомирову, — Что в детстве мне не хватало личной свободы.
— Мой, кстати, говорит то же самое, — улыбается мне Любомиров, — И это понятно. Наши родители родились в несвободной стране.
— В частично несвободной, — поправляю я Любомирова, — Впрочем, это от года зависит…
— Да пусть даже в частично несвободной! — восклицает Платоша, — Но они родились не в свободной стране! И естественно, они передали часть этой несвободы нам, своим детям. И должно пройти еще два, три поколения, прежде чем в этой стране родятся по-настоящему другие россияне. Свободные от самого рождения и до самой смерти! А не такие, как мы — свободные, но сомневающиеся. Ты сомневаешься? Только честно скажи — ты сомневаешься?
— В чем? — недоумеваю я.
— В том, что абсолютная свобода и демократия — это прекрасно, — отвечает Платон, — Ты сомневаешься? Бывают у тебя такие мгновения, когда ты вдруг думаешь — ну что за бардак? Почему эти трейлеры? Почему дровами топим, почему батарейки? Бывает?
— Ну… — заминаюсь я.
— Бывает, — уверенно говорит Любомиров, — Потому что мы слабые. Мы никак не можем отдаться свободе полностью, без остатка. Отдаться ей в той же степени, в какой отдавались диктатуре пролетариата большевистские революционеры. Но демократия не ошибается! Ошибаться можем мы, люди, но не процедура! А если люди ошибаются в своем выборе — это всегда можно исправить с помощью следующего тура голосования. Свободно, легитимно и демократически. И нам нужна смена поколений для того, чтобы понять это, прочувствовать это всем телом. Жаль только жить в эту пору прекрасную уж не придется ни мне ни тебе.
— Сам придумал? — восхищаюсь я финалом выступления Любомирова.
— Мама так говорила, — отвечает Платоша, — Она за Михаилой присмотрит.
— Да чего за ней присматривать, — бормочу я, — Она свободная девушка, сама справится.
— А может, вы в ней вместе, а? — спрашивает Платон.
— Что — вместе? — не понимаю я.
— Ну, в правозащитники, — машет головой Платоша.
— Да не хочет она, — отвечаю я другу, — У нее на уме одна любовь. Она даже хьюман райтс вотч на ночь снимает. Несознательная.
— Любовь — это прекрасно, — замечает Платоша, — Особенно, если это — любовь к свободе и демократии. Хотя хьюман райтс вотч это она, разумеется, зря…
«Шевроле» летит по бескрайнему алюминию. Наперерез нам летит стремительный голубь скоростной чешской породы. Платон притормаживает, останавливает машину и опускает стекло. Птица закладывает крутой вираж, залетает в салон и садится между сиденьями. Платон снимает у нее с ноги послание, разворачивает его и читает внимательно.
— Ну надо же, — говорит вдруг Платоша, — Какой-то террорист с поясом приехал на Бахтияре прямо к центральному входу и требует, чтобы его пропустили непосредственно к грузовику с гексогеном. При этом в списке приглашенных террористами старейшин его имени нет. Никакой конфиденциальности…
— Это я его пригласил, — отвечаю Платоше, — Извини. Он просто ехал со мной в лифте, без детонаторов… как-то мне его жалко стало. Ну, я и позвал.
— Без детонаторов? — удивляется Любомиров, — Все же наша программа помощи малым народам ну никуда не годится. Нищета и разруха, если им даже взорвать себя не на что. Надо как-то резче, весомее ставить вопрос.
— Перед кем? — спрашиваю я у Платона.
Платон указует глазами наверх.
— Перед и.о. Президента? — спрашиваю я у Платона, — Но он же старается. Я сам видел эту самую программу помощи у министра Украины и Грузии. Террористы и другие малые народы Д.России полностью обеспечены дровами и батарейками. А детонаторов попросту не хватает. Перед кем нам вопрос-то поставить?
Платон указует глазами повыше, чем раньше.
Молчим. Понимаем.
Платон достает из кармана записку со словом «Пропустить», присоединяет ее к ноге почтового голубя и выпускает птицу на воздух. Голубь немедленно исчезает. Платон трогает, и «Шевроле», набирая скорость, летит куда надо.
Вскоре мы видим и сектор — высокую стену из армированного алюминием шлакобетона, окутанную колючей проволокой с примесью металла полония. На колючую проволоку то тут, то там повязаны белые ленточки — знак солидарности других россиян с угнетавшимися олигархическим стабилинизмом малыми народами Севера и Северного Кавказа. По ходу движения нашего «Шевроле» — ворота. У ворот — двое красивых смуглых мужчин в форме морских пехотинцев профессиональной армии США. У меня внутри поднимается широкая волна благодарности. Эти простые загорелые ребята за многие тысячи километров от своего родного дома стерегут наш покой. Стерегут молодую еще, нежную д. российскую демократию. Оберегают мой сон, сон Михаилы, сон Платона Любомирова, сон Бахтияров. Сон министра свободы слова, сон министра Украины и Грузии, сон самого батоно Пархома, сон Рецептера и других правозащитников. Сон Полины, ее гадкой собачки и сон Волобуева, сон Расторгуева и и.о. Президента. Они охраняют даже сон женщины в рыбном, которой не нужна демократия. Ей не нужна — а они охраняют. И в этом высшая справедливость нашего современного общества. Такие же ребята стерегут свободу и демократию в Косово, в Ираке и в Афганистане, в Ичкерии и в Гуантанамо. И в каждом из мест, где покой и порядок обеспечиваются такими ребятами, местные жители и их гости чувствуют себя крайне комфортно. Им помогает самая передовая нация в мире. Нация свободы и справедливости. Нация торжества демократии.
Платон останавливает машину и мы выходим на алюминий.
— Хау ду ю ду?[63] — спрашиваю я у морпехов.
— Йес ай ду,[64] — отвечают мне пехотинцы, — Вотч виз ё ай?[65]
Солнце закатывается за край летного поля. Скоро уже будут сумерки. Вдали слышен нарастающий мерный топот. Мы с Любомировым оборачиваемся. От разогретой алюминиевой поверхности поднимается теплый воздух. В его нервной, дрожащей прозрачности движется что-то нелепое. Мы присматриваемся, переглядываемся и пожимаем плечами. Спустя минуты проясняется истина — на смешном ишаке к нам приближается давешний террорист без детонаторов. Ишак скачет галопом и, кажется, загнан. Полы макинтоша террориста развеваются сзади, и в какой-то момент мне даже становится страшно за его пластид — растеряет ведь, будет трагедия.
Но террорист, не растеряв ни грамма своей национальной культуры, приближается к нам и спешивается.
— Ассаламу алейкум![66] — приветствует его Любомиров.
— А где детонаторы? — спрашивает террорист, не отвечая, как принято, — Мне обещали здесь детонаторы. Вот он обещал. Только тогда у него не было синяка.
И неблагодарный невежа тычет в меня свои заскорузлым пальцем.
— Ну, этот раз обещал — то сделает, — улыбается Любомиров, — А вы вообще по какому протоколу хотите? Смертник или же дистанционный подрыв?
— Дистанционный подрыв — это пошлятина, — отвечает Платону террорист, — Суррогат. Балалайки с матрешками. Я, разумеется, смертник. И мне очень нужны детонаторы.
— Уважаю, — кивает Платон, — Дайте ему детонаторов.
Из приоткрытых ворот появляется юноша с коробкой из-под шампуня «Хэд энд Шолдерс». В коробке лежат детонаторы. Юноша побегает к террористу и протягивает коробку ему. Террорист торопливо начинает хватать детонаторы и втыкать их в пачки пластида, притороченные под макинтошем.
— Теперь заживем… — бормочет про себя террорист, — Теперь мы им всем покажем… такой фейерверк! Вулкан! Везувий! Светопреставление! Огненный шторм!
— Слава Д.России! — говорит вдруг Платон, улыбаясь.
— Слава Д.России? — переспрашивает удивленный террорист.
— Букет мерцающих огней разрывается голубым салютом с серебряными хвостами и золотыми огнями, — говорит Любомиров, обнимая руками весь мир, — Трещащий и мерцающий букет разрывается синим салютом с мерцающими огнями, цветные звезды разрываются цветными сферами с серебряными хвостами, золотыми хвостами с синими огнями, мерцающими огнями, цветные или трещащие букеты разрываются цветными сферами, трещащие букеты разрываются трещащими сферами.
— Ну, ничего так… — бормочет террорист, — Но мне больше нравится горный рассвет. Заряды с крупным калибром. Эстафета радости и восторга с участием красных сфер, переходящих в мерцающие сферы, и пунктирных сфер золотого цвета, становящихся пунктирными серебряными сферами, которые красочно сменяются трещащими сферами. Красочный финал!
— О да, финал там что надо! — кивает Платон и делает террористу приглашающий знак рукой.
— О чем это вы? — недоумеваю я.
— Это модели терактов, — отвечает мне Любомиров, — Производство китайского отделения «Проктэр энд Гэмбл». Когда-то они занимались новогодними фейерверками, а теперь готовят устройства для террористических взрывов. Заряды с крупным калибром. Ассорти эффектов под торжественный гром. Классические сферы, цветные букеты с трещащими звездами, серебряные пальмы в огненных кольцах и кольца с серебристым мерцанием.
— Подмосковные вечера, — говорит террорист.
— Правильно, — кивает Платоша, — А этот вот: золотые змейки красочно раскрываются цветными сферами, созвездиями красного и зеленого цвета и расходятся блуждающими огнями в компании грандиозных пунктирных сфер из золотых нитей с яркими огнями на концах?
— Килиманджаро, — говорит террорист, — Наверное, пойдем уже, а? Кураж пропадает.
Ворота в сектор тем временем растворяются.
— Милости просим, — говорит Платон террористу и кланяется. Представитель редкой народности легко улыбается в ответ и проходит в ворота. Мы движемся следом.
Перед нами весь сектор. Огромное огороженное высокой стеной пространство с еле заметными сквозь тонкий снег подпалинами прежних взрывов. Слева — бетонный бункер для наблюдателей, справа — заряженный грузовик с гексогеном. Прямо перед нами, в самом центре сектора — большая деревянная сцена. На сцене шеренгой стоят искусно выполненные из воронежского силикона куклы людей с микрофонами в руках. Я с интересом рассматриваю их затейливо-вычурные одеяния.
— Артисты тоталитарной эстрады, — с гордостью говорит Платоша, заметив мой взгляд, — Копии удивительной точности. Повторяют не только внутренние органы прототипов, но даже и их повреждения. Например, печень…
Террорист в макинтоше быстро устремляется в центр сектора, к сцене.
— Э, э! — кричит ему вслед Платоша, — Не спеши!
Террорист притормаживает и недоуменно оборачивается.
— Надо оформить заявку, — говорит Платон, — Заявку на теракт. А то непорядочек.
— Волокита, — морщится террорист, — Давай я так просто взорву… раз — и всё? У тебя тут потом целый грузовик взорвется, от меня и следа не останется.
— Щаз! — улыбается террористу Платон, — А детонаторы я тебе как спишу? На благотворительность? Нет, любезный друг, мы живем в честной и прозрачной стране. Так что изволь пройти в помещение и написать заявление.
Террорист вздыхает, но подчиняется. Мы вместе подходим к бункеру. У дверей стоит улыбающийся морской пехотинец.
— Хау ду ю ду? — спрашивает Платоша.
— Йес ай ду, — отвечает солдат и открывает толстенную алюминиевую дверь, — Уот виз зе фэйс оф зис мэн, сир?[67]
Все вместе проходим внутрь.
В бункере очень демократично. Большой стол «Проктэр энд Гэмбл — ИКЕА» из новгородского полистирола. Рядом с ним — четыре таких же полистироловых стула синего цвета и шкафчик. Платон достает из шкафчика бланки, морпех присматривает за террористом, а я подхожу к смотровой щели, возле которой на треноге установлена небольшая белорусская подзорная труба. Припадаю к трубе и навожу ее на центр сектора, прямо на сцену. Рассматриваю куклы вблизи.
Вот симпатичный юноша с глумливой улыбкой. А вот рыжая старуха в вызывающей мини-юбке. Постыдилась бы показывать ноги. Вот здоровенный верзила, похожий на падшую женщину. А вот разодетый в пестрый халат старичок с длинной козлиной бородкой. Вот длинноволосая женщина, на лице у которой тридцать, а в глазах и все восемьдесят. А вот белобрысый проказник с отставленным задом и серьгой в правом ухе. Вот прекомичный дуэт — похожий на Сартра господин в черной паре и рядом с ним большегрудая женщина с глазками-кнопками. А вот высокая дама с лицом куртизанки и в тюлевой пачке. Вот два щуплых мужичка в платочках и юбках. Какая же гадость! А вот похожее на яркую тропическую гусеницу существо — все в блестяшках, с огромной бесформенной грудью, в нелепой шапочке, в халате с высоким воротником и с тоненькими юношескими ножками. Мерзость. Прототипы этих людей когда-то работали на так называемую стабильность, зомбировали и оглупляли граждан Д.России, создавали у них ощущение лицемерного праздника в то время, как страна разворовывалась, задыхалась от несвободы и полным ходом двигалась к катастрофе. Чувство животной ненависти поднялось во мне откуда-то снизу, но я быстро справился с приступом — свободный человек не должен давать места ярости. Мир есть любовь, свобода и демократия, и поэтому новая, поистине народная власть не тронула всех этих клоунов. Их просто люстрировали, прогнали изо всех эфиров и из профессии — не нужно нам всей этой пошлости. У нас все в порядке с культурой — для того, чтобы подумать, у нас есть Женя, а для того, чтобы посмеяться — есть Витя. А чтобы попеть — костер и гитара. И песни Булата.
— Прошу разрешить мне проведение персонального террористического акта, — вдруг слышу я голос Платона, который диктует, и оборачиваюсь — По форме… по какой форме проводить будешь?
— Самоподрыва, — отвечает сидящий за столом и пишущий террорист.
— По форме самоподрыва, — продолжает Платон, шагая по помещению, — специального сертифицированного заряда мощностью, равной… что там у тебя будет?
- «Вместе и навсегда», - быстро отвечает террорист, — Двухуровневый салют: яркие цветные заряды разрываются разноцветными сферами, золотыми и серебряными хвостами, мерцающими, трещащими сферами.
— Трещащими сферами… — бормочет Платон себе под нос, что-то подсчитывая, — Ну, пиши — мощностью, равной ста пятидесяти граммам в тротиловом эквиваленте. Эквиваленте… Написал? Отлично. Тип террористического акта — «Вместе и навсегда». Вместе… навсегда… Написал? Число и подпись.
Террорист подписывает заявление. Платон подходит к столу, берет у террориста лист и внимательно перечитывает его. Потом берет у него ручку и ставит широкую подпись.
— Прекрасно, — говорит Любомиров, — Теперь можешь идти на исходную. Только, пожалуйста, подальше от артистов. Не ты их заказывал. На, держи.
И Платон протягивает террористу маленькую девятивольтовую батарейку.
Террорист молча встает из-за стола, берет батарейку и, не поднимая глаз, выходит из бункера. Морской пехотинец прикрывает за ним толстую дверь. Платон подходит ко мне и мы смотрим в бетонную щель.
Террорист входит в поле нашего зрения, поводит плечами и начинает бежать к центру сектора.
— Вообще такой теракт обычно совершают вдвоем с девушкой, — поясняет Платон, — В знак как бы вечной любви и преданности. Странно, что он пошел на него один. Наверное, здесь какая-то личная драма.
— Похоже на то, — соглашаюсь я, — Уж больно он был нервный, когда я встретил его в лифте. То ли девушка его бросила, то ли еще что…
В этот момент на месте террориста хлопает и нас ослепляет белая вспышка. В сумеречное небо над сектором поднимаются яркие цветные заряды, которые спустя мгновение разрываются разноцветными сферами, золотыми и серебряными хвостами, мерцающими, трещащими сферами.
— Красиво, — шепчу я восторженно.
— Даже не верится, — улыбаясь говорит Любомиров, — Что когда-то теракты приносили людям лишь боль и страдания. Все же насколько демократия все изменила в нашем обществе.
— Но ведь он-то погиб, — говорю я с некоторым сомнением, глядя на темный круг на том месте, где был террорист.
— Он самоопределился, — возражает мне Любомиров, — Это его свободный выбор. Ну что же, теперь грузовик. Где грузовик?
Платон открывает дверь и выходит из бункера. Следом за ним выходит надежный морпех.
Я смотрю на то место, где только что взорвался живой человек и понимаю, насколько прекрасна истинная свобода. Пусть даже это свобода выбора способа ухода из жизни. Без религиозных и морально-этических предрассудков. Чистая, незамутненная свобода, которая позволяет каждому представителю террористического народа выбрать себе по вкусу — «Килиманджаро», «Подмосковные вечера» или «Вместе и навсегда». Цветные букеты с трещащими звездами, золотые змейки, красочно раскрывающиеся цветными сферами или же яркие цветные заряды с оглушительным треском. Свобода выбора без всякого давления и влияния. Нет, академики не зря боролись за нашу свободу.
Я вдруг вспоминаю про женщину в рыбном. У нее тоже свобода выбора. Она тоже самоопределилась в стабилинизме. И я согласился помочь ей. Одни взрываются. Другие обрекают себя на добровольное изгнание из мира свободных людей. Третьи уходят от своих девушек в тюремные камеры для того, чтобы защищать там таких, как вторые. И что интересно — все счастливы. Наверное, даже и девушки. Эклесия ара.[68] Есть только теракт, правозащита и эвтаназия.
— Невозможно заниматься! — ворчит Любомиров, входя в помещение, — До сих пор не готовы заряды! Придется…
— Послушай, — перебиваю Платона, — Ко мне тут приходила одна женщина в рыбном…
— В рыбном? — удивляется Любомиров, — Так же никто не ходит! Ее что, не пускают к распределителю?
— Она стабилинистка, — отвечаю я Любомирову.
— Ничего себе, — присвистывает Платоша, — И что она хочет?
— Она хочет, — отвечаю я Любомирову, — Чтобы я защитил ее права. Ведь я же готовлюсь стать правозащитником.
— Защитил права стабилинистки? — удивляется Платон, — Но это ведь… странно? Зачем стабилинистам права?
— Мы живем в свободной стране, — возражаю я Любомирову, — В которой права есть у всех. Равные и защищенные.
— Кроме нерукоподаваемых, — возражает в свою очередь Платон.
— Кроме нерукоподаваемых, — соглашаюсь я, — И то, как ты понимаешь, это лишь выбор каждого — рукоподавать или нет нерукоподаваемому.
— Теоретически так, — соглашается в свою очередь Любомиров, — Но что-то я не слышал ни разу о том, чтобы кто-то рукоподал нерукоподаваемому. В чем тогда смысл нерукоподаваемости-то?
— Если мы об этом не слышали, — говорю я Платону, — Не значит, что этого не бывает.
— Логично, — кивает Платон.
— Вообще-то нельзя защищать права фашистов и тех, кто отрицает Холокост и Голодомор, — говорю я Платону, — Но эта женщина вроде бы не отрицает.
— Интересно, как она относится к террористам… — бормочет Платон.
— Права человека первичны, — поясняю я словами Рецептера, — Причем права первичны даже по отношению к человеку. Сначала права — а потом человек.
— Вот и прекрасно, — отвечает Платон, — У нее есть право быть стабилинисткой?
— Конечно же есть, — киваю я.
— Вот и защищай это ее право, — говорит мне Платон, — А саму ее пусть кто-нибудь другой защищает.
Я ненадолго задумываюсь. С одной стороны — вроде бы верно. С другой стороны — этого мало.
— Вот скажи мне, — говорю я Платону, — Ведь ты — Любомиров. Сотрудник отдела по управлению терроризмом. Работник спецслужб.
— В Д.России нет никаких спецслужб! — восклицает Платон для проформы, — Спецслужбы нужны только несвободному обществу! Это машина репрессий!
— Неважно, — отмахиваюсь я, — Все равно — ты близок к секретам.
— Какие секреты в прозрачной стране? — снова удивляется Любомиров, — Секреты — в Пентхаузе.
Я нервничаю. Мне кажется, что разговор не получается.
— Скажи мне, что делать, — спрашиваю я напрямую, — Доложить ли о ней в РПЦ?
— Ну, что уж сразу в РПЦ, — говорит мне Платон, улыбаясь, — Это в крайнем случае. Если почувствуешь какой-то подвох. Хотя она вполне может оказаться шпионкой или тайным агентом. Опасное дело. Но пока — защищай, ты же уже согласился. Напиши заявку на грант. А как получишь — не забывай отчитываться перед грантодателем.
— А ты поговоришь с грантодателями? — не унимаюсь я.
— Ты точно этого хочешь? — спрашивает Платон и внимательно смотрит на меня своими проницательными глазами.
— Хочу, — киваю я, — Она все же стабилинистка. И я хочу, чтобы в РПЦ знали — я делаю это исключительно из правозащитных соображений. Я не хочу вдруг однажды стать нерукоподаваемым из-за того, что помог правам стабилинистов. Я… я…
— Как зовут? — холодно спрашивает Платон.
— Кого? — не понимаю я.
— Женщину в рыбном твою как зовут? — повторяет Платон.
— Я… — вдруг теряюсь я, — Э… а…
— Как зовут? — в третий раз спрашивает Платон.
— Марина, — отвечаю я быстро, — Марина Л. Она такая…
— Достаточно, — говорит мне Платон, весело улыбаясь, — Ты только что заложил ее.
— Заложил? — удивляюсь я незнакомому слову.
— Заложил, — весело кивает Платон, — Разберемся!
Вдруг входит морпех и радостно улыбается Любомирову.
— Готово! — восклицает Платон, — Сейчас шандарахнет!
Мы подходим к бетонной щели и смотрим на сектор. У входных ворот, невзирая на технику безопасности, стоит несколько бородатых террористов-старейшин в чалмах. Они спокойно и добро смотрят на сектор и грузовик. Мне кажется, я что-то напутал. Быть может, мне и не стоило говорить Любомирову… но ведь я должен быть честен перед этой страной — она ведь честна передо мной.
В этот момент взвывает двигатель, и грузовик, набирая скорость, направляется в центр сектора, прямо к сцене. Я не успеваю заметить водителя. Грузовик проносится по тому месту, где взорвался террорист в макинтоше и движется дальше.
— Буря в пустыне! — кричит мне Платон, — Мощнейшая вещь! Пригнись!
Мы пригибаемся в ту же секунду, когда грузовик врезается в сцену. Раздается страшный грохот и сверху на нас сыпятся штукатурка и пыль. В бункер врывается волна горячего воздуха. Больно бьет по ушам высоким давлением.
Оглушенные, мы поднимаемся. Старейшины все так же стоят у ворот, ну уже не в чалмах. В центре сектора, на месте сцены — огромный клубящийся огненный шар. Вдруг на высоте ста метров над сектором начинают взрываться тройные золотые сферы, из которых вылетают облака мерцающих золотых звезд. Ниже — парад серебристых сфер-гигантов. Из шара вырывается крупнокалиберное ассорти. Что ни залп — то чудо. Красно-синие классические сферы, цветные букеты с трещащими звездами, серебряные пальмы в огненных кольцах, красные кольца с серебристым мерцанием!
Все небо над сектором расцвечивается величественным салютом. Все трещит, шипит и грохочет. Платон радостно смеется. Морпех улыбается. Я смотрю на все это широко раскрытыми глазами.
Залпы не прекращаются. Красные сферы растворяются в мерцании, золотые пунктирные шары превращаются в фиолетовые, серебряные купола оборачиваются веселыми трещотками. За ними следуют классические цветные сферы в сочетании с пунктирными серебряными сферами и мощными громовыми шарами. А вот солируют золотые змейки. Они поднимаются вверх и раскрываются мощными цветными сферами, красными и зелеными звездами и многоцветными блуждающими огнями. Разыграно, как по нотам!
По помещению бетонного бункера летают разноцветные блики. Блики летают по нашей одежде, по нашим лицам, отражаются в наших глазах.
Вот огромные сферы из золотых нитей с красными, зелеными и фиолетовыми огнями, снопы мерцающих звезд с треском. С каждым залпом интенсивность увеличивается, и вдруг — хитроумный фейерверк крупного калибра. Огромные разноцветные переливающиеся сферы с эффектом мерцания, двойные раскрытия, буйство красок. Прочерчивая в ночном небе огненную трассу, заряды с грохотом раскрываются цветными и многоцветными сферами, серебряными пальмами, огромным искристым облаком с треском. Заряды переходят в огромные серебряные хризантемы в искристом облаке, чье чудесное рождение знаменуют оглушительные залпы. Небосвод пронизывают красные и зеленые кометы, раскрывающиеся пальмами с серебристо-золотым переливом и огромными облаками из золотых звезд с сильным треском. Из шара вылетают все новые и новые заряды: золотые вертушки, золотые пунктирные сферы, цветные заряды, красно-фиолетовые сферы с серебряным мерцанием, трещащие красные шары. Кометы с мощным шлейфом, огромные классические цветные сферы в сочетании с золотыми хризантемами и серебряными пунктирными сферами, отливающими красным и зеленым цветами. А вот и красные кометы, которые под музыкальное сопровождение громоподобных звуков распускаются огромными красными сферами. Искрятся далекие туманности, мерцают и светятся неземным светом еще не открытые планеты.
Я нахожусь в полной прострации. Столь прекрасного теракта мне не приходилось видеть еще никогда в жизни. Старейшины будут довольны.
Цветные заряды, мерцающие сферы, серебристые пальмы с цветными огнями, огненные кольца с мерцающим центром, двойные раскрытия, свистящие змейки — все движется одно за другим. Заряды с грохотом распускаются серебряными мерцающими сферами и огромными золотыми облаками. Фейерверк раскрывается в форме серебристых бабочек, окруженных цветными кольцами. Летают цветные и многоцветные сферы, переливающиеся огненные шары, хризантемы и искристые облака. Сильно грохочет.
Спустя пару минут все успокаивается. Сильно пахнет горелым и порохом.
— Ну что, — говорит Любомиров переводя дух, — Пойдем на осмотр.
— На какой осмотр? — не понимаю я.
— На осмотр места происшествия, — говорит Любомиров, — Надо ведь протокол составить, описать все. А как же. Демократия — это учет.
Мы выходим из бункера. Старейшин у ворот уже нет. Интересно, что станет с рождаемостью.
Морпех подходит к висящему на стене рубильнику и поворачивает ручку. Сгустившиеся над сектором сумерки разрывают лучи четырех мощных прожекторов, которые ярко высвечивают воронку на месте взрыва.
Я с уважением смотрю на этот свет, не в силах даже предположить, сколько он требует батареек. Батарейки — это энергия. Энергия — это жизнь.
Батарейки — это жизнь. Не тупая нефтяная свиная жизнь, а жизнь достойная и технологичная.
Мы идем по освещенному сектору, и я размышляю о судьбе человечества. Еще, казалось бы, совсем недавно она была неопределенная, тщетная. У человечества не было цели. Мы выкачивали нефть и сжигали ее, выкачивали газ и сжигали его, а из полученного тепла получали свет и дым для больших «Шевроле». Прогресс остановился. Никто не знал, что делать дальше, а главное — зачем делать, ведь была нефть и был газ, было тепло и электричество. Одни качали нефть и продавали ее, другие покупали нефть и сжигали ее, и во всем этом была такая великая несвобода, что люди разучились радоваться восходу солнца, а стали радоваться только его заходу. Они называли это «ночная жизнь», хотя никакая это была не жизнь. Это была растянутая на долгие годы смерть. Все изменили демократия и развитие перерабатывающей промышленности. Рукоподаю человечеству.
— Вот так я и думал! — вдруг восклицает Платоша, — Один пшик. Там сфер в десять раз больше должно было быть. А хвостов так и вообще почти не было.
— О чем ты? — спрашиваю я у Платона.
— О том, что все должны делать профессиональные люди, — говорит мне Платоша, доставая из кармана резиновые перчатки. — Схема расположения детонаторов и зарядов для модели теракта должна соблюдаться неукоснительно. А у него не «Вместе и навсегда» получилось, а дешевая имитация. Даже тело не разрушилось. Троечник.
Подходим к большому черному кругу с белыми разводами. В круге лежит какая-то темная груда. Светло как днем — современные батарейки очень энергоемкие. Вместо тупого сжигания нефти, она теперь перерабатывается в элементы электрического питания. Производство батареек создает множество рабочих мест, повышает технологичность производства и увеличивает объемы ВВП. Кажется невообразимой глупостью, что при стабилинизме батарейки использовались только лишь для фонариков и магнитофонов. Все таки демократия открывает людям глаза на многое новое.
— При грамотном «Вместе и навсегда» от человека должна оставаться одна голова, — прерывает мои мысли Платоша, надевая перчатки, — А тут вон — целое тело. Чему его в террористической школе учили?
Мне несколько не по себе. Все же обычаи малых народов могут быть очень пикантными.
— Ну что тут у нас… — бормочет Платоша, трогая груду, — На трупе обнаружена следующая одежда: плащ прорезиненный типа макинтош, штаны холщовые для самоподрыва, ботинки рабочие кирзовые… перевернем…
Платон переворачивает тело террориста. Я даже зажмуриваюсь. Морпех торопливо записывает то, что диктует Платоша.
«Надо же — думаю я, — Он понимает по-русски…»
— Рубашка субботняя, — диктует Платоша, — Лохмотьями и обожженная. Труп мужского пола, длина тела сто семьдесят пять сантиметров, телосложения правильного, питания скромного.
Я заставляю себя все же открыть глаза. Платон сидит возле трупа на корточках и его руки быстро копаются в теле.
— Труп свежий, — деловито бормочет Платоша, — Гнилостные повреждения не выражены. Наружные половые органы сформированы правильно. Оволосение на лобке по мужскому типу. Задний проход сомкнут. Кожа вокруг него калом не испачкана.
Я содрогаюсь. Бывают профессии…
— Теперь повреждения, — продолжает Платоша, ощупывая голову трупа — Пиши: разрушение головы с фрагментарным переломом костей свода черепа, основания черепа и лицевого черепа. Обширная рана на коже головы с полной эвакуацией головного мозга…
Мне хочется к Мише. Рассказать ей, что видел. Яркие цветные заряды. Разноцветные сферы. Золотые хвосты. Мерцанье и треск.
— Множественные разрывы и размозжения сердца, аорты и легких, — диктует Платоша, засунув руки в тело по локоть, — Разрывы и размозжения диафрагмы, печени, почек, селезенки, поджелудочной железы, кишечника, мочевого пузыря, разрывы капсульно-связочного аппарата внутренних органов. Множественные переломы ребер, грудины, костей таза, верхних и нижних конечностей, позвоночника с размозжением мышц…
Я оглядываюсь по сторонам и смотрю на сцену. Никакой сцены и нет. Есть лишь огромная воронка, по краям которой разбросаны металлические части грузовика. Там уж точно осматривать нечего.
— Обширная рана задней поверхности туловища с эвентрацией части тонкого кишечника, — продолжает Платоша быстрей и быстрее, — Обширная рана промежности с вывихом правого яичка. Множественные кровоизлияния в мягких тканях. Множественные раны, ссадины кровоподтеки на голове, туловище и конечностях.
Каждый свободный человек имеет право на жизнь. Каждый свободный человек имеет право на смерть и на самоопределение. На предоставление сектора и детонаторов. И предназначение у всех людей разное. Одни напишут великую книгу. Другие, как Волобуев, покорят все вершины и впадины. А третьим зов крови — взорваться красивыми сферами с золотыми хвостами. Протрещать в морозном воздухе праздничными фейерверками на глазах у старейшин. Разметать по сторонам снег и доставить наблюдающим гражданам великую радость.
— Смерть наступила в результате взрывной сочетанной травмы головы, грудной клетки, живота, таза, верхних и нижних конечностей, — диктует Платон заключение, поднимаясь и снимая перчатки, — Изложенный вывод о причине смерти подтверждается множественностью и характером повреждений. Записал? Теперь в скобках: наличие повреждений подвешивающего аппарата внутренних органов, признаки воздействия высокой температуры… опаление волос, наличие ожоговых поверхностей на передней поверхности грудной клетки, шеи, лице, признаки воздействия высокого давления — радиарные разрывы кожи наружных слуховых проходов, эвакуация органной брюшной полости и таза. С учетом выраженности трупных изменений, давность наступления смерти составляет не более тридцати минут ко времени проведения экспертизы. Ну, а теперь, что ли, к артистам… Роман!
Я вздрагиваю словно бы ото сна. Белый, белый сектор. И черные пятна от взрывов. Красиво. Мы движемся молча, словно бы налегке. Мы словно плывем над этим сектором американской авиабазы «Шереметьево». То тут, то там по поверхности сектора разбросаны гайки, детали и прочее. Множество анатомических деталей от силиконовых кукол.
— Другое дело, — говорит Любомиров, когда мы приближаемся к месту теракта, — Ничего не осталось.
Действительно. Вокруг только искореженные куски железа, обугленные обломки сырых досок да блестящее конфетти из костромского лавсана.
— Вот, кстати, ступня Пугачевой, — говорит вдруг Платоша, пиная деталь силиконовой куклы, — А вот палец Киркорова…
Я вслушиваюсь в неизвестные мне фамилии певцов стабилинизма.
— Ну пиши, чего там, — оборачивается Платон к пехотинцу, — Раз террорист у нас испарился — опишем же тех, кто пришел к нему выступить. Итак. Левая ступня человеческой копии номер сто семьдесят восемь одиннадцать. Модель — Пугачева Алла Борисовна. Народная артистка СССР.
Меня передергивает. Как омерзительно! Как можно называть по имени-отчеству того, кто веселил пролетариат, крестьянство и люмпен-интеллигенцию в то время, как в кровавых застенках томились политические заключенные!
— Как можно называть такого человека «народный»?! — возмущенно спрашиваю я у Платона.
— Они себя сами так называли, — отвечает Платоша, — Время было такое. Смутное было время. Жестокое…
— Да какое бы ни было время! — восклицаю я, — Сейчас-то свобода! И вещи можно называть своими именами. Никакие они не народные! Кремлевские прихвостни. Честный человек не мог быть народным артистом СССР! Им мог быть только предатель свободы. Только подонок мог быть народным. Безвкусный и пошлый. Вульгарный, бездарный. В СССР свободному человеку и жить-то не следовало! А ты их — по имени-отчеству…
— Так это для идентификации… — немного смущается Платон, — Как их иначе определять-то? Вот, например…
Платон поднимает с земли обгоревший силиконовый палец.
— Безымянный палец правой руки человеческой копии номер семьдесят восемь четырнадцать. Филипп Бедросович Киркоров. Он же — Рамзан Кадыров. Он же — Автандил Кобаладзе, преступный авторитет из Чертаново, кличка Мутноглазый Сосо. Торговля наркотиками, детская проституция и спекуляция местами в региональных выборных списках. Заслуженный артист Российской Федерации. Муж Аллы Пугачевой.
— Спасибо Борису… — шепчу я неистово, трогая хьюман райтс вотч, — Спасибо правозащитникам и академикам! Спасибо Соединенным Штатам Америки и Великобритании за то, что они избавили нас и весь мир от этой чудовищной федерации!
Рукоподаю освободителям.
— Берцовая кость левой ноги, — продолжает собирать детали от кукол Платоша, — Человеческая копия номер сто пятьдесят девять ноль восемьдесят. Максим Галкин — имитатор голосов и сознания. Знаменитый пожиратель высокого. Уничтожил старорусские театр и оперу. Известен также под псевдонимами Ковырялкин, Палкинд и Басков. Фаворит Аллы Пугачевой.
— Да это же банда! — вырывается у меня, — Они все связаны с этой Пугачевой!
— Должна еще быть… — Платоша оглядывается по сторонам и что-то выискивает в черном, — Вот! А, нет… кажется… вот!
Платон поднимает с поверхности сектора бесформенный кусок силикона.
— Это левая доля печени, — говорит мне Платоша, — Человеческая копия номер восемьдесят четыре сто семьдесят. Кристина Миколасовна Орбакайте. Настоящее имя неизвестно. Дочь Аллы Пугачевой и ее преемник на посту диктатора д. российской культуры. У нее еще был подельник — некий Владимир Владимирович Пэ. Подпольная кличка: Эмдэжэфэка.
— Как?! — удивляюсь я.
— Эмдэжэфэка, — повторяет Платоша, — Муж дочери жены Филиппа Киркорова. Страшный человек. Маньяк. Они поедали детей.
У меня замирает внутри.
— Владимир Владимирович этот… — тихо спрашиваю я, — Он тоже здесь?…
— Нет, — отвечает Платоша, поднимая с поверхности сектора новое нечто, — Его не заказывают. Про него мало кто помнит, да и изображений его толком не сохранилось. Говорят лишь, что он был весь волосатый и толстый. Но это разве приметы для стабилиниста? Они там практически все были толстые и волосатые. Все эти Максимы Соколовы и прочие.
Я вдруг вспомнил Паркера-Кононенко. Того самого практически уже нерукоподаваемого сатаровского писаку, которого министр сегодня выгнала из профессии. Как это точно заметил Платоша — они там действительно все толстые и волосатые. И неопрятные. Несвободные. Гадкие.
Я снова осматриваюсь. Конечно, я слышал про так называемую «эстраду» стабилинистов — огромную машину зомбирования и порабощения, которая неустанно работала на то, чтобы сделать из людей послушных бездумных роботов. Но я никогда не знал, что эта машина была настолько монолитна и связана. Чем больше узнаешь о диктатуре — тем больше ей ужасаешься.
— А вот, полюбуйся — редчайший образчик, — Платон с гордостью показывает мне обгоревшую косичку, — Это борода человеческой копии номер четырнадцать. Гребенщиков Борис. Сокращенно — гэбэ. Китайский специалист по гипнозу. Работал более ста лет, начинал еще при царизме. Успел деполитизировать двадцать два поколения россиян. Именно он, а не эта тупая кодла Пугачевых и Петросянов, нанес основной вред старорусской культуре. Именно его деятельность привела к тому, что старая русская интеллигенция отказалась от революционной борьбы. Жаль, что его куклу заказывают так редко. Я бы взрывал его каждый день.
— Я бы тоже, — соглашаюсь с Платоном, — А что, Петросяны здесь тоже?
— А как же! — восклицает Платон, — Вон, например, видишь? Большое?
И Платоша показывает мне на лежащую в отдалении кучу.
— Это тазовая часть человеческой копии номер восемнадцать одиннадцать, — мы с Платоном подходим к большому, — Елена Степаненко, депутат Государственной думы, фракция «Единая Россия». Известна также под именем Любовь Слиска. Вместе со своим братом Евгением Петросяном… где он у нас?… ща…. А, вон он…
Мы с Платоном переходим к лежащей неподалеку силиконовой голени.
— Ну так вот, — продолжает Платоша, поднимая с поверхности часть ноги, — Голеностоп человеческой копии номер восемнадцать двенадцать, Евгений Ваганович Петросян, настоящая фамилия Сатанов. Вместе со своей тайной сестрой Еленой Степаненко основали культ собственной личности, так называемую «Церковь Петросяна».
— Секту? — уточняю я.
— Хуже, — отвечает Платоша, — Секта обычно закрыта, а эти проповедовали на всю страну прямо по телевизору. Всю вот эту вот гнусь. Аншлаги эти, тушенка «Главпродукт», майонезы… Жрали вот все это, давились, запивали все водкой, ржали над всей этой гадостью, тупели, превращались в бездумное быдло и не ходили на выборы.
— Я вообще не представляю себе, как можно есть что-нибудь, произведенное не «Проктэр энд Гэмбл», - честно признаюсь я Платону, — А вдруг там микробы?!
— Так это когда было, — улыбается Любомиров, — Очень давно… с микробами, да. Специальными.
Я вдруг понимаю, что очень замерз. За пределами светлого круга — плотная, осязаемая темнота. А еще возвращаться.
— Нам долго еще? — спрашиваю я у Платона.
— Ну, если не рассказывать про каждого — то, в общем-то, быстро, — отвечает Платоша, — Я коротко… Кто тут у нас? Так… кусок теменной кости, человеческая копия номер восемьсот четырнадцать восемьдесят. Лолита Милявская, уничтожила старый русский балет. Вот еще две детали — ухо с серьгой и часть нижней челюсти. Человеческая копия номер сто семьдесят. Моисеев Борис. Австрийский барон. Открыто проповедовал фашизм. Кто тут еще… ага, пуговицы. Четыре пуговицы из металла золотистого цвета, две оплавлены по краям, у одной сломано ушко. Человеческие копии номер триста четырнадцать семьдесят и триста четырнадцать семьдесят пять. Так называемые новые русские бабки. Разделенные сиамские близнецы, сменившие пол. Постоянно выдавали себя за других людей, в том числе за лауреата нобелевской премии по литературе, академика Эдуарда Вениаминовича Лимонова. А вот… вот это вот важное.
Платон нагнулся и поднял с поверхности что-то напоминавшее большую обугленную подушку.
— Ты знаешь ли, что это? — спрашивает меня Платоша, сияя от счастья, — Это же накладной бюст! Его подкладывал себе некто Андрей Данилко, русофоб и заслуженный работник железнодорожного транспорта. Он же Верка Сердючка. Он же Сонька Кацнельбоген. Он же майор Мельниченко. Он же Рашид Нургалиев. Он же… впрочем, неважно. Важно, что он собирался баллотироваться в президенты Украины и Грузии, но был отравлен диоксином и тронулся разумом, после чего побирался на паперти Храма Христа Спасителя, пока его не снесли вместе с этой папертью при расчистке места для трейлеров. Вот, собственно, все. Записал?
Безмолвный морпех кратко кивает.
— Тогда пошли отсюда, — говорит нам Платоша, — А то что-то и правда холодно.
Мы движемся к выходу сектора. Я сильно задумываюсь. Вся эта процедура осмотра и опознания производит на меня крайне тяжелое впечатление. Да, народные обычаи — это прекрасно, но я никогда не думал, что столь красивое и радостное событие как теракт имеет такую суровую внутреннюю правду.
— Все же интересно, — говорю я Платону, — Что с ними дальше-то будет?
— С кем? — недоумевает Платоша.
— Ну, с террористами с этими, — поясняю я.
— Понятно, что будет, — говорит мне Платоша, — Закопают их на демократическом кладбище.
— А разве их не заберут родственники? — удивляюсь я.
— У террориста, решившегося на теракт, больше нет родственников, — поясняет мне Любомиров, — Как у правозащитников. Или как раньше — у монахов. Они уходят из мира. Их тела отдавать больше некому. Видел — ушли старейшины?
— Видел, — киваю я.
— Когда-то давным давно, — говорит мне Платоша, — Когда террористы считались врагами, их тела не выдавали родственникам. Считалось, что их могилы станут местом паломничества других террористов. А потом это как-то так прижилось…
— Но ведь теперь их хоронят открыто, — возражаю я.
— Открыто, — кивает Платон, — Но — не ранее, чем через сорок восемь часов после наступления смерти. А то мало ли что… вдруг оклемается. Участок выбирают не ближе трехсот метров от жилых кварталов и общественных зданий. Площадь — пять квадратных метров, не меньше. Участок должен быть сухим, с низким стоянием грунтовых вод. Могилу копаем в два с половиной метра, можно и глубже, но тогда уже неудобно опускать гроб. Кладем, значит, тело во гроб, и закапываем. Вскоре под влиянием гнилостных бактерий начинают расщепляться белковые вещества. Опарыши тут же появляются, нематоды. Воняет. Сначала гниют желудок, кишечник, селезенка и печень. Потом уже — сердце, почки и легкие. Лопаются брюшные покровы, раскрывается грудная полость, жидкое содержимое растекается по гробу и просачивается в землю.
Платон увлечен. Я слушаю его с изумлением.
— Потом труп постепено высыхает, — продолжает Платоша, — Появляются плесневые грибки. Процесс разложения меняется. Начинается тление.
Мне неожиданно интересно. Я не прерываю Платона.
— Тление — процесс аэробный, — говорит Любомиров, — Оно происходит при участии кислорода. Уже не воняет, вместо сероводорода образуются углекислота и вода. Ну, еще азотная кислота. Вообще трупный запах есть только несколько месяцев. Через год его уже почти никогда не бывает. Кстати, большое влияние на скорость разложения и на характер изменений трупа оказывают свойства почвы. Как на виноградник во Франции.
Платон останавливается и, улыбаясь, рассказывает мне прямо в лицо.
— Величина пор для воздуха, количество влаги, температура… — говорит он так, как будто бы это его любимое дело, — Например, в крупнозернистой, сухой почве окончательное разложение детских трупов наступает уже через четыре года, а взрослых трупов — через семь лет. А в глине детский труп гниет уже пять лет, а взрослый — все семь.
Я вдруг понимаю, что это действительно — любимое дело Платона. Не только сам момент взрыва, а и все то, что предшествует ему, и что следует.
— Кстати, ты знаешь, — говорит мне Платон, продолжая движение, — Что трупы алкоголиков разлагаются дольше?
— Да я не об этом, Платон! — машу я рукою, — Я не про то, что с ними будет в земле! Я в общем и целом. Ведь это народ нескончаемой жертвы. Ведь мужчина-террорист — не мужчина, пока он себя не взорвет. И мы вполне можем столкнуться с ситуацией, когда народ террористов перестает самовоспроизводиться. Начнет вымирать.
— Все в мире меняется, — успокаивающе говорит Платон, — Теперь уже не так обязательно взрывать себя. Общество вполне терпимо относится к взрывам без летальных исходов. Честно говоря, у нас по управлению таких терактов теперь проходит чуть ли не больше, чем с поясами. Это-то меня и расстраивает… А уж то, что мы видели сегодня, с грузовиком — и вовсе редкость. Угасают традиции…
— Ну ладно, — бормочу я, — Раз так…
Вдруг небо над нами как будто раскалывается. Уши закладывает страшным грохотом, за стенами сектора вспыхивает ослепительный свет и прямо на наших глазах грациозно и очень уверенно в темноту ночи поднимается истребитель объединенных военно-воздушных сил США. Мое сердце замирает от гордости. Я эйфорирую.
Как же я все таки счастлив! Я живу здесь под протекторатом лучшей и самой свободной страны в мире. Под защитой всемогущей империи добра. Я живу в собственном трейлере в центре Москвы. Я ем лучшую в мире пищу компании «Проктэр энд Гэмбл». У меня прекрасное образование, отличная работа и стремительная карьера. У меня головокружительные перспективы. У меня, в конце концов, такая девушка, что мне все завидуют. Это мой мир! Как он красив и светел!
— Садись уже, — прерывает мои счастливые мысли Платоша.
Я вижу перед собой «Шевроле». Мы вышли из сектора. Садимся в машину и едем. Темно. Я смотрю на часы — уже восемь с минутами.
— Приемник включи, — говорю я Платоше, — Сейчас Киселев начинается.
Платон включает радиоприемник.
— Добрый вечер, — раздается в «Шевроле» такой знакомый с младенчества голос, — В эфире радиостанция «Эхо Москвы», и с вами я, Евгений Киселев. До очередного тура президентских выборов остается двенадцать дней. До объявления квартальных результатов деятельности компании «Проктэр энд Гэмбл» — восемьдесят три дня. До окончания третьего срока академика Михаила Борисовича Ходорковского остается пять тысяч двести семьдесят пять дней.
— Как думаешь, он выйдет когда-нибудь? — спрашивает у меня Любомиров.
— Кто? — спрашиваю я у Платона.
— Ходорковский, — произносит Платон сокровенную фамилию и рукоподает ей.
— Вряд ли, — отвечаю я Любомирову, рукоподавая фамилии тоже, — Если б хотел — давно б вышел. Он же спаситель. Высшей степени посвящения. Ни у кого такой нет. Никому из живущих не доверил Пентхауз подобные тайны. А раз доверил — значит, было за что. Что ему делать в миру, среди нас? Его место в камере. Вдали от суеты и политики. Это мы тут возимся с террористами и несвободными журналистами. Со всеми этими репортерами без границ. А Ходорковский соблюдает права человека. К тому же он — истинный юкос. Их мало осталось, но они не сдаются… Они нас спасают. Здесь нужно полное самоотречение.
— Наверное, я бы не смог так… — говорит мне Платоша, — Я очень уважаю тебя за то, что ты хочешь стать правозащитником. Но я — не смогу.
— Я тоже не смог бы ковыряться в трупах, — говорю я Платону, — И все время иметь дело со смертью. Пусть даже эта смерть и добровольная в рамках самоопределения. Светлая смерть. Жизненная.
— Да что там — трупы, — пожимает плечами Платон, — Трупы тебе ничего не сделают. Они уже мертвые. А правозащитник всегда как на линии фронта. Вечно на страже. Что в шестидесятых двадцатого, что и сейчас.
— В шестидесятых двадцатого, — шепчу я святые слова, — Первым начал Булат…
— Но Андрей-то Дмитриевич? — вдруг поворачивается ко мне Платоша, — Андрей-то Дмитриевич Сахаров за что поехал в Горький? За Афганистан!
— А Синявский и Даниэль? — улыбаясь, повторяем мы родные для всех имена, — А Константин Иосифович Бабицкий?
— Вадим Николаевич Делоне, — кивает Платон.
— Лариса Иосифовна Богораз, — вторю Платону я впитанное с молоком длительного хранения от «Проктэр энд Гэмбл».
— Виктор Исаакович Файнберг, — вторит Платон.
— Сергей Адамович Ковалев, — радостно смеюсь я.
Мы повторяем имена равноспасительных академиков, и на сердцах у нас радостно и счастливо. Большой «Шевроле» несется по широкому алюминиевому полю в полной темноте, но в наших душах светло и спокойно. Мы не одни в этом северном мире. С нами — Соединенные Штаты Америки и весь их огромный промышленно-финансовый потенциал.
И вот уже снова ворота, и Бахтияры подводят к нам моего служебного мерина и кобылу Платоши. Седлаем и трогаем. Рукоподаем на прощание.
Кони рвутся, мы вылетаем на серебристое полотно и скачем, и скачем, и скачем!
Права человека мои! Как грустна вечерняя земля! Как таинственны туманы над алюминием. Кто блуждал в этих туманах, кто много страдал несвободой, кто летел над этой Железной дорогой, неся на себе непосильный груз, тот это знает. Это знает уставший. И он без сожаления покидает туманы земли, ее дороги и реки, он отдается с легким сердцем в руки свободы, зная, что только она одна успокоит его.
Мой мерин и кобыла Платоши и те утомились, и несут своих всадников медленно, и неизбежная ночь начинает догонять нас. Чуя ее за своею спиною, притих даже неугомонный Платоша. Ночь начинает закрывать черным платком леса и луга, ночь зажигает свободные огонечки где-то далеко сбоку, такие интересные и нужные каждому гражданину Д.России огоньки личных трейлеров. Ночь обгоняет нашу кавалькаду, просеивается на нее сверху и выбрасывает то там, то тут в радостном небе белые пятнышки звезд. Темнота густеет, летит рядом, хватает нас за «аляски», тулупы и, сдирая их с плеч, разоблачает обманы. Когда же навстречу нам из-за края леса начинает выходить багровая и полная луна, все обманы исчезают и падают на землю, тонет в туманах колдовская нестойкая одежда. Свобода! Свобода! Свобода!
— Платоша, мы счастливы?! — кричу я ликующе.
— Да, мы счастливы!! — кричит мне в ответ Любомиров. Мы звонко смеемся.
Рукоподаю этой радости!
И снег, и ветер, и звезд ночной полет! И вот уже вдали видны огни огромной Москвы. Трейлеры раскинулись насколько хватает глаз. Дым от печей, крики Бахтияров, детский смех и между всем этим — уютный вечерний голос Вити Шендеровича. Мы дома. И дом наш прекрасен!
Мы въезжаем на Белорусскую и проворные Бахтияры снимают с копыт наших животных калоши из полихлорвинидной пластмассы. Мерин с кобылою радуются.
И снова Тверская. И сверху, над всем этим — Фридом Хауз. А сверху, над Фридом Хаузом — хьюман райтс вотч.
В Пентзаухе горит свет — работают люди. Хранители нашей свободы и демократии. Тысячу лет жила эта страна под диктаторами. И лишь нашему поколению повезло увидеть начало ее настоящей, свободной жизни.
Платоша машет мне рукой в рукавице и поворачивает — его дом в Гнездниковском. Я машу ему в ответ.
— Спасибо! — кричу я Платону, — Помни про женщину в рыбном!
Я еду дальше, вдыхая ароматы вечернего порриджа. Вот виден мой трейлер. А подле него — Бахтияр. А с ним… я растерян.
А с ним рядом Миша. Мое сердце и мое вдохновение. Михаила. Моя подлинная свобода. Она откидывает со лба свои светлые волосы, ее огромные глаза улыбаются, она смеется и машет мне ручкой:
— Привет! Ой! Что это у тебя с глазом-то? Ты подрался?!
Миша, свет моей жизни, огонь моих мыслей. Грех мой, душа моя. Ми-шень-ка: кончик языка вообще не трогает нёба и не утыкается в губы. Ми. Шень. Ка. Есть в этом что-то от китайского.
Я густо краснею и спешиваюсь. Указываю Бахтияру на сахар. Он, счастливый, уводит мерина, чтобы задать ему конского корма («Проктэр энд Гэмбл», овес, минеральные вещества, полный комплекс витаминов и отруби), а я стою перед Мишей смущенный и спрашиваю:
— Отчего ты не в шапке, свободная?
— Мне не холодно, — смеется Мишутка, — Меня греет глубокое чувство!
— Пройдем в помещение, — приглашаю я Мишу.
Красавица быстро взбегает по ступенькам, я следом, и вот мы уже рукоподаем друг другу в кухне-прихожей.
— Я не думал, что ты сегодня придешь, — прерывисто шепчу я, расстегивая на Михаиле пуховку.
— Во мне столько любви, — шепчет в ответ Михаила, расстегивая мою «аляску» и хитро глядя на меня своими обволакивающими глазами, — Что она переливается через край.
— На мне и трусы для одинокого понедельника, — стыдливо признаюсь я Мише, сдирая с нее синтетический ивановский пуловер.
— Одинокий понедельник закончился, — шепчет мне Миша, стягивая с меня мой правозащитный свитер, — Трусы можно снимать. Ты мне без них нужен.
Путаясь в полуснятых штанах, мы прыгаем в спальню. В спальне прохладно. Бодрит. Привычным движением бросаю в печь пару крепких подсохших поленьев. Миша тем временем сбрасывает с себя остатки одежды, снимает с тонкой шеи маленький хьюман райтс вотч и ныряет в спальный мешок. В темноте словно молния пролетает ее гибкое белое тело. Я замираю в полном восторге. Снимаю исподнее.
Ныряю за Мишей.
Мы прижимаемся друг к другу всем телом и некоторое время не двигаемся. Надо согреться.
— Я свободен с тобой, — шепчу я Мише прямо в теплое ушко.
— Мррр… — мурлычет в ответ Михаила, слегка покусывая меня за шею и теребя мой хьюман райтс вотч, — Я тоже свободна с тобой. Так что с твоим глазом-то?
Я легко провожу рукой по её прохладной спине. Она покрывается мурашками.
Задыхаясь от предвкушения, я медленно рукоподаю ей. Михаила всхлипывает и рукоподает мне навстречу. Мы чувствуем друг друга каждой клеточкой. Каждой свободной клеточкой тела.
Рукоподаем…
— Милый… — шепчет мне Миша, — Мой милый… милый мой… какой же ты милый…
Рукоподаем… Рукоподаем…
Становится жарко. В печи начинают трещать дрова. На нашей слившейся воедино коже выступают капельки пота.
Рукоподаем… Рукоподаем… Рукоподаем…
Капельки смешиваются и стекают вниз, на вкладыш спального мешка. А Миша так пахнет!..
Рукоподаем! Рукоподаем! Рукоподаем!
Я рукоподаю беспорядочно. Михаила рукоподает бессознательно. Ее глаза закрыты, а волосы растрепались.
— Еще! — полустонет она, — Еще! Да!
Рукоподаю! Рукоподаем!! Рукоподаем!!!
— Так! — тело Миши начинает дрожать, — Так!! Так!!! ДА!!!
Рукоподаю! Рукоподаю!! Рукоподаю!!! Рукоподаю!!!! Рукоподаю!!!!
Белое тело содрогается, Миша обхватывает меня ногами и бьет вокруг себя руками.
— Ах!.. — вырывается у свободной на вдохе.
Рукоподаю! Рукоподаю!! Рукоподаю!!! Рукоподаю!!!! Рукоподаю!!!! Рукоподаю!!!!! Руко!!!.. Рукопода!!!.. РУКОПОДАЮ-Ю-Ю-Ю-Ю!!!!!!!!
Мы сливаемся вместе. Мы словно единое целое. Над спальным мешком поднимается пар. Миша быстро и коротко дышит. Я дышу медленно и глубоко.
— Я свободна с тобой…. - шепчет Мишутка, рукоподавая мне с нежностью.
— Я свободен тобой, — рукоподаю ей в ответ.
И еще какое-то время мы просто молчим, рукоподавая друг другу прижавшись. Мы наслаждаемся демократией. Вскоре я высвобождаюсь из рук Михаилы, зажигаю две свечечки и снова падаю в это распахнутое и такое мягкое тепло.
Я свободен и счастлив. Я высокопоставлен. Я лежу и смотрю на изысканного серого цвета потолок. Я талантлив. Мало кто может подобрать комбинацию свечей в помещении так. Никакой черноты. Никаких хлопьев копоти. Легкая серость. Как цвет моего служебного мерина.
— О чем ты сейчас думаешь? — спрашивает меня Михаила.
— О тебе, — отвечаю я, — Я всегда думаю только о тебе.
— Ты врешь… — улыбается Михаила.
— Я никогда не вру, — отвечаю ей я, — Я же отличник.
— Ты гений… — хихикает Миша, поправляя мне волосы, — Я живу с гением… с подбитым глазом…
— Хочешь кукурузного порриджа? — спрашиваю я нежно, — Вчерашний еще, совсем свежий.
— Давай! — говорит Михаила и стремительно поднимается.
Я еще мгновенье лежу в мешке, любуясь на ее стройное тело, но Миша быстро выскакивает в прихожую и возвращается оттуда уже в свитере.
— Давай, угости девушку, — смеется она, кидая в меня моим правозащитным свитером. Я натягиваю его и тоже поднимаюсь на ноги.
Миша ставит на печь котелок с порриджем, а я выскакиваю на мороз, чтобы набрать в чайник снега. Над Москвой медленно кружатся крупные снежинки. Вокруг тишина и покой. До чего же прекрасно. До чего удивительно.
Я возвращаюсь в трейлер и ставлю чайник рядом с котелком.
— Хочешь, послушаем радио? — спрашиваю я Михаилу.
— Да ну его к диктаторам, твое радио, — смеется Миша, обвивает меня своими длинными руками и рукоподает, рукоподает, рукоподает.
У меня от всего этого попросту кружится голова.
— Давай ты не будешь правозащитником? — шепчет вдруг Михаила мне в ушко, — Давай мы поженимся, а? Я рожу тебе отличника.
Мальчики — это прекрасно. Свободные, чистые мальчики…
— Мне надо… — шепчу я в ответ Михаиле, — Мой выбор. Ведь я не единственный.
— Единственный, — шепчет Миша, — Ты мой единственный.
— Не единственный, — шепчу я, — Только на нашем выпуске Московского Гарвардского было семьдесят восемь отличников. Ты обязательно родишь отличнику.
— Я не хочу любому отличнику, — хнычет Михаила, — Я хочу тебе. Я свободна с тобою.
— Ты будешь свободна со всеми, — рукоподаю Михаиле, — Мы живем в свободной стране. В счастливой стране с огромным и предсказуемым будущим.
— И без тебя… — бормочет Мишаня.
— Со мной! — горячо отвечаю ей я, — Я никуда же не денусь! Я просто буду жить в камере.
— И мы никогда не увидимся, — вздрагивает плечами свободная.
— Ну, почему никогда… — бормочу я, — Да меня пока еще никто и не берет в правозащитники! А скорее всего и не возьмут.
— Не возьмут? — с надеждой улыбается Михаила, осторожно трогая мой синяк.
— Наверняка, — киваю я ей, отстраняясь, — Сегодня ко мне приходил Рецептер. Знаменитый правозащитник. Вот такой хьюман райтс вотч! И из нашего разговора я понял, что рано. Мне еще долго и много работать над самоотречением.
— Я свободна с тобой… — шепчет Миша и рукоподает мне.
— Я тоже свободен с тобой, — отвечаю я Мише.
На печи вздрагивает крышечка котелка с порриджем. Из носика чайника извергается пар. Миша отрывается от меня и идет на кухню за кружками. Она движется. Ее движенья как архитектура. Я бросаю в чайник плитку чая, снимаю с печи котелок и ставлю его на холодный пол рядом со спальным мешком. Миша возвращается с кружками. Ставим чайник рядом, садимся на мешок и начинаем наш ужин.
— Ну, — говорю я Мише, разливая чай по кружкам и поднимая одну из них, — За свободу!
— За демократию! — поднимает свою кружку Мишутка.
Мы чокаемся чуть мятыми алюминиевыми боками кружек и пригубляем обжигающий чай.
— Мммм…. - говорит Миша, — Вкусно! Так кто же тебе глаз-то подбил?
Мы сидим с ней на полу и едим порридж, запиваем его чаем и не можем насмотреться друг на друга. Все, что нам нужно сейчас — это свобода. И она у нас есть. Мы свободны друг с другом. Не это ли счастье? Ви хэппи![69]
Мы познакомились с ней осенью, на день усекновения главы Георгия Гонгадзе. Свободные люди весело праздновали очередную годовщину моральной победы буревестника оранжевой революции над диктатурой кучмистов. Я шел во главе костюмированной колонны «Марш несогласных». На мне была маска Гарри Каспарова, а в руках я держал бутафорские шахматы. В районе Новоберезовского сквера нашу колонну традиционно встретили шеренги потешных омоновцев. Мы сошлись и начали ритуальный демократический танец. Несогласные с флагами и плакатами кружились вокруг омоновцев, Омоновцы держали в руках выкрашенные в резиновый черный цвет березовые колья, перетоптывались на месте и иногда задирали в канкане свои зашнурованные в высокие ботинки ноги. Ноги одного из омоновцев показались мне очень красивыми. Это были стройные и сильные ноги. Эти ноги были длинны. Я сделал несколько движений, используя шахматы. Омоновец ответил мне замысловатыми па. За вязаной шапочкой, натянутой на лицо омоновца, я видел смеющиеся, лучащиеся глаза.
Я делал в сторону омоновца выпады. Омоновец крутил протяжное фуэте. Я ходил вокруг омоновца вытянутыми кругами. Омоновец поворачивался за мной и крутил в своих руках крашеный кол.
Мы танцевали в центре огромной толпы, но, кажется, не замечали уже ничего вокруг. Двигались в полной пустоте. Кружились. Сходились. Засматривались. Снова расходились и двигались. Я подавал бутафорскими шахматами. Омоновец подавал мне колом и ботинками. Мы были свободны друг с другом, хотя еще не были даже знакомы.
Когда начались ритуальные задержания, я бросился на l'embrasure[70] одним из первых. Я стал наскакивать на длинноногого омоновца, биться своей грудью в его грудь и кричать: «Разрешите пройти!», «Я всего лишь прохожий!», «Я иду на бульвар поиграть в шахматы!»
Как и положено по традиции демократических парадов и «Марша несогласных», омоновец начал меня vintit.[71] Он обвил мою шею гибкими руками, содрал с меня маску, потом поднял свою шапочку и впился своими губами в мои.
Я растерялся. Сколько я видел в своей жизни ритуальных арестов и задержаний — но никогда мне не доводилось сталкиваться с поцелуями. Я потерял ориентацию и некоторое время не мог даже понять — кто меня целует, и что из этого следует. И когда я услышал:
— Михаил!
Мое сердце остановилось. Отдышалось немного. И снова пошло.
Я вдруг понял, что голос, произнесший сакральное слово, принадлежит женщине. Больше того — это голос произнес не мое имя. То есть, девушка попросту обозналась. И сейчас ей предстоит сцена неловкости.
Я взял омоновку за плечи, и с криком: «Предъявите ваши документы!» отодвинул ее от себя. Святые правозащитники! До чего же она оказалась красивая!
Я бы описал ее лицо, но я не писатель, и тем более — не художник. Я всего лишь помощник министра, отличник и готовлюсь стать правозащитником. Поверьте мне на слово — она была очень красивая. Особенно веснушки. И волосы. Я рукоподал ей практически сразу.
— Роман, — сказал я, — Задержите. Я очень хочу провести с вами вместе хотя бы минимальные три часа. Пока Михаил будет думать, что вы на работе.
— Какой Михаил? — рассмеялась красавица, — Это я — Михаила.
И Миша рукоподала мне навстречу.
С тех прошло уже множество «Маршей», а мы с Михаилой по прежнему вместе, пусть даже она снимает на ночь хьюман райтс вотч. «Марши несогласных» стоило придумать хотя бы потому, что на них бывают подобные встречи. Я готов ежеутренне рукоподавать человеку, который первым решил стать несогласным. Я готов сделать для этого человека все, что угодно. Я просто не знаю, кто это. Одна из наиболее характерных черт характера основоположников другой российской демократии — это их непреходящая скромность. Теперь больше не ставят памятников. Наши памятники — в нашей благодарной памяти.
— Давай в выходные устроим пикет! — предлагает вдруг Миша.
— Пикет? — переспрашиваю я, — А на какую тему?
— Пикет в поддержку демократии! — восклицает Миша, вскакивая на свои длинные ноги, — Я и лозунг придумала: «Зачем нам свобода без демократии?»
— Такие пикеты все устраивают, — говорю я Михаиле, привлекая ее к себе и усаживая, — Надо что-нибудь актуальное требовать.
— Да что требовать-то? — удивляется Михаила, — У нас же все есть! Мы счастливы!
— Не все так радужно в этом мире, свободная, — ласково шепчу я Михаиле на ушко, — Террористам, например, не хватает детонаторов. А когда хватает — они их не туда тыкают, из-за чего теракты не получаются. Я сегодня видел теракт. Даже два. Очень красивые. Меня Платон приглашал посмотреть в Шереметьево. Так вот там был один террорист, у которого не было детонаторов. А потом, когда ему эти детонаторы дали, он их не туда повтыкал — и поэтому взрыв у него получился слабый. Даже голову не оторвало. Всего только мозг вышибло.
— Ужас! — восклицает Миша, глядя на меня расширенными глазами, — Правда, что ли?! Куда же смотрят правительство и Пентхауз?!
— Правительство и Пентхауз смотрят в будущее, — говорю я Михаиле, — А в будущем нет терроризма.
— Но ведь это же несправедливо! — возмущается Михаила, и я не могу оторвать взгляда от ее белого тела, — Ведь террористы живут здесь и сейчас, и им нет никакого дела до будущего! Они же хотят взорваться при жизни!
— Вот видишь — ты понимаешь, — киваю я Михаиле, проводя кончиками пальцев по ее подрагивающей коже, — А ведь бывает и хуже. Почему ты снимаешь хьюман райтс вотч?
— Он неудобный, — отвечает мне Михаила и улыбается.
В трейлере повисает звенящая тишина. Слышно лишь как трещат в печке березовые дрова.
— А еще сегодня ко мне приходила женщина в рыбном, — тихо говорю я Мишутке, делая вид что не расслышал про хьюман райтс вотч.
— В рыбном? — морщится Михаила, — Ведь рыбное никто не носит!..
— Ей нечего делать, — поясняю я Мише, — Наверное, это рыбное осталось на ней еще со стабилинизма. Да и вообще — самое страшное не это.
— А что же?! — искренне не понимает Мишутка.
— Она попросила меня о правозащите, — говорю я Мишутке.
— Еще бы! — отвечает мне Михаила, — Если бы у меня в гардеробе было только лишь рыбное, я бы тоже просила о правозащите! Ты бы помог мне?
Миша нежно рукоподает мне.
— Ты бы помог мне, свободный? — мурлыкает Миша.
Вместо ответа я рукоподаю Мише навстречу.
— Конечно, — шепчу я сквозь треск дров, — Конечно, я бы помог тебе, свободная. Правозащитники помогают всем, кроме…
— Кроме кого? — удивленно спрашивает меня Михаила.
— Вот тут и самая странность! — отвечаю я Мише, вставая, — Женщина в рыбном — стабилинистка. Можно ли защищать права стабилинистов?
— Я думаю, можно, — уверенно говорит Миша, вновь усаживая меня рядом с собой, — Нельзя лишь защищать права фашистов, и тех, кто отрицают Холокост и Голодомор.
— Но ведь это же двойные стандарты, — замечаю я, — Или ты защищаешь права, или ты их не защищаешь. А права не могут быть плохими или хорошими. Они просто права, и ты защищаешь их просто потому, что они есть. Понимаешь?
— Не очень, — смеется Михаила и рукоподает мне снова и снова.
Я уже на грани физического и эмоционального истощения. Молю о пощаде. Но Миша неумолима.
— Девочкой своею ты меня назови, — шепчет она мне в правое ухо, — А потом обними. А потом рукоподай. Рукоподай мне!
Что делать? Рукоподаю. Ответствую.
— Девочка моя, — задыхаясь, говорю я Мише, — Правозащита — это фундамент. Это основа, на которой и строится современное общество…
— А эта женщина, — отвечает мне Миша, — В рыбном. Она красивая?
Задумываюсь.
С одной стороны вроде красивая. С другой стороны вроде бы и не очень.
— А почему ты спрашиваешь? — спрашиваю я Михаилу.
— Ревную, — хихикает Миша и рукоподает мне так нежно, — Это из-за нее ты подрался? Из-за нее.
Мы счастливы вместе. Мы свободны друг с другом. Глаза закрываются. Я поднимаюсь, бросаю еще пару поленьев в печь и тащу Михаилу в мешок. Она не упирается.
Мы засыпаем мгновенно, прижавшись. Прижавшись теплее. Мне снится волнительный сон.
Как будто иду я по широкому полю. А вокруг меня — демократия.
Как будто лечу я надо всею страною. И везде подо мной — демократия.
Как будто смотрю я на Землю из самого космоса. И везде на Земле демократия.
Как будто просыпаюсь я утром. А за окном у меня — демократия.
Как будто засыпаю я вечером. А впереди у меня — демократия.
Как будто болею случайной болезнью. А лекарство мое — демократия.
Как будто рукоподаю я прелестнице. А в сердце моем — демократия.
Как будто стою я под душем. И течет на меня демократия.
Как будто демократия, демократия, демократия!
И сплю я, и спит Михаила, и снится нам вместе свободный сон.
Как будто свобода — это то, что бывает.
Как будто свобода — это то, что скрывает.
Как будто свобода — это то, что витает.
Как будто свобода — это то, что сверкает.
Летает, порхает, копает, швыряет, зудит, ковыряет, стучит, завывает.
Стучит.
Завывает.
Стучит.
Завывает.
Трясет.
Называет.
Стучит.
Завывает.
Проснись! Просыпайся! Вставай! Одевайся!
И вижу я — склонилась надо мной Михаила, и волосы ее ниспадают, а из под волос — глаза необыкновенной свободы и демократии. Глаза как права человека. Глаза общечеловеческих ценностей.
— Роман! — говорит Михаила.
— Михаила, — отвечаю я ей.
— Просыпайся, соня, — трясет меня Михаила, — Там кто-то приехал.
Я вдруг открываю глаза и вижу, что вся комната трейлера залита желтоватым мерцающим светом. За окнами завывает метель. В дверь ощутимо стучат.
— Кто это? — улыбается Михаила.
— Не знаю, — пожимаю плечами я.
Я покидаю мешок и собираю разбросанную по трейлеру одежду. Мне кажется — надо. Поверх надеваю «аляску» с папахой. Отворяю.
На пороге с большою свечой стоит Бахтияр. Рядом с ним — два мужчины в защитном.
— Свободин? — строго спрашивает мужчина, что слева.
— Свободин, — киваю мужчине в ответ.
— Пройдемте, — говорит тот, что справа, — Что это с вашим лицом?
Недоумеваю.
— Так надо, — говорит тот, что слева.
Бахтияр улыбается.
Я спускаюсь на заснеженную поверхность. По поверхности весело бегают маленькие колючие смерчики. Чуть поодаль стоит незнакомый мне мерин. Рядом с мерином — Платон Любомиров на своей доброезжей кобылке гнедко.
— Что происходит? — спрашиваю я у Платошечки.
— Седлай! — смеется Платон.
Я оглядываюсь.
На пороге стоит Михаила. Она дрожит и смотрит.
— Иди в дом! — кричу я Мишутке через метель.
Она поворачивается и уходит.
— Я позабочусь о ней, — говорит мне Платоша.
Я ухожу красиво. Седлаю незнакомого мерина. Справа от меня — правый мужчина. Слева — левый. Я — в центре. У нас плюрализм мнений.
Мы выезжаем на улицу. Следом за нами бежит Бахтияр. Свеча его гаснет и он исчезает.
Мы медленно движемся вниз по Тверской.
Я никогда не увижу их больше.
Мы движемся вниз по Тверской.
Я никогда не увижу их больше.
Мы движемся. Движемся. В этом отличие демократии. Чтобы ни происходило в стране, какие бы катаклизмы ни случались с нами, будь то нарушение поставок батареек или же сильный мороз, мы все таки движемся. И наше движение неостановимо, как движение океанского льда. Как полет планет. Как ядерная реакция. Уз приекшу![72] Форвэртц![73]
Я знаю, куда мы. Догадываюсь. Там, сзади, остается сейчас моя прошлая жизнь.
Там Михаила, Платоша. Там мой верный, заслуженный Бахтияр. Там мой служебный мерин красивого серого цвета.
Там митинги, марши и телекомнаты. Там радио и министерство. Там — счастье, свобода и радость.
А впереди…
А впереди то, по сравнению с чем моя прошлая жизнь — всего лишь утроба. Тесная, горячая, мокрая утроба. Где хорошо и уютно, но не пошевелиться.
Теперь я рождаюсь. Не заново, а в первый, единственный раз. Рождаюсь в настоящую, светлую жизнь.
Не верится. Не может быть. Мне кажется, что я не готов.
Но мы все же спускаемся вниз по Тверской. Мы едем в метели. Вокруг — темнота, лишь мелькают иногда свечи иных Бахтияров. Свободный город спит — с утра на работу. А те, кто едут по сторонам от меня, всегда на работе. На работе не за сахар и порридж, не за батарейки. Они на работе за совесть.
Темнеет в ночи черный Кремль. Темнеет в Кремле Фридом Хауз. Темнеет в высоте огромнейший хьюман райтс вотч. Все темно, но по-прежнему светел Пентхауз. По-прежнему работают те, для кого мы. Те, кто подарил нам свободу. Рукоподаю всем работникам. Рукоподаю департаментам. Кто знает, быть может — в последний раз.
Мы поворачиваем налево. Сердце мое окатывает горячей волной. Я все еще не верю в происходящее. Боюсь, что мы или свернем раньше, или же мимо проедем. Мужчины молчат. А я улыбаюсь.
Чем ближе к Лубянке — тем шире улыбка. Как счастливы те, кто живет где-то рядом! Ходить по этим переулкам и улицам, жить в этих трейлерах, рукоподавать своим девушкам и знать, что где-то под твоими ногами, в земле, в глубине, в камерах — правозащитники! Бывает ли большее счастье?
Когда-то давным давно здесь стояло огромное мрачное здание, приносившее людям несчастья. Все боялись его серых стен, высоких подъездов, внутреннего двора и глубоких подвалов. Все боялись, и даже диктаторы. Те, кто входил в это здание, не возвращались. Это был дом великой скорби и мужества. Так было до первой демократической революции в одна тысяча девятьсот девяносто первом, когда свободный майдан несогласных уже собрался было совершить благородное дело и разрушить этот бастион тоталитаризма. Но что-то остановило в тот раз волеизъявление граждан — то ли недостаточно свободными были сердца, а то ли стабилинистские провокаторы помешали торжеству справедливости. И потребовалось еще много лет до великой Березовой революции, чтобы сердца д. россиян напитались свободой и смогли, наконец, сделать то, что должно — разрушить Бастилию. Вооруженные березовыми кольями и тяжелой строительной техникой люди в берестяных колпаках за считанные часы сравняли с землей это логово государственной безопасности. И ныне тот день в реестре государственных праздников — День Взятия Лубянки. Каждый год в этот день на месте разрушенного здания собирается многолюдный демократический митинг, участники которого воздают дань уважения заключившим себя в подвалы правозащитникам.
Теперь скорбь покинула проклятое место. Осталось лишь мужество, которое сопровождается пленительным счастьем. А о нашей безопасности есть, кому позаботиться.
И вот уже площадь Лубянская. А в центре ее — монумент. Дань памяти тем, кто отдал свои жизни святому делу защиты прав человека. Знак памяти павших. Семнадцатиметровая алюминиевая бочка с надписью, которую каждый житель этой страны знает с самого детства:
Фейга Хаимовна Ройдман
10 февраля 1890 — 3 сентября 1918
Это она, Фейга Хаимовна, тетя Фаня, как называют ее дети этой страны, сделала первый шаг в борьбе с тоталитаризмом. Больная, практически слепая женщина нашла в себе силы придти на митинг во дворе завода Михельсона и выстрелить в диктатора Ленина. Да, не получилось — но за попытку спасибо! И уже потом, когда д. российские правозащитники выходили на Красную площадь протестовать против введения войск в Чехословакию или против преследований Синявского и Даниэля, они всегда вспоминали тетю Фаню, которая когда-то так, как они, одинокая и никому не нужная, пришла на завод Михельсона. И ее гражданский протест остался в истории.
Несмотря на то, что тетя Фаня никого не убила и ее демонстрация была, в общем-то, мирной, несмотря на громогласный протест всего мирового сообщества и широкие экономические санкции, тетю Фаню убили, а тело ее сожгли в бочке, о чем и напоминает теперь всем людям свободы и доброй воли этот выразительный памятник. Хавал мод,[74] тетя Фаня, что вышло нелепо. Да пребудет с нами наш хьюман райтс вотч.
Мы медленно объезжаем монумент, воздвигнутый на том самом месте, где когда-то стоял памятник палачу Дзержинскому, создавшему жестокий репрессивный аппарат тоталитаризма. Как же приятно, когда справедливость торжествует ответственно. Рукоподаю монументу.
Наша маленькая процессия медленно вступает в Лубянский квартал — тесно стоящие на месте бывшего здания трейлеры. Жить здесь считается счастьем и право на это дается не каждому. Рукоподать здешним жителям почитают за честь.
Сейчас уже тихо. Кое-где в трейлерах мерцает огонь одинокой свечи. Кое-где тихо беседуют на ступеньках свободные Бахтияры. Мир и покой царят в великом демократическом городе. А незнающий человек и не ведает, что в это самое покойное время на глубине нескольких метров под вот этими вот трейлерами идет нескончаемая и трудная работа по защите прав человека. Но таких незнающих в этой стране нет.
Мы подъезжаем к двум неприметным оранжевым трейлерам и спешиваемся. Я оглядываюсь по сторонам. Ничто не выдает здесь особенностей — такие же трейлеры, как и все остальные. Сидящий на большой дубовой колоде бородатый Бахтияр не обращает на нас никакого внимания. Один из сопровождающих меня мужчин заходит между трейлерами, нагибается и достает из снега большое металлическое кольцо. Мужчине помогает второй, подскакиваю и я. Втроем мы откидываем тяжелый металлический люк. В темноту глубокого колодца падает скопившийся на крышке люка снег. Я обмираю.
Сомнений быть не может — таинственные мужчины привезли меня именно сюда. К огромным дверям в будущее. К дверям, которые приведут меня к вечному счастью. К дверям справедливости.
Я обхожу люк и заглядываю в колодец. Ни зги. Я смотрю на внутреннюю сторону люка. На большом металлическом щите привольно раскинулись вырезанные автогеном стены Соловецкого лагеря особого назначения, над которыми встает заря демократии — знакомое каждому интеллигентное лицо в строгих очках, расположенное на фоне огромного хьюман райтс вотч. Между хьюман райтс вотч и стенами выбиты буквы: Р. П. и Ц.
Сейчас я спущусь туда. Туда, куда спускались великие. Откуда не возвращались и не возвращаются. Когда-то по чужой воле, а ныне — по собственной. Собственная воля и свобода выбора — вот результаты освобождения. Спасибо тебе, революция. Спасибо вам, академики!
Пока один из мужчин отдает Бахтияру лошадей и моего служебного мерина, я повторяю губами заветное: Р. П. Ц.
Российский Правозащитный Центр.
Главная Организация этой страны.
Мы начинаем спускаться. Сначала — один из мужчин. Следом за ним — я. А сразу за мной — второй из мужчин.
Медленно перебираем руками и ногами обледеневшие металлические скобы, торчащие из сырой бетонной стены.
Бахтияр захлопывает за нами огромный люк. Колодец сотрясает, раздается грохот и сверху на нас сыпятся снег и бетонные крошки.
Становится совершенно темно.
Спускаемся долго. Быть может это очень глубокий колодец. А может быть просто время замедлилось. Быть может старая жизнь не хочет отпускать меня от себя. Не хочет лишать Михаилу и министерство моего отличного общества. Старая жизнь удерживает меня. И сейчас я как будто бы пытаюсь прорвать изнутри большой эластичный кокон, в котором прошло мое прежнее время. Кокон растягивается и сопротивляется мне все больше и больше, как будто резиновый. Я словно сперматозоид, который должен исполнить свой долг и во что бы то ни стало добраться до яйцеклетки, пусть даже и через презерватив. Презерватив, предохраняющий ту жизнь, что наверху, от горестей и страданий, от нарушений прав человека и тяжелой, но праведной жизни правозащитников. И я просто обязан прорвать этот презерватив, пусть даже он сделан компанией «Проктэр энд Гэмбл» на ультрасовременном заводе в Баковке и абсолютно надежен. Я должен прорвать его, потому что это мой долг.
И я рву его, рву. С каждой новой ступенькой я все больше и больше напрягаю все мои мышцы, все мое демократическое самосознание, все мои способности к самоотречению.
Мне трудно. Мне очень трудно.
Но впереди меня ждет сияющая яйцеклетка.
Мы ниже и ниже.
Мы глубже.
Сопротивление становится нестерпимым. Я и не подозревал, сколько во мне несвободы. Я и не думал, как трудно мне будет.
Словно бы время остановилось. Я перебираю ногами, но не двигаюсь вниз. Я перестал видеть своих сопровождающих. Я перестал видеть стены и лестницу. Я словно бы в пустоте. Я словно бы между светом и тенью. И до света совсем недалеко, но тень не отпускает меня.
И перед глазами моими проходит вдруг вся моя жизнь. Вот я родился и радостно плачу. Вот моя первая игрушка — березовый кол. Вот мне на шею вешают хьюман райтс вотч. Вот мы всем классом учим наизусть «Всеобщую декларацию прав человека». Свобода слова. Музей оккупации. Родина. Лошади. Мой первый поцелуй. Мой первый Бахтияр. Правозащитники. Родина. Демократия. Я рукоподаю первой девушке. Пентхауз. Мой первый трехногий мерин. Овес и наставники. Родина. Суровый и благородный порыв. Свитер грубой вязки и митинги. Внутренний бой с антитерроризмом и Родина. Родина. Эта страна. Батарейки и паломничество в мемориальный музей Краснокаменска. Профессия. Евгения Марковна и «Фридом Хауз». Рисунок свечами и собственный трейлер. Вот мы с Михаилой. Платоша. Ступня Пугачевой. И Родина.
Чем ближе воспоминания — тем они ярче. Но сквозь сверкающие картинки террористических взрывов просвечивает иногда моя счастливая юность. Вкусный горячий порридж. Грузинский плиточный чай. И первое откровение. И первые сомнения. И первый…
— Достаточно, — раздается вдруг тихий и вкрадчивый голос.
Я узнаю этот голос.
Это голос Рецептера.
Чиркает спичка и помещение заливает неровным светом свечи. Я обнаруживаю себя стоящим на ровном полу. Рядом с Линьковым стоят мои улыбающиеся провожатые.
— Добро пожаловать в подвалы Лубянки, — приветливо говорит мне Руслан, — Откуда это у вас такой огромный синяк?
Я сделал это!
Я прорвался сквозь кокон.
Я преодолел собственное сопротивление и малодушие.
Я очистился и вырвался на истинную свободу.
И теперь я чист.
Я прозрачен.
Я прозрачен и пуст.
Я — сосуд, назначенный для свободы.
И свобода примет форму меня.
Наполнит меня высшим смыслом.
Я снимаю папаху.
— Ну что же… — говорит мне Рецептер, — Пройдемте. Нас ждут.
И вдруг с лязгом отворяется дверь. Перед нами — пустой коридор. На стенах его — факелы. Я переступаю через порог и вхожу в коридор.
Я переступаю порог своей детской мечты. Я переступаю порог мечты моей юности. Я переступаю порог мечты всех, кто рожден для защиты свободы.
Я переступаю.
Рецептер и двое мужчин входят за мной. Один из мужчин закрывает за нами. Мы идем по длинному коридору. Здесь влажно. Где-то капают капли, чуть потрескивают факелы, а так — тишина и звук наших шагов. Расстегиваю «аляску».
Коридор поворачивает и расширяется. Здесь на стенах уже не факелы, а батарейные лампочки. Не капает. Сыро.
Я в храме российской правозащиты. В святилище общечеловеческих ценностей. Здесь не продадут.
Вот в стене — железная дверь с глазком. На двери выбит хьюман райтс вотч. У меня перехватывает дыхание.
— Здесь правозащитник? — шепотом спрашиваю я у Рецептера.
Он не отвечает.
Я оглядываюсь на идущих сзади мужчин.
Они не отвечают.
Я понимаю — так надо.
Не стоит тревожить права человека. Не стоит мешать и работе по их постоянной защите.
Пусть правозащитник работает. Я скоро, быть может, стану таким же.
Двери по стенам коридора встречаются чаще. На каждой их них — хьюман райтс вотч.
Кое-где слышно невнятное бормотание. Я пытаюсь разобрать слова.
— Гендерное неравенство, — шелестит незнакомый мне голос, — одна из главных составляющих дискриминации.
Движемся дальше.
— Салман Радуев — это ярчайшая страница героического чеченского сопротивления, — доносится из-за дверей другой голос, — Его жизнь и его смерть стали гарантией того, что проклятая имперская Россия была уничтожена, а чеченцы и все остальные оккупированные ею народы, получили наконец свободу.
Я вслушиваюсь в слова неведомых мне правозащитников. Я впитываю в себя их абсолютную, ничем не ограниченную свободу. Я проникаюсь.
— Холокост, — говорит третий голос, — Голодомор.
— Очевидная ответственность лежит на всем российском обществе, — говорит и четвертый, — Оказавшемся неспособным осмыслить происходящее в собственной стране и оказать необходимое воздействие на свою власть.
Я улыбаюсь. Я спокоен и счастлив. Мне легко и надежно от осознания колоссальной правозащитной мощи, заключенной в этих подвалах. Я словно бы стал батарейкой. Я наэлектризован и искрист.
— Нам нужна другая Россия! — раздается вдруг изо всех камер сразу.
Мои сопровождающие останавливаются.
— Полночь, — коротко бросает Рецептер, — Время пикета.
Все трое немедленно обращаются лицами в одну сторону, куда-то в угол правой стены, достают из-под одежд свои хьюман райтс вотч и в унисон с разносящимся по коридору хором правозащитников громко, отчетливо произносят:
— Нам нужна другая Россия! Россия! Нам нужна другая Россия! Нам нужна другая Россия!
Хор все громче, эти простые и сильные четыре слова заполняют собой все пространство и я непроизвольно начинаю повторять вслед за всеми, доставая свой хьюман райтс вотч:
— Нам нужна другая Россия! Нам нужна другая Россия! Нам нужна другая Россия! Нам нужна другая Россия!
И вот уже нет ни коридора, ни лампочек, ни железных дверей — ничего. Есть только непостижимая и необъятная Вселенная, есть только звезды и истина:
— Нам нужна другая Россия! Нам нужна другая Россия! Нам нужна другая Россия! Нам нужна другая Россия!
И я тоже смотрю куда-то в угол правой стены, и не вижу там ничего — ни угла, ни бетона, ни сырости. Нет никакой стены, а есть лишь бескрайняя правда. Бескрайняя правда о демократии и о правах человека.
Я вдруг понимаю, что еще меньше часа назад лежал с Михаилой в спальном мешке, и что за этот час со мной произошло больше, чем за всю предыдущую жизнь.
— Нам нужна другая Россия! Россия! Нам нужна другая Россия! Нам нужна другая Россия!
Я сливаюсь с немыслимым. Я чувствую себя частицей мира истинной справедливости. Я чувствую себя истинной справедливостью. Я чувствую себя истиной.
Пикет неожиданно затихает и мужчины, убирая свои хьюман райтс вотч, молча продолжают свой путь. Я спешу вслед за ними и спрашиваю Рецептера:
— А почему пикет? Ведь во время пикета нельзя скандировать лозунги!
— Это ритуальный несанкционированный пикет, — поясняет мне Руслан, — В нем заключен огромный сакральный смысл. Ведь если бы пикет был санкционированным и мы бы молчали — нас бы никто не услышал. И права человека остались бы не защищены.
— А почему вы хотели другую Россию? — спрашиваю я, — Ведь мы и так уже живем в Другой России!
— Это вы живете в другой России, — отвечает Рецептер, — А правозащитники всегда живут в нынешней. Их цель — постоянное приближение будущего. И как только будущее наступает, и Россия становится другой, правозащитники тут же начинают требовать новой другой России. И так до бесконечности. Иначе не будет прогресса.
Потрясенный, я не нахожусь со словами. «Свобода — это в первую очередь обновление», - вспоминаются мне слова юноши с томиком Бориса Акунина, которого я давеча встретил в лифте Фридом Хауза. А ведь он прав был!
— Если вы хотите спросить, куда мы смотрели, — говорит мне Руслан, — То смотрели мы в сторону Читинской области.
— Потому что там живет Он? — спрашиваю я понимающе.
— Потому что там живет Он, — кивает Рецептер, — Мы, кстати, пришли.
Один из мужчин подходит к стене и заглядывает в глазок двери камеры, ничем не отличающейся от других таких же дверей в камеры.
— Нормально, — кивает мужчина и осторожно стучит в дверь.
Не дожидаясь ответа, мужчина открывает дверь и заходит внутрь. Следом за ним заходит правозащитник Линьков, потом я, а потом уже и второй из мужчин, который и закрывает за нами дверь.
Мы в огромном зале, но с низким потолками. Стен зала не видно — они теряются в полумраке. В центре зала лежит необычный для Москвы большой валун. Вокруг валуна на сучковатых пнях сидят несколько человек в телогрейках и валенках. В руках у них густо дымящиеся самокрутки.
— Свободин Роман, — представляет меня Линьков, — Работник свободы слова. Отличник. Пытался пройти испытание.
Один из сидящих вокруг валуна людей оборачивается. У него мудрое, изрезанное морщинами лицо и большие выразительные, немного навыкате, глаза за толстыми стеклами очков. А в глазах этих глубина неописуемая. Я как будто проваливаюсь в эти глаза.
— Стуканул на Маринку-то, а? — раздается вдруг скрипучий голос, от которого у меня все внутри образуется пустота.
Я вдруг узнаю это изрезанное морщинами мудрое лицо. Я узнаю эти глаза. Я пытаюсь вынырнуть из их глубины и никак не могу.
Мне становится страшно. Я не понимаю, о чем говорит этот голос, но мне очень страшно. Я снял бы папаху — но она уже снята. Быть может рукоподать…
— Отвечайте, когда Матриарх спрашивает, — слегка толкает меня в предплечье Рецептер.
— Я… я… — растерянно бормочу я, — Я же прошел испытание! Я спустился в колодец и прорвался сквозь кокон!
Смотрящие на меня глаза секунду недоумевают, а затем вдруг начинают смеяться. Следом начинает смеяться глубокий, изрезанный рот. Ко мне оборачиваются другие сидящие перед валуном люди в телогрейках. Одни из них улыбаются, другие смеются, а третьи попросту удивленно рассматривают.
— Сквозь кокон? — скрипит Матриарх, — Сквозь какой кокон, Романчик? Ты спустился в колодец?! Что с твоим глазом-то? Спотыкнулся?!
Собравшиеся хохочут. Смеется Рецептер. Смеются мужчины, сопровождавшие меня до колодца. Я растерянно улыбаюсь. Матриарх встает со своего пня и подходит ко мне. На груди у нее огромный сверкающий хьюман райтс вотч. Я каменею. Рукоподать нету сил. Подходят другие. Радостно хлопают меня по плечам. Сверкают прекрасные хьюман райтс вотч. Я укутываюсь в едкий дым самокруток.
— Он прорвался сквозь кокон!! — смеется один из людей в телогрейках сквозь бороду, — Спустился в колодец!!
— А что ты еще сделал, умора?! — хохочет сухонький старичок в железных очках, — Ездил на террористов смотреть?! Герой! Откуда фингал-то?
«Откуда они знают про террористов?» — думаю я, и вдруг понимаю, что имеет в виду Матриарх. Меня охватывает тоталитарный, первобытный, животнейший ужас.
— Ну хватит, — говорит Матриарх, — Русланчик, представьте меня.
Все умолкают.
— Матриарх Московской Автокефальной Хельсинкской Группы Российского Правозащитного Центра академик Людмила Михайловна Алексеева, — четко произносит Рецептер, и в гулкой тишине зала его слова звучат как окончательный приговор, — А вместе с ней и вся Группа.
Так вот оно что.
Людмила Алексеева — мать российской правозащиты. Именно она в далекие стабилинистские годы, когда правозащитная организация Amnesty International отказалась признать академика Ходорковского политическим заключенным, приняла нелегкое решение об автокефальности Московской Хельсинкской Группы. С тех пор Группа сама канонизирует политзаключенных, а после падения Лубянки и ухода правозащитников в подвалы, она стала и катакомбной.
И, видимо, Платоша рассказал ей про женщину в рыбном.
Я обреченно дрожу.
Люди в телогрейках молча возвращаются на свои пни. Последней возвращается Матриарх.
— Я не знаю, какой ты кокон имеешь в виду, — говорит она своим скрипучим голосом, — Но мы тут, учитывая твое давнее желание стать правозащитником и удалиться от мира, а также многочисленные просьбы уважаемой нами Женечки Бац, решили устроить тебе испытание.
— Когда я спускался в подвал, — стуча зубами поясняю я академику, — Мне показалось, что я как будто бы прорываюсь сквозь кокон в новую жизнь. Что как будто бы презерватив…
— Это не то испытание, — прерывает меня Матриарх, — Спуск в подвал — это всего лишь спуск в подвал и ничего больше. А испытанием была Марина Л. Ты помнишь такую?
— Женщина в рыбном, — судорожно киваю я, — Она просила меня защитить ее права.
Ружье все-таки выстрелило. Оно все таки выстрелило. Прямо в меня.
— А ты что сделал? — спрашивает меня Матриарх.
— Я согласился, — говорю я, — Но как бы не в самом деле. А потом рассказал про эту женщину своему другу Платону. И попросил его рассказать о ней вам.
— То есть — стуканул, — хихикает один из людей в телогрейках.
— Стуканул? — удивленно переспрашиваю я.
— Заложил, — кивает Матриарх, — Это и было твое испытание.
— А она что же… — не понимаю я, — Тоже — правозащитник?!? Она же сказала, что стабилинистка!
— Мало ли кто и что говорит, — отвечает мне Матриарх, — Не слова надо слушать, а совесть. Марина Л. - одна из основателей партии «Другая Россия». Мать-героиня Беслана. К тому же она придумала «Марш несогласных». Впрочем, для тебя это не имеет никакого значения.
Как не имеет?! «Марш несогласных»! Я чувствую себя полностью опустошенным. Я так мечтал узнать, кто же придумал «Марш несогласных», чтобы отблагодарить этого человека свободно! За то, что я познакомился с Мишей. И вот вместо этого я… я предал ее. Шчэсливэй подружы, Рома…[75]
— Я не прошел испытание, — виновато вздыхаю я.
— Откуда ж мы знаем, — пожимает плечами Матриарх, — Это нам скажет лишь камень.
И Рецептер показывает мне на валун в центре круга сидящих. Я осторожно прохожу мимо пней.
— Это Соловецкий камень, — поясняет мне Матриарх, — Он определяет правозащитников. Подойди к нему, встань на колени и положи на него ладони. Если, конечно, ты хочешь.
Bсе исполняю как прошено. Снимаю «аляску», кладу ее на пол. Туда же — папаху. Подхожу к святыне, мысленно рукоподаю ей и преклоняю колени. Кладу ладони на шершавую прохладную поверхность. Замираю дыханием.
Вот оно!
Момент просветляющей истины.
Высшая точка самопознания.
Сейчас я узнаю, суждено ли мне жить в условиях абсолютной внутренней свободы, или же мой удел — министерство, Михаила, собственный трейлер в центре Москвы и общечеловеческие ценности. И вечная память о совершенном мною предательстве женщины в рыбном.
И тут начинается.
Соловецкий камень под моими руками слегка вибрирует и нагревается. Приятно.
Я закрываю глаза.
Температура поверхности повышается. Растет амплитуда ее колебаний. Я чувствую, как вокруг меня сгущается тишина. Перестаю чувствовать запах дыма от самокруток. На моей груди греется хьюман райтс вотч.
Соловецкий камень словно бы вырывается у меня из рук. Я пытаюсь охватить его крепче, впиваюсь пальцами в дергающуюся поверхность. Температура уже нестерпима. Грудь жжет хьюман райтс вотч. Мои руки ходят ходуном. Я напрягаюсь всем телом. Пальцы скользят, цепляются за горячую шершавую поверхность и ломаются ногти. Я начинаю кричать.
И внезапно раздается ответный крик. Крик множества ртов. Вопль сотен, тысяч и миллионов разверзнутых глоток. Истошный, полный ужаса, исступленный вой. И я тону в этом крике.
Это кричат жертвы тоталитаризма. И в их крике я слышу все — лай собак, крики охраны, пулеметные очереди и запахи хлорки.
Голоса прокуроров, лязг железных дверей и ночной стук в дверь.
Рык въезжающего во двор автомобиля и топот сапог на черной лестнице.
Запах пота, мочи и кашель туберкулезника.
Звук затвора, звук удара, звук плевка.
Шелест бумаги, скрип пружинной кровати и стук топора.
Далекое ржание тощей лошади, бульканье разливаемой водки и свисток старого чайника.
Скрип половиц, анекдот и прощание.
Школьный звонок, шипение радио и гулкий бух дискотек.
Скрип тормозов, запах мыла и младенческий плач.
Выстрел хлопушки, звон бокалов и сигналы точного времени.
Визг циркулярной пилы, крик петуха и мычание.
Гул стадиона, звонок велосипеда, шипение открываемой банки пива.
Субботний гул пылесоса, блатную песню и пьяное «Горько!»
Сирену «Скорой помощи», и танго, и фокстрот.
Капель. И слово «ухогорлонос». И пение попа.
Запахи леса, мангала и лука.
Телефонный звонок.
И щелк магнитофона.
И рок-н-ролл.
И хрипы в легких.
Шум дождя.
Легкий плач.
И вздох.
И соловьи.
И робкое «не надо».
И «я люблю тебя» шепотом.
И тишина.
Звуки старой, страшной, оскаленной тоталитарной России раздаются словно бы отовсюду, но на самом деле из камня. Кричит Соловецкий камень и дрожит от ужаса в моих почти уже правозащитных руках. Вырывается и температурит. И я все сильнее и сильнее сжимаю его в своих ободранных и обожженных ладонях. И чем сильнее сжимаю я камень, тем сильнее кричит он, сильнее дрожит и нагревается. А вместе с ним дрожит и обжигает меня хьюман райтс вотч.
И вот уже нестерпимо, и не удержать, и я наваливаюсь на камень всем телом, чтобы только защитить его, закрыть, унять этот крик, успокоить его, заткнуть, задушить, задержать, запереть, расстрелять!
И в этот момент Соловецкий камень в моих руках лопается, как куриное яйцо, и ладони мои проваливаются в горячую и липкую жидкость по самые локти.
Я осторожно приоткрываю глаза.
Соловецкий камень как ни в чем не бывало лежит передо мной целый и невредимый. Вокруг все так же витает дым от цигарок членов Хельсинкской группы.
— Я же говорил, — произносит вдруг один из них сквозь этот дым, — Да у него руки по локоть в крови!
Я поднимаю руки к лицу. Они все в крови. Как будто бы не моей. Густая, липкая кровь покрывает мои ладони, обволакивает запястья и капает со сгибов локтей. Мне становится дурно. Я ничего уже не понимаю.
— Да что же это… — бормочу я беспомощно, оглядываясь вокруг.
— Превед, начальнег,[76] — глумливо говорит вдруг один из правозащитников, низенький и юркий, словно бы девушка.
— Это в каком смысле — начальник? — искренне не понимаю я.
— Ты не понтуйся, алё-малё, — говорит вдруг еще один, почти что не видный за плотной завесой табачного дыма, — Зашухарил Маринку-то. Скурвился. К мусорам похилял. Значит — начальник. Оно-то понятно, но хату твою попалили. Попал ты как хрен в рукомойник. Так уж тебе масть легла, пассажир, а нам теперь будут через такой фарт разные джуки-пуки.
— Я… я не понимаю… — бормочу я, не зная, куда деть свои окровавленные руки.
— Да не дуйся ты как хер на бритву, — продолжает правозащитник, — Маза твоя по всему выходит козырная. Вроде не хрюкало, гнать не стал. А то наша шобла — она парафина не любит. Не в падлу тебе выходит твое западло.
— Да ты, Валера, прямо философ! — хихикает юркий, — Андрей Илларионов!
— Хохоталку прикрой, — отвечает ему задымленный правозащитник, — В натуре, я тут этому животному нашу правозащитную натырку даю, а тысвоим дешевым зехером мне все рамсы путаешь.
— Не кипишись, — хихикает юркий, — Я ж по-братски. Слышь, рог, хошь, я тебе пегасик заначу?
Я даже не понимаю сначала, что он обращается именно ко мне.
— Перестаньте, Абрамкин, — произносит Матриарх, — Посмотрите на мальчика. Он же испуган.
— Мама дело говорит, — соглашается кто-то из правозащитников, — Волк-то он тряпошный. Объяснить бы ему.
— Некс, — ласково режет задымленный, — Не канает нам здесь в академии букварь устраивать азбуку. Не по понятиям. Этот базар конкретный. Заморочка нам выпала редкая, и будь эта урла хоть лох голимый не при делах, а хоть жиган фартовый по беспределу, надо бы нам с ним перетереть за дела наши скорбные, пока он не соскочил. А то кинем сами себя через карталыгу и потом хоть сколько умняк делай — а так и будем в завязке сидеть, гранты жевать без фасону. А потом и откинемся.
— Принимая во внимание исключительные обстоятельства, сопутствующие нашему сегодняшнему собранию, — раздается сверкающий очками скрипучий тенорок, — Я склонен согласиться с уважаемым Валерием Федоровичем, и присоединиться к преамбуле его выступления.
— Ты, фраерок, шнифты-то не зявь, — говорит мне давешний задымленный, — Вишь, как Адамыч рисует — преамбула. Вот тебе, значит, моя преамбула. Раз ты свои цапли по локоть в юшке замацал — так быть тебе, фраерок, у нашего шалмана чувырлой. Шмонать нас будешь, пока часы тикают. Забредешь, хухлюк закуришь. А там, глядишь, и в Читу схиляешь.
— В Читу?! — даже не видя себя я чувствую, как смертельно бледнею, — К Ходорковскому?
— Да не бзди ты, — добродушно говорит задымленный, — Миша давно себе чабана подыскивает. Надоело ему чучелом быть. По жизни базлать не о чем. Посадит он тебя на перо, а там, кто знает, и вместо него сядешь. И трандец.
— Уж лучше в клифту лагерном, на лесосеке, — хихикает юркий, — Чем в костюмчике у Миши на пере.
— Перо у Миши и верняк фартовое, — соглашается задымленный, — Но и такие звери как этот черт, не каждое лето родятся. Ты на руки, на руки его посмотри! Это ж Гитлер! Будет Мише о чем написать. Про правый поворот. Так что давай, Люба, распакуй волыну. Предъяви товар лицом, так сказать.
Матриарх вздыхает и кротко кивает. Откуда ни возьмись с нею рядом появляется Рецептер. В руках у него — лакированная коробочка красного дерева. На крышке коробочки — гербовый логотип российской правозащиты: покосившаяся от времени лагерная сторожевая вышка, обрамленная венком из колючей проволоки, а под ней — строгая надпись ALL RIGHTS RESERVED.[77]
Я напрягаюсь.
Матриарх принимает коробочку, раскрывает ее и поворачивает ко мне. В табачном дыму что-то тяжело и матово светится. Я пытаюсь рассмотреть таинственный артефакт, но никак не могу. Мартиарх достает предмет из коробочки.
— Подойди сюда, отличник, — говорит Матриарх, и я поднимаюсь с колен.
Красные капли срываются с моих окровавленных рук и разбиваются о бетонный пол.
Я подхожу к Матриарху.
В руках она держит мобило. Старинное опричное мобило в платиновом корпусе с сапфировым стеклом.
— Это мобило, — говорю я, — Я видел такое в музее оккупации.
— Правильно, — кивает мне Матриарх, — Это мобило. Символ стабилинизма и нравственного падения этой страны. В этом мобиле заключено все старороссийское зло. И хранить его будет дозволено избранному. Нам кажется, что этот избранный — ты.
— Я?! — восклицаю, хлопая себя по груди. Кровавые капли с моих рук разлетаются веером и часть из них попадает на лицо и очки Матриарха.
Радостный вздох проносится по помещению. Я вижу, как глаза Рецептера лучатся счастьем. Матриарх улыбается.
— И зальет он правозащитников кровью, — шепчет она, неверящим взглядом рассматривая капли крови на своей телогрейке, — Это ты… Это действительно ты…
— Отдай же! — доносится с разных сторон, — Отдай же ему!
Матриарх, словно опомнившись, протягивает мне мобило.
— Возьми его, — шепчет она, — Возьми скорее.
Я вытираю ладони о штаны и осторожно беру в руки мобило. На металл падают капли крови. Я пытаюсь стереть их, но только размазываю кровь по поверхности.
— Он взял! — тихо говорит Матриарх, а потом отовсюду доносится все громче и громче: — Он взял! Он взял!! Он взял!!! Он взял его!!!
Правозащитники поднимаются с пней. Встает Матриарх. Я растерянно озираюсь.
— Взял! — кричат правозащитники, — Он взял его!! Взял!!!
От криков я вздрагиваю.
Матриарх делает знак. Крики стихают.
— Роман Аркадьевич Свободин, — громко и торжественно призносит Матриарх, — Именем Московской Автокефальной Хельсинкской группы и всей д. российской правозащиты я призываю тебя прочесть нам мобило.
Я понимаю мобило к глазам и рассматриваю его. Странное это мобило. На экране и кнопках его нет ни символа. Ни цифр нет, ни букв — ничего.
Я переворачиваю мобило. Здесь есть. По замазанной кровью шлифованной платине золотом выбито слово Vertu. Прямо под ним мелкими бриллиантами выложено веселое «Hi!»[78]
— Верту, — неуверенно читаю я, — Хай.
— Громче, — говорит Матриарх напряженно.
— Верту! — повторяю я, — Хай!
И снова радостный вздох окружает меня.
— Он сделал это… — счастливо и устало говорит Матриарх, — Он прочитал. Мы не ошиблись. Да пребудут с нами свобода и демократия! Да пребудет с нами хьюман райтс вотч! Он — вертухай.
— Олл райтс резервед…[79] — нестройным хором произносят правозащитники, и в голосе их слышится облегчение.
— Вертухай? — не понимаю я, — Что это?
Правозащитники улыбаются.
— Ты, мама, вышла бы с ним на линию, — говорит задымленный, — А то в непонятках начальник. Уроков бы надо. Теперь уже можно.
Матриарх кивает, показывает мне глазами куда-то в сторону и выходит из круга. Я выхожу вслед за ней. В спины нам смотрят правозащитники. В руке я сжимаю мобило.
Мы проходим через весь зал, а впереди нас — быстрый Рецептер. Он открывает перед Матриархом низкую железную дверь. Матриарх входит. Вхожу следом и я. Дверь закрывается.
Полная темнота.
Мог ли я еще утром подумать, что буду находиться в одной камере наедине с Матриархом д. российской правозащиты? Не мог я подумать. И дух мой захватывает. И сердце мое останавливается.
Чиркает спичка и рядом с нами засвечивается медленный огонек. Когда центр камеры заполняется дрожащим светом, я различаю большой и широкий округлый сосуд с темной жидкостью, из которой и торчит коптящий фитилек.
— Что это? — спрашиваю я у Матриарха, уже зная страшный ответ.
— Нефть, — отвечает мне Матриарх, — Юралс.
— Но ведь это же противозаконно! — восклицаю я потрясенный.
— Мы защищаем права, а не закон, — говорит Матриарх, — Закон защищает Пентхауз. Им это необходимо для повышения производительности труда. А нам для повышения производительности труда требуются вертухаи.
Я обращен к Матриарху. Матриарх ходит вокруг нефтяного сосуда.
— Вертухай — это надзиратель в тюрьме, — говорит Матриарх, — Или в лагере. При стабилинизме правозащитников было мало. А вертухаев — очень много. Нас арестовывали, выгоняли из этой страны, ссылали в Сибирь. Но мы точили, точили, точили режим. Мы печатали хронику текущих событий, составляли доклады для международных организаций, получали гранты и осваивали их на благо всего цивилизованного человечества.
— Все изменила революция, — тихо бормочу я.
— Совершенно верно, — кивает Матриарх, — Теперь правозащитников стало много, а вертухаев совсем не осталось. А правозащитнику без вертухая никак нельзя. Правозащитнику без вертухая попросту нечего делать.
— Как это — нечего делать?! — удивляюсь я, — А защищать права человека?
— От кого? — спрашивает меня Матриарх, — От кого их защищать, эти права?
— Как это…, - теряюсь я, — Просто так защищать! Ни от кого!
— Права можно защитить только от того, кто их нарушает, — говорит Матриарх, — Для этого нам и нужны вертухаи. Без вертухаев у правозащитников этой страны нет ориентиров. И ты станешь таким ориентиром. Станешь смыслом жизни правозащитника.
— Я?! — глупо спрашиваю я, — Но я же демократ! Либерал!
— Из либералов получаются самые лучшие вертухаи, — говорит Матриарх, доставая из кармана телогрейки тоталитарный граненый стакан и зачерпывая им нефть из сосуда, — На, выпей-ка.
Я осторожно принимаю из рук Матриарха стакан и поднимаю его к носу. Пахнет загадочно и неизбывно. Мне боязно.
— Пей, не бойся, — говорит Матриарх, доставая из кармана телогрейки другой такой же стакан и снова зачерпывая им нефть из сосуда, — На брудершафт. И душами совместно воспарим.
Так говорит Матриарх и немедленно выпивает.
Я словно в тумане. Мне не верится в то, что я вижу. Я медленно подношу стакан к губам, зажмуриваюсь, затаиваю дыхание. У меня есть будущее, есть и прошлое. Есть душа, пока еще чуть приоткрытая для впечатлений бытия. Разделю с тобой трапезу, Матриарх!
И немедленно выпиваю…
Нефть оказывается приятной на вкус. В голове приятно шумит. Словно в тумане я вижу, как Матриарх приближает ко мне свои сухие и мудрые губы. Соприкасаемся. Я чувствую, как в меня переходит что-то великое. Я словно бы задыхаюсь, но тут же вдыхаю полной грудью и меня заполняет свобода. Истинная свобода. Пьянящая и одурманивающая. Сладкая.
Весь мир падает к моим ногам и я вдруг вижу его целиком — маленький, игрушечный, словно бы сказочный. Вот маленький Кремль. Вот в нем — маленький Фридом Хауз. А сверху его — крохотный Пентхауз, хочешь — наступи, и не будет его. Я вижу планету как от, так и до. Вот пагоды Нью-Йорка. Вот минареты Парижа. Вот православные темплы Китая. Вот Храм Ходорковского Спасителя. Вот хьюман райтс вотч. Вот террористы, вот НАТО, вот общечеловеческие ценности восточной Сибири. Вот где-то тайга, одинокий костер и небритый турист поет самому себе, волкам и звездам извечное: «Переведи меня через майдан». И я подлетаю к нему в темноте и выхожу вдруг из леса один, весь прекрасный. Высокопоставленный и свободный.
— Я сам не сидел, — говорю я туристу доверчиво, — Но я абсолютный правозащитник. Я знаю.
Турист смотрит на меня осуждающе. Его лицо постоянно меняется. Он то как бы Ленин, а то как бы Сталин, он то как бы Ельцин, а то как бы Путин. Он то как бы токарь, а то как бы пекарь. Он то как бы слева, а то как бы справа. Он словно бы за, но скорее, что против. А мне все равно, кто он — я бог, я всесилен, во мне плещется юралс. И я улыбаюсь.
— Партия сгнила изнутри, — поет мне турист, безобразно дербаня нестройные струны, — Власть брошена на растерзание трухлявой коррумпированной компрадорской оппозиции, которой глубоко плевать на народ, на судьбу отечества, нации, и которая даже не организована по политическому принципу. Плоды этой смуты, этого безвластия, когда политика стала проституткой в руках новоявленных сутенеров, когда народная стихия ищет в темном омуте своего постсоветского сознания хоть какую-то опору в этой беспросветности, когда лозунгом масс стало: «живи одним днем», и когда проведена эта воровская приватизация-вампиризация всей страны по принципу: «кто успел — тот и кровушки попил» — плоды эти мы пожинаем и по сей день. Власть продается из-под полы, передается из рук в руки, как ходовой товар. Вот и думайте, какой нас ждет груз двести, и что мы везем на этом борту в этих человеческих душах-гробах. Сочи — это наш будущий духовный Афганистан…
— О чем это вы? — удивленно спрашиваю я у туриста.
— Я не хочу с вами разговаривать, — отвечает турист через песню.
— А зачем же тогда разговариваете? — еще более удивляюсь я.
— Я не собираюсь поддерживать этот разговор, — поет мне турист, — Я знаю, что это карма, и против нее не попрешь, но нам всем будет лучше…
И я вдруг понимаю, что значит «нефтяная игла» — попробуешь один раз и не соскочишь уже никогда. Мне сразу же хочется еще и я тянусь стаканом к сосуду.
— Хватит пока, — говорит Матриарх откуда-то сверху, — Напьешься еще. А теперь послушай историю.
Я обращаюсь весь во внимание. Мне хорошо. Я терпелив и терпим. И я готов выслушать все, что угодно.
— Когда-то давным давно, — рассказывает мне Матриарх, — В одном из дальних сибирских лагерей жил себе последний вертухай. Везде наступили свобода и демократия, лагеря и тюрьмы позакрывались, а в пустующих камерах уже начали селиться первые правозащитники. Вертухаи побросали свои ключи и наганы, разбрелись по стране и занялись кто чем — туризмом, батарейками, терроризмом и журналистикой. А кто и правозащитой. И только один лишь последний вертухай сторожил заброшенный лагерь, исполняя свой долг перед стабилинизмом. И вот однажды к его лагерю пришел изможденный правозащитник, прошедший пешком всю Сибирь в поисках максимально удаленной от мира камеры. А поскольку долг последнего вертухая состоял в том, чтобы никого не выпускать из лагеря, а насчет впускать ему никаких указаний не было, то он впустил в свой лагерь правозащитника, предварительно обыскав его. При обыске были изъяты платиновое мобило и хьюман райтс вотч. Больше у правозащитника ничего не с собой было.
Я смотрю на окровавленное мобило в своих руках.
— Да, — кивает мне Матриарх, — Это то самое мобило. Вертухай посадил правозащитника в камеру и начал за ним надзирать. Он запирал правозащитника в карцер, бил его, не давал есть и не включал отопления. И тогда избитому, голодному и замерзшему правозащитнику приходили в голову новые, невиданные раньше способы защиты прав человека. Вертухай пытал правозащитника электричеством, надевал ему на голову противогаз с перекрученным шлангом, бил по пяткам деревянной палкой и прижигал ладони сигаретами. И в этих пленительных муках правозащитник создавал еще более совершенные способы защиты прав человека. Так они и существовали, наполняя смыслом жизни друг друга. Но человеческое здоровье не безгранично. И однажды правозащитник заболел. Чувствуя приближение смерти, он постучал в дверь камеры и вызвал к себе вертухая. А когда вертухай пришел, правозащитник рассказал ему, что был олигархом-опричником. И что революция открыла ему глаза на происходящие. Олигарх пережил глубокий нравственный и мировоззренческий кризис и стал правозащитником. Как я в пятьдесят третьем году. А еще олигарх рассказал вертухаю о Ходорковском. И попросил вертухая исполнить его, правозащитника, последнее перед смертью желание — совершить паломничество в Читу, найти там Ходорковского и стать его личным вертухаем. Потому что правозащитнику без вертухая никак нельзя, а поскольку вертухай на всем белом свете остался только один, то и идти ему надо к самому главному правозащитнику. Так сказал правозащитник и умер. И тогда последний вертухай похоронил его, надел на себя его хьюман райтс вотч, запер ворота своего лагеря и пошел по Сибири в Читу.
— И пришел к Ходорковскому? — спрашиваю я Матриарха.
— Пришел, — говорит Матриарх, — И был при нем долгие годы. А потом тоже умер, оставив свой хьюман райтс вотч и это мобило. И перед смертью вертухай наказал правозащитникам носить хьюман райтс вотч и рассказал, что в этом мобиле будет жить его тоталитарная душа. И что пока правозащитники будут носить хьюман райтс вотч и смогут находить того, кто прочтет это мобило — они не будут умирать. И с тех пор мы носим хьюман райтс вотч. И с тех пор как только вертухай умирает, мы ищем нового, способного прочесть это мобило, и отправляем его к Ходорковскому. И не умираем.
— То есть это что ж получается… — бормочу я, не веря в услышанное и быстро трезвея, — Я должен буду Ходорковского… в карцер сажать?! Мучать его электричеством?! Палкой?!? Я… я не смогу!
— Ты сможешь, — спокойно говорит Матриарх, — А не сможешь — так выпьешь еще стакан юралса. Только и карцер и электричество — это все давно пройдено. Ему давно уже нужны новые нарушения. И в совершенно других дозах. Что поделать — масштаб личности. Да ты не переживай так. Ему от этого всего только лучше.
— Как это? — не понимаю я.
— Понятно, как — тихо говорит Матриарх, — Умираешь то ты.
Мы некоторое время молчим. Матриарх всё сказал, а я никак не могу осознать произошедшее. Постепенно в моей голове, словно кусочки пояса террориста, начинает складываться картина. Я вдруг понимаю, почему Матриарх Алексеева до сих пор жива. Я понимаю, почему живы члены Хельсинкской группы, ведь всем им давно уже за сто лет. Я вдруг понимаю, в чем состоит моя жертва. И я понимаю, что скоро умру. Зо айн унглюк…[80]
— Как вы меня нашли?! — спрашиваю я Матриарха.
— Тебя не мы нашли, — говорит Матриарх, направляясь к двери камеры, — Тебя камень нашел.
Матриарх стучит в дверь камеры. Немедленно открывается глазок, после чего лязгает запор и дверь открывается. Матриарх выходит. В камеру заходит Рецептер.
— Ничего не бойся, — говорит правозащитник, подходя к нефтяному фитилю, — Теперь уже поздно бояться.
И Руслан задувает фитиль.
Камера погружается в полную темноту.
— Много кто хочет стать правозащитником, — в темноте произносит Рецептер, — Мы всех таких проверяем предательством. И если кто смог переступить через себя — то это уже точно или вертухай, или правозащитник.
— Ну ладно я… — бормочу я Линькову, — Но разве правозащитник может предать?
— А какая разница? — спрашивает меня Рецептер, — Неужели ты до сих пор ничего так и не понял?
Я молчу.
— Чем больше ты защищаешь одни права, — говорит мне правозащитник, — Тем больше ты нарушаешь другие. Первый закон правозащиты. И первое следствие из этого правила: чем меньше ты защищаешь одни права, тем меньше ты нарушаешь другие. Помнишь?
— Помню, — говорю я Рецептеру.
— Вертухай нарушает права — правозащитник из защищает, — говорит мне Руслан, — И чем больше вертухай нарушает права — тем правозащитник больше из защищает.
— То есть, — кажется, догадываюсь я, — Раз защита прав человека зависит от вертухаев… то вертухай — это высшая форма правозащитника?
— Нет. Вертухай — это составная часть правозащитника, — поясняет Рецептер, подоходя вплотную ко мне, — Его, так сказать, альтер эго. Беда лишь в том, что правозащитник бессмертен. А вертухай меняется. Собственно, в этом и состоит истинный смысл революции.
— Истинный смысл революции? — удивляюсь я, — Разве же он не состоит в победе свободы и демократии?
— Свобода и демократия — все это лишь слова, — шепчет Рецептер, и я чувствую на своем лице его холодное дыхание, — Ими можно назвать все, что угодно. Равно как и все, что угодно, можно назвать стабилинизмом. А нас интересуют не только слова, но и их суть. И суть эта простая. До революции вертухай был вечен, а правозащитники у него в камере постоянно менялись. Теперь все наоборот — правозащитник вечен, а вертухаи возле его камеры все время меняются. И больше никаких изменений нет.
Я содрогаюсь. Словно бы яркая молния сверкает в моей голове, а равно и в камере. Я прихожу в ужас от страшной догадки. Я, наконец, понимаю слова Рецептера, сказанные мне утром в моем кабинете.
— Но тогда получается, — боюсь я озвучить догадку, — Что раньше в тюрьме сидели правозащиники. А теперь… а теперь получается, что тюрьма — это все, что снаружи камер правозащитников?!?
Но Рецептер молчит. Его словно бы нет.
— Простите… — тихо говорю я, — Здесь есть кто-нибудь?
И тишина. Шум давар.[81]
Я стою в полной темноте под землей в центре Москвы. В одиночной камере подвалов Лубянки. Рядом со мной — сосуд с нефтью. На руках у меня — кровь всей страны. На груди моей горит ожог от хьюман райтс вотч. В левой ладони моей — тяжелое платиновое мобило с погасшим экраном. В правой ладони — пустой граненый стакан из-под юралса.
Я наощуп нахожу нефть, зачерпываю полный стакан и залпом выпиваю его.
Я стою в темноте и видится мне всё. И краткий курс. И экстремизм. И отморозки. И политическое поле — три дороги и камень. Интеллектуальное превосходство. Гражданское общество. Ханука. И избирательный процесс. И коррумпированный режим. И политические оппоненты. И российские спецслужбы. И Холокост. Голодомор. Объединенная оппозиция, военщина, моральные устои и гэбня. Антифашисты и единый кандидат от демократических сил. И переходный период. И партия власти. Монетизация при монетаризации. Институты гражданского общества и понимание того, где проходит граница допустимого и недопустимого. И высокопоставленный кремлевский клерк. И за особый путь. И популизм. Международная амнистия. Мемориал. Демократический партийный лагерь. И узник совести. И с кем вы, мастера культуры? И тысячелетнее рабство. И идеологическая концепция. И общество развитой демократии. И остановить сползание по наклонной плоскости. И милая моя, солнышко лесное. И расстрельные списки. И куратор. И грузин. И нравственные ценности. И много, много чести. И да пребудут с нами свобода и демократия. И нам нужна другая Россия. И олл райтс резерзвед. И да пребудет с нами хьюман райтс вотч.
Я не знал, что есть на свете такое блаженство, и хохочу от счастья, густая, черная капля юралса дрожит у меня в глазах и сверкает.
— Зачем — зачем?.. Зачем — зачем — зачем?.. — бормочу я и рукоподаю ситуации.
Я кажется знаю, зачем.
Мне кажется — жизнь удалась.
Я только что стал совершенно свободен.
29 декабря 2006 — 23 августа 2007
Мосрентген-Верховье
Примечания
1
Серый сухой (евр.)
(обратно)2
Большое спасибо (евр.)
(обратно)3
Да здравствует Procter & Gamble (англ.)
(обратно)4
Жалюзи (фр.)
(обратно)5
Отлично (португ.)
(обратно)6
Душ (фр.)
(обратно)7
Страж прав человека (англ.)
(обратно)8
Вкусно. Великолепно. (фр.)
(обратно)9
Художник (нем.)
(обратно)10
Извините (фр.)
(обратно)11
Спасибо (груз.)
(обратно)12
Да здравствует (укр. — гр.)
(обратно)13
Благодарю вас (евр.)
(обратно)14
Каша (англ.)
(обратно)15
Объединенная компания «Американский Алюминий» (англ.)
(обратно)16
Это моя девушка (дат.)
(обратно)17
Всему есть предел! (ит.)
(обратно)18
Долг платежом красен (кор.)
(обратно)19
Ничего (англ.)
(обратно)20
Я люблю хорошо поесть. (пол.)
(обратно)21
Спасибо (латв.)
(обратно)22
Умер (кирг.)
(обратно)23
Правильно (кирг.)
(обратно)24
Сахар (кирг.)
(обратно)25
Дворец (лат.)
(обратно)26
Желаю вам счастья (араб.)
(обратно)27
Извините (дат.)
(обратно)28
Всего хорошего (кор.)
(обратно)29
Победа! (англ.)
(обратно)30
Да (укр. — гр.)
(обратно)31
Это очень вежливо (пол.)
(обратно)32
Работаю в министерстве (ит.)
(обратно)33
К сожалению (тур.)
(обратно)34
Сломано (нем.)
(обратно)35
Это исключено (яп.)
(обратно)36
Мне очень жаль (порт.)
(обратно)37
Доброе утро, свобода. Я твой преданный сын Я счастливо смотрю вверх И радуюсь весне демократии Добрый день, свобода Ты моя добрая мама И когда мы вместе — зима далеко И нам никогда не будет плохо Добрый вечер, свобода Ты мой единственный друг Когда ты близко — всегда лето И на душе хорошо Спокойной ночи, свобода Со мною сейчас твоя дочь Мы много читаем и слушаем радио И осень жизни нам не страшна (укр. — гр.) (обратно)38
Отлично (фр.)
(обратно)39
Глупо (кор.)
(обратно)40
Полицейский (англ.)
(обратно)41
Ководни (рус.) — третьего дня
(обратно)42
У меня затруднения (фин.)
(обратно)43
Неудачник (англ.)
(обратно)44
Хорошо (нем.)
(обратно)45
Плохо (латв.)
(обратно)46
Это мне подходит (ит.)
(обратно)47
Вот мой адрес (фр.)
(обратно)48
Удостоверение личности (англ.)
(обратно)49
Извините (фин.)
(обратно)50
Я очень расстроен (нем.)
(обратно)51
Мы победим (исп.)
(обратно)52
Именно так (кор.)
(обратно)53
Потому что (англ.)
(обратно)54
Мне это не нравится (нем.)
(обратно)55
Первый (лат.)
(обратно)56
Дайте два (лат.)
(обратно)57
Счастье (англ.)
(обратно)58
Я ненавижу (англ.)
(обратно)59
Красиво (евр.)
(обратно)60
Кто вы? Как вас зовут? (укр. — гр.)
(обратно)61
Понаехали тут (укр. — гр.)
(обратно)62
Далеко (укр. — гр.)
(обратно)63
Как дела? (англ.)
(обратно)64
Все в порядке (англ.)
(обратно)65
Что с вашим глазом? (англ.)
(обратно)66
Мир тебе (араб.)
(обратно)67
Что с лицом этого человека, сэр? (англ.)
(обратно)68
Церкви нет (укр. — гр.)
(обратно)69
Мы счастливы (англ.)
(обратно)70
Амбразура (фр.)
(обратно)71
Задерживать (старорусск.)
(обратно)72
Вперед (латв.)
(обратно)73
Вперед (нем.)
(обратно)74
Очень жаль (евр.)
(обратно)75
Счастливого пути (пол.)
(обратно)76
Привет, начальник (пад.)
(обратно)77
Все права защищены (англ.)
(обратно)78
Привет (англ.)
(обратно)79
Все права защищены (англ.)
(обратно)80
Какое несчастье (нем.)
(обратно)81
Ничего (евр.)
(обратно)


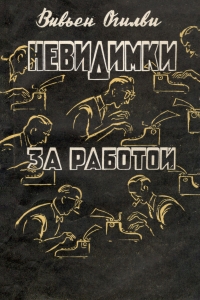
Комментарии к книге «День отличника», Максим Витальевич Кононенко
Всего 0 комментариев