Вениамин Каверин Снегурочка и космополитизм Рассказ
Задумывались ли вы когда-нибудь о том, какой сложный путь проходит в литературе замысел до его воплощения?
В 1949 году на советскую театральную критику свалилось с потолка грозное обвинение в космополитизме.
Идея могла возникнуть только в больном мозгу. Говорят, что за двадцать лет до возникновения этой идеи, знаменитый невропатолог и психиатр Бехтерев, осмотрев Сталина и найдя серьезные психические отклонения, на другое утро был найден в номере гостиницы мертвым.
Но, может быть, и не Сталин, а кто-нибудь другой из его окружения придумал эту опасную кампанию.
Согласно энциклопедии Брокгауза, космополитизм «вытекает из сознания единства человеческого рода, в силу чего интересы отдельных государств и народов подчиняются общему благу человечества, как целого… Преданность в человеческих интересах не исключает патриотизма». Такой точки зрения придерживался, например, Миклухо-Маклай, считавший себя космополитом.
Но БСЭ считала (в 1953 году), что космополитизм — «реакционная буржуазная идеология, отвергающая национальные традиции и национальный суверенитет».
Словом, время было, мягко говоря, невеселое. Но именно в это время я услышал любопытную историю, не имевшую ни малейшего отношения к этому высосанному из пальца позорному мероприятию.
Молодой физиолог, конструктор приборов, приехал в Ленинград, надеясь достать какое-то особенное стекло, обладающее свойствами, необходимыми для его последнего прибора. Это стекло создал несколько лет тому назад старый ученый (фамилию я забыл, скажем, Часовщиков). Оно никому не пригодилось, Часовщиков напечатал о нем несколько строк в научном журнале, и оно было забыто.
Но молодой физиолог приехал в Ленинград не только за этим стеклом. Он никогда не был в Ленинграде, а между тем нежно любил его. Он изучил его историю, он прочел о нем все, что было и не только по-русски.
И долгожданная командировка не сложилась. Чтобы получить это стекло Часовщикова, он должен был примирить двух его учеников, поссорившихся далеко не случайно — один предал другого. И, разумеется, примирить их не удалось. А увидеть Ленинград тоже не удалось — два дня он безотрывно занимался добыванием стекла, а на третий, последний, день Ленинград предстал перед ним как за толстым, запотевшим стеклом — в моросящем дожде и тумане.
Сначала я решил рассказать эту историю в форме небольшого рассказа. Но сквозь волшебное стекло Часовщикова мне почудились смутные, но соблазнительные очертания моего любимого жанра — сказки.
Я написал ее в два дня. Это была очень веселая работа, чем-то напомнившая, как это ни странно, новеллы «Декамерона» как известно, они рассказываются во время чумы.
Вот эта сказка.
1
Петя Углов, молодой ученый, приехавший в Ленинград, чтобы получить вечный лед, без которого, как это недавно выяснилось, он не мог закончить свой аппарат, целый час в ожидании директора бродил по Институту Вьюг и Метелей. Он узнавал много интересного. Вечный лед есть и никому не нужен, но выдать его нельзя, разве заимообразно. Впрочем, заимообразно тоже нельзя, потому что московский вечный лед на десять тысяч лет моложе ленинградского, и менять никто не захочет. Просить нужно не меньше килограмма, иначе не оформит бухгалтерия. Директор Института Евлахов — душа-человек, но со странностями: летом зол и меланхоличен, зимой свеж и болтлив, любит холод и всегда удивляется, что сотрудники предпочитают отдыхать летом.
Институт был прекрасный, недавно построенный, с просторными коридорами, переходящими в маленькие залы, где можно было посидеть, покурить. Залы особенно понравились Пете, у которого это занятие — думать и курить — всегда занимало в жизни немалое место. Из окон был виден пляж под Петропавловской крепостью, и, когда секретарша сказала: «Зайдите попозже», Петя решил искупаться. Это тоже было одно из любимых занятий.
2
После хлопот в Институте, где все были заняты делом, ему показалось странным увидеть сразу так много голых людей, лежавших или бродивших по пляжу. Петя разделся, нырнул чуть ли не до середины Невы, а потом долго лежал на спине, наслаждаясь прохладой. Наконец, он вылез на берег и сел, обхватив руками колени. Голенькая девочка лет четырех играла недалеко от него — сделала печку из песка и сажала в нее куличи. Он подсел к ней и тоже сделал большой красивый кулич.
— Как тебя зовут?
— Надя. А тебя?
— Петя. А где твоя мама?
По-видимому, маме было запрещено солнце, потому что она сидела под китайским зонтиком, с книгой на коленях, в светло-желтом платье, лежавшем ровным кругом на песке, точно она сперва покружилась, а потом села, как бы это сделала девочка, надевшая длинное платье.
Это и было первое впечатление: два светлых круга — зонтика и платья и тонкие руки с книгой, опустившиеся на колени. Потом он увидел ее лицо, задумавшееся, с нежным овалом, приятное, но обыкновенное, как ему показалось.
— Это не мама.
— А кто же?
Соседка. Она под зонтиком, но не потому что больна. Просто она Снегурочка и боится растаять. Она бы давно растаяла, но Наденьку не с кем оставить. Впрочем, мама приезжает на днях.
Больше они не стали печь куличи, а построили дом с настоящей дверью из спичечного коробка, которая открывалась и закрывалась. В таком доме мог жить кто угодно, даже мышка-норушка, но они поселили туда двух человечков, тоже из спичек, а третий, с длинным носом, устроился на крыше.
Снегурочка иногда отрывалась от книги и смотрела на них, и тогда Петя начинал говорить с Наденькой, волнуясь и слыша свой неестественный голос. Он бы давно подошел, но эти трусики! И главное, эти ноги — голенастые, как у страуса, с некрасиво отогнутыми большими пальцами и длинными — он носил сорок шестой номер — ступнями! Наконец, решился.
— Извините, мы не знакомы. Но Наденька сказала мне, что вы… Я прежде никогда не видел, только в театре. Она говорит… Не знаю, это очень странно… будто вы можете растаять…
— Да. А почему вам кажется это странным?
Она была беленькая, а ресницы черные, и каждый раз, когда она взмахивала ими, у Пети — ух! — куда-то с размаху ухало сердце.
— Но неужели ничего нельзя сделать?
— Едва ли. Вообще, если бы не Доброхотовы — это Наденькины родители — я бы давно растаяла. Они уехали, а Наденьку взять с собой почему-то было неудобно. Вот они и попросили. Но, знаете, как это было трудно!
— Кого же они попросили?
— Деда Мороза.
— Здравствуйте! — смеясь сказал Петя. — Это еще что за личность?
— А это очень почтенная личность. Он сейчас директор Института Вьюг и Метелей. Или, кажется, заместитель директора по научной части.
— Как его фамилия?
— Евлахов.
— Николай Остапыч?
— Да.
— Так это он разрешил?
— Да. Но только до августа.
— Как до августа? Значит, осталось только четыре дня?
— Разве? Ах да.
Она печально взглянула на него, и у Пети снова взлетело, а потом — ух! — с размаху ухнуло сердце.
3
Евлахов, плотный, с седеющей бородой, с крепким бесформенным носом между розовых щек, встретил его, бесцеремонно подняв навстречу руку с растопыренными короткими пальцами. Это значило — пять минут, больше он, к сожалению, уделить не может.
— Да, очень интересно, желаю успеха, — выслушав Петю, сказал он. — Но этими делами у нас занимается Отдел Ледников. Вы там были?
Петя ответил, что был и что оттуда его направили в Отдел Ледников и Льдинок, а там сообщили, что без директора нельзя выдать ни грамма.
Евлахов пожал плечами.
— Ладно, давайте ваше заявление сюда, — сказал он, быть может, почувствовав железную хватку в этом молодом человеке, уставившемся на него упрямыми детскими глазами. «Выдать» — написал он и вернул Пете заявление. — Честь имею.
Но Петя сделал вид, что не понимает этого старомодного выражения.
— Николай Остапыч, извините, у меня к вам еще одно дело. — Он рассказал о Снегурочке. — В сущности, речь идет только о продлении срока. Ну, скажем, до осени.
Евлахов усмехнулся:
— Знаем мы эти продления: сперва до осени, потом до зимы, а зимой… Не могу.
— Николай Остапыч!
— Послушайте, хотите вы выслушать совет старого человека? Не связывайтесь! У нее нет ни паспорта, ни свидетельства о рождении. Она числится давно растаявшей, и то, что она сидит где-то на пляже под солнцем — вообще бессмыслица, противоречащая всем законам природы. И потом, вы кто, кандидат?
— Да.
— Вот видите, — сказал Евлахов. — А она? Сейчас она Снегурочка и мила, пройдет полгода и она превратится в самую обыкновенную снежную бабу.
— Николай Остапыч! — Петя приготовился долго говорить.
— Не могу, — Евлахов позвонил, вошла секретарша. — Проводите товарища. Не могу.
4
Еще утром, до Института, он съездил на Васильевский, в Мастерскую Искусственных Снежных Обвалов, и там ему показали одну интересную штуку. Теперь, вернувшись в гостиницу, он принялся чертить ее на папиросной коробке. Что, если этой штукой в его аппарате можно заменить другую, более сложную штуку? В два часа ночи он скомкал чертежик: нельзя. И он вытянулся между простынями, убедившись с удовольствием, что кровать достаточно длинна, и его ноги, следовательно, не будут торчать между прутьями, как это нередко случалось.
Всегда он засыпал, очень быстро. Для этого нужно было только перестать думать и начать вспоминать. Но сейчас, когда он начал вспоминать, девушка под китайским зонтиком появилась перед ним, как будто только и дожидалась, когда Петя ляжет и закроет глаза. Она сидела, опустив книгу на колени, и солнце, от которого она заслонилась, все-таки золотило волосы, разделенные нежной полоской пробора.
Петя был холост, хотя и полагал, что жениться, по-видимому, необходимо. Но ему казалось, что жена изменит весь уклад его жизни. Уклада никакого не было, а была полупустая комната, а в ней горы разного происхождения и назначения: горы окурков, горы книг на полу, на окне, на диване, горы грязного белья, над которыми Петя скорбно задумывался раз в полгода. Уклад фактически заключался в том, что, придя с работы, Петя укладывался на диван, курил и думал. Но как раз это, быть может, и не понравилось бы жене, которая могла заговорить с ним или даже потащить куда-нибудь в гости. Думая о женитьбе, он всегда жалел себя, что вообще случалось с ним очень редко. Но на этот раз он пожалел не себя, а Снегурочку, которая, по-видимому, должна была все-таки растаять. Ему стало жарко от этой мысли; он взволновался и уснул, как всегда, когда начинал волноваться.
И вот тут случилось то, что все равно случилось бы, даже если бы он не уснул: по радио сообщили, что завтра над Ленинградом в таком-то часу пронесется шквал силой в столько-то баллов. О шквалах обычно не сообщают по радио, а тут не только сообщили, но даже посоветовали: птицам сидеть по гнездам, а ночным сторожам привязать к ногам что-нибудь тяжелое, потому что они, как известно, не могут уйти с поста даже в самую плохую погоду.
5
Выспавшись, он с утра поехал за вечным льдом и заодно — в Мастерскую Снежных Обвалов — поговорить о своем аппарате. Заведующий был занят на производственном совещании, но Петя не потерял времени даром. Чертежик был разглажен на колене, и оказалось, что он все-таки может пригодиться, но не Пете, а как раз заведующему, довольно мрачному парню, тоже строившему прибор, причем, кажется, без благословения начальства. Фамилия его была Туманов. Он долго слушал Петю с недоверием и вдруг просиял, оказавшись очень симпатичным со своей, слегка скошенной, квадратной физиономией.
— Вот это да! — сказал он с восхищением и сразу же стал совать в чертежик какие-то кривули, которые должны были довести до конца Петину мысль. — Спасибо. Послушайте, а с чего это вы?
— Да просто так, — сказал Петя, — Я подумал, что вам пригодится.
— Пригодится! Да ведь вы же, как дважды два, доказали, что мы запутались в ерунде. Теперь все решено! И как просто! Главное, старик — вот кто будет в восторге!
— Какой старик?
— Евлахов. Это его работа. То есть моя, но все равно как бы его. Он мой научный руководитель.
— Дед Мороз?
— Ну да. Что с вами? Вы побледнели.
— Это потому, что мне захотелось спать. Мне всегда хочется спать, когда я волнуюсь.
— Почему вы волнуетесь?
— Потому что…
И Петя рассказал о Снегурочке,
— Подпишет, — решительно скосив челюсть, заявил Туманов.
— Вы думаете?
— Уверен. Он же не знает, что вы гений.
— Ну вот еще!
— Без шуток. Черт побери, какая красота! — сказал он, снова уткнувшись в чертежик. — Поехали!
— Куда?
— К деду. Беру на себя! Подпишет!
6
Он не дал Пете зайти к Евлахову и действительно через несколько минут вернулся от него с подписанным приказом. Вот он:
«Пункт 1. Приказываю с 26 сего июля 1958 г., — было напечатано большими красивыми буквами, чем-то напоминавшими снежные кристаллы, — считать Снегурочку, сидящую под китайским зонтиком на пляже у Петропавловской крепости, самой обыкновенной гражданкой женского пола, без особых примет.
Пункт 2. Анкетные данные: имя, отчество, фамилия — Снежкова Лина Николаевна. Время и место рождения неизвестно. Социальное положение — служащая. Отношение к воинской повинности — не подлежит».
Подписи и М. П. — место печати.
— А почему Снежкова?
— Их всех выписывают Снежковыми. Ну, как еще? Снегурочкина? Если вам не нравится, переделаем. Но ведь она все равно за вас выйдет замуж. Будет Углова.
— А если не выйдет?
— Разве еще не согласовано?
Петя покраснел.
— Не совсем.
— Какая разница? Останется Снежковой.
— А почему служащая?
— Поправим, если хотите. Домхоз?
— Нет уж, пускай служащая. А почему Лина?
— Это я виноват, — немного смутившись, сказал Туманов. — У меня дочка Лина. А отчество — евлаховское, как обычно, Николаевна. Они же, в сущности, все его дети. Другое нехорошо.
— А именно?
— Долго объяснять. Пошли к секретарю. Он — слепой, и, может быть, не заметит.
Но секретарь, даром что в снеговых очках, оказался не такой уж слепой, потому что, прочитав приказ, вернул его Туманову, свирепо сказав:
— Не выйдет.
— Почему? Ведь Николай Остапыч подписал?
— Да. Очевидно, забыл, что снежные деревья давно отцвели.
— Вы имеете в виду Снежную Красавицу? Симфориканус рацемозус?
— Да.
— Ничего не понимаю, объясните, — попросил Петя.
— Да что там, формалисты проклятые, — отведя его в сторону, проворчал Туманов. — Вы понимаете, к таким приказам вместо печати прикалывается веточка снежного дерева, а сейчас конец июля, и оно отцвело. Послушайте, а может быть, его можно нарисовать? — повернувшись к секретарю, сказал он. — У меня один парень рисует в Мастерской, что твой Репин. Как живое будет! Сам дьявол не отличит!
— Дьявол — может быть, а вот милиция отличит. Вы же на основании этого приказа будете паспорт хлопотать?
— Будем.
— Ну вот. — Секретарь снял очки, зажмурился от света и поманил Туманова пальцем. Без очков он не казался свирепым. — Попробуйте наведаться к Башлыкову, — тихо сказал он. — Он всю жизнь возится со Снежными Красавицами. Может быть, он вам поможет.
— Какой Башлыков?
— Из Отдела Узоров на Зеркальном Стекле.
— Он же на пенсии?
— Вот об этом с ним как раз говорить не следует. А то вы можете получить не снежное, а фиговое дерево, — смеясь, сказал секретарь.
— Понятно, — сказал Туманов. — Спасибо. Пошли.
7
Можно было ожидать, что в саду Башлыкова из Отдела Узоров снежные деревья стоят рядами, поднимая свои крупные белые чашечки среди вырезанных зубчатых листьев. Петя не удивился бы, увидев в этом саду снежных коз, гуляющих по дорожкам, усыпанным снежной крупой. Ничуть не бывало! В самом обыкновенном палисаднике их встретил старичок с сиреневой сливой-носом. Уже по этому носу видно было, что с ним лучше не говорить о пенсии. Он усадил их, разлил холодное пиво, достал телятину и стал рассказывать, как он превосходно живет. Времени сколько угодно, и он даже стал учиться на виолончели, потому что это инструмент, на котором можно, почти не умея играть, тем не менее играть очень прилично. Языки его тоже интересуют, особенно китайский, который, говорят, по упрощенному методу можно изучить в две недели.
Незаметно было, что он хотя бы в малой степени интересуется, зачем к нему зашли молодые люди, и Петя, ненавидевший неопределенные разговоры, послал Туманову тоскливо-вопросительный взгляд. Наконец, добрались до дела. Башлыков выслушал, но как бы невнимательно, с оттенком иронии, заметно усилившейся, когда Туманов упомянул, между прочим, что без него, Башлыкова, совершенно запутались среди снежных узоров на зеркальном стекле.
— Н-да. Для снежного дерева, конечно, поздновато, — сказал он. — Но, как говорится, будем посмотреть. — Он поднял вверх сухонький палец и повторил хвастливо: — Да-с, будем посмотреть.
И, выйдя в соседнюю комнату, он вернулся через несколько минут с веточкой снежного дерева. Это было самое обыкновенное симфориканус рацемозус, но ведь когда смотришь на снежное дерево, всегда кажется, что оно может расти только в сказках. Академик Глазенап, например, давно доказал, что оно как две капли воды похоже на невесту в подвенечном уборе. Но еще больше оно похоже на невесту, которая наклонилась, чтобы заколоть свой подвенечный убор, и выпрямилась, блестя глазами и раскрасневшись. Раскрывающиеся трубочки цветка осторожно откидываются назад, а розовые пестики покрыты одним из самых изящных узоров, вышитых Дедом Морозом в незапамятные времена.
— Вот-с, — сказал Башлыков с гордостью. — Какова?
Петя сказал, что красивее этой веточки он ничего в жизни не видел.
— Да-с, притом единственная. Вам повезло! И не только единственная. Последняя в Советском Союзе.
8
Это было впервые в жизни — перебежать улицу с сильно бьющимся сердцем и, ринувшись наискосок через пляж, радостно вздохнуть, увидев вдалеке крутящийся китайский зонтик.
Осторожно держа перед собой приказ с приколотой к нему веточкой, широко улыбаясь, Петя подошел к Снегурочке и…
И вот тут случилось то, о чем накануне сообщили по радио и что все равно случилось бы, даже если бы по радио ничего не сообщили: налетел шквал.
В пригородах он сорвал восемнадцать крыш, хотя на четырнадцать из них были предусмотрительно навалены кирпичи, старые железные кровати и прочая рухлядь. В Торфяном он забросил на колокольню двух козочек, которые очень удивились, увидев свой поселок с высоты, — им всегда казалось, что они живут в одном из самых красивых мест на земном шаре. Он сорвал вывеску с пивного зала на улице Гоголя и перенес ее на сберкассу, так что всем, идущим в пивной зал, захотелось положить свой сбережения на книжку, а всем, идущим в сберкассу, захотелось выпить.
Но, конечно, самое недопустимое заключалось в том, что он вырвал из Петиных рук приказ, а из рук Снегурочки китайский зонтик. Приказ он отправил в небо над шпилем Петропавловской крепости, а зонтик — тоже в небо, но над шпилем Адмиралтейства. Трудно сказать, что было страшнее для Снегурочки, а стало быть, и для Пети. Правда, веточка была теперь приколота к приказу, но ведь он еще не был вручен! Без зонтика она еще могла растаять!
Очевидно, не было другого выхода, как взлететь, и Петя взлетел — вот когда ему пригодились длинные ноги! Это был так называемый тройной прыжок. Но такому тройному прыжку позавидовал бы сам Олег Ряховский, который недавно в матче СССР — Америка побил мировой рекорд в этом виде легкой атлетики.
Прыжок был: пляж, крыша Эрмитажа, шпиль Адмиралтейства. Здесь был пойман за ручку зонтик. На обратном пути, действуя им, как управляемым парашютом, Петя подхватил приказ, чуть не угодивший в миску с окрошкой, которую ел какой-то голландец в ресторане на крыше «Европейской».
Взволнованный, поправляя сбившийся на сторону галстук, Петя вернулся к Снегурочке, она прочла приказ и заплакала — конечно, от радости. Как известно, у людей слезы соленые, а у снегурочек — пресные, вкуса талой весенней воды. Но она плакала, и слезы становились все солоней. Петя обнял ее — очевидно, прыжок придал ему смелости — и на своих губах почувствовал вкус этих слез. Он был талантлив, умен; его считали надеждой науки. Но даже если бы он не был надеждой науки, все равно он догадался бы, что если слезы становятся солонее, значит, Снегурочка постепенно превращается в самую обыкновенную гражданку женского пола, без особых примет.
9
На следующий день они отправились в Парголово, где у родителей невесты был свой маленький домик. Дети выросли, разъехались, и нет ничего удивительного в том, что старику пришла в голову счастливая мысль вылепить дочку из снега. Нехорошо было бы уехать в Москву, не простившись с ними! Но в Парголово необходимо было съездить и по другой причине. Без свидетельства о рождении трудно получить паспорт, а без паспорта невозможно прописаться, тем более в Москве. У Снегурочки не было этого свидетельства. Между тем в Парголове нашлись свидетели, которые могли удостоверить, что в таком-то году, такого-то числа, в таком-то дворе она была действительно вылеплена и действительно из снега. Это были мальчишки, игравшие в тот день в снежки во дворе.
…Нужно было еще поездить по магазинам лабораторного оборудования, а в Институте отметить командировку.
Наденькину маму нужно было встретить, а она вернулась с Брюссельской выставки и только о дамских платьях рассказывала минут сорок. К Туманову просто необходимо было заглянуть хоть на десять минут, поблагодарить и проститься. Башлыкову нужно было оставить что-нибудь на память, а ведь это очень трудно — купить подарок мужчине, изучающему китайский язык и прилично играющему на виолончели.
Словом, Петя был еле жив, когда в половине первого ночи он полез на верхнюю полку в «Стреле», стараясь не задеть длинными ногами соседей. На нижней, положив ладонь под щеку, спала Снегурочка, опустив нежные темные овалы ресниц.
В вагоне было жарко, и, свесив голову с полки, Петя время от времени посматривал на нее с беспокойством. Приказ приказом, а остерегаться все-таки не мешает. Не растаяла бы! Он не выдержал, слез и осторожно погладил ее тонкие руки. Но руки были теплые и даже — или Пете показалось — слабо пожали его широкие, здоровенные лапы.
«Может, все-таки на север податься? — подумал он, вернувшись, и натягивая на себя одеяло. — Отказался, дурак, когда меня в Новосибирск приглашали. Ну и что ж, а теперь соглашусь… Холодильник купим, — думал он, засыпая. — В город Снежное будем ездить, Снежнянского района. Летом на снежные вершины полезем. У меня второй разряд по туризму есть? Есть. Снегирей купим. Хотя снегири тут, кажется, ни при чем. Все равно, ей будет приятно».
Колеса стучали успокоительно, весело и тоже все про снегирей, снегопады, город Снежное, снежных коз, живущих на снежных вершинах…
Прочитав эту сказку, Эммануил Генрихович Казакевич неожиданно оценил ее в свете кампании против космополитизма.
— Отлично! — сказал он с веселым злорадством. — Пускай они узнают, что вам плевать на их вонючую кампанию.
— Но я не собираюсь ее печатать. Это ведь просто шутка.
— Напрасно. Я бы напечатал.
Я рассказал ему, что наш друг Николай Леонидович Степанов, возвращаясь домой с заседания в Институте мировой литературы, еще с порога кричит жене:
— В ванну! Скорее в ванну. Я весь в дерьме.
Он пользовался другим, более выразительным словом.
Прошло несколько лет, и я, взглянув на историю стекла Часовщикова с другой, реалистической точки зрения, написал рассказ «Кусок стекла». Фамилии я оставил, а фигурой оставшейся жить Снегурочки воспользовался для новой сказки «Легкие шаги».
«Новый мир» принял рассказ «Кусок стекла» к печати. И Твардовский, которому очень понравился рассказ, позвонил мне:
— Пишите больше, как говорят молодым.
4/II—88Вениамин Каверин: «Оставаться верным себе…»
С писателем Вениамином Кавериным беседует журналист Юрий ЖвиташвилиЭтот долгий диалог с известным советским писателем, лауреатом Государственной премии СССР Вениамином Александровичем Кавериным, начавшийся в Ленинграде во время проведения всесоюзной творческой конференции «Великий Октябрь: социалистический интернационализм, советский патриотизм и современная литература», завершился в подмосковном Переделкине, в городке писателей, где многие годы живет и работает писатель. Еще не так давно, несколько лет назад, на тихих улицах Переделкина можно было встретить Чуковского, Шагинян, Шкловского, казалось, вчера Катаева… Да, годы неумолимо бегут, и с каждым из них редеют ряды старейшин, замечательных мастеров советской литературы. Знакомый с юношеских лет по романам «Два капитана», «Открытая книга», «Перед зеркалом» и другим произведениям, Вениамин Каверин родился в 1902 году. Первая книга писателя «Мастера и подмастерья» вышла в Петрограде в 1923 году, когда автору исполнился двадцать один год. С тех пор, за более чем шестидесятилетнюю литературную жизнь Каверин опубликовал десятки романов, повестей, рассказов, новелл, эссе и пьес — широко известных читателям нашей страны и рубежом. В 1983 году вышло восьмитомное собрание его сочинений.
Каверин — живая история нашей литературы и сегодня много и плодотворно работает. Совсем недавно писатель завершил новую повесть «Силуэт на стекле», пишет роман и готовятся к выходу две новые книги «Литератор» и «Оглядываясь назад».
В те дни в Переделкине стояла настоящая зима. Реликтовый лес был занесен плотной шапкой чистого снега. Несколько часов мы беседовали с Вениамином Александровичем за чашкой чая, по традиции в его уютном кабинете. Говорили о многом: литературе, исторической памяти, прошлом и будущем, современной молодежи, о тех важных преобразованиях, которые происходят в нашей стране…
— Вениамин Александрович, ваши произведения не раз вторгались в реальную жизнь: многие читатели видели в их сюжетах отражение собственной судьбы, а иные сознательно строили свою биографию, ориентируясь на полюбившихся им героев. Ваше творчество всегда исполнено внутреннего оптимизма, равной веры в человека, в силу правды жизни и в силу правды литературы. Каких принципов вы придерживались в жизни?
— Всю мою долгую жизнь я придерживаюсь очень простых правил: быть честным, не притворяться, стараться говорить правду и оставаться самим собой в самых сложных обстоятельствах. Эти принципы я и пытался претворить в своих произведениях, в характерах моих героев. Истины эти просты, но сделать так, чтобы они тронули сердца современных читателей, — непростая задача.
— Как вы работаете? Расскажите о своем обычном дне.
— Встаю рано, в восемь утра принимаю холодный душ. После завтрака обычно работаю 3–4 часа, пишу всю жизнь от руки. Потом, после обязательной прогулки по лесу в Переделкине, обедаю и ложусь отдыхать, почти всегда с интересной книгой в руках. Без отдыха беспрерывно работать невозможно — устаю, тем более теперь. После отдыха снова ненадолго ухожу в лес, на воздух, а потом готовлюсь к следующему дню: вот тут начинается чтение, которое непосредственно связано с предстоящей работой.
Работа писателя длится беспрерывно, уйти от размышлений трудно, они возвращаются к тебе даже ночью, просыпаешься, вскакиваешь, чтобы записать пришедшую неожиданно фразу или какое-нибудь соображение, которое упустил в часы дневной работы. В этом смысле ночь продолжает день.
Оставаться наедине с самим собой трудно. Дело в том, что писатель почти никогда не остается наедине с собой — с ним всегда тот, кого Твардовский метко назвал «внутренним редактором».
— Однажды об одном из своих друзей-писателей вы сказали, что он всю жизнь страшился, что работает не в полную силу. Очевидно, и вам хорошо знакомо это чувство?
— Да, это так. Вот уже более шести десятилетий стараюсь работать в полную силу. Думаю, только тот, кто работает много, и может научиться работать в полную силу. Работая мало, многого не успеешь, многое упустишь из виду. Не узнаешь, на что способен.
Знаете, в молодости я был честолюбив и иногда корил себя за это. Но и в ту пору трезво взвешивал свои возможности, свои способности. Я не считал себя выдающимся талантом. Перед глазами был пример таких писателей, как Тынянов и Булгаков. Я никогда не смел и не смею равнять себя с ними. Это сказалось и в моей манере работать. Пишу всю жизнь трудно, медленно. Вероятно, под влиянием собственной практики у меня возникло убеждение: все, что пишется легко, почти всегда не удается.
Тынянов в течение полутора месяцев написал «Кюхлю», Стендаль за два месяца продиктовал «Пармский монастырь». Фантастика! Мои черновики занимают громадные полки, и это при том, что я переписываю свои работы не по восемь раз, как советовал Гоголь, а всего по три-четыре. Исправляю всю жизнь. «Два капитана» писались более пяти лет, а над «Открытой книгой» я работал без малого десятилетие… Правда, в то время мне очень мешали.
— Несколько лет назад в одном из своих писем Жорж Сименон писал мне, что старается как можно быстрее, в считанные недели, дописать роман, иначе его герои сведут его с ума. Как же вам удается долгое время уживаться с героями будущей книги?
— Я никогда не тороплюсь… Многолетний опыт помогает мне не спешить. Я даю моим героям пожить во мне, а себе даю пожить их жизнью. Думаю, что если не жить жизнью своих героев, характер не получится живым, близким реальному.
Виктор Шкловский как-то заметил, что в разгаре работы сама вещь начинает диктовать писателю, как ее писать. Это точно и умно. Каждый писатель, который по-настоящему трудится над книгой, всегда испытывает великое чувство художника — радость творчества и поиска. Литература — это дело всей жизни взявшегося за перо, а не дело его заработка или карьеры. Литература — это гражданский подвиг писателя.
— Вениамин Александрович, ваш роман «Два капитана» — любимая книга многих поколений, полна тайн и очарования. Еще в 1939 году только что напечатанная в журнале «Костер» первая часть романа была замечена читателями, удивила своим необычным сюжетом, сильными характерами, верой в справедливость добра, вызвала оживленную, порой догматическую полемику критиков. Девиз героя романа Сани Григорьева: «Бороться и искать, найти и не сдаваться» — всколыхнул тысячи молодых людей, побудил их энергичнее искать свое место в жизни и до сих пор вдохновляет многих и многих на поиск. Расскажите, пожалуйста, когда возникла идея романа?
— Роман «Два капитана» основан на рассказах известного генетика Михаила Ефимовича Лобашева. Я встретил его незадолго до войны. Шесть вечеров ученый рассказывал мне свою биографию. В первой части она мало чем отличалась от той, которую я воспроизвел в романе. Лобашев, как и мой Григорьев, рано остался сиротой, страдал немотой и считал, что его болезнь неизлечима, беспризорничал в детстве, также был влюблен в дочь педагога.
Но тогда меня увлекла даже не удивительная история жизни мальчика-беспризорника, ставшего доктором наук, а скорее та горячность и упорство, с которыми молодой ученый отстаивал научные убеждения. Ему пришлось выдержать тяжелейшую борьбу за свои открытия. В столкновениях с противниками и сформировался его девиз: «Бороться и искать, найти и не сдаваться» (Альфред Теннисон, английский поэт XIX в. — Ю. Ж.).
Первую книгу романа я написал за три месяца и предложил одному из журналов. В ответ получил отказ! История молодого ученого оставалась в романе не более чем историей. Слишком скучной она получилась. Может, потому, что я не сумел основательно разобраться в профессиональных проблемах, которые волновали моего героя.
Тогда пришло решение выстроить сюжетные линии на другом фоне, более мне близком и понятном. Я выбрал Арктику, ведь тогда на глазах моего поколения развертывалось освоение этого региона. Меня интересовали подробности похода «Челюскина», легендарного дрейфа четверки папанинцев, сверхдальных перелетов Чкалова. Будучи военкором газеты «Известия» на Крайнем Севере, я ближе узнал нелегкую службу военных моряков и полярных летчиков и решил использовать этот материал для второй книги романа. Последние страницы «Двух капитанов» дописывались в госпиталях. Полностью роман был завершен в 1945 году.
— …И через год вам за роман была присуждена Государственная премия. А был ли у Сани Григорьева реальный прототип?
— Знаете, мне всегда нравились люди с твердым характером, с ясно поставленной жизненной целью. Такие люди у меня с детства были перед глазами.
Капитан Григорьев «начался» с моей встречи с одним горячим молодым человеком в санатории под Ленинградом, где я отдыхал в 1936 году. «Вы знаете, кем бы я стал, если бы не революция? Разбойником!» — мне часто вспоминались потом эти слова моего собеседника. Увидеть мир глазами юноши, потрясенного идеей справедливости, — эта задача представилась мне во всем ее значении. Я понял, что тихая жизнь провинциального городка тридцатых годов, озаренная светом арктических звезд, заключает в себе нечто большее, чем только сцены из частной жизни. Так родился главный герой «Двух капитанов».
В основу же фигуры Татаринова и истории его дрейфа были положены трагические судьбы двух реальных полярных исследователей. Для личности капитана я взял многое из образа Георгия Яковлевича Седова, а для рассказа о дрейфе «Св. Марии» — материалы дрейфа лейтенанта Георгия Львовича Брусилова на «Св. Анне».
— В своих книгах, статьях, письмах вы постоянно возвращаетесь к мыслям о достоинстве человека, порядочности, совестливости. Как вы формулируете эти понятия? Какие качества цените в людях?
— Мне кажется, что понятие «достоинство человека» неотделимо от таких нравственных ценностей, как порядочность, искренность, презрение к обману, верность слову. Человек, в котором развито чувство собственного достоинства, прежде всего живет по правде и правды требует. Поступки, из которых складывается его жизнь, честны и искренни. Сегодня, в характерном для нашего времени стремлении воздать должное достоинству человека, мы призваны прежде всего воздать должное правде.
В людях выше всего ценю мужество и доброту. Думаю, сочетание этих черт и делает человека порядочным. Эти два качества должны определять его нравственную гражданскую позицию.
Уверен — для человека совершенно незаменимо умение видеть себя со стороны, умение поставить себя в положение другого, научиться как бы отстраняться от себя с тем, чтобы в критических ситуациях жизни оказаться самому себе строгим и беспристрастным судьей своему делу, слову, поведению.
— Вениамин Александрович, некоторые ваши повести — «Школьный Спектакль», особенно последние — «Загадка» и «Разгадка» — посвящены проблемам воспитания молодежи. Какую роль в процессе формирования личности вы отводите семье?
— Я часто задумываюсь над тем, чем отличается современная молодежь от своих ровесников 20—30-х годов. И удивляюсь: откуда берется у иных подростков и юношей черствость и циничное равнодушие, высокомерие, а то и невежество и ханжество? На эти вопросы я попытался ответить в этих повестях.
На мой взгляд, не все подростки получают в наши дни в семье и школе должное нравственное воспитание. Беда начинается с детства. Родители много заняты на работе, на домашнее же воспитание часто не хватает времени, а ведь благоприятная семейная атмосфера для подрастающего человека бесценна. К сожалению, она часто отсутствует. Благополучная семья, которая чтит традиции своих предков, — залог нормального развития целого поколения. Не следует никогда забывать: хорошие дети — наша радость и гордость, плохие — это возмездие за наши ошибки воспитания. И школа именно в этом случае должна и обязана играть особую роль, но часто она ее не играет.
Знаете, старая гимназия, хотя и имела ряд серьезных недостатков, тем не менее давала образование несравненно более высокое, чем современная школа. Чем объяснить этот парадокс? Тем, что нас учили более подготовленные преподаватели, отлично знающие свое дело. Не было Академии педагогических наук, не было бесконечных, каждые пять лет, перемен в системе школьного преподавания, которые не дают возможности упрочить славные школьные традиции.
Хороший учитель, на мой взгляд, должен понимать ученика как человека прежде всего, потом уже как подчиненное ему лицо, судьба которого в определенном смысле зависит от него. Незнание учеников, непонимание их, психологическая глухота — это большое зло. Надо постараться, чтобы учителя были людьми не просто с высшим образованием, но и интеллигентами в истинном значении этого слова. Настоящий педагог, любящий и глубоко знающий свой предмет может дать школьнику то, что он не всегда получает в семье: научить широко мыслить, показать историческое значение прошлого, привить интерес и любовь к своему предмету, искусству, наконец любовь к Родине. Я знал таких учителей — ялтинских педагогов Саньковых.
Надеюсь, нынешняя школьная реформа в этом смысле должна изменить существующее положение. Ее цели совпадают с давнишними моими взглядами на необходимость воспитания у юношества долга, чести и мужества. Я однажды писал, что нужно ввести еще один предмет — «Совесть». Человек должен быть воспитан с детства на необходимости слышать и говорить правду. И школа должна играть первостепенную роль в этом деле. Я хотел бы, чтобы сегодняшние молодые люди, в которых мы верим и на которых надеемся, были самими собой, чтобы в них победили чувства доброты, совести и правды.
— …Как у вашего героя недавней повести «Летящий почерк»?
— Да, в этой повести я рассказал о юноше, который отказался поступать в институт и нашел свое призвание на производстве. Он по характеру близок своему деду, который во имя любви отказался от собственного благополучия, блестящей карьеры. Мой герой не выдуманный. Несколько лет назад он сам пришел ко мне за литературной консультацией и рассказал о своей судьбе. Сейчас ему тридцать восемь лет, работает слесарем-монтажником и пишет талантливую публицистику.
— Что вы вкладываете в понятие — культурный человек?
— На мой взгляд, бесспорными признаками подлинно культурного, интеллигентного человека являются: умение вести себя с достоинством в любых ситуациях жизни; самосознание, здоровая оценка своих возможностей и умение привести в соответствие с ними свои намерения; умение сохранить профессиональное отношение к делу, которому ты служишь; умение держаться своей нравственной позиции, верить своим нравственным принципам; умение поставить себя на место другого человека; умение поддерживать и сохранять дружбу,
К сожалению, за последние годы это понятие девальвировалось, а должно быть наоборот!
— Карамзин как-то заметил: «История, завет предков потомству, дополнение, изъяснение настоящего и пример будущего». Насколько важно сегодня знание своего исторического прошлого?
— Убежден — движение вперед невозможно без знания прошлого. Надеяться на будущее, не понимая и не ощущая прошлого, — большая ошибка.
Прошлое всегда раскрыто не до конца. Знание истории помогает избежать многих негативных явлений быстротекущей современности. Что греха таить, мы часто забываем об уроках прошлого, оглядываемся на него с опаской. Как легко подчас мы предаем забвению события, имена, обстоятельства — то, что было когда-то частью нашей культуры, символом наших достижений? Мы не задумываемся о том, что любой из нас не случайный гость мироздания, а звено великой непрерывной цепи бытия. И в этом смысле все мы — творцы истории. Да, каждый по-своему, но — каждый! Всем нам, писателям или неписателям, надо обладать историческим взглядом. Мы должны понимать, что над нами — знак истории, что мы не только от нее в зависимости, но и ее творцы. «Вхождение в историю» — это не только знание конкретных событий и имен, но и умение «дела давно минувших дней» осмыслить, понять. Думаю, в этом нашему читателю помогут выход в свет долгожданные собрания сочинений Карамзина («История государства Российского»), Соловьева («История России с древнейших времен») и Ключевского («Курс русской истории»).
Мы должны учиться у прошлого, познавать его. И в этом отношении вы, дорогой Юрий Борисович, как руководитель и создатель всесоюзной комплексной экспедиции «Нево» по пути «из варяг в греки» вместе с единомышленниками и учеными сделали большое патриотическое дело, обратив взгляд многих молодых людей на нашу древнюю историю, на наши корни. Такие историко-патриотические походы надо всегда поощрять, приветствовать, знание истории нашей Родины необходимо каждому культурному человеку — гражданину и патриоту.
— Начиная с автобиографической трилогии «Освещенные окна» (позже — книг «Вечерний день» и «Письменный стол»), в вашем творчестве и в общественной деятельности одним из ключевых слов становится — память…
— Память — это ключ от былого. Иногда этот ключ тяжелее замка. Если прежде я пользовался ключом воображения, то теперь в моих руках другой ключ — память. Я прожил большую жизнь, многое видел, пережил, многих знал. Вспоминая в этих книгах детство и юность, разочарования и успех, друзей и врагов — прожитые годы, я ощущаю необходимость вглядеться в прошлое, понять, что сделано и чего не сделано в жизни. Для людей моего возраста стремительность потока истории особенно ощутима.
— Вениамин Александрович, во многих ваших книгах вы размышляете об ответственности, нравственности и, достоинстве ученого. Если я не ошибаюсь, в «Открытой книге» впервые в художественной литературе один из ваших героев — Дмитрий Львов — на научной конференции выступил с парадоксальной для того времени идеей о вирусной природе злокачественных опухолей…
— Люди науки, с которыми я в жизни много общался и дружил, стали героями многих моих книг по очень простой причине: они вынуждены говорить правду, так как их работа всегда может быть проверена другими исследователями.
В молодости, в Ленинграде, я был близок с Абрамом Федоровичем Иоффе, Николаем Николаевичем Семеновым и другими — они активно участвовали в нашем научно-литературном обществе, созданном в то время при Союзе писателей. Позже, живя в Москве, общался с физиком Петром Леонидовичем Капицей, геологом Александром Леонидовичем Яншиным. Это были не только выдающиеся ученые, но в высшей степени интеллигентные люди, прекрасно разбирающиеся в литературе и искусстве. Они не раз помогали мне — консультировали в сложных вопросах науки.
Прообразом ученого-медика Львова в романе «Открытая книга» стал мой старший брат Лев Александрович Зильбер, академик АМН СССР, известный микробиолог и иммунолог, один из создателей вирусной теории рака. В молодые годы он оказал на меня большое влияние своим целеустремленным характером, широким кругом интересов и друзей, среди которых был Юрий Тынянов, ставший впоследствии моим учителем в литературе и другом. Вообще профессиональная деятельность старшего брата и его коллег послужила материалом для многих моих произведений.
А вот прототипом моей героини Тани Власенковой была создательница первого советского пенициллина профессор Зинаида Виссарионовна Ермольева, с которой мы дружили много лет.
— Перечитывая эти книги, особо выделяешь те мысли и суждения, которые так созвучны сегодняшнему дню: обличающие косность и авантюризм, бюрократизм и приспособленчество в науке. В «Двойном портрете», создавая образ биолога Снегирева, вы имели в виду противоречивую фигуру академика Лысенко и его клан? Сейчас ваш роман во многом перекликается с произведением Владимира Дудинцева — романом «Белые одежды».
— В пору, когда я писал «Двойной портрет» — о деятельности, связанной с ложной теорией академика Лысенко, которая столь драматически преломилась в судьбах честных ученых и в немалой степени извратила развитие отечественной биологии, — рукопись попала к Ю. Тынянову. Он вернул ее мне, сказав, что к явлению, которое требует очень глубокого проникновения, я отнесся поверхностно, описав его так, что скрытым оказалось его главное противоречие.
Дело в том, что в то время мы плохо знали, как же на самом деле обстоят дела, не отдавали себе ясного отчета в подлинной сущности людей типа Лысенко. Не хватало воздуха гласности и демократии. Так незнание или полузнание правды сказалось на моей литературной работе, а это в конечном счете наносит урон профессиональному достоинству писателя. Однако в последнем варианте романа мне, кажется, удалось показать торжество правды над ложью и обманом, торжество доброты и мужества над трусостью и делячеством. Помню, после выхода романа в свет, в 1964 году, Корней Чуковский написал мне: «…Вы показываете на живых и необыкновенно убедительных примерах, какова была та атмосфера, в которой рождались Лепешинские, Лысенко, Презенты и другие…»
В романе «Белые одежды» Дудинцев смело и открыто, а главное убедительно показал, как в условиях трудной борьбы пробивается истина, побеждает сила человеческого духа, торжествует вера в правду и справедливость.
— В годы Великой Отечественной вы были военным корреспондентом. Какими фронтовыми впечатлениями особенно дорожите?
— Мне памятны бои осенью сорок первого года под Ленинградом. Я часто выезжал на фронт, особенно в дивизию ополченцев, державшую оборону под Славянкой. О тех фронтовых поездках написал эссе для журнала «Новый мир».
В те суровые годы подвиги совершались не только на фронте. Проявления героизма каждый день наблюдал и в блокадном Ленинграде. Видел детей, которые в свои двенадцать-четырнадцать лет, пережив гибель родителей, голод, холод, продолжали бороться против смерти, вносили свой вклад в Победу, наравне со взрослыми работали на станках, в госпиталях, находились на огневых позициях. Это об их мужестве я написал в 1942 году рассказ «Самое необходимое». По горячим следам создавались рассказы «Кнопка», «Русский мальчик», «Кукольный мастер» и другие. Всего за годы войны написал тридцать два рассказа, основанных на подлинных фактах.
В Ленинградском отделении ТАСС я пробыл не так долго, сказалась блокада, сильно пошатнулось здоровье, и меня перебросили на Большую землю. Получив месячный отпуск для отдыха, занялся розыском семьи, с которой в начале войны были потеряны всякие связи.
На Северный флот, в Полярный, я приехал военкором «Известий». Здесь я ближе познакомился, а потом и подружился с подводниками и летчиками-торпедоносцами. Эти мужественные, сильные люди и сегодня у меня перед глазами…
— Вероятно, на основе этих впечатлений создавались не только вторая часть «Двух капитанов», но и повесть «Семь пар нечистых», и роман «Наука расставания»?
— Знаете, я долго не писал о том, чему был свидетелем в те годы. Военная тема заняла огромное место в нашей литературе, и мне казалось, что я не сумею сказать свое слово. Прошли годы. Перебирая в памяти события той поры, я как-то вспомнил очень трогательную и трагическую историю любви одного из офицеров-подводников. Я был свидетелем, как встретился он в Полярном с невестой. Они провели вместе всего несколько дней. Потом моряк ушел в поход, по возвращении из которого они хотели расписаться. В Полярном загса не было, поэтому будущие супруги собирались в Мурманск. Но поездку неожиданно пришлось отложить: командование срочно направило командира подводной лодки в новый сложный поход, из которого он не вернулся. Девятнадцатилетняя девушка осталась одна, так и не став женой любимого человека… Эти острые воспоминания были побудительным мотивом для создания романа «Наука расставания».
— Вы прожили в Ленинграде двадцать пять лет. Это были годы студенчества, литературного дебюта, годы обретений и потерь, новаций, обостренного поиска своего слова, манеры выражения. В нашем городе вы сдружились с «Серапионовыми братьями»…
— Знаете… (пауза, писатель задумался) Ленинград всегда был мне дорог и останется как город моей молодости, первой любви и литературного дебюта. В те годы я жил на Греческом проспекте… В городе на Неве получил хорошее историко-литературное образование. В 1923 году, когда в издательстве «Круг» вышла моя первая книга («Мастера и подмастерья»), окончил Институт восточных языков, а годом позже — этнографо-лингвистский факультет университета. В те годы судьба свела меня с Юрием Тыняновым, Виктором Шкловским, Борисом Эйхенбаумом, которые поначалу были моими учителями, а впоследствии стали друзьями и единомышленниками. Не могу не вспомнить маленькую литературную группу «Серапионовы братья», с которой в 1921 году свел меня Шкловский. Ее горячо поддерживал Горький, которому я многим обязан как писатель. Он внимательно и, главное, участливо следил за нашим творческим развитием. Тогда мы собирались в Доме искусств. «Серапионы» — в группу входили Константин Федин, Всеволод Иванов, Николай Тихонов, Михаил Слонимский, Елена Полонская, Лев Лунц, Николай Никитин и Михаил Зощенко — были содружеством молодых литераторов, вернее братством. Это подчеркивалось и в шутливых прозвищах, у меня — «Брат алхимик», и в нашем приветствии: «Здравствуй, брат. Писать очень трудно». Наши братские узы сохранялись годами. О Михаиле Зощенко, своем близком друге, человеке горькой судьбы, преступно оклеветанном в те годы грубыми и несправедливыми выпадами, хочу сказать особо. Я считал и считаю его очень крупным писателем. В годы бессовестных нападок на нас я энергично поддерживал не только Зощенко, но также Даниила Хармса, исчезнувшего навсегда в тридцать седьмом, Николая Олейникова с его тоже трагической судьбой…
В начале тридцатых годов в Ленинграде состоялся мой дебют и как драматурга, мои пьесы «Чертова свадьба», «Актеры», «Большие надежды», «Дом на холме» и другие ставились в ленинградских и московских театрах, но… вскоре я понял, что моя драматургия слабее моей прозы.
— Что вы думаете о современной литературе, ее будущем, о молодых писателях? Не кажется ли вам, что само понятие «литератор» сегодня несколько потускнело?
— На мой взгляд, наша сегодняшняя литература порой оказывается весьма поверхностной по содержанию: она не всегда затрагивает глубокие нравственные проблемы жизни, часто глуха и слепа ко многому, о чем надо кричать, говорить вслух.
Многие писатели берутся за мелкие, легковесные, банальные темы. Многие, что греха таить, научились весьма ловко создавать произведения, в которых читателю преподносится этакая приглаженная полуправда. Профессиональные знания многих наших литераторов очень неглубоки: плохо знают нашу древнюю, а также необычайно богатую литературу XIX века, не говоря уже о зарубежной. Отсюда и недостаточность отражения всей панорамы, всей целостной картины нашей жизни. Сегодня фактов, заслуживающих пристального внимания писателя, очень много. Оставаться к ним равнодушным, безразличным — для литератора непростительная ошибка.
Волнует и то, что в последние годы в литературных кругах притворство, уклонение от правды стали, к сожалению, нередким явлением. Писатели двадцатых годов, к которым я принадлежу, относились друг к другу с любовью, уважением, интересом. Сейчас многие заботятся почему-то о себе, а не о литературе. Скажу больше — иные писатели, художники, музыканты предают свое искусство за положение и карьеру…
— Но ведь об этих негативных явлениях более пяти лет назад на съезде писателей говорил Федор Абрамов, который в открытую сказал тогда об истинном положении дел в Союзе писателей СССР и в стране в целом…
— Да, но к нему тогда не прислушались. Это был крик тонущего в океане равнодушия и беспринципности… А разве это нормально, что иные замечательные правдивые произведения годами оставались недоступными широкому читателю? Спрашивается, почему у нас издаются многотомные собрания второстепенных писателей, но нет до сих пор необходимых собраний Тынянова, Булгакова, Пастернака, Платонова, Ахматовой, Цветаевой… Не пора ли снять грубые, бессовестные, лживые обвинения с Мандельштама, Ахматовой, Зощенко, а с «Серапионовых братьев» — клеймо реакционной группы? Кто будет отрицать, что с «Мастером и Маргаритой» Булгакова свежий воздух ворвался в нашу литературу? Самое пагубное, что наблюдается сегодня в нашей литературе и культуре» — это поверхностность и разобщенность. Мы постепенно теряем те черты духовности, которые существовали в них исторически.
Обо всем этом — теневой стороне нашей литературы, о трудном мучительном ее пути через крутые десятилетия, загубленных судьбах, предательстве, обманутых надеждах я пишу в новой книге «Эпилог». Надеюсь, она будет опубликована. (Вопрос о ее публикации в настоящее время рассматривает журнал «Дружба народов». — Ю. Ж.)
По мере возможности следя за литературным процессом, особенно за молодыми авторами, сделал для себя вывод: многие торопятся писать. А ведь в писательском деле главное — не торопиться, не спешить. Почему же торопятся? Потому что жаждут славы, хотят быть знаменитыми, не задумываясь о том, что слава писателя оплачивается тяжелым постоянным трудом. Именно эта черта в литературе последних лет меня особенно огорчает. Ведь чем стремительнее молодой литератор хочет добиться признания, тем больше пройдет времени, прежде чем он его добьется.
А вообще талантов много. Ко мне часто обращаются начинающие литераторы за советом, и я с удовольствием занимаюсь ими. Никому не отказываю в помощи и горжусь этим. Есть и ученики — молодые прозаики, за творчеством которых внимательно слежу: Нина Катерли, Владимир Савченко, Елена Ованесян.
Сегодня писатель должен с особенной отчетливостью видеть преобразования в нашей жизни. Должен остро чувствовать, что, с его точки зрения, происходит в обществе. Должен пристальнее вглядеться в себя, на основе своего собственного опыта осмыслить выработанную человечеством шкалу нравственных ценностей. Должен ответить на вопросы, которые всегда волновали нашу литературу: как жить, как быть дальше, как найти мужество говорить правду, как бороться со злом и невежеством, как найти выход к добру и справедливости. Литература — зеркало общества, и оно всегда отражает картину жизни, полную размышлений о прошлом и настоящем.
Сегодня каждый человек, писатель или неписатель, должен спросить себя: что ты сделал для страны, общества, государства? Этот вопрос — граница между теми, кто живет и работает для себя, и теми, чья жизнь связана с интересами страны.
Литература и искусство не могут изменить жизнь, но изменить жизнь без их активного вмешательства невозможно. Каждая серьезная книга, обращенная к сердцу, разуму и совести читателя, должна быть активным участником нашей борьбы за лучшее в человеке, за утверждение высоких принципов нравственности, чести, справедливости и благородства. Путь к торжеству правды литературы труден, но мы должны его пройти.
Сегодня мы уже дышим нашим будущим, и мне думается, что есть все основания надеяться, что оно будет счастливым для нашей многострадальной литературы.
— Расскажите, пожалуйста, о ваших пристрастиях и увлечениях, ведь вы, насколько я знаю, много лет занимались спортом?..
— Это верно! В молодости и в зрелом возрасте активно занимался большим теннисом, плаванием, туризмом — любил много путешествовать. Поездил по стране, были многочисленные зарубежные турпоездки… О своих путешествиях, как и вы, я всегда вспоминаю с удовлетворением. Теперь, в старости, занимаюсь только утренней гимнастикой и шахматами.
Очень люблю музыку, без нее не могу. Я сам из музыкальной семьи: отец был военным дирижером, мать окончила Московскую консерваторию. Слушаю в основном классические произведения, особенно люблю Баха. Музыка помогает отдохнуть после работы, помогает думать и размышлять.
У телевизора вечера заканчиваю редко: в старости не хочется бесцельно тратить драгоценное время. Но хорошие, интересные передачи смотрю обязательно. Иногда по вечерам принимаю кого-нибудь из друзей.
Много читаю. Читать я начал с восьмилетнего возраста и остался верен этому пристрастию всю свою жизнь. Чтение помогает в работе, учит многому — мышлению, наблюдательности, новизне взгляда. Не так давно меня поразила повесть Василия Быкова «Знак беды». У этого замечательного писателя, которого считаю одним из лучших сегодня, редкий талант рисовать подвиг как дело естественное для достойного человека. В последнее время запомнились произведения Валентина Распутина, Василия Белова, Даниила Гранина, Виктора Конецкого, Анатолия Рыбакова.
— Вы получаете большую почту. О чем пишут ваши корреспонденты?
— Письма разные: благодарности, исповеди, просьбы о помощи. Во многих из них содержатся отклики на мои произведения. Особенно много писем получил от молодых людей после публикации повестей «Загадка» и «Разгадка». По письмам сужу, как читатели восприняли ту или иную книгу. Было и так, что одна книга осталась вовсе без писем — повесть «Неизвестный друг». Это заставило меня задуматься над причинами неудачи и отказаться от некоторых литературных приемов.
Вообще с письмами у меня связано очень многое. Как-то, несколько лет назад, знакомый профессор принес мне письма малоизвестной талантливой художницы. Они послужили новым поводом для размышлений о живописи, подтолкнули создать образ Лизы Тураевой. Я написал тогда мой лучший, как считаю, роман — «Перед зеркалом».
Во многом на письмах друзей и читателей основаны книги «Вечерний день» («Письма, встречи, портреты»), «Письменный стол», одна из последних повестей «Заветная черта». Книга «Литератор», также основанная на письмах, скоро выходит в издательстве «Советский писатель».
— Думаю, не ошибусь, — с годами ваша проза по-прежнему полна оптимизма, стала более динамичной, молодой…
— Спасибо за комплимент, сударь!.. Меня всю жизнь дразнили, что я неисправимый оптимист. Так оно и есть. Мой друг Илья Эренбург говорил: мы вытащили с тобой счастливый билет в лотерее…
Мой любимый афоризм — слова Пикассо: «Надо потратить много времени, чтобы стать, наконец, молодым».
— Вениамин Александрович, что бы вы хотели пожелать читателям журнала «Аврора»?
Каверин берет ручку и пишет:
Молодым читателям журнала «Аврора». Желаю вам, дорогие друзья, оставаться верными себе в самых тяжелых и рискованных обстоятельствах жизни. Желаю вам научиться ставить себя на место другого — друга или врага — человека, которого вы любите или которого ненавидите. Желаю вам заслуженного, а не упавшего с неба счастья. Желаю вам прожить, смело отражая любые удары судьбы. Будьте мужественны — это поможет вам пережить потери, неизбежные для всех, кто не отступая, твердым шагом идет по намеченному пути.




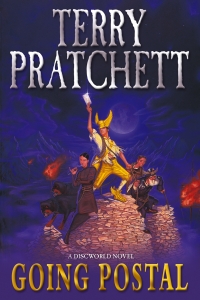
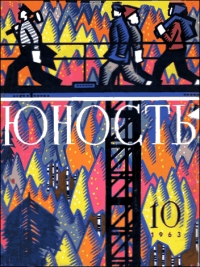

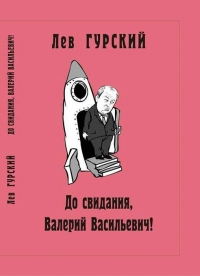

Комментарии к книге «Снегурочка и космополитизм», Вениамин Александрович Каверин
Всего 0 комментариев