Карты четырех царств Серия «Срединное царство». Книга вторая Оксана Демченко
Корректор Борис Федорович Демченко
Иллюстратор Fernando Cortes
© Оксана Демченко, 2018
© Fernando Cortes, иллюстрации, 2018
ISBN 978-5-4490-3508-0
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Карты — замечательное слово, имеющее много смыслов.
В этой истории первая книга — «Перевернутая карта палача» — позволила и автору, и читателю разложить карты всех видов и разобраться в этих самых видах.
А вот вторая книга дает время и место изучить подробнее все карты, такие разные и непохожие, чтобы выбрать сердцем — предназначение они, совет свыше или помощник, позволяющий сделать первый шаг на выбранном пути — за горизонт, в неизведанное, для которого еще не создано карт…
Автор от души благодарит тех, кто помогал собраться в путь написания этой книги и тех, кто захочет позже пройти свой путь прочтения.
Глава 1
В которой рассказывается о событиях осени 3210 года от начала нового времени в четвёртом царстве
Путь беса. С камнем на шее
Никому не удавалось застать багряного беса Рэкста врасплох! Никому и никогда, если говорить о времени, которое он помнил, как рэкст — раб иерархии бессмертных. Постепенно он притерпелся к несвободе и даже приучил людей звать себя Рэкстом. Над кем издевался, взяв за имя — кличку? Над людишками или же над собою? Ведь он давно отчаялся, осознав после порабощения, что личность и даже имя древнего свободного вервра рассыпались в прах…
Он привык горько усмехаться: в сказках чудеса бывают добрыми, в реальности же целительна лишь смерть, недоступная подневольному бесу. По инерции он надеялся хотя бы так освободиться, он искал врага превыше сил… И вот — о, насмешка случая! — нашёл заморыша, недоросля даже по меркам людишек. Глупца! Зная тёмные дела и мрачные замыслы беса, ненавидя его, враг Ул не сделал попытки убить. Более того, принял на себя бремя неволи Рэкста — хотя его никто не просил! Хуже, враг взялся самонадеянно учить древнего вервра — жизни! Судил его, приговорил и казнил.
С казнью раб обрёл и свободу, и расплату: обузу и слепоту.
А палач — мальчишка-атл, едва получивший взрослое имя Клог хэш Ул… он с трудом пережил свою победу! Безоружный Клог в момент казни стоял в трёх шагах от беса. Он сомневался, он был слаб и неопытен… Как же получилось, что рука Клога дотянулась, впечаталась в лицо! И Рэкст — ослеп… Боль взорвала рассудок, породила бурю в душе — ярость боя, восторг свободы, жажду рвать врага, позор поражения… Под таким напором плотина забвения дала трещину! Вервр перестал быть безымянной вещью королевы, обрёл свободу вдыхать запахи мира, впитывать его вибрации… Вервр осознал, что милостью еще одного слабого человека — синего ноба Монза, он может теперь по-настоящему взять личное имя. Подарок старика. Непрошенный и… бесценный!
Вервр Ан, свободный вервр — очнулся. Любопытство погасило крик, а вместе с ним ярость. Жестоко выдавленное из глазниц зрение умирало, напоследок обманывая мозг сотнями способов. Вервр пристально наблюдал процесс, чтобы не оказаться наедине со своей инертной, кошмарно неудобной и неуправляемой памятью.
Истинное древнее имя в первый миг не нащупалось, да и позже не пришло… Зато ненависть к врагу Клогу высветила в памяти яркий образ: из небытия улыбнулся старый друг. атл Тосэн, как живой… с терпким и острым запахом мыслей о бое, с теплотой на дне темных спокойных глаз, с мелкими морщинками у губ, накопленными бессчётными улыбками миру и людям, даже если они — враги.
С горячей болью вервр Ан сдирал шкуру с мёртвой своей памяти — и корчился, и узнал лукавый прищур, поворот головы, острый, неудобный взгляд в упор… лёгкое, по-птичьи худое тело, вроде бы — не годное бойцу.
Краткосрочная потеря сознания погасила разум Ана. Слепой и слабый, вервр пошатнулся, несколько раз глубоко вдохнул, стер с лица кровь, ощупал пустые глазницы. Криво улыбнулся: лишь ослепнув, он прозрел прошлое и смог понять, почему Клог хэш Ул при всякой встрече получал помилование от багряного беса Рэкста… Вид Клога причинял боль! Он был как соринка в глазу: мешал дурашливой манерой, прищуром, худобой — будто тело крылатого досталось человеку, и ветер готов его принять, подбросить ввысь, как родного…
Два дня назад пойманный в западню Ул так неудобно, так раздражающе смотрел в упор. Зрячий, он упрямо не видел в Рэксте свою предрешённую смерть! Не пытался сбежать, не излучал страха. Он пах… любопытством! Смутная мыслишка закопошилась тогда в сознании Рэкста, как придавленная муха. Бес зажмурился… но мысль оказалась ловчее мухи — и ускользнула. Любопытство побудило беса отсрочить смерть врага, терпеть его вопросы и сдерживать свой гнев, обычный в общении с людишками… да с кем угодно! Бес рассматривал Клога — всклокоченного, сомневающегося. «С чего бы?» — задумался Рэкст. Пришёл к выводу: так проявляется самоедство, основанное на отвращении к идее разумного устранения выродков. Пацан стрелял в подосланных к нему убийц, и собственная меткость довела его до полуобморочного раскаяния. Это показалось забавным… и снова продлило жизнь врага. Кто мог предположить, чем завершится игра в поддавки и для загонщика, и для дичи?
Казнь дала вервру слепоту и обязанность жить без власти и достатка. Казнь превратила Клога — в палача, причастного к иерархии бессмертных… Они поменялись местами? Или произошло нечто более глубокое и сложное? Вервр Ан не знал ответа. И все же он находил занятным такое стечение неслучайностей.
Вервр Ан начал путь искупления оттуда, где почти год назад багряный бес Рэкст совершил преступление: убил старуху и ребёнка по приказу иерархии…
В рабском служении палача самым мерзким было бремя уничтожения душ, не тронутых гниением. Впрочем, постепенно Рэкст стал именовать раннюю насильственную смерть достойных — привилегией. Мол, я даю им уйти, не мараясь в грязи взросления… Рэкст был раб и выделял жертвам то, что мог: быструю смерть без боли… Разве мало? И разве важно, когда оборвётся человечья жизнь, если и самая долгая для тебя, бессмертного, — лишь миг…
Прошлой весной багряный бес одним движением клинка вычеркнул из бытия девочку. Он ощутил, как ребёнок угас. Но, по воле Ула, неугомонного, как все атлы, порядок вещей сломался. Сейчас девочка — та самая, бывший Рэкст помнил и запах, и звучание души — снова жила, высохшая и страшная в своём противоестественном упрямстве: вернуться, вырасти, преодолеть…
Слепой вервр глубоко вздохнул.
— Осень…
Ан улыбнулся, ощущая мир сполна и сливаясь с ним, как может лишь свободный вервр: он знал тяжесть напитанной влагой земли, готовой укрыться снегом и баюкать нерождённую еще весеннюю зелень в корнях, орехах, семенах, побегах… По-звериному внятно Ан чуял дремоту жирующих по берлогам медведей, дрожь промокших зайцев, линяющих в зиму и слишком приметных теперь, до снега. Ан — слепой сам по себе — смотрел на бурый волглый лес взглядом нахохленного ворона, вместе с уткой рвал из ледяной воды малька. Он грыз осиновую кору, стачивая бобровые зубы…
Вервр — родня всему дикому миру, высший хищник. Ан вспоминал, как он любил прежде наблюдать окрестности с плоской скалы. Мир тогда принадлежал только ему. Не князю и не хозяину, а просто — сильнейшему.
Ан принюхался, раздраженно стряхнул с руки собственную кровь. Пустые глазницы саднило… Да, при своём огромном опыте он не смог уклониться от удара Клога хэш Ула. Более того, теперь он вспомнил: в прежней жизни приём «лапа тигра» сам же и показал другу. Атлу Тосэну вервр верил больше, чем себе. Друг мёртв. Но память о нем стала нерушимой защитой для врага: ослепший, разъярённый вервр не смог отомстить! Тыльная сторона ладони мазнула по щеке Клога, прошла мимо его горла… С хрустом пальцы впечатались в кору, вонзились на полную длину в дубовую древесину.
Клог, не вполне законный по мнению вервра наследник атла Тосэна, потерял сознание и без удара в горло. Он безвольно сполз в жухлую траву, раздавленный приступом раскаяния. Палач жалел ослеплённого! Даже его. Даже сейчас…
Вервр вслух поиздевался над слабаком, хотя слушателей не было. Затем поговорил с покойным Тосэном — и не важно, что тот не мог ответить. Наконец, вервр излил боль в рычании… Сжал зубы и стал терпеть, пока рассудок остыл до вменяемости. А пока Ан сполз по стволу дуба, обдирая куртку и спину, и расслабился.
Боль немного ослабла. Ан уже мог хладнокровно оценить ситуацию. Волею врага и взятой им карты палача, отныне и до совершеннолетия младенца, вервр Ан вынужден подчиняться своей казни. Значит, он будет жить без права пользоваться тем, что бесу Рэксту давали в мире людишек страх, власть, деньги… Хотя — пустое. Сила при нем. Опыт тоже.
Губы сложились в презрительную усмешку. Вервр потянулся, и носок его башмака упёрся в свёрнутую куртку.
— Обуза! — прошипел Ан, точно зная: волосы полыхнули багрянцем ярости.
Он почти забыл… В свёртке чужой куртки покоится младенец, девочка. Ей бы умереть по весне, но упрямая дышит, пусть и реже обычного человека раз в десять. Вот сердце шевельнулось, снова замерло… Проклятущий Клог взял на себя несвободу графа Рэкста. Взамен ввёл условие: ребёнка нельзя отдать на воспитание!
— Я припомню тебе это, дождись, — прошелестел вервр, пнул врага в бок и нехотя подтянул ближе свёрток с ребёнком.
Теперь он окончательно принял свою казнь: безвластие, обузу и слепоту. Может, это и неплохо — не видеть ни обузу, ни иных людишек? Вервр зевнул, на губах проявилась усмешка, знакомая всем в свите графа Рэкста. Откуда бы людишкам знать её смысл? Ультразвука они не слышат, приборов в этом убогом мирке нет… Отосланный в ночь писк вернулся, прорисовал в сознании ближний лес, пустой от врагов и угроз. Вервр оскалился ещё раз, уточняя тропу. Конечно, без привычного зрения первое время двигаться будет менее удобно. Но, рассуждал, Ан, потеря глаз не так опасна, как утрата слуха или чутья височных и наушных рецепторов — тепловых и иных.
Вервр взрыкнул, выдрал из дуба крупный клок волокон, ещё пахнущих летним соком. Сила при нем! Нехотя, помня об избранной Клогом казни, вервр нащупал куртку с ребёнком и сгрёб, чтобы тащить, как мешок. Касаться прохладного тельца было неприятно. Как и думать о том, что это существо придётся терпеть рядом целых семнадцать лет. Вервр нацелился шагать к опушке, но напоследок замер, принюхиваясь к сонму неосознанных переживаний, терзающих врага даже в обмороке.
— Клог хэш Ул, теперь у меня есть причина, чтобы покарать тебя. Я выращу девчонку, и тогда стану твоим палачом, законно. Я исполню свой план ликвидации людишек и бессмерти, убив тебя во вратах миров! — прошелестел вервр, заинтересованно улыбаясь. — Позже, чем хотел… Но разве для нас время имеет значение? Постарайся выжить. Ты отныне — мой. И ты не Тосэн, чтобы я снова прощал. Ненавижу понятие «наследник»… в тебе есть сходство с ним, и ты вдвойне виновен из-за своего преступного сходства.
Вервр отвернулся и заскользил по лесу, безошибочно уклоняясь от низких веток, перепрыгивая поваленные деревья и огибая овраги. В кармане нашёлся платок, и вервр стер кровь с лица, порычал ругательно — и ускорил бег.
Осень сошла с ума. Ветер рылся в лесу, как гончая в кроличьей норе. Листья то кружились, то хлестали в лицо и царапали кожу, то норовили со спины навалиться всем ворохом, подмять… Ветер мешал понимать лес, заставлял вервра острее сожалеть о временно утраченном зрении.
От опушки Ан побежал в полную силу, желая одолеть брод до начала дождя. Не успел: иглы льдинок ударили в лицо, когда он был на самом глубоком месте, по грудь в воде, и боролся с сильным течением. Вервр зарычал, в несколько прыжков миновал стремнину, метнулся к берегу — и разобрал хруст неблизкой молнии. Он был бес и он был рядом. Один во всем мире он проследил, как для упрямого врага приоткрылась щель в ткани мира. Как снова срослась плоть мироздания, надолго сделав Ула недоступным для мести… А заодно отрезанным от любой помощи, от всего знакомого и привычного.
Ветер дичал и дичал, выл зимней стаей, кусал тело, стынущее в мокрой насквозь одежде. Первый за осень ледяной дождь облеплял все, устранял различия теплоты и холода. Ветер ревел и ярился.
Ан упрямо брёл, все хуже понимая окружающий мир. Враг посоветовал идти в дом у дороги, на отшибе, вне села. Сперва вервр не собирался принимать словесную подачку мерзавца, возомнившего себя наследником Тосэна. Но слепота в гомоне ветра, но ледяная корка одежды, но беспомощность младенца, которого надо вырастить во что бы то ни стало…
Он едва смог заметить дом. Он добрел до низкой двери и привалился к ней, хрипло дыша и даже не взрыкивая — лишь поскуливая. Он давно тащил куртку, как куль, и не сомневался: всё кончено. Второй раз за ничтожную жизнь высохшая девочка пересекла реку смерти, и теперь — бесповоротно.
Когда дверь поддалась, вервр провалился в тёплую затхлость сеней, не помня себя. Он даже не удивился тому, что дверь открыли! Всю дорогу от леса и именно в это он не верил. Когда нет денег и власти приказать — кто разберёт твой крик отчаяния? Кто согласится отворить дверь, кто впустит в дом беды… и ничего, кроме них.
Вервр рухнул на колени — и позволил себе забыться.
— Вишь ты, какая беда, — слабо, с придыхом, посетовал старческий голосок. Тонкий, скрипучий, вроде бы женский.
— Ты мне зубы-то не заговаривай, — бойчее и громче возразил другой голос, более низкий и глуховатый. — Довольно дрова изводить. Их и так нет.
— Раз нет, то и жалеть нечего, — в голосе старухи прорезалось визгливое упрямство. И сразу погасло. — Пусть хоть одёжа просохнет. Ну, очухается он, и как ему, бестолковому, намекнуть, что козы у нас нет? Нету, подохла. А без молока дитя помрёт вот прямо скорёшенько. В чем душа-то держится, косточки вон, тоньше прутиков. Ужасть. — Старуха вздохнула и добавила иным тоном, деловито: — Проверь ещё, совсем кошеля нет? Хоть бы медяк разыскать, сбегать к Мобру с задатком и попросить в долг.
— О-о, ты бегать наново выучилась? — обозлился старик.
Вервр поморщился, попробовал шевельнуться и осознал, что лежит на подстилке, привалившись спиной к печному теплу. Оттого и разморило, прямо нет сил поднять голову. Не понять даже: ему до такой степени дурно или же наоборот, в нечувствительности содержится счастье…
— Очухался? — заметила старуха. — Эй, болезный, где ж тебя так отходили? Хотя оно конечно, вся округа стоном стонет. Вроде, и нобы в непокое. От баронов Могуро, сказывают, лихие люди подались во все стороны и баламутят, и пакостят. — Старуха помолчала и осторожно спросила: — Сынок, как звать-то тебя?
— Прежнее имя износилось, едва я ослеп, — покривился вервр и добавил: — По доброте одного старика я законно унаследую новое имя… Назову позже, если придётся.
Вервр сел, ощупал печь, вцепился в горячую кружку, едва она оказалась возле ладони. Он пил быстрыми крупными глотками, до дна. Напившись, ослабил намотанную в несколько слоёв повязку на лице, тронул пустые глазницы. Стер коросту крови с чувствительных к теплу рецепторов, внешне похожих на симметричные родинки у висков. Покривился, пискнул летучей мышью, собирая впечатления о помещении.
Убогое место, прав был враг Клог. Ещё вчера граф Рэкст и не подумал бы, что очнётся на земляном полу, в крохотной избе-четырехстенке, косо навалившейся на печь, как на костыль… Под потолком щели, холод осени так и сквозит.
Ребёнок? Вервр принюхался. Вон и девочка: на руках у старухи, укутана в побитый молью вязаный платок. Вздохнула… снова как мёртвая. Теплота кожи едва заметна.
— Тут такое дело, — дед начал готовить гостя к плохой новости.
— У кого поблизости есть коза? — вервр сократил бесполезную часть разговора.
— По уму ежели, спросить бы в «Ветре удачи», а разве ж они откроют тебе или нам? — Старик вздохнул. — Ну, опять же… всё лето у них с гостями беда, а ныне и вовсе: хуже засухи потоп, да-а… Я о чем? Не было гостей — убыток, а повалили гости — и того горше горюшко, вон каковы гости-то.
— Где этот «Ветер»? — нехотя уточнил вервр, слушая вой урагана за стенами.
Старуха махнула рукой, охнула. Ласково, жалостливо тронула щеку гостя. Вервр ответно оскалился в ухмылке. Получил в руки совсем ветхий шейный платок, почти не погрызенную молью валяную шапку, дождевую куртку из толстой грубой тканины. Вырядившись чучелом, Ан развеселился. Спросил о своём ноже — и старик безропотно вернул опасную вещь, до того припрятанную «от греха» в сенях.
— Темень там, глаз коли темень, — запричитала старуха и осеклась, слушая смех ослеплённого вервра.
Она продолжала всхлипывать и сетовать на глупый бабий язык, пока вервр миновал сени, добрел до двери, переступил порог и привалился к мокрой бревенчатой стене снаружи.
Непогода разошлась в полную силу. Палый лист, водяную взвесь и иглы льдинок крутило и месило так, что направление ветра не угадать. Вервр совсем размотал повязку, принюхался к запахам дома и дождя, приладился к току стариковских тревог и переживаний. Оттолкнулся от надёжной стены — и сделал первый шаг в трясину осени…
— Гнусный Клог, буду убивать медленно, — пообещал вервр. — Зачем ты бегом поволок меня в лес, на казнь? Ночью… Оставил без ужина. Там, на постоялом дворе изжарился кролик, сочный… Свежатинка, сам ловил.
Было бы удобно приписать врагу вину за отсутствие кошеля. Даже за то, что младенцы не едят крольчатину — а ведь поймать кролика куда проще, чем отыскать посреди ночи молочную козу. А после — вот ужас! — ещё и подоить… Но вервр полагал, что даже без фальшивых обвинений долг Ула со временем вырастет до неподъёмной тяжести…
Вервр брёл, принюхивался, пищал и вслушивался, собирал чужие настроения, приближаясь к их средоточию — к селу с густо налепленными вдоль хилых улочек избами и просторным постоялым двором, похожим на быка посреди овечьей гурьбы.
Настроения составляли общую мутную массу, знакомую по всяким людским скоплениям и мысленно именуемую — помои. Сегодняшние казались густыми, тёмными, замешанными на многочисленных страхах, пустых и настоящих. Вервр спотыкался, злился на слепоту, взрыкивал, вслушивался в эхо — и снова шёл, упрямо не растопыривая руки и не сокращая шаг. Он не слабый человечишка, чтобы выглядеть шаркающим слепцом и вызывать презрение.
Из общего вороха страхов и сомнений Ан наугад выделил всхлипывающий высокий голосок. Страх у этого человека — острый, отчётливый, он распознается ярко.
— Люди, ох, люди! Хоть кто, помогите… Ох, пустите, да пустите же, — стонала девка, плотно притиснутая к забору, в глухом и наверняка очень тёмном месте возле конюшни. — Да что же это… да пустите, умоляю, ну пустите…
Отпускать добычу, понятное дело, никто не собирался. Рта зажимать тоже не пробовали — слушать мольбы занятно. Вервр покривился, ощущая, как возвращается в привычный себе мир людишек. Такие скучны и однообразны как в бессилии, так и в насилии. Душегрейка девки валяется в углу, рубаха разорвана от ворота и до пупа… А ведь в двух шагах к стене привалены вилы, дотянуться — можно! Мало того, в ногах у девки валяется кухонный ножик — его нетрудно поддеть и всадить во врага. Но эта овца, как и многие подобные, знает своё место и покорно топает на бойню, смутно соображая, каковы последствия отчаянного сопротивления. Насилие привычно, неизвестность страшна, она — удел сильных… Так обыкновенно рассуждают людишки. И — сгибаются.
Вервр хмыкнул: вот потому был интересен мерзавец Клог. Если разобраться, куда почётнее числиться врагом беса, чем выглядеть для него парализованным кроликом или овцой, не достойной спасения.
Голова деловито сопящего мужика впечаталась в бревенчатый сруб с хрустом. Вервр разжал пальцы, высвободил прихваченные на затылке волосы наёмника — и позволил бессознательному телу сползти по стене. Само собой, внимание «овцы» теперь целиком принадлежало спасителю — и баба орала в голос, захлёбываясь и срываясь в писк. Ещё бы! Что она видит? Лицо в потёках крови, пустые глазницы, ухмылку… и всё это под смутно знакомой валяной шапкой, над смутно знакомой дождевой курткой!
— Болотник, — спасённая определилась с сортом нечисти и сразу запуталась: — Мертвяк! Старого Ясу пожрали-и…
Вервр зажал орущий рот и выждал, пока истерика поутихнет.
— Веди к хозяину, — велел он, выломал руку и развернул отчаянно постанывающую девку лицом от себя. — Быстро. Пока цела.
Хозяин постоялого двора обнаружился в дальнем подполе, в обнимку с отвратно воняющей бутылью ведерной ёмкости, судя по плеску и булькам — ополовиненной. При виде девки-поводырки и шагающего за ней слепого, хозяин икнул и тихонько застонал.
— Гости беспокоят? — задал тему вервр.
— С весны, — всхлипнул хозяин. — Как отсыпал я мухортке проезжему лежалого овса, так и пошли дела вкривь. У-у, враг людской. Вся погань с него началась, с мора лошадиного.
— Не с тебя же, — согласился вервр. Он прислонился к стене, удобнее перехватил плечо девки. — Нужна коза. Молочная, для маленького ребёнка. Коза и вдобавок, пожалуй, дрова. На таких условиях до рассвета выгоню гостей или заставлю их заплатить и утихнуть.
Вервр поморщился с отвращением. Пока хозяин заведения пил и копил размышления, он попытался сообразить, когда оказывал столь мелкие услуги окончательно ничтожным людишкам. Память не выдала ни единого похожего случая.
— Выгнать и заплатить, ага, — по тону было ясно, что хозяин широко, тупо ухмыляется.
— Что насчёт козы?
— А гости ещё шумя-ят, — обнаглел хозяин, почуяв торг.
— Могу сам взять, что мне надо. Выйдет быстрее, проще. А гости — они твои, может, и до самой твоей же смерти, — прошелестел вервр.
Для ускорения решения он нащупал бок бутыли и выломал горсть осколков. Это просто, вот только движение должно быть очень, очень быстрым. Люди такого даже смазанным не замечают. Рядом на два голоса завыли: «Убивают!»… Вервр неподвижно ждал, пока в голове хозяина, неубитого вопреки воплям, сварится каша решения.
Наконец, девка, всхлипывая и жалуясь, поволокла по улице упирающуюся козу. Хозяин оторвал от груди бутыль с прорехой в пол-бока, принюхался, назвал вервра разорителем и разжал руки. Осколков стало больше, а запах обрёл такую крепость, что вервр предпочёл задержать дыхание. Он терпеливо ждал, пока хозяин сопит и ворочается, медленно поднимаясь в условно-стоячее положение. Наконец, опробует способность ног перемещать тело туда, куда надо, а не туда, куда качнуло…
— Выдели кого потрезвее в провожатые, — предложил вервр, наблюдая, как хозяин третий раз обошёл камору, с растущим беспокойством щупая стены и сетуя на отсутствие дверей. Когда совет остался без внимания, вервр сплюнул шипящее, привычное: — Людиш-шки…
Поймав руку хозяина, вервр небольно, но чувствительно прикусил запястье, позволяя себе учуять ток крови, а жертве — её место в мире.
Пьянчуга ещё визжал и летел прочь из подпола, спиной вперёд, но уже был совершенно трезв. Удар, тишина… Вервр вынырнул на свежий воздух по узкому всходу, хлебнул мокрого ветра, хрустящего некрепкими льдинками на зубах. Улыбнулся природе: она во всяком мире друг ему и мрачная загадка — людишкам. Так и норовят испохабить. Но здесь пока не сладили.
Мир атлов исконно не желал принимать прогресс, сопротивляясь обычному в иных мирах развитию цивилизации — инстинктивно, но весьма успешно. А может, всё не так, — задумался вервр, позволяя ветру трепать свои волосы, — может, четвёртое царство ограничивает одни стороны жизни, возмещая ущерб в ином. Тосэн говорил что-то подобное, но вспомнить не получается, да и тогда присказки друга проходили мимо внимания.
— Там, — третий или четвёртый раз сообщил хозяин постоялого двора, ненадолго забытый. Икнул и завыл от ужаса, осознав, что тычет пальцем в темноту, указуя направление слепому. — То есть… прощения просим. То есть… Оно там, ну то есть как бы сказать… туда и ещё туда, да что же я… да вот же…
— Я понял с первого раза, — осклабился вервр. — Там и ещё туда. Внятно. Сколько они задолжали?
— Так… если всё учесть… А-аах. О-оо… — хозяин осип, рассмотрев в подробностях пустые глазницы, кровавые дорожки на щеках ночного гостя, бурую коросту на его пальцах и тыльной стороне ладони, тёмное пятно на рукаве дождевой куртки. — То есть…
— Сумму. Без стонов, вранья и учёта ущерба потрёпанной чести сговорчивых баб, а равно мухортости весенних лошадей и подобного маловажного, — покривился вервр.
— Щуку серебром, полновесную, — выпалил хозяин и клацнул зубами, прикусив язык и испугавшись своей неуместной честности. — То есть… но ведь коза, но ведь…
Он шептал всё тише и жалобнее, он обнимал голову и принимал вес похмелья, настигшего жертву почти сразу после внезапного протрезвления.
Вервр не слушал. Получив нужные сведения, он крадучись двинулся к главному строению через захламлённый двор, заодно прикидывая наименее затратные и проблемные пути исполнения уговора.
Графу Рэксту довольно было бы взрыкнуть, чтобы его опознали. Наёмники неизбежно сами сползлись бы к сапогу и смиренно ждали приказов, хоть бы и казни — их же собственной.
Безымянный бес, даже слепой, отпустив на волю силу и дикость свою, не оставил бы в доме живых очень быстро: в несколько ударов человечьего сердца. А сколько денег соберут с мёртвых те, кому он дозволит мародёрство — не его забота.
Вервр, обременённый полумёртвым младенцем и желающий хоть сегодня остаться неузнанным и значит, свободным… Для него не имелось простых способов исполнить задуманное.
— Клог, я выколю тебе глазёнки, — рычание было низким, людям такого не разобрать их убогими ушами. Но, не слыша слов, люди во всём селе вздрогнули, вдруг заподозрив близость смерти. — Клог, ты ведь услышал? Ты учуял? Твар-рь.
Когда вервру оставалось сделать по двору шага два до двери, она с грохотом распахнулась, и какого-то мелкого служку вынесло из темного коридора. Следом попёр, диким вепрем взревел в дверном проёме, рослый наёмник. Его так и выламывало от беспричинного и бесконечного раздражения. Вервр подвинулся, пропуская служку, и коснулся кончиками пальцев бревна: пока не погасла вибрация от удара двери, он запомнил план строения.
Получив нужные сведения, Ан смазанной тенью скользнул крикуну за спину… и наёмник затих на полувздохе, пропал в бессознании надолго, до полудня самое малое. Вервр придержал грузное тело, мягко опустил на пол. Как раз успел исправить оплошность, допущенную вчера: рука нащупала и отстегнула наёмничий кошель. Пока деньги меняли хозяина — а они такие, сами текут в сильную руку — вервр перебрал монеты и извлёк нужную, крупную золотую. Зажатая меж пальцев, она послушно сплющилась, приняла оттиск. Подобные «приказные монеты» граф Рэкст выдавал посланцам, показывая своё отличие от людишек. Рисунок подушечки пальца не раз пытались подделать, и всегда неудачно. «След беса» хранил ощущение животного страха, готовое уколоть всякого, совместившего палец с выемкой в монете.
— Попробуем так, — шепнул самому себе вервр, не вполне довольный планом.
Но — время не ждёт. Бывший Рэкст уже двигался по коридору, прилаживаясь шагать, как подобает слепому немощному человеку. Он шарил по стенам, прикашливал, шаркал… и приближался к нужной двери, заранее зная: в комнате трое, один из них мертвецки пьян, второй трезв и весел, а третий в отчаянии и весь изошёл холодным потом, даже хуже, обмочил штаны. Обычный расклад для людишек: безразличный ублюдок, жадный ублюдок и ловкий доносчик, вдруг возомнивший, что чужими грязными руками он дотянется до соседского достояния… Сам явился, денежки принёс, только не учёл, что сельская зажиточность никого не впечатлит, а вот разбуженный страх — позабавит.
Вервр покашлял и стукнул в дверь. Приоткрыл её, втиснулся в щель, пытаясь достоверно кланяться. Нищие так обычно и делают. Только у нищих в дрожащей ладони не блестит нежданным уловом — золотой.
Трезвый наёмник вмиг заметил странность и убрал руку с рукояти ножа. По уму и несуетливости вервр именно его мысленно произвёл в вожаки. Запах тела, настроение — то и другое казалось смутно знакомым. Лично граф Рэкст столь мелкого слугу не принимал, но где-то в его особняках человечишка столовался и отдыхал, нет сомнений…
— Прощения просим, — засипел вервр. — Послание до вас, наизусть велено выучить и передать, ни словечка не позабыв.
Вожак хмыкнул, рассматривая пустые глазницы, одежду с чужого плеча, дрожащие пальцы. Вожаку хватило ума молча выслушать приказ Рэкста и сразу же заставить случайного гонца повторить его, проверяя, выучены слова — или же перевраны. После третьего пересказа с многими запинками и вздохами, но без единого отступления от текста, вожак поверил и недовольно поморщился. Ему не хотелось спешно покидать село, тем более так — расплатившись и не оставив по себе дурной памяти… Был невнятен и приказ двигаться к замку на перевале и безвылазно сидеть там, пока не явится старый барон. Но приказы беса не таковы, чтобы их оспаривать.
— Сядь, — вожак пнул слепого. Шагнул мимо, заорал в коридор, погнал гулкое эхо: — Эй, хозяин! Ползи, гнида, свезло тебе, платим и валим! Коней седлать, беспробудную пьянь валить в возок!
Наёмник заливисто свистнул. Постоялый двор заскрипел, зашевелился общим недоумением, загудел спешным приготовлением к отъезду. Перекликались басовитые голоса, топали сапоги. Метались шёпоты и вздохи слуг…
Ан усмехнулся: дело сделано. Без крови, без прямого объявления своего имени… пора бы тихо сгинуть, но — не получается: крепкая рука вцепилась в ворот.
— Погасни, тля помоечная, — прошипел в самое ухо вожак и накрутил на кулак ворот куртки, норовя слегка удушить и напугать. — С нами двинешь отсель. Кто весть от беса донёс, тому и почёт… бесовский. Чё, не знал?
Ответ не требовался. Вервр мрачно покривился. Он, в общем-то, знал и своих людишек, и ту помойку из зависти, страха и самомнения, что смердит в их душах. Он, правда, никогда не обращал внимания на мелочи. Теперь злился на себя, сидя с крепко стянутыми локтями на дне возка, в облаке перегара.
«Горевестника» тащили в обозе до переправы. На глубоком месте пнули в спину, с борта — да в ледяную воду… а прежде камешек на шею повесили, не позабыли…
Добравшись до берега в насквозь мокрой одежде, и это второй раз за бесконечную ночь, вервр был не просто зол — он аж светился стеклянно-ломкой яростью. По волосам с шорохом пробегали искры, и бес знал: они багряные, как свежая кровь. Чего стоило сохранять волосы «человечьими» всё время, пока жертву везли и пинали… Он и теперь еле сдерживался, уговаривая себя не догонять ублюдков и не рвать их, не давить, не размазывать по дну повозок, наполненных сивушными парами.
— Клог, зар-раза, — рычал вервр, лязгая зубами не от холода, а от зажатой в них намертво злости, — Клог хэш Ул, ты умр-рёшь не ср-разу, стр-радай заранее! Ты… ты…
Впервые за неисчислимое время жизни вервр не нашел годных угроз. Наказание подлеца Ула стало делом, требующим холодного и неспешного обсуждения с самим собою. Пока же вервр был слишком занят: бежал во весь дух, греясь и выгоняя из тела ярость, подобную гною, остро-болезненную. Вервр мчался, и ненависть тянулась за ним черными крыльями — каменными, не дающими ни полёта, ни широкого взгляда на мир…
Рычание и шипение оборвались в единый миг. Вервр расслышал отчаянно бьющийся бубенчик, споткнулся и замер.
Ан подставил лицо дождю пополам со снегом. Принюхался. Чтобы наказать врага, надо прежде стерпеть данную им казнь. Только затем будет возможно огласить свою, ответную. Чтобы дотянуть до казни Клога, надо сберечь жизнь никчёмному детёнышу атлов. А для этого прямо теперь требуются — вот же мелочи досадные — коза и дрова. Так почему добытую с таким трудом козу сейчас, посреди ночи, волокут на верёвке обратно в село? Почему на пороге покосившейся избы бессильно всхлипывает старуха?
Вервр резво развернулся и в несколько прыжков очутился возле козы. По ушам ударил знакомый визг служанки — «болотник!»…
— Аш-ш пш-шла прочь, — прошипел вервр, выдрал верёвку из рук девки.
Коза от происходящего взбодрилась — и попыталась насадить ближнего двуногого на рога. Вервр, конечно, уклонился, но обозлился пуще прежнего. Взвалил брыкающуюся собственность на плечо и поволок домой.
— А-аа! — проверещала девка и шлепнулась в грязь. Довольно долго оставалась там, неподвижная, без сил. События ночи исчерпали её способность испытывать страх. Поэтому девка не смолчала и, отдышавшись, заорала визгливо-требовательно: — Эй! Хозяин сказывал: утоп охальник, возверни козу. Эй! Ты почему не утоп? Эй! Э-эй…
— Потому что болотник! — не оборачиваясь, прорычал вервр. Добежал до лачуги, сгрузил козу и поклонился старухе. — Годная коза? Годная?
— Годная, — подавленно согласилась та, но хотя бы прекратила плакать. — Живуч ты, мил человек. В самое время вернулся… а я только села доить-то, тут и началося… сгинул, говорят. Вор, говорят… Всяко говорят.
— Людишки, — поморщился вервр. Сунулся в сени, сбросил промокшую куртку, на ощупь отыскал дерюгу и замотался в сухое. — Дрова привезли?
— Какое там, — отмахнулась старуха и, щекоча козу под горлом, уговорила добровольно войти в сени. — Ежели ту соплюху послушать, выходит, в постоялом дворе слух гуляет: на тебе вина за учинённый в селе разбой, ты и есть всей шайке тайный заводила.
— Я и есть, — повторил с разгона вервр. Тяжело вздохнул, вдруг ощущая, как остывает гнев, накопленный за ночь, как он булыжником виснет на шее, гнёт к земле. — Я и есть… что за гадкая ночь.
— Умаялся ты. Иди, я сей же миг подою, молочко будет тёпленькое.
Рука старухи, дрожащая, совсем слабая, коснулась щеки и скользнула по шее на плечо, на бок. Вервр дёрнулся, отодвинулся и быстро юркнул из сеней в избу.
Младенец и старик рядышком спали на печи. Девочка дышала тихо, почти что в обычном для людей ритме. Сердце билось слабо, но уверенно. Вервр сполз по печной стенке, откинулся на неё, ощущая под лопатками стыки камней, замазанные глиной, сплошь пропитанные долгим теплом, хранимым в печной душе.
— Я и есть тайный заводила, — ещё раз повторил Ан, но хуже не стало. От печи спине доставалось много тепла, и горечь сказанного растворялась в нем, не смерзалась комками льда за грудиной. — Не сожалею. Мир весь из грязи слеплен.
— Гу, — сонно, едва слышно, выдохнула девочка.
— Сволочи атлы, — без прежней ярости усмехнулся вервр. — Говорить ещё не умеет, от смерти в полушаге, а туда же, спорит. Эй, ты! В любом мире нет пользы учить первым словом глупое «гу». Надо скалиться и рычать, чтобы выжить. Не я такой, мир такой.
— Гу, — тише засопела девочка.
Вервр перекатился на колени, привстал, провёл кончиками пальцев над личиком ребёнка, не касаясь кожи. Убедился: ссохшееся, бессильное создание улыбается, не приняв совет и не пробуя учиться оскалу.
— Бестолочь, — вервр снова сел спиной к печи. Зевнул. — Ну, я им устрою поутру праздник красного петуха. Или дрова мои, или они — пепел. Вот и будет пьяному борову «гу» на всю окру-гу!
Ан облизнулся в предвкушении ярких впечатлений — и заснул мгновенно, не дождавшись тёплого молока.
Утром старухе едва удалось открыть дверь: вплотную к ней перед избой была свалена изрядная гора дров. Не ахти каких, уж всяко не дуб и не берёза, не ровные поленья — так, бросовые отходы. Но разве и на такие кто-то рассчитывал? А когда старуха, получив от слепого несколько монет, отправилась за тканью для детских распашонок, она узнала свежайшую сплетню: хозяину постоялого двора под утро приснился ужасающий пожар. Вроде бы во сне огонь занялся от искры из-под подковы жуткого, бесовского мухортого коня.
Сон был до того страшен и похож на явь, что поутру недостоверно трезвый скряга раздал все долги и, обливаясь слезами испуганного раскаяния, сгоряча замирился с соседями, коих норовил сжить со свету пятый год подряд. Был спешно перенесён на прежнее место забор, и даже за урожай с захваченного огорода возмещено серебром. Чудеса…
Столичные истории. Гости
Полуночный стук в ворота сам по себе не удивил дозорных в «Алом льве». К хэшу Лофру приходят разные люди, и многие таковы, что днём их на улице не увидишь. Одни в каретах сидят, за закрытыми шторами, а другие эти самые кареты стерегут по кустам, — так шутят младшие ученики. Но у языкастых недоумков мало надежд вырасти в старших учеников, куда более молчаливых и осведомлённых.
Ночами при воротах дежурят старшие. Им сумеречные гости понятны уже по манере стука… Но только не в этот раз. То ли царапнули, то ли мазнули костяшками пальцев — робко, с сомнением.
— Назовите себя и своё дело, — хмурясь и продолжая строить догадки о госте за воротами, потребовал безродный Омаса, в шутку именуемый теми самыми языкастыми новичками «сын хэша» за впечатляющие рост и вес. Он и правда ниже Лофра всего-то на ноготь. По ширине плеч и вовсе равен, только болезненно-вспухшего брюха у Омасы нет.
— Да откуда бы вам знать меня, мил человек, — смущённо извинился из-за ворот слабый женский голос. — А дело моё вот, всё на бумаге. Сказано передать в целости, прямо в руки хэшу Лофру, а уж он по доброте своей и решит, что к чему.
Омаса сразу разобрал деревенский выговор, ведь у него у самого был похожий лет пять назад, когда довелось стоять по другую сторону ворот и стучать, не веря, что откроют и выслушают. Ладонь Омасы протёрла затылок, не склонный потеть и зудеть от сомнений. Толстые пальцы вцепились в короткие, курчавые волосы, похожие густотой и свалянностью на медвежий мех.
— А разбудим-ка хэша, — вымолвил Омаса, сразу выбрав решение, какого от него не ждал никто из стоящих рядом. Могучая ладонь отяготила плечо соседа. — Ступай.
— Я? — пискнул, проседая под рукой, младший.
Переспрашивать, получив приказ, тем более в дозоре, тем более ночью — совсем уж плохо. Так что, пока Омаса разворачивался всем телом, сопя от недоумения, младший вывернулся из-под руки и помчался, как лист, влекомый ураганом всё далее от каменного утёса…
Омаса замер, именно как каменный. Он более не шелохнулся, покуда доски скрипом не обозначили пробуждение хэша, и сам Лофр не возник на крыльце, зевая и лениво похлопывая пухлой рукой по ненавистному своему, не желающему худеть, брюху.
Хэш облокотился на перила. Он молчал и ждал.
— Дело к вам. Как видно, особенное, — сообщил Омаса и без усилия подвинул в проушинах запорный брус, который большинство здесь полагало бревном.
— Видно ему, — оживился хэш, щурясь то ли в насмешке, то ли со сна. — Ночь глаз коли, а дубине видно. Умных учу-учу хоть днём всматриваться, а дубине — через дубовую воротину видно.
Продолжая ворчать под нос и часто повторяя про дубину, хэш спустился с крыльца и побрёл к воротам. Дозор притих. Все знали: когда Лофр вот так переваливается и смаргивает, ему изрядно плохо. И такого его поднять с постели, вынудить всунуть опухшие ноги в тапки — уже беда… а вдруг еще и нет ей причины?
Омаса играючи двинул створку ворот, отступил на шаг и поклонился гостям, еще толком не видя их.
Скрипнули колеса, застучали копыта — женщина, вежливо поклонившись в ответ, ввела под уздцы лошадь, впряжённую в лёгкую двуколку. Лофр споткнулся, хмыкнул… и прибавил шаг.
— Червяк, ты выполз из норы? Сам или опять погнали? По твоей бледной роже моей лучшей дубине и без слов рисуется жалостливый ответ. Но я-то знаю: ты от рождения сизый поганец, всегда по уши в… гм. Не важно, а вот как при тебе смогла завестись женщина? — Глаза Лофра блеснули ярче. — Живая, а не пером к бумаге пришпиленная. Вылезай, немочь. Помрёшь после, а покуда представь меня.
В двуколке завозились, распихивая ворох шерстяных покрывал и бормоча невнятно, толком не проснувшись. Женщина не обернулась к спутнику, она, чуть наклоня голову, пристально изучала Лофра, вслушивалась в его сиплое дыхание, считала шаги и, кажется, норовила на слух — взвесить…
— Вам лежать надобно, добрый хэш, — неожиданно строго велела гостья, подалась вперёд, взяла Лофра под локоть и принялась разворачивать к парадному крыльцу. — Испарина… так оно понятно было сразу, что испарина. Верно сын говорил, не лечат в столице этой, а только калечат. Ещё говорил, нрав у вас непростой, и лекарей вы гоняете, почём зря. В боку с утра колет или под вечер началось? Здесь или пониже и, может, немеет ещё тут и тут?
— Вот всё это, но со вчерашнего утра, если не учитывать крайние лет десять… А с лекарями… да, всякое случается.
К полнейшему изумлению дозора, хэш не сопротивлялся и брёл к крыльцу. Все указания, какие он дал — это короткий жест руки: мол, сами тут с прочим разбирайтесь, не дети. Хэш щурился, пристально, почти невежливо рассматривая гостью и без зазрения совести наваливаясь на её плечо — чтобы вела и слушала жалобы… А разве прежде хэш имел привычку перечислять свои болячки? Вслух! И даже громко, со вздохами…
— Так вы зовите меня Лофр, а не хэш. Как опыт подсказывает, хэшей лечат вовсе уж плохо. Их и за золото, и за страх, и за уважение — один край, только и делают, что калечат… Но в Тосэне другой обычай, там лечат с душой. Вон червяк Монз бодро ползает. Одно мне странно: двуколка под весом книг не хрустит.
— Он все роздал, без жалости, — сникла женщина. — Я Ула, вы моего сына, пожалуй, помните?
— Вы и есть та лучшая в мире травница. Ага, — Лофр замер, похлопывая себя по брюху. — Ага! Повезло мне. Вот только знать бы, какой такой ценой… и где сам Ул?
— Не ведаю, — всплеснула руками Ула. — Монз указал: спешно ехать сюда и лишнего не думать, а если сделается ему вовсе худо, показать письмо. Спорить было невозможно, видно ведь: он безвозвратно из дома подался.
— Худо… Червь резвее моего ползает, — Лофр отстранился, обернулся и завистливо глянул на гостя, переминающегося у двуколки. — Мне его не жаль, мне себя жаль. А ваш Ул та еще заноза, не пропадёт. Ловкий — аж не глядя выпороть охота.
— Он хороший мальчик, — смутилась Ула. Вновь поддела хэша под локоть и повела далее, по ступенькам в дом. — Тяжело на вдохе или же на выдохе донимает главная боль? Тут или левее? А вот стукну легонько, отдаёт куда?
Лофр, пропавший было в коридоре, снова выглянул в полуприкрытую дверь, тараня её брюхом. Нахмурился, наблюдая обычную, деловую суету. Коня уже распрягли и ведут прочь, тюки и короба отвязывают с задней площадки двуколки, снимают и бережно несут в дом. Прибывшего в двуколке гостя поддерживает под локоть сам Омаса, и весь, дубина здоровенная, исполнен чисто деревенской почтительности.
— Эй, короб с травами, сюда, — позвал хэш и пронаблюдал, как короб о двух ногах — лёгкий, но объёмный, человека и не видать за ним — помчался во весь дух к крыльцу. Хэш высунулся из двери по пояс и взревел: — Кухня! Самих изжарю, если гости ужина сей миг не получат.
Подворье «Алого Льва» затаилось, благоговея, пока хозяйский бас катился и дробился, вызывая эхо… Так и узнали, что гости к хэшу прибыли особенные, а Омаса — вот же дубина с чутьём, по роже и не заподозрить! — опять не сплоховал.
Утром новости подтвердились, даже с избытком. Ни свет ни заря во дворе проявился стук. Заныли, завизжали пилы. А, когда пришло время выходить для утренних занятий, всякий споткнулся, с недоумением обнаружив новое: беседку, низкий стол внутри, подушки по всему полу, на южный манер. Посреди беседки — бодрого Лофра, отоспавшегося впервые с незапамятных времён! В уголке самовар. А при нем гостью, сосредоточенно перебирающую травы перед длинным рядом разноразмерных чайничков.
— Сколько у вас детишек, — по-деревенски простовато улыбнулась гостья.
Странно, но усмехаться в ответ на такую наивность мало у кого из «детишек» получилось. Голос у гостьи был тёплый, спокойный, и смотрела она как-то… хорошо. Даже Лофр при ней выглядел непривычно мирным.
— Лентяи, — тыча пальцем в тех, кто заслужил такую оценку, сообщил Лофр и продолжил: — Олухи крайние, бездари с гонором, людоеды начинающие, мелкое зверье, дубины, лисы ядовитые. Тут всякой твари не сложно подобрать пару. Вот только где детишки? Переростки недорослые.
— И так вас ценят, глянуть радостно, — не меняя тона, продолжила гостья. Проверила уже заваренные травы и наполнила маленькую чашку. — Мой Ул был здесь под хорошим присмотром.
— В синяках ещё до зари, — кивнул Лофр, выпил отвар и поморщился.
— Мальчишка, — отмахнулась Ула. — Он шебутной, рубахи так и горят, до первой стирки иной раз не донашивает… Теперь вот такой отвар, он горьковат, но надо медленно пить, мелкими глоточками.
Лофр послушно выпил. Прокашлялся и тяжёлым взглядом обвёл двор.
— Детишки, — в голосе звучала угроза, — кто вякнет за воротами, что травница хороша, тот вякнет крайний раз в жизни, ага? Мне тут толпа болезных не требуется. В ваших интересах быть умными и лечить синяки и вывихи без очереди.
Ула подсунула под большую руку ещё одну чашку с отваром. Лофр выпил, посидел, прикрыв глаза и вслушиваясь в себя. Кивнул.
— Омаса! А постой-ка при двери. Сквозняки, — Лофр неопределённо повёл ладонью, намекая на излишне развитый слух некоторых ловкачей.
Сам хэш без спешки поднялся, постоял, глубоко дыша и жмурясь. Глянул на доверенного слугу, кивнул — и тот убежал исполнять оговорённое заранее: звать ещё одного человека. Гостья засуетилась, расставляя заполненные кипятком чайники на большом подносе. Сунулась было нести его, тяжеленный… но Омаса снова оказался расторопен, опередил даже безмолвный приказ хэша. Подхватил поднос, плавно поднял и умостил на раскрытой ладони. Неловко, сопя и понуря голову, протянул руку гостье, помогая сойти по ступеням: вдруг ноги затекли, пока сидела?
От главного крыльца прошаркал, опираясь на руку доверенного слуги, второй гость. Младшие ученики примчались с кухни, нагруженные выпечкой и изюмом — на заед к большому разговору. Затем все, кроме хэша и гостей, покинули зал для бесед. Омаса пристроился подпирать дверной косяк, готовый от такой поддержки окосеть…
Так в «Алом Льве» узнали ещё одну важную новость: гости хоть и выглядят простоватыми, а знают нечто, ценное для сквозняков. Конечно, тайны сейчас слышит Омаса, ему внятно всё до последнего словечка, ведь давно уже проверено: слух у этого медведя — летучим мышам на зависть! Но проще уловить и допросить сквозняки, чем добиться хоть намёка от упрямца. Хуже был только прежний любимчик Лофра, Дорн хэш Боув — беловолосый красноглазый отпрыск покойного канцлера. Тот был — зверь с графским титулом и волчьей злостью… Омаса проще: он безроден и благодушен. Он не обижается, кажется, ни на кого и никогда. А красноглазый граф вскипал до начала разговора и умел извести любого, совершенного любого — словами, молчанием, дракой или отказом от неё. Кажется, и самого хэша он раздражал…
— Монз, верно я вспомнил вчера? — Лофр начал с прямого вопроса, пока во дворе учились убивать и уклоняться, не отвлекаясь на любопытство.
— Я-то решила, вы в дружбе, и давно, — удивилась Ула.
— Пересекались. Впервые в портовом городе, лет тому… — нахмурился Лофр и махнул рукой. — Он отзывался на другое имя, вроде бы Ан… и что-то там дальше, длинно и южно. Я весил вдвое меньше, вот как это было давно, лапушка Ула. После я слышал о нем много раз от многих людей. Нобы с ярким даром заметны. Упрямые дурни с ослепительным даром — они бельмо на глазу, так заметны, что застят. Я заказывал списки книг, когда успевал застать его там, где обещали. Знаю доподлинно, был он связан с чем-то тонким, и дело велось с покойным вторым канцлером. Как бы то дело и не укоротило жизнь старшему Боуву, заодно сделав младшего сиротой и зверенышем.
— Лапушка, — передразнил Монз скрипуче, но без раздражения. — Берегись, по молодости он был облеплен женщинами, как мёд — мухами.
— Ага, из вежливости заменил навоз на мёд?
— Я — гость, — вздохнул Монз и покосился на Омасу, тот как раз оглядел двор и заодно, искоса, лица собравшихся, чтобы снова отвернуться и замереть. — Он…
— Чтоб пустить сплетню, не надо иметь хороший слух, чтоб промолчать, не надо быть немым, — хэш повёл бровью, принял очередную чашку с отваром и безропотно опустошил. — Лапушка, а вот бы мне избавиться от гадости, какая плавает перед взглядом? Будто мир зачервивел.
— Пройдёт, но нескоро, — тихо пообещала Ула.
— В том же порту и в тот же день я первый раз встретил глаза в глаза багряного беса, — продолжил Монз. — У меня ещё не было в руках целикового листа последней, может статься, из легендарных книг городов, на которые Рэкст вёл охоту. Не ведаю, укоротило ли жизнь канцлера это дело, жаль, если так… Бес весьма примечателен. Жутчайший, я долго просыпался, и грезилось мне зелёное и рыжее пламя его взгляда, испепеляющее душу… Он получал удовольствие, играя и запугивая. Но ведь отпустил меня! Не вынудил стать частью свиты в роли раба. Не засунул в самую гнилую из портовых темниц.
— Душа человек, — хмыкнул хэш.
— О, он исключительно нечеловек, — живо возразил Монз. — Люди уничтожают просто так. Он — только по приказу или из здравого смысла. Его поверенные много раз находили меня и давали заказы. Выгодные, без обременений. Это в нем тоже нечеловеческое: никого не забывает. Став его добычей раз, остаёшься добычей до последнего своего дня. Сам он тоже навещал меня, и каждый раз общаться был жутко. Жутко, но интересно.
— Сейчас багряный вне столицы, — покривился Лофр, желая продвинуть разговор. — И я не допускаю лишних упоминаний о нем здесь, причин тому много.
— В день свадьбы друзей Ула меня вызвали к реке, — кивнул Монз. — Он лично сделал мне весьма спорное предложение. Я обдумал, счёл не лишённым смысла, пусть чуждого для людей. Мы заключили сделку. Я получил одно важное обещание. Он — запись, исполненную моей кровью.
— Ага, — выдохнул Лофр, подаваясь вперёд. — То-то гниль Могуро из столицы будто выдавило. Дело рисуется крупноватое. Не ожидал… как тебя угораздило встрять, червь?
— Я знаком со слухами о привычке беса покупать души, — поморщился Монз. — Нет, всё и проще, и сложнее. Я оплатил в его бессмертии короткий отрезок свободы. Цена — остаток моей жизни. Оказывается, люди четвёртого царства, как он называет нас, весьма платёжеспособны.
— Остаток… жизни? — побледнела Ула, вскидывая ладони к горлу, чтобы сразу же бестолково, бессильно уронить их на стол.
— За каждый день его свободы сколько-то дней или лет моей старости, — кивнул Монз. — В довесок он навсегда избавил меня от боли, суставной и костной. Превосходная сделка. Я расщедрился и ответно подарил ему своё настоящее имя. Теперь придётся вымарать дарёное имя с первой страницы моей книги без переплёта. Вместо Ан Тэмон Зан укажу — Монз… Значит, сменил я родину, всерьёз сменил, коль умру с именем этого берега моря.
— В чем его интерес? — резко уточнил Лофр.
— Он раб и получил от своего хозяина прямой приказ убить Ула, это связано с полной кровью и непонятным мне наследством древних, — выбирая слова, сообщил Монз. — Бес желал иметь время, чтобы совершить с Улом сделку на правах существа, свободного от рабского ошейника. Он не скрывал угрозы для Ула. Но… я верю в мальчика. Кроме того, я показал Улу последний, наверное, во всем мире лист книги городов. Бес числит Ула наследником древних, и вряд ли ошибается. Ещё полагает, что легко заключит сделку на своих условиях. Он умеет морочить головы, а Ул — ребёнок. Я же рассудил: убить можно и чужими руками, и издали. Пусть Ул увидит врага глаза в глаза. Пусть всё, что произойдёт, зависит от него, а не от посторонних… игроков.
— Много ли в тебе жизни осталось, гадёныш раздумчивый? — поморщился Лофр.
— Он особенно настаивал на своей полной свободе на три дня, и эти дни я был вроде как мёртвый… Да и после не сразу очнулся. Ула говорит: вчера с утра даже тело остыло, она напугалась. Но я снова живу и надеюсь увидеть весну, — Монз виновато вздохнул, избегая смотреть на маму того, кого он отправил на встречу с Рэкстом.
— Ты что наворотил, червяк? — выдавил Лофр, навалился на стол и начал подниматься. — Себя заживо хоронишь, пацана сунул в…
— Он сделал, как подсказало сердце, — едва слышно, но твёрдо, выговорила Ула.
Монз и Лофр, оба, недоуменно обмякли и глянули на неё — на мать, от которой ожидали чего угодно, но уж точно не этих слов. Омаса, и тот отвлёкся от наблюдения за двором, покосился на странную женщину. Она сидела очень прямо, казалась окончательно бледной, но спокойной.
— Ул всегда ходил у самого края, вплотную со смертью, аж сердце ныло. Но я… я не вправе запирать его и просить беречься, у него особенный удел. В ночь, когда я нашла сына, я ведь пришла к реке утопиться, — Ула пожала плечами. — Жизнь сгнила на корню. Подруга увела любимого, он состарился, но не позвал по-доброму, даже похоронив вторую жену, а я-то ждала… Сыночек умер, соседи числили меня безумной и остерегались кивнуть через ограду, чтоб я не пристала. Жить было нечем. Не для кого… и тут — он. Мой Ул особенный. Он втискивается в щель меж отчаявшимися — и их смертью. Он отспорил Лию и отогрел Сэна, он вовсе безнадёжных поворачивает к жизни. — Ула вздохнула, плотно сжала в кулаки слабые руки, убрала под передник. — Кто может быть безнадёжнее беса? Пришло и ему время встретить моего мальчика. Мой Ул жив, сердце не обманешь. Да и вы, уважаемый Монз, не лекарь, чтобы смерть себе предсказывать. Я не чую в вас непоправимого. А угляжу, так мне дела нет до договоров с бесом. Я сама решаю, на кого травы тратить, а кого не замечать.
Ула ещё раз кивнула, встала, поклонилась окаменевшим от недоумения мужчинам и покинула зал. Шла она вроде бы уверенно, но медленно, и ноги норовили споткнуться. Омасе пришлось подхватить Улу под локоть, чтобы она не упала на крыльце…
— Удивительная женщина, — шепотом выдохнул Лофр. Деловито глянул на Монза. — Она тебе — кто?
— Всё у вас, у алых, приступом, в один миг. Кто… — Монз сник. — Было опрометчиво допускать с самого начала отношения признательности. Благодарность хуже камня на шее, и порой делается слишком тяжела, — посетовал Монз, кутаясь в шерстяной плед. — Я занимался с Улом, я выделил им с мамой комнаты в доме и постепенно…
— Ага, ага! Дурак крайний, — не слушая длинную речь, отмахнулся Лофр.
Он вскинулся, засопел, поправил широченный пояс, утягивающий брюхо. Поддёрнул рукава, будто собираясь бить кого, и резвой рысью проскрипел по доскам, ссыпался с крыльца и умчался через двор, в ворота — и далее, пойди пойми, куда — в город. Это показалось очень странно даже старшим ученикам: Лофр не такой человек, чтобы бегом бегать, ему стоит шепнуть, и самые недоступные люди явятся на встречу в указанное им время. Опять же, кони у хэша лучшие в городе, а пешком ему тяжко…
Пока ученики перебирали непонятное и делали беспочвенные выводы, забыв о занятиях, Ула обошла площадку стороной, вдоль внешней стены. Травница следила, как ученики вяло, без азарта, украшают друг дружку синяками. Вот поманила одного, второго — и повела в беседку.
— Бельмо-то с малолетства, — поглаживая по щеке рябого здоровяка по кличке Шельма, принялась вещать Ула, и теперь её слушали все, ведь Шельма каждого хоть раз обворовал или обманул. А ещё он никогда и никому не дозволял безнаказанно рассматривать шрам на щеке и тем более свой попорченный глаз. — Наколол? Вот так голову поверни… Вижу, что переживаешь, оно и понятно: во втором-то глазу с весны мутнеет?
— Ну дык… — прокашлялся Шельма, известный тем, что двух слов без ругани связать не может, и потому вынужден отмалчиваться: браниться ему строго запретил сам Лофр. — Твою ж чешую, в точку.
— Дело поправимое, но лечиться надо усердно. Мазь для глазика, ещё травки в заварку и на примочки, — бормотала Ула, всматриваясь в здоровый глаз, бесцеремонно ворочая бритую башку Шельмы. — Воровать тебе вредно, деточка. Не лежит у тебя душа к поганому делу, а вот руки тянутся. Беда… ты уж следи за собой, не то душа с горя ослепнет, а такое самой сильной травкой не исправишь.
— Ну дык… прям вилы в кадык, — насторожился Шельма, отодвигаясь от травницы и опасливо изучая приготовленные ему баночку с мазью и тряпицу с травами.
— В роду у него сплошь ворье, до седьмого колена, — поделился кто-то из младших, таясь в общей куче.
Теперь занятия забросили все во дворе. Ученики толпилась, глазели на ошарашенного Шельму, сидящего в обнимку с пучком травы. Рот у бывшего вора без звука открывался и закрывался, и, кто умел читать по губам, тот распознавал весьма заковыристые ругательства…
— Подголоска лечить не стану, в нём душа вялая, с подрезанным корнем, — не оборачиваясь, сообщила травница и нащупала руку второго больного, помолчала, считая пульс. — Подвинься сюда, деточка. Нехороший у тебя кашель. Омаса?
Рослый старший сразу очутился рядом и кивнул, выражая внимание.
— Омаса, посели его отдельно. Заразный, и крепко, — вздохнула травница, прекращая щупать горло больного. — Из синего чайника пусть пьёт, а ты поставь кого внимательного — кипяток подливать. До завра он отлежится, а там гляну, что к чему.
Шельма, успевший за время осмотра второго больного сделать три кривых петли возле беседки, со стоном сунулся к травнице, выгрузил из-за пазухи ложку, малое полотенце. Добыл из кармана горсть меди, ссыпал на доски — и побрёл прочь.
— Хороший мальчик, — безмятежно улыбнулась Ула, глядя вслед.
— Когда спит, к стенке поворотясь… но и тогда не особо, — Омаса поскрёб затылок. — Разве руки скрутить, да в подпол… А ну его! Хэш не гонит, значит, хэшу виднее! У нас двое вчера крепко поранились, позову?
— Зови, — кивнула травница.
Дверца в левой воротине с грохотом впечаталась в стену, пропуская спешащего из города Лофра. В новенькой парадной рубахе, при тяжеленном букете. На лице хэша наблюдалась устрашающая сосредоточенность, с какой людей убивают, и никак не менее.
Лофр прошагал через двор и шваркнул букет об пол беседки.
— Живо заканчивай тереть им сопли, — велел он, взбираясь на подушки и устраиваясь. — Мне, видишь ли, гости не надобны. Обживайся по полной, а для такого женщине требуются всякости вроде мебели и платьев. Омаса, проследи, чтоб после обеда был готов выезд. Из правого крыла, из двух комнат, вон те окна, пусть начисто всё повыкинут. Ула вселится, чтоб с отдельным крыльцом, вы ж иначе через окно лазать повадитесь из-за всякого крайнего синяка.
Травница покосилась на помятый букет, занимающий полбеседки, потупилась и промолчала, то есть — согласилась селиться и ехать в город за покупками. Лофр довольно хмыкнул, принял очередную неизбежную порцию отвара и залпом выпил.
Тёртое, всякое повидавшее население «Алого Льва» впало в оцепенение: как обращаться к гостье, если сам хозяин отказался называть её гостьей?
Путь Ула. Ответы без вопросов
Что это значит: добровольно принять чужую тяжкую ошибку и все её последствия? Когда Клог хэш Ул держал руку над картой палача и смотрел на багряного беса Рэкста, ответа не было. Не удалось даже задать себе такой вопрос. Колода карт иерархии с первого взгляда вызывала отвращение. Касаться тонких, чуть светящихся прямоугольников казалось невообразимо противно: ледяные они, в коросте мерзости…
Но Ул сломал себя и взял карту. То был порыв, не спровоцированный хладнокровным расчётом или страхом. В глубине рыже-алых, бешено пульсирующих зрачков беса Рэкста читалось такое… хэш Лофр называл это «краем». Бес изнемогал, раздавленный прошлым, стёртый вместе со своей памятью, окончательно страшный. Бес желал смерти всем, но в первую очередь — именно себе. Бес не нуждался в жалости, сострадании, защите… он был — бес, существо со взглядом и повадкой дикого зверя. Он назвал себя высшим хищником не ради похвальбы…
Почему же душа Ула настойчиво потребовала дать бесу казнь, а с ней и свободу, окончательную и полную после расчёта с прошлым?
«Будь я умён взрослым умом, я бы задал себе вопросы и до сих пор искал ответы, взвешивал цену и учитывал угрозы. Так и говорил драконий вервр Лоэн. Он ведь и сам бес», — подумал Ул.
Ул привёл Рэкста на место преступления и приговорил, то ли как судья, то ли как представитель жертвы. А после… ещё вопрос, кто кого казнил! Рука Ула метнулась к лицу беса, под пальцами лопнуло горячее, боль Рэкста вошла в сознание — как своя и даже острее. Ул по-настоящему прочувствовал, что значит стать палачом.
Бес очнулся и ушёл, не отомстив за ослепление. А слепой от ужаса содеянного Ул долго лежал, не размыкая век и не слыша ничего, кроме бешенного скока сердца… Он стал несвободен. Его, будто шавку на поводке, потянуло невесть куда, в большую игру загадочной и могучей королевы. Ул втиснулся в прореху мироздания, созданную росчерком тощей осенней молнии. Казнь забрала всё — силы, рассудок, тепло души. Ночь родного мира осталась позади… Ула сдавило, как тряпку, выкручиваемую при отжиме.
В междумирье иссякло всё привычное. Ул, не размыкая век, позволял отжимать себя, высачивать. Кто бы ни затеял эту стирку, авось, он знает, чем следует её завершить. После казни не так и плохо быть… выстиранным. Занятно: как долго его треплют и почему до сих пор не смогли растрепать?
«Я забрал карту палача, но я помню своё имя, — думал Ул. — Я помню, а бес забыл. Это важно. Я по-прежнему Клог хэш Ул, я весь тут, я знаю свою жизнь от ночи, когда мама нашла в реке корзину. Я тогда был мертвее и холоднее девочки, убитой Рэкстом. И все же я ощутил тепло маминой улыбки. И поверил ей, и смог выжить».
Щеку погладил знакомый ветерок. Он и здесь следовал за Улом, шелестел осенним листком, путался в волосах… Чутье подсказывало, что глаза открывать бессмысленно. В междумирье слоится туман. Он весь — обман, он не способен осесть влагой на рубахе и коже, он лишён запахов реки и дождя, росы и грибов, снега и болота… Туман — лишь завеса, он отгораживает от непостижимого, чуждого.
Ул едва заметно улыбнулся. Ветерок нашептал: то, что яростно мнёт тело и душу, не одолеет. Наследнику атлов посильна дорога, пока ему хватит упорства.
Но куда следует двигаться? Ул грустно усмехнулся. Впервые с рождения у него есть цель. Карта палача, пусть и жуткая — не только капкан, но и пропуск в огромный мир, доступный таким, как бес и Лоэн. Иерархия бессмертных — часть этого мира. И главный узел в опасном деле, которое надо разобрать до самой малой мелочи. С чего все началось? Преступление это было или наслоение ошибок? Кто виновен и почему не прекращается причинение вреда мирам и царствам? С иерархией и её тайнами не стал связываться никто из атлов прошлого. Не мог отправиться или — не пожелал?
Дойти до сути нечеловеческих бед, вторгшихся вместе с бесами в мир людей — это и есть настоящее наследство. А сила, дар — не более чем средство. «К каждому толковому наследству прилагается тайна», — сказал Монз. Как обычно, учитель прав…
Теплом на спине ощущалось внимание: мама часто думает о своём Уле.
Холодом обжигал страх: знала бы мама, что наворотил её самоуверенный сын! Бес Рэкст в древние времена сделал последний свободный выбор вслепую, если помнит верно. По его словам выходит, он не ведал, какую вытянет карту, не понимал, что для любого бессмертного найдутся оковы надлежащей прочности. Но, предлагая выбор Улу, бес не скрыл необратимость его и последствия…
Сознание путалось, мысли и воспоминания крутились стаей шуршащих голосов… «Гадалки хуже татей ночных», — вздыхал лодочник Коно. В детстве со стариком было здорово рыбачить… Он как-то рассказал о весне после большого мора. Ул буквально видел последнюю в деревне костлявую корову, впряжённую в ярмо. Ну, а ляжет скотина — впрягутся люди. Им не по силам? Что с того… Жалуются богатые: в их распоряжении и время, и слушатель. А весной в поле лишь двое ведут бой, пахарь — и голодная смерть…
«Я доберусь, — пообещал себе Ул. — Разберусь. Пахать-то я умею».
Словно осознав бесполезность выжимания страха из души, не содержащей его, туман хрустнул, подался и вышвырнул Ула!
Тело с размаха впечаталась в каменно-твёрдую, полого-волнистую поверхность. По закрытым векам полоснул чудовищный свет… Ул закричал, отдал остатки родного воздуха, попытался вдохнуть здешний, выгнулся в спазме… и потерял сознание.
Скоро ли, нескоро — Ул снова очнулся. Чужой мир сделался посилен. Холодный, жёсткий. Ул осторожно сел, убрал ладонь от лица, приоткрыл глаза.
Во все стороны простирался серый камень с узором неровностей, похожих на речные волны. В каких-то пяти шагах помещался валун, на нем сидел… ворон? Ул зажмурился, поморгал и встряхнулся.
Валун остался на том же месте, хотя перестал казаться таковым. Неподвижный и чёрный… вот отчего он представился камнем! И взгляд — птичий… Острый, немигающий. Кем бы ни был «валун», он произвёл со второго взгляда огромное впечатление. Мощь плеч, тяжёлые пласты мышц… Слишком маленькая голова с волосами, невесть с чего похожими на перья. Крошечные круглые глазки, лишённые выражения.
— Здравствуйте, — Ул низко поклонился, ведь «валун» наверняка был очень и очень взрослый.
— Вторжение, — густой бас поплыл над рябью камня, и вроде бы взволновал её, и погнал звук дальше, дальше…
«Валун» гибко поднялся, перетёк в позу готовности к бою. Он навис над Улом, вдвое или даже более превышая его в росте и, пожалуй, вшестеро — в ширине…
— Нет же, я не сюда шёл и у меня… — пискнул Ул, пятясь.
«Валун» в одно неуловимое движение оказался рядом. Огромная лопата ладони прицелилась в горло и стала надвигаться в рубящем ударе — ближе, ближе… и медленнее. И ещё медленнее!
Ул шагнул в сторону, метнулся прочь! На пятом прыжке он разобрал рычание, камень под ногами задрожал: «валун» рухнул, вложив слишком много сил в промах.
И снова встал. И развернулся. И надвинулся.
— Вторжение, — бас покатился мощнее, зарокотал штормовым прибоем.
Две огромные руки, тяжёлые от мышц, хлёстко взмахнули — и стали сходиться, чтобы рёбрами ладоней срубить шею Ула. Ближе, опаснее — и медленнее… ещё медленнее! Ул отпрыгнул, метнулся прочь. Расслышал хруст почти что вывихнутых плеч врага.
— Вторжение, — третий раз прогудел неуёмный «валун».
Теперь Ул рассмотрел его: голова очень маленькая, волосы длиннющие, сплетены в свободную косу и заткнуты сзади несколькими витками за пояс.
Для четвертой атаки «валун» выбрал удар ногой. Снова время остановилось, и Ул использовал заминку, чтобы — как учила книга Монза — ткнуть в несколько точек на темной коже упрямого бойца, свести вместе его безвольно повисшие руки, обмотать запястья волосами непомерно длинной косы.
— Вторжение, — пробасил воин, лёжа на боку и ворочаясь, и норовя даже теперь дотянуться до врага.
Ул ускользал от всякой попытки «валуна» перекатиться и подмять, ощупывал пояс бойца, потрошил замеченный только что плоский кошель. Наконец, Ул выудил единственную вещь, вложенную внутрь — и сел, морщась от отвращения.
Карта. Снова карта… из той же рабской колоды, оставляющей каждому бессмертному ничтожную роль исполнителя. Точно оттуда: рамки у всех карт смутно подобны, они сплошные, тёмные и будто… глубокие? В прямоугольнике этой вот рамки, как в колодце, видны вдали, в сумраке, закрытые ворота.
— Я возьму вашу карту на время разговора, — сообщил Ул и сжал карту в ладони.
Прямоугольник нагрелся, обжёг руку… и сразу захотелось сказать неизбежное — «вторжение».
— Вто-о… — бас связанного воина поперхнулся, сошёл на гудение, иссяк.
Мелкие чёрные глазки, по-птичьи круглые, в складчатых веках без ресниц, сморгнули, сделались осмысленными.
— Вы… кто? — быстро спросил Ул, пока просветление у «валуна» не закончилось.
— Привратник, — раздумчиво выговорил воин. Наморщил лоб. — Карта. Не я. Или карта — и я? Или карта… а меня нет.
— Имя своё помните?
— Тьма. Всюду тьма и… душно. Не могу уйти. Не могу ничего.
— Ну, знаете, как ещё посмотреть! Вы так меня загоняли, что я на год вперёд набегался, — посетовал Ул, на всякий случай отодвигаясь, когда «валун» качнулся и сел, используя силу едва послушных ног при безвольных, парализованных руках. — Позвольте спросить: а вы зачем взяли карту?
— Взял?.. Не брал! Она моя, всегда. Подарок? Судьба? — боец задумался.
— Вот-вот! И вы не брали, и тот бес тоже. Ничего себе загадка! Нет, скорее преступление. Порабощение, совершенное обманом. Да-а… Куда мне дальше-то идти? И что я тут делаю? — не надеясь на ответ, пробормотал Ул. Покосился на связанного. — Сперва я принял вас за ворона на камне. Ну, голова — как птица. Ворон. А на каком языке мы говорим?
— Ворон, — повторил боец и вдруг улыбнулся. — Да. Острое зрение души. И моё возвращается. Ты — маленький атл. Я — Ворон Теней, в двуногом облике имя мне Ург. Помню… сейчас — помню. Помню! Имя крылатого облика не помню. Жаль… Мог бы улететь и обрести свободу. Но даже половина памяти лучше тьмы без края.
Улыбка стала шире. Взгляд изучил Ула с головы до пят.
— Мы говорим на моём родном наречии, — помолчав, добавил Ург. — Так устроены бессмертные любого царства. Входя в мир, мы принимаем его закон и переделываем себя. Я склонен назвать такое поведение вежливостью, а не умением выжить. Ты быстро изменился. Успел до боя. Благодарю, ты остался жив. Смог вернуть мне первое имя.
— А что делать с вашей картой? Мне трудно её удерживать. Рука немеет.
— Положи, — Ург кивком указал место справа, чуть в стороне. Взрыкнул, и по серому полю прокатилась волна, накрыла карту и вплавила в себя. — Уйти не смогу… но так гораздо лучше, маленький атл. У тебя пока нет годных вопросов, слишком всё чужое, я вижу. Хорошо вернуть зрение! Я — Ворон Теней, и я оказался замурован в озеро окаменелого времени…. Безвременного камня? Не важно. Вижу: ты встрял в непосильное, наследник. Решение взять чужую карту и чужую ошибку любой назовёт поспешным и неверным. Но таково решение атла. Только тебе посильно сделать его верным… если посильно.
— То вы ничего не знаете, то — всё вам ведомо… — поразился Ул.
— Не трать себя на жалобы. Не жди подсказок. — Ург прикрыл глаза. — Найди ответ о моей карте. Тогда я ещё пригожусь тебе. Пока же встань спиной к моей спине. Оттуда иди, как победитель. Дальше, до конца. Я чую на тебе запах вервра, я прежде знал его, он был могуч. Теперь ослаб душой. Умолчи, что принял его карту, и её до поры не увидят. Нет у них зрения ворона. Скажи: тот вервр пообещал тебе ценность. Сам реши, какую. Скажи: он велел готовиться к испытанию. Не поверят, но передышку получишь. Умей быть внимательным и быстрым, маленький атл. Выбирай сердцем. Иди.
— Благодарю, — ошарашено кивнул Ул.
— Благодарность пуста, — оборвал Ург. — Верни мне свободу, найди ответ: как я оказался здесь с картой, если никогда не выбирал её? Ответ — плата за то, что я проиграл тебе бой. Помни: проиграть было непросто, маленький атл.
— Ну… да, — сглотнув сухим горлом и ощутив мгновенный озноб, Ул протрезвел от глупой гордости за свою победу.
— Ты быстрее времени, но мне не важно время. Прошлое и будущее, такие мелочи… Совсем пустые, — усмехнулся Ург. — Я — Ворон Теней, именно я поставлен ждать и убить тебя, наследник. Все ответы в тебе, ты атл, идущий по тропе запредельной. Осталось подобрать к ответам вопросы, как ключи к сундукам. Иди.
Столичные истории. …да здравствует бес!
День дал столице много сплетен: о беготне хозяина «Алого Льва» с букетом цветов, о заселении в его дом гостьи на правах хозяйки. Обсуждали бессчётные покупки: прежде-то поход по лавкам способен был вызвать лишь насмешки хэша. И вот, после суеты, Лофр — сам Лофр, первый на всю столицу наставник боевых искусств — проспал утренние занятия учеников! Проспал — и не расстроился!
Когда хэш всё же вышел во двор, он запрокинул голову и долго созерцал высокое солнце. Он выглядел румяным, бодрым… и окончательно невменяемым. Опустошая чайник за чайником и слушая наставления травницы, Лофр до обеда просидел в новой беседке. Он смотрел поверх голов, хмурился, пропускал мимо ушей отчёты наставников и старших учеников. Затем вызвал двух недорослей с крепким ремесленным прошлым и велел соорудить весы. Зачем? Сперва такой вопрос не возник: хэш всегда знает, что правильно в его собственном доме. И, если он пожелал взвешиваться после обеда, почему бы нет? Даже когда на следующий день он взвесился трижды, и всё это — ещё до полудня… И трижды — от обеда и до отхода ко сну… Всякое бывает.
Новое утро не успело запалить первую солнечную лучину для растопки очага зари, а хэш уже топтался на весах, разбудив Омасу и капризно — это Лофр-то! — донимая расспросами: не подменил ли кто ночью весовые мешки?
Как не счесть подобное поведение странным? Тем более, впервые на памяти учеников ответы Омасы оказались негодны, и на допрос к хэшу побрёл сонный Шельма — неизменный виновник или хотя бы свидетель любых пропаж имущества. Он долго, обиженно отнекивался: не лил воду в песок, не видел, чтоб иные меняли груз, не подстрекал малышню. Чужаков в кольце стен не примечал!
— В хорошее верить — край, как трудно, — наконец, решил Лофр, настороженно изучая три малых мешочка, убранные с платформы, уравновешивающей его тушу. — Или я всерьёз худею, или все вы крайние хитрецы. Но я не худею десять лет, а в вас хитрость прибывает непрестанно…
Хэш привычно похлопал себя по брюху, пробормотал нечто маловнятное о делах, какие нипочём не отложить. Снова глянув на крохотный мешочек с песком, отложенный в сторону — свою убыль в весе, уже несомненную — Лофр потребовал выезд и парадную одежду. Побрёл переодеваться, кивнув Омасе: мол, доверю выслушать наставления явившейся на шум Улы, чтобы затем упаковать нужное и в городе своевременно подавать настои, капли и по возможности запаривать травы.
Снова всё сложилось вроде бы правильно: память у «дубины» превосходная, исполнительности хватит на троих. Наконец, кто откажет любимцу Лофра, которого знает и уважает даже распоследняя шваль?
Скоро к карете вместе с переодетым Лофром прошаркал Монз, кряхтя и опираясь на новенькую полированную трость. Переписчик выглядел торжественно, даже подвязал гербовую ленту под кружевным воротом: такие дозволяется носить лишь обладателям очень яркого дара, доказанного делами. Лофр, уже сидя в карете, выглянул, щелчком пальцев привлёк внимание Омасы — и указал ему место кучера.
И вот, ни свет ни заря, четвёрка безупречных коней играючи утянула тяжёлую парадную карету — в ворота, дальше по улице, за угол… звук сделался тише, глуше… угас. Пыль осела, суета развеялась. Тут и рухнуло на двор ошарашенное, глухое недоумение.
— Вот же ж гра-бля, — разделяя надвое последнее слово, высказал общий настрой Шельма, азартно расчёсывая бритый затылок. — Чё за чё-о, козыри ох-не-ей…
— Деточка, — вздохнула Ула, вслушиваясь. — Мне бы хоть одно словечко понять.
— Ну ж… Ща ж, — смутился Шельма и… сгинул.
Все ученики знали непостижимую особенность массивного тела Шельмы: растворяться в воздухе хоть темной ночью, хоть средь бела дня. Не помогало самое усердное наблюдение. Да возьми Шельму за руку — и то без толку! Вот он сиднем сидит посреди двора, в носу ковыряет, чешет бок, сонно моргает… и вдруг — пропал! А ты весь внимание, пить не пил хмельного… но остался глупо охать и сомневаться: а всё ли ладно у тебя со зрением? Правда, в минувшие два дня отыскать Шельму удавалось даже младшим ученикам. Надо было всего лишь внимательно изучить пространство шагах в сорока от травницы, — и обязательно там обнаруживался Шельма, занятый каким угодно делом, будь то усердное исполнение урока с оружием на солнцепёке, отлынивание от забот в тени или непроизвольная для воровской его породы слежка хоть за кем, даже и за приятелем, но непременно украдкой.
Для травницы исчезновение Шельмы было внове, Ула щурилась и охала, смущённо улыбалась, не имея сил решить: ждать «деточку» или идти к дому? Ночь вылиняла, но ещё не стала утром, холодно на дворе по-осеннему, промозгло. Ветерок посвистывает, того и гляди — белых мух зазовёт, чтоб по первому разу высеребрить траву…
— Во!
Ула вздрогнула и всплеснула руками: Шельма снова стоял на прежнем месте. Только теперь у него на плече примостился тощий уродец, похожий на облезлого птенца. Блеклый, помятый, заспанный. Сальные волосы торчат во все стороны, как мокрые перья. Робкая улыбка подпорчена нехваткой переднего зуба.
— Брат говорит, — пропищал кривоплечий, по-цыплячьи вытягивая шею, укутанную в три оборота пухового шарфа, — что в «Алом Льве» дела решает хэш или его доверенный ученик. Омаса отбыл, никто иной не назначен. Хэш был задумчив сверх обычного. При воротах в ночь стоял брат, так что он вроде и козырь… то есть старший. Только хэш не мог его оставить. Брат думает, вы, тётушка, и есть главная. Вы должны знать о таком деле.
— Ты кто же будешь? — улыбнулась Ула.
Она с некоторым недоумением приняла из рук Шельмы вышитую шаль — новую, выбранную в подарок самим Лофром. Накинула, вмиг согрелась и предпочла не думать, как ловкач добыл вещь, с вечера уложенную в сундук, на дно: слишком дорогая, носить такую показалось неловко. В комнате при разборе покупок никого не было, занавески на окне оставались опущены, да и сундук — а не на замке ли он? Похоже, остался не заперт, привычки к сбережению имущества у Улы не водилось с молодости. И прятать нечего, и травники — они живут при открытых дверях, ведь больные находят к ним путь днём и ночью, в хорошую погоду и в дождь.
— Зябко… до чего ты заботливый, деточка.
— Ну дык… — шея Шельмы заметно порозовела.
— Он такой, — пискнул уродец. — Только не все видят. Я зовусь Голос, тётушка. Шель умыкнул меня у воров. Я до воров жил в доме синего ноба, числился за ученика. Ноб оказался мошенником, влез в долги и оставил в залог меня. Когда он сбежал, за его долг меня — в сявки пегие… простите, это примерно значит: последним в раздаче еды и первым при битье.
— Почему ты не живёшь в «Алом Льве»? — Ула расправила на плечах шаль и двинулась к беседке, как ей украдкой показал Шельма.
— Хэш прогнал, — Голос улыбнулся во весь щербатый рот. — Прав, не сомневайтесь! Шелю дай слабину, он в один день натащит сюда прорву народа и утащит отсюда воз ценностей.
— Твою ж чешую! Нык… хе… н-да…
Шельма яростно глотал большую часть слов, давился ими. Лишние звуки так и булькали глубоко в горле. Но даже там узнавались, как ругательные.
— Он сказал, тётушка, что теперь старается не брать чужого, даже когда оно совсем криво лежит, — перевёл Голос, сморщил нос в недоумении и что-то быстро прошелестел в ухо Шельме. Выслушал тихий, мимолётный ответ. — Шель сказал, что… а, не важно. Он не то говорит, что думает. Он заинтересован в травах. Я бы так спросил вместо его слов: травами можно занять руки, чтобы вышло надёжно и с пользой?
— Можно, — кивнула Ула, оперлась на неловко подсунутый локоть Шельмы и поднялась в беседку.
Двое младших уже разжигали самовар, ещё двое, стоило Шельме моргнуть, приволокли с десяток подушек и меховое одеяло, которым укутали ноги Улы.
Шельма безразлично к погоде плюхнулся на холодную землю рядом с беседкой, принялся без слов тыкать пальцем в людей и направлять их по обычным делам, обозначаемым жестами и движениями бровей. Ученики понимали без слов — к немалому удивлению Улы.
Что бы ни вынудило Лофра уехать внезапно и без пояснений, пожалуй, при усердии Шельмы день минует благополучно, — решила травница, готовя настои для больных и здоровых, чайник за чайником. Ула осторожно улыбнулась: самым большим событием дня она сочла двуглавое существо, составленное из онемевшего по приказу Лофра вора — и сидящего на его плече болтливого уродца. Вдвоём они были умнее и спокойнее Шельмы, здоровее и солиднее цыплёнка-Голоса…
Заря румянила небо, ученики разминались, слушали задания на утро и поглядывали в сторону кухни, принюхивались к приманчивым запахам. Куда бы ни уехал Лофр, — рассуждала Ула, успокаиваясь по-настоящему, — наверняка он вернётся скоро, раз не оставил старшего. И всё обойдётся складно.
— Шель, деточка, постуди и приложи к глазу, — велела Ула, осторожно подавая чашку. В обжигающем отваре был утоплен тряпичный узелок, набитый травой. — Горячее в пользу, лишь бы терпеть можно. И моргай почаще.
— Блы… благ-дрю, — с заминкой выговорил Шельма и принял чашку.
Голос так и сидел у него на плече. Кажется, для Шельмы это было удобно и привычно.
— Сколько тебе лет? — задумалась Ула, глядя на кривого недоросля. — Ты почти взрослый, так?
— Никто не сообразил с одного взгляда кроме вас, тётушка. Семнадцать, если мне в ту зиму не всю память отбили и поморозили, — усмехнулся Голос. — Шель умыкнул меня, как только приметил, и было это давно, лет пять назад. Так худо приходилось, я кошмар от яви не различал уже… много раз думал, что умер. Очухавшись, жалел, что не сдох… У Шеля в логове отлежался, и к весне мне полегчало. Тогда я всерьёз понял: даже обмороженным уродам жизнь — в радость. К тому же Шель меня не бросил, пристроил писарем. Постепенно я сделался состоятельный, живу в своей комнате. Раз в неделю мы вдвоём вкусно обедаем. Лофр его отпускает, вроде как в гости.
Ула посмотрела на свои пальцы — слабые, тонкие. Виновато вздохнула.
— Косточки я не умею, — признала она. — Много раз пробовала, а оно не ладится, ни в какую. Тебе бы спину поправить. Не поздно ещё, я вижу.
Голос отмахнулся без огорчения. Рука у него — отметила внимательная к знакам болезни Ула — невесомая, с длинными пальцами в чернильных пятнышках, похожих на старческие родинки. Ногти синюшные, вены пустые, суставы крупноваты и наверняка к непогоде ноют, что почти немыслимо в семнадцать-то лет.
— Мой сынок справился бы, — предположила Ула. Прикрыла глаза, думая о своём Уле… где он, здоров ли, ведь ни весточки, ни знака. — Мой Ул — он…
— Во-ро-та-а, — вдруг заверещал Голос.
Ула распахнула глаза. От покоя прохладного утра не осталось и следа! Уродец-Голос лежал на краю настила беседки, нелепо сучил бессильными ногами и всё кричал про ворота, запрокидывая голову и стукаясь затылком о доски.
— Бы-ра! Ща урою ёх… нах!
Шельма рычал жутко и спешил злее злого! Вот он перекатился, взвился в прыжке, и в полете извернулся и развернулся… оскалился зверем, прянул через двор, рыча ещё более невнятно.
Ула вздрогнула. Ей показалось, что мир рушится, и всё происходит так непоправимо и страшно, как бывает только в кошмарном сне. Дышать нет мочи! Тьма застит. Вдали, на улице, крепнет рокот: храп, конский топот, хлёсткие удары — кнут?
— С-сук, кол в… вых в жо-о-оп-о… — Шельма подавился, начал утробно подвывать, не тратясь на слова.
Младшие всколыхнулись, кто-то ближний к воротам первым рванулся отпирать, налёг на тяжёлый брус. Другие стали помогать. Вот, охая от натуги, уже четверо отпихивают… Шельма долетел до ворот, впечатался в закрытую створку и перекатился по ней, извернулся, вкладывая силу и толкая соседнюю — отпираемую.
Копыта грохотали уже совсем рядом. Воротина охнула, подалась, подчиняясь натиску снаружи. Шельму отшвырнуло — и в щель ворвался, как огонь при хорошей тяге, алый, яростно-яркий конь.
— Во-ба, бы-ра! — взревел Шельма, перекатился по плиткам и упруго вскочил.
— Запирай! — крикнул Голос.
Люди уже исполняли дело, поняв его без подсказки и перевода. На выдохе, с криком, налегли, одолевая набранную створкой ворот силу движения — стали толкать обратно… Уже четверо, и пятый помогает, шестой… Шельма прыжком оказался у арки ворот и в одно движение вогнал в проушины запорный брус.
Алый скакун тем временем в три прыжка ворвался в центр двора, расчистил себе обширное пространство, танцуя, непрестанно изворачиваясь. Вот он особенно ловко кинул задом — ноги выше головы и пошли винтом, махнули широко… Седок с оханьем улетел… упал далеко, впечатался в плиты двора, сник без движения.
Свободный от людской власти скакун победно завизжал, загарцевал, непрестанно взвиваясь на дыбы и разворачиваясь, чтобы отбиться — будто он в гуще кипучего смертного боя… Конь ржал отчаянно и зло, крутился снова и снова… Но постепенно круги делались меньше: Шельма тоже метался по двору, влившись в бешеный ритм конской паники и умудряясь скользить неуловимо быстро, совершенно плавно. Он постоянно оставался перед оскаленной мордой. Он протягивал раскрытую руку к этой клацающей зубами вспененной морде. Он, не пытаясь поймать повод, лишь приглашал поверить, что вражды нет.
— Ча, ча-а, — Шельма негромко приговаривал, причмокивал, чуть приседал. Он покачивался и кивал, то отступал на полшага, то приближался, чтобы снова отскочить и кружить… — А-а, ча-а… а-ча-а-а… Ща-ча-аа урою всех, вашу — ча-а…
Ула осмотрелась, комкая шаль. Старшие ученики уже покидали оружейную, их было десятка два, все при оголённых саблях. Несколько человек натягивали тетивы на луки. Мелюзга деятельно сновала туда-сюда, убирая со двора всё лишнее и расставляя дощатые заслоны, раздавая пластинчатые щиты.
От главного дома подходили слуги… и только старший конюх — Ула смутно помнила его в лицо — стоял столбом и моргал. Именно его, похоже, и собирался урыть Шельма за столь бестолковое поведение.
— Или знают, что Лофра нет на дворе, или налёт вовсе случайный, — пискнул Голос, поймав взгляд Улы. Подумал и добавил: — У хэша тихо, он умён. Да и бешеный он, как подобает алому. Надо выжить из ума, чтоб открыто враждовать с нобом его опыта и силы крови. Пожалуй, беда внезапная. Абы кто сюда не сунется, тётушка.
За стенами постоялого двора, вдали, копился и катился всё ближе шум, он был обширный, смутный и тревожный. Люди, лошади, сталь… Но Шельма не обращал внимания на новые беды и продолжал успокаивать скакуна. И все во дворе, как ни странно, смотрели на коня, словно он — чудо и невидаль.
— В конях я понимаю мало, — пискнул Голос, и Ула преисполнилась уважения к рассудительности и хладнокровию приятеля Шельмы, — а только как бы не оказался в нашем дворе конь самого графа Рэкста. То есть багряного беса, тётушка. Страннее странного дело выворачивается: конь его всегда при нем. Никто не вправе сесть в седло. Какое там! Повод тронешь без приказа, и не жилец ты… Совсем дело непонятное.
Алый скакун резко встал, всхрапнул… раздумчиво нагнул голову и рассмотрел Шельму, сидящего перед ним на четвереньках. Напоследок конь клацнул зубами, для порядка. И вздохнул спокойно, переступая и поводя боками.
— Мать вашу нах… ды-ык, чтоб меня-а, — восторженно вывел Шельма, протянул руку и осторожно коснулся вспененных конских губ. — Пэм. Алый Пэм! Алый Пэм. Алый… Алый… Ча-а… Пэм. Ча-а…
Шельма повторял эти слова снова и снова, шёпотом и нараспев, как заклинание. Он пьяно, широко улыбался и припадал к копытам, трогал их дрожащими от возбуждения пальцами. Он прослезился от избытка чувств!
— Да, конь беса, — перевёл происходящее Голос. — Мечта хэша. И Шеля — тоже… он жаждал умыкнуть Пэма с того дня, как увидел впервые.
Ула сбросила с ног меховое одеяло и быстро прошла к лежащему без движения седоку яростного коня. Краем глаза она отметила: Шельма уже щупает уздечку и гладит конскую шею, тёмную от пота. Пэм более не скалится, а всего-то доверчиво, устало упирается в крепкое человечье плечо…
Скинутый седок оказался совсем молодым. Он, судя по первому осмотру, не пострадал, при падении потерял сознание даже не от удара — от усталости, а сверх того от страха, который наконец нагнал и одолел бедолагу… Лицо землистое, под глазами тёмные круги. Рубаха насквозь мокрая, мышцы дрожат в спазме, не унимаются — не иначе, мчаться вскачь пришлось долго, без отдыха.
Ула приготовила неразбавленные капли, влила из малого напёрстка в рот беспамятному. Набрызгала крепкой, остро пахнущей настойки на платок и велела присевшему рядом младшему ученику держать у ноздрей больного. Приказала ещё кому-то, не глядя, готовить кровать: кости целы, пострадавшего можно без опаски поднять и унести. И обязательно следует менять холодные примочки на лбу, и ещё…
В запертые ворота вломилось нечто чудовищно тяжёлое! Прочные створки загудели, вроде бы даже прогнулись… Выдержали.
Стало тихо. Ула отвернулась от беспамятного парня, встала, выпрямилась — и настороженно глянула на ворота, чуя за ними беду. Неожиданную и очень большую. Прямо-таки огромную… На улице всё стихло. Только кони переступали и всхрапывали, только позвякивала сбруя. И — ни голоса людского, ни звука шагов, ни скрипа повозок. Будто вымер огромный город.
— Открывайте, — приказал бархатный, великолепно красивый мужской голос. Довольно низкий, но ещё не бас. Весьма властный, но ещё не грубый. — Именем беса. В вашем дворе беззаконно укрыто моё имущество. Я заберу его, я в своём праве. Верну своё и накажу воров. Вы внутри, ворота заперты. Значит, вы — воры.
Шельма уронил повод из дрогнувшей руки. Он тоже обернулся к воротам. Теперь туда смотрели все. Молча, насторожено, а то и обречённо. Старшие ученики опустили оружие. Младшие более не натягивали тетивы, не брали в руки стрел. Как воевать с бесом, когда он прав, а хэша даже нет дома? За что воевать, если конь чужой, а седок его — вовсе незнакомый человек… может, впрямь вор?
— Именем беса и властью его, — повторил чарующий голос.
Ула вздрогнула, будто прямо теперь очнулась от кошмарного сна. Ведь это — явь! Травница поёжилась, чуя пробирающий сквозь шаль ветерок. Бодрый, зябкий… зато — пробуждающий. Ула огляделась, жестом велела скорее унести бессознательного седока. Какой там вор, — прикинула она, в один взгляд рассмотрев простоватое, деревенское лицо, бедную, но опрятную одежду.
Как ни странно, приказа Улы послушались сразу, охотно. Люди переложили на её плечи ответственность… кто назван старшим, тот и должен решать.
Чуть дрожавшие пальцы перебрали бесполезные травы в бесполезном малом коробе… Ула поправила роскошную шаль, подарок Лофра. Теплее не стало, но беспокойство сгинуло. Рука нащупала тонкий нож для резки корней, сжала.
— Укажите имя беса, коим вы прикрываетесь, — резко пропищал Голос. Вытянул кривую свою шейку, и голова дёрнулась, запрокинулась. — Ваш голос не принадлежит известному нам багряному бесу. Имущество же его, и только его именем может быть востребовано.
— Имя моё Альвир, и отныне это мой город, а пожалуй и так: это мой мир, — отозвался чарующий голос из-за ворот. — Воры, ваше время иссякло.
Шельма дёрнулся вперёд, хмуро, исподлобья, глядя на запертые ворота. Ула как-то сразу поняла: упрямец один из немногих во дворе готов взять на себя бремя ответственности. Он намерен выйти на улицу и назваться вором, снимая угрозу с прочих людей «Алого Льва».
— Стой, без пользы затея, — вымолвила Ула. — Им не вор надобен, им иное важно.
— В-время, — запнулся Шельма, мельком оглянулся на Улу и снова шагнул к воротам.
Ула кивнула. Все знают: кто виновен перед бесом напрямую, может быть наказан им без посредничества людских законов. Убить бес не убьёт, по крайней мере сам… но изуродует как угодно тяжко. Или же отдаст ближним, свите.
Кем бы ни был загадочный Альвир — а Ула не слышала прежде такого имени беса — нелюдь сейчас заявил о себе, как о преемнике Рэкста. Значит, он стремится доказать силу, но кому? Лофру, столице, вообще всем людям? Пойди пойми, он — бессмерть! Ясно лишь, что бесу жизненно важно заполучить алого коня. Может, ещё и его седока… Виден в словах беса и затаённый подвох: новоявленный Альвир стращает из-за ворот, торопит. Вот и Шельма сказал: главное — время.
Ула прошла и встала рядом с Шельмой, прихватив его за рубаху. Выдав хоть одного человека, ничего уже не выиграть и никого не остановить. И, как бы то ни было, она не позволит такого.
— Я жду, — прошелестел бес.
— Шель, уж прости, — едва слышно выдохнула Ула, решившись. Она жестом приказала лечь. — Прости… а только быть тебе мёртвым.
Шельма недоуменно сморгнул, но продолжил исполнять указания руки, поправляющей положение его плеч, головы. Тонкий нож рассёк кожу на щеке и лбу почти безболезненно, крови много — вреда мало… и шрама не останется, — пообещала себе Ула. Нащупала по одной шпильки, выбрала из причёски.
Волосы упали на плечи, руки помогли дополнить беспорядок. Ула прошла к беспокойно вздрагивающему алому коню, собралась стегнуть скакуна. Рядом возник рослый ученик Лофра, почти незнакомый в лицо — из старших, определённо — отстранил, сам хлестнул коня и сам же подставился под удар копыт.
Визг, цокот, оханье, звук падения тела… всё это разобрали за воротами. Притихли, вслушиваясь и недоумевая.
— Уби-ли-и, — припоминая родную деревню и себя, лучшую в Тихой Заводи плакальщицу, Ула тонко и пронзительно завела пробную жалобу. — Уби-и-или…
За воротами стало тише, чем это вообще возможно! Двор тоже замер, окаменел весь, до последнего ученика.
Есть лишь одно дело, недопустимое для беса: беспричинное убийство. Если верить слухам, из-за такого поступка сам бес может сгинуть из мира!
— Лю-ди-и, да что ж это-о де-ет-ся, — горло осваивалось с нужным тоном, постепенно позволяя прибавить громкости и расширить границы звучания, вплетая в плач и дрожащий, пугающе-высокий звон, и низкие, утробно-жуткие переливы волчьего воя. — Лю-у-ди… Уби-ли… да мо-ло-до-го ж… да за-зря ж… Ой-беда, горюшко-о, ой, бесовым конём стоп-тали-и, ой по бесовой прихоти-и, лю-у-ди…
За воротами кто-то смущённо кашлянул. Ула прикрыла глаза и повторила жалобу, раскачиваясь и продолжая приводить волосы в подобающий для плакальщицы окончательный беспорядок.
То, что она теперь делала, было прямым обвинением. Громким, внятным не для одного беса, для всего города! За воротами не могли не понять вызова. Не могли пока что и унять крик или сделать так, чтобы его никто не слышал.
В створку постучали тихо, можно сказать — вежливо. Ула заныла на одной невыносимо нудной, тянущей нервы ноте — без слов, без отдыха, сжигая лёгкие… Травница мягко, почти крадучись, приближалась к воротам, заранее выбрав себе место в трёх шагах от створок.
Ула плакала горячо, искренне. Она давно научилась жаловаться в голос… Она через оплаченные слезы выплёскивала то, что не могла избыть иначе — свою боль. Люди в настоящее верят меньше, чем в заказанное по прихоти. Ты потеряла любимого, растратила молодость? Тебя оболгали и обманули, тебя травили, над тобой издевались… кому это важно? Хоть кричи, хоть умоляй, ничего не изменишь. Люди только посмеются в ответ. Ула знала это — и продавала слезы. Подлинные горючие слезы… Сейчас к боли примешивалась благодарность: Шельма относился к происходящему серьёзно и помогал! Он лежал и даже не дышал, по крайней мере, никто бы не заметил дыхания, нагнувшись к самому лицу вора.
Ула замерла на выбранном месте и настороженно осмотрела ворота. Она теперь перегораживала путь всякому, кто вдруг вздумает войти во двор.
Ула оборвала плач, и над двором, над улицей, нависла тяжёлая тишина… По спине Улы пробежал холодок: плотно пригнанные, тщательно обтёсанные и заполированные до блеска дубовые бревна… шевелились, вздрагивали. На темной поверхности проступал узор древесины, снова пропадал. Ворота дышали, будто норовили ожить!
Травница позволила себе глубокий вздох, не без гордости оценивая как успех эту натянутую, звенящую тишину. Можно не сомневаться: сейчас вымолвить хоть один звук не смеет никто. Даже, наверное, сам бес… У слез есть сила. Жутковатая и печальная — ведь они никого не вернут, даже разорвав душу в клочья.
— Многое вершится именем беса, — нараспев выговорила Ула, вскрывая нарыв тишины. — А только смерть вошла в наш двор непрошенная, неурочная… Седок бесова коня лежит без памяти и выживет ли, не ведаю. Ученик хэша попал под копыта, голова у него разбита, он не дышит. Ваш, говорите, конь? Тогда и вина в смерти ваша.
На улице охнули. По дубовой древесине ещё раз прошла волна искажения — и пропала, снова делая ворота обычными.
— Смерти не было, — бархат голоса не смог спрятать натянутость сомнений, дрожь напряжения. — Не было… я бы заметил кровь на траве.
Новоявленный бес осёкся: определённо, он знал, что на траву натекло предостаточно крови с порезанной щеки Шельмы. И тело на траве неподвижное — это за воротами тоже знали… Отчего есть такая уверенность, Ула не могла объяснить, но сейчас она именно знала — и верила в своё неожиданное знание.
— Всякому бесу надобно поставить имя виновного в смертный список, надо заручиться поддержкой золотого ноба, чтобы законно дать ход приговору, — Ула выждала и заголосила опять, напоминая городу о случившемся: — Убили-и… да безвременно, да безвинно, да…
— Нет! — рявкнул голос, теперь совсем не бархатный, дрожащий.
— Именем беса пустили на двор яростного коня, — с привизгом, высоко и тонко, обвинила Ула, не смущаясь того, что выкрикивает прямую ложь. — Двоих он смял, двоих! Все мы видели, все мы скорби полны.
За спиной Улы бесновался и хрипел алый конь, будто подтверждая обвинение. Он снова метался, не подпуская ни конюхов, ни слуг… И казалось — вот-вот он впрямь кому-то разобьёт голову.
— Н-нет, — голос по ту сторону ворот сошёл в настороженный шёпот.
Каждому ведомо: Рэкст способен одолеть любого. Но приговор на момент казни даже он всегда имел при себе — заполненный. А сейчас по ту сторону ворот вовсе не знаменитый багряный бес, и сила самозванца непонятна. К тому же он, в свою очередь, не ведает имени Шельмы, которого Ула объявила убитым!
— Убили, — тихо, отчаянно выдохнула Ула.
— Не чую, — усомнились по ту сторону ворот.
Травница закрыла глаза, возвращаясь всей израненной душой в худший день жизни, когда хоронила родного сына. Маленького, ему не было и семи… И умер он по весне, и все в Заводи сказали: от болезни. А она — мать и травница — знала дважды надёжно, что сыночек не просто так перестал дышать, что бывшая подруга, забрав любимого, нанесла и худший удар. И, что ещё больнее, для мести душа Улы оказалась не годна, с рождения она такая… Даже лопаясь от боли, не способна вложить силу в проклятие. Ничтожна она в чёрном слове — душа лекаря. Кровоточащая и израненная. Поникшая, как подрезанный колос. Опустевшая, как разрушенное гнездо…
Слезинки сбегали по щеке, и казалось — жадная трава их ловит, тянется, впитывает — и ощущает горечь, способную прожечь камень.
— Невозможно, — прошептали за воротами, но по голосу было понятно, что в худшее уже всерьёз верят.
— Откройте ворота, пусть видят наше горе, — строго велела Ула. — Но войти во двор я не позволю. По воротам идёт черта, для беса неодолимая. Я не приглашу в дом убийцу.
Все в мире знают: бесу никакая черта не помеха, перешагнёт и не поморщится… и всё же по неведомым причинам бессмерть не войдёт в чужой дом, если хозяин заступит дорогу и будет стоять до конца. Правда, надо быть нобом, и сильной крови… лучше всего золотым или белым. И стоять надо за правду!
Ула стояла у ворот, и ей было совершенно безразлично сейчас, кем надо быть, как надлежит стоять и за какую такую правду.
За спиной — дом Лофра. И деточки… его ученики. Начинающие людоеды, дубины, воры… как он звал их? А как бы ни звал, всегда с болью и теплотой. У Лофра душа большая, и вся она кровоточит. Много в той душе боли, иначе не получится отдать себя ученикам, которые порой и оценить дар не в состоянии. Но разве высшие дары подлежат оценке?
Запорный брус скользнул в сторону. Обе воротины стали расходиться. Обозначилась щель. И первым Ула увидела обладателя бархатного голоса. Травница не сомневалась: только он и может так выглядеть. Златовласый, нечеловечески совершенный в каждой чёрточке своей. Рослый, молодой. И поза гордая, и стать…
Огромные изумрудные глаза беса смотрели холодно, хищно. Страх прятался на самом их дне. Страх колыхал траву у ног златовласого, гнал волну внимания вперёд, за незримую черту у ворот, во двор… до самых башмаков Улы.
Волна докатилась, ногам стало холодно, будто стопы пронзили иглы травинок, прорастающих сквозь тело. Пытка длилась и длилась, но Ула терпела, сжав слабые кулаки и не позволяя спине горбиться. Холод поднимался, леденил колени… вгонял когти боли — выше, глубже… уже в позвоночник, в поясницу…
— Я отныне хозяин мира, имя моё Альвир. Я желаю войти и разоблачить твой жалкий обман, — прошелестел бес, и Ула более не сомневалась, что к ней обращается именно бес. — Твоё обвинение, старуха, лишь глупая ложь. Ты никчемная побирушка. Ты никто в этом дворе, ты здесь не хозяйка, сгинь!
— Я сказала: никто не войдёт, — почти без звука выдавили губы.
Ула смотрела в зелёные, как весенний лес, глаза беса. И ощущала, как ещё одна тяжёлая слеза катится по щеке — памятью о сыне, которого не вернуть… обещанием жизни тем детям, которые сейчас за спиной и не должны пострадать.
— Хрипи что угодно, но я войду, глупая старуха, — улыбнулся бес.
Ула смотрела в зелёные глаза, где мёрз в бесконечной ненависти загубленный лес… Она совсем заледенела от холода и боли, но не желала уступать. Она солгала? Да разве хоть в одном мире, самом жутком и несправедливом, назовут ложью слова матери, желающей защитить ни в чем не повинного ребёнка?
Златовласый бес поморщился — и нехотя отвёл взгляд. Ула смогла вздохнуть. Проследила, как бес цепко ощупывает издали всеми доступными себе способами неподвижное тело Шельмы. И — сомневается. И сам, такой могучий, холодеет от страха.
— Я могу войти! — голос казался убедительным, он не мог лгать. — Я бессмертен. Я воистину и несомненно…
Над городом скользнуло нечто мимолётное, и Ула вроде бы ощутила, как ветерок шевельнул её волосы… Бес дрогнул, отступил на шаг, вскинул руку, заслоняясь от промелька тени. Ула ощутила, как понемногу возвращается в пальцы тепло — колючее, болезненное, но живое. Она вздохнула, повела плечами. Холод отпустил позвоночник. Даже ноги снова чувствовались!
Златовласый отступил ещё на шаг, продолжая рассматривать нечто над головой Улы, на арке ворот.
— Да кто ты такая? Да откуда бы здесь… — в голосе отчётливо зазвучал страх. — Это… это невозможно. Невозможно!
Бес отвернулся, не позволяя себе даже покоситься на ворота. Он жестом велел скорее закрыть створки тем, кого Ула лишь теперь и заметила — свите, многим вооружённым людям вне двора, на улице.
— Я не верю в заявленную смерть, но я выше базарных склок с выжившими из ума старухами. Так и быть, пользуйтесь украденным, подлые людишки. Воистину ничто не связывает меня ни с бедами сего дома, ни с людьми его, живыми и мёртвыми, — скороговоркой вещал бес, шагая прочь всё быстрее.
Створки ворот с грохотом сошлись.
Ула ощутила, как из неё вынимают стержень решимости — и сползла на колени. Мягкие, прямо-таки бескостные руки ткнулись о плитки двора, подломились в локтях… В голове шевельнулась мысль: «Отчего привиделась трава? Ведь мнилось она под ногами, и у меня — и у беса… а нет травы! Только каменные плитки. Нет травы, нет и не было!»…
Со спины кто-то бережно подхватил, помог не упасть, не удариться помертвевшим лицом о холодные камни…
Травница упрямо заставила себя задрать голову на дрожащей, ноющей шее. Что за тень? Что напугало беса, могучего и непобедимого?
На арке ворот не было совершенно никого и ничего. Ула оттолкнула учеников, жестом запретила поддерживать себя и тем более уводить, уносить прочь. Она упрямо озиралась и выискивала хоть малую подсказку.
Нашла! Охнула, зажмурилась… снова посмотрела. Очень длинная тень ворот лежала в сумерках окружённого стенами двора, едва намеченная утренним светом. «Мёртвый» Шельма с бледным, залитым кровью лицом, скорчился как раз в тени арки — а дальше, у него за спиной, тень продолжалась очень и очень странно. Выходило так, будто на воротах сидит огромная птица.
Ула обернулась: нет птицы! Тем более огромной. Да никакой нет! Травница снова осмотрела тень ворот… И ошарашено проследила, как тень птицы расправляет крылья. Волосы тронул ветерок полёта — неспешного, мощного. Загадочный ветерок избрал лишь волосы травницы, не потревожив более ничьи.
Птица взмывала выше, тень её делалась меньше, слабее… А с души падал, уносился во тьму, пропадал навсегда камень давней боли. Ула знала: никогда впредь не выдавить ей и слезинки по погибшему сыну. Никогда… он оплакан и принадлежит прошлому. Он ушёл в невозвратный путь, и его пора отпустить.
Тень птицы сделалась ничтожна, пропала… Ула глубоко, спокойно вздохнула. Осмотрела отвоёванный у беса двор. Вот и Шельма шевельнулся, приоткрыл здоровый глаз, разобрал кивок Улы — можно, ты опять жив, ты вправе двигаться.
Шельма сел, потянулся, тыльной стороной ладони размазал по лицу кровь, не замечая боли. Он рассмеялся, подмигнул травнице — сразу же скорчил отвратнейшую рожу в сторону ворот… Снова тревожно обернулся к Уле. Прыжком вскинулся, вмиг оказался рядом, оттёр всех, подхватил Улу на руки. Нахмурился, всматриваясь в лицо и стараясь понять то, что травнице не удавалось внятно выговорить. Язык отнялся… усталость давила, сминала…
— Ворон, — пробовала пояснить Ула. — От детей весточка… один ушёл и не вернётся, а второй-то, мой Ул, жив. Жив!
Травница слабо улыбнулась — и стала сползать во мрак запоздалого страха, накрывающего сознание плотным, долгим обмороком.
Когда Ула очнулась снова, бас Лофра рокотал, разливался во весь двор. Это было замечательно: расслабленно лежать в беседке, под ворохом одеял. Глядеть в потолок с весёлыми жёлтыми глазами сосновых сучков. Слушать, как дребезжат в переплётах стекла, до дрожи испуганные хозяйским криком.
— Где воры? — ревел Лофр, обнимая конскую шею и счастливо похрюкивая, когда Алый Пэм норовил прикусить ворот его куртки. — Мой конь! Законно мой, вот вам, удавитесь! Мой Пэм, сокровище и гордость… Кто ж мог удумать, что бес получше многих людей дела наладит, когда на край ступит? Мой конь!
Лофр тряс какими-то бумагами, хлопал алого скакуна по шее и приплясывал, а рядом с ним приплясывал Шельма — тот, кто мечтал уворовать Пэма и заполучил его законно, чтобы кланяться копытам и шептать жутчайшие ругательства в точёное, безупречное конское ухо…
— Вам лучше, тётушка? — пропищал рядом Голос. — Вы долго отдыхали. Жаль, много упустили, смешной был переполох. Мне разрешено тут жить, а кто Шельму назовёт вором, того сказано удавить. А вы теперь хозяйка, и все дела. А ещё от князя был гонец, и от канцлера тоже. Никто не понимает, что за новый бес и куда делся Рэкст. Никто нового беса не уважает, если травница из деревни заступила ему дорогу и в глаза врала, а он утёрся и утёк.
Голос зачирикал слабым, неловким смехом. Ула улыбнулась в ответ. И махнула рукой, приветствуя нежданную радость: от ворот через двор, вежливо поклонившись Лофру и не задерживаясь, шагал его прежний любимый ученик — Дорн хэш Боув. Он спешил к Уле, издали звал матушкой, растроганно улыбался — и некоторые икали от удивления, видя у красноглазого ублюдка такое выражение лица.
— Дорн, и ты добрался, деточка, — порадовалась Ула. — Шель, а приготовь короб с травами и заложи повозку. Надо глянуть больного. Сэн жив, я по лицу Дорна это вижу, а ещё вижу — нездоров… лечить надобно, и спешно. Поедешь со мной, научу растирать травы в ступке. Надо ведь с чего-то начать привычку к лекарству.
— Дык же ж, — порадовался Шельма, издали разобрав приказы.
Он даже отвернулся от скакуна, последний раз огладив великолепную шею — неужели травы ему важнее бесценного Пэма?
Ула осмотрела двор хэша Лофра… весь он казался иным, чем вчера. Совсем иным. Потому что сегодня он был — дом, родной отныне и надолго… навсегда?
Солгать можно бесу, но никак не детям, однажды вставшим к тебе за спину в поисках защиты и помощи.
Глава 2
В которой рассказывается о событиях зимы 3211 года
Путь беса. Никакого великодушия
На соломенной крыше лежал вервр, уже привыкший называть себя дарёным именем Ан. Вервр вдыхал запахи хлева, дыма, городской гнили, снежной свежести — и блаженно щурился.
Город Эйне, столица княжества Мийро… Люди бы сказали, возвращаясь после отлучки: сколько лет, сколько зим. Людям удобно мерить время малыми отрезками сезонов. А он помнит Эйнэ от самого рождения — не своего, а этого вот города. Он выбрал место под личный особняк, и тогда никто из свиты не мог понять, почему бес селится в стороне от прочих, в глуши… Люди не смотрят далеко вперёд. Людям не просчитать заранее и без ошибки, где спустя несколько веков вырастет самое богатое предместье и как оно станет сплошным парком с редкими шпилями дворцов.
Вервр усмехнулся воспоминаниям — без горечи… Да, тогда он основательно устраивался в мире, покинутом атлами, которые невесть с чего избрали смерть и влились в здешний род людской, хотя обладали бессмертием. Рэкст привыкал жить в неуютном для себя четвёртом царстве, где убивать разумных и одушевлённых можно лишь с разрешения других таких же разумных и одушевлённых… Хотя ограничение оказалось столь же фальшивым, как понятия разумности и одушевлённости. Люди охотно отдавали бесу все, что он желал взять.
И вот — он вернулся в город без громкого имени, без золота и славы. Слепой, и люди вокруг тоже будто ослепли, не узнают и не замечают бывшего своего хозяина. Он постепенно привык, лишь изредка поминает ядовитым шёпотом врага Клога. Он не стремился в Эйнэ, но душа… душа ныла, помня незавершённое.
Более года бес не наведывался в город, где прежде каждая собака испуганно скулила, если шёпотом упоминали Рэкста. Теперь и не шепчутся, вроде. Людишки стали похожи на давно непуганую дичь, гордую своей лихостью, покуда не хрустнет случайная ветка — вмиг напомнив поступь мягкой тяжёлой лапы… И тогда липкий страх проявится, он ведь у дичи внутри, вроде костяка. Он и делает дичь — добычей.
— Людишки, — промурлыкал вервр, ощупал мешок и добыл крольчонка.
Он бы предпочёл поймать дикого, но — город… Приходится брать из клетки.
— Людишки, — снова шепнул вервр, уже с отчётливым презрением. Приладился и перекусил добыче позвоночник.
Ан пил кровь, ощущал последние судороги тельца — и хмурился. Люди так жалки и нелепы… До отвращения. Они дарят кроликов детям, украшают чашки слащавыми рисунками с ушастыми мордашками и заходятся праведной истерикой, стоит у них на глазах вот так вот — поужинать свежатиной. А сами-то? Чуть не заживо сдирают шкуру с подросших кролей. Забивают зверьков небрежно, не с первого удара, и жрут пережаренную мертвечину. Вдохновенно рассуждают о вкусе и мастерстве повара, в то же время коркой хлеба подчищая подливу с миски — на дне которой намалёван всё тот же пушистый милаха-крольчонок…
Облизнувшись, вервр сел и вслушался в звуки ночи. Напрягся, прыжком взвился — и, разворачиваясь в движении, сразу метнулся к тому сараю, где оставил в тепле и безопасности свою обузу.
В два с половиной года (хотя пойди учти возраст в случае Аны!) детям подобает спать всю ночь. Уж всяко им не открыть надёжно подпёртую снаружи дверь, им не выбраться в ничтожное по размеру слуховое оконце, им…
— Зар-раза, — прорычал вервр, не пытаясь разобрать, о ком он, о себе или о младенце.
Девочка не спала и не сидела тихо, где ей велено. Девочка топала маленькими ножками по обледенелой загаженной мостовой, падала на попку, хихикала, поднималась и шагала дальше, иногда повторяя своё любимое: «Тя-тя-тя!».
Крошечная девочка, за жизнь которой он отвечал, оказалась одна посреди тёмного воровского пригорода. Того самого, где и столичная стража после полуночи старается лишний раз не шуметь.
Вервр домчался до нужной улицы, резко остановился, зевнул, собирая сведения о месте — и заскользил по низким крышам, крытым где камышом, а где и черепицей. Тень вервра не касалась мостовой, ползла по краю крыш. А внизу, совсем рядом с тенью, вышагивала, сопя и смачно сморкаясь, чудовищная бабища. В своей косматой шубе нараспашку она казалась похожей на медведицу. Рослая, с тяжёлыми мужскими плечами и поступью ломовой лошади — вон, окна вздрагивают… Вервр принюхался и усмехнулся: он прежде не раз прибегал к помощи этой особы в ночных делах специфического свойства. Знал её в лицо и по запаху, а не только по прозвищу, которым и в лачугах, и в богатейших дворцах пугали капризных детишек: «Не плачь, а то Белоручка услышит, умыкнёт! И не увидишь маму и папу больше никогда!».
Белоручка, первая на всю тёмную сторону столицы в добыче живого товара для любых нужд, икнула и, запинаясь, помянула старого беса. Затем она… остановилась. Редкостное зрелище! Ну, сами посудите: пёрло по родной улице чудище, пёрло так, что крепостную стену бы прошибло, не заметив… и вдруг затопталось в тупом недоумении. А дальше — хуже: Белоручка улыбнулась щербатой пастью, всплеснула крупными руками, всегда красными, припухшими и упрятанными в кружевные перчатки.
— Да где-ж-ты-ж её-ж мать в корень? — басом проревела Белоручка.
Лёгкие, едва слышные шажки топотали по ледяной корке мостовой. От таракана было бы больше шума, пожалуй. И он бы наверняка догадался улизнуть в щель, спасаясь от ужасной встречи.
— Уёй-ё-оо, — оживлённо, деловито умилилась Белоручка.
Она была для чутья вервра пятном тьмы посреди полуночного спящего города — вся в мыслях и делах, лишённых намёка на свет… Да ещё косматая шуба, распахнутая на груди, да здоровенный платок, накрученный на то место, где у слабаков сужение — шея.
Детские шаги все так же топотали, не сбиваясь в бег.
Чудовищная бабища — а её и стражники боялись издали — упёрла ручищи в бока, шире расставила ноги, перегородила своей тушей улицу и смачно сплюнула. Кажется, именно от плевка, а не по воле проворных рук подельника, задрожал и сдох последний на всю округу масляный фонарь. Заботами градоправителя столица освещалась весьма ярко, но тёмная сторона — она и есть тёмная. Фонарщики тоже люди, тоже хотят жить…
На улицу медленно, как пуховый снег в безветрие, опустилась тишина. Детские шаги более не шуршали: девочка плюхнулась на солому у стены сарая-развалюхи и принялась скрести снег с обледенелого сугроба. Снега оказалось мало, шарик снежка не слепился, и девочка бросила бестолковую игру. Села удобнее и осмотрелась.
— Гу! — широко улыбнулось Белоручке самое наивное во всём мире дитя.
Белоручка прищурилась, заинтересованно хмыкнула. Теперь вервр, считывая настроение, знал: его обуза, по мнению воровки, настолько хорошенькая — хоть теперь с неё картинку рисуй да в постоялом дворе вешай, к чаю, на сладкое… То есть малышка Ана — готовый товар в упаковке, такой можно сбыть в древнейший нобский дом, если он бездетный! Да на таких детей заказы вперёд расписаны невесть на сколько…
— Эгм-эх, — прочистила горло Белоручка.
— Гу! — охотно отозвалась девочка, она ведь вышла погулять, чтобы не было скучно. — Тя-тя-тя-а…
Белоручка недоуменно хмыкнула и снова осмотрела тёмную улицу: ни намёка на нянь и родителей, ни шума поисков дитяти, ни проблесков света вдали…
Девочка улыбнулась шире, сунула ручонку за пазуху и добыла липкий комок. Облизала пальцы, хихикнула — и протянула комок самой страшной для любого ребёнка тёте, как будто такую можно угощать. По-дружески.
— Шельма-ж, — взревела Белоручка, с подозрением оглядывая крыши и заборы, поворачиваясь неожиданно проворно для её веса. — Сучонок, а ну подь! Добью-ж… твои затеи, бесов сыночка?
Ночь проглотила эхо — и не отозвалась, не выдала и намёка на присутствие того, кто, даже выгнанный с обещанием убить при встрече, часто мешал родной матушке пополнять запертый накрепко сарай неродными детьми, без их на то согласия.
— Тя-тя-а! — внятно выговорила девочка, рассмеялась, встала и затопала к Белоручке, держа комок на вытянутой руке.
Белоручка крякнула и плюхнулась на колени. Нагнулась, приняла комок, наконец опознав в нем несколько слипшихся сушёных абрикосов.
— Кусно! — доверительно пообещала девочка.
Она смотрела на косматое чудище, запрокинув голову, и улыбалась. Затем и вовсе, вцепилась в красную руку, обтянутую нелепым, неуместным кружевом. Воздух звенел и шуршал, ночь кружилась и опадала кристалликами снежинок… На кружевную перчатку, на слипшиеся абрикосы, на вспотевшую невесть с чего щеку Белоручки.
— Ты чья-ж, дурёха? — сморгнув, вдруг спросила воровка серьёзно. Сунула за щеку абрикосы, прожевала, проглотила и ещё посидела, морщась и гулко, длинно выдыхая.
Девочка снова порылась в своей шубке, добыла ленту и принялась её вязать бантиком на толстом указательном пальце Белоручки.
— Касиво, — важно сообщала «дурёха», хотя бантик не получился.
— Вот же-ж вилы, — задумалась Белоручка, глядя в глаза девочки и смаргивая в каком-то вялом, коровьем недоумении. Наконец, она вздрогнула и взвыла, очнувшись: — Зуб!
Тощий мужичок выделился из подворотни, из теней, недавно проглотивших свет последнего уличного фонаря. Подручный воровки подбежал споро и замер в исключительном почтении, полуприсев перед хозяйкой.
— Эта-ж… — выдавила Белоручка, щупая дарёную ленту. Стряхнула с плеч шубу и укутала ею ребёнка. — Во зараза! Ты, рожа кривая-ж… Вмёрзни тут, покуда три часа не пробьёт. Во так вот, да-ж.
— И чё? — задумался Зуб, ощупывая засапожный нож.
— И ничё! — взревела Белоручка, оттолкнулась обеими руками от ледяной мостовой, встала и зашагала прочь. — Ну значит… будет три и не заберут её, вот и станет чё…
Белоручка почесала в затылке. Пощупала дарёную ленту и криво усмехнулась, то ли ёжась от холода, то ли недоумевая. Вервр замер на краю крыши ровно в таком же недоумении, до сих пор не решив, стоит ли спрыгнуть и вмешаться, ведь угрозы для воспитанницы нет? И что в мире сломалось, если воровка отдаёт шубу, хотя в столице знают: родного сына она выгнала из дома в лютую зиму, да ещё и в тонкой мокрой рубахе — уморить желала, сочтя выродком и мстя, как мстила бы любому в шайке.
Снова потоптавшись и повздыхав, Белоручка побрела далее, оглядывая подворотни и косясь на щели прикрытых дверей сараев. Вервр скользил тенью — следом. До самого угла, пока не скрылся из виду Зуб, замерший с разинутым ртом, всё ещё не способный очухаться от приказа.
Когда вервр прыгнул с крыши, звука не возникло, но чутье у воровки сработало, и она обернулась, заранее рыча в ответ на невнятную угрозу. Белоручке хватило короткого взгляда, чтобы резко захлопнуть пасть. Вервр мгновение подумал и понял причину столбняка. Его не узнали как беса, но без имени и славы Рэкста сейчас он, пожалуй, мог бы кого угодно напугать: босой, в просторной драной рубахе, лохматый, с пустыми запавшими глазницами, в потёках крови от губ по подбородку, по шее, по пальцам и запястьям. Да ещё и заляпанный темным мешок дёргается, шевелится в левой руке…
— Вот же-ж смертушка ходячая, — поразилась Белоручка, усилием воли проглотив ком страха. — Чё надо?
— Ответ. Почему сказала «старый бес»? — прошелестел вервр, облизываясь.
— Так чё, я багряного припомнила, — разговорилась воровка, сообразив, что убивать сразу не будут, а, раз интерес есть, то в торге или время протянется, или найдётся повод вывернуться. — Рэкст-то был с понятием, а ныне два их, беса, и оба — дерьмастые, без хватки и разумения.
— Оба тут, как и чуялось, — усмехнулся вервр и шепнул совсем тихо: — Я думал, всё же поостерегутся.
— Ежели у тебя с ними счёты, без оплаты поспособствую, а то-ж, — сразу решила Белоручка, щурясь от досады, ведь ей казалось важно рассмотреть собеседника, слишком невнятного в ночи.
— Я не склонен лезть в их дела, — зевнул вервр, изучая улицу и убеждаясь: двое крадутся, пробуют зайти со спины. — Но вопрос принципа: Рэкст отписал имущество во временное управление. Оно досталось тем, кому выделено?
— А чё, Лофр мужик железный, — Белоручка движением ладони отменила нападение, подготовленное её людьми. Заговорила быстро и деловито, отбросив мычание и ругань: — Лофр железный, а прочие нобы так-сяк, ржавчина да говно. Свиту старого беса манят золотом да тюрьмой стращают, особняк его пустой стынет, княжьим указом тянется волокита с наследными бумагами. Ну, советник сбоку пыхтит, пользу себе ищет. А новые бесы — тьфу, фальшивка. С Рэкстом по-всякому бывало, а только слово у него одно: что сказал, то уж сказал. Новые ж копошатся, оба чисто — ужаки под вилами. То да, то нет, а всякий раз убыток в оконцовке.
Проведя пять дней в городе, Ан и сам пришел к тем же мыслям. Но его выводы не могли считаться приговором: он наблюдал издали и украдкой, не желая себя обозначить. Так что слова прежней подельницы полагал ценными.
— Кто из бесов меньше вреден? — усмехнулся вервр, обдумав услышанное.
— Бабник погаже в обхождении, мозги засирает, — отозвалась Белоручка, с растущим подозрением изучая собеседника. — Но тухлявый — тот вконец гад. Трясина, а не человек. Хотя разве ж он человек? Опять же, не в козярях он. Лютует. Слух есть: хочет приподняться и второго беса потеснить. Знамо дело, при таком раскладе самое то кровь пустить. И род он вырежет яркий. Под корень вырежет, вот же ж…
— Вы щедры в пояснениях, благодарю, — вервр счел сказанное достаточным для оценки ситуации, поклонился, собрался было сгинуть, но приостановился. — Ваш изгнанный сын всё так же при Лофре?
— А, ну да, — хмыкнула Белоручка. — Важнявый, в старших. Его оттоль не выколупнуть. Бес отписал Лофру коня, того самого Пэма, чё ещё сказать-же-ж?
— Чего ещё, — вздохнул вервр, отвернулся и зашагал к близкому перекрёстку. Следом затопала Белоручка. — Что в мире перевернулось, если вы отдали ребёнку шубу? Хотя это было умно, это вас очень выручило.
— То-то-ж дело ясное, к тебе белобрысая прилеплена, — Белоручка догнала и пристроилась рядом. — А бес же ж его знает, чё… Глаза у ней особенные. Поверишь: глянула и надумала засранца Шельму не удавливать при встрече… во морок! Теперь-то я очухалась.
— Особенные — какие? — не унялся вервр. — Цвет, разрез, выражение. Что в них есть?
— Тепло, — задумчиво выговорила Белоручка. — Такое тепло, аж в пот кидает.
Вервр встал возле своей обузы, и сразу был опознан.
— Ан! Тя-тя-тя-а, — широко улыбнулась девочка, вывернулась из шубы, вцепилась в ногу и поползла по ней вверх, как по дереву. Добралась до шеи, ловко оседлала вервра и намертво вцепилась в левое ухо. Помахала Белоручке. — Па-ка!
Вервр усмехнулся и побрёл прочь от воровки и её людей. Он двигался по улице, не спеша и не мешкая, и в такт шагам обдумывал новости.
Четвёртое царство — особенное. Когда ушли атлы, они оставили нерушимое до возрождения себе подобных ограничение: в гости в их мир могут пройти без провожатого трое бессмертных, по одному от каждого царства. И только те, кто прежде был сюда приглашён. Пусть он предал себя и стал частью иерархии, пусть забыл имя и утратил личность. Но приглашение в силе, оно — вроде надежды на прощение… Так думал даже Рэкст, себя не помня, и так он смог войти в этот мир. Он ведь имел, кажется, тройное право быть гостем, и позже вспомнил Тосэна — одного из пригласивших. Имена двух других не вернулись… Рэкст был гостем от третьего царства, а кто два другие беса — гостя? Это в памяти цело.
Один — горгл, бессмерть первого царства, в иерархии королевы он стал зваться Кукольник. Кто мог пригласить тварь с каменным сердцем? Кем он был прежде, в свободной жизни? И кем стал, если сама Белоручка назвала его трухлявым!
Наконец, последний из гостей — альв, бессмертный второго царства. В иерархии за ним карта отравителя. У альва утонченная красота и холодный, как сама стужа, взгляд, полный ненависти к людям. Альв забыл себя прежнего, но помнит, кто убил всё зелёное в родном мире и тем свёл с ума его — тихого обитателя леса, не склонного общаться с людьми и жить в городах. Кто пригласил альва? Вроде бы — двое. Память плохо отзывается. Но — да, двое. И, кажется, один из них снова Тосэн. Наивный друг так охотно звал в гости… Кажется, и тогда кипело в душе древнего вервра раздражение, как сейчас кипит при мысли о Клоге хэш Уле — слишком дурашливом и беспечном. Тосэн был особенным, он жил без малейшей соринки страха в душе, а ведь страх порой важен для самосохранения и здравого смысла. Хотя… у Тосэна не было ни одного из этих полезных качеств. Потому он и был — лучший друг.
Итак, оба беса, допущенные в мир атлов, обнаглели, едва заподозрив пропажу Рэкста. Вероятно, это событие связали мысленно с боем Лоэна и его дракона в Тосэне. Метки багряного Рэкста действительно поблёкли. Проверив это, оба беса сунулись в ту самую столицу, которую прежде облюбовал багряный. Оба именно здесь желают показать свою окрепшую власть и назваться хозяевами мира! Толковую драку затеять не решаются, но и без того вреда от них… Сколько жизней, сил и золота уже перемолото в жерновах склоки двух бесов? Сколько изуродовано людишек — не по делу, а просто так, мимоходом. И хуже, из пустой и жалкой мстительности слабых.
Бес Рэкст тоже не щадил людишек. Но иначе, используя их рачительно и строго по необходимости. Потому что он полагал этот мир своим. И себя видел подлинным хозяином, а не временщиком.
— Страх потеряли, вылезли на свет, сволота… — прошипел вервр.
Смолк и задумался. Значит, по мнению рабов королевы, Рэкст мёртв? А пожалуй так, раз карта палача не отзывается. Скорее всего, для королевского взгляда этой карты сейчас вроде как и нет… Плохо ли быть для иерархии бессмерти — мёртвым? Он пока не в силе, он не вернул имя и не помнит свой второй облик. Ему требуется время. Его не ищут? А ведь и неплохо.
— Трухлявый травил: он уморил старого беса, — пробасила воровка в спину.
— Мне неинтересно, — зевнул вервр.
— Всех, кого Рэкст особо ценил, трухля уже знает поименно, — добавила воровка. — Есть слух, он подробно выведывал про красноглазого Нода. Яркий ноб, все его знают, а силы в столице еще не набрал. Да, еще люди бают, сам трухлявый травил: Рэкст слюни пускал, умолял сберечь ему жизнь и клялся служить.
— Да ладно усердствовать, — развеселился вервр, даже остановился возле удобной подворотни, не ныряя во мрак. — Сама три года назад что трепала? Мол, Рэкста на спор задавишь и череп вывесишь над очагом. Хотя спьяну обещано, но и так редко кто раззадоривался.
— Чё, донесли? — взревела Белоручка, и было слышно по голосу, как в ней вскипел веселый гнев.
— А как же, — ласково промурлыкал вервр.
— Долго прожили опосля ж? — расхохоталась воровка. Гулко влепила по ближней подвернувшейся спине, согнутой в натяг, барабаном. — Вот же ж кролики, мать их… Всех порешу. Шкуры до жопы спущу-ж!
— Душевная женщина, — вздохнул вервр, освободил ноющее ухо от детских пальчиков и шагнул в сумрак. — Ана, я удивлён. Я думал, её ничем не пронять. Рэкста, канцлера и Лофра — никого не боится. В ночной слободе ей сам Клоп не страшен. Почему же отдала тебе шубу?
— Гу!
— Содержательно беседуем. Не прикидывайся младенцем, у тебя есть ум, я знаю. Я велел сидеть в сарае, так? Строго велел. Ты поняла меня, но ты обманула меня. Плохо. Вот уйду и не вернусь. Оставлю тебя тёте Белоручке, чтобы пристроила к богатым нобам, тихим и бездетным. Так и сделаю. Прямо теперь.
— Тя-тя-тя-а, — угрожая расплакаться, пропищала Ана.
— Не разговор, — вервр тряхнул головой, спасая ухо из хватки маленьких пальцев. — Я должен завершить свои дела. Ты ведь слышала: тетя-глыба намекнула, что надо бы поспешить. Ты будешь ждать. Где велю, там и сиди. Только там. Безвылазно! И не начинай это своё «тя-тя, кусно-касиво», ты выговариваешь «р», и слова произносишь внятно, если постараешься.
— Да, — пропищала Ана и хихикнула, пробуя укусить многострадальное ухо.
— Да — очень важное слово, его нельзя отменить, — строго указал вервр, шевеля ухом и смиряясь с тем, что оно снова поймано и измято.
— Да!
— Ты обещала.
— Абикос!
— Ненавижу торг. И не глотай «р». Ах, да… ты отдала абрикосы тете-глыбе.
— Тя-тя-гыбе! Кушно!
— Скучно? То есть когда я ухожу надолго, то я виноват. Получается, по возвращении я обязан извиниться, ты это имеешь в виду? Ладно, добуду абрикосы в качестве извинений. Но мы точно договорились, ты сидишь в сарае? И никуда, ни-ни?
— Ни-ни.
— Проще вырезать начисто город, чем достичь определённости в договоре с одной мелкой обузой. Проклятый Клог! Чтоб ему так ухо выкрутили.
— Клок.
— Клог. Так зовут моего врага. Придёт время, и я прикончу его. Это будет вкусно, красиво и сладко, как абрикос.
— Абикос!
Вервр разбежался, перемахнул улочку и в три прыжка оказался на крыше сарая, облюбованного для ночёвки. Ана разжала руки и безмятежно упала с шеи — зная, что подхватят и усадят. Или просто не понимая, что такое страх высоты…
— Сидеть здесь! — строго велел вервр.
— Иде! Кушно…
— Не скучно. Ночью дети должны спать, — отчаялся вервр.
— Кушно. Куш-но!
Вервр едва слышно взвыл, обхватил голову руками и обречённо сник. Ана копошилась на сене, покрытом плащом. Норовила разгрести ткань и зарыться с головой. Одновременно она держала вервра за руку. То есть не унималась и спать не собиралась.
— Ан! Кушно! Игать!
— Не играть, а спать! Тихо-тихо… вот так… Баю-баюшки, — сквозь зубы прошелестел вервр, презирая себя и надеясь, что этого о нем никто и никогда не узнает, — баю-баюшки баю… спи малышка а-ю-ю… а я малость потерплю… а после Клога удавлю… прям за шею его гада… прям за шею удавлю…
Несмотря на странность колыбельной, Ана осталась довольна, свернулась клубком, крепко вцепившись в большой палец левой руки вервра. Ещё несколько куплетиков, шипящих усталым, неопасным ядом, и Ана задышала ровно, сонно. Вервр выждал, бережно, в несколько попыток, высвободил палец. Подтянул куртку, брошенную в угол. Укрыл девочку. Обошёл сарай дважды, ощупывая доски и старательно заделывая подозрительные щели: вдруг и в такую вёрткая Ана выскользнет? Наконец, остался доволен проделанной работой. Гибко взвился в прыжке, дотянулся до стропил, вмиг оказался снаружи, на крыше.
— Трухлявый, — облизнулся вервр, распотрошил мешок и добыл второго крольчонка, ещё живого. — Жди. Или лучше не жди, зачем тебе волноваться, каменная тварь? Хотя… когда ты дрожишь, из тебя смешно сыплется песок.
Крольчонок затих. Выпив тёплую кровь, вервр облизнулся и потянулся. Он много раз задавал себе вопрос: откуда у него привычка к свежатине? И почему именно кролики? Ведь он высший хищник, было бы куда солиднее, сытнее и занятнее перегрызть горло лосю или сломать могучую шею зубра. В конце концов, есть ведь и слоны… Но тёмная, неуправляемая жажда требовала снова и снова выслеживать кроликов. По осени это принесло хоть какую-то пользу — он набрал шкурок и сшил Ане шубку. Он был зол тогда и всё ещё зол теперь… он не знает в точности, какого цвета шубка. Он ничего не знает толком, наверняка! Он устал не видеть луну. Выть, не видя — отвратительно и скучно.
— Кушно, — усмехнулся вервр.
Он закинул голову, оскалился, напряг горло — и не отдал ночи ни единого звука. В столице много чутких ушей. Здесь пахнет тем пацаном — нобом Дорном хэш Боувом. Парень живет среди людей, вся его семья — люди… уже много поколений. Но бес, тогда еще граф Рэкст, сразу причислил Дорна к родне вервров и назвал белым тигром. И даже почти вспомнил облик первого в роду Боувов… почти. В городе пахнет и женщиной Дорна — она вервр-лань. Эти двое определенно расслышат вой и разнюхают место. Сами они, может, и не опасны, даже интересно было бы размяться. Но обузу надо защищать.
— Верно сказала Белоручка. Кое-кто хочет себе трофей: шкурку тигренка, — шепнул вервр, прикидывая, где в эти дни он ощущал Дорна и где тот мог бы находиться теперь. — Вряд ли вот прямо убить. Скорее с ним станут разговаривать. Кто? А вот пойду и гляну. Где? А вот уж это яснее ясного!
Вервр протёр ладонями лицо, по мере сил соскреб засохшую и свежую кровь. Отмахнулся от попытки умыться — и прочесал пальцами волосы. Довольно длинные, хотя логика давно шепчет: отрежь! Впадёшь в гнев — они вспыхнут багрянцем, и попробуй тогда докажи, что ты не тот самый бес, известный людям, как Рэкст. Останется лишь устранить свидетелей. А если рядам будет Ана? А стоит ли ломать шеи при ней?
— Пустое, — вервр встряхнулся, прогоняя сомнения.
Он заскользил по крышам, беззвучный и вроде бы невесомый. Не скрипнула доска, не прошелестела солома, не хрустнул камыш, не лязгнула черепица… Всё ближе богатые особняки, всё просторнее улицы, всё слышнее звон доспеха городской стражи.
Утихают запахи гнили и ветхости. Здесь нет соломы, нет и камыша. За окнами дорогого стекла спят богатые старухи, пропитанные духом дряхлости. Они устали караулить своих похотливых, как кошки, младших родственниц. А те не спят, и укараулить их уже некому — в покоях пахнет духами, вином, потом… В других домах звенят сабли — алые нобы развлекаются, зазвав гостей своей же ветви дара. И снова пахнет вином и потом, а ещё кровью и азартом.
Вот мелькнул постоялый двор для гостей с достатком — в нос так и полез дух баранины, чеснока и южных приправ. Желанный запах для голодного Лоэна… Врёт ли полудохлая память, утверждая, что вервр-дракон родственник, и даже родной младший брат? И что его при встрече не стоит ни убивать, ни полагать достойным извинений.
Теперь ударил в нос конский пот, острый — рядом большая конюшня, и сегодня были скачки. Еще бы, скоро дальние зимние забеги по льду реки. Сам князь наградит победителя. Год назад первым мог бы стать Алый Пэм, младший из любимых скакунов беса Рэкста. Ему пять лет, и для него это была бы первая скачка, пробная. Некоторые ставят лошадей с трёх лет, но бес не любил портить то, что полагал достойным внимания. Он прекрасно знал и чуял, как растёт сила коня и как он входит в свою настоящую форму… Осмелится ли Лофр выставить Пэма в нынешнем сезоне? Сможет ли подготовить? Кого посадит в седло, ведь Пэм не таков, чтобы подпустить случайного человека.
Вервр резко оборвал бег мыслей, спрыгнул на мостовую, метнулся, нырнул в колючий кустарник — и прильнул к высокой стене. Большая часть ограды — узорный чугун, но парадный въезд оформлен башенками и колоннами.
По ту сторону каменной кладки сонно мёрз парк — исконная вотчина багряного беса. За парком темной глыбой стыл особняк. Ни огонька — ни шелеста живого сердца… Не обманула воровка: пусто в городском доме Рэкста. Между тем, «гербовый дворец графа Гост» в осень казни бес отписал кровному брату Аны, ещё не зная такого совпадения… Он отдавал золото и дворец вовсе не из попытки загладить вину перед выжившим, но лишённым всего мальчишкой. С чего бы винить себя — не убив? Вервр перед казнью действовал из простой предусмотрительности: мало ли, как всё сложится. У мальчишки нет надёжной родни и нет связей. Отобрать у него имущество можно в любой день… Определённо, не было ни вины, ни жалости! Не могло быть.
— Значит, именем князя, — пробурчал Ан.
Вздохнув глубоко и полно, вервр замер. Избыток внимания к своему особняку он заметил еще в первый день в столице. Позже дважды проверял цепочки следов и запах мыслей тех, кто бродил у ограды, и оба раза опознавал людишек из своей прежней свиты. Так что ждал — не просто так, не наугад.
Ан стыл, делаясь для взгляда и чутья такого же беса неотличимым от стены. Никто не умеет готовить засады так, как высший хищник. Даже бессмерть первого царства, каменная по своей природе — ничтожна в сравнении. Слишком мало в горглах азарта, рвения… не зря говорят: под лежачий камень вода не течёт. А горглы в значительной мере таковы, их надо ох как растолкать, чтоб они — покатились, но уж тогда дело неизбежно обернётся жутким каменным обвалом. Так, пожалуй, и накрыли всех замыслы разъярённой, отчаявшейся королевы. А может, всё было иначе и строилось на холодном расчёте? Память молчит…
Ночь медленно впитывала одиночные снежинки в свой мрак, впитывала и не светлела. Здесь не настоящий север, лютости у холодов нет, но разница в длине дня зимой и летом заметная. Так что снегу ещё падать и падать, белить и белить слепые потёмки, чтобы высветлить до предрассветной серости.
Вервр отогнал грусть. Хотя… что он сейчас знает о мраке, серости и, тем более, рассвете? Какая ему разница, слепому? С рассветом ничего не переменится, разве людских глаз станет больше… Но это не скоро. Здесь, среди богатых особняков, даже молочники и лакеи не встают затемно. Вдобавок тот, чьи намерения смутно прочлись не так давно, эхом зазвучали возле большой конюшни — он тоже не желает быть замеченным. Наверняка.
Превосходно съезженная пара прикатила двуколку намного раньше, чем вервр ожидал: он ещё ощущал снежинки на щеках и ведал, как изморозь шьёт узор по канве бровей. Из двуколки выбрался тот, кого вервр, в общем-то, не рассчитывал подстеречь прямо теперь: у конюшен он почуял намерение человека, а не этой твари. Значит, засада обещает быть занятной?
Прибывший отпустил двуколку, побродил вдоль стены, расставляя новые ловушки и проверяя старые, настороженные днями и неделями ранее. Наконец, не заметив странностей, новый устроитель засад притих в десяти шагах от вервра.
Изморозь более не щекотала брови. Теплота кожи совсем иссякла, когда чутье зверя опознало крадущиеся шаги на одной из улиц, сходящихся близ особняка.
Двое. Идущего первым вервр опознал мгновенно — мелкий прилипала из свиты графа Рэкста, тот ещё флюгер. При бесе служил кое-как: то на хозяина работал, то норовил его же заложить барону Могуро, то сдавал барона людям советника Хэйда. Иной раз из-за золота, а порой от недержания секретов в слабом, склонном к словесному поносу, организме…
— Всё верно, здесь, — глухим шёпотом сообщил «флюгер» тому, чьи мысли и пронюхал бес ещё у конюшен.
«Флюгер» старался, отрабатывал золото… и он уже был трупом. Вервр ждал, не мешая бывшему своему прихвостню сделать последние шаги. Он не желал согреваться прежде времени, делаясь заметным. Он без удивления — а как ещё могло быть, если засаду рядом выстроил горгл, бес первого царства? — проследил, как мостовая щетинится пиками яростного льда. Пики прицельно бьют по жертве — и человечишка, нанизанный на их острия, предсмертно дёргается, затихает. Предал всех и вся — и вот, странная гримаса справедливости, оказался сам предан, окончательно.
Приготовитесь засады — бес первого царства, обладатель карты мастера кукол с кличкой Кукольник — медленно, торжественно отделился от стены и потянулся. Он счёл засаду успешной и теперь дал жертве увидеть себя и осознать происходящее.
Вервр готов был мурлыкать от удовольствия. Сказанное воровкой пригодится куда скорее, чем он ожидал… И её выбор худшего из двух «новых» бесов был, пожалуй, верным.
Удивительно, как изменился невзрачный, сгорбленный старик — таким горгл выглядел рядом с Рэкстом, чтобы даже видом своим не претендовать на место вожака.
Сейчас Кукольнику не дать более сорока человечьих лет. Он рослый, иконописно-благообразный, с крупными грустными глазами и крохотными губами, не тонкими и хорошо прорисованными… Так и подобает по большинству иконных канонов миров, где внедрён монотеизм.
«Опять в Спасители готовится, гнилота», — мысленно вызверился вервр и кое-как унял гнев. Не время. Не место. Сейчас он наблюдает встречу Кукольника с тем, кто пока не кукла и кто игрушкой стать уж точно не пожелает. Не зря для него устроена засада…
Человек рассмотрел засаду, зарычал и обнажил саблю. Для вервра было обжигающе внятно всё — и как вскипела молодая кровь, готовя тело к бою, и как, наверняка, полыхнули искрами алости кончики волос. И как человек сдержал себя, буквально скрутил. Справился с яростью и вместо атаки лишь кивнул врагу. Человек старался быть взрослым. Он пришёл, потому что кто-то дал ему задание выслушать врага. Кто-то, кого этот юнец уважает.
— Умный мальчик, — проскрипел Кукольник. Его горло ещё оставалось слишком холодным, кожа при всяком движении звенела льдинками и шуршала каменно, мертво. — Выслушай. Пока ты слушаешь, важные тебе люди дышат. Князь подписал указ. Ты уже почти овдовел, Дорн хэш Боув, граф Нод. Овдоветь для вервра тягостно… звериная тоска. Не знаешь её? И не стремись узнать.
— Ничего он не подписывал, — упрямо отмахнулся Дорн, а это был именно он.
— Глупая вера в людей… Бес Рэкст называл тебя белым тигром, так? Не отвечай, я знаю ответ, я просто поддерживаю беседу, — голос Кукольника оживал и обретал оттенки и интонации. — Нас трое может быть в вашем мире — бесов нижних царств. Рэкст заигрался и сдох, вполне по заслугам. Мы устали от его звериной тупости. Тебя выманили, чтобы ты принял предложение. Не выслушал, как тебе обещали… а принял. Я не Рэкст, я не даю иллюзию выбора. Займи место багряного. Людям до бесов не дорасти, а ты самое малое наполовину — жалкий человечишка. Но я дам тебе славу и даже отчасти власть багряного беса. Так ты сохранишь жену и обретёшь положение. И не надо давать обещаний. Лишь возьми карту. Любую из этих.
— Я отвык драться ночами, пришёл для разговора, как взрослый… дурак, — пробормотал Дорн, отступая на шаг и озираясь. — Ничуть не полезна моя новая привычка не убивать до того, как заговорят… Что ж, убью теперь, выслушав.
— Человеку не убить горгла, — назидательно сообщил Кукольник. Скрипуче рассмеялся. — Если я кого и опасался, то…
— Меня, — прошелестел Ан.
Сердце завибрировало с чудовищной частотой, мгновенно прогревая тело Ана, почти кипятя кровь. Дорн подпрыгнул от неожиданности и охнул, отступил ещё на шаг и благоразумно выбрал позицию так, чтобы за спиной оказалась стена.
— Это ошибка, тигрёнок. Отойди от стены, — посоветовал вервр. — Имея дело с горглом, не приближайся к тому, что ему послушно. Мостовая, камни кладки, статуи, стены, целиковые дома… а равно вода, лёд, песок, туман обычный и ядовитый…
— Мы неп-победимы, — портя весь эффект похвальбы, икнул Кукольник, и песок зашуршал по его телу, дрожащему в ознобе большого страха.
Вервр оказался вплотную к врагу.
В один мгновенный шаг выдавил из Кукольника дыхание, притиснул дрожащее тело к стене.
Вмял в грудину когтистую лапу ладони.
Теперь он был хозяином положения — правда, для этого приходилось непрерывно рвать грудину и живот горгла мгновенными ударами, раз за разом разрушая тело, мешая ему восстановиться в полной мере. И устрашая! И нависая над врагом, чтобы тот знал своё место жертвы. Только жертвы, всегда и неизменно — жертвы.
Песок сыпался, каменное крошево брызгало во все стороны. Дорн, часто дыша и не двигаясь, мог видеть то, чего в этом мире давным-давно никто из людей не видел: как из каменных обломков тела мгновенно тянутся, формируются руки, иногда две, а иногда и четыре сразу. Как эти руки обламываются под ударами, рассыпаются песком… Снова растут из тела, из стены за спиной горгла, из мостовой…
Иглы льда копьями дыбят ближние сугробы, срываются в полет — и ломаются под блокирующим ударом ладоней вервра. Некоторые летят издали, и Дорн, окончательно придя в себя, рубит их, приняв неожиданно легко то, что в нынешнем бою он на стороне багряного беса.
Удар! Камни под пальцами мнутся и трещат. Удар — песок сыплется. Удар — лава течёт и сжигает кожу, лёд остро царапает щеку… И можно рычать в голос, наконец-то не пряча себя настоящего — хищника, который жаждет боя превыше сил, потому что слабые враги недостойны его внимания.
Судорожное сопротивление горгла длилось и длилось — а затем сломалось резко, мгновенно. Настала неподвижность. Вервр всё так же давил каменное тело к стене, но противник внутренне исчерпал надежду если не победить, то ускользнуть, испариться…
— Нельзя давать ему сбежать, — посоветовал вервр. — Фиксируй голыми руками, клинок тут не в пользу, клинок для горгла не враг, ему лишь живое непосильно… Кстати, худший враг горгла — бессмерть второго царства, ведь первое жертвует ему, становясь почвой для травы и питьём для плодов. Мы, вервры, вынуждены быть крайне жёсткими и бесконечно быстрыми в бою с горглами. Наша сила — натиск. Наше оружие — умение ценить жизнь и быть победителем. Издали горглы сложные противники, вблизи они не годны для боя! Этот секрет знают немногие. Горглы на поверку вроде песчаных куличиков, какие лепят дети. По виду прочны, а прихлопни — песок-песком. Хотя есть среди них те, кто умеет вести бой… есть или были? Не помню в точности.
Вервр на миг отстранился, и тело врага потекло, меняясь, чтобы восстановиться с пугающей быстротой. Но вервр взревел, полосуя добычу крест-накрест, обеими лапами ладоней. Он отсек едва отросшие каменные руки от плеч и подрубил ноги горгла выше коленей…
— Если ты быстр и силен, всё возможно в ближнем бою с горглом. Но, — назидательно продолжил Ан, игнорируя оханье Дорна и его саблю, нацеленную в спину, довольно близко. — Но бессмерть, даже став песком, не сдохнет.
Вервр отступил на шаг, почти упираясь спиной в острие сабли. Выждал, пока тело Кукольника стечёт на мостовую, скопится в тестопободную массу и снова восстанет — человеком, более рослым и крепким, чем прежде.
— Он в шоке, — промурлыкал вервр. — Иначе восстал бы в наилучшем для боя теле. Тигром, драконом, змеем… Лавой огня или ледяным ежом. Он тем опаснее, чем ближе к смерти. Тем опаснее, чем опытнее. Кукольник способен прикончить целый мир, как ты — комара… Но я-то не комар. Этот мир я назвал своим. Он знал, но посмел забыть.
— Пощади, — прохрипел Кукольник и рухнул на колени.
— Ты видел мои метки? — зарычал вервр. — Ты на моей территории, сколько раз было сказано, на моей! Всюду и всегда, и это — неизменно…
— Пощади, — всхлипнул Кукольник и стал осыпаться песком, как древняя обветренная скала. Скоро от прежней мощи уцелел лишь тощий, дряхлый старикашка…
— Торгуется, — снова разрушая тело врага, скривился вервр. — Всегда так, у горглов холодная голова, они умеют выгадывать время, ещё умеют играть на слабостях.
Дорн отодвинулся и опустил оружие, признавая своё место в схватке — зрителя и даже, кажется, ученика.
— Но… победить можно? — понадеялся он, сделав ещё шаг назад.
— Не оружием. Мы, вервры, уничтожаем врага, как единственные хозяева своей территории. Мы впадаем в ярость, ослепительную по своей яркости. Бессмертие наших врагов плавится, создавая проплешины в бытии, они не имеют силы осознать, как можно ценить и любить жизнь в её полноте… И это омертвляет их. Мы выдавливаем из них кровь жизни, до капли. Так мы создаём печати боя, они же — надгробия наших врагов.
Вервр закинул голову и излил в ночь голос — в полную силу, со всей накопленной за год яростью ослепшего, с обретённым за тот же год восторгом свободного… Тело горгла трепетало и плавилось, обжигая руку. Лапа ладони врезалась всё глубже в плоть, пока не нащупала камень сердца — чтобы выдрать его и сплющить в пальцах, раскрошить в стеклянное, звонкое ничто осыпающихся осколков…
Эхо рычания угасло, тишина залепила уши восковой пробкой.
Вервр стоял на горячей, сплавленной в стекло, площадке у пролома в ограде парка. Ан знал, что стекло уже твердеет, и застыв, навсегда сохранит контур старческого тела — плоским узором… Ан улыбался. Сейчас, когда Кукольник мёртв, вервр мог признать: пока он оставался Рэкстом, он сомневался в своей способности одолеть такого опытного врага. Тварь на поводке лишена яростного стремления к победе. Хищник на поводке жаждет иного: отгрызть себе лапу, даже умереть, чтобы хоть так — освободиться.
За спиной шевельнулся Дорн, в длинном выдохе стравил напряжение от созерцания чужого боя.
— Это ведь… вы? — голос не предал Дорна. — Но я чую вас иначе. Я шёл сюда и ещё тогда, возле конюшен, учуял вас, но не поверил. Почему вы учите меня? И… спасаете?
— Глупый тигрёнок, верящий даже мне, даже без повода, — промурлыкал вервр, не оборачиваясь. — У нас с Кукольником давние счёты. Я предупреждал его: не лезь в мой город, уничтожу. Предупредил: не начинай балаган с самообожествлением, этого никому не прощу… Разве я хотя бы раз не исполнял обещанного?
— Да, за вами не водится нарушений данного слова, — Дорн убрал клинок в ножны и поклонился, как кланялся бы старшему в учебном дворе Лофра. — Не думал, что скажу однажды… Я благодарен вам. Я обязан.
— Твоя женщина носит ребёнка? — вервр принюхался и шумно чихнул. — Подумай о смене зверя. Пока ты молод, зверь лишь образ в сознании и тень в ночи. Настоящий приходит много позже. Настоящий так же свободен, как и ты. Он выбирает тебя так же, как ты его… я говорю о верном и трудном пути вервра, а не о том убожестве наследного права, что выдумал Лоэн, умиляясь кротости ланей. Да… я вспомнил. Так мы поссорились. Из-за выбора породы зверя для вервра-подростка. Лоэн твердил, что до четвёртого порядка опыта надо растить травоядных. Я говорил, что свобода — не такая штука, которую можно регулировать, как поводок. Отвечать за себя следует и в тридцать, и в триста. Твоей женщине не обязательно быть ланью, она может меняться. И ты можешь. Тигр и лань — опасное сочетание, ссоры до крови и боль обоим, каждодневно. Не бросайся в крайности. Не меняй зверя из-за интереса к его возможностям или в угоду жене. Ищи того, кому отзовётся душа. Обязательно посмотри зверя на свободе. Без сабли и лука.
— Почему вы снова говорите важное и… без условий? — поразился Дорн.
— Я покидаю город, устранив лишь одного врага. Может явиться иной горгл, хотя вряд ли, портал гроз закрыт. Но и без того в мире есть альв, бес второго царства. Добавлю, даже без нас, бесов, в Эйнэ гнили людской выше крыш… Я желал бы оставить город под присмотром вервра, пусть младенца по силе и опыту. Я желал бы, чтобы самонадеянный тигрёнок знал: это моя территория. Я желал бы, чтобы он не рассказывал, что видел меня. Никому, пока мы снова не увидимся, если такое случится.
— И что тогда? — заподозрил Дорн. — Будет испрошена плата за мою жизнь?
— Твоя жизнь стоит так дорого, чтобы я помнил о ней, как о ценности? — прошелестел вервр. — Уходи. Ты отказался от места в свите. Ты оскорбил меня, а ведь я предлагал от души.
— Вы лжёте? — насторожился Дорн. — Шутите?
— Издеваюсь, — поправил вервр. — Скажи Лофру: если мой Пэм не придёт первым, прибью. Скажи князю: Рэкст передал привет. Пусть, подписывая всякую дрянь, помнит мой рассказ о памятнике в городе Корфе. Скажи Дохлятине, что я на него зол. Да, Дохлятине Хэйду, лично. Можешь добавить, что сам ты тоже зол. Он ведь убил тебя сегодняшним поручением. Еще скажи Монзу… тихо, не ставя в известность прочих: я удивлён, что он жив. Но я… рад. И ещё скажи ему: имя удачно прижилось, благодарю.
— Но я уже пообещал вам, что не видел вас!
— Не видел. Но скажи. Ещё навести беса Альвира. Скажи, что я люблю точить когти о дерево. Он по природе альв, то есть бес второго царства. С ним боя не будет, помни. Он мастер ядов. Это тоже помни.
— Я понял, постараюсь всё исполнить наилучшим образом. А что с Улом? — спросил Дорн, передумав уходить.
— Ар-р, — взвился вервр, обернулся и сразу прыгнул в ночь, не желая показывать своё изуродованное лицо. — Клог враг мне, навсегда враг! Выживет там — приговорю здесь!
Столичные истории. Выйти в свет
— Мы можем изрядно экономить на свечах, — съязвила Лионэла вместо приветствия, не оборачиваясь к шагнувшему через порог Дорну и не отвлекаясь от починки платья.
Она, конечно же, готовилась к очередному визиту вежливости. Переделывала одно из трёх своих платьев, чтобы с новым кружевом и лентами оно казалось и само — новым. Чтобы никто не посмел вообразить, будто гордая ноба хэш Донго с осени питается исключительно кашей на воде. Сейчас щепетильность Лии раздражала страшно, поэтому и думалось о ней с полным именем, официальным. Ведь ничто не уязвляет более, чем отчуждение друга. Дорн знал, был зол и непременно съязвил бы в ответ, прицельно и больно… Но — не до того!
В голове пойманной птицей бьётся мысль: а если князь всё же вцепился в нечто ценное для себя и подписал бумагу? А если жены нет дома, а если…
— Чиа! — отчаянно вскрикнул Дорн, втянул воздух и сполз вдоль стены, мысленно проклиная себя за то, что разбудил и растревожил жену. — Ты дома…
— О-о, если вы изволите гневаться вдвоём с Сэном, то света хватит и на бальный зал. Неужели так сложно выслушать неприятного человека и не тратиться на раздражение? Хочешь расшвыривать ценности, брось монету нищему, немногим больше проку, зато куда меньше вреда, — отчитала Лионэла. Лёд так и звенел в её насмешливом голосе. — Сколько можно оставаться ребёнком!
— Достойная Лионэла хэш Донго Тэйт, — прорычал Дорн, перемогая вспышку злости, — проглоти язык, покуда я не отрезал его! Я сыт поучениями. Сыт по горло!
— О-о, выше шеи, в мозг, опять ничто не проникло, — Лионэла встряхнула платье и еще раз придирчиво прощупала кружево по воротнику. — Он назвал тебя тигром, и ты вмиг изошёл на пар, о кипучий граф? Разве это повод кричать на весь дом посреди ночи? Тебе что, требуется сочувствие? Или тебя, уж прости за грубость, пожалеть? Ты здоров, ни царапины, и ты, кажется, даже не дрался? При чём тут я?
«Не дрался» было сказано громко. Дорн расслабился, прикрыл глаза и стал ждать, когда ярость осядет, а призрак оскаленного зверя потускнеет в сознании, уберётся глубже, во тьму неосознанного… В логово белого тигра — так иногда говорила Чиа, и голос её делался тих, и плечи горбились.
Поведение жены вдруг представилось внятно, а затем в памяти прошелестел голос ненавистного до недавних пор багряного беса: «Смени зверя, ты молод и он — лишь тень…». Трудно принимать от врага совет, еще труднее — собственную жизнь, подаренную снисходительно и даже без условий. Мир так и норовит перевернуться, рухнуть, разбиться вдребезги…
Шагов Дорн не услышал — Чиа умела двигаться беззвучно. Дорн воспринял кожей взгляд, как луч весеннего солнца. Чиа умела смотреть так кротко, что любой гнев утихал.
Когда Дорн открыл глаза, в комнате уже было темно — собственные волосы более не рдели яростью и спешкой, а слабый огонёк лампады едва теплился и чадил: кажется, масло снова попалось негодное, зато очень дешёвое… Чиа улыбнулась мужу одними глазами — и пропала в сумраке соседней комнаты. Ночь еще густа, и жена, конечно, до неуместного крика спала. Последнее время она много отдыхает. Побледнела… Пожалуй, не все ладно с вынашиванием ребёнка, — вдруг остро резанул страх. Следом уколола догадка: а ведь Лионэла разговаривает намеренно сухо и строго! Для Чиа очевидно, что так отчитывать можно лишь здорового и виноватого друга Дорна. И ей — спокойнее.
— Что он сказал? — нетерпеливо переспросила Лионэла. — Это важно.
Дорн прикрыл глаза, надеясь, что ярость не вспыхнет, и тигр не вернётся. Лионэла порой в обхождении хуже врагов, и общаться с ней не проще, чем с советником Хэйдом… Но в своём доме, ночью, когда жена отдыхает — можно ли рычать? И как его ещё привести в чувство, чтобы усмирял кипение ярости, внятное для Чиа. То есть не был ребёнком.
Стало стыдно. Уже год друг Сэн с женой живёт в так называемом фамильном особняке нобов Боув, полученном очень давно, вместе с графским титулом и потому чаще именуемом «замок Нод». Уже год Лия пытается вести дом — так она это называет… Хотя что тут звать домом? Разве руины, величаво и бесполезно лежащие посреди огромного задичалого парка.
Еще в детстве Дорна последний, кто помнил замок целым — старый конюх — рассказывал, что полвека назад стены рухнули из-за пустых споров с кем-то не менее драчливым, чем сами Боувы… Алая кровь взыграла, и, когда нобы успокоилась, уцелели лишь сарай с имуществом слуг, конюшня и розарий: слуги вне спора дурных нобов, обижать лошадей алые не стали бы, а розы любила жена графа, как можно было огорчить её? Мысль, что руины замка тоже способны расстроить женщину, не проникла в кипящее боем мужнее сознание.
— Кто «он» в твоём понимании? — попытался мирно уточнить Дорн после долгого молчания. Дыхание выровнялось, злость сменилась на виноватость пополам с раздражением. — Как далеко, по вашему мнению, вы с Хэйдом послали меня?
— Тебя ждал второй человек в прежней свите Рэкста, так полагал Хэйд, — отозвалась Лионэла. — Он опытный боец, перерожденец из алых. Итак, я слушаю!
Нехотя, еще не уняв раздражение, Дорн приподнял веки, прекрасно зная — его глаза сейчас малость звериные и даже, пожалуй, светятся… Зато в полумраке всё видно, как днём! Окончательно загнав тигра в логово и утратив его силу, Дорн бы и не приметил: Лионэла пятый раз щупает перешитое платье лишь оттого, что у неё дрожат пальцы. Золотая ветвь дара имеет свои особенности. Взрослея, такие нобы предпочитают не выказывать подлинных чувств. Даже перед близкими. Или не так: особенно пред близкими, которых не стоит попусту волновать. Значит, Лионэла сидит тут, чтобы Чиа мирно спала? Можно было понять сразу. Нужно было!
— К бесам Хэйда. Мне интересно твоё мнение, — проворчал Дорн, как-то сразу примирившись с ночным допросом.
— Кто я столице, чтобы иметь право на мнение, — Лионэла наконец отложила платье и позволила себе виноватую полуулыбку. — Все, что я могла — это выбрать время. Хэйд желал устроить встречу в иную ночь, но я отсмотрела все даты, и только в этой ощутила какую-то… нежданную пользу. Редчайшее стечение обстоятельств. Как пояснить? Я — золото, и хотя не могу учуять удачу или же предвидеть беду, но чую людей и их связи. Столица для меня подобна сложнейшей паутине влияний, где любая случайно затронутая нить создает звон и колеблет иные нити. Уже два дня всё вокруг колеблется и дрожит, хотя никто не трогает нити. Как еще пояснить? Словно нечто могучее не вмешивается, но присутствует и способно повлиять, если того пожелает. Как-то так… Могла бы объяснить точнее, сделала бы это ещё с вечера.
— А не сидела в темноте, исколов все пальцы, — усмехнулся Дорн. — Ладно же, признаю: когда я в гневе, могу обидеть кого угодно и не заметить что угодно. И еще ты права, он здесь два дня. Шкурой я учуял это, стал зол и беспокоен… Сэн спит?
— Пустырник, сон-трава и шишечки хмеля, — едва слышно выговорила Лионэла. — Можешь счесть это подлостью. Но один ты или вы двое, мне казалось, это в нынешнюю ночь не имело значения. Мой Сэн всё ещё болен. И я не намерена оправдываться.
— Да уж, заметно, — Дорн расстегнул пояс и отпихнул саблю в сторону. — Если бы я не был так голоден, я бы не был так зол.
Лионэла молча прошла к столику у дальней стены, на ощупь нашла и сдёрнула вышитую салфетку. Сразу запахло острее — курятиной в пряностях, хлебом, крепкой настойкой на травах. Дорн еще принюхивался и щурился, а поднос на ножках — на таких богатым лентяям подают завтрак в постель — уже был пристроен ему на колени.
— Лия, — промурлыкал Дорн, облизываясь.
— Тебя за кусок мяса купит с потрохами самый гнусный лесной разбойник, — улыбнулась Лионэла, и по голосу было понятно, как ей приятно слышать это своё имя, домашнее. — Кто пришёл на встречу, если ты так пылаешь?
— М-мм, с чесночком! Рэкст вроде бы звал его Кукольником… а, даже с имбирём? — вгрызаясь в курятину, невнятно прочавкал Дорн. — Еще звал горглом. О! Начинка из риса с грибами… Первый раз видел бой бесов. М-мм… сама запекала?
— То есть… погоди, бесы? Не один, а больше… оба? Нет, ты сказал «звал», значит, вот кто колебал нити связей, даже и невидимый. Невозможно. Но ладно же. И второй, — голос Лионэлы стал ровно так спокоен, как это случалось с осени при проявлении крайней степени настороженности. — Кто же? Златовласого ублюдка Альвира я видела днём, он уехал на бал, а после к графам Кайд, в их загородное поместье. За тихоней-праведником, так и не знаю его имени, обещал проследить Хэйд. Клялся, что всё отменит, если тварь в столице.
— М-мм… он был там. М-мм, грибочки, — сопел Дорн, выуживая начинку из куриного брюха. — Он сдох там. Зрелище, скажу я! Да! Ради такого стоило выжить. М-мм, вкусно. А как он рвал его! В крошево, в лоскутки, в прах!
— Погоди, он — его? — вздрогнула Лионэла. — Или что-то не то с грибами, или… Я верно понимаю, что погиб Кукольник, поскольку некто смог порвать его и в порошок? Трудно усомниться, кто этот «некто»! И — невозможно… Дорн! Прекрати мычать и чавкать. Кого же ты видел? Мне нужна определенность.
— Я обещал ему, что не видел его, так что я точно его не видел, слово графа Нод, — Дорн облизал пальцы, с сожалением принюхался к обглоданному скелетику. — Отвратительно мелкий курёнок. Я только вошёл во вкус.
— Ты видел его? — Лионэла сделала ударение на последнем слове, вздрогнула и замерла. — Определенно, так. Но, если все верно, уцелел ли Ул?
— Слово Боува: я его не видел, поэтому я никак не мог спросить, а он бы точно не ответил, что Ул ему враг и что при следующей встрече они то ли подерутся, то ли помирятся, сами пока не знают… но, выходит, Ул жив, — Дорн выговорил всё это залпом и немедленно выпил обжигающе крепкую настойку. Сморгнул, потянулся к толстостенной чашке с тепловатым морсом. — Брусничный! Моя Чиа готовила. Эй, а ты умеешь бледнеть. Прям как человек. Переживаешь за друга Ула? А убили бы меня, ты бы тоже побледнела или пробурчала брезгливо: «Он так и не вырос».
— Ты… ты везучий негодяй, — Лия забрала поднос и отвернулась, чтобы отнести на дальний столик, а заодно спрятать лицо. — Мне следует всё обдумать.
Дорн сыто потянулся и прижмурился, наблюдая, как Лия ходит из угла в угол, слепо трогает стулья, кивает своим мыслям, вздыхает… спотыкается и наконец-то садится у стола. Хотелось извиниться за свои недавние мысли. Разве на такую умную дурёху можно обижаться? И, увы, разве можно её запросто понять и принять с её странностями? Три щуки золота — всё оставшееся после устройства свадеб и дороги до столицы состояние семьи Донго — Лия истратила или распределила впрок до медяка, безжалостно и хладнокровно. На отепление нищенского сарая графа Нода, на два платья для визитов, на лекарства для Сэна и регулярные закупки свежей зелени для Чиа — та не может без зелени, даже зимой, когда её запросы обходятся ужасно, непомерно дорого.
Наверняка купленный вчера курёнок вне планов. И уж точно он был разделён так же рационально: потроха для больного мужа, кожа и лапы на суп, прочее — рычащему после боя хозяину дома… ведь его и ранить могли!
— Эй, немочь голубых кровей, сама-то ужинала? — тяжело вздохнул Дорн.
— Да.
— Ври Хэйду.
— Да!
— Еще два дня такой сытости, и ты начнёшь светиться насквозь. Пошли к Лофру в гости, а? Там ох как кормят… подумаю, и уже в пот бросает, заранее.
— Почему ты не желаешь знать очевидного? За матушкой Улой приглядывают. За тобой теперь уж точно следят. — Лия покачала головой. — Это столица. Мы не имеем права выживать и подниматься за счёт сложностей, создаваемых тем, кто нам дорог. Мы не имеем права вступать в альянсы, подставляя тех, кто нам дорог. Мы не…
— Я вижу, но я пользуюсь теми, кто мне дорог. И мне не стыдно, а с твоей щепетильностью мы сдохнем.
— Сам ври Хэйду, что пользуешься и что не стыдно, — вскинулась Лия, сразу же зажала рот ладонью и опасливо покосилась на тёмный проем двери.
— Чем ты опоила Чиа? — Дорн усмехнулся без раздражения и пояснил: — Она спит, не шепчи. Даже не учуяла, что я свечусь от злости. Вскочила на мой крик, но так и не проснулась. Кстати — благодарю. Слышала? И ещё извиняюсь.
— Не знаю состав. Матушка Ула прислала по моей просьбе.
Дорн кивнул и задумался.
— Нельзя к друзьям. Ладно, тогда вот что: я дал слово Боува тому, кого не видел, что устно передам его послания князю, бесу Альвиру, Хэйду и Лофру. И еще кое-кому, но это отдельно, это личное.
— Погоди, ты видел его и говоришь о нем спокойно, даже охотно, — нахмурилась Лия. Подвинула лампаду, жестом предложила Дорну место, дождалась, пока тот переберётся к столу, и постаралась рассмотреть выражение его лица. — Дорн, не важно, что ты обещал. Мне надо знать: Рэкст возвращается?
— Рэкста больше… нет, — Дорн осторожно выбрал ответ среди своих предположений и догадок. — Нет и не будет. Долго? Никогда? А, разве важно! Главное в ином: я свободен сменить зверя. Точно. Почти понял, как это сделать. Только на кого? Он бы мог сказать прямо, а не намёком!
— Устно передать… это великолепно, — ядовито улыбнулась Лионэла. — Возьми из денег на еду сколько надо, немедленно найми самую дешёвую карету, лишь бы закрытую, ведь Чиа мёрзнет. Пора нам всем плотно позавтракать.
— Неужели? — приятно удивился Дорн. — Бегу!
Утро еще не разрумянилось, когда ветхий возок, влекомый дряхлым мерином, перестал скрипеть полозьями по снегу, едва покрывающему булыжники, и замер. Кучер покашлял, намекая: пора платить.
— Нам точно сюда? — задумался Дорн, ссыпал мелочь в варежку кучера, спрыгнул на обледенелую брусчатку и открыл дверцу.
Он подал руку Лионэле, и ноба с видом княгини спустилась из драного возка. Она безмятежно отряхнула соломинку с побитой молью меховой накидки и обвела взглядом тихую площадь, кованые решётки особняков, статуи драгоценного розового мрамора при парадных входах и замерших изваяниями стражей в безмерно дорогих шубах, при позолоченных алебардах… Никакой неловкости Лионэла не испытывала, или не выказывала. А вот Чиа — наоборот, так и ёжилась от особенного, душного и гниловатого настроения этого безмерно дорогого места. Вервр-лань скользнула из возка и сразу прильнула к боку мужа, уткнулась в его плечо. Последним на площадь ступил Сэн — кое-как сполз с драных подушек, оперся на саблю, как на палку. Побрёл к ближней кованой ограде, привычно делая вид, что двигаться ему ничуть не трудно.
Княжеский треугольник, или просто Треугольник — площадь, куда выходят фасады легендарно дорогих постоялых дворов, а вернее, дворцов. Ранним утром здесь так тихо, что слышен шорох падающих снежинок. Дзынь-дзынь-дзынь… здесь, по мнению Дорна, и мысли, и снежинки звучат, как монетки. Здесь и лучи солнца — золотые нити. Сюда никогда, совершенно никогда, не приходят пешком. Но всяко лучше пешком, чем при таком-то выезде!
Лионэла прищурилась, поправила прядь волос, выбившуюся из-под просторного капюшона — и бестрепетно направилась вверх по мраморным ступеням. Дворец Трайд был самым помпезным из трёх. Дорн прикрыл глаза, отчаянно недоумевая… и все же смолчал, не желая обесценивать надетое заранее выражение ленивой скуки.
Громадный лакей ожил. Его шуба, намёрзшая коростой льда на плечах, заскрипела, когда великан поклонился и распахнул перед гостьей дверь. Дорн убрал руку с рукояти клинка и по-настоящему расслабился. Золотая кровь — что делать, когда она взыграет, даже алым нобам делается слегка завидно. Сейчас Лионэла приняла важное решение и идёт к цели, и такой ей не надо проламывать стен. Лакеи с поклоном распахнут любые двери, — ей ведь нельзя не открыть прямо теперь. Никто не умеет сплетать альянсы и строить связи так, как золотая ветвь дара. И никто не умеет производить столь сокрушительного впечатления своей исключительной важности.
— Немедленно доставьте адресату, — без выражения велела Лионэла. Обернулась, миновав двери. — Мы пока что намерены позавтракать, вот список блюд. Сервируйте в малом нефритовом каминном зале на… да, на пять персон. Ближе к полудню я уточню число гостей к дневному чаю и укажу, где мы собираемся отобедать. Пригласите распорядителя, мы обсудим блюда. Это, учтите, очень деликатная тема.
Сэн всё стоял у ограды, щурился и сонно, почти бессознательно улыбался. Дорну вдруг пришло в голову: кажется, друг лишь сейчас вдохнул полной грудью зиму и осознал, что пришло её время. На щеках наметился румянец… то ли ему сегодня лучше, то ли от вида Треугольника в алом проснулся азарт.
Вроде бы однажды, еще по молодости, ныне покойный дед Дорна гулял близ Треугольника и заявил насмешнику-богатею из бесцветной знати: «Следует смиренно подарить алому всё, что он не может купить. Иначе дарить станет нечего». И деду подарили. Он ведь был почти трезв и зол до того, что сабля звенела, норовя выпрыгнуть из ножен…
Казалось очень странно шагать в стоптанных сапогах по драгоценному мрамору, укрытому шёлковыми коврами, не имеющими цены. С подмёток облетал лёд, звенел и мелкими кристалликами катился, чтобы таять повсюду и разрушать идеальный порядок дворца, всегда готового к встрече очень важных гостей. Дорн втягивал носом запахи и настроения — и все более внятно понимал: да, он и есть особенный гость. И, войдя в этот дворец, никто из друзей Лионэлы не останется прежним. К добру или худу, но голодная зима закончилась… а с ней иссякла и относительная, фальшивая независимость от дел столицы.
Часом позже Дорн блаженно лежал в кресле, закинув ноги на решётку камина и созерцая слегка дымящиеся подмётки просохших сапог. К ночному чахоточному цыплёнку в животе добавились половина утки и целиковый зеркальный карп.
Друг Сэн взбодрился с двух бокалов горячего вина с мёдом. Он охотно слушал вранье Лии о том, как всё в столице хорошо и просто — и верил, вопреки слуху чести. Сытым чужды подозрения. Чиа счастливо вздыхала над огромной корзиной с зеленью и цветами. Выбирала растения, трогала, принюхивалась, жевала по одной травинке — и тоже выглядела румяной и здоровой впервые с осени.
— Что же можно продать мне настолько дорого? — ещё из галереи спросил советник Хэйд, почти бегом миновал зал и опустился в кресло, остро и жадно глядя на Лионэлу.
— Я не решила, вам ли. Всё это, — Лия небрежно очертила пальцем накрытый стол, — ничуть не извиняет ваш промах. Вы обещали, что проследите за праведником. Но вчера в столице было даже не два… их. И праведник твердил, что смог получить бумаги с именем, — Лия коротко покосилась на Чиа, не замечающую ничего, кроме зелени. — Просто чудо, что мы можем так славно позавтракать впятером.
— А! — Хэйд жестом пригласил лакея и тот явился, заранее готовый услужить, с любимым блюдом советника и кубком горячего вина. — Их… и не два. Было. Достойная ноба торгуется, как на базаре. Я разочарован.
— Так идите на базар, там раздают пряники. Почти даром, — ласково предложила Лия.
— Почему здесь? — поморщился Хэйд.
— Вот список тех, кого следует увидеть графу Ноду, чтобы передать то, что он поклялся передать. Устно и лично. Вас я указала первым, вы занятой человек, и весь ваш ценный день вот-вот высвободится, — Лия сладко улыбнулась Хэйду. Обернулась к Дорну и велела: — Скажи то, что надлежит услышать именно ему. И ни словом более.
— Мне надлежит услышать всё, и ещё много слов сверх того, много более, — возразил советник, повторно просмотрев список, где значились князь, новоявленный бес Альвир, Лофр и сам он под своим негласным прозвищем — Дохлятина.
— Вы торгуетесь, как на базаре, — вернула недавний упрёк Лия, чуть шевельнув бровью. — Я разочарована.
Дорн поймал прямой взгляд Лии. Встал, принял горделивую позу, достойную случая.
— Я, Дорн хэш Боув, граф Нод, даю слово в том, что не видел его сегодня ночью, — сказал он то, что, вероятно, предстояло повторить раз сто в течение дня. — Однако же багряный бес Рэкст передаёт вам: он зол. Если дословно… «Скажи Дохлятине, что я на него зол». Это всё.
— Что? Это всё? — смотреть на Хэйда было смешно, он вскипел мгновенно и остыл так же мгновенно, замер с занесённой над взбитыми сливками ложечкой, раздумав шуметь. — Где ваш второй список, вымогательница-хэш-Донго?
— Беса Альвира мы пригласим к полуденному чаю, — Лия добыла из складок платья конверт и положила на стол. — А вы прогуляетесь к особняку графа Рэкста и лично изучите то, о чем вам вот-вот донесут ваши нерасторопные люди. Дорн сказал, оно того стоит.
— Но если пригласить его к чаю, он примет меры и будет знать и то, что за обедом услышит князь, — нахмурился Хэйд. — Стоит поменять порядок лиц в этом списке.
Он вскрыл конверт и быстро пробежал глазами короткий текст. Кивнул и даже не поморщился.
— Хэш Донго, здесь указано: вы поправились настолько, чтобы еженедельно посещать дворец канцлера и нести службу. Всё верно?
Сэн улыбнулся, отвлекаясь от созерцания огня в камине.
— Мне определённо лучше, — негромко выговорил он. — Не могу понять, отчего я так медленно выздоравливаю. Но именно сегодня я понял, что иду на поправку. С вашей стороны было неосмотрительно и расточительно пригласить нас сюда на завтрак. Но Лия сказала, вы настаивали. Признателен за этот семейный праздник.
— Вы весьма интересная пара, так друг друга… дополняете, — скривился Хэйд и сразу убрал с лица кислую мину. — Коня, жалование и прочее, что вам причитается по службе, доставят завтра. Канцлер дважды спрашивал о вас, так что со следующей недели извольте навещать его. И… да, вы с женой теперь обязаны бывать на балах княжеского двора. Если бы его светлость прибыл именно в полдень и именно на чай…
— А разве вы ещё не пригласили его светлость именно на это время? — издевательским тоном уточнил Дорн, чтобы не вынуждать Лию говорить и эти слова.
Сэн обернулся к другу и довольно долго смотрел прямо в глаза — а затем как-то смущённо улыбнулся и откинулся в кресле, глядя в потолок. Невесть с чего в зале стало тихо, разговор угас, и только дрова в камине потрескивали, и с каждым щелчком напряжённость нарастала.
— Хэш Хэйд, сколько в столице нобов, наделённых полноценным слухом чести? — Сэн оборвал натянутую тишину.
— Гм… Кроме вас? Пожалуй…
— Вот и я так думаю, — Сэн пресёк длинный ответ. — Но вы хладнокровно наблюдали, как моя жена выбивается из сил, пытаясь выжить и не стать вашей куклой, и не сделать меня такой же куклой. Мне говорил о вас Ул. Разное… просил не судить прямолинейно. Но я слушаю вас сейчас и сужу, уж простите. Вам было в пользу проклятие чёрного мерзавца из свиты Рэкста. Пока вы боролись из последних сил и знали о своей скорой смерти, вы жили во имя высокой цели. Сейчас вы копите на старость. Я слышу это в каждом вашем слове. Вы отвратительны, хэш Хэйд. Посмели думать о моей жене с презрением.
Сэн неожиданно гибко поднялся, кончики его волос полыхнули чистой белизной — и даже Дорн не проследил, когда фамильная сабля Донго нащупала яремную вену на шее Хэйда. Нащупала и прижала, не добывая пока ни капли крови.
Хэйд перестал дышать. Сэна покачивало, но рука его оставалась твёрдой, и сабля ни на волос не смещалась из выбранного для неё положения.
— Вы посмели судить о чести моей семьи? Увы, стали путать честь и выгоду. Я готов оказать вам услугу, — Сэн наметил кивок. — В любой удобный вам день укорочу вашу жизнь, чтобы в ней снова появился смысл. Я вижу правду в таком решении. Для меня, Лии и проржавевшей фамильной чести рода Хэйд. Старость вам не к лицу, хэш. Она труслива и грязна.
Хэйд позволил себе осторожно сместить взгляд, не более того. Он всё ещё не дышал и не моргал. Он смотрел на Лию.
— А на базаре кушали бы пряники, почти даром… — Лия кашлянула и рассмеялась.
Сабля с тихим шелестом вернулась в ножны, Сэн рухнул в кресло — спиной, не стараясь сесть красиво. Он промахнулся, угодив на подушки лишь локтями и затылком, резко побледнел и некоторое время лежал в неудобной позе, глядя в полоток. Затем, помогая руками, подтянул колени. Рывком поднялся и сел-таки в кресло, как подобает.
— Мне сегодня определённо лучше. Пусть принесут ещё мяса. И вина. Много мяса и много вина. Дворцу полезно, чтобы я стал сыт и пьян. Тут столько всего… бьющегося.
Сэн огляделся, усмехнулся и подмигнул жене. Лия позволила себе заложить морщинку укоризны меж бровей. Хэш Хэйд, наблюдая семейную сцену, благоразумно пересел в дальнее от Сэна кресло, к окну.
— Какой разный смысл можно вложить в слова «он за все заплатит», — промурлыкал Дорн, щурясь на Хэйда и зная, что будет изруган Лией чуть позже. Ведь его числят ловким, и для него не видят права на таранные методы решения недоразумений. — Хэш, сейчас вы куда больше, чем минуту назад, похожи на того, кого я с детства уважал.
— Старость, — прокряхтел Хэйд, устраиваясь в кресле. — Как же… Да я почти поседел, пытаясь уладить осложнения и дать вам тихо перезимовать.
Дорн кивнул и сделал вид, что верит. Сэн вздохнул и подставил кубок — слуга как раз обносил желающих горячим вином. Лия вспорхнула с места и пристроилась на подлокотник кресла мужа, тронула его лоб и улыбнулась: нет испарины… И жара нет? Значит, румянец обычный, а не болезненный.
— Вы сами не уверены, стоит ли врастать в жизнь столицы, — нехотя буркнул Хэйд. — Здесь все копят на старость. Совершенно все.
— Алые не сильны в выборе целей. Отец говорил: нам важно найти того, кому мы готовы доверить такое дело. Вы много раз пробовали подобрать мне хозяина. В столице я устроюсь или вне её, ни вы, ни прочие, не забудут о моем клинке и моем слухе чести. О прозвище Дорна и тайне его семьи. Поэтому ставлю вас в известность: выбирать цели будет моя жена, — безмятежно улыбнулся Сэн. — Вне боя, хэш, она вправе принимать все решения в семье. Совершенно все. Не уверен, что каждое решение придётся мне по душе, но так есть и так же будет впредь.
— Гм… и вы не пожалеете? Никогда? — вкрадчиво уточнил Хэйд, покосился на Дорна и, по взгляду понятно, рассудил, что кресло красноглазого располагается опасно близко.
— Боль — часть жизни любого, кто рождён для боя.
— Ваш батюшка, помнится, действительно так говорил, — на лице Хэйда проступила усталость. — До полудня есть время. Я намерен посмотреть на особенное место близ особняка Рэкста и вернуться. До того не пробуйте выторговать пряники у кого-то ещё, чтимая ноба.
Хэйд выбрался из кресла, отвернулся не кланяясь, и побрёл прочь. Он выглядел старым и несчастным. Проигравшим. Даже сломленным. Его провожали пять пар глаз. Ему почти верил Сэн. Один из всех, для кого так усердно хромал премудрый хэш…
Путь Ула. То, чего нет
Междумирье, решил Ул, похоже на зимнюю реку. Нырнул — и терпи через «не могу». Он ещё мальчишкой, живя в Тихой Заводи, нырял и терпел так часто и подолгу, что разучился бояться шуршащей льдинками воды, тьмы прочного свода-панциря, скользкого дна с ловушками коряг и вьюнами течений.
Сейчас он шёл к цели, которую однажды избрал. Он наследник атлов и значит, обязан понять, кто изуродовал мир бессмертных — мир, который Ул сперва счёл великолепным! Нет немощи старости, ущерба от болезни, страха незавершённых дел, предела развития. На всё хватит времени и сил. Как можно вывернуть совершенство наизнанку и сделать пыткой, каторгой, рабством? Пусть это наивно и слишком по-детски, но так хочется дойти и задать вопрос: зачем? Увидеть глаза королевы. Понять, что делает её королевой и почему никто, ни разу за всю вечность, не смог восстать? Даже Эн, могучий и мудрый дракон, даже он всего лишь оберегал малый клок прошлого… И, кажется, не справился, ведь Чиа едва ли не последняя из подобных ей вервров-ланей осталась на свободе.
Или Ворон Теней: воин, загадочный и волевой — тоже не смог одолеть навязанную ему роль стража. И гордый, вольный волк-одиночка — вервр с временным именем Ан, бывший багряный бес Рэкст… О нем не получается думать, как о враге. О нем болит душа… Как он там, ведь он единственный, кажется, смог очнуться и освободиться. Или — не смог? Тогда что сталось с девочкой, и как можно было доверить ребёнка Рэксту?
Именно об эту мысль Ул споткнулся. Он дёрнулся, забился суматошно — и обмяк. Оказывается, в междумирье можно увязнуть, как в омуте.
Сходство с зимней рекой усилилось. Ул едва не утонул в первую зиму после золотого лета, когда Лия помогла ему вернуть полноту здоровья. Он еще не понимал реку и переоценивал себя. Он радовался обретённой силе, горел жаждой построить дом, порадовать маму, доказать себе и ей: он вырос и справится с любым делом, даже большим… Он нырнул, скорее почуяв подтопленную дубовую колоду, чем увидев её на дне, в слоях ила. Он стремился к желанной цели — а течение тянуло и крутило, и полынья вмиг осталась далеко, высоко, невесть где… Сразу пришло понимание настоящей силы реки и своей ничтожности в мутном ледяном потоке. Искорка жизни, горсть тепла, один глоток воздуха — вот и всё, что ты собою представляешь. Тёмная вода перекатывает тебя в складках волн, выстуживает. Придвигаются тени — и делаются страшны небыли, совсем не пугавшие у очага, на берегу. Русалочьи волосы, колючий ус водяного, мертвящий взгляд утопленника… И уже не понять, что более настоящее, что тебя окружает: ледяная река — или мрачные, предсмертные страхи.
Тогда мальчишка-Ул смог проломить лёд и вернулся в студёную, но полную света и воздуха явь. Теперь юноша-Ул боролся с иной рекой, омывающей не берега — миры. И понятия не имел, где искать поверхность, какой толщины намёрз лёд из страхов и сомнений. Одно он знал наверняка: важно открыть глаза. Постараться увидеть, что путает и тянет, что мешает идти к цели.
Зрелище оказалось столь странным, что едва не погасило сознание. Ул скрипнул зубами, порадовался реальному ощущению — солёная кровь попала на язык! — и стал перемогать чуждость, искать способ вместить её, принять.
«Это можно счесть книгой на незнакомом языке, я успешно осилил одну, не понимая её знаков, несхожих с буквами», — предложил себе Ул и стал смотреть, как смотрят на книгу. Он старательно прорисовывал понятое контуром узора — словно под дальнейшую обработку разными кистями и красками.
Чуждость упиралась, не желала читаться, но постепенно поддавалась. Ул вроде бы принял себя, зажатого меж страниц безмерно огромной книги. Одна сторона казалась теневой, холодной, даже мертвенной — в ней узор воспринимался, как стёртый, обугленный. Он принадлежал прошлому, словно страницу давно сожгли.
Зато другая страница-сторона охотно раскрылась взгляду — тёплая, изменчивая.
Для себя Ул назвал стороны правой и левой, живой и мёртвой. В живой переливался красками летний лес, он радовался взгляду и расцветал в ответ на внимание. Стоило подумать: тут не хватает деталей, а там бы кстати смотрелся цветок, хитрый изгиб ствола — и они прорисовывались, занимали предложенное место…
Слева был тот же самый лес, — нехотя принял правду Ул. Тот же лес, но весь, до последнего изгиба ветки, зимний и мёртвый. Лес необратимо принадлежал прошлому, он сгинул, но нечто мешало страницам яви и небыли сомкнуться. Будто время здесь крутилось в глубоком, гибельном водовороте…
«Лес хранит долг или тайну, упрямо цепляется за явь и ждёт того, кому можно отдать бремя», — решил Ул, следуя наитию.
Он осторожно пошевелился — и стал протискиваться меж цветным летним лесом и его стёртой зимней тенью. Дальше, дальше — туда, куда тянула взгляд нить внимания. Именно там охотнее добавлялись подробности в узор. Взблёскивало золото, тонко и точно нанесённое — совсем как на заглавных буквах в книгах Монза…
Ул приноровился к движению и не удивился, когда оно вывело на поляну. Справа яркими пятнами впечатлений и воспоминаний лучилась жизнь. Слева стена тёмного льда создавала зеркало, и в нем мертвяще-точно отражалась красота давно сгинувшего лета. На грани холода и жара пульсировал единственный реальный во всей этой чуждости цветок. Алый, как свет в ладони. Он трепетал — и сердце сбивалось, чтобы подстроиться в такт.
«Я заберу тебя отсюда», — пообещал Ул.
Ненадолго лес сделался единым, настоящим. Ул вдохнул пряный, незнакомый аромат лета. Ощутил ветер другого мира, добрый и влажный, густо заполненный перламутром пыльцы. Краем глаза отметил полет бабочек, взмах птичьего крыла. Прошёл по траве, слыша её шелест и улыбаясь — росинки срывались и падали со звоном крохотных хрустальных колокольчиков.
Ул нагнулся к цветку и сложил ладони лодочкой, оберегая алость лепестков, как огонёк свечи. Коже стало тепло. Слуха коснулся шёпот: слов не разобрать, но звучит, как просьба. Цветок раскрыл лепестки, перенёс свой узор на ладони — и поблёк, впитываясь в кожу. Свет медленно потускнел, а затем распался в ничто загадочный лес: и живой справа, и ледяной слева. «Для кого этот цветок?» — запоздало подумал Ул. Но шёпот на незнакомом наречии не вернулся, не наделил даже намёком на ответ.
Междумирье снова стало рекой без дна и берегов. Ул вытянул вперёд руку. Он отчего-то знал: вот-вот ладонь ощутит поверхность и пробьёт её, позволяя вступить в новый мир.
Глава 3
В которой рассказывается о событиях лета 3213 года
Столичные истории. Дом, милый дом
— Матушка, я безнадёжный для семьи человек, — выговорил Дорн, глядя в пол.
Ула безмятежно улыбнулась, подозвала прилежного Шельму. Уже два года он называет себя учеником лекарки. Сперва казалось: рослому и ловкому парню скоро надоест горбиться над ступкой и перетирать травы, вязать узелки на пучочках и тщательно вымывать землю из мелких, спутанных корневищ. Но Шельма и его приятель Голос не унимались. Они искренне радовались новому делу. Общему для них, позволяющему обоим найти что-то важное.
Сейчас Шель — а его все чаще звали этим именем — сидел в углу, в тени, и всматривался в выражение лица Дорна, оценивал цвет кожи и дрожь пальцев, примечал пот, сбои в дыхании. Так он должен был опознать нарушение наилучшего для человека состояния души и тела. Это задание Шеля на всё лето. И он исполняет, от усердия прикусывая нижнюю губу — откуда выискал привычку? Обычно Шель молчит, пока не поймает обращённую к нему улыбку Улы, её разрешение высказаться.
— Дык… залить со всей дури валерьянкой. Или кулаком в под дых? — смущённо сообщил Шель, двигаясь ближе. И сам побурел щеками и шеей от нелепого своего совета. — А чё? Он же ж дурью мается.
— Ваш ученик и без Голоса сделался говорлив, — встрепенулся Дорн, во взгляде блеснуло раздражение. И погасло, вытесненное грустью. — Под дых… я не прочь размяться. Матушка, что делать? Я старался верить, что всё наладится, если выждать. Но Чиа не привыкает к городу. Пока у нас жили Лия и Сэн, она держалась. Пока кормила грудью и надеялась, что сын будет в неё — ланью, а не в меня… Только малыш тот ещё хищник, настоящий красноглазый ноб Боув.
Дорн улыбнулся. Сын — особая тема. Когда нет уже никакого способа смягчить норов старшего мужчины семьи Боув, ему скороговоркой кричат нечто вроде: «Ваш малыш так подрос, весь в отца!»… И вызов на поединок остаётся невысказанным, Дорн убирает ладонь с рукояти клинка, расплывается в улыбке и принимается, удивляясь себе, болтать о пользе овсяной каши или о лучших методах обучения детей основам боя.
— Ты собирался сменить зверя, — припомнила Ула. — Мы думали, помогали… Монз нашёл ценный текст и написал тебе ещё один, вроде бы важный для такого дела.
— Сменил, — без радости кивнул Дорн. — Тигра на медведя. Мне казалось, дело полезное, было трудно… Теперь я обожаю мёд и кашу. Почти безразличен к мясу, но ценю рыбу. В холода меня тенет ко сну до заката. Я старался! Но дело вышло пустое… А она всё равно плачет ночами. Запах хищника. Она молчит, но я знаю. Что же нам, в лес уходить? Или мне уходить, одному?
— Трудно поверить, но ты… жалуешься? — Ула чуть наклонила голову, вслушиваясь в тон и искоса поглядывая на Шеля.
Тот вскинулся, мотнул головой — нет, напрасный навет! Дорн хмыкнул, заметив порыв Шельмы, кивнул благодарно. Мол, всё так, разве я пришёл бы жаловаться? Разве… Дорн сник. Он, судя по всему, уже и сам не знал, на что готов. Если Чиа поможет жалоба, годна и она.
— А схожу-ка я в гости к вам, — решила Ула.
— Матушка, но Лия сказала… — начал Дорн.
— Нельзя же ж! — вскочил на ноги Шельма.
— Что-то не то, что-то неладно, — не слушая обоих, нахмурилась Ула.
— Шель смотрел. Пусть глянет снова, — насторожился Дорн. — Вам нельзя выходить. И Лофр так сказал, я знаю.
Ула смущённо повела рукой — помню, с ним не спорю… а всё же сделаю по-своему. Дорн даже кашлянул, вспомнив: блистающий при дворе бес Альвир люто ненавидит травницу! Так и не остыл с той первой их встречи. Не забыл своего позора… Этот бес — не граф Рэкст, который смотрел на людей сверху вниз просто из-за разницы в силе и опыте, не опускаясь до мелочной мести, до доказательства того, что в доказательстве не нуждается. Как он называл это? «Я — высший хищник!»
Альвир, увы, даже не хищник. Он — вьюнок, так сказала однажды Ула, грустно улыбаясь. Добавила: у этого беса нет спинного хребта, и, хотя он способен достать до неба, но прежде ему надо найти ствол, по которому можно ползти ввысь. Ещё Ула шепнула, что жадный вьюн, утверждая своё величие, сушит тех, кто дал ему опору.
По весне Ула стала законной хозяйкой «Алого льва». Гости и ученики, не удостоенные права именовать её «матушка», кланялись и называли нобой Баст. Или того хуже — нобой хэш Баст, ведь Лофр хэш Баст ввёл её не только в имущественные права, но и вписал в фамильное древо рода.
В день свадьбы Ула получила с посыльным роскошный букет роз — и сверх того свёрток. Книгу, написанную по указанию Альвира. Очень дорогая работа, переплёт с золотом и самоцветами. Внутри, под обложкой, короткий пересказ известной сказки о княжне, уснувшей после укола о шип розы. Только в дарёной книге княжна умерла. Половину текста занимало описание болезни и мучительной кончины, и в этой части книги всякая правая страница отводилась под рисунок. Умирающая княжна была один в один — Ула… Даже свадебное платье прорисовано до мелочей. Значит, доверенные люди Альвира выведали нужное у портных. Лофр о подарке узнал, но текста не прочёл: книгу у него из рук утянул и успел сжечь Шельма. Иначе наставник лучших наёмников в столице, пожалуй, явился бы воевать дворец Альвира. Тот очень надеялся на вспышку слепого гнева. Это знал Дорн: после свадьбы именно он сопровождал к бесу хэша Хэйда. И по пути учуял, услышал до сотни бойцов в засадах. Их оружие пахло остро, травянисто. Резкие ароматы щекотали ноздри, дразнили воображение — и оставались нераспознанными. Но Дорн не сомневался в ядовитой смертоносности запаха.
Лёгкая ладонь Улы коснулась запястья. Дорн вздрогнул, возвращаясь из задумчивости. Травница улыбнулась светло и тихо.
— Не переживай. Дважды я стояла на краю. Оба раза было так страшно, и не высказать, а после… я вроде бы договорилась с собою. Что толку в страхе? Или вот ещё: ты посуди, а каков страх у беса внутри! И сверх того пустота. Весной, прочтя ту книгу, я собиралась повидать его. Уж так ему дурно… Монз показал мне записи, что сделал со слов багряного Рэкста. Тогда мне сделалось ясно, что Альвир происходит из второго царства. К зелёному лесу его душа близка. Что же он сам со своей души сдирает кору?
— Не стоит страдать по всякому уроду, — прорычал Дорн.
Рука Улы легла на его кулак, похлопала, потребовала расслабить мышцы.
— Ты белый лекарь. Особенный, прирождённый. Но в лечении пока не преуспел. Учись у Шеля. Быть лекарем — большая работа. Сперва усвой привычку прощать людей. Покуда у тебя не получается столь важное, но ты перемогай. Чиа станет легче дышать, когда справишься.
— Он не человек. Он чудовище! Он не пожалеет ни вас, ни…
— Отговорки имеются всегда, — Ула жестом предложила Шелю собирать короб и закладывать двуколку. — Разве я прошу назвать беса светочем доброты? Я хочу и требую, чтобы ты не рычал и не уходил в злость с головой, как в болото.
Дорн кивнул. Он был в злости не просто с головой! Он был раздавлен жаждой прикончить Альвира. Он видел однажды, как багряный бес рвал соплеменника. Память сладко и фальшиво обещала: и ты справишься. Ты тоже хищник…
— Мы скоренько обернёмся, — сказала Ула, когда близ конюшни ей загородил дорогу сам Омаса, первый ученик. Огромный и непререкаемый, как скала.
— Хэш не велел.
— День таков, что нет в нём смертей, — Ула изучила над воротами что-то, видимое лишь ей: Дорн тоже глянул и ничего не заметил ни глазами, ни чутьём. — Я знаю. Но возьму с собой дружка моего мальчика, так и скажи мужу. Ещё попроси, если Лофр вернётся прежде меня, пусть дождётся тут и не устраивает переполох на весь город.
Омаса навис над Шельмой: тот как раз явился от конюшни, привел под уздцы смирную лошадку, запряжённую в двуколку. Огромный ученик Лофра, которого трижды норовили переманить аж во дворец и не абы кем, а первым стражем с титулом ноба, придавил Шельму взглядом.
— Душу вытрясу, ежели что, — тихо и проникновенно сообщил Омаса.
— Сам же ж вытрясусь, ежели что, — криво усмехнулся Шельма.
Было странно слышать, как Шельма без икания и сопения произносит слова, не соединяя их удобными связками ругательств. Хотя он сейчас зол: взгляд бешеный, зубы сжаты… От затеи Улы покинуть двор ему тошно более, чем даже Омасе.
— Провожу и туда, и обратно, — Дорн поклонился Омасе, отвернулся и зашагал к воротам.
Стоило выбраться на улицу, как из-за угла показался, чтобы тотчас сгинуть, неприметный человечишка. Шельма оскалился, Дорн жестом успокоил: не по вашу душу. Этот — от канцлера и ходит за мной. Проверяет… как будто хэш Боув уже согласился наследовать не только титул отца, но и его судьбу. Ту самую судьбу второго или третьего канцлера княжества Мийро, которая приводила к ранней смерти очень и очень многих в семье.
Лошадка шагала бойко, Шельма то бесшумно возникал справа от конской морды, то вдруг оказывался слева. Отросшие волосы метались по его плечам, позволяя понять, как старательно оценивает всякого встречного и попутного этот лекарь, готовый в любой день и без предупреждения резать здоровых, сунься они, куда не следует. На месте кучера пристроился Голос, и его тощая шея по-голубиному непрестанно кивала, отмечая мелкие движения головы.
Дорн чуть поотстал, он шел и втягивал запахи и настроения, слегка сутулился. Новый зверь имел совершенно иные повадки, нежели тигр. А вернее, именно теперь Дорн осознал, что значит быть вервром и сливаться со своим вторым «я», понимая в себе две грани: и человека, и зверя. Он научился использовать возможности зверя, избрав медведя, знакомого чуть ли не с рождения — по сказкам, а после по охоте, и вдобавок по весенним встречам в лесу, без оружия.
Медведь всегда пребывал рядом и его, в отличие от тигра, не приходилось загонять в небытие, как в клетку. Медведь брёл косматой тенью-невидимкой, поглядывал на людей мелкими глазами, переваливался неуклюже и неторопливо. Принюхивался к сладкому и добродушно улыбался во всю пасть, готовый немедленно ударить. В любой миг. Без смены настроения, без рычания, кошачьего выгибания спины и иной показухи.
Медведь приближался к своему логову — сараю в заброшенном парке замка графов Нод. И мех на его загривке вставал дыбом. Опять… Дорн-человек не мог понять настороженности Дорна-зверя. Собственно, потому и пошёл к матушке Уле. Она сказала верно и даже… точно. Что остаётся, кроме невнятных жалоб? Кому вообще скажешь такое: «У меня уже в воротах родного парка мех дыбом и нос будто пчёлами искусан». Но, говори или молчи, а в воротах непременно споткнёшься.
Дорн споткнулся, тяжело вздохнул — и шагнул в парк. За два года он выкорчевал сухие деревья, постриг кустарники и отсыпал несколько дорожек мелким камнем. Покрыл сарай черепицей. Лия год назад помогла разбить цветник перед домом. Весной раз пять присылала черенки для укоренения. Смотреть на дом вполне приятно, даже сараем назвать уже неловко. Человек-Дорн это понимает, а вот его зверь…
— Останови, пешком пойду, — вдруг велела Ула. Дождалась, пока Шель возьмёт лошадку под уздцы, спрыгнула из двуколки и осмотрелась. Тихо, едва различимо, шепнула: — Будь я медведем, у меня бы мех стоял дыбом.
— Что? — опешил Дорн.
— А то, что жаловаться надо было еще по весне, — покачала головой Ула и пошла по дорожке, озираясь и хмурясь. — Ох, и худо… да вовсе худо!
— Ну вилы ж! — хлопнул себя по штанам Шельма, расхохотался, добыл невесть откуда нож, подбросил и снова припрятал. — Во глаз! Вот же ж… Эх же ж ёж!
Не унявшись, Шельма присел, вскочил и снова хлопнул себя по бокам, то ли танцуя, то ли обманывая несуществующего врага и готовя удар. Вздохнул, чуть успокоился и занял место у конской морды. Почти смешно было смотреть, как крупный, хваткий детина впадает в детство, меняется — и, даже успокоившись, продолжает лучиться гордостью за травницу, которая умеет распознать самую тайную беду.
— Откуда взялось эдакое? — спросила Ула, останавливаясь у порога и с опаской рассматривая хмель, высаженный по весне и распространившийся на весь фасад, уже взметнувший курчавую весёлую зелень до конька крыши. — Откуда тут… такое?
— Лия прислала, — насторожился Дорн, тоже всматриваясь в хмель и пробуя найти в нем хоть самую малую странность.
Травница сокрушённо покачала головой, села на ступеньку крыльца и задумалась. Дорн прикрыл глаза, греясь на солнце и впервые с весны ощущая себя в парке относительно спокойно.
— Шель, — травница, наконец, выбрала решение, — а ведь сколько раз говорила я Голосу, что пора искать белого лекаря и править косточки?
— Дык…
— Вас из столицы княжьим указом не выставить, — вроде бы рассердилась Ула, даже заговорила громче. — Медуница в цвет идёт, солнышко играет, по лесу такой дух — не нарадуешься, а вы и не видите, и не чуете!
— Ну дык… — не понял Шельма, но сделал виноватый вид, просто на всякий случай.
Дорн краем глаза отметил: в комнате, за опущенной занавеской, качнулась едва приметная тень. Там упрёки Улы слушают. И там понимают, что такое радость и какой в лесу дух от медуницы…
— И клевер луговой, в два цвета, мягонький, молоденький, весь в сладеньких цветочках. Мой сыночек уж так любил его в книжные узоры вплетать. Даже в золото заглавных букв! — не унялась Ула. — А ты в городе сидишь! А разве то гоже? Ты, конечно, уродился тут и за ворота, пожалуй, не выходил ни разу. Тебе бы кого толкового в проводники, чтоб в лесу не заплутал и ног не сбил с непривычки, — спокойнее и напевнее стала рассуждать Ула. — Сезон-то каков, дожди вон, после укоса так и копятся. Туманы ночами пушатся, зелень кутают, и сами травяным духом пропитаны, и свежим сеном пахнут так… духмяно.
Штора качнулась, взволнованная движением. Дверь без скрипа приоткрылась, выпуская на порог Чиа.
— Матушка, вы не ругайте его, — прошептала Чиа, глядя мимо людей, в тот туман, что травница нарисовала, пообещала словами и вздохами. — Не надо ругать.
— Не ругаю, но скорехоньхо в путь собираю, — Ула улыбнулась, погладила ступеньку, приглашая хозяйку дома сесть рядом, и та сразу пристроилась, положила голову на плечо травницы, прикрыла глаза… — Тропками, а не большой дорогой. Березняками, а дальше сосновым лесом. На Тосэн, глянуть, что там и как. А далее уж вдоль речки. Непременно передать весточку Сото, он живёт в деревне Заводь, я с рождения его знаю. Такой человек тёплый, широкий… Я не видела его давно, вот и хочу узнать: здоров ли его сыночек? Я лечила, мой Ул лечил, как не проведать? А после можно лодкой. Там заводи кувшинок. Стрекозки зашуршат, как лето через макушку перекинется… Камыши у нас в Заводи знатные, сторожевые — будто пики. Я Улу всегда говорила: через такие сам банник не пролезет!
— Стрекозки, клевер, туман… — не открывая глаз, улыбнулась Чиа. — Я бы проводила. Только ему идти из города надо, а мне тут быть приходится. Всем не то дано, к чему они тянутся. Людской удел.
— Твой ноб столь неумён, что запер жену в городе? — нахмурилась Ула. — Да пусть сам плечи под дела подставляет. Проводи Шеля. Я разрешаю.
— А сын? — глаза Чиа распахнулись, тёмные от испуга.
— Я пригляжу.
— А…
Рука Улы мягко, в одно касание, уговорила губы Чиа сомкнуться, запирая умные возражения. Травница погладила темноволосую голову, взглядом указала на двуколку, на Голоса, дремлющего с вожжами в руках.
— А прямо теперь поезжай, покуда не напридумывала себе причин, чтобы отказаться. Гляди, какой день ясный. И ветерок годный, и облако не тяжёлое, не грозовое. И людской мошкары нет, ни гонцов из дворцов, ни вестей про гостей.
Ула выговорила присказку складно, хлопнула в ладоши и рассмеялась. Чиа тоже хлопнула в ладоши и тихонько, осторожно улыбнулась. Посмотрела на мужа — робко, из-под отросшей чёлки, прячущей взгляд…
— Клевер, туман, стрекозки, — вздохнул Дорн. — Матушка, можно мне тоже сбежать из столицы?
— А кто давал обещание Омасе? — укорила Ула.
Дорн пожал плечами, смирившись с тем, что он остаётся — и боясь даже дышать громко, чтобы не спугнуть улыбку жены, такую мирную и тёплую.
— Прямо сейчас — ехать? — выдохнула Чиа, испуганно зажмурясь.
Дорн заметил едва различимое движение брови травницы, обнял Чиа и отнёс в двуколку. Усадил, зашептал на ухо о том, что уже скучает и что надо быть по пути осторожнее, и что в лесу замечательно, он бы так хотел всё бросить и убраться вон из города, который весь — каменная ловушка.
— Мы… до листопада обернёмся, — осторожно уточнил Шель, глядя на Улу.
— До больших холодов, — кивнула травница. — Но ты уж помни, главное ваше дело — найти лекаря для Голоса. И не только для него. Дорн пока слишком уж боевит, а поумнеет, тоже в путь отправится. Без сабли, — Ула со значением посмотрела на Дорна.
— Как будет велено, так и пойду, — согласился самый драчливый ноб столицы.
Голос подобрал вожжи. Шельма хлопнул себя по кошелю и подмигнул Дорну — мол, мы при деньгах, не пропадём. Затем добыл из воздуха пару метательных ножей и немедленно их снова спрятал, будто привиделись.
Лошадка фыркнула, переступила и стала продвигаться вперёд и вбок, разворачивая двуколку. Чиа сидела, прикрыв глаза, и вроде не замечала того, что её везут прочь от дома, дальше и дальше… Так и не оглянулась, не отметила прощальным вниманием мужа и дом, не подумала о сыне.
— Уехали? — Дорн рухнул на ступеньку рядом с травницей. — С ума сойти.
Только теперь он заметил, что у Улы дрожат пальцы, на лбу копится бисером испарина. Дышит травница редко и трудно. Дорн вскинулся, побежал в дом — за водой, полотенцем, пледом, подушками… свалил принесённое грудой и поставил на ступеньку кувшин. Сам замер, ожидая пояснений.
— Сколько раз я пробовала прочесть ту книгу, где вместо букв значки. И на картинках люди, а по телу у них точки разноцветные. Не поддавалась мне та книга, — пожаловалась травница. Тыльной стороной ладони отёрла пот, без сил откинулась на перила, не тронув ни кувшин, ни полотенце. — Сынок сразу главное углядел, а я вот… два года надрывалась. Все сны мне та книга иглами истыкала, как есть — все. Но я одолела. Очнётся твоя ненаглядная, а столица уже ох как далече, и ветер зарю задул.
— То есть вы её… — охрип Дорн.
Ула кивнула и снова указала на хмель.
— А был ли у нас выбор? Выноси, что нельзя оставить. Будем жечь твой дом. Уж прости… поздно сберегать то, что корнями заплетено и тенью пропитано.
— Так плохо?
— Да померли бы вы к осени, так мнится мне, — без выражения заключила Ула. — Видишь, какой бес попался кривохожий. Книжку прислал мне, а гадость у вашего порога высадил. Бессонница, немочь для жил, ломота костная, крови порча, — бормотала Ула, продолжая настороженно рассматривать хмель, такой весёлый и зелёный. — Как нарыв беды вызреет, так уж поздно сделается даже жечь. Неужто не видишь?
— Запах мне неприятен, голова болит. Но ловушка, надо думать, на вервров поставлена, а мы и есть вервры, — Дорн сказал и ощутил, как по спине продирает озноб. — Матушка, как же мне удержаться и не пойти его убивать?
— Сам думай, как. О сыне думай, — безмятежно посоветовала Ула и встала в рост. Немного отдышавшись, она удалилась в дом и вернулась, держа на руках наследника семьи Боув. — Вот всё, что мы берём из дома. Сабля при тебе? Более ничего не жаль?
Дорн усмехнулся, огляделся: стриженные кусты, старательно выкошенная трава, шиповник пяти оттенков, валуны для украшения садов — как теперь модно. Всё своими руками. И ничего не жаль. Он ощутил, как пропадает злость. Только где-то глубоко в душе осела горечь, жжёт… Если встать и заняться делом, уймётся и она. По крайней мере, пока. Не надо думать и злиться, Ула права. Куда важнее спуститься в подпол и рывком взвалить на спину бочонок с драгоценным, трижды перегнанным, настоем на травах. Душевно сделан, горит без дыма и остатка.
Удар кулака взломал дубовый бок бочонка. Сразу запахло лесом и волей, праздником и безрассудством… Дорн плескал на стены, на шторы, смаргивал влагу и усмехался криво, не понимая себя. Горечь не уходила. Да что ему этот сарай! Еще когда он был пацаном, сто раз представлял, как подожжёт ненавистное родовое гнездо, где он заперт один, где, даже будучи наследником покойного отца, он всем видится как выродок и отщепенец.
Когда дом загорелся, Дорн упрямо стоял так близко, что волосы трещали и пахли палёным, а румяное лицо, кажется, запекалось болезненной улыбкой… Рыжее пламя плясало, пьяно гудело. А горечь так и не могла выгореть, уняться.
Дорн отвернулся и побрёл по дорожке, прикрыв воспалённые глаза. Под ногами хрустел мелкий камень. Вдали перекликались люди: заметили дым и, пожалуй, уже со вкусом обсуждали удел графа-погорельца, от рождения и до сего дня столь нищего, что терять ему нечего. Но и сберечь ничего не получится: хотя в столице пять пожарных вышек, от ближней до графского сарая — неблизко.
— Неужто Лия не видела? — вдруг возмутилась травница.
Дорн вздрогнул, распахнул глаза. Рассмеялся, признал наконец: да, это не дым ел их, это самые настоящие слезы… Он, оказывается, умеет плакать. Ему, оказывается, жаль терять то, что было памятно. Даже свою детскую ненависть к отцу — жаль.
— Донго не бывали у нас с весны, — проглотив ком горечи, выговорил Дорн. — Мы сами наведывались. Лия гордится их новым домом и мы… потакаем. Хотя у них тесновато.
— Не станешь упираться, если приглашу пожить у нас? — осторожно спросила Ула.
— Лучшее место в мире — «Алый лев», — широко, безумно улыбнулся Дорн, шагая к дороге и уже различая её за опушкой парка. — Я там больше дома, чем здесь. Я хочу жить там. Или хотя бы гостить. Есть кому дать под дых. Есть Омаса, чтоб мне тоже стало больно. Весело. Просто. Душевно.
Он миновал прореху ворот без створок — и впервые с весны не споткнулся. С души наконец-то свалился камень, сделалось легко и светло. Дорн рассмеялся, обернулся к травнице… и резко смолк, уже с обнажённым клинком в руке.
Скакун Альвира был не чета Алому Пэму, и масть бледновата, и покорности в согнутой шее слишком много. До боли: вон как строгие удила пилят конские губы! Пена срывается розовая, пятнает глянец шкуры, скатывает в шарики дорожную пыль.
— Рассмотрела, — прошипел бес, глядя мимо травницы. — Опять успела и встряла.
Дорн в два прыжка оказался рядом с Улой, собрался её подвинуть, закрыть… и замер, не понимая себя и не споря со своим зверем.
Травница безмятежно смотрела — так же, как бес, мимо собеседника. Вернее, сквозь него. Она держала на правой руке малыша-Боува. А левую, пустую, медленно и с некоторым усилием поднимала. Так странно — не понять жеста, не уловить его смысла и не разобрать, отчего в движении копится угроза.
Дорн, заворожённый, следил за рукой. И бес следил.
«Так держат руку на охоте, ожидая хищную птицу с добычей», — вдруг пришло понимание. Только нет птицы! Нет — а рука дрогнула, будто приняла вес…
— В древней книге о белых лекарях сказано: держат смерть на левой руке своей, — выговорила Ула тоном, смутно напоминающим повествовательный говор Монза, когда он читает важную летопись. — До чего ж тяжкая она, ноша левой руки лекаря. Иной раз все силы надобно прикладывать, чтобы не сломаться.
Слабый ветерок качнулся, освежил лицо травницы, разжёг искры алости на кончиках волос Дорна — и погнал волну шелеста от кроны к кроне, всё дальше в графский парк. Волна убегала — а в другую сторону улетал, стихая, бешеный топот копыт.
«Альвир второй раз без оглядки сбежал от деревенской травницы, ох и тошно ему сейчас! Вот у кого горечь неуёмна и пылает, затмевая пожар», — вдруг сообразил Дорн.
Фамильный клинок скользнул в ножны. Дорн повёл плечами, ощущая, как загривок его медведя теряет ощетиненность. Захотелось зевнуть… и свернуть в конце ограды налево, к центру города, к большой торговой площади, где есть и мёд, и пряники.
— Я видел тень, — сообщил Дорн. Обернулся, подмигнул сыну, бережно принял его из рук Улы. — А ты видел птичку, хэш Боув? Вроде бы… ворон?
— Моего сына дружок, — Ула подумала и добавила: — Не знаю, что хорошего сделал мой мальчик, а только человек этой птицы бережёт его по мере сил. Я хотела бы увидеть этого человека. Он… похож на Омасу. Только крупнее и спокойнее. Да, вроде бы так.
— Тогда и я хотел бы его увидеть, — рассмеялся Дорн. — На Омасу похож, но крупнее. То-то бес сбледнул.
— Более он не явится стращать меня и книжек не пришлёт. Он всё обдумает без спешки, — тихо молвила Ула. — Что ж, я знала цену дня, ещё когда покидала свой двор.
— Он не уймётся, пока… — шепнул Дорн.
— Ох… Как унёсся-то! И сбледнул, вот уж верно, — травница рассмеялась, раскраснелась, даже стёрла слезинку. Погладила Дорна по плечу, цокнула языком, развлекая малыша. — Так ведь и я не уймусь. Он… вроде бы разбудил меня. Прежде многие пробовали. Но я всё одно вроде как в полглаза дремала. Тихо жила и мало смотрела людям в глаза. Всё больше на руки, на ногти да жилы… Очень страшно поднять голову, деточка Дорн. Тебе скажу, тебе я могу пожаловаться, верно? Однажды подняв голову, понимаешь, что такое разогнуться. И понимаешь, чем за такое платят.
Ула тихонько рассмеялась. Поправила волосы и пошла — с гордо поднятой головой. Дорн шагал рядом и пытался вспомнить: а как она ходила прежде, при первой встрече в городе Тосэне? Вроде бы иначе. И казалась старой, Монзу под стать. А сейчас она под стать Лофру. Хотя ох, как трудно с ним держаться вровень.
— Теперь, кажется, не вы жалуетесь, а только вам, — удивился Дорн. — Даже я.
Путь беса. Никаких одолжений
— Красный! Красный. Так. И так. Ещё. И так.
Ана сопела, усердно выбирая кольца и насаживая их на толстую верёвку. Вервр терпеливо ждал завершения пытки. То есть он, конечно, знал с самого начала: казнь, придуманная проклятым Клогом хэш Улом, окажется тяжела. Но смел надеяться, что избежит хотя бы унижения. Сколько ему лет, веков, вечностей, непостижимых людям? Ведь для них всё, что за пределами личного горизонта времени — «история». Мёртвое каменное слово, готовое перетереть в своих жерновах ложь и правду, суть и смысл, причину и следствие… перетереть, обратить в пыль и развеять лживыми словами.
Он — вервр. Он невесть как долго жил и сам был — памятью. Памятью и болью, потому что пока настоящее сберегается, оно причиняет страдания. Затем он стал рэкстом и утратил прошлое, и узнал: забвение — тоже боль. Не меньшая. А сейчас он наделён двойной болью: не может вернуть память и не способен расстаться с надеждой обрести прошлое, восстать из пепла. Снова знать, кем был, с кем враждовал, о ком или о чем заботился. Почему сейчас принимает такие решения, так видит людей и по таким вот меркам оценивает их действия…
— Синий! И вот. И так. Синий.
Ана запыхтела усерднее, по всему понятно — слюни пустила, прикусив губу и скорчившись над своей верёвкой. Ана — та ещё казнь. Гнойная заноза, не дающая даже слепому сосредоточиться, уйти в себя, нырнуть в тёмные недра прошлого.
— Жёлтый! И вот… и вот… и ну…
Хотелось выть. Недавно ему примерещилось, что растить детёныша то ли людей, то ли атлов, не слишком трудно. Накорми, напои, закинь за спину и тащи на горбе. А всякие «гу-гу, тятя-тя, касиво-кусно» — слух быстро научается не допускать их в сознание, выметать как звуковой мусор.
— Желтый!
За минувший год дитя прибавило в весе и росте, но тяжкой ношей сделалось вовсе не потому. Ана повадилась думать. И принимать решения. И исполнять их, не считаясь ни с чем. Откуда-то, каким-то таким чудом она умудрилась усвоить, что её личный «тятя пама» — и что бы значило нелепое сочетание слов? — вынужден терпеливо таскать свою казнь на горбе, как бы его ни допекали детские затеи.
— Бант! Ещё бант! — счастливо провозгласила Ана, затянув третий узел на верёвке и украшая его кривой петлёй, которую она и назвала бантом.
Вервр обречённо вздохнул. Он не сомневался в дальнейшем. Три дня назад он яростно отказывался вытачивать кольца из разных пород дерева. Два дня назад он твердил с рычанием, что не купит краску и не будет вонять ею и лаком, что затея дурацкая, что он уж точно никогда… И вот кольца выточены, окрашены, отлакированы и нанизаны на пеньковую верёвку. И сбежать никак нельзя.
— Цветы, — счастливо хихикая, Ана попыталась втиснуть верёвку в крепко сжатые пальцы вервра. — Тебе. Тут красный, клён. Тут синий, дуб. Тут жёлтый, сосна. Дарю. Тебе. Видишь? Так — видишь? Ан!
— Цвета, — смирившись и надеясь на завершение пытки, поправил вервр.
— Цвета. Разные, — согласилась Ана. Хихикая и пританцовывая, оббежала вервра по кругу. Верёвку с бряцающими деревяшками она волокла за собой. А затем, конечно же, ловко набросила на шею жертвы детского произвола, именуемого «нежная забота».
— Носи!
Уже в которой раз за год вервр мысленно порадовался слепоте. Он хотя бы не видит себя со стороны. Не видит и не желает даже попытаться представить, как смотрится. В залатанной рубахе, в обтрёпанных штанах, босой. Пыльные волосы занавешивают изуродованное лицо с пустыми глазницами. Словно всего этого мало, теперь он украшен верёвкой со снизкой надоедливо стучащих лакированных «баранок». Он — высший хищник. Он — бывший граф Рэкст, чьё имя наводило страх и считалось мерилом успеха, власти и богатства. Он — утративший всё, приговорённый…
— Красиво? — Ана запнулась и спросила жалобно, тихо.
— У каждого цвета свой запах. Я понял, так удобно видеть, — кривясь то ли в оскале, то ли в улыбке, выдавил вервр. — Вот синий а вот красный. Даже я не ошибусь.
Вервр бы под пыткой не признался себе самому: на душе тепло. Он бы и думать не стал, ни за что, о прелести дурацкого подарка и о том, как это приятно — когда для тебя что-то десять дней выдумывают и трое суток без сна и отдыха мастерят, тебя же вынуждая помогать.
— Тятя пама, — хихикнула Ана, потёрлась щекой о рукав. В одно ловкое движение вспрыгнула на шею. — Идём? Куда идём? Туда? Туда?
Она дёргала то за правое ухо, то за левое. Привычный к подобному обхождению вервр уже не считал его обидным. Послушно поворачивал голову, принюхивался и, приоткрыв рот, ловил на язык вкус ветра. Единственное, что он готов был даже вслух признать толковым в характере Аны — это её страсть к путешествиям.
День пёк макушку и сам был макушкой лета. День пощёлкивал первыми трелями кузнечиков и шуршал крыльями стрекоз. Настой пыльцы колебался, заполнял весь мир, и был так густ, что, наверное, создавал видимую взгляду золотисто-зелёную дымку.
Слева, днях в трёх пешего пути, грохотали водопады у границы княжеств, чьи названия вервру было скучно вспоминать. Есть ли смысл уродовать настроение людскими условностями?
Справа, за перекатами пологих горных спин, за седловинами бесснежных перевалов, росли в небо действительно крупные горы, они держали северный ветер, искрящийся изморозью больших высот…
Впереди, днях в десяти бодрого хода, рыбьей чешуёй волн трепетало море. Западное, которое они с Аной навестили по весне и сочли достойным ещё одного взгляда. А ведь есть и море на юге, там город Корф и там…
Маленькая рука дёрнула верёвку, зашуршала кольцами и нащупала самое широкое синее, с небольшим сколом на месте заполированного сучка.
— Море? Ты решил? То или то?
— Мо-оре, — вервр потянул слово, сомневаясь, стоит ли его отпускать с губ. — Пусть будет море.
— Синее! — Ана победно потрясла кольцом.
Вервр мотнул головой и прижал уши. Отчего малявка всегда знает, к какому решению склоняются мысли? Как угадывает раньше, чем сам он? Ведь это он выбрал идти к тому морю? Он сам? Или его, как глупую лошадь, дёрнули за верёвку и направили?
В затылок ударила боль.
— А-ах…
Вервр прикусил язык, подавился солёным и замер, напрягшись, как струна. Он только что злился на свою тёмную память, способную сделать слепоту вдвое мрачнее? И вот — боль. Настоящая, древняя. Боль вспыхнула — и продолжает вламываться в череп боевой стрелой, норовя прорвать пелену забвения.
— Держись, — приказал вервр, подчиняясь указанию боли и разворачиваясь на восток. — Так быстро мы ещё не бегали. Упадёшь, не стану подбирать. Поняла?
— Не упаду, не бойся, — пообещала Ана, обняла за шею и свела ладони в двойной замок.
Вервр вытряхнул заплечный мешок, быстро отгрёб в сторону лишнее, оставив только флягу, нож и хлеб. Ещё раз принюхался, прислушался к далёкому чужому страху, совсем свежему — и невесть с чего всколыхнувшему древнюю боль в его душе. Руки тем временем споро упаковывали ничтожные остатки имущества, проверяли пояс, замок пальцев Аны. Всё готово? Всё надежно?
— Держись, — ещё раз велел вервр.
Он до сих пор сидел на краю глубокого ущелья, в тени роскошной сосны-одиночки. Ана пожелала низать кольца не абы где, а в красивом месте, и непременно с таким видом, чтоб дух захватывало. Сейчас у неё и правда захватило дух: вервр рушился со скалы, отсылая писк и собирая эхо, чтобы определить путь. Пальцы напружинены когтями, пыльные волосы вмиг обрели глянец, их кончики уже наверняка тлеют багряными искорками азарта.
— А-аа! — восторженно заверещала Ана.
Эхо сделалось ещё богаче, щедрее вернуло подробности дороги. Вервр рассмеялся, поправил падение коротким толчком о скалу — дотянулся до первой ветки, спружинил, превратив себя в стрелу, а дерево — в тугой лук. Тело сорвалось с гудящей тетивы, прянуло вперёд и вниз. Удар о новую ветку под нужным углом, отскок — и рывок с возросшей скоростью, и снова отскок, и опять…
Горная река — одно касание о камень на перекате. Прыжок на склон, руки-лапы крошат камень, оставляя отметину в четыре борозды.
Удобная ветка, рывок — и опять он мчится по лесу, рыча и улыбаясь. Оставляя позади долгую суматоху встревоженных птиц, шелест опадающих хвойных игл, стук летящей во все стороны смолистой сосновой щепы.
Можно странствовать с привычной людям скоростью. В конце концов, куда ему спешить, если впереди ещё лет пятнадцать до встречи с врагом Улом и завершения данной им казни? Куда спешить? Вот разве — за болью прошлого, досадно ускользающей, готовой пропасть. Отсюда до места зарождения чужого страха — дней пятнадцать пешего пути. Нынешним ходом он прорвётся туда к полуночи. Если Ана умеет держаться по-настоящему цепко.
Встречный ветер всё туже натягивает кожу лица, рвёт волосы — и не вспомнить, когда прежде было так? Ан привык к миру примитивных людей и разучился спешить… Ведь ни разу не получал шанса вцепиться в столь лакомую дичь. Свежая, кровоточащая память, пахнущая страхом и древностью!
Слепота сейчас в пользу. Зрение отвлекало бы от следа. От боли. От надежды.
Рывок — на пределе допустимого, ствол хрустнул под ударом пружинящих ног и рук. Связки отозвались болью. Кожа на ладонях чешется, едва успевает нарастать и затягивать раны. Рывок… Ана прильнула к уху, пискнула, жалея и желая удачи. Ветер унёс слова, но доброта впиталась в кожу и прижилась.
И вервр Ан обрёл зрение! Не глазами — душой. Он мчался к своей цели здесь, в настоящем, и всё яснее и ярче различал в редеющем тумане памяти иной день, иной мир, иного себя.
Свободный вервр, ещё не опороченный и не униженный выбором карты палача и клеймом раба-рэкста, мчался через лес. Он мог проскользнуть меж слоёв мира и сразу попасть, куда надо — тогда он умел. Но было уже поздно. Он знал о своём опоздании и мчался, чтобы растратить боль и усмирить ярость. Он рвал когтями кору с деревьев, очень похожих на сосны. Рычал — и ощущал соль на прокушенном языке.
Он достиг цели и резко замер.
Поляна. Огромная, по верхушки сосен заполненная горячим настоем сладкой пыльцы и хвойной терпкости. В тени у дальней опушки смеются и гомонят люди. Самый властный спешился, поощрительно хлопнул борзую по изгибу тонкой спины. Нагнулся, в руке блеснул нож — и кровью запахло острее, громче.
Горло взрослого благородного оленя перерезать должен был, конечно, сам хозяин охоты. Он же заберёт главный трофей — рога. И это не важно. Боль вспыхнула раньше: когда вон тот широкий матёрый человек с глазами волка сломал шею детёнышу лани. Боль угасла резко, ударом: когда другой человек вогнал клинок в испуганно трепещущее тело лани-матери, не так давно кормившей на этой поляне своего детёныша…
Вервр стравил сквозь зубы длинный, клокочущий яростью выдох. Отвернулся от жалкой охоты жалких людишек, не умеющих быть хищниками, не понимающих истинного смысла жизни и смерти в лесу. Падальщики. Отребье. Тявкающая стая злобной мелюзги.
Вервр не хотел смотреть туда, где возникла и угасла боль. Но — смотрел. На краю дальней от людской охоты опушки лежали трое. Двое не дышали. Третий еще жил, но уже выбрал свой путь и удалялся, и окликать было поздно, бесполезно…
Худшее произошло и не может быть отменено. Маленький сын вервра-лани увидел, как люди убивают животное, неотличимо похожее на его второй облик. Принял боль и не смог вытерпеть насилия, творимого ради забавы. Шок отождествления себя с жертвой мгновенно выдрал малыша из жизни. Мать осознала, добежала, обняла — и нырнула следом, не думая и не рассуждая. В смерть… А отец ещё жил, по щеке катилась слезинка, губы шептали: «Лоэн»…
Что в мире может быть страшнее кротости? Что может быть беспросветнее неумения рвать врагов?
Взрослый вервр, подлинный высший хищник, снова покосился на людей, решая: прикончить их или не вмешиваться в дело, которому сам он — чужой? Лес заповедный, закон этого мира запрещает присутствие людей здесь, где рождаются и проживают первые годы кроткие вервры-лани. Закон требует: наказать сразу и жестоко, чтоб другим неповадно было.
Только это не его мир и не его закон. Это закон брата. А вот и он сам — законодатель. Услышал шёпот умирающего, явился. Белый дракон ворвался в безоблачное небо из ниоткуда, сразу атаковал. И не осталось от охоты ничего, никого… И пеплом развеялась трофейная добыча.
Вервр-гость отступил на полшага. Он не желал смотреть в глаза брата, заявившего невесть как давно свои права на этот мир. Но как раз теперь брат отделился от дракона и встал у его морды — человеком.
Было важно не смотреть и не приближаться. Он не хотел срываться.
— Ты доигрался, — по-прежнему не глядя на младшего, сказал вервр, который ещё не стал рэкстом. — Вот оно, идеальное общество без хищников и жертв? А ведь я просил начинать подобные игры с себя. Ты у нас в семье что, первая травоядная тварь? Или тебе можно кровушки, а им — нет?
Голос спустился в рычание, дрожью ползущее по траве. Вервр смолк, проглотил ком неразбавленной тугой ярости. Нельзя уродовать покой заповедного леса.
— Я ожидал иного, — шепнул брат, едва имея силы заставить себя смотреть на три трупа вервров-ланей. — Хотел дать им жизнь без страха.
— Ты желал любоваться несравненным собой, о величайший Лоэн, — прошипел вервр.
В один шаг он оказался лицом к лицу с братом. Лапа вскрыла грудину от живота до горла. Сочно хрустнул позвоночник, когда стали выламываться ребро за ребром… белый дракон дёрнулся было вмешаться, спасти своего вервра — и отпрянул. Такая рана не убивает. Лишь взрывает сознание болью, временно выжигает.
— Полегчало, братец Лоэн? — вкрадчиво прошелестел древний вервр, облизнулся и шевельнул ноздрями, обоняя родственную ярость в тонкой и сложной смеси с виной, обидой, жаждой недостижимого превосходства над родичем — и благодарностью за физическую боль, которая чуть ослабляет душевную.
— … … — без звука нарисовали ответ белые, дрожащие губы брата, и память не сохранила выражение его лица.
«Да» — было первое слово ответа, вторым шло имя вервра. Увы, лёгкие Лоэна тогда ещё не заросли, он не мог говорить. Жаль… Звук бы уцелел в столь ярком воспоминании. Наверняка.
Боль угасла.
Слепота нынешнего времени навалилась с новой силой. Ночь несколько скрашивала беспросветность жизни.
Вервр замедлил бег.
— Больно? — шепнула в ухо Ана.
Вервр споткнулся и побрел дальше. Стряхнул Ану в траву, пошатываясь, сделал ещё несколько шагов, всем телом натолкнулся на могучий ствол. Ощупал смолистую кору, стер капли крови с рассечённого лба. В ушах звенело. В горле ядовитым ежом свернулся сухой крик. Он так долго бежал и так часто пользовался эхом, что исчерпал себя. Он пока не мог ответить. И, уцелей глаза, он бы плакал.
В воспоминании брат назвал его имя. Он не смог расслышать, не вернул важнейшее, что почти всплыло из глубин памяти — и снова погрузилось на недосягаемое дно.
— Больно? — Ана догнала и дёрнула за руку.
Вервр нащупал флягу дрожащими пальцами. Открыл, выхлебал почти всю воду. Кое-как убедил себя оставить пару глотков Ане. Вдох, выдох. Горло восстанавливается. Ещё вдох. Сглотнуть… да, всё в порядке. Голос, пожалуй, не будет хрипеть.
— Ты помнишь наше общее решение? Мы обсуждали выбор: опека и контроль — или воля и ответственность.
— Да. Воля.
— Мне надо уйти. Найди годных людей и прилепись к ним на время.
— Ан!
— Это не опасно. Обещаю. Не опасно мне.
— Иди, — едва слышно выдохнула Ана.
Напоследок Ана провела по ладони, по новой коже вервра, ещё чувствительной к щекотке. Затем девочка нехотя, но отпустила большую и надёжную руку. Подобрала свёрток с хлебом, флягу. Отвернулась и пошла прочь. Маленькая, сосредоточенная, с прямой спиной и опухшими от слез глазами. Нос сопел и шмыгал. Но Ана уходила, как велено. Она с весны выбрала волю и ответственность. Сложное решение в таком юном возрасте. Оказывается — осознанное. Вервр усмехнулся. Сейчас, коснувшись древней памяти, он сполна осознал, почему предложил такой выбор. Боль души стала теплее и глубже. Рука попыталась нащупать на шее верёвку с цветными кольцами. Судорожно сжалась… Нет веревки! Порвалась во время бега. Могло ли быть иначе?
— Ана! Я потерял твой подарок, прости, — выдавил вервр. — Сделаем заново. Обещаю.
— Другой придумаю, — сообщила Ана, не оборачиваясь.
По голосу понятно: и рыдает, и улыбается во весь рот. Ну что за нелепое создание… Обуза. Такая обуза, что и не отделаться. И не уйти без оглядки.
Вервр постоял, слушая, как удаляются детские шаги. Втянул воздух и направился к источнику страха, щедро изливаемого в ночь. Он был благодарен всем, без разбора: миру атлов, его людям и нелюдям… В четвертом царстве, сегодня, случилось чудо. Лань из породы вервров оказалась достаточно взрослой и сильной, чтобы пережить шок. Она упрямо дышала и пыталась бороться. Пока у неё получалось чуть лучше, чем у выброшенного из лодки котёнка с камнем на шейке. И все же — она жила!
Лес пах смертью и страхом. Зверье расползалось, пряталось по норам и щелям. Большая охота у людей — праздник. Этого не понять не то что лани, это и высшего хищника ставит в тупик. Одно дело найти достойную добычу, загнать и взять, чтобы насытиться и утвердиться в мире. Другое — выследить без разбора всё живое и сделать мёртвым. Не ради пропитания или шкур, а только для того, чтобы перестать быть человеком. На время. Так они думают — двуногие охотники. Мол, кровь одним движением удаляется с кожи, запах запросто отстирывается с одежды, ржавчина легко счищается с оружия… и всё это — бесследно.
— Людишки, — прошелестел вервр.
Он беззвучно тёк, скользил по перепуганному, замершему лесу. Он вдыхал запах смерти. Он ещё не решил, открыть сезон охоты на двуногих — или не тревожить Ану. Малышка близко. Уже нет сомнений, она настолько атл, что без ошибки ощущает кровь, стёртую с рук и отстиранную с одежды…
Вервр-лань дрожала, забившись под корни огромного дерева, в ворох прелых листьев, в гущу спутанного кустарника. Она уже вернула себе облик человека, но пока не смогла восстановить сознание. Она бессильно прикрывала глаза и затыкала уши, не желая знать то, что и так знала. Голая, окончательно беззащитная.
Пришлось заранее стащить рубаху. Подойдя бесшумно, Ан накрыл бедняжку тканью и приобнял, зажимая рот. Лань дёрнулась — и обмякла. Её сердце бешено билось, а тело осталось неподвижным, не годным даже к бегству. Наконец, лань вздохнула и расслабилась. Нащупала рубаху, дрожащими пальцами расправила. Невесть с какой попытки попала руками в рукава. Натянула ткань до колен, одёрнула. Лань не пыталась отодвинуться, наоборот — старалась ощущать кожей тепло, потому что рядом стоял соплеменник. Тот, кого лань вдруг приняла, как защитника.
— Как тебя там? Чиа… Ну и дура ты, — усмехнулся бывший рэкст, баюкая и успокаивая. — Учти на будущее: самые сильные умирают от удара в спину. Кому доверить место за спиной — вот главный выбор в жизни. Ты сейчас согласилась на первого, кто пообещал безопасность. Почему? Потому что от тебя несёт зеленью. Я чую яд второго царства, я опытен и знаю его. Проще всего медленно травить вервров, если у них предсказуемая пища. Тебе подсунули росток, как подарок. Ты сама укоренила его, и это наверняка был вьюн. Альвир бесхребетный, он и растения выбирает подобные. Вьюн давал запах и тень. Запах тревоги и тень сомнений. Ты стала хуже спать и утратила аппетит. Не знаю, кто смог вытащить тебя из отравленного дома. Он великий лекарь. Ещё бы дом сжечь. Как думаешь, догадается?
— Мой дом? — прошептала лань. Вздрогнула, плотнее прижалась спиной к защитнику. — Как всё это… невозможно! Вы спасаете меня. Вы?
— Посиди тут и помолчи, — приказал вервр.
Отстранился, прыжком одолел заросли и припал к траве у опушки. Люди азартно продолжали вытворять то, что им велено: резали дичь, полосовали её, живую — и хохотали, перепачканные в тёплой крови. Люди не давали зверю лёгкой смерти.
Вервр приближался к охотникам и не спешил. Он принял решение. Не важно, увидят ли его и узнают ли те, кто уже никому и ничего не расскажет.
Первым насторожился вожак человечьей стаи. Обернулся, грязно выругался и принял стойку для боя. Вервр принюхался, заинтересованно улыбнулся и промурлыкал: «Какая ночь!». Тот самый никчёмный наёмник, однажды встреченный на постоялом дворе. Тот, кто приказал утопить слепого в ледяной реке. Тот, кому не пришлось отомстить сразу, чтобы не разрушить хрупкую, только что возникшую легенду о бесследном исчезновении графа Рэкста…
— Слепыш, ты чё, не сдох? — удивился памятливый наёмник.
Вервр улыбнулся шире.
— Ты чё за тварь? — похолодел наёмник, отступая на шаг, пропитывая лес новым страхом. — Мертвяк? Болотник?
Вервр улыбнулся еще шире, и теперь это стало слишком похоже на оскал. Так легко вспомнить себя прежнего, знавшего толк в оттенках людского страха. Багряный бес обожал ночные суеверия людишек, дополненные смутным осознанием неправоты перед неписанными законами мира. Так… пикантно. Холодный пот, его уже много и становится всё больше.
— Ты…
Вервр позволил себе едва слышный рык. Наёмник взвизгнул, споткнулся и рухнул назад и вбок, не переставая смотреть на свою смерть. Привлечённые шумом, теперь все людишки глядели с ужасом и обречённостью на голого по пояс «мертвяка».
— Вы?.. — ещё тише выдавил главарь и задохнулся своей последней догадкой.
Одно касание, судорога — и тишина… На такую гниль нет смысла охотиться, — знал вервр. Он лишь брезгливо устранял вредителей. Бешеных тварей, заразных и уже неизлечимых. Он убирал их медицински чисто. И, когда поляна обезлюдила, вервр последний раз усмехнулся и стал спокоен.
— Чиа!
— Да, величайший, — дрожащим голосом отозвалась вервр-лань.
Почему братец Лоэн желал именоваться среди вервров-ланей «величайшим», вопрос к нему. Сейчас Ан не имел желания задать такой вопрос. Не ко времени, и без того злость сочится в сознание, отравляет душу.
— Я не Лоэн, мне не нужны титулы. Их и непрошенные навешивают на хищника, только уворачивайся. Лоэн пожелал искусственно создать мир без хищников. Он поплатился: застрял у вас, вынужденный оберегать нежизнеспособных. Мы много спорили о смысле двойственной природы вервра. Он планировал сокращать агрессивность через выбор зверя. Но сам оставался драконом. Я утверждал, что баланс важен, но две природы не должны создавать неразрешимого противоречия. Я за несовершенство. Борьба — это развитие. Бой — это жизнь. Встреча с врагом — способ понять себя. Презираю тех, кто убегает. Я отдал тебе рубаху потому, что ты пыталась найти силы для борьбы. Ты признала внутри: охотничков надо наказать. Ты бы, может статься, справилась и без меня. Но при этом могла себя сильно поуродовать. Слишком всё резко поменялось. Да и зелень в тебе сидит глубоко.
Чиа, спотыкаясь на каждом шагу, выбралась из зарослей. Она старалась не смотреть на трупы. И смотрела. Она раздувала ноздри, с ума сходя от запаха крови оленя, от осознания смерти его убийц.
— Альвир желал отравить тебя сомнениями, и затем лишить веры в семью. Тогда он смог бы встать здесь и назваться защитником, — вервр подкрался к Чиа и оказался за её спиной, вплотную. — Вот так. Сдайся ты, прими его защиту, и в тот же день умерли бы сын и муж. А ты стала бы рэкстом. Это хуже смерти. Я знаю.
— Но я всего лишь…
— Запомни запах зелёного яда. Какого зверя выбрал Дорн? Ведь он выбрал?
— М… медведя. Вы…
— Труднее всего травить всеядных. Так что решение сильное, — вервр не стал дослушивать глупости. — Обманчивая неуклюжесть, атака без предупреждения. Поживи среди людей медведем и поймёшь, как интересны их города с нагромождениями берлог, их тяга к дармовому мёду и чужим малинникам. Тебе понравится.
— Но… — Чиа вздрогнула, когда израненный олень, последний из пяти жертв охоты, дёрнулся и затих. — Но я не смогу вернуться в город. Я поняла сейчас.
— Сможешь. Или боишься стать толстой, лохматой и косолапой? — промурлыкал вервр. — При твоём ничтожном опыте зверь — лишь тень. Тебе решать, что взять из его природы. Тебе решать, не сменить ли саму природу снова. Закон жизни вервра — воля. Мы нуждаемся в воле больше, чем в пище и отдыхе. Разве лань не ограничивала тебя? Мне видно: ты смертно устала от страха. Вон нож, верёвка. Могу дать яд. Нет сил жить, умри и не мучайся. Есть силы — принимай бой. Конечно, враг может оказаться сильнее, — вервр облизнулся. — Но без риска нет радости. Без поражений нет побед. Без угрозы смерти сама жизнь пресна. Без…
Ан смолк на полуслове. Пожал плечами: с чего он вообще взялся говорить такие нелепые, книжные слова? А просто молчать было горько. Стыдно признаваться себе же: ему жаль рубаху. Каждая заплатка памятна. Особенно две свежие на правом плече, их наметала через край, комкая ткань, Ана. Да за такую рубаху можно отдать что угодно!
— Я свихнулся, — едва слышно посетовал вервр, стаскивая куртку, а затем рубаху, с трупа подходящих роста и сложения. — Я хищник. Жизнь без боя пресна… и всё такое. Я прав. Прав же?
Чиа тихонько, несмело приблизилась. Переборола себя, села рядом, отвернувшись от трупов. Долго молчала, не мешая Ану одеваться и осматривать наёмников, придирчиво подбирать пояс и заполнять кошель.
— Вы изменились, — прошептала она, наконец. — Благодарю. Вы вспомнили имя и зверя?
— Два раза нет, — пожаловался вервр. — Пока я зовусь Ан. Да, вот ещё, вспомнил только что: основателя рода твоего мужа звали Даррэйз Бойвог, иное произношение Боувог. Первое имя человечьего облика, оно сокращалось друзьями как Дар. Имя дракона сокращалось до Боув. Дар ушёл вместе с той, кого выбрал в жены. Состарился и умер. Не вздыхай, это совсем не грустная история. Дар поселился среди атлов, ему здесь было хорошо. Он уважал их решения и сам стал похож на них в способе мыслить, чувствовать мир. У той старой истории есть продолжение. Боув, дракон Дара, спит в этом мире с тех пор, как умер его вервр. А теперь подумай еще раз, насколько мудр твой муж, выбравший природу медведя. Может, однажды он проснётся настоящим хэшем Боувом.
— Дар был вам — друг?
— Он был мне… лучший враг, — мечтательно улыбнулся вервр. — Мы дрались при всякой встрече. Он умел достать меня. Ядовитейшая ночная тварь. Красноглазый убийца из мира тьмы, где слабаки не протянут и двух вздохов. Дар — один из тех троих, кто оставил мне право гостить в четвёртом царстве, что бы ни случилось со мной и миром. Его приглашение в силе, значит, он уже был совсем атл, когда приглашал. Значит, вот как сильно может меняться наша урожденная природа, если мы прилагаем усилия. Это всё, что я желал сказать. Прощай, медведица Чиа.
Вервр фыркнул, поправил пояс и скользнул в заросли, оставляя в прошлом случайную встречу. Ну, пропала рубаха… не беда. Лес велик, тут несложно разжиться древесиной клёна, сосны и дуба. И краску он найдёт. Будет снова злиться, но вытачивать кольца, полировать и слушать, как сопит Ана, нанизывая дурацкое ожерелье.
За спиной молчали. То ли думали, то ли по привычке боялись, притихнув и не решаясь принять новое.
— Ан, — шепнула Чиа, когда вервр уже скрылся в зарослях, — будете в столице, заходите в гости. Дорн бы точно сказал так.
— Семья наивных младенцев, — проворчал вервр, не замедляя бега.
Он принюхивался к ночи и уже знал, что в просторном лесу, занимающем все горы и ограниченном лишь низинными болотами, неспокойно. Ещё самое малое три наёмничьи охоты в эту ночь режут дичь. Наверняка по приказу свихнувшегося Альвира, не зря рядом вервр-лань, и она в ужасе… Что следует из таких мыслей? А то, что усердные людишки запросто и без колебаний изведут всё поголовье оленей огромного, по-настоящему дикого и прекрасного края. Опоганят и обеднят мир, который Ан назвал своим. Значит, надо ненадолго отвлечься от выращивания обузы-Аны и уделить внимание воспитанию взрослых. В их умение меняться вервр не верил. И предпочитал учить выживших на наглядном примере участи казнённых.
— А ведь подлец Клог прав. Я был готовый палач задолго до того, как взял карту из королевской колоды! Если я вообще брал карту… Ведь никто иной не мог вытянуть её — карту с драконом моего рода, — пробормотал Ан, ускоряя бег.
Далеко, очень далеко, мчался олень. Он уже дважды удачно отбился от наседающих собак. Он устал, но держался. Петлял, уводил охотников прочь от тех, кого старался спасти. Такой олень наверняка заслуживал права пережить ночь…
* * *
Утро улыбалось миру. Молочные реки тумана текли по склонам, прохладные и обильные. Зрячие сказали бы много красивых слов о цвете и редкостном узоре облаков, о прочем подобном, что люди именуют «красота».
Слепой вервр брёл по пояс в траве. Он был зол на эту красоту. Он не выспался, не поймал ни единого кролика, занятый охотой на людей. Он, исчерпав дела, извёл остаток ночи на остервенелую стирку пропахших кровью вещей. А после пришлось выскребать из-под ногтей сукровицу пополам с занозами. Туман красив? Нет, он подл! Туман осклизлый и вязкий, он топит запахи, как трясина.
— Жильё… Путники… одна лошадь, — бормотал вервр, напрягая слух и нюх. — Грибники… бросили всё еще вчера, едва из замка вырвалась конная охота. Дровосек… я нашёл его топор, а что с того? Не тащить же раззяве и трусу то, что им самим брошено.
Вервр презрительно скривился, но нагнулся и подобрал топор. Немного подумал и взвалил на спину вязанку дров. След Аны тянулся, растрёпанный ветром, полустёртый туманом — туда, в низину, к ручью… и почти совпадал со следом дровосека.
Дом дровосека оказался крайним в селении. Сам мужик сидел на широком крыльце в одну ступеньку и тяжело, протяжно вздыхал. На ощупь вервр ещё по дороге понял: топор старый. Не иначе, память о ком-то в семье. Осталось проверить догадку, что он и сделал. Подошёл к крыльцу, молча свалил дрова и показал топор.
— Батюшкина память, — возрадовался дровосек. — Благодарствую, добрый человек.
— И всё? — тихо возмутился вервр. — Мне бы как-то пощупать благодарность. Где хлеб-сало, мясо-молоко? Да хотя бы вода.
— Бражка имеется, и кролика мы ещё в ночь приговорили, — оживился дровосек. Принял обеими руками топор, приласкал пальцами лезвие, расплылся в счастливой улыбке. — Заходи.
— Кролика… хорошее начало дня. А я ищу ребёнка. Девочка, светленькая, на вид четыре года или пять, она быстро растёт. Говорливая. Могла появиться тут в ночь.
Всё это вервр сообщил, минуя сени и направляясь прямиком к столу. Жена дровосека, грузная, но быстрая, уже стучала мисками, расставляя их для завтрака. От вида гостя вроде и не запнулась, и не покривилась.
— Моя поспрашивает, — обещал дровосек. Он принёс кувшин, пахнущий пьяно и так же пьяно булькающий.
Жена плюхнула на стол чугунок с крольчатиной, бросила полотенце и пошла прочь из дома. Вервр блаженно принюхался и облизнулся.
— Я глазастый, но топора не нашёл. Выходит, самое оно выпить за твоё слепое везение, — по-деревенски прямо сообщил дровосек, наклоняя кувшин сперва над одной здоровенной кружкой, затем над второй, третьей. Получается, и жену не забыл. — Знатный топор. Отец выменял его в городе. Торгаш врал, что вещь к нему попала за долги из дома алого ноба, во как. Что топор-то боевой. Цену набивал, а только не зазря, вот что скажу.
Вервр постарался припомнить топор, сжал ладонь, восстанавливая ощущения.
— Убивать им не убивали, но сталь дельная. Пожалуй, взят у толкового кузнеца. Может, у ноба с даром по железу. Есть такие. Боковой побег породы алых.
— Главное, что у меня не увели, — умиротворенно вздохнул дровосек.
Две кружки звякнули боками, отмечая правоту сказанного. Вервр с наслаждением напился. Выбрал в чугунке ребра с позвоночником и вгрызся, перемалывая и мясо, и кости. И его способ завтракать снова не вызвал удивления. Определено, этот дом стоило посетить.
— Вовсе одичало двуногое-то зверье, как не стало багряного беса, — посетовал дровосек, разливая повторно. — Медведя шатуна успокоить им недосуг, а нас обобрать или оленей извести — самое то… Да-а, нобы-то с жиру дурны на голову, им Рекст был негож. А вот наша деревенька всегда слала благодарности багряному. При нем эти, из замка, даже за убитую курицу платили, протрезвев. Да-а… вот уж кто порядок блюл. Оленей жаль.
Кружки снова согласно стукнулись боками. Вервр выбрал второй кус мяса, схарчил в единый миг. Облизнулся и откинулся, касаясь спиной добротных брёвен. Нащупал полотенце, чтобы вытереть жир с пальцев.
— Здесь лес грозовой, — вервр задал еще один важный вопрос. — Не было… странностей?
— У нас все знают, что перед замком Могуро иной раз молнии скачут в пляске, — согласился дровосек. — Что тут странного… разве то, что уже года три, как всё попритихло. Была памятная гроза, аккурат Вдову переломило. Самая рослая да статная сосна окрест, её ещё до нас Вдовой стали звать, потому что одна и рядом обломок от второй, давно обгоревшей. Вот Вдову переломило, и пришёл закону беса конец, да… С тех пор и тихо, и гадко. Барон жирует, вовсе стал свинья. И наёмнички его жируют.
— Временно, — повёл рукой вервр. — Мне отчего-то кажется, что одна особа найдёт замок для себя… удобным. Если решится подойти ближе и увидит гербы. Гербы вроде и стёрты, но с её глазами можно рассмотреть след на некоторых камнях.
— Ага, — оживился дровосек и снова разлил по кружкам.
— Замок вне столицы был бы ей в пользу, — промурлыкал вервр.
Он слегка сожалел, что не намекнул на что-то подобное, прощаясь с Чиа. Хотя стоит ли ждать многого от перепуганной лани, только что пережившей зрелище множественных, мучительных оленьих смертей…
Дверь хлопнула. Дородная хозяйка пронеслась через сени, мигом заняла лавку напротив вервра и в два глотка ополовинила кружку с брагой, дождавшуюся её.
— Дитя, говоришь? — пробасила достойная женщина. — Да бесово семя то дитя, во как! На постоялом дворе шалит. Ох, хватит у тебя ума мзду стребовать, так староста серебром приплатит, чтоб её отсель выдворить, и лучше до заката. И её, и прочих-разных.
— Благодарю за пищу и заботу, — кивнул вервр. Встал, потянулся. — Пойду и выдворю.
— Погодь, соберу обед, — рявкнула хозяйка. — Ты ж нас спас. Мы ж за тот топор вон, друг дружке по дюжине синяков в ночь отвесили, а днём бы и пуще разошлись. Тятин топор. «Пусти в дом отродье сиротское, ни прибыли, ни уважения не узнаешь», так тятя сказывал. А я душою-то проста да добра. Работящий, не ворует… и бражку варит гуще, чем в городе. Да-а…
— Бражка хороша, — согласился вервр. Задержался на пороге, принимая узел со съестным. — Вам как, от волков ограду… обвести? Или от коз?
— От кролей да зайцев, — взревела хозяйка. — Все яблони пожрали, косозубые недобитыши. Сволота изворотливая!
— То-то дрова у вас валяются, где попало, и всё больше вдоль забора, — хмыкнул вервр. — Бьёте без промаха, а?
— Ха, — гордо подбоченилась хозяйка.
— Ох-ох, — потёр бок дровосек.
Вервр шагнул с порога и побрёл вдоль плетня, ведя рукой по верхушкам кольев и облизываясь. Метки впитывались в древесину, незаметные людям — и ужасающие, непреодолимые для зверья.
— Кем меня сочли эти люди, если даже не указали, где искать постоялый двор? Кем, вот занятно, — мурлыкал вервр, принюхиваясь к сытному мясному духу собранного в дорогу обеда.
— А ничо так леший, деловитый, — догнал басовитый шёпот жены дровосека. Могучий вздох полетел над захламлённым двором. — Только пьющий. Как и ты, зараза.
— Да-а, — послушно поддакнул «сирота».
— Чё встал? Иди, поленницу собирай. Сказано: не жрать им отныне матушкиных яблонь.
Вервр, завершив обход просторного двора, прощально махнул рукой и заспешил прочь, по главной и единственной деревенской улице, к постоялому двору. Оттуда ветерок тянул запахи сухих и свежих трав, ссор и азарта. Под крышей гудело от голосов, шелестело шёпотами и вздохами.
— Троецарствие! — пискнул голосок Аны. И обуза залилась хохотом.
Вервр невольно улыбнулся: не пропала, никем не обижена. Хорошо.
— И кто тут еще шельма, — горестно вывел тихий, задыхающийся голосок там же, в большом зале постоялого двора.
— О, кисличная мята, она же ж! — обрадовался кто-то раскатисто и солидно.
— Попутал леший играть на серебро с продажи урожая, — вздыхал ещё кто-то. Сетовал он задушено, обречённо. — Так она ж дитя… Шутковал я! Так как теперь-то? Ох, беда… ох пропали мы…
Вервр скользнул в приоткрытую дверь и пробрался в главный зал, никем не замеченный. Пискнул и улыбнулся шире. Он любил разбирать брожение людских душонок и умишек. А тут и страхи, и досада, и свежие сплетни, еще не перетёртые в труху, и злость всех на всех, и радость из-под этой злости, ведь соседская беда — она воодушевляет! И посреди болота из мыслишек, как белая лилия в золотой пыльце, Ана с её детской чистой душой.
Не иначе, полдеревни столпилось возле большого стола. Все с ужасом следили за игрой в кости. Возле левого локтя малютки Аны грудилась кучка монет, справа в ряд выстроились кружки. Вервр принюхался: черничный, брусничный и земляничный морс. Что ещё? Пирожки, творог… И дальше на столе и на скамье: мотки пряжи, несколько чурок разносортной древесины, баночка с лаком, гладкая лента. А ещё связка сушёных грибов… это-то зачем?
— Троецарствие, — заверещала Ана, даже не метнув кости.
Кинула — и расхохоталась. Вервр по слуху понимал: падают, катятся, замирают… и толпа обречённо вздыхает. Еще бы, людям кости одинаковы, а вервру или атлу с их чуткостью нетрудно понять и малейший дефект развесовки, и создаваемое им поведение при броске. Тем более хитроватая Ана не кинула далеко, а перевернула ладонь над самым столом.
— Ана, а где твои родители? — спросил сидящий напротив кривоватый тощий человек, тот самый, что сказал про шельму. — Тебя, наверное, потеряли. Переживают.
— Тятя-пама не теряет, — гордо сообщила Ана, сгребла кости и снова скатила с ладошки. — Троецарствие! Хочу мёд. Липовый.
— Три раза в день пить, по полкружки, — загудел смутно знакомый голос. — Печёный лук прикладывать к нарыву, тёпленьким.
— Шельма? — не поверил вервр, вслушиваясь. — Вот от кого не ждал перемен даже я…
Теперь нового гостя заметили, к нему дружно обернулись… и охнули хором. Вервр демонстративно прочесал волосы назад, убирая от лица. И улыбнулся, огорчаясь обычности своих зубов.
— Леший, — выдохнули особо умные из дальнего угла.
— Вы и есть тот самый… пама? — обрадовался кривоватый человек. — А я зовусь Голос. Сразу видно, вы человек достойный. Будьте добры, не сочтите за труд спасти здешнего старосту. Он от забав вашей Аны вот-вот полезет в петлю. Он бы ещё в ночь полез, но я втолковал ему, что девочка шутит, серебро ей не требуется. Я прав? Она славная. Только такая, знаете… вольная.
— Воля! — кивнула Ана, снова выбросив на костях непобедимое в игре и почти невозможное «троецарствие».
— Я говорил ещё и про ответственность, — тихо напомнил вервр.
— Велел: прилепись, — надула губы Ана, всполошилась и смахнула кости на пол, подальше. Вцепилась в кружку с морсом. — Я вот… я леплюсь. Вот. И вот. И вот.
Она собрала ближе все кружки, покосилась на монеты и смущённо вздохнула. Тронула пальчиком ближнюю.
— Подарок. Новый. Тебе.
— Не ругайте её, — вступился Голос. — Она добрая, только сразу такого наворотила, что теперь не знает, как бы сбежать. А я взял с неё слово, что не побежит. А староста сам виноват, пьян был вусмерть и хвастался. Ну и мы хороши, стали жаловаться и отвлеклись… Вы не встречали молодую женщину? Мы разыскиваем её пятый день, всё без толку. Темноволосая, звать Чиа, она тихая и с людьми настороженная. Сиганула в лес, мы уж и звали, и искали…
В каждом слове Голоса звучала настоящая боль. Вервр удивился — надо же, душу человек вкладывает, переживает. Это не все умеют, даже для близких. И Шельма вздыхает солидарно, ему тоже тяжело. Хотя прежде выходки «честного вора», проклятого родней, были порой хуже деяний его знаменитой мамочки Белоручки. Кто дважды пробовал свести Алого Пэма прямо из конюшни? Кто на спор влез во дворец к канцлеру, устроил жуткий переполох и умыкнул породистого щенка? Кто пристегнул к единой цепи спящих на посту стражей и последним туда же, на общую сворку, добавил разъярённого кота?
— Надо же ж Чиа искать, а мы от кашля лечим, от чирья, — буркнул Шельма, глядя в упор на вервра. — Вот же ж вилы! Ана ж меня надула в кости! Да шагни я за порог, кого сунет в петлю обобранный до нитки староста? А? Вот же ж… шельма мелкая. Аж завидно.
— Ан, прости, — «обуза» принялась сопеть, готовя порцию спасительных слез.
— Ответственность, — строго, с нажимом выговорил вервр. — Ты не поняла?
— Поняла. Подарок же! — слезы покатились градом. — Тебе. Цветы.
Вервр поморщился. В нелепых спорах с Аной отчего-то он не оказывался прав так, чтобы вес правды не дотягивал до неоспоримости. Вот и теперь… разве он верно поступил, бросив ребёнка в ночном лесу? Разве он не знал, на что обрекает деревню… а затем и Ану? И себя — в худшем случае.
— За Чиа не переживайте, она сама найдётся. Ей надо еще немного побыть одной. И — спасибо. Я оказался должен вам, — покривился вервр, кивая поочерёдно Голосу и Шельме. — Ана, как быть с моим долгом?
— Спинка! — Ана ткнула пальцем в кривоплечего. — Лечи.
— Я не лекарь, — отмахнулся вервр. Задумался. — Хотя… кости умею и дробить, и перебирать, и составлять. Пошли, немочь. Ана просила за тебя. Значит, готовься к пытке, так тому и быть.
Вервр пошевелил пальцами, намекая, что в смысле правки позвоночника он очень даже зряч. Голос оживился, сполз с лавки и захромал вдоль стола. Староста протиснулся к вожделенному серебру, составляющему не его личное достояние, а ценность всей деревни. Было слышно, как мужик подгрёб монеты, лёг на них и завыл тихо, проникновенно. Не успокоился на этом, принялся вдумчиво драть бородёнку и красочно, рисуясь перед селянами, клясться не пить ни браги, ни настоек.
Для осмотра больного вервр выбрал полупустую кладовую, предложенную расторопным Шельмой. Как тот умудрился протиснуться вперёд, придержать дверь и поддеть на сгиб локтя Ану? Ловкий. Но — раздражения не вызывает. С прошлой встречи стал куда как занятнее, сложнее и глубже, — отметил вервр. Он сел у стены и стал ждать, пока всё нужное будет приготовлено трудами расторопного Шельмы и усердно мешающей ему Аны: соломенный тюфяк, покрывало, тёплая вода, полотенце, мази…
— Мать не простил? — спросил Ан, слегка удивляясь своему любопытству.
Шельма как раз укладывал Голоса на тюфяк и прибирал его рубаху, складывал с какой-то трогательной аккуратностью.
— Да ну её, — без злости буркнул Шельма, не усомнившийся, что спрошено у него. — Мы с Голосом перетёрли. Живая ж мать всяко лучше, чем никакой. Да и она ж… унялась, в мои дела не лезет, в свои не тянет. Ана, тебя ж моя мамка не обижала?
— После разберёмся, — вервр пересел к тюфяку.
Он быстро провёл кончиками пальцев по спине Голоса, повторно тщательно прощупал ребра и позвоночник. Задумался, растирая руки и грея их, а затем растирая изуродованную спину и тоже грея, готовя к работе.
— Кто выставил Чиа из города?
— Матушка Ула, — отозвался Голос. — То есть…
— Понял. Занятно, как сплетаются случайности в мире людей… и тем более атлов. Не скучно. Без боя не скучно… Как тебя? Голос, да? Я поправлю, но затем тебе понадобится белый лекарь. Не знаю, где они ещё есть. Раньше была семья на побережье, на юге. Сильная кровь, но вся вылиняла в новых поколениях. Дар был осознанно разменян за золото. Так я слышал.
Вервр снова прощупал позвоночник. Долго примерялся, решая, стоит ли ломать два плотно сросшихся ребра, разделяя их и причиняя большую, но неизбежную боль. Ана сопела, держала Голоса за руку и очень за него переживала. По вздохам слышно — аж до слез.
— Останусь на три дня, — решил вервр и сместил седьмой позвонок, сразу лишив жертву сознания. — Тут чутье нужно… звериное. Старые переломы, всё срослось и наслоилось. В мягкую, как делают лекари людей, поздно править. Ана, прекрати рыдать.
— Я болю, — пропищала та в ответ и снова заныла.
— За него? — удивился вервр.
— А-ай… Да. О-ох…
— И как тебя наказывать, — разделяя два сросшихся позвонка и разводя их в нужное положение, пробормотал вервр. — Ты умудряешься казниться хуже, чем казнил бы даже я, даже решившись. Ладно, боли. Где Шельма?
— Тут же ж! — выдохнули в затылок.
Вервр рассмеялся, запоздало опознав и подкравшегося Шельму, и нож у самой своей спины, и то, как дрожит приготовленная к удару рука бывшего вора.
— Меня тут назвали лешим. Согласен?
— А кто же ж с бесами спорит, — усмехнулся Шельма. — Леший, значит, леший. Твою ж чешую, да хоть мертвяк, только лечи!
— Весь в маму, — промурлыкал вервр.
— Так у неё ж тебя и видел, — добавил Шельма. Помолчал и уточнил: — Давно.
— Значит, с этим разобрались, — проверяя спину, отметил вервр. — Нужна толстая кожа, вроде седельной. Прутья железные и ивовые. Сапожные нитки. Топорик. Деревяшки наподобие черенков от лопат… Корсет будем делать. Эй, — вервр дёрнул уголком губ, изображая для Аны подмигивание. — Он исчезает почти так же ловко, как я.
— Леший-Шель! — пискнула Ана, мигом забыв про слезы. Снова согнулась от близкой чужой боли. — Ой-ой… Ай!
— Видно, всем атлам в детстве кто-то должен сказать: обещай не играть в карты и иные азартные игры. И они в ответ…
— Ни-ког-да! Ни-ни… От-вет-ственность, — кусая губы, выдавила Ана, сперва медленно, а затем скороговоркой, глотая слоги длинного трудного слова.
— Да. Важнее подарка. Но я опять получаюсь виноватым. Так что подарок с меня. Думай, что бы ты хотела?
— К деду Ясе в гости, — сразу отозвалась Ана.
— Ещё до зимы? И не пойдём к западному морю?
— В гости! И палку.
— Да, я обещал ему узорную трость, — припомнил вервр. — Договорились.
Правка позвоночника длилась и длилась. Ана рыдала и пищала. Шельма вздыхал…
Наконец, переживший шок и боль Голос зашевелился, тихонько застонал. Он очнулся — потный с головы до пят, измученный и бессильный шевельнуть даже пальцем. Он дрожал, стучал зубами в ознобе и не знал к своему счастью: это лишь начало чёрной полосы жизни, именуемой лечением. Иногда лучше — не знать. Вервр усмехнулся и промолчал. Ана всхлипнула и больно стукнула по колену. Она, кажется, снова угадала несказанное вслух.
— Вот же ж! — с грохотом сваливая в кучу запрошенное, рявкнул Шельма. — Думал, бесы убивать годны, и только же ж.
— Бессмерть третьего царства древние атлы звали левой рукой лекаря, — согласился вервр. — Мы чуем смерть. Это наше: смотреть ей в глаза. Спорить за добычу даже с ней. Никто не живёт полнее вервров. Однажды ощутив себя высшим хищником, уже нельзя отказаться от… предназначения. Ана, ты слышала? Воля и ответственность.
Малышка отпустила руку Голоса, едва тот забылся обморочно-глубоким сном, и перебралась за спину вервра, ловко вползла к нему на плечи и принялась плести косички из отросших волос. Это имело бы смысл, если бы волосы, падая на лицо, мешали взгляду. Но слепой вервр не спорил, а зрячий Шельма не замечал: гнулся над коробом со склянками и свёртками, перебирал запасы и старался придумать, как бы ещё ослабить боль друга?
Вервр принюхался, пискнул и собрал эхо. Вечереет, туман копит впрок росу для травных ожерелий. Село засыпает… Сплетни временно иссякли, постоялый двор опустел. Только его хозяин вздыхает и учитывает ничтожный доход: много ли возьмёшь за морс? И с кого, если девочка оказалась под присмотром — страшно и подумать — лешего?
— Давным-давно к одной тете-глыбе пришёл… — вервр покривился, — ладно, прямо скажем, пришёл граф Рэкст. Ана, слушаешь? Это сказка. Рэкст получил приказ убить ребёнка. Было необоснованное подозрение на полную кровь, а еще большая игра одной ветви княжьей родни против другой. Он должен был убить. И никакого выбора. Он был зол. Что он — игрушка людям? Или оружие? Или их пёс?
— Плохая сказка! — засопела Ана.
— Рэкст навестил тётю-глыбу… Она та ещё зверюга, с чутьем… и Рэкст надеялся, что будет понят, не сказав лишнего. Ночью он взял большой нож и пошёл убивать. Но во дворце уже плакали. Говорили, ребёнок выпал с чердака, весь изломался, не узнать толком… и ещё его погрызли… не важно. Злая сказка. Это случилось шестнадцать лет назад. Рэкст не спрашивал, откуда тетя-глыба взяла труп ребёнка и куда дела живого, княжьего.
— Зачем… все это? — покривился Шельма и зло захлопнул короб.
— Тут начинается главная сказка, — вервр поднял палец, и Ана вцепилась в руку, дёрнула, требуя исправить всё плохое в истории. — Рэкст стал должником тёти. Годы шли. Однажды ему передали весть. Он помчался, — вервр усмехнулся и добавил для Аны: — и плащ его раздувался, как крылья, и волосы вбирали изморозь ночи, самой холодной за много лет. Рэкст видел, как тётя-глыба облила водой родного сына и выставила за дверь. Бес крался по крышам, пока мальчик мог идти. Босиком по льду… След получался кровавый, и сдирал пацан не кожу с пяток, а остатки тепла с души… Из-за старого долга перед тётей-глыбой бесу пришлось пристраивать её замёрзшего сына в дом хэша. Тот хэш выставил условие: Рэкст не переступит границ его владений, пока сам хозяин или его старший ученик не пригласят. И стал ворёнок жить на новом месте, и вырос из него человек. Кто бы мог такого ожидать, а?
Вервр замолчал. Ана пощекотала ладонь, хихикнула. Наклонилась и кувырком спустилась с плеч вервра, шмякнулась об пол, не особенно усердно пружиня руками и ногами. Ткнула Шельму локтем в бок — мол, хвали сказку! Бывший вор вздрогнул и очнулся.
— Вот же ж… я не сам допёр к Лофру? И мать моя же ж… во вилы! Эй, погоди. А дитя? Кровь княжья, тут не тьфу же ж, а прям плюха яду?
— Плюха яда. Именно. Незаконный сын якобы непорочной сестры якобы не претендующего на титул двоюродного брата нашего светлейшего выродка, — в улыбке вервра наметилась ядовитость. — Таким детям не дозволено жить. Даже слух о таких уже проблема… У него кровь белого лекаря от отца и крохотная толика золота от матери. Белое золото само по себе приговор. И без людских козней подобные дети чахнут. Я знаю двух уцелевших. Лионэла хэш Донго жива трудами моего врага Клога. Но как, без помощи целителей, смог дотянуть до нынешнего дня твой дружок Голос? У меня нюх на кровь, — вервр обнял Ану и закинул на плечо, чтобы она снова скатилась на пол. И еще раз, и еще. Время вечерней тренировки… — Травница Ула обладает способностями, достойными восхищения. Она рассмотрела тебя и выправила, хотя Шельма тебе было не имя и не прозвище, а фамильное призвание и кровное наследство. Но ты упрямец. Особенный: ты позволяешь выжить тем, кто обречён.
— И Голос что ж, ноб? — кое-как выдавил ошарашенный Шельма.
— Разве я даю ответы даром? Разве тебе есть, чем заплатить? — ядовито прошелестел вервр, медленно пронёс кулаки и впечатал Ане в лоб, контролируя то, как она блокирует и отводит руку, как ныряет под новый захват. — Нет, не справилась, надо мягче обводить и отслеживать локоть. Ещё раз. Ана, не отвлекайся!
— Бум! Хряп!
— Очень страшно, — вервр утёк из-под ответного удара и провёл болевой захват. — Не советую рассказывать о прошлом Голоса. Рано или поздно новая склока князей потребует новых жертв. Не втравливай этого ребёнка в дворцовые игры. И проследи, чтобы твоя мама промолчала. У старого князя нет годного наследника. За рассказ о прошлом могут предложить очень много золота. А на самом деле заберут жизнь. Вот зачем я сделал для тебя явным то, что стоило бы держать в тени.
Вервр проверил пульс под челюстью Голоса. Вслушался в ровное, медленное дыхание Шельмы: оправился от удивления и всё обдумал. Быстро…
— Вот теперь я ж верю, ну — про левую руку лекаря, — серьёзно сказал Шельма. Встал, поправил рубаху и поклонился. — Мамку предупрежу. Что ещё?
— Сообщение Лофру, но прежде… — подался вперёд вервр. — С кем он сводит моего Пэма? Как готовит к скачкам? Кто седок и нет ли у него хлыста? Доволен ли мой конь кормом и уходом? Сядь и расскажи толком!
Путь Ула. Карта менялы
Ул обнаружил: сквозь ничто, оказывается, иногда трудно продраться. Междумирье бывает тесным, удушающим. Оно осознанно и яростно противится атлу-наследнику, идущему к выбранной цели… И все же пустота без цвета, вкуса, запаха и ощущения времени — преодолима. Медленно, нехотя она уступает. По капле… если уместно и возможно представить себя родниковой водой, способной сквозить, чтобы однажды победно вырваться родником на поверхность. В новый мир. Очередной! Бессчётный… Сколько мгновений или лет минуло дома? Где он — дом? Даже эхо маминых мыслей сюда не добирается. Только изредка тепло трогает плечи.
Итак, новый мир. Первый шаг дался проще, чем прежде. К чудесам можно привыкнуть? Поверить без причин, по опыту нескольких удач, что тело снова перестроится, что будет посильно дышать, что ощущение холода или жары, в первый миг выжигающее кожу, затем сделается терпимым. И зрение не подведёт. Он — атл. То есть он почти что человек… и вместе с тем пока ничто не сломило его.
Ул открыл глаза, осмотрелся. Пожал плечами. Бывают и такие миры, оказывается: организованные, продуманные до самой малой мелочи. Чем-то похожие на дом хэша Хэйда, каким он мысленно представлялся Улу. Всё подчинено удобству для тела и ума. Всё уместно без вычурности. Но всё так упорядоченно, что вызывает отвращение!
Солнце даёт ровный свет, как закрытая матовым стеклом лампа. Фоном для солнца служит пустое, без единого облака, сталистое небо с едва намеченным оттенком голубизны.
Под ногами совершенно гладкий камень. Полупрозрачный, молочно-белый с серебряными и черными прожилками. Мир вблизи — плоский, глянцево-парадный и пустой, как бальная зала в утро праздника. Ни пылинки… Мир просматривается насквозь — удобно для наблюдения. При этом сам наблюдатель незрим. Так и предпочёл бы Дохлятина Хэйд!
Пространство на десять шагов от Ула подобно залу, а далее начинается лабиринт низких стен без крыш, чтобы где-то у горизонта в него вписался еще один такой же зал, и еще. Весь мир — залы, помещения и коридоры. В помещениях одинаковые столы. За столами — одинаковые фигуры. Всегда двое, мужчина и женщина. Лица лишены выражения.
Ул покачнулся, осознал усталость и шагнул — решив, что выберет направление случайно. Какая разница, узор мира вроде паркетной мозаики, повторяется бесконечно… И люди за столами — часть узора. Одинаковые, однажды созданные и неизменные… Хотя нет: на их лицах — под кожей? В слое камня? — непрерывно вершится изменение. Чем ближе стол, чем пристальнее Ул вглядывается, тем полнее лица подстраиваются под привычку смотрящего. Тем они человечнее…
Ул миновал одну за другой десять комнат. И еще десять. Оглянулся, пожал плечами и двинулся дальше. Он скоро осознал, что лабиринт куда сложнее узора паркета, что сравнение ложное. Мир постоянно меняется! Вот солнце приобрело золотистый тёплый цвет, небо украсилось облаками, по стенам и полам побежали их тени, оживляя и наполняя бытие. Узор камня обрёл новые оттенки, в нем проявилось сходство с лучшими заглавными буквами, какие выходили из-под руки Монза или украшали его любимые книги. Прозрачность стен пропала, сами они сделались выше. Лицо мужчины за каждым новым столом всё точнее копировало черты Хэйда. А женщины… казалось больно узнать Лию. Каменную, холодную. Ул ощущал тошноту и брезгливость: мир тянул из сознания то, что ценно гостю, переваривал добытое, чтобы достоверно солгать: «Я — друг! Прими меня, расслабься. Присядь и дай себе отдых».
Если бы ощущение фальши не мешало, как соринка в глазу, Ул скоро остановился бы у одного из столов. Из любопытства, из вежливости или просто так, без причины. Но фальшь раздражала. Чем детальнее мир копировал ожидания, тем большее отторжение вызывал. Ул шагал, невольно ускоряя движение. Всматривался, хмурился — и бежал дальше.
Пока не увидел очередной стол. Точно такой, как прочие, но — настоящий. Почему, Ул сам не знал. Он остановился, именно желая найти ответ.
— Приветствую, — негромко выговорила лия.
Для себя Ул так её и назвал — «лия», не имя с большой буквы, а вроде как… порода? Эта лия не была личностью, как и все иные. Таких лий загадочный распорядитель мира мог соорудить бесконечно много.
— Вы мастер, — Ул поклонился существу, которое притворялось Хэйдом. — Ваш дар сродни дару синих нобов? Вы создаёте контур замысла, а после заполняете. Мой учитель Монз рисует кистями по бумаге. Сперва контур, затем детали, цвета, тонкие мелочи.
— Вы первый, кто сразу отличил оригинал от копии, — мастер ещё притворялся Хэйдом, но его голос и манера поведения отличались.
Может быть, — решил Ул, — незнакомцу понравилась личина? Хэйд всегда был не тем, кем казался, он умел играть в загадки. И в такой роли сейчас был более чем уместен.
— Вы помните своё имя? И лицо? — Ул вежливо поклонился. — Меня можно звать Клог. Мой друг выбрал мне такое имя. Я горжусь им.
— Другом или именем?
— Тогда… горжусь ими, — улыбнулся Ул. — О, мастер, позвольте приветствовать вас. Я всегда мечтал научиться рисовать и я восхищён вашим даром.
Ул склонился и замер надолго. Осторожно выпрямился, увидел кивок мастера — и присел в предложенное кресло. Каменная лия по ту сторону стола пропала, «Хэйд» менялся, терял знакомые черты и обретал чуждые, но, надо верить, подлинные. Свет солнца забагровел. Стол сделался ниже, украсился пёстрыми яично-черными разводами. Штрихи золота разделили стены на квадраты чернее тьмы, чередующиеся с вытянутыми прямоугольниками, содержащими живые и иногда объёмные картины.
Пока взгляд Ула блуждал и вбирал впечатления, мастер вполне изменился. Он теперь выглядел на голову ниже Монза — золотокожий, безволосый, трёхглазый: два карие ока взирали на гостя с прищуром внимания, пока третье, лазорево-золотое и помещённое в середине лба, дремало под полупрозрачным веком. Четырёхпалые руки мастера расслабленно лежали на столешнице. Безгубый крохотный ротик оставался сжат в плоский штрих молчания…
— Мастер О, можно так звать, — ротик округлился, нарисовал заглавье беседы. — Обычно гостям неуютно. Обычно они напуганы. Хотя бы удивлены. Но вы… рады? Это безрассудно. Вы понятия не имеете, в чем назначение этого места. В свою очередь я провёл первичные изыскания и предполагаю, что вижу наследника атлов. Я сообщил о вас тем, кто может быть заинтересован. Пока нет ответа. Значит, можем беседовать.
— Вы из первого царства, Мастер?
— Ответ положительный. Продолжу рассказ об этом месте. Я меняла. Таково моё нынешнее назначение. Я предоставляю просителям суррогат утраченного. Они взамен отдают то, что имеет ценность для…
Мастер О смолк, прикрыл оба карие глаза и распахнул лазоревый. Вмиг нанизал на ось внимания Ула — и тот дёрнулся от боли. Мозг взорвался, а затем вроде съёжился: взгляд проник в самую глубь сознания с полнейшей бесцеремонностью и рылся там… Так дядька Сото рылся бы вилами в стоге сена, — усмехнулся Ул, вытирая пот со лба и пробуя отдышаться.
Что вытащил на вилах этот О? Что увидел и кому об этом доложил?
— Ваш вопрос: «Зачем?» ложный и детский, — сообщил О, снова распахнув карие глаза и закрыв лазоревое око. — Есть иные, более важные. Вы хотите вернуться домой. Могу отправить. Цена обмена: ответ на один вопрос. Вам важно знать, живы ли мама и друзья. Могу выяснить. Цена та же. Вы хотите увидеть королеву. Могу создать копию с функциями речи и частично личностным интеллектом… Здесь лучшее во всех мирах место для обмена. Некоторые говорят: я меняю судьбу и наделяю счастьем. Вернее, всеми формами успокоения, удовольствия и удовлетворённости. Вам понятно сказанное?
— Да. Но я вовсе не хочу…
— Все хотят, чтобы сбылись их желания. В том числе сокровенные, — покачал головой О. — Не стоит обманывать себя и меня. Один ответ в обмен на одно желание. Готовы?
— Что за вопросы у вас ко мне?
— Приятно видеть разумный подход, — О изобразил улыбку и сразу убрал. — Набор первый. Вопрос: что стало с тем, кто вам известен как Рэкст? Если вы уничтожили его, каким образом? Оплата ответа: возвращение домой или же возвращение к жизни человека, важного для вас или вашей семьи. Еще можно обратить время и перерешить решённое, сохранить любовь женщины, чьё лицо вы искали в безликих. Думайте.
Мастер тронул стол кончиком пальца без ногтя, вырастил из камня песочные часы. Золотой песок змейкой скользнул в верхнюю колбу и начал медленно пересыпаться вниз. Ул смотрел, как заворожённый. От слов и тона О — кружилась голова. Разве возможно вернуть маме Уле родного сына, погибшего в раннем детстве? Разве посильно отменить предательство и слабость кровной матери, чтобы не оказаться мёртвым младенцем в ледяной реке, чтобы вырасти в семье, как обычные дети? Разве способно чудо пересыпать песок времени, чтобы взгляд взрослой Лии был обращён к её цветочному человеку и наполнен для него солнечным теплом, как сейчас — для Сэна?
Ул поёжился. Сжал кулак, резко впечатал в столешницу. Костяшки заныли, отозвались горькой и целительной болью. Туман в голове проредился. Остро, почти непосильно, заболело сердце. Только каменные истуканы могут лгать так холодно и ядовито. Разве предав, пусть и врага — а Рэкст враг — можно получить что-то настоящее? Разве менялы способны дать то, что содержит тепло и боль жизни? Как сказал О? Он создаёт удовольствие. Пожалуй, именно и только — удовольствие…
— Мне неизвестна судьба Рэкста. Он мне враг, — не открывая глаз, выдавил Ул. — Я не желаю о нем слышать и говорить. Никогда. Значит, у меня нет ответа.
Песок в колбе сыпался, песок шуршал и усыплял… Когда Ул закончил говорить, этот звук иссяк одновременно с эхом голоса. Ул вздохнул и позволил себе открыть глаза. Часов уже не было, пропали.
— Второй набор вопросов, — начал О и чуть заметно качнул головой. Создал штрих молчания из маленького ротика. Задумался? Приоткрыл лазоревый глаз на краткий миг, снова причиняя боль и копаясь в тайниках души… — Вы удивляете. Вы полны любопытства и рассеяли страх. Вам чужда страсть к удовольствию предложенного толка. Но тут вы неправы. Да, я не могу дать в копии то, что было в оригинале. Но я не создаю фальшивок, вы оскорбляете меня такими мыслями. К меняле приходят с разбитыми в прах мечтами и растоптанными надеждами. Приползают, когда сломан хребет чести. Я зашиваю, накладываю лубки. Я даю лекарство и костыль. Что станет после с костылём? Не мне решать. Одни не смогут его отбросить, они слабые. Другие не захотят, они жадные. Третьи вложат душу… и копия станет подлинником. Так бывает. Редко, но бывает.
— Вы — Мастер, — не оспорил Ул.
— Второй набор. Вопрос: как вы смогли пройти сюда? Нельзя ступить в исконные миры первого царства, обойдя усыпальницу короля. Нельзя пройти там, где тропы разрушены. Вы здесь. Вы прошли и не знать ничего вы просто не можете. Предлагаю выбрать ценность для возмещения. Время пошло.
— Я не знаю, что такое усыпальница! Граф Рэкст велел мне готовиться к испытанию, и вот я тут, — Ул вспомнил совет Ворона Теней. — Я хочу дойти до цели. Пройдя испытание, я смогу?
— Какова цель?
— Вы же знаете. Задать вопрос королеве. Так, наверное.
— Вы готовы войти в иерархию, то есть пересечь порог зала выбора? — бесцветным голосом произнёс О и распахнул лазоревый глаз.
— После испытания, да? — Ул сжался от боли. Вилы настороженного внимания так и шарили, так и кололи, нанизывали, просеивали…
Повисла тишина.
— Вы не обладаете ответом. Вы прошли сюда и сами не ведаете, как. Это невозможно, но верно, — удивился О. Прикрыл третий глаз. — Испытание устроит иерархию. Согласие на испытание уже ценность. Вы выбрали возмещение?
— Да, — вскинулся Ул, ликуя и чуть не подпрыгивая от своевременности озарения. — Да! Мастер О, я умею рисовать узоры заглавных букв. Я без ошибки повторяю готовые и создаю новые. Но я не способен изобразить ничего настоящего. Вот хоть… Лес, дорога уходит вдаль, дом у реки. Я вижу, помню… и не могу уложить на бумагу так, чтобы верить. Можете научить? Вы мастер. Я вижу, вы настоящий мастер!
— Один дурак на тысячу умников, — впервые крохотный ротик О сморщился в улыбке. — И даже реже. Только один просит научить, а не… удовлетворить. Возмещение будет предоставлено. Я научу тебя светотени и перспективе. Для начала довольно. Мои знания — костыль. Я хочу увидеть, станет ли он чем-то большим. Ты получишь возмещение немедленно. Затем будет испытание. Одно или не одно. Этого еще не решили.
Мастер О коснулся столешницы, поддел и потянул из неё новые песочные часы. Ул жадно следил за чудом и без слов приговаривал: «Больше песка, больше!»… загадочные светотень и перспектива будоражили воображение.
Ул расплылся в счастливой улыбке, когда осознал: времени мастер выделил не так и мало. Часы здоровенные, ведра на два песка, и сыплется он по пылинке, едва-едва.
Впервые от момента, когда родной мир остался позади, душу согрело лето… Мастер О более не казался каменным истуканом. В его нечеловеческом облике читались черты Монза. Не привнесённые ради обмана, нет! Иные, настоящие. Мастер О был синим нобом, даже если сам не знал о таком своём звании. Он был мудрым, лукавым, увлекающимся, бесконечно преданным делу. Он принадлежал иерархии бессмертия и носил при себе карту, скованный по рукам и ногам ненавистной ролью менялы… Но помнил о себе прежнем Мастер О больше, чем граф Рэкст и Ворон Теней. Или — не так? Те двое помнили бой и силу, забыв себя. Мастер О помнил присущее синему нобу — умение рисовать, например. Помнил ли он себя? Хотя бы имя… Ул зажмурился, усилием воли затоптал любопытство. Он делает вид, что не знает о колоде карт. Мастер О не замечает подвоха. Или не хочет искать? Совсем как Ворон Теней не пожелал выиграть бой.
— Я весь внимание, о учитель, — поклонился Ул.
— Итак, перспектива, — в карих глазах, Ул мог поклясться, блеснул азарт, совсем как у Монза, вступающего в библиотеку. — Обсудим стандартную трёхмерную, обратную иконописную и особые случаи визуальных эффектов при переносе пространства материи и духа в двухмерность.
— Да, — едва слышно шепнул Ул.
Голова кружилась от предвкушения. Песочные часы казались ничтожно маленькими. Мозг гудел, пробуя нащупать нечто, ценное для обмена и одновременно безопасное. Да пусть даже опасное! Еще немного — и к Мастеру О захочется вернуться любой ценой. Рискуя жизнью, отдавая её в залог.
— Я смогу рисовать, — шепнул Ул.
И ему показалось, что над миром уже расцветает золотое лето детства, безупречное, незабываемое. Повторимое и всегда живое — если его нарисовать!
Глава 4
В которой рассказывается о событиях весны 3217 года
Столичные истории. Вес правды
— Первая ноба княжеского протокола, Лионэла хэш Донго Тэйт, — нараспев прокричал глашатай. Позволил себе короткий вдох и продолжил в том же ритме, не жалея лёгких: — Её безупречность с нами!
Пока глашатай потел и старался, соблюдая тонкости правил приветствия, громоздкую парадную юбку «безупречности» сдавили с боков и выпихнули из кареты слуги, приставленные для помощи в подобных случаях. Справился бы и один, как следует потянув за специальные лямки. Почему помогали оба? Пять вёсен назад юная ноба тщеславно сочла бы это уважением. Года два назад, освоившись во дворце, она задумалась бы: нет ли у слуг тайного поручения от кого-то… и тщательно проверила складки платья. Год назад, утвердившись в высоком ранге, она уже смогла бы без ошибки прочесть намерения, коротко глянув в глаза и на руки.
Но сейчас не до мелких игр.
Знает ли замужняя ноба, что ей намерены признаться в любви еще до начала лета пять напористых юнцов? Конечно. Двое ищут место в службе князя, поскольку бедны и полны надежд. Им кажется, что «старуху» — так подобные зовут всех старше двадцати — запросто очаруют переписанные из книг чужие стихи. Еще двое — алые — отчаянно нарываются на бой с Сэном. Муж и в юности не позволял себе вспылить по пустякам, а сейчас стал исключительно серьёзен, зная и свою силу, и сложное положение Лии при дворе. Но драчуны не унимаются. Наконец, еще один… То ли придумал себе любовь, то ли искренне верит в неё. Жаль мальчика. Может, поискать ему партию?
— Не так усердно, — Лионэла уняла пыл глашатая и слуг. — Я не спешу, да и вам надрываться ни к чему.
Год назад мелкий прилипала из свиты беса пустил слух, что будто бы из-за небрежности слуг ноба хэш Донго споткнулась, покидая карету. И что её муж, узнав об этом, тихим голосом очень вежливого человека уточнил, насколько случившееся — случайно. А затем страшно избил слуг, чего еще ждать от алого, если он в гневе? Перечисляли имена пострадавших. Подробности гадкого свойства липли, как мухи на навоз… Отчего слабые и мнительные люди верят в напасти и множат слухи? Глупо спрашивать, когда сам вопрос содержит ответ, — усмехнулась Лионэла. Она как раз балансировала на широкой подножке, а слуги держали на весу платье и плавно смещали его из кареты. Подбежали по знаку распорядителя служанки с пуховками. «Можно подумать, я — ваза, по случаю праздника добытая из чулана», — мысленно посетовала Лия. И сохранила лицо безмятежным.
Перечень приёмных дат прописан на год вперёд, и она заранее знала, что нынешний день будет трудным. Очнувшись после ночного кошмара, поняла: еще и тёмным… Золотая ветвь дара наделяет предвидением угроз. Благо это или неразбавленный яд для души? Предчувствия сделали многих золотых нобов панически пугливыми, склонными искать врагов и отказываться от друзей, от смысла и радости жизни… Обезумевшие золотые нобы яростно ценят положение в обществе. Власть — их щит и меч. Ведь золото двояко: оно блестит или в сундуке, или в сердце. Поднимаясь по ступеням властной лестницы, Лионэла это понимала все полнее. Но у неё есть Сэн. Всегда рядом. И ей не требуется иной щит… Вот только в глазах Сэна порой читается невысказанное: «Зачем мы здесь? Зачем тебе игры дворца, Лия?».
Слуги без стука установили основание юбки. Склонились, выражая почтение и заодно позволяя себе передышку. Лионэла жестом оборвала суету с проверкой кружева и лент. Ненавистное платье надевается дважды в месяц. Хотя бы не чаще… это единственное его по-настоящему ценное качество.
— Оно делает вашу талию тонкой до невидимости, о безупречность, — с откровенной насмешкой прошелестел голос из-за спины, и незримый нож угрозы впился под лопатку. — Снова отослал букет. Я сохну по вам, это заметно?
— Со всем уважением… Я приняла бы цветы даже от вас, получи вместе с ними намёк на то, что способно сделать вас незаметным.
Лионэла грациозно развернулась: этот манёвр в платье такого веса и такой ширины юбки умела исполнять лишь она. Собственно, впервые развернувшись на балу, она и стала «безупречностью». Князь мог бы подарить цветок или комплемент, ведь они не более весомы и ценны, чем этот пышный, но невесомый титул… если не уметь им пользоваться. Если не сделать его ключом для входа в круг избранных. Говорят, лет сто назад дворцом управлял псарь княгини. Двадцать лет назад знать терпела пересадки и корчевание от «сановной садовницы». Для неё и придумали странное титулование, то ли в шутку, то ли издеваясь. Титул и ранг не важны. Можно быть князем — и ничего не решать… если ты не умеешь себя поставить.
— Вы столь грациозны, — шепнул бес, щурясь.
— Благодарю.
«Благодарю, но не тебя, а Сэна», — глядя мимо Альвира, подумала Лия. Муж истратил на обучение Лии год без малого. В боевых условиях взятое за основу движение именуется «силовое уклонение» и позволяет закрутить и повалить противника тяжелее себя. Платье — противник именно такой категории, но Лионэла научилась бороться, не теряя непринуждённую улыбку.
Зачем она здесь? Зачем ей быть в столице и при дворе? Грустный вопрос. И ответ безнадёжный по срокам исполнения: чтобы бес не мнил себя хозяином мира! Ответ понятен Сэну… но горечи не унимает.
— Сам хэш Альвир, — мило улыбнулась Лия, искоса глянув на беса и тронув веер. — Позвольте склониться в восхищении, вы теперь сановный граф, что приравнивается к седьмому рангу. Право, неловко, вы ожидали у дверей, в оскорбительном для вас окружении слуг и псов.
— Увы, — Альвир увернулся от таранного движения юбки, распластавшись по стене. И зашелестел едва слышно: — Меня сушил нерешаемый вопрос. Так давно нерешаемый, что я прибег к крайнему способу поиска ответа, о ноба, цветущая вопреки моим надеждам и трудам.
— Могу узнать, что нового обо мне шепчут по углам ваши люди, чтобы я, как вы изволите выражаться, усохла? — так же тихо отозвалась Лия. — Или вы пришли утолить любопытство, ничего не предлагая взамен? Это было бы слишком прямолинейно.
Разговор принял странный оборот, и излишня вежливость показалась в нем неуместно. А некоторое обострение, наоборот, обещало хоть какие-то новости и намеки. Лионэла плавным усилием обеих ног сдвинула неподъёмную юбку с места и мелко-мелко засеменила, исполняя «стиль плывущей лилии». При таком движении платье перемещалось совершенно плавно, а кисти рук порхали, рисуя намёк на узор лепестков избранного нобой цветка. Сложнее лишь стиль ириса. Но его, благодарение свету, протокол допускает лишь в главном зале и строго в присутствии князя.
— Я отказался от сплетен о вас. Это… расточительно.
— Жаль. Муж имел практику в фехтовании и не скучал, — прощебетала Лия, не оборачиваясь к собеседнику и удивляясь: ведь не уходит!
За минувшую зиму именно разбор сплетен позволил Сэну на правах оскорблённого мужа устранить из свиты беса дюжину ценных Альвиру людей. Все они дали алому нобу Донго не причину для гнева — всего лишь вздорный повод. Но бой с одарённым такого уровня при верной постановке вопроса-вызова неизбежно превращается во взвешивание дел и помыслов по старомодным и прямолинейным законам чести.
Сейчас влияние беса на половине канцлера ничтожно, а на половине князя… знать бы ответ в точности! Там золота в крови нобов — как грязи на осенней дороге… И почти всё это золото и есть грязь, ведь оно разменяно на монеты и земельные наделы.
Альвир крался, чуть наклоняясь к спутнице и создавая своей фигурой, как и подобает по протоколу, «стебель цветка беседы». Лия бросила взгляд из-под ресниц. Убедилась: бес не солгал, ему дурно! Глаза лихорадочно блестят, губы запеклись, по коже зеленоватого тона плетётся сеть морщинок — как узор по коре молодого деревца. Таков Альвир, когда он «усох», то есть переутомился. Подобное с ним порой делается, и причина обыкновенно в смятении мыслей… если верны источники сведений и собственные наблюдения.
Лионэла тронула веер, но не стала раскрывать. То есть не отмахнулась от продолжения разговора. Пока бес до неприличия искренен. Лия — последний человек, к кому Альвир готов обратиться. И все же он явился до полудня и ждал, при его-то непомерно выпяченной гордости нелюдя, презирающего всё смертное, обречённое на неизбежное иссыхание. Иными словами, для Лионэлы нынешний разговор — прямая угроза. А может, объявление войны ей и тем, кто на её стороне.
Семь лет бес прожил в столице княжества. Он переманивал одних нобов и удалял от двора иных. Он тихо приращивал влияние и доход. С памятной стычки с матушкой Улой в первый свой день в городе Альвир более не вступал ни с кем в прямое и личное, до блеска стали, противостояние. И вот — началось… Лионэла чуть повела бровью. Стоило ли ждать иного? Она не наивна.
Но отчего сегодня? Посольство с запада, столь важное для альянса племянника князя, прибудет лишь к концу месяца. Балы далеко — а они важны северной знати, жаждущей оттереть от речных портов соседей. Тэйты, вечные смутьяны и сторонники создания через кровавую резню единого княжества от моря и до гор, затихли, когда их ближнее имение оказалось ловко обворовано… И ладно бы пропало золото, но украдены бумаги. Пока немногим известно: Дорн хэш Боув лично вернул Тэйтам один из конвертов, тем подтвердив, что письма у канцлера. Мол, дознание проведено, виновные наказаны, не шумите, и бумаги не всплывут…
И вдруг — разговор об усыхании. Словно иного времени узнать важное Альвиру не представится.
— Ранги, — проследив приглашающее к беседе движение руки Лионэлы, шепнул Альвир. — Неужто сложно для вас, ничтожных, усвоить их? Нет, не теперь, — бес зашипел от раздражения, когда Лионэла ускорила шаг: её ранг в этом платье, в приёмный день в пределах дворца поднимается до высшего девятого. Это означает, что бесу следует передавать прошения строго через секретаря. — Я усыхаю. Не в ваших интересах делать меня столь… жёстким.
— Ранги никогда не станут законом от западного океана и до Синих гор. Равно и княжества не сольются в единую страну с единым наречием, хотя вы не жалеете золота. Иногда я желаю спросить, со всем уважением… вы ведь не часть семьи Тэйт? Вы так благоволите им. Прямо-таки родственно!
Лионэла остановилась, не заботясь о красоте движения, даже использовала для замедления опору на плечо беса. На ощупь через кожаную куртку он был, как и говорили многие, прохладнее и тверже человека. Не просто прохладнее! Плечо беса показалось ледяным, совсем жёстким. Значит, слова об усыхании не лишены смысла. «Он — дерево», — как-то сказала матушка Ула. Тогда это показалось странным. Но собранные за минувшие годы сведения позволяли поверить… Лия вздрогнула. Весна — время цветения. Что это означает для Альвира при его загадочной природе? Безумие? Подъем сил? Жажду роста?
— Наш мир соткан из множества узоров, — Лия рассмотрела руку беса. Кожа ровная, чуть зеленоватая, в прожилках крохотных трещинок. — Всюду свои наречия и сказки, вы изучали то и другое, я навела справки. Не в них ответ. Дитя, достойное именоваться нобом, может родиться у бездарных селян, такое случалось многожды. Подобное дитя станет даже и графом седьмого ранга, если дар, сила воли и обстоятельства позволят. Значит, предопределённости нет, границы преодолимы. Что ещё? Ах, да: алый нищего и безвестного рода, вооружённый вилами или оглоблей, может снести вашу бессмертную головушку, встав за великую истину, — Лионэла улыбнулась, созерцая в упор яростно полыхнувшие глаза беса. — Это преувеличение, но кто знает, велико ли оно?
— Без домыслов! Ваше время сегодня отдано протоколу, моё бесценно в любой день.
— Я внятно и искренне отвечаю на вопрос, — отчеканила Лия, не отводя взгляда. — Главная причина бессмысленности рангов в вас. Вы бес, и вы подчиняетесь людским законам! Вы досягаемы, и люди ощущают себя всемогущими, пока юны и дерзки.
Альвир вскинулся возразить… и промолчал, жестом предложил продолжать пояснение. Но, если до того он казался усталым, то сейчас буквально старел на глазах. Ответ его не просто огорчал — уничтожал!
— Примите заранее мои извинения за эти слова, — Лионэла наметила поклон, — вы семь лет усыхаете в тени покинувшего нас графа Рэкста. Не ведаю, как можно развеять её. Рэкст причинил боль моей семье, что не мешает мне признать его гением золотой ветви дара. И вот мой ответ: ранги не будут иметь цену для людей, ведь именно с таким расчётом багряный бес ввёл их в наш закон. И чем ближе к избранной им для своего дворца столице, тем ничтожнее роль рангов. Вам не устранить его презрения к рангам ни в семь, ни в семьдесят лет.
— Презрения? — шепнул Альвир.
Башенные часы на главной площади гулко отбили первый удар из одиннадцати, начиная вымерять последний час до полудня. Бес вздрогнул, когда оказалось так символично выделено это слово — презрение. Еще десять ударов колокола прогудели над крышами города, словно утверждая власть багряного беса, даже покинувшего княжество и, по слухам, покойного. «Одна мысль о Рэксте вынуждает Альвира дрожать», — отметила Лия, наблюдая за бесом впервые так близко и так долго…
Колокольный гул затих.
— Презрение, — мстительно повторила Лия. — Мне видится точным именно это слово. Со всем уважением, я избегаю более резких: ненависть, отвращение и даже издевательство. Я так это вижу. Теперь прошу меня извинить, я должна следовать протоколу.
— Рэкст, животное, — Красивое лицо Альвира исказилось, губы одеревенели в оскале ярости. — Он посмел сознательно обмануть? Неужели изначально…
— Я способна сколько-то надёжно ответить на вопрос о людях, только о них, — Лия исполнила вежливый полупоклон и начала разгонять платье. — Приятного дня, сановный граф.
— О, не сомневайтесь, — прошелестел Альвир, отступая к стене.
Лия жестом приблизила секретаря. От кареты он следовал за своей нобой на удалении, не мешая беседе. Секретарь был новый, прежний отравился и отбыл на лечение еще зимой. Тогда и стало ясно, что год не обещает покоя.
— Передайте мужу, — Незримое острие угрозы в спине так и болело, так и кололо… едва удавалось идти, не сгибаясь. Лия указала секретарю на край крохотного конверта, чуть выступающего из-за ленты в нижней оборке юбки. — Отвратительно. Чувствую себя ящиком для почты. Даже не могу дотянуться и выбросить гадость. Вы не видели, кто сунул это за ленту? Слуги? Бес?
— Н-неудобный наряд, — проблеял секретарь, обречённо провожая взглядом беса. — То есть… слушаюсь, о безупречная.
— Пусть ноб Донго решит судьбу написавшего по своему усмотрению, — уточнила Лия. — Сейчас муж проверяет смену караула в первом зале на половине канцлера. Промедлите, придётся его искать по дворцу. И объяснять, отчего вы припозднились.
— С-слушаюсь, — вздрогнул секретарь, припрятал конвертик и умчался.
Письмо в складки заправил доверенный слуга еще в карете, едва Лия увидела беса и стало ясно, что спорить с предчувствиями неуместно… Сэн знает смысл передачи письма и, надо надеяться, исполнит то, что оговорено с ним заранее. Хотя стоило бы подготовить платок, его передача отсылает мужа домой. Но велика ли польза? Спрятать Сэна, заодно упрямца Дорна еще дюжину людей… и с ними полгорода знакомых. Разве это отменит беду? Разве это — исправит день?
Лия скользила в своём протокольном платье, похожем на кочующую пыточную камеру, на клетку, из которой не вырваться. За спиной цокал высокими каблуками второй секретарь. Его порекомендовал градоправитель — холеного бездельника с бессчетным и незапоминаемым списком титулов и имен, с длинными белокурыми локонами девицы, с неснимаемой улыбкой пьяного идиота… Так обременительно. Но в обмен градоправитель принял на службу ценного для хэша Хэйда человека. Недавно Дорн сделал важный намёк при белокуром, не таясь… Так что скорее всего глупость — маска. Трудно поверить… секретарь буйно и неразборчиво флиртует, он глубоко погряз в долгах. Мало дерётся, предпочитая своевременное бегство. Много хвастается. Ни разу без ошибки не ответил на вопрос касательно дел. И он неизгоняем с должности: он — родня князя, пусть и дальняя. Зачем градоправитель за него хлопотал? С чьей подачи?
— Просителей много? — без надежды на ответ уточнила Лия.
— Три пустых, два по ранговым глупостям и еще странный юноша, о нем хлопочет бес. Эти заранее внесены в списки, но я видел еще три кареты, — шепнул секретарь. — Они отнимут у вас не более часа. Или не менее? Прошу простить мои домыслы.
— Однако… Не было случая спросить. Ваша ветвь — синяя?
— Отчасти. Я хотел бы…
— Созерцать беса столь тягостно, что это вытрезвило вас? Даже голос звучит незнакомо. Смею заподозрить: у вас есть совет для нобы девятого ранга? — Лия полуобернулась, не пряча раздражение. — Так проглотите его! Ваша похмельная рожа уместнее трезвой. Тем более теперь!
Секретарь поперхнулся, прикрыл ладонью рот, кашлянул… и расплылся в пьяной улыбке. Когда двери главного зала начали расходиться, белокурого уже мотало из стороны в сторону. Похмелье смотрелось неподдельно и даже… трогательно. Лионэла надела подобающую полуулыбку, мысленно отметив: жаль, если и этого секретаря отравят. Он, кажется, неплох.
Голос очередного глашатая принялся выводить титулы безупречной нобы протокола… Секретарь, не дослушав, икнул и побрёл вдоль стены, сопя и хихикая. Девицы, на коих он нацелился, пискнули, опасаясь уже неизбежной сплетни.
Хорошо: все в зале отвлеклись, можно без опаски бросить первый взгляд. И унять раздражение. Просителей втрое больше, чем заявлено! А ведь сегодня время — золото. И пока золото до песчинки распределено не ею, а Альвиром… Явились без оповещения те, кого не выставить вон в несколько слов. Старый скандалист Могуро, бывший цепной пёс Рэкста — даже он тут.
— В эт-том платье ваша талия не-незрима, — запинаясь, выговорил секретарь. Развёл руки и попёр ловить пухленькую вдовушку. — О-оо… вы такая-такая…
— Извольте покинуть зал!
Лия на выдохе развернула платье, исполнив силовое уклонение второй раз за утро. «Не-незримо, милое словечко», — пронеслось в сознании. Голос дрогнул от мгновенного смешка, но всем было нетрудно понять, это — ярость, и ноба Донго сдерживается из последних сил.
— Вы позорите службу князя. Передайте мне бумаги и удалитесь!
Белокурый икнул, исключительно комично изобразил страх и суетливое смятение, стал пятиться и кланяться, наткнулся на столик — и совершенно случайно свалил кувшин вина. Рассчитать всё так, чтобы оказался безнадёжно испачкан наряд Могуро, было почти немыслимо: барон отшатнулся, да и стоял он неблизко. Но секретарь справился! Когда в падении он умудрился порвать кружево рукава нобы Илисы, самой нудной и неуёмней из жалобщиц столицы, Лия преисполнилась горячей благодарности. И от души порадовалась: беспутный родич князя если и будет изгнан со службы, наверняка уцелеет. Сегодня лучшее решение для достойных людей — опала.
— Уточню: я лишь принимаю прошения и проверяю, все ли верно по форме, таковы обязанности первой нобы протокола, — негромко выговорила Лия, когда стража под локти вывела секретаря, а слуги протёрли пол и убрали кувшин. — Приношу извинения за недопустимое происшествие. Виновный понесёт наказание. Приношу извинения еще раз, сегодня я лично приму прошения, отчасти нарушая протокол.
— Вынужден откланяться, — скрип зубов барона Могуро слышал, наверное, весь дворец.
— Чу-чудовищно, — дрожащим голосом выдавила ноба-склочница и умчалась, комкая рукав и пряча рваное кружево.
Лионэла с поклоном проводила обоих. Не было причин сомневаться, что к обеду весь двор заполнится слухами о чуде: Илиса способна ограничиться в разговоре одним словом! Лия величаво прошествовала и замерла у секретера с гербами княжеского дома на правых дверцах ящиков и вензелями канцлера — на левых. Первый проситель с поклоном протянул бумаги. Говорил быстро, нервно: случай с Могуро всех вывел из равновесия. Значит, белокурый секретарь смог отыграть у Альвира куда больше времени, чем даже надеялась Лия. Она отвечала просителям сухо, давая ощутить натянутость в разговоре. Бумаги с невероятной скоростью раскладывались по ящичкам.
Башенные часы на главной городской площади отсчитали четверть после одиннадцати, когда кивок Лии пригласил последнего из просителей.
— При вас нет бумаг? — нахмурилась Лионэла. Чуть помолчала и решила-таки отбросить сухой тон и приободрить и без того смущенного юного ноба. — Я помню вас, граф Тан хэш Гост. Вы отказались от кровной родни и приняли, как родовое имя, название дворца, отданного вам багряным бесом. Желаете отменить столь резкое решение? — Лионэла взглянула на дверь, убеждаясь, что прочие просители покинули зал. — Ваш дядюшка трижды о том просил. Князь благоволит ему.
— Никогда, — юноша прямо глянул на Лию. — Пять лет назад меня изгнали из дома хэша Оро, был громкий скандал… вы знаете, да? В городе вмиг не осталось никого, готового выслушать меня. Но я случайно узнал… Я пришёл спросить вас прямо: может ли ваш знакомый Клог хэш Ул быть тем же человеком, которому я обязан жизнью? Я думал, если прийти сюда, вы не сможете не выслушать вопрос, даже заданный мною.
— Кто вам посоветовал нынешний день для вопроса? Бес? — удивилась Лия.
— Альвир? Нет, он по весне неразговорчив. Хотя он добр и иногда даёт мне дельные советы, — с вызовом произнёс Тан. — И он не лжёт. Я бы услышал.
— Не лгать — ещё не значит… — Лия оборвала себя. — Давайте попробуем разобраться в основном вопросе, кто бы ни был упомянут при этом. Сколько вам лет? Отчего вы не пытались искать место и дело, годные для вас?
— Почти восемнадцать. Я каждый месяц стучу в ворота хэша Лофра, но мне ни разу не открывали, — на щеках Тана проявился пятнистый румянец. — Пробовал говорить с хэшем Хэйдом, мы прежде были знакомы. Подавал прошение канцлеру, искал встречи с…
— Довольно. Мне понятны их мотивы. Когда некто упрямо ломится во все двери, он выглядит безумцем и его стараются не замечать, сберегая покой и репутацию. И еще за его спиной ищут… хозяина. Вы так легко говорите о своём общении с бесом Альвиром! Осознаёте, что всякий в столице уже года три, не менее, числит вас его человеком?
— Да, мы дружим. Я бываю в его саду, мы вместе сажаем розы. Мы часто болтаем о том — о сем, — румянец на лице Тана сменился бледностью. — Нас связывает именно дружба, я не… не его человек, это даже звучит ужасно.
— Болтаете с ним, как со мною теперь? — повела бровью Лия.
— Почти. То есть… тут приём, а там мы свободно говорим. Иногда он угощает меня фруктами. Или я его — водой. Он предпочитает родниковую, из горных ключей. Понимаете, он…
— Не понимаю, но ладно же. Граф, еще вопрос. Он хотя бы раз гостил у вас в особняке?
— Нет. Ему не нравится покидать свой парк. А я…
— А вы наивнее моего Сэна, — вздохнула Лионэла. — Что же тут поделаешь. Вас сочли и коварным, и продажным… а вы всего лишь ребёнок. Граф, вы готовы пригласить меня в гости?
— Да, — осторожно выдохнул Тан. — Конечно. Собственно, я и надеялся…
— Превосходно. Я выберу время и буду знать, что меня ждут, даже если вас нет во дворце. Так? — Лия проследила смущённый кивок. — Мы без протокольных рамок поговорим о Клоге хэш Уле. Есть всего два условия. Вы не приглашаете во дворец беса и вы не передаёте ему ни слова из нашего разговора. Он спросит о подробностях. Можете честно ответить, что я выслушала вас, но вы пришли без бумаг. Условия ясны? Даёте слово чести?
— Да, — смутился Тан. — Я могу надеяться, что вы воспользуетесь приглашением?
— Если переживу нынешний день, — едва слышно шепнула Лия. — Идите, граф. Кажется, вы переволновались, так решительно напросившись на приём. Княжеский двор вам внове?
— Да. То есть…
— Не сутультесь. Не опускайте подбородок. Не позволяйте выводить себя из равновесия. Весь дворец — кривое зеркало, а вы верите тому, что вам показывают. Это опасно. Еще опаснее показывать дворцу себя настоящего. Если я не смогу навестить вас, я позабочусь открыть для вас хотя бы одну дверь в столице. Идите. Сейчас совершенно нет времени на большее, нежели обещания. Прошу простить.
Тан поклонился, резковато развернулся и почти побежал к дверям. Вероятно, решил в уединении обдумать беседу, — понадеялась Лия. Она подозвала слугу и двух стражей сопровождения, запечатала ящик с бумагами на имя канцлера, велела передать секретарю этого всевластного человека. По протоколу отнести обязан второй секретарь, но, увы, он изгнан. Сама Лия взяла второй запечатанный ящичек и двинулась, ускоряя шаги, в малый каминный зал князя. Бумаги на его имя обязан отнести первый секретарь. Отчего он не вернулся? Не встретил Сэна… или же ему кто-то посоветовал не спешить?
Снова пришлось ждать, пока глашатай перечислит титулы. На сей раз тихо, скороговоркой: князь только-только позавтракал. Он, вероятно, дремлет, потягивает горячее вино или выслушивает свежие сплетни от доверенных нобов. Значит, в зале немало людей, и кое-кто чернит Сэна, наверняка. В окружении князя алых не жалуют.
Лия миновала тёмный коридор, шагнула в широко распахнутые двери и чуть не уронила ящичек. Князь сидел у камина один. На подносе поблёскивали два бокала и полный кувшин вина. Лия мельком огляделась: даже слуг нет… только старая борзая дремлет, уложив лапы вплотную к каминной решётке и сунувшись носом в тёплую золу.
За спиной с тихим стуком сошлись створки дверей.
— Лионэла хэш… хэш тебя знает, кто, — князь шевельнул пальцами, указывая на кувшин. — Южное сладкое, мой излюбленный год. Всё понимаю о нем. Сорт, склон, кем прислано. Даже почти уверен в том, зачем прислано. Приятно ощущать уверенность. Хочешь отведать?
Лия поставила ящичек и чуть поклонилась.
— Со всем уважением… Почту за честь, ваше сиятельство.
— Полагаю, вино великолепно. Но день горчит, да-да. Ну и натворил мой… кто же он? Сын родни по линии покойной сестры. Кровь не вода, но это переходит границы.
— Он еще молод. Возможно, стоит прибегнуть к беседе и разобрать подробности его долгов, — предложила Лия, с растущим беспокойством ожидая продолжения странного разговора.
Князь не мог упомянуть о родословной белокурого секретаря и происхождении вина, не имея в виду происхождение самой Лии!
— Ноба полной безупречности, самая забавная куколка двора, — покривился князь. — Ранг и обязанности — так, пустота… они не могут дать и кроху власти! Даже я не усмотрел ничего опасного, а? Выбрал куклу по личику, по умению подать платье и походку. Проверил, герб без цвета. Связей, дохода и земель нет. У твоей матери лживый язык торговки. Сколь многие за ней увивались в юности, но кто… преуспел? Два покойника молчат. Третий из возможных твоих отцов, живой, — Хэйд. Он и торговку обманет, не только меня, старого. Да вас бы всех по-тихому…
Князь навалился локтем на подушки, обернулся и долго щурился через плечо. Он был похож на старого, облезлого хищника, чьи зубы сточены, когти обломаны, мышцы дряблы… но жить ему хочется сильнее и острее, чем юным. Из страха. Из ревности. Из упрямства.
— Я верно служу вашей светлости, — поклонилась Лия.
— Откуда у тебя в крови золото? — прошипел князь. — Выскочка… в три года прибрала к рукам двор. Тасуешь просителей, расставляешь людей при градоправителе, уже и провинции к рукам прибираешь! Ничтожная игрушка протокола, вздумавшая стать фигурой. Твоя мать по весне клялась, что без ошибки указала очередное имя твоего очередного дохлого батюшки. Угадаешь? А, не важно… матушка тебе не союзник, ты же вздумала перечить и Тэйтам тоже, — усмехнулся князь. — Зарвалась.
— Порою так больно понимать, сколь велика сила ложных обвинений и сплетен, — Лионэла установила ящичек на подобающее место и обернулась к князю. — Я удалюсь из дворца по вашему первому слову. Мой муж будет вам благодарен за мою опалу.
— Муж, — гадко улыбнулся князь, — должен быть благодарен за наследника, но ты не расстаралась. — Что, недосуг? Семь лет… иной раз я думаю: в день свадьбы мальчишку пырнули ножом не туда, куда мне донесли. Вполне в стиле Рэкста шутка. Вполне… и даже с избытком. Если ты золото, наследник мог бы обладать полной кровью. Но бес не допустил. Багряный умел, умел… наперёд и без ошибки.
Князь помолчал, откинулся в кресле и прикрыл глаза. Вроде даже — задремал. Вероятно, он был огорчён отсутствием раздражения у «куклы» при столь грубых намёках и подначках. Зря. Показать слабость — уже поражение. Лионэла с безмятежной полуулыбкой ждала продолжения беседы. Хотя было больно. Очень! И нельзя прервать молчание, и нельзя испросить разрешения удалиться. Отыгранное время утекает… необратимо.
Малый колокол пробно звякнул. Присоединился второй, третий. Проснулся главный — и над крышами поплыло слитное сложное гудение полуденного перезвона.
— Завтра решу, нужна ли мне такая игрушка, как ты, — дослушав двенадцатый удар, сообщил князь. — Знаешь, чем замечательно вино с юга? Молодит. С третьей женой я пил ровно такое. Теперь предложил тебе. Но рановато, да-да… до полудня.
Боль проколола сердце! Захотелось закусить губу, но Лия стерпела. Продолжила дышать, беречь иллюзию спокойного внимания на старательно подкрашенном лице куклы. Она и была куклой на ниточках, а кукловод-князь наслаждался властью, не дозволяя сделать хоть шаг.
— Смею испросить дозволения на вопрос. Вы полагаете, бес способен… служить? — вежливо удивилась Лия. И заподозрила, что на новую фразу не хватит дыхания. Всхлип вот-вот заткнёт горло…
Третья жена князя упала с лошади и сломала шею. Несчастье приключилось в безлюдном лесу близ замка баронов Могуро. Довольно просто было вызнать подробности о том случае. И место, и причина смерти верны, тайной для всех остался лишь порядок событий: княгиня упала с коня уже со сломанной шеей.
Лия старалась дышать ровно, перемогая затянувшуюся, многозначительную паузу.
— Рэкст? Он не служил, да-да, — князь склонился вперёд, намекая на доверительность беседы. — Я боялся его. Он зверь, дикий зверь. Такого чем ни корми, вовек не прикормишь. Новый бес иной. Пока не нашлось подле него нужного лица, чтобы вписать меня в лист смерти, так что мы временно равны. И обоюдно пришли к идее союзничества. Вот и глянем, что за польза расцветёт. Покуда он делает мне милые подарочки. Вытяжки на травах, я от них молодею.
— Кто обещает долгую жизнь и молодость, приносит лишь смерть, — всё же Лия справилась с голосом! — Как первая ноба протокола, я позволила себе вспомнить слова багряного беса, сказанные им вашему прадеду и сбережённые в летописи.
— Как ты смеешь? — князь оскалился и тотчас убрал ярость.
— Со всем уважением, — Лия смотрела вниз.
Она сохраняла лицо приветливым, исполненным покоя. Ни намёка на боль! Любой ценой надо быть спокойной… Пока что плата невелика: довольно наступить под платьем себе же на пальцы ноги и переместить спазм с души — на тело.
— Убирайся.
— Приятного дня, — Лионэла поклонилась, отвернулась и ровным шагом направилась прочь. С прямой спиной.
Коридор. Где можно сгинуть так, чтобы не давил протокол? Годна крайняя правая дверь, если поблизости нет людей князя… Хорошо, в галерее пусто. Можно спешить, срываясь в неловкий бег, едва посильный в тяжеленном платье.
Лия торопливо шагала мимо стрельчатых окон с видом на парк, мимо цветов в кадках и бархатных портьер, способных спрятать слишком многое. Она умерила шаг, вслушалась в звуки из малой бальной залы… Снова тишина! Свободен путь в старый зимний сад.
Сад удобен, здесь днём обыкновенно никого нет. Выбрав широкую аллею вдали от стеклянной стены с видом на парк, Лия углубилась в сад и добралась до зарослей кустарника, похожего на шиповник и доставленного откуда-то с востока, с гор. Цветёт почти без запаха, зато неустанно, от весны и до заморозков.
Пальцы дрожат… Плохо. Нельзя давать волю всему, что мешает трезво мыслить и действовать. Надо нащупать спрятанный под бантом на спине хвостик шнура. Дёрнуть и тянуть, тянуть… Вот уже можно дышать свободнее. Лионэла отвела руки назад и вцепилась в края расшнурованного «оконца» в юбке. Рывком развела в стороны упругий многослойный корсетный пояс. Сжала зубы и выпрыгнула из юбки в одно движение, сползла по ней, способной держать осанку и не крениться без человека внутри. «Протокольное чудище», так звал юбку Сэн. И сейчас предстояло без помощи слуг задвинуть чудовище в заросли. Или не тратить время? Отмахнувшись, Лия сделала два шага и упала на низкую скамью. В глазах — ночь без звёзд…
Знала ли она, что князь заигрался, что он давно обманул и предал себя самого? Еще бы! У князя долги, его последней любовнице нет и восемнадцати, это неумная мстительная дрянь с капризами и запросами. Старческий страх утраты власти сгубил всех глупых наследников князя и рассеял по миру умных…
Лия понимала, едва получив титул «безупречности», что рано или поздно князь предложит ей выпить южного вина. Но ведь не предложил до сих пор, не было ему дано такой возможности! Не зря велись разговоры, перемещались нужные люди, готовились…
— Что бес подмешал в вино? — проглотив ком страха, шепнула Лия. — Какую сделку выторговал? Хотя это вполне ясно: дозволение убивать. И, нет сомнений, не один человек под ударом, обсуждалось много имён тех, кто немил князю. Сэн!
Лия вскочила и помчалась через сад, более не заботясь о протоколе и прочих мелочах. Да, под ненавистную юбку она давно надевает кожаные штаны со шнуровкой — подарок Чиа. Кто мог бы подумать, что тихоня-лань в несколько лет так изменится? Что именно её будет смертно, до икоты, бояться барон Могуро, изгнанный из своего же замка. Не иначе, сегодня барон приходил искать помощи. То ли у князя, то ли у первой нобы протокола, которую много раз видели вместе с Чиа. Так может, стоило выслушать? Может, белокурый родич князя не о благе нобы Донго заботился, выставляя барона вон?.. Лия споткнулась об эту догадку. Всхлипнула, вцепившись в складку портьеры — и побежала дальше.
Два гвардейца в синем с золотом парадно замерли у богато украшенной арки. Тут — незримая граница владений князя. Лия миновала арку и огляделась. На стороне канцлера стоят два гвардейца в алом с белой отделкой, оба — незнакомые. Получив конверт, Сэн должен был отослать сюда доверенного человека. Хотя стоило ли надеяться на секретаря? Этот — новый, и кому он служит, сам бес не скажет.
Из-за портьеры показался слуга с крупным медальоном распорядителя. Вопросительно вздел бровь, выказав недоумение по поводу неподобающего вида нобы протокола.
— Смею спросить, прибыл ли третий канцлер, — шепнула Лия, вплотную подходя к портьере. — Возникла сложность с одним прошением.
— Возможно ли узнать имя просителя? — слуга смотрел мимо собеседницы.
— Барон Могуро. Старший.
— Возможно, вы застанете графа возле конюшен, — чуть подумав, предположил слуга и пропал за портьерой.
Дверь не скрипнула и не стукнула, но Лия не усомнилась: слуга уже удалился с докладом. Значит, Дорн скоро объявится у конюшен или наоборот, будет оттуда отозван. Этот слуга так стар, что помнит отца Дорна. Он цепной пёс, готовый рвать всякого, явившегося с княжеской стороны. Многое, очень многое неявное на половине канцлера двигает именно он. Мнительный, скрытный… и утверждающий всюду и всегда: его кровь пуста, нет ни капли дара золота или синевы. Ему не с чего ненавидеть интриганов и крючкотворов, сам он — не таков…
Лия вздохнула. Верно ли она выбрала имя, намекая на спешку? Поздно об этом думать. Надо спешить и надеяться… И Лия бежала, уже не стараясь угадать планов беса и не веря, что успеет хоть что-то исправить. Тьма в сознании густела, густела… до непроглядности.
Вот и конюшни. Засыпанная крупным искристо-белым песком площадка перед воротами пуста. Ярко выделяется свежий участок: здесь недавно удалили след крови… Лия с разбега сползла на колени, ударилась раскрытыми ладонями — и ощутила мелкие иглы белых крупиц, впившиеся в кожу.
— Почему?
Утром первым делом она отправила мужу письмо, что означало: не затевать ссор и немедленно найти Дорна! Только так. Пока эти двое рядом, оба они — неуязвимы, ведь они прикрывают друг другу спину… Лия отправила письмо и поверила, что с мужем все будет хорошо. И верила весь этот протокольный день, вопреки тьме в душе и боли под лопаткой.
По дощатому полу конюшни застучали копыта.
— Сэн ни с чего затеял ссору со знакомым стражем. Твоя идея? Тот всего лишь подал кувшин вина. Не отравленного, у меня нюх, — Дорн появился в воротах. Он вёл в поводу коня… и не глядел в глаза. — Хотя в целом неспокойно. С утра я учуял зелень. Бесовский яд! Я искал источник… понимаешь, только я и Чиа способны выявить эту гадость. Я не мог поставить под удар всех и вся. С чего Сэн полез драться? И как он мог умчаться, не дав пояснений?
Лия оттолкнула песок, всё мощнее притягивающий руки. Не песок — болото… как из такого подняться? Семь лет в столице отучили полагаться на слуг, секретарей, союзников, полезных людей. А равно и на врагов тех, кто и тебе враг… Но утром казалось, что гнусный закон выживания содержит одно надежное исключение: друзей!
Шаг, еще шаг. Песок до того вязкий, что и в туфлях без каблука ноги норовят подвернуться.
— Я должна была понять, третий канцлер. Ваш единственный друг — Клог хэш Ул. Мой Сэн в свою очередь друг Ула, а вам он… приятель. Непрямая связь обосновывает ваш выбор в пользу… всех и вся.
Сердце прокололо острее прежнего, и теперь не удалось сохранить лицо безразличным.
— Лия, — выдохнул Дорн, настороженно хмурясь. — Сегодня день беса. Так сказал Сэн. Он сомневался, все ли ладно в «Алом льве». Я…
— Вы правы, хэш Боув. Вы обязаны находиться здесь. Я была обязана находиться в зале приёмов и позже посетить князя. Таков протокол. Альвир об этом и говорил утром.
Для знатной нобы немыслимо ехать по столице верхом, в охотничьих штанах, в мужском седле… тем более в протокольный день, имея временный девятый ранг. Лия заняла седло и быстрым движением разобрала поводья.
— Я принесу плащ. Подожди, выведу второго коня, — крикнул Дорн вслед скачущему галопом рыжему.
Лия покидала площадку перед конюшнями, не оборачиваясь, и при этом мысленно она видела лицо Дорна, до мелочей. Вот оно на миг стало мальчишески-обиженным, исказилось болью… но тень пробежала и сгинула, и на лицо вернулся покой. Взгляд блеснул хищно-сосредоточенно. У третьего канцлера много дел, ему некогда терзаться и сомневаться. Сегодня — «день беса».
Копыта гулко прогрохотали под сводом широкой арки. Конь вырвался на площадь перед дворцовыми воротами, вскинулся на дыбы, неохотно покидая привычный для вестовых путь — и помчался узкими улочками, замусоренными дворами… Кратчайший ход к подворью хэша Лофра годен лишь для исключительных случаев. Срезку однажды показал Шельма, любимый ученик матушки Улы. Тогда его назойливая болтовня выглядела похвальбой бывшего вора. Он так и говорил: любая погоня не достанет, если забыть о правилах, понуждать коня к прыжкам через ограды и безжалостно мять придомные цветники горожан. Еще Шель учил, что каменные стены садиков невысоки, но жалеть коня нельзя. Хлыст и шпоры! Тут или выжил — или добрый… Лия хлестнула концом повода по конскому боку. Рыжий взвился над стеной, грохнул копытами по плиткам дворика, смял цветник и взметнулся в новом прыжке. Стена дворика — широкая, по верху можно гулять — мелькнула и осталась позади, блеснув оскалом битого стекла, загнанного в стыки камней по гребню. Чуть ниже прыжок — и брюхо коня было бы распорото!
— Хлыст и шпоры, — шепнула Лия.
Копыта грохнули, отметив звуком очередной прыжок. Конь под алой с белым попоной устало галопировал по узкой улочке, норовя сбавить ход и спотыкаясь на влажных, осклизлых булыжниках. Справа мелькнуло белое от страха лицо, слева размазался по стене мужичонка с перекошенным в крике ртом… Конь притёрся к стене в изгибе улочки, боль ожгла ногу, почти раздавленную о камни слепого, без окон, дома… По щеке покатилась слезинка. Лия моргнула, проглотила крик — и увидела впереди перекрёсток. Тот самый, нужный. Вон углом торчит стена постоялого двора хэша Лофра. Еще три рывка, и стали видны ворота. Распахнуты настежь! На мостовой неподвижно скорчились люди — все в тёмном, неброском. Кровь еще свежая. Тел много, страшно даже считать их.
Во дворе Лофра хрипит и бесится конь в ало-белой гвардейской попоне, без седока…
Отдельно от прочих еще один человек лежит во дворе хэша Лофра. Ничком, ногами к улице. Возле правой руки — клинок. Лица пока не видно, длинные волосы растрёпаны.
— Сэн, — выговорили непослушные губы.
Сознание против воли собирало неопровержимые доказательства того, что непосильно и невозможно. Цвет волос, неизменная за все время знакомства причёска, шнурок с надтреснутой бусиной — память по отцу… И куртка. Утром Лия сама выбрала её. Мягкую, удобную для занятий с оружием. По спине два шва и сбоку от каждого светлая узкая лента, продетая ровными стежками.
— Сэн, — отказываясь верить, Лия сползла из седла.
Вдруг ощутив себя совершенно беспомощной, она просто звала мужа — ведь всегда, со дня знакомства, было достаточно позвать, чтобы худшее развеялось! Она и теперь знала, и она верила, пусть и полагала такую подспудную веру смешной.
Пришлось вцепиться в стремя: улица поплыла перед глазами, заслоилась. Вот толчками приблизился, делаясь крупнее с каждым морганием, огромный Омаса. Присел на колени у тела… того самого тела. Сделал знак, и появились двое с носилками. Сам Омаса поднял фамильный клинок семьи Донго на ладонях, с уважением.
— Заходи. Ворота надобно прикрыть, — не глядя на Лию, выдавил он, бывший первый ученик, а ныне наставник боя и правая рука хэша Лофра.
Лия переступила на подламывающихся ногах. И еще. И снова. Улица норовила подвернуться и лечь на бок. Приходилось очень стараться, чтобы удержать её ровной. Чтобы ещё раз толкнуть себя вперёд. «Сейчас бы ненавистную юбку… В ней упасть невозможно», — зачем-то пронеслось в сознании.
Стукнули створки ворот. Сделалось удобно опереться о них спиной и сползти… закрыть глаза, позволить вязкой тьме сомкнуться и утопить.
— Выпей же ж, отпустит, — резко велели, дёргая вверх и взваливая на плечо, чтобы то ли нести, то ли тащить. — Ну же ж!
— Шель? Скажи, кто ещё… — договаривать не хотелось.
— Отраву влили в воду, чтоб в обед… всех. Кто же ж знал, что Монз её всякий день пробует, воду-то? Только я знал, как поймал его на таком деле! Я ж уговорился, чтоб через день пробовать, — вздохнул бывший вор. — Вот же ж вилы! В его день.
— А те, у ворот?
— Наёмники. Не алый я, куда же мне ж? Моргнуть не успел, как твой поклал их! Малышню спас. Днём же ж при воротах трётся пацанье сопливое. День же ж! Эх, ёж…
Шельма стукнул себя кулаком по боку и побрёл через двор — тихо, жутко подвывая. Лия переставляла непослушные ноги или волокла их… не важно. Она висела на плече у Шельмы. У человека, который не был другом Сэну и должником или союзником ей. Всё же с ним посильно делать шаг за шагом, приближаясь к окончательному и однозначному ответу на вопрос, который безмерно страшен.
Крыльцо. Лия заставила себя осмотреться. Отметила, что этот вход ведёт в комнаты матушки Улы.
— Я сама, — выговорила Лия и оттолкнулась от надёжного плеча.
Прилипла к стене, норовя спрятать лицо.
«Я сама»? Семь лет назад она тщательно и очень спокойно выбирала мужа. В то лето в Тосэне еще до полудня ей неизменно доставляли хоть пару букетов и еще несколько красиво упакованных мелочей, сопровождаемых записками. Обычно там были стихи — знакомые красивые и бездарные свои. Мать забирала «улов», просматривала и принималась, вызвав управляющего, перебирать родословные юношей по памяти и с помощью книг. Мать проверяла, велик ли доход претендента и позволяет ли его положение в семье стать наследником и укрепить статус жены.
А потом появился Сэн. Нет, не любовь с первого взгляда! Иное: головокружительное ощущение свободы. С ним не было смысла притворяться. С ним нельзя было притворяться! Он слышал правду и говорил правду. Так нелепо, наивно. Так… невероятно. Второй после Ула человек в её жизни, способный дарить тепло: не обменивать, не отмерять, не обеспечивать — дарить без оглядки и расчёта. Она предала память друга детства, позволив себе согреться в этом тепле? Или не смогла убрать руку, однажды вложенную в ладонь Сэна… «Алые невыносимо скучны, особенно сильнейшие из них. Раз выбрав, не умеют понять, что время меняет и людей, и отношения», — сетовала мать, отрицая невыгодный брак.
— Я сама, — повторила Лия.
Когда бросает от стены к стене, даже широкий коридор тесен. Хорошо хоть, Шель не слушает глупости, поддерживает под локоть. Что она может сама? Выйти замуж, чтобы стать свободной — и возле постели раненного в день свадьбы мужа понять, что нет никакого расчёта. Есть лишь запоздалое чувство вины и сокрушительное отчаяние: зачем ей свобода, если рядом — Сэн? И как это — дышать и жить без него…
Что изменилось за семь лет? Чувство вины отяжелело до неподъёмности.
— Сэн, — ещё раз позвала Лия.
Резко стёрла слезу, недоуменно отметила: пальцам тепло… глянула на руку — кровь. Не иначе, во время скачки по лицу задела ветка. Когда? Где? В памяти так пусто… окончательно.
Шель забежал вперёд и толкнул дверь, помог переступить порог. Придержал за плечи, довёл, усадил на край кровати. Метнулся к окну, перебирать склянки с каплями. Сразу запахло остро и пряно, глаза заслезились сильнее.
— Я не впадаю в шок, не спеши, — заверила Лия, и голос звучал ровно.
Почти веря в сказанное, она выпрямила спину и осмотрелась. Кивнула, наконец заметив матушку Улу — на низеньком стульчике у изголовья, неподвижную, с прикрытыми глазами.
Пальцы лекарки лежат на запястье Сэна… и кажется, что всё хорошо, муж спит и вот-вот очнётся. И Монз спит на диване у стены. А что лица у обоих бледнее снега, так это свет неудачно падает.
Лия протянула неподъёмно тяжёлую руку и коснулась щеки мужа. Она никогда не отворачивалась от ответов. Даже таких. Под пальцами — ледяная кожа. Упругая, совершенно гладкая. Кто из предков этой нелепой алой семьи додумался бриться фамильным ножом, парным к сабле с гербом Донго? Кто придумал занятную сказочку, будто сталь ещё горячей купалась в крови дракона? Не важно. «Он режет лишь врагов», — смеялся Сэн.
— Не каменная ведь ты, деточка, — плечи согрелись под рукой Улы. Травница села рядом. — Шока нет… да глянула бы на себя со стороны, в чем душа держится! Вот так головушку положи. Глазки прикрой. А нет у нас великой-то беды. Монзу смерть назначена ещё прежним бесом. Так пусть новый плачет, что я на семь лет судьбу обманула, отодвинула. Монз сам-то себя беречь и прежде не умел, не желал… Сколько смертей сегодня отвел! Ох и подло: детишек мёртвою водою опаивать, чтоб меня, никчёмную, заодно с ними упокоить. Меня да Лофра моего.
— Мёртвой водой?
Губы двигались сами по себе. Жевали пресный, пустой вопрос. Пили из переданной Шелем чашки горькое и крепкое, не кривясь. Сознание вяло усмехалось: вот ещё сказочка деревенская! О живой воде да о мёртвой. В одной польза, в другой — погибель.
— Уцелела склянка, хоть бы бес не прознал, — в тусклом, надтреснутом голосе Улы наметилось лукавство. — Нет в мире ничего негодного. Всякий яд, деточка, ещё и лекарство. Если умеючи. Я освою и в пользу приведу, вот при Монзе обещаю.
Душа Лии рванулась пойманной птицей — больно, судорожно. И за что ей это: подлость золотого дара, дающего трезво мыслить, когда рядом лежит Сэн. Холодный…
— А муж твой… — вздохнула в самое ухо Ула, — коли встретишь Рэкста, которого всякий день врагом семьи зовёшь, поблагодари. Чем бы ни намазали нож, ранивший Сэна семь лет назад, яд был из худших. Что бы бес ни назвал противоядием к тому яду, а только это был опять же яд. Я скажу так: полный яд. Сколько лет минуло, по сю пору не иссяк вред. Дитя у вас нет, вот как трудно перемогается. Я много раз думала: зачем так? Теперь знаю: не пересилить яда багряного беса никак, даже и мёртвою водою. Сэна во дворце опоили, а он и сюда домчался, и детишек спас, успел. — Ула крепче прижала к плечу дёрнувшуюся голову Лии и вдохнула в ухо: — К ночи он согреется, задышит. Ты покуда тихонько думай, кому о том можно знать, а кому нет.
Капли, приготовленные Шелем, огнём потекли по жилам, выгнали пот. Лия сморгнула слезинку и снова покосилась на тело старого Монза. Кем он был ей? Частью семьи. Как проводить его без слез, согласившись со словами Улы, сказанными только для преодоления непосильной боли, неискренними… Семь лет, отвоёванных у смерти? Много. И ужасно, непоправимо мало. Травнице больно, но она взваливает на себя чужую боль, словно ей — посильно.
— Тебе надобно поесть, — Ула встала и покачнулась. Сразу рядом вырос Шель, подставил плечо. — Отдохни.
— Сами бы отдохнули.
— Вот же ж! — горячо поддержал Шель.
— А Лофр? — встрепенулась Лия.
— Муж покуда занят. Князя батюшку поехал поблагодарить за милость, — напевно сообщила Ула. — Помнит о нас, в уме держит всякий день. Высокая честь.
Лия ощутила, как губы растягивает кривая ухмылка. Она бы никогда не позволила себе подобной, никогда и нигде. Разве вот — в доме Улы. Где Сэн с его дичайшей прямотой не кажется странным. Где несомненное подвергается сомнению: Рэкст что, не отравил Сэна а… спас? Наделил меткой, так подобное именуется в записях Монза. Уточнить бы хоть что про бесову метку, вот только у кого?
По коридору прошелестели шаги. Чуть прихрамывающие, неширокие, уверенные. Лия движением ладони согнала с лица настоящие мысли, оставив лишь покой.
— Хэш Хэйд, — поклонилась она двери, приоткрытой на два пальца. — Изволите рвать волосы или ограничитесь скорбным вздохом, советник?
Хэйд протиснулся в расширенную щель, быстро осмотрелся и выбрал кресло в углу. Сел, глядя в пол и сосредоточенно постукивая большим пальцами сплетённых в замок рук.
— Это я не отпустил третьего канцлера из дворца, если вам угодно услышать и принять сказанное. Я же сдвинул беду на нынешнее утро, отослав через ненадёжного человека некое сообщение, чтобы его перехватил бес. Я ошибся, полагая, что князь не станет жертвовать алым нобом со слухом чести всего лишь из пустой ревности. Не о том думаете, не надо так делать бровью. Ему больно видеть золото крови, не разменянное на монеты, вот в чем ревность… — Хэйд поднял взгляд, и далось ему это непросто. — Если вам станет легче, отомстите мне.
Лия нахмурилась в полнейшем недоумении, всмотрелась, не веря себе. Неужели советник способен искренне страдать? Глаза его неподдельно красны, и руки дрожат, и…
— Мы с Монзом знакомы с тех пор, когда он отзывался на имя Ан. Когда я был юношей, бескорыстно меня защищал лишь отец Сэна. Позже мы со старшим Боувом боролись в столице рука об руку Лофру я обязан жизнью, как и Улу. Получается, сегодня я истратил на интригу всех своих друзей, нынешних и бывших. Я отныне нищий… Мне побираться, и то поздно, советникам подают золото и власть, а вовсе не руку для пожатия.
— Кого вы не упомянули? — задумалась Лия, почти веря в раскаяние и от души сочувствуя боли и одиночеству. — Погодите, поняла! Тот юноша, Тан. Именно вы могли назвать ему имя Ула. Разве он тоже часть игры? Он сущий ребёнок.
— Я бы душу продал, чтобы получить доступ к библиотеке и дневникам багряного беса, — поморщившись, признал Хэйд. — Душу! А только другие вновь платят за меня. Монз и Сэн… так несправедливо.
— А просто сходить в гости к мальчику — никак? — Лия не поверила своим ушам.
— За эти годы пробовали гостить у него десятки людей — моих, князя, Альвира, — покривился Хэйд, снова глядя в пол. — Этого ты пока не знала, но «метка Рэкста» — не пустая игра слов. От ворот его дворца каждый шаг к особняку усиливает… давление. Люди сходят с ума, не добравшись до первых деревьев. Вдобавок мальчик не прост. Он нелюдим, его слух чести искажён пережитым в детстве унижением и повторным позором, незаслуженно и публично причинённым ему семьёй Оро. Каюсь, мой недосмотр… так или иначе, получив дворец, новоявленный граф Гост никого не приглашал в гости горячо, от души. Никого, кроме Альвира, но бесу в дом иного беса дороги нет. А Монз и Сэн… Надеюсь, я не доживу до возвращения Ула и не окажусь вынужден объяснять ему свои способы ведения дел. Я намерен покинуть столицу.
Сказанное прозвучало так буднично, что на сей раз Лия поверила в каждое слово. Взломанной коркой льда осыпались сомнения в искренности дружбы Дорна. Из тумана недомолвок Хэйда собрались яркие звёздочки росы — настоящего смысла его решений. Холодных. И порождающих слезы для самого же Хэйда.
— Я и семь лет назад не верила в счастье для всех и для каждого. Я — золото, такие как я обречены выбирать свою правду и задним числом узнавать, какова её цена. Очень больно, — вздрогнула Лия. — Здесь и сейчас мы впервые поняли друг друга. Хэш Хэйд, я прошу вас покинуть столицу и вывезти за её переделы Сэна, не беспокоя его тело хотя бы до полуночи. Я требую, чтобы вы направились на запад и встретили посольство первым, до того, как в игру встрянут Тэйты и, тем более, племянник князя. Я обещаю, что укроюсь от тягот опалы во дворце беса Рэкста. К утру вы поймёте, насколько нам важны его дневники. И каким умолчанием я только что вам… отомстила.
Лия хлопнула в ладоши, дождалась явления вездесущего Шельмы, приказала заложить карету и бережно перенести туда Сэна. А еще испросить у Омасы людей в сопровождение.
Скоро Хэйд молча забрался в карету и сгорбился на подушках напротив Сэна, которого полагал до сих пор — мёртвым. Когда карета покинула двор, Лия спиной ощутила тёплый и грустный взгляд матушки Улы. Сама подошла и уткнулась в плечо.
— Страшная в столице жизнь, деточка, — пожаловалась Ула. — Мой-то муж через Сэна переступил, не нагнулся даже… Я было в крик, а тем криком и подавилась. Не время для слез. Ему-то как больно, я ведь и не удумала враз, только погодя в ум вошло. Как был, сам в крови и топор без чехла, так и помчался. Сердце себе порвал… Деток беречь надобно теперь, а не после. И ты не останешься на похороны Монза, вижу. Не майся виной. Я все исполню, как следует.
— А живая вода где запропала? — упрекнула весь мир Лия, греясь щекой о матушкино плечо.
— Деточка, покуда с тебя довольно слез. Уж научись плакать, важное умение, — посоветовала Ула. — Я велела заложить двуколку. Шель тебя отвезёт, не спорь.
Пришлось через силу и с болью отрываться от тёплого плеча и шаг за шагом уходить в одиночество многолюдного города… Уже покидая двор под мерный перебор копыт упряжного конька, Лия расслышала суматоху приближающегося галопа.
Дорн осадил скакуна и слепо уставился на ворота «Алого льва». Глянуть на Лию ему было, пожалуй, непосильно.
— Прости, я много глупого наговорила, — жестом убедив Шеля остановить коня, Лия поклонилась Дорну. — Я знаю, кто для тебя Сэн. Знаю, что такое служба и ответственность. Все, что может наладиться, постепенно наладится. Я временно спрячусь в тихом месте, и там меня не получится проведать.
— Я столкнулся с Лофром, он… он сказал… — судорога исказила лицо Дорна.
— Ты гораздо светлее и ярче меня. Однажды у тебя получится стать лекарем, — было мучительно видеть отчаяние в глазах Дорна и не опровергать новость о смерти Сэна прямо теперь. — Помнишь, по моему недосмотру сгорел твой дом? Чиа оказалась на грани жизни и смерти… Но ты не сказал мне ни единой гадости. Сейчас я в очень похожем положении, но я повела себя гадко.
— Очень похожем? — Дорн прищурился, глаза полыхнули мгновенной алостью.
Третий канцлер рывком вздыбил коня, развернул и погнал прочь. Лия смотрела вслед — опустошённая, обескровленная этим бесконечным днём беса.
Лия буравила взглядом спину Дорна и думала: «Ты тоже бес, и это становится все заметнее. Ты умеешь жить с камнем собственных решений на шее. Правда тяжела, она и вина, и боль, и несовместимый с миром идеал, который всякий бес втискивает в реальность, оплачивая своей и чужой кровью… Но ты справляешься. А мне не страшна правда, пока есть Сэн. Только так».
Пусть беса. Никакой жалости
— Папа!
— Мы не родня по крови.
— Пап, я помню. Сказку хочу.
— Не знаю сказок.
— Знаешь. Всё знаешь, всё можешь. — В голосе отчётливо ощущалось ехидство, но пока смех не пробивался сквозь фальшиво-капризный тон. — Только не сбежать. Я такая, нельзя сбежать. Никак нельзя. Хочу сказку. Хочу!
— А я хочу есть, — вервр перешёл на раздражённо-шипящий говор. — Хочу мяса, много. Хочу в лес, чуять дикий ветер. Что мы делаем в городе? Ну? Ана, я спросил серьёзно.
— Смотрим, как люди живут, — понятно, что губы надуты и вот-вот в ход будут пущены слезы. — Я захотела, и мы смотрим.
— Так смотри! — прорычал вервр, рывком надвинул на слепые глаза войлочную шляпу, плотнее укутался в кофту и сделал вид, что спит. Даже повозился, удобнее пристраиваясь спиной к стене. — Сказку ей!
Нос Аны зашмыгал опасно часто и глубоко. Вервр притих, хотя и знал: на сей раз обошлось, Ана притворяется, настоящих слез нет. Так же и сам вервр притворяется, но не сердится. В конце концов, — утешил себя Ан, — для выращивания ему достался не худший ребёнок. Девочка здоровая, не плаксивая, не привередливая. Спит, где придётся, хоть бы и под открытым небом. Ест, что предложат. Слушается в серьёзных вопросах. Скоро семь лет, как она на попечении, а прибить или удушить хотелось от силы раза три… это если всерьёз.
— Пап, какой тут город?
— Корф. Я не кровный родич твоей семье.
— Знаю, тятя-пама. Корф — он большой?
— Смотря с чем сравнивать. Прекрати припоминать то дурацкое прозвище. Тебе, если по-настоящему считать, лет восемь. Взрослая девочка, можно сказать.
— И? С чем сравнивать? А то я помню все твои прозвища.
— В этом мире он средний и вдобавок молодой, — сдался вервр. — Столицы иных княжеств гораздо крупнее и старше. Здесь всего три десятка домов из тёсанного крупными блоками камня и совсем нет княжьего замка с крепостной стеной. Лишь пять зданий построены более трёх веков назад, в том числе их дряхлый маяк. Кроме как в центре, нет мощённых булыжником улиц. Постоялые дворы довольно бедны. Знати мало, а кто есть, те гостят наездами, чтобы забрать деньги. Затем они возвращаются в их старую столицу. Торговля последнее время неплоха, южане освоили морской путь мимо мыса Эдар, так они плывут не вокруг континента, а по срезке, хотя воды опасные и скалы в шторм… скалятся. Но люди всегда не умели учиться на чужих ошибках, да и на своих тоже. Одни тонут, другие лезут на освободившееся место. Две сотни лет назад лихой князь перенёс сюда столицу. Все были против, он погиб. Но и такой ценой всех переупрямил… Хотя позже столицу опять перенесли. Если б я вздумал делать деньги на землях или домах, прикупал бы у берега много чего впрок. Довольна?
— Нет. Хочу сказку.
— Жил-был старый-старый вервр, он любил крольчатину и покой. От голода и раздражения он делался таков, что страшно в сказке рассказывать. Ел сырьём болтливых девочек.
— Ан!
— Хотя бы по имени, — зевнул вервр.
— Почему у тебя имя, как у меня, если мы не родные?
— Я унаследовал имя от одного щедрого старика. Он недавно умер, я… странно, но я учуял и мне было больно. То есть, получается, имя настоящее и совсем моё. Тебе выбрал имя мой враг. А похожи наши имена, потому что случай такой. Случай… он шутит, как угодно мерзавцу Клогу, покуда я хожу под казнью. Но после придёт мой черед шутить.
— Ничего не поняла. А почему…
В жерле улицы зашуршали шаги, загудели голоса. Ана притихла и забилась под бок вервра. Оттуда рассматривать окружающее ей казалось куда уютнее.
В приморский город девочка напрашивалась давно, еще с минувшей осени. Собственно, как раз за зиму и выяснилось, сколь весомо упрямство крохи Аны, если она добивается чего-то всерьёз. Когда стало теплее, вервр сдался и побрёл по бесконечной дороге вдоль реки Тосы, которая на равнинах жиреет и с приближением к морю обзаводится рукавами, заводями… Дорога то прижималась к берегу, то уходила далеко в леса, а ниже по течению — в степи, чтобы снова вильнуть и вернуться к воде. Весна спешила навстречу, и потому путь оказался вдвойне приятен. Вервр с наслаждением глотал воздух, насквозь пропитанный ароматами цветения и полный гомоном птиц.
Вервр солгал бы себе, сказав, что не любит странствовать налегке. Он солгал бы и того пуще, если бы взялся утверждать, что ему не нравится жизнь без забот и долгов, пусть цена ей — слепота да дыра в кармане, презрительные взгляды да отсутствие свиты. Но вервр предпочитал не лгать себе. И потому он обычно молчал. Вот разве пребывание в городе сделало его слегка сварливым.
Шума стало больше: шагающие от порта люди приблизились, и вервр втянул носом запахи и настроения, зевнул, отсылая неслышный убогим людским ушам звук и собирая полную картину впечатлений. Повода для беспокойства не было никакого. Всего лишь моряки. Немного пьяные, похоже, они не так давно на берегу и не задержатся в городе. Гомонят, торопятся развлечься, себя показать и кулаки почесать.
— Не подадут на обед, точно, — шепнула в рукав практичная Ана, пряча лицо.
— Могу отнять, — зевнул вервр, затевая обычную игру.
— Нет! Ты не такой.
— Не могу? — бровь удивлённо переломилась.
— Не станешь. Пожалуйста. Буду звать по имени весь день, пап. Не рычи, а?
Вервр кивнул и еще ниже надвинул войлочную шляпу. Ана хихикнула и потёрлась щекой о плечо, гордая своей победой в несуществующем споре.
Моряки брели мимо, волны разносортного перегара чередовались с запахами чеснока и пота, острой солонины и гниловатой затхлости. Вервр шевелил ноздрями, любопытствуя. Он уже понял, что корабль дальний торговый, что груз — пряности с юга и попутно взятый улов рыбы, а еще склянки с духами на мускусе и розовом масле…
— Не дитя, глиста, — вдруг рявкнул рыхлый здоровяк, шагающий в последней группе и пахнущий похмельем крепче прочих. — Гля: у нищего в рукаве завелася глиста!
Сказав гадость, которую сам он полагал смешной, здоровяк заржал, колыхая полное выпивкой брюхо и похлопывая его, ненасытное. Топот ног замедлился, новые и новые люди останавливались и уделяли внимание причине шума. Ана пискнула, уткнулась лицом в подмышку вервра, нашёптывая ему одному — мол, пусть их, пошумят и уйдут, не рычи.
— Немочь, — с отвращением отметил сосед здоровяка. — Нищий её, пожалуй, голодом морит, для жалостливости. Сам-то вишь: справный, в теле.
— Проучить бы, — оживился кто-то в задних рядах.
Шаркающие шаги надвинулись ближе, ближе… Вервр улыбнулся, понимая, что вот-вот сможет сбросить вызванное городом раздражение, вмять в пьяные хари, виновные уже тем, что зрячи и наглы, что принадлежат людишкам, что…
— Я видела всё, боцман Нат, — тонкий голосок зазвенел настоящей сталью, в несколько слов вспорол полотнище шума. Стало совсем тихо, когда тот же голос продолжил: — Я видела и слышала, Нат.
Вервр шире раздул ноздри и напрягся, превращаясь целиком во внимание. Он не мог видеть, но и без того знал, что пьяные расступаются, виновато топчутся, ковыряют взглядами мостовую. Что вперёд многие руки пихают боцмана — кругленького коротышку, который пробовал улизнуть с площади и не заметить ничего особенного в поведении своих людей. И те же руки уже несколько раз чувствительно двинули в спину здоровяка, обозвавшего Ану. Он бычится, озирается — а поддержки нет, ни от кого нет.
— Нома, а мы-то что, мы ничего. Мы это… мимо шли, — примирительно сообщил боцман.
Он торопливо порылся в кошеле и добыл монету, еще одну. По звуку судя — серебро. Монетки оказались протянуты Ане, при этом боцман нагнулся и сладко, даже приторно, лыбился всем скудным набором зубов. Вервр досадливо фыркнул: пахнет изо рта, помеха в опознании. Он сейчас был заинтересован совсем в ином человеке. В Номе.
Эта Нома подросток, вроде бы ей лет двенадцать. Тощая. Одета бедно — украшения не звенят и не шуршат. Башмаки на тонкой, потёртой подошве. Кожа пахнет молодостью и лекарственными травами. Но все же молодостью сильнее, иногда у людей бывает такой вот очень личный и крайне притягательный запах. Особенно у тех, кто способен исцелять. Вервр ещё раз принюхался и убрал с лица кривоватую усмешку готовности к бою.
— Девочку знобит, — непререкаемо постановила Нома, села рядом и протянула к Ане ладонь, приглашая подать руку. Прощупала пульс. — Вы напугали её, пьяные олухи. Забудьте дорогу к моему дому, и не подумаю шить ваши дурацкие раны, полученные в дурацких драках. Вы того не стоите.
— Номочка, душечка, — ужаснулся боцман, столбенея в неудобной, сгорбленной позе. Он все ещё держал зажатые меж пальцев монеты, которые Ана не желала замечать. — Да мы же ж… Да я его, подлюку, самого измором — в глиста! Да он света не увидит, так и сдохнет в трюме, выродок. Дитя обидел. Да я бы и так бы… Да мы бы…
— Пошли вон, — строго велела Нома. Вздохнула и нехотя добавила: — Когда отплытие?
— Послезавтрева, — проблеяли из задних рядов.
— Зайдёшь утром за травами, а то у вас в один год зубов для драки не останется, — усмехнулась Нома. Еще раз проверила пульс Аны. Тронула кончиками пальцев щеку вервра. Потянула шляпу выше, к затылку. — Так. Оказывается, вы налетели всей бандой на слепого.
— Да мы же…
— Герои ночной пустой улицы, — отмахнулась Нома. — Сказано вам, пошли прочь.
Шаги множества ног стали удаляться торопливо, крадучись. Скоро площадь опустела. Нома вздохнула, подобрала монеты, намеренно оброненные боцманом.
— Идёмте, я хотя бы накормлю вас ужином, — велела она, не предполагая возражений.
— Ноба сокрушительно добра и столь же сокрушительно бедна, — прошелестел вервр, удивляясь, откуда вдруг в тоне прорезались нотки графа Рэкста. — Дозволено ли нам узнать, из какого рода вы происходите? Белая ветвь, определённо. Редкий и яркий дар.
— Вы полны загадок, незнакомец, — в голосе девочки скользнул холодок. — Даже ваша слепота не слепа. Номару Има хэш Дейн хэш Токт. Столь длинное имя что-то вам говорит?
— Две белые ветви, и обе исчахли, — шепнул вервр. — Значит, вы та самая Нома и вам сейчас двенадцать. Вы выжили. Только вы? Мне… мне жаль. Хотя я сам удивлён, что сказал подобное. Простите.
Ан поморщился, припоминая, кто именно из свиты графа Рэкста приложил руку к гибели последнего мужчины рода Токт и как это произошло. Вроде бы лет десять назад? И ещё был отправлен в Корф проклинатель, изнанка белого дара. Сам вызвался, и без особых подначек, лишь из своей ненасытной зависти тьмы — к свету… Убийцы порой люто ненавидят тех, кто умеет продлевать жизнь. Парадокс, не имеющий объяснения, но так все и устроено в людской природе. Будто законы разумного выживания сообщества вывернулись наизнанку, и теперь нацелены на удушение лучшего и выживание вопреки собственной же мерзости.
В чем был интерес графа Рэкста и почему он не мешал изводить род нобов, которых ни разу не видел и не чуял издали? Ему, пожалуй, было безразлично. А еще это укладывалось в новейшие замыслы королевы: нет белой ветви — не родятся и дети полной крови. Да, в памяти крепко сидит приказ, данный палачу-рэксту: изводить по мере сил белую и золотую ветви. И еще помнится с какой-то отстранённой брезгливостью: он был исполнительным рабом. Даже усердным.
— Я очень удивлён, — еще раз шепнул бывший граф Рэкст и не стал ничего уточнять вслух.
— Еще бы вы не удивились, наговорив невесть чего и не представившись, — натянуто рассмеялась Нома. Встала, подала раскрытую ладонь Ане и подмигнула ей. — Пошли, угощу крапивным супом. Он вкусный, честное слово. Хотя такое блюдо редко подают у нобов, да и сезон не тот, весна уходит, крапива прёт в цвет. Знаешь, как сложно найти годную для супа? Я охочусь за ней по всему парку. Но в нынешнем году весна припозднилась. Можно сказать, из-за холодов вам повезло с супом.
— Папа тоже охотник, — сообщила Ана, вцепляясь в предложенную руку и широко улыбаясь. — Только не по крапиве, по кроликам. Ужас как жаль их. Ну, когда я сытая.
— Знаешь, в тебе чуется кровь. Пожалуй, ты бы могла лечить. Твой папа ноб? Скажи ему, что в воспитании девочки нельзя так мало внимания уделять манерам, — посоветовала Нома. — Идёмте, вот сюда и прямо по улице, все время прямо и вниз, к морю. По берегу есть пустые дома в рыбачьих деревнях, вам стоило бы наладить жизнь, осесть и…
— Мы не хотим осесть! — Ана громко оборвала череду благих пожеланий. — Мы ходим, куда угодно. Мы такие. Нам хорошо. У нас есть дом, да! Дом деда Ясы. К зиме навестим, будет весело. Другой дом не нужен. Ни-за-что!
— Вы что, позволяете ей любые вольности? — удивилась Нома, остановилась и дождалась поотставшего вервра. Когда он нагнал, Нома цепко схватила его запястье и устроила ладонь у себя на плече. Отчего-то при этом её рука дрогнула, коснувшись зоны пульса. Замерла, а затем резко отдернулась. — Вы слепы, не стоит усложнять себе выбор пути нелепыми церемониями. И… и я спросила о воспитании.
— Не умею воспитывать детей. Не умею и не желаю, — оскалился вервр, удивляясь своей внезапной, острой злости. — Я обязан лишь вырастить. Это всё.
— Вы опекун? — без удивления уточнила Нома.
— Он — мой раститель, — дёргая руку провожатой, хихикнула Ана.
— Прошу прощения за вторжение в личное. Пожалуй, я накормлю вас супом и этим ограничусь, — сухо отметила Нома. — Вы почти разозлили меня отказом назвать имя и ветвь дара.
— Я Ана, он — Ан, — сразу отозвалась Ана. — Почему все говорят про ветки? Какие ветки? Я люблю вишнёвые, и чтоб много клея. Он вкусный.
— Я бы просила вас не шуметь в моем доме, — суше, напряжённей выговорила Нома. — Мы пройдём прямо на кухню. Вот сюда, прошу.
Вервр пискнул летучей мышью, рисуя для себя понимание тихой улицы, заросшей травой. Вот он, забор обширной усадьбы — уже тянется справа. Когда-то ограда была роскошной, с высокими столбами, белокаменным фундаментом и пролётами чугунной ковки. Вся эта красота давно в руинах, остатки прутьев тут и там скалятся гнилыми клыками, всаженными на всю длину в массу дикой зелени. Крапива кое-где выше роста людского, шиповник изошёл на шипы и забыл о розах. Через парк, ставший лесом, петляет одна-единственная тропа, она ловко уворачивается от ям, гниющих древесных стволов, валунов, развалин построек непонятного уже назначения — и упрямо стремится к домику в стороне от главного особняка.
— Тут уютно, — промурлыкал вервр, вдыхая запах леса. — Даже есть кролики.
— Это мои кролики, я не позволю ловить их, — вскинулась Нома, но сразу же взяла себя в руки. — Простите. С чего бы вам ловить их. Я, кажется, несколько раздражена сегодня. Идёмте. Берегите руки, крапива.
Вервр скользнул в парк, вздохнул глубоко, радуясь удалению от города — тесного, душного, населённого помоечными людишками с помойными мыслишками. Ан крался по мягкой траве и уже находил день удачным… когда тропа, будто бы насторожившись, юркнула за толстый дубовый ствол — и сразу под прямым углом пересекла дорогу, намятую колёсами и конскими копытами. Вервр принюхался, с подозрением обернувшись к главному зданию усадьбы.
— Там живут? — прямо спросила Ана, привставая на цыпочки.
— Да. Не шуми, — скороговоркой велела Нома и перебежала дорогу.
У низкого, в одну ступеньку, крыльца домика, к которому и вела тропка, Ному ждали. Прямо в траве сидела старуха, баюкая руку с гнойным нарывом. Рядом лежал, закинув руки за голову, очередной моряк. Чуть в стороне переминался ноб, все более смущаясь столь жалкого соседства. Золото украшений шуршало на его шее и левом запястье. Нобский конь был совершенно доволен тенистым парком и особенно — изобилием нестриженной сочной травы.
— Подождите, — велела Нома.
Она скользнула в домик, сразу вернулась и вынесла корзинку, отдала вскочившему моряку, приняла несколько серебряных монет и ссыпала в карман. Добыв склянку, Нома передала её нобу и смахнула туда же, в карман, взятый у него золотой. Попрощавшись с двумя посетителями, Нома довольно долго возилась, снимала повязку и чистила гной на руке старухи. Закончив с этим, сделала новую перевязку. Когда ушла последняя больная, маленькая ноба жестом пригласила Ану в свой покосившийся, пахнущий сыростью дом.
Крапивный суп оказался вчерашним, холодным и, вдобавок, без мяса. Вервр ел, старательно изгоняя с лица гримасу отвращения к такому обеду. Ещё сложнее было сохранять контроль за ушами и не двигать ими, когда совсем рядом, за стеной, копошились в норе жирные непуганые кролики… Но вервр терпел, недоумевая и задаваясь вопросом к себе самому: собственно, а почему он терпит? Отчаянно злит, что нищая ноба посмела жалеть его и опекать Ану! И, того хуже, защищать.
Вервр едва мог двигать челюстями, сведёнными судорогой: его выворачивало наизнанку от смеха предательницы Аны! Только что дочкой называлась, а теперь вон — отвернулась, готова слушать сказку случайной знакомой и даже… — вервр тихо зарычал — хлопать в ладоши. Определённо: до чего же противен дом, пахнущий ядовитой серой плесенью.
От особняка стали приближаться уверенные шаги. Вервр принюхался: парк пересекает мужчина, довольно молодой, но весь скисший внутри. Он идёт уверенно, хозяйски, и несёт нарыв сплошного раздражения, чтобы вскрыть его здесь и гной излить — здесь. Только к лечению все это не имеет отношения, ничуть… Ан подумал и пересел к стене, за дверь, пока что закрытую.
Хлипкая дверь распахнулась резко, и вервру пришлось подставить ладонь, чтобы не пострадать. Гость, мнящий себя хозяином, замер на пороге, он как раз теперь охотился, но не на крапиву или кроликов, а на Ному.
— Где деньги? Сколько сегодня? — презрительно процедил мужчина. — Опять прикармливаешь нищих и трясёшь с них вшей?
— Вот деньги, — тихо выговорила Нома, сунула руку в карман и протянула горсть монет на открытой ладони. — Извольте покинуть дом, у меня гости. Им не следует видеть вас в таком безобразном состоянии. Это внутренние дела семьи.
— А ты сгинь отсюда насовсем вместе с приблудными гостями. Или тебе нравится смотреть на меня в таком безобразном состоянии? — мужчина рыгнул, чуть подумал и сплюнул на пол.
Вервр поднялся, рыча едва слышно на низких, неразличимых человеку нотах, которые тем не менее для людского слуха — неразбавленная жуть. Вервр отвёл дверь, обошёл её и бережно приобнял гостя за шею, дёрнувшуюся и мигом вспотевшую.
— Вы вошли в дом, куда я приглашён в гости, и не представились, малоуважаемый ноб, — внятно шепнул вервр.
— Ан, не надо, — пискнула Ана. — Он извинится. Он успеет… ещё.
— Он ударил меня дверью, я требую удовлетворения, — широко, хищно улыбнулся вервр, наконец-то найдя… кролика.
— Вы назойливый гость, — вроде бы оговорила Нома, хотя голос ее предал, отчётливо выражая невольное удовольствие от происходящего. — Я не допускаю склок в своём доме.
— А мы выйдем, кроликов посчитаем, — улыбаясь шире, с показом зубов, пообещал вервр. Принюхался и добавил: — Только вот незадача. Он же безродь. Я чую таких сразу: бесцветная гнилая безродь.
— Он мой опекун и советник градоправителя, — с некоторым нажимом сообщила Нома. Передёрнула плечами. — Не трогайте моих кроликов! Хотя… Что я говорю? Это же бессмыслица.
— Кроликов, так и быть, не трону. Ограничусь людишками. Вашими, — вервр крепче сжал ладонь на шее жертвы. — Особняк ты приглядел под портовые склады, а? Я чую хватких. Твоя порода — енот. Отмываешь все, что в ручки ляжет. Мелкий, жалкий зверёк, а все ж зубастый.
— Он же нищий, — пискнул опекун и повис в воздухе, царапая носками башмаков по полу. — Не ноб, не ноб!
— Клог хэш Ул, к вашим услугам, — вервр с наслаждением опозорил врага, воруя его имя для сомнительного дела. — Болотный ноб княжества Мийро и последний, с кем вы общаетесь при жизни.
— Папа… — шёпотом отчаялась Ана.
— Выбор оружия за вами, — жмурясь и получая все больше удовольствия от происходящего, продолжал вервр. — Лук, копьё, сабля? Голые руки, может быть? Или же голые ноги?
— Прекратите! — громко приказала Нома.
— Лук, — трус сразу уцепился за поданную хитрым вервром соломину.
— Сколько стрел? — не унялся вервр, предвкушая отличный вечер.
— Три, — с разгону поддержал опекун. Обернулся к Номе и заорал, срываясь от истеричного страха и столь же жалкого желания убить противника, пусть и обманом: — Бегом в дом, за оружием! Не то выпорю! Он оскорбил меня и сдохнет ещё до заката!
— Да-да-да, — пробормотал вервр, наслаждаясь игрой на человечьих нервах.
Очень скоро он ощутил давно забытое, но оттого ещё более сладкое, состояние хозяина жизни человечишки — жалкого, как кукла, и глупого ещё более куклы.
Всё стало просто восхитительно, едва в руки вервра лёг лук. Опекун Номы дёргался вправо-влево, взглядом самого жалкого из кроликов отслеживал наконечник стрелы. Третьей по счету: две вервр уже выпустил, очень ровно укоротив мочки ушей жертвы.
— На глазах у детей, — верещал опекун, вдруг вспомнив, что у некоторых могут иметься совесть и принципы. — Без причины, в чужой стране… Вас будут искать всегда, слышите, хэш? А Нома окажется соучастницей. А ваша девочка с голоду помрёт под забором, а… А-ааа!
— Как безродному доверили опеку? — вслух подумал вервр, чуть ослабив тетиву, чтобы снова её натянуть до характерного скрипа, пугающего жертву.
— Не под склады, под городское имение семьи Довс. Они желали обязательно с гербом и историей, в подарок старшему сыну. На совершеннолетие, — скороговоркой пискнул «кролик». — Кто же думал, что выгнать девчонку так сложно? Третий год… А-аа… Не надо, уважаемый хэш. Не надо, прошу!
— Передай Довсам моё нижайшее почтение. Уточни своими словами, что я всегда попадаю, куда надо. И ночью, и при боковом ветре, и даже без лука, — доверительно пообещал вервр. — Прими к сведению, я учую твой страх и тем более твою жадность даже из-за моря. Войдёшь ещё хоть раз в черту ограды усадьбы, издохнешь. Не сразу. Может, я истрачу месяц, два, три, чтобы попасть, куда надо. Обычно я бью в сердце, если уважаю врага. И в живот, если очень зол. Как опекун добросердечной сверх меры белой лекарки ты проживёшь даже после выстрела в живот долго, очень долго… и несчастливо.
— Немедленно прекратите это грязное издевательство! — Звенящим, гневным шёпотом приказала Нома… и встала между стрелком и дичью.
— Вот поэтому я не трачу себя на спасение благородных дур, о белая Нома, — усмехнулся вервр. — Вас следует спасать исключительно от вас же самих. Вы не приемлете грязные игры? Так что с того, если игры приемлют вас, перетирают в пыль и выхаркивают, выблёвывают, выдавливают. Ненавижу род людской! — вервр рычал, тяжело дыша и скалясь открыто, яростно. — Ненавижу.
— Прошу вас немедленно покинуть мой дом, — ломким, готовым сорваться в слезы голосом, велела Нома и указала тонкой рукой в парк, в сторону ворот.
— Ещё больше, чем род людской, я ненавижу выродков, заражённых неизлечимым благородством, — продолжал рычать вервр. Он отбросил лук и толчком пальцев метнул стрелу в ствол. Наконечник вонзился полностью, следом ушло на ширину двух пальцев древко… Над самой травой, в полуладони от кроличьего уха. — К лешим вежливость! Ты три года живёшь тут, как раба. У тебя на спине след кнута, я чую. Твой дом пропах слезами и болью. Что, нравится ходить битой? Это, по-твоему, гордость: никого не просить и не унижаться до борьбы, нечестной, но успешной? Подожди ещё пару зим, и он продаст тебя, как племенную кобылу, первому охочему жеребцу. Или сам попользует и вышвырнет, напоследок опозорив и тебя, и род Токт. Это всё — лучше, чем несколько мгновений неприглядных для тебя унижений слабого урода сильным… уродом?
— Убирайтесь вон! — теперь Нома кричала в голос.
Вервр быстро прошёл к порогу, вздёрнул на плечо притихшую Ану, каменную от очередного «папиного» способа вести дела. Напоследок вервр обернулся и ещё раз принюхался к страху жертвы.
— Всё сказанное в силе, — подтвердил он, и слова вползли лишь в те уши, коим были предназначены. — Если она заплачет, ты заплатишь.
Сумерки ещё не легли загаром на кожу, а город уже остался позади. Ана понемногу приходила в себя, ворочалась на плече. Наконец, села удобнее, вцепилась в ухо, вроде бы норовя его выкрутить.
— Ан, страшно. Не делай так.
— Со мной ты слишком быстро взрослеешь, — задумался вервр. — Враг Клог при добрющей мамке остался наивным слюнтяем, даже став палачом. Если подумать, он тоже под казнью ходит, я враг ему и могу быть рад… даже должен. Только мне надоело думать о нем, Ана. Он далеко, ты здесь. Что делать, у нас с тобой на двоих одна казнь: быть вместе до совершеннолетия. Твоего. Терпи.
— Жалко, — шмыгнула носом Ана. Стёрла первую слезинку и всхлипнула громче.
— Мне обычно никого не жаль. Так бывает лучше, всем. Видишь, какая беда от моей жалости. Теперь видишь?
— Тебя жалко, — часто вздрагивая, Ана сползла с плеча и прильнула к груди, слушая медленное сердце вервра. — Больно, да? Очень больно?
— Нет.
— Врун. Врун, совсем врун!
Вервр тяжело вздохнул, стряхнул с плеч кофту и закутал Ану. Понёс дальше, баюкая и ощущая всю её боль, треплющую тело и душу. Детям проще — они умеют плакать и избывать свою боль, — думал вервр. И ощущал себя слишком старым. И слез нет, и сама боль давно выгорела… ведь боль тоже конечна. Почти.
— Жили-были вервры из народа нэйя, в первом облике люди, во втором лебеди, — тихо и напевно выговорил вервр. — Такая редкость, они действительно все и по доброй воле выбирали вторую природу — лебединую. Особенные… может, они и не вервры? Может, и не третьего царства… Они были тонкокостны, легки и улыбчивы. Они любили один раз и всегда смотрели на того, кого избрали. Они умели летать так грациозно и гордо… как никто иной. Никто во всех мирах. Вполне понятно, что люди без крыльев не простили им ни верности, ни полёта, ни красоты души. Люди стали изводить одного из пары. Им нравилось смотреть, как второй от одиночества камнем падает, камнем на землю и всегда — насмерть… А один старый вервр, он совсем не умел летать, никогда, от рождения… и он уже тогда был старый. Так вот, он взял за шкирку людей и вышвырнул из прекрасного мира, где они были родные, в ужасный мир, где им пришлось выживать и вымирать, навсегда оставаясь чужаками. Люди убоялись и назвали вервра всемогущим, и стали ему поклоняться, как богу. Дарить золото и всегда, всегда изображать его на иконах с роскошными белыми крыльями лебедя. Льстивые ублюдки.
— А нэйя? — пропустив мимо ушей всё худшее, уточнила Ана. — Они жили долго и счастливо?
— Никто из смертных не найдёт их мир. Потому что даже старый вервр запретил себе помнить, как туда попасть. Выставил двенадцать уровней защиты и ушёл. Они сказали: убирайся вон. Ты бескрылый… или просто бес.
— Она сильно похожа на нэйя?
— Я же слепой, забыла? — возмутился вервр.
— Значит, сильно. Не помню, чтобы ты так злился даже на меня, — задумчиво вздохнула Ана и завозилась, устраиваясь удобнее и собираясь спать прямо так, на руках. — Вообще-то эта Нома ничего, даже милая. Только готовит ужасно. Пап, а зря ты говорил, что сказки не умеешь плести. Врун. Пойдём на север?
— Позже. Хочу за море. Там жарко, вместо кроликов суслики. Они по вкусу… никакие. Но там родина человека, чьё имя я унаследовал. Старик Ан с годами стал немножко нэйя. Или он был такой от рождения? Дурак с высокими идеалами… И он, вот беда, не успел сказать мне «пошёл вон».
Путь Ула. Белые и пушистые
Знания о рисовании Ул выменял вслепую. Он не усомнился сразу и не жалел позже. Он сделал шаг к мечте, когда выслушал наставления Мастера О касательно перспективы, и после многих проб и ошибок наконец перенёс на плоский лист несколько фигур, расположенных на разном расстоянии! Получилось соразмерно, и душа вздрогнула парусом, уловившим ветер… развернулась, затрепетала в предвкушении.
Однажды он добудет из памяти золотое лето: село, перелесок и пыльную дорогу, с ними вместе вкус детства, улыбку окрыляющего счастья. Он сможет воссоздать прикосновение прозрачных пальцев Лии, сказочной девочки, что сумела раскрасить целый мир… Однажды — Ул широко улыбнулся очередной раз, и дыхание опять сбилось — он станет всемогущ. Настолько умопомрачительно и безмерно, что через рисунок поделится теплом, подарит свет души.
— Слушать! — просьба, похожая на приказ, развеяла туман мечтаний.
— Я слушаю, — вежливо кивнул Ул. — Я дал обещание и исполняю его.
— Слушать, — повторил провожатый.
Он принялся в десятый раз излагать то, что Ул почти вызубрил и сейчас, слушая снова, старался не заснуть, стравливал зевоту в кулак. От дремоты удерживало лишь почтение к Мастеру О. Увы, едва соразмерность фигур на листе устроила Мастера, пришло время расплачиваться за его науку. Для этого надлежало «принять бремя опознания и изучения беды тех, кто обратился за помощью к иерархии бессмертных».
Канцелярские слова Мастер О выговорил мёртвым тоном. Его губы шевелились, а глаза оставались пусты. Он в единый миг сделался исполнителем, принадлежащим своей карте.
— Вы шагнёте в их мир и далее проследуете, куда укажут. Вы исполните то, о чем попросят. — Мастер О смолк. Лицо дрогнуло, во взгляде проявилась душа, а с ней и боль. — Нет выбора. Нет и надежды. Там пропадали взрослые и сильные. Напоследок спрошу: разве стоило брать у меня не оружие или совет, а всего лишь урок рисования?
— Стоило! — Ул и теперь помнил ту свою улыбку, детскую, рот до ушей… И свой глубокий поклон: — Благодарю! Хотите вы или нет, а ведь отныне я ваш ученик. И нет у вас выбора. И знаете, нет у вас надежды от меня избавиться, вот!
Ул выпрямился и рассмеялся. Как можно объяснить, что ты — вот такой… Сам багряный бес счёл тебя недотёпой. Прав: умные знают страх, хитрые ищут обходные тропы, сильные держат в руках оружие. Однако же именно ты — живой враг багряного беса. Редкая честь.
— Или ты дурак, или ценность обмена на сей раз неясна мне самому, — прошептал Мастер О, отвернулся… и осыпался шуршащим песком. Как привыкнуть к такому поведению горгла, бессмерти первого царства? За время урока О трижды рассыпался и возникал, то гневаясь на непонятливость ученика, то разыскивая что-то в недрах своего мира или памяти…
— Слушай!
— Со всем вниманием, — сглотнув зевок, на вдохе выговорил Ул.
Шаг сделан, упорядоченный мир О остался позади.
В новом мире, монотонно зелёном и ухоженном, гостя ждали, расстелив коврик из более густой травы. Ул с первого взгляда ощутил отвращение: тут нечего рисовать! Кругленькое солнышко-монетка, пухленькие облака-подушечки, ровненькая трава. Глазу не за что зацепиться. Вот разве встречающие… Ул икнул и подавился, кое-как откашлялся, смаргивая слезы и отчаянно кося на них, на… обитателей. А как их ещё назвать-то?
Ул прежде беспричинно полагал, что во всех мирах, даже если их очень много, он встретит людей. Или сказочных существ. Или бесов. Но ведь не этих же непрестанно лыбящихся в два зуба единообразных кроликов ростом по плечо? Беленьких, пушистеньких, стоящих столбиками на задних лапах… И почему воротит уже от их вида?
Встречающие первый раз изложили задание. Ул сразу запомнил и сразу насторожился. Не надо иметь слух чести, чтобы осознать наглую ложь! Вернее, отвратительную неправду.
— Мы владеем мирами от этой звезды и далее в пределах оговорённого сектора, — сказал встречающий, истратив полдня на церемонии и поклоны, на цыканье зубами и хруст о рыжую кочерыжку, похожую сразу и на морковку, и на капусту.
Гостю тогда вручили на подносе первую кочерыжку — угощение. И теперь, семь местных дней спустя, Ул стоял на очередной парадной лужайке с очередной кочерыжкой, сжатой в окостеневших пальцах. Увы, он слушал все ту же речь, без единого нового слова.
— Мы обустраиваем здесь родильню, — назидательно сообщил очередной розовоносый и очень важный… кролик. Ул сдался и стал мысленно звать пушистых именно так. — Родильню! Далее по осевому лучу сектора: растильню, учильню. Координаты по системе единого реестра рас: си-суш-си-су…
Ул кивнул и стал терпеть, тиская кочерыжку. Недавно казалось: он умеет слушать без предубеждения. Даже нелюдей. Даже багряного беса! Но кролики вызывали яростное отторжение. Первые же слова плохи, отвратительны.
«Мы владеем…» — и в душе Ула полыхнуло дикое пламеня неприязни. Двузубые рассматривают мир, как имущество. Огромный мир с его закатами и восходами, туманом и перспективой, с реками и радугами, миражами и сказками… Со всем живым и неживым, что помещается под куполом неба. И не может принадлежать! Не может быть монеткой, годной и для хранения в сундуке, и для равнодушного истирания при размене и переходе из рук в руки.
Если бы дома некий князь посмел при алом нобе, вот хоть при друге Сэне, сказать: «Я владею миром»… Ул прикрыл глаза и на всякий случай шепнул очередной раз: «Слушаю!», чтобы кролики не отвлекали от яркой, хоть теперь рисуй её, картины. Вот друг Сэн слушает князя, кончики его волос вспыхивают ослепительно-белыми искрами ярости, а в его взгляде наоборот, смерзается сонный покой. Сэн, полуобернувшись и глядя мимо князя, говорит неизбежное и неизменное при вызове на бой чести: «Весома ли правда в ваших словах?». Сэн слегка кивает, намечая поклон, он же — вызов.
Правда алых не имеет ничего общего с формальными законами сообщества людей, с обычаями или личными обстоятельствами — местью, обидой, защитой друга. Правда алых — это заданный миру вопрос, цена которому известна заранее и неизменна. Цена эта — кровь. Правый сотрёт её с фамильного клинка. Виноватый отдаст вместе с болью и, может статься, жизнью.
— Слушаю, — механически повторил Ул.
Розовоносый провожатый завершил шипеть самое непонятное и нудное — координаты. Что они означают? И не спросить. Ведь заново начнёт всю длиннющую речь, он только на это и способен. Мол, тут у нас родильня, растильня и учильня. И миры наши, они наши во веки вечные, согласно реестру рас. Что хотим, то и делаем с собственностью. То есть делали бы, если бы не «то, что не может быть упомянуто». Эти слова все кролики повторяли с дрожью. И, произнеся их, наощупь добывали из набрюшного кармана кочерыжку, чтобы с визгом источить её зубами, мгновенно и без остатка. Кролики боялись любых угроз. Любых! И при этом мечтали о бесконечном заполнении собою миров, новых и новых… Понять природу такого противоречия Ул не мог. Как и причину благосклонности бессмертной королевы к двузубым тварюшкам.
— У вас есть описание того, не упоминаемого? Где искать, как велико? Умеет ли разговаривать? Оно зверь или вещь? — Ул все же сорвался, задавая вопросы.
Кролик свесил довольно длинные уши по бокам от морды, сморщил носик и выше приподнял верхнюю губу, показав зубы до дёсен.
— Мы владеем мирами от этой звезды…
Ул обречённо закрыл глаза.
— Не стоит их считать неумными. Дело в ином, о наследник, — прошептал рядом живой, сочувствующий голос.
Ул подпрыгнул и обернулся, заранее улыбаясь, благодарно кивая и прижимая к груди руку… то есть кочерыжку. Наконец-то он услышал понятные слова! К тому же сказаны они — глаза подтверждают — существом, очень похожим на человека. Разве кожа зеленоватая и по ней мелкие точечки, как у молодой ивовой коры.
— Второе царство, да? — ещё шире улыбнулся Ул. — Как же там? Вы — альв. Рад знакомству. Я Клог хэш Ул, то есть просто Ул. Я вроде бы наследник атлов и должен исполнить данное мне поручение. Я бы и рад, но я отчаялся понять, что мне поручено! Раз так, я отчаялся исполнить дело.
— Что ж, предоставлю вам новый повод к отчаянию, — альв ответно обозначил улыбку, не оспаривая своей принадлежности к названному виду бесов. — Можете звать меня… Лес. Моё место в иерархии — строитель, такая роль изображается рисунком муравья. Это низший ранг, карты массовые и единообразные у многих подобных мне. Позволю себе сказать, для меня неожиданно то, что вы не скрываете ни принадлежности к четвёртому царству, ни своего истинного имени. И вы согласились на исполнение дела?
— Люблю меняться и торговаться. Ярмарки вообще лучшее в мире место, — потупясь, признал Ул. — Почему они твердят одно и то же десятый раз?
— Ждут оговорённого протоколом ответа. Не получив его, присылают нового контактёра, устранив прежнего, как негодного. Тактика непродуктивная… Поэтому я здесь, — вздохнул Лес, и взгляд его скользнул вниз, спрятался. — Скажите ему: «Я услышал и воспринял».
— Устраняют — это же не… Стоп! Я услышал и воспринял. — Ул проследил за тем, как кролик приседает на задние лапы и замирает в расслабленности. Живой. Исполнивший задание.
— Численность населения данного мира, он отнесён к классу откормочных, составляет пять триллионов особей, — Лес продолжал упрямо буравить взглядом траву у своих ног. — Вы способны осознать число? Не важно. Все они травоядны. Я обязан поддерживать упрощённую экосистему, доводя её эффективность до максимума. До того моя задача состояла в… упрощении экосистемы.
Кожу лица альва смяла судорога, будто почки попытались проклюнуться и снова пропали. Альв смотрел в траву и не поднимал взгляда. По спине Ула сползла холодная капля. Кем бы ни были кролики, они воистину владели миром и уже успели его изуродовать. Кажется, необратимо. Кажется, исполнителем был Лес. Нет сомнений, ему дурно от сделанного.
— Эко… система, да? Я расслышал слово, но не знаю его смысла.
— Природа. Среда обитания, — альв задумался, подбирая слова.
— Тут были горы, реки, болота… и лес. Всё, как я привык? — тихо спросил Ул.
— Да. Потенциал природной кормовой базы в сотни раз ниже нынешнего. Природная база не обеспечивала комфорта для вида в монокультуре и создавала слишком много проблем, от территориальных и до этических.
— Поэтому мир стёрли?
— На первом этапе его упрощали горглы. Затем я, — альв прямо посмотрел на Ула. Взгляд был мертво-спокойным. — Я осуществил задание. Сейчас получил новое: сопроводить вас и дать минимальные пояснения. «То, что не может быть упомянуто», вот главное. Оно скорее всего находится в следующем от звезды мире. Планета, так мы называем мир в целом. Любой отдельный мир с его экосистемой… Та планета — массивная, горячая, сложная. Материковой суши нет, сплошной океан. Не так давно был отправлен запрос на преобразование планеты под кормильню. При попытке упрощения мы, бессмертные иерархии, последовательно потеряли пять исполнителей. Затем были отосланы и потеряны пять стражей, последний в ранге палача, а это одна из высших карт иерархии. Регламент требует немедленно закрыть сектор и объявить звёздную систему опасной для жизни с дальнейшим решением по ней лично от королевы. Но тут вы появились… Идите и решите проблему.
— Что ещё известно? То, не упомянутое, — Ул покосился на кролика, который от страха дёрнулся и чуть не завалился на бок, — оно — живое существо, бес?
— Я дал пояснения. Это всё, — поклонился альв.
— Стражи — они были бесы? Все пять? И палач… ух ты.
— Мы называем себе подобных бессмертными, допустимы и заимствования из речи смертных ряда миров — майя и маана, — ровным тоном выговорил Лес. — Слово «бес» даже в этом наречии звучит чужеродно и оскорбительно. Просим вас соблюдать правила приличия. — Лес очнулся и, чуть помолчав, продолжил обычным своим голосом: — Я провожу до места. От себя скажу вот что. Мы не знаем о той планете и её угрозах почти ничего. Нет сведений. Никто не вернулся. Не получилось и исследовать издали.
— Погоди. Дай мне время, вот столечко, — отмахнулся Ул.
Он сел, где стоял, добыл из кармана сложенный вчетверо лист, взятый про запас у Мастера О. Примерился острым грифелем, там же полученным в подарок, — и вывел узор кленового листа. Еще и еще, пока не образовалась сложная рамка — словно кто-то смотрит на мир из-под ресниц кленовой опушки… В лиственную рамку Ул вписал дорожку, в два штриха обозначил горб дальнего холма. Быстрыми движениями сгрудил чёрточки и галочки, удивляясь тому, как перспектива помогает сделать настоящий лес из ничего… Ведь щётка-щёткой, а смотрится именно лесом. Прежде он вырисовывал каждое деревце, всякий листик, и Монз кряхтел: мол, у тебя за деревьями леса не видать. Монз знал о перспективе, просто не успел отдать этого знания, торопливо обучая более насущному.
— Подарок, — втиснув лист в безвольную ладонь альва, Ул запрокинул голову и снизу заглянул в глаза провожатого. Сейчас он был уверен: когда-то глаза у этого альва были густо-зелёные, но постепенно вылиняли до серости. И сама душа тоже вылиняла. — Только тебе. Можно? От меня тебе, никому больше. Никакой там иерархии. Это просто листок, Лес.
Альв расправил лист и долго смотрел на рисунок пустым, холодным взглядом.
— Бесполезная, плоская ученическая работа без отпечатка дара подлинного мастера, — послушно повторили за кем-то губы альва, вынося решение. Затем улыбнулись живее. Альв сморгнул, и на дне глаз затеплилась осторожная, едва различимая зелень. — Благодарю.
Ул встал, по привычке стряхнул с колен травинки, хотя ни одна не прилипла. Если глянуть вниз, то ни одна даже не помята. Щётка зелени выпрямилась без следа… За время разговора она подросла на ширину ладони, ничего себе скорость!
Альв жестом пригласил следовать за собой. Передумал, дотронулся твёрдыми прохладными пальцами до плеча — и тошнота вывернула мир! Выбила опору из-под ног Ула, отравила лёгкие ядом сплошного буро-рыжего облака. Только рука альва на плече осталась прежней, прохладной и твёрдой. Падение сквозь тугое мерзкое облако длилось и длилось, альв чуть щурился и шевелил свободной рукой, вроде бы что-то скручивая и округляя.
Облако лопнуло, выпустило падающих из своего брюха — и внизу нарисовался бушующий вспененный кисель то ли воды, то ли масла! Из недр буро-багряного океана выпрыгнул и закачался на волнах шар сталистых корней. Разросся, уплотнился… Именно в этот шар Ул и врезался с разгона. Охнул, снова глотнул ядовитого воздуха. Перекатился на живот, сел, шало встряхнулся.
Альв стоял рядом, такой же спокойный, как в прежнем упрощённом мире, под упрощённым небом с единообразными облаками.
— Лист с рисунком я оставлю себе. Лично, — сказал он, не глядя на спутника. — Этот остров из растений дарю тебе. Лично. Прощай.
— А ты добряк, Лес, благодарю! — щурясь от смеха, прокричал Ул.
На том месте, где только что стоял альв, разгибались корневища, похожие на змей. Провожатый сгинул… Но остров, созданный им в единый миг, остался плавать в мутном киселе неупрощённого и неукрощённого мира, где обитало нечто, способное испугать не только кроликов.
Ул лёг, перекатился на спину и расслабился. Наслаждение — смотреть в бурливое, косматое, непрестанно меняющееся небо. Столько цветов и форм! Да ещё и островок прыгает в волнах, как поплавок. Это мир — праздник, особенно после зелёного луга без края, луга, годного только для поедания, являющегося собственностью и насмешкой над понятием «природа».
Дикий ветер воет, пена шипит, оседает на куртке и выедает краску из добротной дублёной кожи. Старит ткань рубахи… Ул задумчиво рассмотрел руку. Ни следа ожогов, ни единой язвочки. Он атл — значит, всё же не человек. Он бес, хоть сам себя и не относит к таковым. Он — бес, и волею иерархии он вброшен в мир, откуда не вернулись десять исполнителей. В том числе палач! Значит, такая карта была не только у багряного рэкста? Значит, существо с возможностями, хоть в чем-то сравнимыми с могуществом багряного, не вернулось отсюда.
Островок поскрипывал и постукивал то ли ветками, то ли корневищами… надо при встрече спросить у Леса, что он соорудил? Растение живучее и плавучее, — это понятно. Хорошо бы ещё съедобное! Ул потянулся, зевнул. Свернулся в клубок и прикрыл глаза.
Проснулся он, кажется, через мгновение. Но по бодрости и радости тела понял, что времени прошло достаточно для полноценного отдыха. Буро-жёлтое с прозеленью тучевое небо посветлело, море поутихло. Вдобавок остров за время сна разросся и теперь куда более плавно и величаво качался на волнах. Не лодка, а прямо целый корабль… Ул побродил по острову, ощупал верхние побеги и нашёл несколько утолщений, похожих на бобовые стручки. Не без усилий обломал один и вскрыл. Внутри лежали, плотно прижатые друг к дружке, лиловые шарики. На вкус солоновато-мясистые.
— Лес, ещё раз благодарю, вкусно, — привстав на цыпочки, прокричал Ул, глядя ввысь.
Он понимал, что угодил в такое место, где даже королева, пожалуй, за ним не проследит. И Лес не услышит… Но разве это повод невежливо промолчать?
Ещё раз оглядевшись, Ул решился. Добыл из поясного кошеля карту багряного беса. То есть теперь, когда он совершил казнь рэкста и взял его бремя на себя — свою карту. Так долго удавалось оттягивать момент! Так удобно было не трогать прямоугольник и не глядеть на него. Пока карта лежала в кошеле, рассудок Ула успешно врал себе самому: нет карты. Нет и обязательств, и бремени…
Всадник на алом скакуне загарцевал и нацелил саблю в шею белого дракона. С первого взгляда рисунок узнался, он был прежний — и иной. Взгляд искал всё то, чему научил Мастер О: штрихи, цвета и их наложение, тени. Объем…
— Какая нелепая рамка, — пробормотал Ул. — Чужая рисунку.
Рука сама нашарила грифель и поднесла к краю рамки. Карта дрогнула, пошла рябью — и, будто уложенная на основание, повисла в воздухе. Ул запретил себе даже дышать. От сосредоточенности он не удивился тому, что карта неподвижна, хотя пальцы левой руки уже не удерживают её, а лишь чуть поглаживают по кромке.
Грифель коснулся рамки.
— Как будто здесь стёрто важное, а после вон там подрисовано лишнее, без души? — Ул прищурился и сморгнул соринку, мешающую видеть чётко. — Или от времени оно так… ну-ка…
Грифель Мастера О умел оставлять линию тоньше волоса или жирный штрих шириной в большой палец. Грифель умел менять оттенки, которые, впрочем, всегда оставались вариациями чёрного и подходили для обводки или разметки. Ул сглотнул от волнения и вернул в живой рисунок первый утраченный штрих — волосяной. Снова всмотрелся до ломоты в глазах, вернул ещё один. И ещё… Встряхнул грифель и царапнул рамку, отнимая у сплошной черноты крохотную песчинку.
— Ох…
Боль ударила копьём! Пробила тело со спины — навылет, и Ул согнулся, уткнулся в упругие стебли, обливаясь потом и корчась, и не находя облегчения. Кажется, он кричал. Кажется, он просил о пощаде… пытка длилась, пока, наконец, милосердное бессознание не укутало его пуховой тьмою.
Очнулся Ул в густой, слегка светящейся, темноте. Бешеный мир спал и видел неспокойные сны. В облаках тут и там похрустывали мелкие молнии. Пена волн отливала зеленью и багрянцем — то лечебный крапивный сок, то спёкшаяся кровь… Желудок был вроде как каменный. Во рту драло от неразбавленной желчи и сухости.
— Лес, я снова надеюсь на тебя, — прохрипел Ул.
Среди молодых мягких побегов он наощупь поискал годный. Ул и сам не знал, почему верит, что такой должен найтись. Не пытался понять, как выбирает годный. Но кажется таковым вот этот — упругий, наполненный. Бережно сломав его, Ул стал медленно слизывать, сглатывать обильно текущий сладковатый сок и благодарно жмуриться. Остров, оказывается, умеет и накормить, и напоить! Можно ли было ждать столь огромного подарка в обмен на ничтожный листок с ученическим рисунком? Да он и не ждал. Просто радовался…
Дожевав и облизнувшись, Ул обветшалым рукавом протёр лицо. Еще немного отдохнул и попробовал сесть. Карта палача по-прежнему висела в воздухе — там, где была оставлена. Ул подобрался ближе, опасливо вгляделся в те штрихи, что он внёс в рисунок. Вроде бы — случайные, но теперь, глядя на карту в целом, Ул воспринимал рисунок боя иным! За спиной всадника имелось нечто — огромное, буйное, такое быстрое, что оно уворачивалось от взгляда! У самого края карты поймался лишь промельк хитро прищуренного глаза и оскал клыка…
— Настоящий рисунок больше карты. Но кем-то стёрто многое, вдобавок рамкой замазано немало… А обрезано-то сколько, — шептал Ул, не веря себе. — Так, теперь я уверен: настоящий рисунок изуродовали и втиснули в рамку. И… что? Вместе с рамкой он стал картой палача? Чем же был прежде? Знал ли Рэкст? Эх, надо снова глянуть на карту Ворона Теней! Если и там…
Протяжный, могучий вздох шевельнул волосы на макушке. Ул схватил карту из воздуха и мигом упрятал в кошель. Встряхнулся, сжал зубы — и заставил себя обернуться. Ему было очень страшно, но ещё более — интересно. Не зря мама с детства опасалась пугать строптивое дитя: выслушает и помчится, желая увидеть страх вблизи, а то и пощупать! Вон хоть сказка о водяном. Все обходили брошенный колодец, только Ул сиганул в него, не думая, как станет выбираться. Осенью, в холода, да по сплошной глине…
— Доб… брый день… ночь, — восторженно шепнул Ул, всё сильнее запрокидывая голову, холодея от страха и восторга.
Чем просторнее открывался вид, тем он смотрелся невероятнее. Он — тот, о ком не упоминают, несомненно! Нижняя голова, бережно прикусив, держала в зубах островок. Правая и левая средние покачивались где-то у кромки облачности. Из воды лезли новые головы — и все щурились многоцветьем лукаво-хищных глаз, созерцали незваного гостя.
— Уф-же-ш… э-э… Это… о-ох… — сквозь зубы выдохнул Ул, пытаясь понять, насколько чудище велико и как такое нарисовать. — С ума сойти.
— Ш… ээээ, — сипло выдохнула ближняя справа голова и шире распахнула глаза с вертикальными зрачками. Взгляд налился зеленью, — Ф-шш-эээ…
— Меня зовут Ул, — кивнул Ул, справившись с комком в горле. Он точно знал, что сейчас надо говорить, не позволяя себе замолкнуть и задуматься. — А вы… Шээ? Да уж, удобное имя. Ваше имя просто обязано шипеть.
— Шэд, — глаза полыхнули рыжиной и прижмурились. — Шш-шшш-эд.
Зубы нижней змеиной головы разжались, островок рухнул в кипящее море и несколько раз перевернулся. Ул едва успел набрать воздуха и вцепиться в стебли. Он боролся с пеной, с течением и кипением, то вырываясь из волн, то уходя глубоко в их недра. Вокруг грохотало, рычало, ревело! Иногда получалось заметить мельком, как уносится ввысь могучее тело — вырывается из волн непрерывной лентой чешуи, бесконечной… И кольцевая волна кипит, тащит островок дальше, дальше…
Чёрный глянцевый столб чудища врастает в небо, наматывает на себя бурю. Пёстрые облака из тьмы и пламени крутятся вихрем, хлещут молниями и грохочут, извергая светящиеся шары, чтобы те с воем мчались прочь и взрывались!
— Ничего себе шш-эээ, — отплевавшись и отдышавшись, выговорил Ул.
Он мотался на длинном корневище сбоку от своего острова, в киселе маслянистого жгучего моря. От куртки остались обрывки, от рубахи и вовсе ничего. Вместе с вещами растворился страх. И любопытство, кажется, тоже. Осталась лишь усталость. Уши болели от грохота, кожу щипало и саднило. Молнии впивались в остров и причиняли боль, и превращали волосы в растопыренный пух одуванчика, и зажигали на кончике каждого серебряную искорку.
Наконец, из воды вырвался хвост чудища — и почти сразу Ул увидел оскаленную пасть: голова развернулась где-то безмерно высоко и теперь мчалась к поверхности моря. Вот появилась ещё голова, и ещё.
— Опять забурлит, — ужаснулся Ул и стал рывками, торопливо, подбираться к спасительному острову, чтобы вцепиться и переждать шторм. Он едва успел.
Чудовищная башка врезалась в океан! Пена, озера брызг, пар, рёв! Волны — выше стен крепостных, вал за валом… Растрёпанный остров унёсся прочь, как ничтожный листок на перекате горной реки. Всё дальше и глуше рычало и ревело «то, что не может быть упомянуто».
Ул пережил десятки переворотов острова и купаний в кипящем море. Наконец, худшее осталось позади. Ул выбрался из киселеподобного варева, растянулся на упругих, невероятно живучих ветвях. Шепнул: «Лес, ты волшебник!», — и забылся сном.
— О-уу, утречко…
Под веки хлынуло солнышко, золотое и горячее. Ул потянулся, смутно припомнил кошмар о чудище и буро-бешеном мире океана… и резко сел. Нет, это был не сон!
В бешеном мире царил покой.
Тучи грудились на дальнем горизонте, море лениво складывало и расправляло морщинки волн. Серо-серебристые побеги, образующие остров, обросли листочками, повёрнутыми к свету. Три крупных отростка с едой вызревали недалече от левой руки. Водянистый мягкий побег так и лез под правую.
— Благодать, — шелуша и пережёвывая солоноватые шарики, улыбнулся Ул.
— Да-уш-шш, — вздохнуло в макушку…
Ул подпрыгнул от неожиданности, обернулся, с размаху сел с перекошенным ртом, без капли воздуха в лёгких. Чудище никуда не пропало. Огромная голова, всего одна, торчала над водой и походила на остров, вот только особенный, на толстенной шее. Голова улыбалась, показывая великолепие зубов, а вернее — острых скал, часто облизываемых и ощупываемых раздвоенным лиловым языком. Рыже-зелёный глаз лениво щурился по правому борту… то есть щеке? «Хотя по размеру скорее борт», — решил Ул.
— Боишшш-ся? — прошипело сверху.
Чудище лязгнуло пастью — и откусило себе же кончик языка. Тот стал падать — и вблизи оказался толстым, как вековой дуб. Язык рухнул с плеском и пеной, чуть не перевернув остров. Вынырнул, уже обзаведясь головой — и распахнул улыбчивую пасть: похожую Ул вымерял размахом рук в городе Тосэне, забравшись на спину здоровенного каменного льва, охраняющего площадь перед самым богатым дворцом.
Бывший язык чудища, а теперь самостоятельный змей, осторожно вполз на край острова, почти не опираясь на его ветки. Шэд вывесил из пасти язык, будто дразнить собрался.
— Не боишься, — почти без пришипа отметил малый змей.
— Я ещё вчера решил, что вы слишком велики для страха, а я слишком мал для пищи, — улыбнулся Ул. — Но я опасаюсь, легонько так. Сколько у вас голов?
— Сколько хочу, — змей почесал кончиком языка край левого века. — Не бойся. Я благодарен. Ты что-то исправил, и я ощутил в себе полное сознание. Прежде тоже ощущал, но… ускользало. Теперь не пропадёт. Откуда узнал моё имя? Знаешь мою вторую половину? Хочу стать цельным. Но не помню. Больно.
— Я не знаю про имя и половину, — виновато развёл руками Ул. — Мог угадать имя, или вам послышалось. Но я рад, что так удачно послышалось.
— Запахло атлом, вот я и собрал воедино крохи сознания. Вы пахнете очень памятно, — облизнулся змей. — Ты угадал имя Шэд? Допускаю. У тех, кто рисует, глаз особенный. Имя было. Где-то было. Имя не может вовсе запропасть. Мне стать ещё мельче, чтобы зваться на ты? Не отдаляйся. Я зол на холодных.
Змей сунулся ближе и повторил то, что прежде совершил гигант: откусил кончик своего языка. Возникшая из него змейка скользнула и окольцевала запястье Ула.
— Ты атл, — продолжил змей, отрастив новый язык. — Я ищу свою половину. Чую: с тобой повезёт. Или без тебя. Но так больше шансов. Ты зачем тут? Меня будить?
— Я взялся выяснить, что или кто обитает в этом мире. Для… кроликов, — отчаявшись объяснить, что за существа его наняли, отмахнулся Ул. — Они такие… белые, пушистые. Говорят, мир их собственность, и он родильня, кормильня и прочее похожее.
— Ройбы? — Глаза змея полыхнули ядовитой зеленью. — Здесь? С-сс-забыли меня? С-сссунулиссь жрать? А-ссс-шшш… Ненасыть, недоумь, бессс-душ…
— Ну, иерархия бессмертных вроде их…
— Неинтересно, — змей прикрыл глаза и снова их распахнул, безмятежно спокойные. — Скажи: здесь Шэд. Будет довольно имени. Иди.
— А кого вы… ты искал? Ну, твоя половина, кто она? — мотнув головой и не желая уходить так сразу, упёрся Ул. — Змея?
— Нет. Знал бы имя, нашёл бы. Услышал бы зов, проснулся бы. Помнил бы запах, отыскал бы и без имени, — средних размеров змей сполз с острова и окунулся в волны, снова вынырнул, медянистый и радужно-блестящий. — Он тоже не помнит меня. Не помнит себя. Боль. Уходи. Буду менять шкуру. Уходи! Остров оставь. Он интересс-ный. Прочь! Щщщасс!
Ул вздрогнул от пробирающего насквозь свиста, резко присел. Теперь, запоздало, он понял, как именно следует бояться Шэда: безотчётно, безоглядно и трепетно…
Шаг. Под ноги легло зелёное поле, ровное и одинаковое во все стороны до самого горизонта этого упрощенного мира.
Мерно двигаются тремя волнами сгорбленные кролики-ройбы, их непостижимо много, их шеренги непрерывны от горизонта до горизонта. За их спинами — чёрная земля без травы и даже корневищ. Перед мордами — мир, ещё не употреблённый в пищу. Хруст, цоканье зубов, сопение, чавканье… Прохладно. Противно.
— О-ох… — Ул осознал причину прохлады и стал затравленно озираться.
Из одежды после посещение мира Шэда уцелели лишь пояс и ничтожные лохмотья куртки. Еще кошель с картой палача. Он новенький, из мелкой чешуи… и такой же игрушкой прикидывается змейка на запястье.
— Лес! — жалобно позвал Ул и скорчился в траве, ощущая себя голым и заметным на этом поле всем без исключения мирам и иерархиям, сколько их есть.
— Жив? — добрейший альв сразу оказался рядом. Понял в один взгляд худшее и потянул из пустоты просторную рубаху. — Невероятно. Стражи погибли, а ты жив. Сейчас буду смотреть и слушать для них, — Лес ткнул пальцем в небо и криво усмехнулся. — Говори.
Ул рывком натянул рубаху и порадовался, что длинная. Лучше быть смешным, чем голым! Взгляд Леса сделался пуст, лицо утратило улыбку.
— Шэд, — внятно выговорил Ул. — Имени достаточно?
Вокруг, повсюду, мгновенно сделалось тихо до оторопи. Лишь травинки сыпались из раззяваных кроличьих ротиков, из обессилевших передних лап. «Шэд!», — икнул кто-то вдали — и вся белая, пушистая масса врождённого ужаса покатилась к горизонту.
— Имени достаточно, — безразличным тоном выговорил Лес. Помолчал. — Мы принимаем вашу работу, как исполненную. Одно уточнение: какие его проявления вы наблюдали?
— Проявления?
— Тень. Мысль. Яд. Как стало доступно имя?
— Он купался и прыгал. Мы поговорили. Он был в большом раздражении и искал кого-то. Имени того, другого, не смог назвать. Прямо теперь он меняет шкуру.
— Мы удовлетворены. Вы оказались ценны: смогли дать больше, чем запрошено. Есть компенсационные пожелания умеренной сложности?
— Всё равно вы следите за мной. Оставите для такого дела Леса, а? Сколько можно из парня душу вынимать всяким подлым упрощением. Что за гадость, и кто только…
— Ваша оценка не имеет веса. Пожелание признается допустимым и взаимно удобным. Рекомендуем отбыть. Сектор будет закрыт в ближайшее время. Меняла вас ждёт, второе задание сформулировано.
Ул кивнул и стал наблюдать, как лицо Леса приобретает живое выражение. Альв улыбнулся, сунул руку в пустоту и добыл просторные штаны.
— Ты хоть понимаешь, что высшие слышат и видят всё, что слышу и вижу я? — спросил Лес, отдавая вещь.
— Они хоть понимают, что я ребёнок, у меня не было времени накопить тайны и коварные планы? — Ул натянул штаны. — Надо же, и ткать не надо, и кроить. Прям чудо. Лес, твой остров очень понравился Шэду. Оставил себе и был в восторге.
— Надо же, — кожа альва приобрела золотистый оттенок и будто пыльцой покрылась, Улу почудился запах цветов. — Такой пустяк… шагаем отсюда, скорее. — Пыльца облетела, и во взгляде Леса блеснул лёд, уголки губ криво, ехидно усмехнулись. — Шэд перед линькой станет кушать. Много кушать. Но… мне никого не жаль. Если он услышит, хочу, чтобы знал: я бы охотно вернул в этот мир исходную природу. Трудно, «муравьи» вроде меня не годны восстанавливать планетарные экосистемы, но я хочу, и я смог бы. Душа болит. Здесь было озеро, там поле. Цветы… они очень красивые в здешнем мире. Я помню.
Ул ощутил, как на запястье чуть шевельнулся браслет. Шэд слышал. И, если верить ощущениям, остался доволен.
— Почему я сочувствую змее, а не кроликам? — почесал в затылке Ул. Последний раз оглянулся на мир, дочерна выеденный слева и заполненный травянистым кормом справа. — Идём, Лес. Буду учиться рисовать твой остров. Он прекрасно смотрится в том бешеном мире. Как Мастер О говорил? Гармонично.
Кожа Леса снова подёрнулась пыльцой…
Глава 5
В которой рассказывается о событиях лета 3218 года
Путь беса. Никакой слабости
Люди Казры, как полагал по давним и свежим наблюдениям вервр Ан, во многом подобны пчёлам. Они охотно выбирают рыжий тон для бороды и чёрный — для ножен сабли, которая и есть настоящее жало. Сабля по местному обычаю покрывается ядом: для стражи султана — парализующим, для людей первого визиря — создающим нагноения, для хмурых молчаливых слуг великого мудреца — смертоносным. Рабочий люд засушливого, жаркого края трудится от рассвета и до поздних сумерек, и обыкновенно покорен, так покорен, как и подобает пчёлам. Стражи тоже настоящие пчелы-охранники, они сознают своё превосходство и смотрят на прочих свысока, а приближенные местной пчелиной «матки», пусть это не прародительница улья а всего лишь эмир, но тоже многодетный — они трутни, вот уж истина без изъяна.
Что изменила природа четвёртого царства в привычнейшем из укладов жизни, повторяемом во многих мирах с незначительными вариациями? Вервр до поры не искал ответ на этот вопрос. Прежде он полагал — ничего. Людишки одинаковы всюду и во веки вечные. Но старик Ан, подаривший имя, хотя ему следовало бы проклясть беса… он был не страж, не трутень и не раб. Именно из-за него вервр, разговаривая первый и последний раз со своим палачом Улом, солгал. Он взялся утверждать, что среди людей нет ни единого исключения из правила гниения, создающего духовные трупы задолго до смерти тел. Бес Рэкст легко выговаривал ложь, но знал: старый Ан-человек был совершенно, исключительно здоров душою.
А свободный вервр Ан… Он переплыл море, чтобы искать на родине Монза ответ на тот давний бессмысленный вопрос.
— Почтеннейшие жители Казры! — верещала Ана, наслаждаясь вниманием толпы и правом безнаказанно шуметь на торговой площади. — Испытайте трепет и восторг, испытайте ужас и страх от созерцания несравненного огнеглотателя и повелителя змей! Жители Казры, только раз в сто лет он приходит, чтобы поразить вас своим искусством, как же вам повезло!
— Длинно выкрикиваешь, не томи их, упрости слова, — прошелестел вервр.
Как и подобает «несравненному», весь год жизни на юге он ходил бритый налысо, раздетый по пояс и украшенный многоцветным узором татуировки по спине, рукам, шее и даже черепу.
Едва Ана прекратила выбивать пятками грохот из старенького барабана, вервр поднялся в рост, скрутился по-змеиному, заглядывая себе же за спину, ловко добыл из ниоткуда ватный шар… Толпа попритихла, любопытствуя. Вервр затеплил на раскрытой ладони пламя, подбросил. Добыл новое и опять подбросил, повторил ещё и ещё — и скоро управлял полётом дюжины горящих шаров.
Для такого большого бурливого города, как Казра, почти нет чудес, способных вызвать слитное «О-оо!» зевак и вынудить толпу долго клубиться, роиться вокруг одного места. Но три дня, снова и снова, люди приходили глазеть на «несравненного» и оставались довольны.
— Мне всё надоело. Змеи устали, почти осень, им в спячку пора… почти что скоро, — брюзжал слепой вервр, и слышала его лишь Ана. Теперь он бросал огненные шары за спину и через плечо, а иногда отбивал их головой, что толпе особенно нравилось. — Хватит с нас городов. Ты знаешь, чем это кончается каждый раз.
Ана, одетая мальчиком всё время странствий по югу, и оттого, наверное, ещё более беспечная и самоуверенная, с новой силой загрохотала пятками по натянутой, похрустывающей коже барабана. Ана крутилась и прыгала, хохотала. Звенела зажатыми в руках бубнами, украшенными по ободу десятками погремушек, колокольчиков и бубенчиков. Вервр вслушался в шуршание одежды и поморщился: опять упрямая вопреки его возражениям натянула те чудовищно пёстрые, непомерно огромные штаны, купленные в сердце пустыни вместе с просторной рубахой, вышитой сорока цветными нитями, чтобы отогнать черных призраков песчаной бури. И на шее Аны — уродливые, тяжеленные бусы-черепа, вроде бы вырезанные из человечьих костей. По крайней мере так утверждал торговец, выманивая серебряную денежку.
— Последний день в городе! — завизжала Ана невыносимо тонко и противно, её босые пятки лупили по барабану всё отчаяннее. — Спешите!
— Наконец-то, — буркнул довольный вервр.
Он набрал воздуха и выдул над толпой трепещущий язык пламени, так что заорали и очень смелые зеваки в первых рядах, и предусмотрительные — в дальних. Затем люди ненадолго притихли…
Вервр сел, скрестив ноги, зашипел неслышно для людского уха, давая змеям приказ выползать и распределяться ровным кольцом подле своего повелителя. Ана спрыгнула с барабана и побежала по кругу, шлёпая босиком в полушаге от змеиных хвостов, с протянутым к толпе перевёрнутым бубном. Зазвенели монетки, мелкие и крупные медные, говорливые серебряные. Солидно брякнул золотой.
Змеи высоко подняли головы, созерцая драгоценного, единственного в своём роде двуногого, способного с ними говорить и наделённого правом отдавать приказы. Змеи раздули капюшоны и покачивались, обсуждали вкус городских мышей и утреннего молока. Поочерёдно и группами змеи ползали к хозяину, взбирались по его рукам и обвивались вокруг шеи, делали всё, что было заранее оговорено… И забавлялись шумом толпы, ведь повелитель обещал: этот шум не опасен. Вервр не мог обмануть. Ложь живёт в людях, гораздых лишь выцеживать яд и сослепу наступать на хвосты… может быть, потому что у людей нет своих яда и хвоста? Может быть, такой у них способ отравлять врага — обманом?
Змеи и их повелитель работали честно, толпа заворожено следила за зрелищем, которое вряд ли хоть кто-то повторит, если он — не вервр.
Ана снова побежала по кругу, собирать денежки. Замерла и возмущённо фыркнула.
На дальнем краю площади слитно зарокотали большие барабаны, открылись ворота дворца мудрости — и толпа, предав знакомое зрелище, потянулась к новому…
— Вот и хорошо, уходим, — оживился вервр.
Змеи, расслышав приказ, охотно юркнули в огромный кувшин, одна за другой. Ана опустила крышку, сгребла монеты в кошель на поясе и встряхнула им, гордясь добычей.
— Хватит на подарок мне. Ты толковый раститель, Ан.
— Мне неизвестна точная дата твоего рождения. Но, возможно, это первые дни осени. Зачем тебе столько денег? И разве мы не отмечали твой день рождения уже трижды с начала года?
— Выкуплю всех птичек на базаре и отпущу, — рассмеялась Ана, коротко обняла вервра за шею и вспрыгнула на его плечо. — Они полетят и будут кричать нам «благодарим, инь-тинь», и ты улыбнёшься, как будто у тебя есть крылья. Я знаю.
— Детская глупость.
— Вот, тебе уже нравится, я слышу. А ну встань, мне не видно, куда все побежали.
Вервр поднял на плечо кувшин со змеями, выпрямился и зашагал по площади следом за зеваками, не оглянувшись на барабан и цветной коврик — бесполезное отныне имущество. Он слышал, как прошуршали осторожные шаги тех, кто позаимствовал вещи. Юг — земля сухая и по-своему суровая, тут решения принимаются быстро… Ана топталась на свободном от кувшина плече и порой наступала босой пяткой на макушку. Тренировка позволяла ей не думать о равновесии. Тренировка и, как надеялся вервр, природа атла.
Он порой позволял себе согласиться с очевидным: да, он хочет, чтобы девочка унаследовала дары четвёртого царства. Чтобы не отцвела в считанные годы, не состарилась и не умерла, покорная уделу людей. Даже если возненавидит. У неё есть такое право — вырасти и ужаснуться, узнав правду о своём «папе». И потребовать от него много чего… да всего, совершенно всего, возмещающего младенческую смерть и вдобавок гибель кормилицы.
— Ан, ты грустный, — задумалась девочка. — Наступаю на макушку, а там мысли вроде угольков, аж пятку жгут. Хочешь, сразу уйдём из города? Ан, у тебя болит голова?
— Нет.
— Пошли, ну его, мудреца ихнего. Ты в тыщу раз умнее.
— Их, тысячу. Не уродуй слова, я не оценю подобного.
Змеи в кувшине шипели негромко, но было их много, и звук получался солидный, опасный. От вервра отодвигались, оглядывались — и делали еще шаг-другой в сторону.
Толпа у входа во дворец росла. Из ворот появлялись всё новые стражи, выносили шесты с дорогим шёлком, заполненные письменами с заветами мудрости предков. Каждое полотнище имело огромную ценность, над его изготовлением трудился не менее трёх лет одарённый ноб синей ветви, то есть именно мудрец — синих на юге превозносили особо, много выше алых и даже немногочисленных белых. Сильных нобов золотой ветви здесь, как полагал весьма осведомлённый вервр, не осталось. Потому и детей полной крови на юге не могло родиться, таково мнение королевы, основанное на докладах её опытного палача…
Сам вервр к синему дару долгое время относился с некоторым пренебрежением. Ну, способен человек красивее прочих составить запись — что особенного? По такой логике выходит, ослеп синий ноб, и значит, его дар иссяк. Что определённо неверно.
— Внемлите гласу мудрости, — гнусаво заныли в вышине.
Вервр сперва удивился, а затем осознал, отослав звук и собрав эхо: голос исходит с балкона высокой башни, расположенной в пределах дворцовой ограды, у края площади.
Толпа загомонила и резко стихла, раззявив рты и закинув головы до хруста шейных позвонков, до черноты в прищуренных, выжигаемых солнцем глазах…
— Внемлите и содрогнитесь, ибо опоганен наш город, омрачена честь и слава оплота мудрости. Преступный Ан Эмин Умийя, внук брата шелудивого пса, чьё имя вычеркнуто из всех книг, чей род признан вовеки вечные бездарным, под чужим именем проник в сиятельное средоточие…
Вервр отвернулся от дворца и стал быстро пробираться сквозь толпу, дальше и дальше. Ана что-то поняла, присела, а затем оседлала шею и обняла руками голову вервра, чтобы не мешать ему и не привлекать внимания своими выходками, порой достойными представления канатоходцев.
В тенистой боковой улочке, в трёх её изгибах от площади, вервр сгрузил кувшин и девочку. Замер на миг, принюхиваясь и выбирая решение.
— Донесёшь кувшин?
— На голове. Да.
— Это важно, поняла? Не возвращайся туда, где наши вещи. Забудь о них. Сейчас ты пойдёшь к северным воротам, выберешь тихое место и оплатишь проживание на три дня вперёд. Ты будешь ждать меня, никуда не выходя и не делая самых малых глупостей.
— Да.
— Тише мыши. Заботься о змеях, я обещал вернуть их невредимыми домой, в пустыню, и помни: если что, они защитят тебя.
— Да. Но пап…
— Нет времени. — Вервр досадливо поморщился и всё же добавил: — Я весьма глуп, я благодарно принял, как подарок и наследие, имя старика Монза. Его полное имя, понимаешь? От рождения он звался Ан Тэмон Зан. Первым в череде из нескольких его имён было именно это — Ан, короткое и удобное. Так я стал Аном. Вот только первым на юге указывают не имя, а род. Я не учёл.
— То есть тот преступник… — шепнула Ана, и было заметно, как похолодели её пальцы, уши, щеки.
— Да. Старик был несказанно щедр, ведь он принял меня в семью. Подарил мне куда больше, чем я думал… Всякое настоящее наследство имеет тайну и цену. Пришла пора узнать и заплатить. Жди терпеливо. Я не смогу пока что помочь тебе, даже в худшем случае.
— Только не позволяй им убивать тебя, — жалобно пискнула Ана, глядя вверх, на срез плоской крыши ближней мазанки.
Именно туда вспрыгнул вервр, бесшумный и — невесомый… Он шагнул и, вроде пустынного миража, растворился в мареве полудня. Попробуй научись у него всему, если он — сплошная загадка и к тому же почти всемогущ… Так думала Ана, и её мысли доподлинно знал вервр, и уносил их с собой, как сокровище. Очень долго, а может, и вовсе никогда, о нем никто не переживал. За него не боялись. Его не ждали с надеждой и болью.
В несколько прыжков вервр выбрался на ближнюю к площади крышу. Заскользил, пригибаясь и вчуиваясь, процеживая сквозь зубы жар и пыль городского ветра, а заодно запахи, вкусы, настроения.
Толпа разрослась и заполнила площадь. Гнусавый глашатай завершил перечисление преступлений ужасного Ана Эмина Умийи, который не только подло проник во дворец мудрости, но и покинул его после полного обучения, чтобы уйти в пески и распространять запретное знание среди врагов Казры.
Злодея, едва способного двигаться после многодневных допросов, выволокли на площадь и бросили лицом в пыль. Толпа взволновалась. Молчаливые — потому что многие из них лишены языков, знал вервр — слуги дворца мудрости вывели под уздцы двух смирных лошадок, запряжённых в повозки, полные камней. Покрупнее и помельче, острых и округлых, удобных под любую руку. Горожане охотно, чуть не в драку, разбирали камни, предвкушая действо и делая ставки, сколько продержится преступник в сознании, хотя бы и лёжа.
Вервр спрыгнул наземь у ограды дворца и пробежал к кольцу охраны, извиваясь и протискиваясь сквозь плотную толпу не хуже змеи. Поднырнул под руку ближнего стража с отравленным клинком и пошёл неспешно, нагло, ведя пальцем по шеям прочих и превращая охрану мимолётным прикосновением — в набор забавных статуй, не годных ни двигаться, ни тем более воевать. Вервр шипел, звука люди не слышали, но парализовал он не хуже касания руки.
На совершенно тихой площади, забывшей дышать, скоро остался подвижен лишь вервр. Он добрался до приговорённого и встал у него за спиной.
— Сказано в третьей скрижали, стих пятый, строфа седьмая, — обращаясь к вратам мудрости, зашелестел вервр Ан. Негромкий голос его был слышен всякому и внятен до самого слабого звука, — «Колени преклони пред мудрости рекой, смиренно зачерпни и пей из вод познанья». — Ан помолчал, степенно поклонился и встал на колени. — Что означает: всякому дозволено ступить сюда и задать вопрос. Я чужестранец, и мало во мне понимания, но я смиренно прошу об ответе, для меня жизненно важном.
— Да будет так, — отозвался сладкий, отечески снисходительный голос из-за врат.
Некто с даром синей ветви и высоким званием придворного мудреца принял вызов, чтобы дать время страже и соглядатаям. Вервр подавил усмешку. Наверняка для «чужестранца» уже готовят самый глубокий из подвалов допросной башни. Опять некто строит планы, такие обычные для людишек, такие удобные для вмешательства и правки их опытным вервром! Два-три дня — и дворец мудрости, этот роскошный змеёвник, управлялся бы движением брови. Есть прелесть в чтении доносов, составленных лучшими мастерами письма. Изящных, витиеватых доносов… и даже в стихах. Ведь очень скоро тут поняли бы: хозяин ценит рифмы и понимает в них толк.
— Много лет, скитаясь на севере, за морем, я слышал о несравненном благочестии Тэмон Зана из рода Ан, о величии и славе султаната и города Казра, где взращивают подобные умы. Учитель Ан составил полный перечень ветвей дара севера и отдельно свёл в книгу с золотым и шёлковым переплётом имена детей синего дара, доказав силу и славу юга, где проходят огранку лучшие, — неспешно, с выражением, шелестел вервр, запросто сплетая полуправду и выгодный вымысел. — Мало кто за морем, на диком холодном берегу, знал само название султаната, да простится мне сказанное, ибо оно есть печальная истина. Мало кто — пока мудрец Ан не прославил имя Казры, пока выводимый им на всяком листе вместо личной подписи знак этого дворца мудрости не стал почитаем превыше всех иных знаков всех иных переписчиков. Мастер Ан трижды отсылал в дар дворцу мудрости книги с именами детей синего дара, отсылал он и половину своих доходов. Клянусь кровью: такова была жизнь Ан Тэмон Зана, брата деда судимого ныне преступника. Неужели сей мудрец не упоминается на родине, куда я явился, благоговея и желая коснуться порога дома его матушки? Мой вопрос полон скорби и боли: в чем вина сего мудреца?
— Он предал Казру и был изгнан, — отозвались из-за ворот дворца мудрости. — Его имя вычеркнуто из всех книг.
— Скрижаль пятая, стих девятый, строфа сороковая: «Кто имя родины возвысит, тому простится грех стократ», — усердно изображая благоговение, продолжил вервр. — Осмелюсь снова припасть к реке мудрости. Разве покойный не оплатил грех юности благочестивой жизнью и кроткой смертью? Мне доподлинно известно, что наставил он на путь истинный самого багряного беса Рэкста, и тот удалился из столицы княжества Мийро, смиряя плоть и оплакивая грехи свои. «Иди и больше не греши», сказал ему мудрый Ан Тэмон Зан, и умер, и был с почестями похоронен в княжеском склепе, как спаситель мира, одолевший худшую из напастей на род людской.
На площади стало ещё тише, если такое вообще возможно. Вервр облизнулся и замер. Скрижали он знал наизусть, всякие попытки людишек создать веру или её подобие казались забавны и подвергались изучению, в любом мире. Если мудрец упрётся, — прикинул вервр, — можно уесть его седьмой скрижалью или окончательно втоптать в грязь двенадцатой. Хотя и брошенная прямо теперь кость — она более чем достойна длительного обгладывания всеми городскими псами, охочими до слухов.
— Бес Рэкст исчез, мы получали такую весть, — почти торопливо выговорил мудрец и шагнул к самым вратам: слышно, как его рука коснулась толстой ковки. — Но есть ли в том заслуга преступника, чьё имя ты взялся обелить, ничтожный?
— Скрижаль девятая, три-двенадцать, — сразу отозвался вервр, сократив строфу и стих. — «И алым светом озарится след истины и лжи провал». Есть ли на площади воин с даром истинного слуха?
— Но мы казним ныне иного преступника, по иному обвинению, — очнулся мудрец.
— Если имя деда будет очищено, у внука появится право учиться во дворце мудрости, — еще быстрее возразил вервр. — Ан Эмин Умийя, недостойный наследник славного предка, подлежит изгнанию, и не более того.
— Ты преклонил колени и зачерпнул из вод мудрости, — не без мстительного ехидства отозвался тот же голос. — Ты даже влил каплю нового знания в великие воды. Мы рассмотрим деяния рода Ан. Постепенно, усердно, ибо в пятой скрижали сказано: «Копи усердно и без спешки»… Иди, странник. Не стой возле преступника, его жизнь была греховна, но смерть искупит вину вернее и скорее изгнания, ибо сказано: честь взрастает на крови.
— Истинно так, увы, — тихо согласился вервр, успевший запомнить в точности запах и строй мыслей каждого, кто прятался за вратами и мнил себя безнаказанным. — Позвольте мне в знак уважения к учителю Ану сопроводить его потомка в последний путь.
— Благочестивое намерение не может быть оспорено, — отозвался мудрец с явным недоумением, но без задержки.
Вервр отвернулся от врат мудрости и подтянул к себе приговорённого, вместе с ним разворачиваясь, чтобы надёжно прикрыть парня. Приобнял, дополнительно защищая его голову и шею.
— Весь ваш род состоит из придурков, — шепнул он полумёртвому парню в самое ухо. — Но придурков живучих и лично мне интересных. Так что спи спокойно, достойный внук нищего, бесстрашного и мудрого деда Зана.
Пальцы погладили нужную точку — и тело приговоренного обмякло.
Первый камень ударил вервра в затылок, был он острый и крупный. Ан взрыкнул и обозлился, но стерпел. Он собирался умереть достоверно для всех без исключения наблюдателей. Так лучше для малышки Аны, спокойнее. И вдобавок… мог ли он надеяться ещё вчера, что камень вины перед старым переписчиком Монзом — а он висел на шее, пусть вервр и старался его не замечать — что этот камень удастся так дёшево разменять на груду бросовых булыжников? Боль души рассыплется пригоршней синяков по спине и затылку — и иссякнет… скоро. Уже этой ночью.
Когда два окровавленных тела полностью скрылись под грудой камней, толпа пресытилась своей властью, временной и фальшивой. Из врат мудрости строем по двое вырвались молчаливые стражи с обнажёнными клинками — и в считанные мгновения создали тройное кольцо вокруг места казни. В свободный от камней возок бросили два тела, небрежно выдранные из-под завала. Накрыли мешковиной — и возок скрылся во вратах, и преступный внук рода Ан последний раз оказался там, куда так стремился войти, утоляя жажду знаний… Конечно, был проведен осмотр тел. Лекари подтвердили: казнённые необратимо мертвы.
В сумерках верховые вывезли за городскую стену тяжёлые мешки, промчались через долину, к заброшенному пересохшему колодцу. Там и упокоился наследник рода Ан — без почестей и даже наименьшего поминовения, даруемого и отступникам…
Когда верховые умчались, и пыль, поднятая копытами коней, осела, вервр порвал мешок, ящерицей взобрался по отвесным стенам колодца и выволок куль с бессознательным телом. Освободил казнённого. Примерился, бережно прикусил запястье бедолаги, собирая понимание состояния его здоровья. Затем Ан погладил нужную точку, исчерпывая действие «поцелуя смерти». В два коротких удара по грудине запустил сердце человека, промассировал его затылок, уши, кисти рук. Дождался первого слабого стона и всего дальнейшего, неизбежного: удивления, неверия, паники, благодарности, праведного гнева и ещё сотни людских способов доказать себе и окружающим, что жизнь продолжается, а ума и практичности в дурной голове как не было, так и нет.
— Я невиновен, — обиженно шептал Ан Эмин Умийя, пялясь в звёздное небо и не видя совершенно ничего. Он поморгал и попробовал ощупать руку спасителя, его плечо. — Меня напоили отваром трав, я не мог и слова сказать, но теперь…
— У них кончился отвар? Толпа научилась слушать оправдания и больше не любит кидать камни? Ты обрёл дар красноречия, равный дару составителя скрижалей? Сколько чудес!
— Нет, но я… но всё равно я должен подать прошение эмиру. Надо исправить чудовищную ошибку, пока не поздно. Всё дело в оросительных каналах на юге. Расчёт, отосланный во дворец, есть сплошная ложь. Он грозил бедой, ведь там нет воды! Если продолжить строить, весь край иссохнет, а заказ дан роду Иф, а они близки к семье Коби через…
— Твой дед был умнее. Он успел унести голову целой, даже и без моей помощи. Он прожил долгую жизнь на севере и воспитал интересного ученика, пусть Клог мне и враг, но без него было бы ещё хуже… Так, я сказал это? Я оговорился! Меня камнем саданули по затылку и я временно не в себе. В общем, оглохни и забудь, пока я не надумал вернуть тебя в колодец.
— Но я…
— Обязан мне жизнью, и, как благородный и благодарный идиот, исполнишь хотя бы одно пожелание. Да?
— Да, но…
— Предположим, я расслышал лишь смиренное «да». Вот несколько монет, держи. Переночуй здесь и утром выходи на дорогу, чтобы двигаться на север, всё время на север к морю, пока я не нагоню тебя.
— Вы слепы, сейчас ночь, и я пока плохо вижу после удара по голове и долгого голода. Я не запомню ваше лицо. А как вы найдёте меня? Как…
— Ты не умеешь выпутаться из своих бед, зачем же лезешь в чужие? Просто иди и трать монеты: лечись, отъедайся, отдыхай. Я появлюсь за спиной быстрее, чем деньги иссякнут, если ты бережлив.
— А вы… кто? — наконец задумался спасённый. — Вы правда знаете деда? Он… умер?
— Он был так добр, что позволил мне унаследовать родовое имя Ан. Увы, он скончался. Знал ли он, что своей щедростью дал тебе надежду выжить? Нет, но судьба в четвёртом царстве делает мир очень тесным. Я слышал такое от Тосэна, но не поверил. К счастью для тебя — зря…
Вервр напоследок ободряюще хлопнул спасённого по плечу, с наслаждением закинул голову и, опираясь о край колодца, отослал ввысь короткий, пронзительный вой. Вдали затявкали пустынные волки, унижаясь и обещая уступить дорогу. Ещё дальше, у стен города, обречённо смолчали псы, забились куда поглубже. Кони остолбенели, срезались на скаку, сбрасывая седоков — тех самых, что недавно оставили два трупа в колодце, гнить без надлежащего упокоения. Вервр рассмеялся, глубоко вдохнул ночь — и помчался сквозь остывающую духоту, сквозь шорохи и шелесты, скрипы и вздохи.
Ан быстро настиг стражей дворца мудрости: люди метались, ловили обезумевших коней. Отказавшись от соблазна покарать исполнителей, вервр выбрал лучшего скакуна и взвился в седло. Он стряхнул с одного стража плащ, у второго отнял саблю, у третьего — кошель. Город сразу стал ближе и гостеприимнее…
Вервр добрался ко вратам дворца мудрости, когда полночь огласил заунывный вопль мудреца, читающего с балкона зачин скрижали восьмой — об исчерпании прежнего дня и начале нового времени. Коня и плащ опознали, калитку безропотно открыли… чтобы забыться до утра тихим, темным обмороком. Вервр передал коня слугам. А сам заскользил по саду, принюхиваясь, облизываясь в предвкушении.
Первым он посетил своего самого настойчивого собеседника, того — не пожелавшего изменить казнь на изгнание. Поганец успел увидеть тень в окне, зашёлся визгом… и даже не потянулся к ножу или колокольчику! Столь сокрушительная трусость огорчила вервра. Он мягко уселся в кресло и зевнул, выпуская звук чистого страха.
— У тебя, должно быть, прекрасный почерк, — вкрадчиво шепнул вервр. — Отправь послание во дворец: кайся, предай огласке дела семьи и покровителей. Обели честь рода Ан, тогда, так и быть, я тебя… не съем. До утра покинешь город — выживешь. Ну? Не молчи, восхвали мою доброту. Обожаю дрожащие голоса и запах холодного пота. Пишешь? Смиренно? А то проверю, на чем взрастает честь. Ты сказал днём, что на крови. Определённо, ты сам сказал. Ты у нас кто? Мудрец. Значит, это мудрая мысль.
Вервр бормотал и усмехался, вслушивался в привычное — икающий страх, поспешное раболепие, всхлипы отчаяния и первые попытки торга. Вервр скучал: ничего нового в мире людишек не приключается, даже и в четвёртом царстве. Ничего… если не покидать дворцы и тратить время на таких вот, годных в свиту Рэкста даже без обработки.
Скоро гонец умчался с роскошным доносом, написанным на имя сиятельного и солнцеподобного. Затем листы лучшей бумаги оказались заполнены сообщениями еще нескольким важным людям, коим не следовало спать спокойно.
Окончив расчёты с первым мудрецом, вервр обошёл всех, кого помнил по запаху и строю мыслей. Разделил их на мёртвых, сразу оплативших свою подлость — и живых, но испуганных до конца дней. Эти, оттирая друг дружку и борясь за право быть самыми полезным, торопливо и подробно рассказывали вервру, кто именно написал донос на юного Ана Эмина, кто передал донос и кто, наконец, дал беглецу кров и помог поймать его под этим кровом, до того преломив с гостем общий хлеб… Теперь все сожалели о своих грехах.
— Здесь я закончил, — сказал вервр выжившим, собрав их в одну постанывающую кучу на дне башни допросов. — Оставляю вас гнить, людишки. Можете рассказать обо мне и поделиться догадками. Да, можете не хранить тайну моего появления и кричать обо мне с башни. Можете искать, откуда я пришёл и куда теперь направляюсь… Но ведь тогда я вернусь очень скоро, понимаете? — Вервр облизнулся и прошелестел тише, азартнее: — Я охотно вернусь к вам. И останусь надолго.
Ан позволил себе тихо, проникновенно взвыть второй раз за ночь. Рассмеялся, вслушался в эхо — и удалился, провожаемый волнами цепенящего ужаса, оттенённого раболепным почтением, а ещё острой и болезненной жаждой влиться в стаю и бежать за вожаком, куда угодно. Следовать за сильным и рвать по его приказу, и смиренно подбирать объедки. А их — лизоблюды знали — будет вдоволь.
Вервр покинул дворец мудрости и побрёл по тихому городу. Он глубоко дышал, успокаиваясь, и медленно, трудно, возвращался к состоянию того «папы», которого знает малышка Ана. Мир слоился — до тошноты. Данная врагом слепота казалась благом. Если бы вервр мог ещё и видеть алчный блеск глаз несостоявшейся свиты, если бы проследил воочию, как людишки гнут спины и безмолвно перебрасываются намёками, заранее решая, кому с кем и против кого строить союзы… Если бы знал, трупов наворотил бы больше, и сегодня точно не осмелился идти домой.
Ана выбрала место для ночёвки у самых ворот. Не такое тихое, как было велено. Может, устала тащить кувшин, — снисходительно решил вервр. Ещё Ана купила молока для змей и накормила их, а теперь вот решила вымести полы. Среди ночи! Такое она могла удумать только от крайней раздражённости нервов, от бессонницы и тягости ожидания.
В общем, вольно или невольно, закономерно или по недоразумению, Ана нарушила обещание и не сидела тихо, за закрытыми дверями. Вервр сокрушённо вздохнул, устраиваясь на городской стене над переулком и наблюдая то, во что пока не хотел вмешиваться. На руках ещё свежа кровь, а тут — дети… Не лучшие в городе, но ведь — дети.
— Хэй! Выродок с белой башкой, выродок и сын выродка, недостойного дышать, — гнусаво и протяжно, подражая площадному глашатаю, повизгивал пацанчик, втиснув тщедушное тело в щель меж стеной и огромным тележным колесом. — Хэй-йох… смерть тебе! Смерть!
Ан принюхивался и морщился. По привычке вервра он наделял и людей, и особенно людишек, вторым обликом — звериным. Мелкий гадёныш был шакалом: больным, ничтожным шакалом со свалявшейся шерстью и гнусным запахом из пасти. Запах и слова — они порой одно и то же. Пацанчик сам по себе ничего не представлял, но и в столь раннем возрасте знал, как важно влиться в стаю. Пусть он бежит далеко от вожака и часто остаётся голоден… но жив, при деле и под защитой закона, разделяющего мир на своих и чужих. Он в стае — свой. Вот и визжит, как подобает: негромко, не беспокоя крупных зверей, коим эта стая — так, развлечение на один удар могучей лапы…
Сборище мелких зверушек, для которого тявкал «шакал», копошилось здесь или пряталось рядом. На виду кучковались трое жилистых младших лет семи-восьми, они подбирали камни и укладывали в горку. Ещё двое похожих мельтешили поодаль, выставленные стеречь покой стаи. Пятеро более рослых и сытых, все наверняка старше десяти лет — ближний круг вожака — сидели на пятках и делали вид, что увлечены игрой в кости.
Вожак — а такую породу вервр выделял без ошибки — вроде бы дремал у нагретой за день стены. Глаза были прикрыты: вожак не ускорял развитие событий. Он слушал, и ему нравилась игра на нервах чужака. Одинокого, не имеющего в городе ни стаи, ни хозяина. Ведь шакал тявкает давно, а до сих пор никто не вышел на шум, не подал голос. Никто, способный вмешаться и отогнать мелкое зверье, наглеющее от безнаказанности медленно, осторожно — но верно.
Вервр принюхался, провёл кончиками пальцев по вискам, сгоняя пыль и следы пота с чувствительных зон. Близ скучной для всякого вервра людской стайки Ан отметил интересное существо. Для взгляда мальчик не показался бы занятным: лет двенадцати-тринадцати, сухой, невысокий. Сидит неподвижно чуть в стороне, почти за спиной вожака.
Ана — а она всё это время продолжала упрямо скрести стёртым веником по устилающим камни коврикам — наконец, выпрямилась и осмотрела последнюю часть своей работы по наведению порядка если не в душе, то хотя бы в доме и подле него. На стаю городской мелюзги Ана вовсе не обращала внимания. Отчасти — знал вервр — по привычке: всегда рядом «папа Ан», а с ним стоит ли думать о своей безопасности? Тут впору переживать за чужие жизни, пусть и никчёмные.
Ана была напугана, пусть и не показывала этого. А ещё она впервые попала в подобное положение и вряд ли знала, как из него выбираться. Поэтому вервр сидел на стене и ждал.
«Короткую жизнь можно прожить за чьей-то спиной, для длинной придётся самому стать сильным», — сказал друг Тосэн. С грустью сказал. Он полагал, что слабость людская имеет свою ценность, непонятную для вервра. Тосэн сейчас бы спрыгнул со стены и стал вразумлять детей, видя в них не стаю, а именно детей. Которые вместе не из-за общей злобы, а всего лишь от общего страха. Они маленькие, им холодно в этом мире поодиночке.
«Довразумлялся», — без слов скривился вервр, вдруг совершенно чётко, всеми своими богатейшими возможностями восприятия мира, вспомнив тот худший миг, непростительный вовеки для людей, сколько их было, есть и будет в мирах и царствах.
День, полный боли… Остро пахло знакомой кровью, и душу стальным клинком пронзал последний взгляд друга. Тосэн погиб, но из-за грани оглянулся без озлобления или отчаяния, с болью: Тосэн не желал оставлять вервра наедине с миром и собою. Он равно боялся за обе стороны извечного противостояния бессмертного — и его бытия… «Когда же ты поймёшь, что быть вожаком тебе противно? Тебе ничуть не нужна стая зверья, ты всякую норовишь сперва возглавить, а затем уничтожить», — вздыхал Тосэн много раз.
Но Тосэн ушёл, и привычка вервра возглавлять стаи людишек окрепла. А еще он захотел понять, что эта за людское кушанье — месть…
— Эй, плесень, лови! — недоросль из ближней свиты вожака человечьей стайки отвлёкся от игры в кости, сгрёб сор в горсть и бросил, метя на свежеподметённый коврик у порога.
Конечно, сор не долетел, но мелочь стаи поняла своё дело и взялась исполнять. Ана поставила к стенке веник и молча, с нарастающим недоумением, следила, как только что вычищенный дворик покрывается слоем каменного крошева и метками плевков…
— Ну, глупо же, — наконец, вслух огорчилась Ана. — Было так чисто, осталось только полить улицу водой, всем лучше, свежесть…
Стая захохотала и затявкала, мелочь подвинулась ближе к жертве, трое новых участников игры вынырнули из-за угла и присели у самого порога дома, отрезая Ане путь к отступлению.
— Вэй-наа, сопля! Ты купил место в доме, — вожак не открыл глаз, но наконец соизволил показать, что не спит. — В доме купил, а улица наша. Вся улица, вся! С нами надо договориться, чтобы жить. Ты глупый, не поклонился, не припал к ногам. Тебя надо наказать. Мы накажем, вэй? Накажем, после возьмём деньги. Все, вэй? Неси в зубах сам, сопля, торопись. Вэй-наа, вдруг зубы уцелеют.
Произнеся такую длинную речь, вожак зевнул и снова сделал вид, что спит. Ближние прекратили игру в кости и обернулись к жертве, с презрением рассмотрели худенького чужака, даже для их стаи очень мелкого.
Вервр замер, ощущая, как тёплый гранит потрескивает, крошится под сведёнными судорогой пальцами. Ан почти верил, что не намерен вмешиваться. Врагу он обещал всего лишь вырастить девочку. Он знает, что атла не убить так вот запросто, он понимает…
— Беги, — беззвучно шепнул вервр.
Ещё он знает, что Тосэн прав. Нельзя прожить долгую жизнь за чужой спиной. Рано или поздно придётся потерять эту часть детской наивности — веру в добрый и справедливый мир, где тебя кто-то обязательно защитит. А ещё это очень важно: первый раз увидеть страх глаза в глаза и решить, кто он тебе и что он с тобой может сделать. Что ты позволишь ему сделать! Хуже страха только полное бессилие, и его тоже придётся однажды пережить и принять. Вервр скрипнул зубами и нагнулся, почти готовый скользнуть вниз. Он сознавал, что частью души ненавидит себя за решение не вмешиваться, а другой частью презирает за слабость, за желание вмешаться.
— Беги, — губы снова нарисовали беззвучный совет.
Бегала Ана так, что у стаи не было никаких шансов догнать! И лазала по стенам прекрасно, и видела в темноте великолепно, и…
— Могу я спросить вас, — сказала Ана, и вервр вздрогнул, поскольку ожидал чего угодно, но не этих слов и не этого тона, по-прежнему вежливого и чуть огорчённого.
Ана прошлёпала босыми ногами мимо ошарашенных ближних вожака и встала прямо перед тем мальчиком, которого вервр счёл интересным. Ана нагнулась и смотрела теперь в макушку неподвижного молчуна.
— Им нужны мои деньги и зубы. Вам тоже? Прошу, ответьте. Мне важно знать.
— Вэй-наа… чудеса, — протянул вожак. — Наглый сопляк. Пора его…
— Безразлично, — едва слышно выговорил молчун и снова впал в оцепенение.
Стая подалась вперёд… и тоже замерла, ведь вожак не договорил, прерванный молчуном. И, — шире улыбнулся вервр, расслабляя пальцы и стряхивая каменную пыль, — вожак не посмел перебить парнишку, имеющего право сидеть у него за спиной и вообще — где угодно… Тот, кстати, снова был неподвижен, как каменная статуя. Даже дышал столь слабо и редко, что одному вервру это было заметно.
— Папа так же говорит, и часто, — Ана разогнулась и уставилась на молчуна сверху вниз, да ещё и руки упёрла в бока, как при разговоре со своим, знакомым. — Он врёт. Вы тоже.
— Стратегия двенадцать, — прошелестел неподвижный мальчик.
— Книга о сорока стратегиях, папа её наизусть знает, — оживилась Ана. — Двенадцать… Ага, знаю. «Когда противники превосходят тебя, выбери бегство». Хороший совет. Но я не могу. Папа велел ждать здесь. Папа сказал, что слабые живут в кольце страха. Папа сказал: смотри, с кем заговаривать, а с кем нет. Ещё папа…
Мальчик медленно и вроде бы нехотя запрокинул голову, чтобы от пыльных босых ног и до лохматой чёлки осмотреть того, кто смог его разговорить.
— Мой дед, пусть и по ту сторону жизни ему дастся вдоволь воды, сказал: живи сам и дай жить другим. Я здесь никому не мешаю. Мне никто не мешает. Да будет так.
— Пусть дастся ему вдоволь воды, — тихонько вздохнула Ана, вежливая к старым. Кивнула и отступила на полшага. — Всё равно врун.
Молчун не отозвался, уйдя в себя, как в нору — очень глубоко, так глубоко, чтобы не иметь повода нарушить унаследованную от деда мудрость.
Цвирк! Косо проскрежетал по стене первый брошенный камень. Вервр дёрнул головой, вроде бы помогая Ане уклониться. Он не зря год таскал её по южным пыльным городам и вовлекал в площадные представления, ставя к дощатому кругу, под полет метательных ножей. Толпа щедро вознаграждала слепого, Ана училась уклоняться, ни на что не отвлекаясь. Она и теперь не сделала ни одного лишнего движения: пропустила камень мимо щеки, вплотную, отворачиваясь от молчуна и вроде бы случайно избегая удара…
Один из ближних сунулся схватить за руку, Ана юркнула под его локоть и пошла дальше, ужом протиснулась мимо ещё двух рычащих недорослей. Нагнулась, пропуская второй камень — и подобрала веник.
— Снова мести-скрести, полно работы, — глубокомысленно сообщила себе самой Ана и тяжело вздохнула.
Вервр висел над крышей мазанки, цепляясь пальцами за край стены в ненадёжном, противоестественном для человека положении. Он уже спрыгнул — и ещё не упал… он уже мысленно убил — но ещё не нанёс ни одного удара.
Вожак вскинул руку, медленно опустил её раскрытой ладонью вверх — и получил от ближнего крупный камень. Стая, готовая рвать и грызть, замерла, ожидая решения, известного заранее. Вожак был унижен поведением чужака, ни разу не пожелавшего заметить главного на всю улицу недоросля. Вожак жаждал мести и самоутверждения. Он даже забыл о возможности выманить у жертвы деньги.
— Ты уже мёртв, — внятно сообщил вожак, замахнулся и бросил камень.
Вервр рухнул со стены — и снова вцепился в неё над самой крышей, скалясь от азарта, смешанного с озлоблением. Он сделал выбор, он нарушил свои же правила жизни — но в нем не нуждались!
Молчун вдруг оказался стоящим перед вожаком, спиной к нему! Брошенный камень не долетел до жертвы: он был запросто пойман и зажат в клещах большого и указательного пальцев молчуна, который опять замер статуей. Он наблюдал за Аной, не вмешиваясь: вот она хладнокровно всадила указательный палец в ямку меж ключиц прихвостня вожака, ближнего и самого опасного. Вот отступила на полшага, осмотрелась…
Использовать кромку ладони или кончики пальцев, а никак не кулаки, её учил сам вервр, поясняя подробности о соотношении силы удара и площади контакта. Но кто бы мог заподозрить, что Ана без колебания применит теорию в деле? Ведь при всякой стычке вервра с кем угодно она отстаивала неразбитые лбы и несломанные носы разномастных уродов!
— Дай жить другим, да? — неуместно, но совершенно искренне хихикнула Ана, не обращая внимания на одного из шакалов стаи, движением её руки обречённого хрипеть и корчиться в пыли. — Ваш дед мудрый. Вы тоже, когда не врёте себе. Вот. Ну, то есть благодарю. То есть… — Ана смущённо засопела. — У меня есть чай, ещё горячий. И молоко. Змеи любят молоко.
— Вэй, пустынник, чего встрял? — взревел вожак, шалея от происходящего. Он выругался… и отступил на шаг, когда молчун неуловимым движением перехватил пойманный камень удобно для броска. — Наа-ааа, на-аа, ты зря! Тебе не жить, вам обоим не жить, вэй-на! Не жить!
Вожак рычал и огрызался, отодвигаясь всё дальше в тень. Он слишком хорошо знал, что угрожать «пустыннику» можно сколько угодно. Куда сложнее исполнить обещанное. И очень молодой алый с такой яркостью дара — ходячая смерть, которую не следует окликать даже издали.
Стая зашуршала, отползая и растворяясь в ночи.
— В моем роду все воины обучаются со змеями, — тихо, удивлённо отметил пустынник. — Я предпочитаю белый чай зимнего сбора, но не откажусь и от молока. Почему на «вы»? Дважды почему ваша техника мне незнакома, если она змеиная? Трижды почему вы боец, если вы не алый? Я бы почуял схожую кровь.
— Меня зовут Ана, — поклонилась Ана. Осмотрела заплёванный грязный дворик и нехотя поставила веник к стене. — Папа сказал: с незнакомыми только вежливо, а лучше никак. Ну, когда его нет рядом. Он… упрямый. Нельзя спорить. Есть такое, в чем нельзя совсем.
— Ош Бара, род я не готов назвать, я ушёл из того дома и забыл то, что решил забыть, — чуть подумав, сообщил пустынник и вежливо кивнул.
Ана отвернулась и потянула на себя тугую дверь. Для плотности её закрытия к торцу вверху и внизу были прибиты куски толстой кожи. Вервр слышал, как скребут косяк гвозди на накладках, как пыхтит Ана. Руки плохо её слушаются, потому что запоздалый страх навалился и мешает не то что сжать пальцы — даже дышать. Пустынник тоже всё понял, помог открыть дверь. А ведь по закону его мест в дом приглашает и вводит хозяин, гость же следует за пригласившим, кланяясь порогу.
— Ещё есть плов, — постукивая зубами и совсем смущаясь, сообщила Ана. — Слушай, как же я испугалась! Ужас-ужас. Вот чую, что папа тут, я всегда чую его. Но я испугалась. Ты меня прямо спас. Да. Стратегия двенадцать, гадость. Да. Не хочу убегать.
— Либо хозяин дома плохо знает местное наречие, — задумчиво предположил гость, — либо это хозяйка. Я сомневаюсь, что войти в дом допустимо, пока ваш отец отсутствует.
Было слышно, как гость вопреки своим сомнениям распоряжается в доме, ищет покрывало и кутает Ану. Подбрасывает несколько веток в очаг, звенит медным чайником, принюхивается к плову и сглатывает голодный спазм. Замирает, наверняка глядя в дверной проем и еще раз решая, допустимо ли остаться и порушить ещё одно правило, когда их и так порушено за короткую жизнь слишком много.
Вервр разжал пальцы и лёг на крышу, разбросав руки и улыбаясь темноте ночи, не способной предать и рассказать хоть кому, что багряный бес умеет так вот — улыбаться. По дурацкому поводу, совсем дурацкому и достойному гнева или хотя бы кривой ухмылки, не иначе. Только что он стал свидетелем того, как просыпается самый загадочный дар атлов. Их умение зажигать огонь в остывших очагах душ.
— Полагаю, мне следует покинуть дом.
— Вот ещё! Я против. Вдобавок папа тут, точно. Только он ещё ледяной.
Ана зашуршала покрывалом, вмиг сбросив и его, и шок, способный трепать обычного ребёнка и даже взрослого часами напролёт. После такого-то происшествия! Но в её доме гость, и ей очень важен этот гость. Настолько важен… вервр ощутил укол незнакомого, а вернее забытого — ревности?
— Ледяной? — стоя в дверях, уточнил гость.
— Ну, он когда натворит всякого, делается вроде как ледяной, — охотно сообщила Ана. Она сопела и пыхтела и, не иначе, вцепившись в локоть гостя, тянула его в дом. — Да сядь же! Сейчас я… — Ана вышла на порог и посвистела, поскребла по стене, постучала ногтями по дверному косяку. — Пап! Ну пап, ты где? Эй! Ну плов же с крольчатиной, я же сама выбирала. Полтушки припрятала, сырое мясо… Эй!
Вервр перекатился по крыше, сел и возмущённо фыркнул. Его приманивают крольчатиной! Его зовут, как прирученную змею — стуча по стене и посвистывая. Он должен быть в гневе и, пожалуй, он должен сегодня не прийти, и завтра тоже. А ещё…
— Свежатину брось сюда, — велел вервр.
— Пап, а я не испортила ему горло? — испуганно уточнила Ана, поднимаясь на цыпочки и глядя куда-то в звёздное небо, мимо всех крыш.
— Нет. Мимо стратегии двенадцать надо думать о своём горле, только о своём. Я недоволен.
Ана убежала, чтобы немедленно вернуться. Примерившись, она бросила вверх мясо, завёрнутое в вялые листья. Вервр поймал и снова лёг на крышу, ощущая спиной тепло и принюхиваясь к остывшей, но ещё довольно свежей, кроличьей крови.
— Эх ты, — звонко стуча донышкам мисок, расставляемых на столе, Ана теперь воспитывала гостя, — удумал уходить, не поев. Я ужас как благодарна. Ну, теперь я могу болтать, сколько влезет. Вот за что благодарна. Пап у меня такой… он такой, что я всё время слушаю. Язык чешется, а я слушаю. Прям зудит, понимаешь?
— Прямо, — поправил вервр, облизываясь и принимаясь грызть особенно сладкую косточку.
— Твой папа ест мясо… сырым? — осторожно уточнил гость.
— А я почти не ем даже варёное, у меня свои недостатки, — примирительно сообщила Ана. Было слышно, как она плюхнулась с размаха на пол и стала укладывать подушки под спину, она всегда отдавала этому бестолковому занятию слишком много времени и сил. — Ты давно не был в доме? У тебя в глазах не отражается дом. Я вижу. Давно, значит. Ешь плов. Ты давно ни с кем не болтал, да? А…
— Уши, — прервал гость. Помолчал и задумчиво добавил: — зудят.
— То есть слушать тошно или не тошно, я не поняла, — с новым вдохновением принялась бормотать Ана. Забулькало переливаемое из кувшина молоко. — Вот я не спрашиваю ведь, почему ты ушёл из дома, хотя вся зудю… зужу?
Ана притихла, ожидая, что её поправят. Вервр облизал пальцы и фыркнул от возмущения. Какой смысл что-либо говорить, если тебя по-детски на это провоцируют?
— Мы стали богаты. Такое решение принял отец, я не смел оспорить и не мог принять ту цену, что оплатила достаток, — нехотя сообщил гость.
— А тебя звать Бара или Ош? Где настоящее личное имя-то?
— Бара, это имя выбрал дед. Я тоже позволю себе невежливый вопрос. Что вынудило тебя одеваться неподобающе?
Пауза вместо ответа оказалась такой длинной, что вервр успел доесть мясо, да и гость, судя по всему, насытился пловом в приятной ему тишине. Ана всё это время скребла в затылке, вздыхала, вертелась и шуршала. Не иначе, щупала ткань рубахи и штанов, мысленно перебирала иные вещи, брошенные в прежнем жилье, чтобы понять: как это — быть одетой неподобающе?
— Мальчиком, — подсказал с крыши вервр. Зевнул, спрыгнул во двор и нехотя шагнул к двери. Настороженно прижал уши: Ана всегда знала, убивал ли он, с первого взгляда. И это было… тяжело. — Моё решение. Я ращу её, но не мешаю делать глупости. В мире пустыни их спокойнее делать в таком виде. Приветствую, алый Бара. Зови меня Зан из рода Ан, или просто Ан. Как выяснилось сегодня, я унаследовал именно такое имя. Я за него скоро расплачусь, и затем я предпочёл бы вспомнить изначальное. Но пока бессилен это сделать.
Вервр нагнулся, минуя низкий дверной проем, скользнул по комнате и сел к столу. Ана немедленно принялась подбивать подушки под спину «папе», разрушив всю конструкцию вокруг себя. Гость не ахнул и не выказал удивления как-то ещё. Только один раз сбил дыхание, задержав выдох… То есть, — усмехнулся вервр, принюхиваясь к чаю, уже налитому для него в пиалу, — гость видел казнь на площади.
— Утром мы уходим из города и направимся на север, а после и вовсе за море. — Сообщил своё решение вервр. — Ош Бара, я уже обзавёлся одним бесполезным спутником, отчего бы мне мешать Ане сделать то же самое? Приглашаю в наш бродячий балаган. Временно. За морем постараюсь устроить вас в обучение к мастеру, который не спросит в оплату клятвы и не пообещает золота. Он умеет учить алых. В благодарность за мою неожиданную доброту вы покинете наш балаган, — вервр оскалился, — простившись с Аной вежливо и без обещания снова её увидеть. Так я смогу успокоить её душу и избавиться от вас, поймав двух кроликов одним движением. Трёх кроликов: вы присмотрите за наследником семьи Ан, сам он на такое не способен теперь и вряд ли поумнеет, даже случайно дожив до седины.
— Он тоже… цел? — гость утратил выдержку и поперхнулся чаем, великолепным белым чаем зимнего сбора, ценимым всеми, кто хоть что-то понимает в напитках горного княжества на далёком даже отсюда востоке.
— Он-то цел, — надулась Ана, давая понять, что и на сей раз рассмотрела, сколько пятен крови за ночь прибавилось на тщательно вымытых руках вервра. — Пап, нельзя было их оставить… ну, так, как есть?
— Нет.
Ана надолго замолчала, сопя и подливая чай то в одну пиалу, то в другую, по мере надобности. Наконец, она не выдержала тяжести тишины.
— Пап, ты не огорчайся, ты иногда… ледяной, но всё рано ты очень хороший человек. Очень-очень.
— Хороший? Человек?
Вервр зашипел, залпом допил чай, нащупал покрывало и завернулся, исчерпав все возможности примириться со странностями своей нынешней жизни. Мысленно он еще раз поклялся прикончить врага Клога. Но даже от предвкушения возмездия на душе не стало легче…
Путь Ула. Величайший
— Ярмарка — не ярмарка, а денежку вперёд, — щурился от смеха Ул, выторговывая урок. — На базаре дадут укусить один пирожок, а уж после предложат купить всю корзинку. И вы, Мастер О, не жадничайте! Намекните.
— Бесчестный ребёнок, ворующий даже во сне!
По лицу Мастера прошла трещинка, чтобы сразу зарасти. Торг он любил, и понимал его схоже с Улом. Так что сохранял каменное спокойствие, пока мог, но теперь не справился, треснул от смеха. Для первого царства дело обычное… Почти как для Леса, альва — подсохнуть от огорчения, вслушиваясь в ссору. Вон и кожа потускнела, и зелень глаз поугасла… Ул ободряюще подмигнул Лесу. Он уже понял: альв почтителен к старшим, а торга не понимает совершенно, при этом Мастера О числит за высшее существо, и не из-за его карты, а всей душой. Особенно теперь, когда получил дозволение воссоздать в здешнем мире небольшую замкнутую экосистему болотистого луга. Первые бутоны цветов раскрылись, пока Ул изучал гармоничность и раскладки золотых сечений, пока выманивал у Мастера О хоть намёк о технике рисования масляными красками.
— О Мастер О, я отравлен жаждой вернуться, — сокрушённо признал Ул. И снова огляделся в поисках Леса, ведь только что был тут! Наверное, снова копается в земле и лелеет свои драгоценные цветы… — Мне бы помолчать, а не могу. Что я знаю полезного в обмен на ваши уроки? Ну хоть что-то, а?
— Пользы в тебе на ноготь, не более… но я дам минимальные сведения о композиции и обрамлении, именуемом у ряда рас выбором кадра, — охотно сдался Мастер О, прищурился в предвкушении внимания ученика и вздрогнул, утрачивая личность. Монотонный голос высшего вмешался: — Тема закрыта. Обучение не будет допущено.
— Ну и ладно, — скороговоркой выпалил Ул, чтобы вернуть Мастеру свободу говорить и быть собою. — Так и так мне пора. Второе испытание. Что мне надо сделать?
— Задать вопрос тому, кто не даёт ответов, — Мастер О, как ни странно, сказал это осознанно. Грустно улыбнулся маленьким ртом, потёр руки, будто они мёрзли. — Он сильный. Сам по себе он коварен… более, чем кто-либо иной, пожалуй и так верно сказать, да. Вряд ли станет слушать тебя, а Леса точно не впустит, поскольку Лес из иерархии. Но постарайся, иначе ты удручающе скоро войдёшь в зал выбора и станешь… подобен нам. Иди в мир третьего царства, имя ему Нойд-ийе-Ос. Населён людьми, которые состоят в добровольном контакте с иерархией. Тебе помогут добраться до нужного места. Главный вопрос: «Вы согласны не менять границ?». Дополнительно будет оплачен моими уроками ответ на вопрос: «Это — он?».
— Премудр тот, к кому отсылают. Ну и вопросы, — хмыкнул Ул.
Поклонился по полному ученическому чину, отбросив шутки. Рядом уже стоял Лес. Ладони в земле, рукава перепачканы аж до ворота…
— Розовые цейи зацветут поутру, им бы дождик, тёпленький, — заискивающее попросил Лес у Мастера.
— В росе лепестки хороши для рисунка, — кивнул О.
Как и в прошлый раз, он рассыпался в пыль… Мастер не любил проводы и не желал показать, насколько волнуется. Торг за знания учинил, чтобы руки дрожали не без причины, — догадался Ул.
— Пошли? — Ул подал руку Лесу.
— Нойд-ийе-Ос неплохой мир, в нём даже лес не весь изведён. Так, потравлен малость, — Лес дёрнул плечом. — Люди…
Он положил ладонь на плечо Ула и шагнул, привычно придерживая приятеля второй рукой под спину. Ни тошноты, ни утраты равновесия не приключилось. Дыхание, и то не сбилось!
— Бывал здесь? — удивился Лес и сам ответил: — Нет, как бы ты смог до объявления себя наследником? Хотя странно. Обычно мы легко шагаем туда, где уже гостили.
— Ты ненавидишь людей? — Ул толком не знал, отвлекает этим вопросом от опасной темы или уточняет важное, сокровенное.
Быстрого ответа не последовало. Ул использовал паузу, чтобы оглядеться.
В мире Нойд-ийе-Ос гостей встречали помпезно и бездушно, очень по-людски и по-городскому. То есть показывали себя, приращивали свой статус, старались навязать свои обычаи… И не пытались спросить, в чем дело и какая нужна помощь. Друг Дорн, знаток всяческих столиц, вмиг бы ощетинился и заявил: здесь гостей норовят ткнуть носом в свой закон, вмиг сделав провинившимися котятами… А как ещё понять происходящее? Вместо того, чтобы представиться и выделить провожатого, люди занимаются пустым делом: удаляют последние пылинки с парадной дорожки, расставляют местную знать на возвышении, целят в неё из каких-то темных трубок, кланяются. Машут руками, указывая места для новых и новых машин, прибывающих по кем-то утверждённому протоколу.
«А ведь место приметное. И мир — знакомый!» — решил Ул, расширяя границы внимания.
Берег реки. Широченная лента спёкшегося камня тянется вдоль берега. Позади суеты встречающих и их машин, фоном — город… Может статься, тот самый, куда случайно забросило Ула и Дорна при первом безрассудном использовании врат. Уж точно именно в этом мире Дорн встретил Чиа, а Ул вылечил Лоэна, драконьего вервра. Как он тогда полагал — своего будущего Учителя. Вот почему так просто было шагнуть в мир: Ул здесь однажды гостил, всё верно.
Захотелось отвернуться и убраться из мира Нойд-ийе-Ос куда угодно, лишь бы подальше! Много раз Ул думал о Лоэне и неизменно ощущал горечь, нарастающую. Гнал мысли, а они, вроде ос, возвращались. Кусачие, неуёмные: чуют, что дело попахивает дрянью — и роятся, жалят!
В прошлом, ещё не зная о наследстве, мальчишка Ул восторженно внимал мудрецу Лоэну. Загадывал на будущее: встретить драконьего вервра снова. Улыбнуться ему, как другу. Поклониться, как наставнику.
Ул скрипнул зубами и постарался дышать сквозь боль. То время ушло… а горечь накопилась и вызрела. Сейчас он знал: несостоявшийся учитель лгал с самого первого дня общения. Получив излечение, вытребовав себе приглашение в четвертое царство, Лоэн отечески похлопывал Ула по плечу и показывал себя в лучшем свете. А сам готовил «ученика» на роль жертвы багряного беса. Затевал большую игру? Сводил старые счёты в новом времени?
— Пожалуй, уже нет, — вздохнул Лес.
— Прости, отвлёкся, — вздрогнул Ул. — Что я спросил? Да, про людей… и ненависть.
Ул отвернулся, пустыми глазами уставился на толпу встречающих. Он наверняка знал, что Лес теперь не видит его лицо. Зачем альву переживать? Объяснить-то нельзя… И что сказать? Мол, знаю я вашего «не отвечающего на вопросы», это я спас жизнь драконьему вервру восьмого порядка опыта. А он обманом выпросил приглашение в мой мир и учинил в городе Тосэне бой, который был ему не труден, но прежде мнилось иное… Всё — обман. Тем боем Лоэн не расчищал мир от угроз, а лишь наносил личную печать победы на главную площадь. Он с самого начала, скорее всего, планировал войти в четвертое царство и там, как сказал бес Рэкст, «свить гнездо». То есть закрыть город для всех прочих бесов иерархии.
Так больно. Ул помнил себя у края стеклянной площади. Он помнил то чувство горячей боли и благодарности. Как же, Лоэн — спаситель! Благодетель…
Сейчас Ул протрезвел и повзрослел. Он стал палачом, приняв бремя и карту Рэкста. Пришло осознание: увы, в игре премудрого Лоэна малыш Ул низведён до роли исполнителя-муравья… или ещё ниже. Для Лоэна он — ничтожная карта. Даже без иерархии и выбора, он Лоэну — карта. И он уже использован.
— Олень ест листья, молодые древесные побеги, — выговорил Лес. — Ты слушаешь? Тебе дурно, да? Пройдёт, это запоздалая отдача от перемещения.
— Вроде того. Но я слушаю.
— Дыши, полегчает. Олень… могу ли ненавидеть его, если я взрастил дерево и сам немного… дерево, — Лес глядел под ноги. — Дровосек срубил дерево и согрелся в зиму, могу ли обвинить его? Но люди берут больше и больше, ненасытно. Неблагодарно. И, наконец, невосполнимо. Доводят природу до обрушения. Даже не умеют осознать свою вину и принять помощь! В моем любимом мире, я хотел бы забыть, но помню: люди звали меня «старьёвщик». Словно я обязан чинить и латать. Однажды я решил, что людей стоит… упорядочить. Казалось, отдавая иерархии часть свободы, я отказываюсь от личной мести, — Лес с трудом оторвал взгляд от мостовой и медленно поднял, чтобы встретить внимание Ула глаза в глаза. — Стало лишь больнее. Ненавижу себя. И иногда их… И очень темно. Мы, альвы, без света и тепла гниём. Уже давно я дышу и хожу лишь по приказу иерархии. Я весь… труха. Рассохшаяся коряга.
— Нет, не так. Ты взаправду живой, — заверил Ул, обхватил обеими ладонями руку Леса и прижал к груди, баюкая. — Всё образуется. Всё, кроме людей… тут ничего не поделать. В деревне, где я рос, было многовато пакостников. В городе, куда перебрался, их нашлось и того больше. В столице вовсе навалом! Тут крыши ещё выше, а стены как в клетке: ловят слабых и горбят сильных. Тут пакостников гуще густого! Всё равно ненавидеть — дело лишнее. Не трать себя на такое.
Ул усмехнулся и внимательнее глянул на людей мира Нойд-ийе-Ос, переминающихся на возвышении. Церемония встречи, прямо скажем, сорвалась. Но люди ещё надеялись на вежливость гостей и на их низкое положение в малопонятной иерархии.
— Тогда — как быть? — удивился Лес.
— Хорошо, что не ты задал мне задание, — расхохотался Ул, не отпуская руку альва. — Вот уж нет ответа, вовсе нет! Ты дыши. Пока дыши без ненависти, уже много.
От возвышения разнёсся шум. То есть сперва Ул решил — шум, после сообразил: музыка. Бумкает, бряцает, дзинькает. Утихла…
— Приветствую высоких гостей из центра, — проревело сверху и с боков, отовсюду, повторяясь эхом и многократно усиливая значимость местного важного человека. — Мы горды тем, что вступили в большую галактическую семью и однажды понесём её идеалы в иные миры. Мы…
Ул поморщился, более не вслушиваясь. Винно-лиловая дорожка с мелкими звёздочками как раз дотянулась языком до того места, где он стоял. Местные слуги расстарались, раскатали и расправили.
— Хорошо, я расскажу тебе про людей кое-что важное, дикий альв. Слушай и учись, — Ул скопировал столичную кривую ухмылку друга Дорна. — Худшие люди поддаются дрессировке, как лошади и собаки. А лучшие плюют на такое подлое дело, и за это жизнь у них не мёд. Остаётся или обижаться и ненавидеть, или быть собой. Без мёда. Даже если во веки вечные — без мёда.
Ул вздёрнул подбородок, кое-как удержавшись от презрительного, не очень приличного жеста, принятого на всех знакомых базарах родного мира — и пошёл мимо дорожки, по косой, к приглянувшейся машине. На возвышении кто-то отчётливо икнул, и звук оказался усилен. Шёпоты и шорохи оборвались, стало тихо, и с каждым шагом Ула всё тише.
— Но… церемония, — Лес дёрнул за локоть, пытаясь направить Ула на парадную дорожку.
Его усилие развернуло Ула и рассмешило.
— Вот тут мы с тобой разные люди… то есть бесы, — в натянутой тишине голос Ула звучал особенно громко. Он тряхнул волосами, и ветерок раздул искорки серебра на кончиках. Не глядя на перекошенные лица людей, Ул почти кричал альву: — Чихать мне на их церемонию! На иерархию и ценности этой… как её там… галактики! Я вежливый только с теми, кого уважаю. Еще я умею быть почтительным, когда дурачу ублюдков, чтобы ловчее провести их и не получить по шее. А что здесь? А то… Пусть добудут другого балаганного беса и его донимают.
Ул переупрямил Леса и потащил к машине. Краем глаза он видел, как один из людей вцепился в тонкий стержень и, комкая слова, очень быстро заговорил в его верхний срез. Человек суетливо поправлял одежду и пытался подать знаки слугам… И — потел. Он все ещё хотел казаться хозяином положения.
— Мы спешим, — ныряя в машину, сказал Ул и рывком втянул Леса. — Вас предупредили, мы зверски спешим!
— Д-да, гость, — с запинкой выдавил человек за рулём. Ул как раз теперь вспомнил его название: водитель.
Лес еще раз судорожно дёрнулся, пытаясь выбраться из машины и спасти местного князька от провала и прилюдного позора. Хотя и то, и другое по мнению Ула было мелко и, вдобавок, заслуженно.
— А ты говоришь «ненавидеть», — пробормотал Ул. — Ты просто распустил… своих. Всегда надо знать, кого бить, а кого защищать. Это бесовски сложно! Но ты не маленький, мог бы разобраться. Только ты высохнешь в труху, а бить не сможешь. Я теперь понял.
— Возмож-можно узнать ваше имя? — трогая пищащую подсказками горошину в ухе, заблеял человек за рулём.
Ул повёл бровью и уставился на Леса. Тот плотнее сжал губы и сморщился всей кожей, еще сильнее подсох.
— Имя… можно, разве нет? — осторожно удивился Лес.
— Не их щенячье дело, — подмигнул Ул, хотя внутри кипело много чего, и всё это никак не относилось к здешним людям. Не они довели Леса до отчаяния! И даже в поведении Лоэна виновны не они. Не эти и не теперь… — Эй, Лес, прекрати переживать. Потребуй сменить машину. Или скажи, что по такому грязному городу, где нет деревьев и зелени, тебе противно ехать. И чтоб не уродовали лес.
— Зачем? Что-то изменится? — насторожился Лес.
— В мире — нет, — пожал плечами Ул, чуть успокоившись. — Чихал я на их мир! Я с тобой говорю, о твоей жизни. Нельзя найти в отношениях с людьми что-то кроме ненависти, если смотреть на них молча, со стороны. Не молчи! Очень прошу: кричи, ругайся и делай глупости! Поживи в городе, походи по улицам, поговори с обычными людьми, а не этими… свиньями на параде. Эй, водитель, останови!
— Сейчас? — поразился Лес. — Но я же…
— Мастер О сказал: тебя не пустят задавать вопросы. Ты свободен до моего возвращения. Очень прошу, потеряйся. Поброди и попробуй поговорить с самыми маленькими людьми, вот такого роста и ниже. Дети, таких знаешь? Помнишь ещё? Понял, что я прошу делать?
— Нет, — Лес вздохнул, прикрыл глаза и замер. — Высшие не порицают. Ты удивил их. То, что я наблюдал на церемонии, названо нетипичным поведением. Это спровоцировало разрыв в их шаблоне оценки наследника атлов. Меня поощрили за умение тебя разговорить… одобрили метод откровенности. Пойду теряться в городе.
— Иди.
Ул хмыкнул, выпихнул альва из машины. Хлопнул дверцей и подмигнул водителю.
— Трудно с нами? Ну, прости. Я зол не на тебя. День такой… не задался день. Меня зовут Ул. Там, откуда я прибыл, за многое расплачиваются ответами на вопросы. Вроде бы я задолжал, ведь я был груб. Есть вопросы?
— Почему лично мне кажется, — поморщился водитель, когда машина набрала скорость, — что вы, гость, приметесь ещё веселее проводить время, принеся извинения? И что мы наплачемся с вами, о гость, не похожий на всех, кого мы встречали прежде… Так, вот первый утверждённый вопрос: вы человек?
— Как бы исходно… да. Но уже теперь, пожалуй, не совсем.
— Ответили, — покривился водитель. — Как вы рождаетесь? Такие, как вы.
— Лично меня к маме Уле принесло по реке, в корзинке, — охотно сообщил Ул. Дождался, пока водитель недоуменно оглянется через плечо и подмигнул: — Слово чести, дядечка!
— О боги…
Ул расхохотался, сел удобнее. Он не сомневался, что теперь станет веселее. Водитель ему попался неглупый, а злость куда-то надо деть до того, как откроется вид на стеклянное поле, отделяющее лесистые низины людей от горных владений Лоэна.
Беловолосый драконий вервр ждал гостя у края стеклянного поля.
Лоэн не взглянул на шумную летающую машину, которая доставила Ула. Он и на Ула не желал смотреть, направя взгляд вдоль стеклянного поля — вдаль и вверх.
— Уходи, — процедил сквозь зубы Лоэн и отвернулся.
— Хотите, чтобы я встал тут, у края, и прокричал всё, что думаю о вас? Пусть слушают, кому не лень. Тут ушей, пожалуй, предостаточно.
— Пожалуй… Шагай туда, к скалам. Покричи и убирайся, — процедил сквозь зубы драконий вервр, кончики его волос всколыхнулись и слегка засветились.
Отдав приказ, хозяин гор удалился как-то неловко, будто слепой. Он не оборачивался и не выбирал удобную тропу. Ул побежал следом, чтобы не отстать. Когда стекло закончилось, Ул ступил на траву и оглянулся: вполне ожидаемо позади выросла туманная стена. Лоэн не терпел лишних глаз и ушей при ссоре… Ул повернулся к горам, сложил ладони лодочкой и крикнул: «Эн! Дра-ко-о-н…».
Огромная голова возникла из-за холма. Глаза с грустным и хитрым прищуром сморгнули — и белый дракон сразу оказался рядом. Лёг в траву, свернул усы удобными петлями. Ул сел на ближний ус, откинулся в витке петли и улыбнулся дракону.
— Эн, я так хотел увидеть тебя! Сперва думал ругаться с твоим вервром. Но пока ехал сюда и летел, мне стало стыдно. Ты терпишь его столько веков! А тут я с детскими придирками. Эн, ради тебя я прощаю его заранее и навсегда. Ну, строил твой Лоэн из себя благодетеля, объявил меня наследником и не дал пояснений. Ну, сдал меня, как жертву, бесу — багряному или иному, кто первый домчится. Ну, создал удавку: выйдет Ул из защищённого печатью города — умрёт, не выйдет — из-за своего страха откажется от наследства.
— Выговорился? — пробормотал за спиной тусклый голос Лоэна.
— Я не с вами говорю, хэш Лоэн. Я не хочу с вами говорить, мы поругаемся. Правду вы не умеете высказать вслух, а ложь ваша умна, но ядовита и вам, и мне. Я понял силу её яда, когда мой друг Сэн истекал кровью, а Лия плакала и ни на что не надеялась. Помните таких? Вам они не друзья и не враги, но вы их… использовали. Подлее хэша Дохлятины подставили под удар. И их, и даже Чиа. Мне было больно. Очень.
— Мир сложнее, чем полагают дети, — посетовал Лоэн. — Иногда надо учить, бросив в воду. Как щенка.
На запястье Ула резко, колюче, шевельнулся браслет. Тот самый — только теперь о нем, о частице Шэда, и вспомнилось… Ул поправил браслет и взглянул на дракона. Глаза Эна сощурились в едва видимую щель и наблюдали змейку с восторженным предвкушением… Ул покосился на вервра. И сглотнул ком недоумения! Лоэн так же слепо пялился на горы и небо, он определённо не получил от своего дракона никаких намёков по поводу присутствия Шэда! Стоял почти спиной к Улу и молчал. Как-то тихо молчал, потерянно.
— Иногда надо говорить правду, — посоветовал Ул. — Я хотел истратить на вас вопрос, который нёс королеве: зачем вы так? Но я вроде бы сам понял ответ: из-за вины и страха. Вы готовы уничтожить меня, чтобы ваш брат не вспомнил о себе и о вас. Есть в прошлом нечто непоправимое. Вам больно. Я понял и не могу больше злиться.
— Много ли ты понял, — вздохнул Лоэн. — Хочешь правду? Вот она: первый из наследников обречён. Для меня это слишком очевидно. Ты — лишь мираж, отвлекающий ярость большой охоты, пока где-то неприметно растёт более сильный наследник. Он впитает в кровь ошибки и опыт прежнего. Он тоже умрёт. И так — пока не справится очередной. Называется алгоритм со многими итерациями и постепенным приближением к успеху.
Погладив драконий ус, Ул шепнул: «Уж не бросай его, хотя бы ты!»… и обернулся к вервру. Лоэн выглядел спокойным. Во взгляде ни вины, ни интереса… ни жизни.
— Не судите по себе. Атлы не стали бы играть в эти ваши… итерации. Могут ли меня убить? Конечно! Убьют ли? Почти наверняка, путь-то неблизкий, а я слишком мал и неопытен. Но это мой путь. Я постараюсь пройти как можно дальше. Жаль, что без ваших советов и поддержки. Жаль, что я кого-то другого назову учителем. Очень жаль, ведь вы опять испытаете боль. Вы не так и плохи. Просто устали, разучились верить. Но я не мираж, я — человек. И всякий, кто пойдёт следом, тоже человек. Он будет вами предан или поддержан. И вам будет больно при любом вашем выборе.
— Закончил?
— Почти. Один вопрос от себя лично: граф Рэкст, он же багряный бес, не помнит своё имя. Он вам вроде бы брат. Вы готовы назвать его имя? Прежнее, древнее?
— Нет.
— Значит, я прав. Что-то случилось в прошлом. Так трудно попросить прощения… или простить? Если вам будет посильно, попробуйте с ним встретиться. Даже не называя имени и не пробуждая память… Он живее вас. Злее и живее. Обещаю: будет нескучно.
— Уходи.
— Я ещё должен задать два вопроса иерархии, с ними меня и прислали.
Лоэн отвернулся от гор и сосредоточенно-холодно усмехнулся, глядя в глаза Ула. Таков он был, когда собирался играть с хэшем Хэйдом, — припомнил Ул.
— Первый их вопрос очевиден. Скажи: пока я не буду менять границ. И второй, — Лоэн прищурился. — Вряд ли я ошибаюсь. Передай: сомневаюсь, это лишь первая итерация. Перспективная, но сырая.
— Запомнил, — Ул почесал в затылке, шалея от наглости и не имея сил удержаться. — И самое, самое последнее.
— Уходи! — Лоэн отвернулся и направился к скалам.
Проводив его взглядом, Ул погладил драконий ус, позволяя змейке-браслету коснуться чешуи дракона. Запястью стало очень горячо. Змейка скользнула, заново свилась в браслет, но чуть иначе. Глаза, похожие на драгоценные камни, засияли ярче.
— Эн, ну и вервр у тебя… весь извёрнутый. Знаешь, однажды я стану взрослее и все же попрошусь к нему в ученики. Только пусть до того помирится с братом, ага? А пока… Эн, покатай меня. Над горами, высоко-высоко. Можно?
Дракон расправил усы, сбросил гостя в траву — и широко улыбнулся…
Небо при взгляде с луга было синее и ласковое. В пять взмахов крыльев оно приобрело глубину и уплотнилось, будто мир внизу был нарисован разбавленными красками, а чем выше — тем они дороже, богаче… для избранных! Когда кожу обжёг холод, когда он инеем осел на ресницах и бровях, фиолетовое небо смотрелось драгоценнейшим ковром, а горы далеко внизу — узором заглавья к истории целого мира. Ул хохотал, отдавая остатки тёплого плотного воздуха и вдыхая разреженные иглы стужи. Дракон ревел и изрыгал сине-серебряное пламя, и весь оплетался сетью крохотных молний, играющих радугами в каждой чешуйке.
На запястье Ула змейка-Шэд удлинилась, приподняв голову. Она тоже улыбалась во всю пасть, вывесив по ветру трепещущий раздвоённый язычок.
— Эн, ты знаешь Шэда! — кричал Ул. — Ты дрался с ним? И было ве-се-ло!
— А-ррр, — ревел дракон, разъярённый тем, что он куда честнее своего вервра, и потому не способен нарушить данного ему обещания. Он бы мог назвать имя! Он бы хотел…
— Не переживай, вы же иногда одно целое, пусть будет, как он решил, — склоняясь к самой чешуе, шепнул Ул. — А я всё равно доберусь туда, куда иду! Я упрямый.
— Шэд! — шипела змейка на запястье.
Внизу ковром расстилался лес, синими драгоценными камнями лежали озера, наростами кристаллов — порой уродливых, а иногда и красивых — грудились людские поселения.
Дракон взрыкнул вибрирующим басом — и спикировал. Ул задохнулся, раскинул руки. Он удержался на носу Эна лишь потому, что ус дракона был крепко намотан на его пояс.
Город рос с каждым мигом, глаза смаргивали иней, а затем слезинки. Цвет неба смягчался, зелень внизу приобретала привычные оттенки, мчалась навстречу, обрастая подробностями и заслоняя, вытесняя недосягаемый горизонт…
— Эй, Лес! — издали узнал приятеля Ул. — Ле-ес!
Он скатился с драконьего носа в низшей точке пике, пребольно грохнулся спиной о камни и стал смотреть, как белый с алым Эн, прекраснейшее в мире создание, уносится ввысь, снова становится сказкой, недосягаемым чудом…
— Это был… он? Величайший, — почтительно шепнул рядом голос Леса.
— Это дракон, без вервра, — продолжая улыбаться, выдохнул Ул. — Я схожу с ума… Я уже не знаю, что на свете самое-самое сладкое и до чего я жаднее: до новой беседы с Шэдом, уроков Мастера О по композиции или… Нет, пустое. Всё пустое, когда Эн в небе! Я счастливейший из людей и бесов. Каждый день — праздник.
— Ты, если присмотреться, сам ещё вот такого роста, — голова Леса появилась в поле зрения. Альв улыбался грустно и светло, справа и слева улыбались две мордахи детишек лет семи, по ним Лес и указывал рост. — Ты прав… есть те, кого нельзя ненавидеть. И сегодня был праздник. Только нам пора. Он дал ответы?
— Да. Слушай.
— Погоди, на сей раз тебя желает лично выслушать она… карта «Ключ», — Лес резко подсох всей кожей, его глаза выцвели. — Высшая карта. Особенная.
Столичные истории. Последняя соломинка
Утро началось с убежавшего молока. Ула поняла это, едва приоткрыв дверь в обжитую пристройку дворца. Травница сокрушённо покачала головой, сменила башмаки на домашние туфли: её пара стоит на обычном месте и, как обычно, вычищена. Таков уж слуга этого дома. Если хочет, умеет всё, а уж если не хочет… так его и бес не заставит! Шель в зиму поворошил старые сплетни и вызнал, что этот самый слуга отчитывал багряного Рэкста прилюдно, и не раз! Угрожал уйти домой в деревню. А бес слушал, щурился от сдерживаемого смеха — и молча терпел упрёки. Рэкст сгинул, его дворец опустел, а слуга всё служит…
Навязчивый запах подгорелого молока доказывал победу слуги над новым хозяином в вопросе приготовления завтрака. Слуга ещё в зиму сказал: или он выбирает продукты, или «ешьте, чего у вас там спроворится!»… Граф Тан выслушал это своеобразное объявление войны и страдальчески кивнул. Детское упрямство нового хозяина имения не мягче каменных старческих убеждений слуги… И вот — запахами кухонной войны пропитался весь дворец. Постоянные проветривания создают сквозняки, они же в холода мешали протопить немногие жилые комнаты и постоянно угрожают сыростью роскошнейшей библиотеке.
— Стар и мал, и нет им лекарства, вовсе нет, — посетовала травница, кланяясь портрету графа Рэкста, вывешенному неугомонным старым слугой и возле этого входа в дом. — Что же вы, батюшка, пропали и знака не шлёте? Избрали себе наследничка, нечего сказать. Ведь воюют, ни за что воюют, а вам и дела нет! Хоть чую, была у вас затаённая мысль, а то и вовсе надежда сокровенная. Была… а мне и невдомёк понять, и даже Лофру моему не по силам. Лия вон, головушку клонит, устала гадать, а от вас ни единой подсказочки.
Мягко упрекнув отсутствующего беса, Ула ненадолго замерла, глядя в тёмные глаза портрета. Слуга сказал: работа старая, ей века три. Рэкст редко дозволял изображать себя, придворные художники у него приживались и того реже. Всегда вне свиты, вне обязательств и долгов. Эти странные люди шлялись по городу, безнаказанно задирали кого угодно, заводили романы, влипали в истории… и прятались от последствий во дворце всемогущего покровителя.
— Видно, крепко вы заняты чем-то, — вздохнула Ула. Припомнила старого слугу, всякий вечер готовящего тёплое вино с травами, чтобы вылить, никому не дозволив отведать. — А всё одно, нехорошо. Навестили бы.
Напоследок кивнув портрету, Ула пошла далее. Каждый раз, посещая «бесов дворец», она испытывала душевное смятение. Вся столица знает: багряный Рэкст был ужасен, сам Лофр убеждён, что бес — враг Ула… Так почему ограда владений Рэкста, неприступная для людей и после того, как он покинул столицу, для неё, матери врага — невидима и неощутима? И отчего глядеть на портрет тревожно? Бес кажется живым, а глаза его словно следят за всяким гостем дворца.
Первый раз Ула пришла ко дворцу год назад, после тягостных похорон бесценного друга, первого учителя сына — Монза. Душа истекала кровью… Но Ула добрела, опираясь на руку Шеля. Надо было попасть сюда, и спешно! Лия осталась одна в безжалостном, ядовитом кольце сплетен.
Год назад, когда столица зашепталась о бесе-отравителе Альвире и приплела к его темным делам княжеский род, сам князь взялся ответно распускать сплетни и выбрал для них удобную мишень — Лионэлу хэш Донго. Он был по-княжески прав: тянуть в грязь Лофра опасно, канцлер сам кого угодно смешает с грязью. Его доверенный — Дорн хэш Боув — изыскивая причастных к делу с отравой наворотил такого в день, создавший сплетни, и тем более в памятную следующую ночь, что упоминать красноглазого выродка стали реже прежнего и очень, очень тихим шёпотом. Вдобавок, он теперь третий канцлер, дорос-таки до высокого места… Беса Альвира начали откровенно бояться. Шутка ли, запустить яд в колодцы, откуда берут воду для дворца! А что яд не смертоносный, а меняющий поведение и настроение — то не всякому ведомо. А что яд не один и не только в тех колодцах — и вовсе почти никому…
Явно в делах того дня оказались замешаны семь семей нобов.
Лия в тот день, по мнению города, потеряла мужа, влияние и доход… Она и стала удобной мишенью для ядовитых стрел сплетен. Говорили, не таясь: мужней смертью оплатила жажду власти, бывала с князем наедине и уж точно доводится ему любовницей, оклеветала советника Хэйда и вынудила бежать из столицы… Таковы самые громкие разговоры. Их, кривясь и рыча, пересказал Лофр. Муж — нежданное счастье осени жизни, клинок, а не просто человек. Надёжный, умеющий отрубить правду от лжи, даже по живому, без жалости… Лофр ненавидел сплетни, но неизменно был в курсе, это ведь столица, заткнуть уши — значит, умереть. Лофр редко пересказывал сплетни жене. А на сей раз не смолчал.
Лия слишком быстро и смело шагнула в коридоры дворца, — пояснил Лофр. Покривился, растёр старую рану. Лофр по себе знал: интриги неизбежно причиняют боль. Получив особенно сильный удар, остаётся либо «умереть» — покинуть столицу и отказаться от борьбы, либо справиться, подняться ещё выше во власти, связях. Тогда сплетники и завистники, травившие тебя, станут твоей же прикормленной сворой… до поры.
Год назад Ула добралась до дворца беса Рэкста. Переборов сомнения, толкнула узорную ковку калитки… Открыто? Шель пояснил: дворец не нуждается в засовах и сторожах. Сила беса непостижима. Страх и мрак… хоть малое их семя сокрыто в любой душе. Шагни за калитку, и то семя пустит корни, проклюнется первой почкой сомнений, окрепнет, порвёт душу ужасом, разрастаясь бесконечно!
Никто не бывает полон света. Красивая сказка — умение безропотно прощать врагов и любить ближних. На словах это просто, а на деле? Глубоко в душе найдётся крупица зависти, злобы, памяти о прежних обидах, страха… Еще Шель сказал: отчего-то бес защитил от яда проклятия своего официального наследника Тана. И отчего-то тот имеет силу пригласить гостей… вот только пока из приглашённых смогла войти и не сбежала на третьем шаге только Лия.
Ула дослушала, по деревенской привычке поклонилась дому, ведь, если тут пролегает защита, здесь и порог. А дом следует уважать.
— Мне бы деточку Лию навестить, — пояснила Ула узорной калитке. — Болеет она, сердцем чую. Вот, травы приготовила.
Шель, убеждённый в правоте любых слов и дел наставницы, показал калитке корзинку и обернулся с заранее заготовленной улыбкой. Проследил, как Ула минует порог…
— Благодарствую, — снова поклонилась Ула, уже из парка. — Шель, деточка, чую, тебя-то не пропустят. Руки твои больно ловки, к ним что только не липнет в чужих домах.
— Есть такое, — признал Шель вроде бы сокрушённо, но очень легко.
Он отдал корзину, сел у калитки снаружи и прикрыл глаза, подставя лицо солнцу. Задремал, не забывая присматривать за улицей из-под ресниц.
В парке давно не косили, по забору крапива так и перла, норовя подняться выше кованной решётки. Холмики на месте цветников едва угадывались, на некоторых колючим валом разрослась бывшая роза — цветки малы и просты, зато шипы в полной силе. Тут и там ежевика душила кустарник, споря колючестью с розами.
Ула шуршала травой, слушала пение птиц, понятия не имеющих, что вокруг — город! И не абы какой, а Эйнэ, столица княжества Мийро, крупнейшего среди известных травнице.
Без каких-либо странных ощущений в душе Ула добралась до дворца. Растёрла лодыжку, покусанную крапивой. С любопытством осмотрелась. Перламутровый мрамор выстилал площадь с опустевшей чашей фонтана посредине. Правее и левее главного входа размещались беседки. По фасаду дворца под крышу поднимались искристо-белые колонны, а по их верху, на лиственный узор был пущен зелёный с молочными прожилками камень. Крыша у дворца — медная, замшело-зелёная… Все окна средней части — в медных дорогих переплётах, стеклянные от пола до полотка. За окнами смутно виден огромный зал, наполненный солнцем. Крыша над ним особенная, со стеклянными вставками.
Лестница дворца широка, князю на зависть. Ступени белее снега, ни трещинки — ни следа затёртости. Только наглая трава кое-где пробует втиснуться в волосяной зазор кладки.
Ула снова поклонилась. Робко погладила перила и стала подниматься по краешку широченной лестницы. Семь ступеней… и вот он — вход. Надо лишь миновать пространство от колонн до дверей, которое вроде бы именуется галерея, и так оно широко — никак не назвать крыльцом! Карета проедет.
Стучать в двери оказалось бесполезно, никто не услышал, не открыл. Зачем? Не заперто, а только воров и гостей всяко не приходится ждать или опасаться.
Внутри дворца Улу первым обнаружил старый слуга. Так удивился, что не посмел возмущаться. Долго щурился, рассматривал…
— Он пустил бы тебя, у него глаз-то намётан, — решил, наконец, слуга.
— Прощения прошу, кто пустил бы? — поклонилась Ула.
— Хозяин настоящий. Граф мой, сам Рэкст багряный, — грустно и гордо слуга выговорил титул и имя, дождался, покуда утихнет эхо. Сгорбился и смахнул слезинку. — Он понимал в людях, душегубец. Ох, крепко понимал! Сгинул, зараза, будто помер. Мне весть не шлёт и приказ не выдаёт. Мне! Чтоб ему… чтоб так же маяться.
Слуга постучал себя кулаком в грудь, утрамбовывая, уминая боль… покряхтел, отвернулся и побрёл прочь. На вопрос, где искать Лию, махнул рукой, не оборачиваясь. Ула поняла направление, зашагала по просторному коридору, рассматривая статуи, оружие и картины в золотых рамах, драгоценные шёлковые шторы в нишах и на окнах… пыль по углам, паутину под потолком и в тенях, сор на полу.
Коридор тянулся вдоль бального зала. Выводил в правое крыло, если смотреть снаружи на главный вход.
В пристройке было теплее, уютнее и чище. Обжитое место пахло каминным дымком и пригорелой кашей. Да, в первый день уже был запах пригорелого. А ещё кто-то суетился, охал… Ула по звуку отыскала спальню. Там, у кровати под балдахином, бестолково метался граф Тан хэш Гост, нынешний хозяина дворца. Сплетни прибавляли к его праву на наследство незаконное происхождение от беса и то ли изнасилованной им княжьей жены, то ли вовсе — от волчицы лесной.
— Ох… — граф увидел гостью и от неожиданности уронил ложку. — Вы смогли войти? Вы, должно быть, лучший в мире человек. Или, скорее, не человек? Простите… я растерялся.
Тан поклонился. Было странно звать графом рослого молодца с грустными глазами ребёнка. Весь он казался задичалым, совершенно как парк и дворец… Одет в поношенные кожаные штаны, рубаху серого льна без вышивки. Босой, встрёпанный, глаза красные — не спал… Неумело толчется, пытаясь подогреть чай на переносной жаровне. Бутыль с кипятком заготовил и уложил в кресло, а ноги у Лии мёрзнут под одеялом — она ведь без сознания, ей совсем худо.
Первым делом Ула привела Лию в сознание и разобралась с заваркой трав вместо чая. Затем бесцеремонно вынесла горшочек с горелой кашей вон из комнаты и оставила в коридоре — всё меньше запах. Наконец, села на край кровати и тронула руку Лии, по испарине на лбу, по цвету кожи и ещё сотне неуловимых иным признаков подозревая…
— Я оказалась слабой. Скажут, что сбежала, — Лия виновато глянула на травницу. — Матушка, многие скажут, что вас прислал Лофр, ваш визит для его репутации сейчас…
— Ещё до моего появления репутация хэша стояла крепче памятника на главной площади, — безмятежно отмахнулась Ула. — Бояться сплетен? Разве таков мой Лофр? Ты молчи, силу береги. Не к пользе метаться. Я видела тебя дней десять назад, в вечер перед тем днём. Решила: дождусь Сэна, ему скажу, он ведь захаживает к нам до рассвета, учит Омасу бою на мечах.
— Учит? Не знала, — смутилась Лия.
— Теперь-то куда как попозже его поздравлю, уж он так надеялся, так ждал… — Ула искоса глянула на хозяина дворца. — Ребёночка.
Тан уронил чашку, которую недавно наполнил и теперь студил, дуя на отвар и обжигая пальцы, ведь он взял чашку с отбитой ручкой… Значит, с утра уже ронял, — подумала Ула. Выбрала на подносе целую чашку — благо, там три в запасе — влила отвар на донышко и покрутила, быстро остужая. Лия замерла белее подушки, не моргала даже!
— По пульсу судя, по прочему, — приподнимая голову больной и поднося чашку к губам, продолжила Ула, — второй месяц вот-вот народится, как всё у вас сладилось. Уж я-то рада! Поверишь ли, до чего умаялась твоему мужу травки подбирать… как он утром к нам, так я новый отвар готовлю. Всё не шло в ум: что за яд и как перемочь, не вредя.
— Как же так, — выдохнула Лия. — А я его… надолго отослала. Он бы затеял здесь бои чести, к Альвиру сунулся, себя загубил сгоряча… Хэйд понял мой замысел по-своему, вот вижу: до весны не объявится.
— Славно сладилось, у тебя на зиму дом тёплый, да такой, что ни одна сплетня под дверь не просквозит, — улыбнулась травница. — Тебе много тепла надобно, девочка. Непросто придётся, чую. Но я налажу, что следует: Шель устроит с продуктами, Омаса поставит ваш с Сэном прежний дом под охрану. А я присмотрю за дитём. Тана мы названым братцем ему определим, вот и выйдет дело.
Хозяин дворца умудрился об эту новость грохнуть еще одну чашку, а заодно споткнулся и набил шишку на пальце ноги. Вышло кстати: Лия отвлеклась и не подумала худшее. Не уточнила, почему с ребёнком может сложиться непросто… А травница всё трогала пульс, проверяла теплоту и влажность кожи и думала, как бы ловчее собрать травы и наладить питание? Ей уже доводилось оберегать подобных несчастных, чахлых с первого дня на сносях. И чем дальше, тем хуже… а впереди зима, а за ней весна — гиблое для здоровья время.
— Повезло тебе, девонька, — порадовалась Ула. — Тихо живи. Забудь, что за парком есть столица, что там князья да нобы, сила да золото… Забудь, иначе не с чем мне станет твоего мужа поздравлять. Как в глаза ему гляну? Ну?
— Забуду, — пообещала Лия. Благодарно кивнула Тану, который сунулся помочь и неловко дёрнул подушку, взбивая выше и помогая сесть. — Тан, а ты не боишься сплетен? Ребёнка неизбежно припишут тебе, и не в братья.
— Не боюсь, — вскинулся хозяин дворца. Покосился на дверь. — Что грязь повсюду, вот чего боюсь. Стыдно. Библиотека в паутине. И дров у нас… мало дров. Слуга на весь дворец один, и таков, что я у него на побегушках. — Тан поклонился травнице. — Вы точно мама того Ула, которому я обязан жизнью? И сможете у нас гостить! Так хорошо… я устал, здесь во дворце эхо гуляет, и даже ему одиноко. Я…
— Ты не болтун, а только деточке Лии скучать не позволишь, — кивнула травница. Жестом позвала в коридор. — Покуда проводи меня. Пора, травы соберу и дела раздам кому следует.
Так Ула первый раз посетила дворец. И день за днём стала ездить к запретному парку в карете с гербом мужа, открыто. Город гудел слухами, сам князь был замечен в засаде: подглядывал и гадал, что за поездки и чем могут закончиться? Но время шло, осень выстуживала воздух, а заодно сушила сплетни, пускала по ветру. В зиму мало кто следил за санями Улы. Весной карету и не замечали. Летом удивлялись, если в обычное время колеса не простучат мимо окон… Все обещания травницы сбылись: Лия трудно зимовала, но справлялась. Отдыхала душой от суеты столицы. Иногда выбиралась прогуляться вдоль ограды: так она могла поговорить с Чиа или Дорном, ведь обоих Тан приглашал, а дворец — не впустил…
Еще Лия любила сидеть в библиотеке, укутавшись в мех. Тан добывал книги и свитки, читал сам и передавал гостье, которую повадился звать «тётушка Лия». Подначивал — ты старше, я брат твоему сыну, и уже не выгнать меня из семьи, никак не выгнать!
И вот пришло лето, и главный страх братца не сбылся: Ул хэш Донго, названный в честь друга детства Лии, ползает мимо «проклятия багряного беса» по всему дворцу и парку. Страха не ведает и кошмары ему не снятся. Спокойный, здоровый младенчик, только жилистый и оттого не особенно милый — но, как сказал Лофр, за детьми алых это замечено издавна.
Ула миновала портрет беса и прошла в кухню. Там ворчал у плиты Тан, опрятно одетый, постриженный по моде — Лия воспитывает его и отучает от дикости. С первого взгляда видно: у юного графа новый фартук.
— Тан, деточка, а не гулял ли ты ночью по крышам с моим учеником? — принюхиваясь к каше, спросила Ула. — Ох, беда с ним. Учу-учу, а всё одно, руки у него быстрее ума.
— Купил, — Тан покраснел аж до слез, кашлянул… — то есть вернулся и отдал деньги.
— Воровать он тебя, того и гляди, обучит, — Ула сокрушённо кивнула своим мыслям, подвинула поданную Таном чашку. — Врать — вряд ли… а вот и мой ответ, отчего ты наследовал дворец. Слух чести, он и есть ключ к бесовой ограде. И к выбору гостей.
Лия скользнула в комнату, улыбнулась травнице, сгрузила ворох свитков и села к столу.
— Завтра сама стану готовить, — пообещала она, покосившись на кашу. — Моя очередь. Матушка, я тоже думала про слух чести… Ночью вставала и ходила глянуть на портрет. Тот, с каким вы говорите. Ночью он ещё живее. И глаза… пропасть, а не глаза! Гляжу, пропадаю… а ненавидеть его не могу.
Лия подвинула свитки и книги. Раскрыла заранее заготовленный.
— Бес оставлял пометки на полях. Мало, но занятные.
Тонкие пальцы бережно проследили строки на ветхой бумаге.
«Ни один зверь не поймёт пользу прогресса. Эволюция — да, но эволюция совершенствует зверя и встраивает в мир. А прогресс разрушает мир и ослабляет зверя. Люди города больны. Люди большого города едва живы. Люди города, заполнившего весь мир, нежизнеспособны»…
Лия нахмурилась, погладила подушечкой пальца незнакомое слово, будто уговаривая раскрыться и рассказать о себе. Открыла книгу.
«Вера неизбежно приходит в мир, где нет прямого и зримого для краткоживущих закона воздаяния. Вера приносит с собою много пыточных инструментов и воздвигает на костях и крови религию. Та даёт слабым утешение и ошейник, а сильным — поводок… Рано или поздно я удавлю Кукольника, жаждущего намотать все поводки на свой кулак. Звери не терпят ошейников».
Лия отодвинула книгу и стала перебирать свитки, быстро просматривая и отстранённо улыбаясь, шурша листками и принюхиваясь к пыли, будто в ней можно угадать мысли и настроения беса, когда он делал свои пометки.
«Людишки обожают тявкать о смысле жизни. Легко им! У них есть смерть. Конечность бытия — лучшее средство от бессмысленности. Высокое право людишек, даже ничтожных, поставить точку. Знали бы они, как им завидуют бесы…».
«Кажется, однажды зверь решил упорядочить хаос. Вскрыть бы череп и выдрать мозг, на перечтение… Как в нем зародилась и вызрела столь жуткая болезнь? Упорядочить — упростить. Упростить — сделать ущербным. Сделать ущербным — лишить способности к самостоятельному развитию. Лучше сразу убить. Не зверское это дело, планировать далеко вперёд»…
Лия осторожно отодвинула ворох бумаг, погладила переплёты книг.
— Багряный бес просто обязан однажды вернуться, — шепнула она. — Невозможно его ненавидеть. Невозможно и принять… Он зверь, мы люди. Мы с ним в разных мирах… даже когда мы рядом. Завораживает.
— Он убил мою семью, — без выражения выговорил Тан. — Он зверь и должен однажды стать шкурой на стене.
— Мы снова отложим эту тему разговора, гость не указ для хозяина дома, — Лия опустила взгляд. — Жаль…
— Он убийца, — голос Тана остался ровным. — Он такой родился. Порченный. Я видел. Я помню. Я и теперь иногда вижу. Ночью.
— Пей мои травки, деточка, — грустно посоветовала Ула.
— А где негодный мальчишка? — встрепенулась Лия, припомнив обычный способ уйти от опасной темы. — Ул! Ул хэш Донго, а ну ползи к маме!
Все затаили дыхание и вслушались… дворец молчал, не отсылая и малого эха.
— Играет в прятки, — шёпотом предположил Тан.
— Воюет с крапивой, — насторожилась Лия и глянула за окно.
— А не добрался ли он до сабель? — нарочито испуганно всплеснула руками Ула…
Лия и Тан дружно вскочили, переговариваясь и на ходу решая, кто и где начнёт искать ребёнка, воистину ужасного в своей непоседливости! Ула расставила на полках травы, опустошив корзину. Проверила запас капель и настоек. Спустилась в погреб, глянула на колбасы и окорока, бочки с соленьями и мешки с крупами. Голод, определённо, не угрожал обитателям дворца.
— Пора мне, — выбравшись наверх, в кухню, шепнула Ула. Быстро допила остывший чай, поданный ей сразу же по приходу Таном.
Далеко, за бальным залом, звенели взволнованные голоса. Малыш ещё не нашёлся… Ула подошла к вороху бумаг, разворошила их. Склонилась, всматриваясь в мелкий почерк беса. Тронула нитяную запись кончиками пальцев.
— Лия, Тан и я тоже, — шепнула она. — Люди скажут, нет у тебя злее недругов… Отчего ж мы тебе дороже бывшей свиты? Ты ведь и Сэна в дом пустишь, чую. И Лофра б пустил, не держи он в уме наёмных дел и столичных интересов, да всякий же интерес — с выгодою… Пойду. Заболталась я.
Выровняв книги, Ула поддела опустевшую корзинку и направилась к главному зданию дворца. Спохватилась, вернулась ко входу для слуг и сменила башмаки. Зашагала вдоль фасада дворца снаружи, радуясь тому, как много Тан привёл к должному виду с весны: и трава выкошена, и цветники разбиты, и плетистая роза в рост пошла.
А вон и пятимесячный непоседа: рвёт очередную рубашку об колючки, деловито сопит, откручивает розам головы. Крохотные пальцы исколоты в кровь, ручки исцарапаны… Над наследником семьи Донго нависает ночным кошмаром его нянька, псина поболее взрослого человека — подарок Лофра.
Ула постучала по стёклам бального зала, привлекая внимание. Скоро прибежали и Тан, и Лия.
— Когда я был горничной, — продолжал обычные для него оправдания Тан, — то есть… не важно, но именно у барона Оро я научился готовить каши. Любые! Но скрипучий ворчун так донимает! Тоже мне, слуга. Он нарочно подбрасывает дрова. Пока каша не сбежит, ему и радости нет.
— Каша съедобна, — мужественно возразила Лия. — Я много раз… Нет уж, сегодня спрошу прямо: как тебя угораздило попасть в горничные, да ещё — девочкой?
— Меня спрятали от Рэкста, спрятали и забыли! Хэш Хэйд, чтоб ему… Когда я не разрешил этим наглым девчонкам Оро в ночь звездопада улизнуть в город и клянчить сладкое, они сдали меня старому барону. Ябеды! Сгоряча ляпнули… ну, и началось. Лучше не вспоминать.
— Хэйд замял? — вяло поинтересовалась Лия, грозя сыну пальцем и умильно улыбаясь. — Цветы надрал для мамочки, да? А мамочка тебе ушки надерёт, чтоб не убегал. Вот поправит рубашку и надерёт… в другой раз. Ну весь в папу. Боец. Исцарапался и не хнычет.
Из парка приковылял слуга, покосился и зашагал мимо, будто не искал малыша и оказался тут случайно.
— Дитя то голодом морют, то холодом, — сообщил он самому себе. — Мать непутёвая, то ли без мужа прижила, то ли сбег он, сердешный, от такой-то кислой нобы. И этот… прыщ на ровном месте! — слуга прибавил голос, обличая нового хозяина, — О самом Рэксте гадости поганым языком выговаривает! Да чтоб тот язык отсох! Да разве ж при старом-то графе мы бедовали? Да разве кто смел пискнуть слово поперёк его правды? Ить выставь хозяйский сапог к воротине, и князь бы не утерпел, лизнул. А ноне что? Тьфу! Уж он-то верно сказывал: людишки. Уж я-то их повидал, людишек.
Слуга добрел до парадного крыльца и стал подниматься к главным дверям. Он продолжал бормотать, но уже гораздо тише, глуше… успокоился за малыша.
Ула прощально улыбнулась и направилась прочь, по заново отсыпанной щебнем дорожке — к калитке. Скоро она разобрала перестук копыт и конское фырканье. Шёпот верного Шеля, ждущего наставницу и болтающего с лошадями о погоде и ценах на овёс…
Покинув пределы дворца, Ула отдала корзину ученику и покачала головой, отказываясь сесть в карету. Солнышко играло по-особенному, не зря и малыш Ул выбрался рвать цветы, дети — чутки…
— Пройдусь, ноги разомну, — просительно сказала Ула.
Шель покосился на дальнюю сторону улицы, выпустил шипящий выдох сквозь зубы. Нехотя буркнул, что карета чуть поотстанет, сам взял коней передней пары под уздцы. Ула зашагала вдоль ограды, ведя рукой по ковке, трогая пальцем то дивные цветы, выращенные кузнецом, то их витые стебли… Она шла и шла, а ограда всё не кончалась. Владения Рэкста велики. Наконец, ограда плавно изогнулась, выделяя место для площади у пересечения двух мощёных дорог. Дальше — иной дворец и иной парк. Ула огляделась… и жестом остановила карету, которая, как и обещал Шель, чуть поотстала.
Возле угла ограды чужого парка, прямо в траве, сидел бес Альвир. Вроде бы дремал, прикрыв глаза. Волосы его по случаю урожайного, щедрого лета сделались вьющимися и очень густыми. Кожа разрумянилась, стала нежная и слегка пушистая, как кожура персика — южной ягоды, изредка доставляемой в столицу для нобов и самого князя.
Бес сидел у ограды, и лето цвело вокруг, и сам он выглядел более живым и менее ядовитым, чем обыкновенно. Ула тоже прислонилась спиной к ограде — будто взяла в союзники иного беса, Рэкста. Она попробовала глянуть на Альвира без неприязни. В иной бы день и не старалась, а сегодня, помня слова Тана и его мерный тон человека со слухом чести, не способного лгать и всё же отчаянно, безнадёжно неправого в слепой ненависти…
— Что, скажешь, я — сухое дерево? — Альвир распахнул изумрудные глаза, чуть встряхнулся, и в ветер влился аромат луговых цветов. — Или гнилое? Или топляк? Давно не слушал твоих гадостей, старуха. Задумался, уж не сдохла ли… без моей помощи.
Ула вдруг припомнила давнее лето, когда она была девчонкой и в родное село пришла та старуха… полуслепая, больная, никому не нужная. Села у забора и стала глядеть сквозь людей, и все сразу испугались. Потому что вдруг сделались прозрачны, постыдно открыты. Старуха ткнула кривым пальцем в одного и назвала его страх, и отказала в исцелении от беды. Ткнула во второго и назвала цену за спасение от погибели, и в третьего ткнула… Палец замер, нацелясь на дрожащую, настороженную девочку Улу.
— Ты! Иди, дам соломину. Утопит тебя жизнь. Поделом утопит, проще надо жить, проще… и жаднее, — старуха гадко улыбнулась. — Хочу глянуть, кто тебя вытащит на той соломине. Или уморит вовсе.
Ула подошла, не чуя ног. Старуха пошарила в траве и дёрнула соломину, и вцепилась в руку, чтобы больно держать в капкане и мотать по запястью травинку, и реветь жутким басом, напоказ всей деревне… Ничего из сказанного Ула не запомнила. Только ощущение соломины на руке. А ещё то, что старуха покинула село с кошелём, туго набитым серебром и медью. Сама же Ула долго мыла руку, испытывая гадливость ко ложи. Ведь старуха лгала, давно разменяв дар на монеты.
Сейчас ноги не чуялись, как в давний день. Ноги сами собою толкали идти, пересечь перекресток и вплотную приблизиться к ограде, подпираемой спиной беса Альвира. И взгляд тонул в изумрудном прищуре беса — как в омуте.
— Для каждого есть соломинка, — выговорила Ула, чтобы не молчать. — Я… верю. Так оно должно быть, чтоб для каждого. А только одних соломина удержит, а иные уже не смогут доверить ей себя.
Ула присела рядом с бесом. Не отводя взгляд, нащупала травинку. Затаив дыхание, уложила на запястье беса и обернула… Травники едва хватило, чтоб обвить жёсткую руку.
— Ещё есть, — удивилась Ула. — Еле сходится, а есть…
— Что — есть? — тихо, недоуменно выговорил Альвир, даже чуть отодвинулся.
— Жизнь. Не иссохла и не погнила, теплится, — Ула отпустила травинку и та разогнулась, легла на ладонь. И оттуда была переложена в послушную, чуть тёплую руку беса. — Ваша соломинка. Пока не иссохнет, и вам есть надежда. Не ведаю, на что. Не так я умна, чтоб о бессмерти загадки разгадывать. А только вы не выбрасывайте, я отдаю с дорогой душой. День особенный, солнышко играет.
— Что отдаёшь? — бес прикрыл глаза, связь взглядов распалась, и Ула ощутила себя свободной. Бес нахмурился, рассмотрел травинку. — Яркая… у тебя всё же есть кровь нобов, старая. Не пойму, по какой ветви? Вроде и нет такой ветви, а?
— А всё же ты… держись за соломинку, — тихо попросила Ула.
Травница разогнулась, чуть покачнулась и ощутила, как под спину подхватывают знакомые руки Шеля. Даже не получилось удивиться: и сюда явился ученик, к самому бесу под нос… Совсем без страха он, что ли?
Скоро Ула сидела в карете. Кони неторопливой рысью приближали встречу с подворьем Лофра. В пустой руке пульсом жизни трепетала память об отданной травинке. И Ула, смахивая случайную слезинку, знала: сегодня единственный день, когда ей воистину жаль беса Альвира. Вопреки его делам, вопреки всему, что он ещё натворит… Всякий живой жаждет расти под солнцем. Даже когда нет ни сил, ни коры, ни питания корням.
Глава 6
В которой рассказывается о событиях лета 3220 года
Путь беса. Никакой опеки
— Пустыня и море прекрасны, там и тут я дома, — вещал Бара, повиснув на верхнем рее вниз головой, якобы для удобства беседы. Он взрослый и полон свойственной настоящим мужчинам сдержанности. Так он думает и так себя ведёт всякий раз, пока Аны нет рядом…
Сейчас Ана как раз очень близко, оседлала рей чуть ниже избранного Барой, качается, запрокинув голову, и слушает. Ей — весело и легко. Она от рождения крылатая, как все атлы. Вервр понимал всю картинку и даже почти видел, не покидая трюма. Если быть окончательно честным, хотя бы с собою, он не выбирался из трюма именно по причине своего всезнания. Улыбающийся пустынник плох. Ответно улыбающаяся ему Ана ещё хуже. Но скорчившийся над очередной рукописью Эмин Умийя отвратнее в сотню раз! Откуда нежизнеспособный книжный червь извлёк зерно дурости и как взрастил из него могучее древо заблуждений? И ведь успел же, и не унимается… Вервр тяжело вздохнул и повернулся лицом к дощатому борту, чтобы чуть меньше чуять и слышать.
— О славнейший и мудрейший из живущих под солнцем нашего скромного мира, — затянул Эмин неизбежную и оттого особенно унылую череду принятых на его родине восхвалений. Искренних, что вдвойне противно! Хотя пойди пойми, что у людей пустыни честность, а что — загар привычек на ней? Загар, который не отмыть и не счистить за всю жизнь.
Эмин помолчал и продолжил: — Сказано в свитках мудрости, что звезды есть светочи нектарного масла, заключённые в совершенный кристалл, прочностью равный алмазу. Мне так и записать?
— Чтоб ты оглох, чернильная душа! — проверещала с мачты Ана и расхохоталась.
— Дитя, воспитанное мудрейшим, не может содержать в себе несовершенство, — попытался увещевать себя же Эмин. Помолчал и всё же взорвался, обозванный в сотый раз с утра: — Увы, но ведь содержит, истинно! Умолкни, исчадье песчаного ядовитого скорпиона, ужалившего тебя в твой раздоенный язык.
— Прикуси свой, о светоч книжной глупости. Не то спрыгну и вырву, — пообещал Бара.
Но не спрыгнул. Слышно, как поскрипывает рей, как хихикает Ана — значит, её раскачивают, удерживая за руку. Ни звука на палубе… Опять моряки замерли и глазеют, не зная, ругать или хвалить. Принимая на борт бродячий балаган, капитан сгоряча потребовал развлекать «всех и без оплаты». Но это же не развлечение, а чистый ужас: качать дитя на высоте, куда из команды залезает не всякий и где лучшие-то ходят по рею с опаской.
— Пусти! — заверещала Ана.
— Море — мачта? — Бара дал обычный выбор.
Без слов ощутил ответ и — по звуку общего оханья понятно — разжал руку. Скрип, хруст, визг, хлопанье пружинящего паруса… двойной всплеск. Значит, выбрала море. Пятый день подряд — море… Вервр зевнул и потянулся, подумав чуть благодушнее: хотя бы этого не отнять у алого мерзавца, он всегда страхует и опекает младшую, если подозревает самый малый риск. За борт вышвырнул далеко, с запасом, и сразу прыгнул следом. Сейчас обоих унесёт вдоль борта за корму, где всегда мокнет и вьётся в воде длинный канат. По нему неугомонные заберутся обратно на борт, сохнуть и обсуждать море и пустыню, белый чай и мудрого деда.
Вервр потрогал языком клыки. Совсем как у людей, и ничуть не острые. А вот желание покусать и отравить — оно острее ножа. Ана счастлива в обществе тех, кто ей ближе по возрасту и развитию. Вервр несчастлив от самого наличия такого общества. Это даже не ревность, он прошлый раз ошибся. Это чистая боль. Он, оказывается, вспомнил, что значит иметь друга — и он заранее мёрзнет от предстоящего одиночества. В свои восемнадцать Ана узнает то, что не позволит ей впредь называть прозревшего вервра — папой. И беззаботно ему улыбаться. И…
— Звезды собою представляют смесь газов, названия которых тебе ничего не дадут, поскольку в этом мире они не открыты или же забыты. Смесь газов, давление и непрерывная реакция, причём двунаправленная, крайне эффективная, — очередной раз невесть зачем сказал вервр и ещё более разозлился на себя и Эмина. — Такова примитивная физическая суть. Энергетическая куда важнее и сложнее, но я не готов упростить теорию туннелей и переходов. Глубже по пластам знания тоже не пойдём, зачем всё это миру, живущему не наукой, а духом? Ваш путь иной, так сказал Тосэн.
— Эффективная… длинное слово. И — вот пишу: так сказал Тосэн, да вовеки славится имя его, — скрипя пером, очередной раз бессовестно польстил Эмин, твёрдо знающий, что самых опытных вервров нетрудно ловить, насадив на крюк вежливости приманку памяти о друге.
Некоторое время над морем висела благодатная тишина, полная дыханием ветра и шелестом лёгких волн, смехом чаек и скрипом просмолённой древесины. Вервр дремал, ощущая приближение берега, который к вечеру станет заметен с верхушки мачты. Люди вынуждены использовать глаза. Люди не могут по вибрации и эху волн уловить глубину, рельеф дна, теплоту и силу течений. Люди жалкие… он был прав, незачем таким коптить небо. Вот только без них Ане будет скучно. И Тосэна никто не вспомнит. Не впишет имя в книгу своим безупречным почерком и не украсит завитушками цветного узора, выделяя в тексте.
Вервр дремал, постепенно погружаясь в подлинные глубины сна. Там и для зрячего раба королевы — багряного беса Рэкста — оставалась всевластна тьма забвения, лишающая и сновидений, и даже кошмаров. Там и теперь мрак плотно облегает тело и душу, отделяя свободного вервра от его прошлого — забытого, растворённого в бесконечном потоке времени.
Сегодня сон чуть отличается от прежних. Сперва он был лишь покоем, но затем возникли двоение и движение. Вервр ощущал себя плоским камнем на поверхности — и одновременно слепым червяком, отчаянно протискивающимся в недрах тверди мироздания. Червь жаждал найти выход, он всё ещё верил, что мир не может быть весь — таким вот, набитым до отказа мраком и теснотою… Камень указывал выход. Камень был нагрет теплом солнца, родного солнца мира, который невесть как давно вервр называл своим, исконным. О котором теперь не помнил внятно ничего, совершенно ничего…
Червь не нуждался в дыхании — и задыхался. Не мог быть раздавлен в тесноте — и страдал от её бремени. Не ведал предела своей силы — и устал безмерно. Он извивался, тянулся к поверхности… и всё слабее верил, что она вообще существует. Поверхность, граница тверди и пустоты, неподвластной бескрылым. Чуждой, пугающей и манящей пустоты…
Последнее отчаянное усилие, рывок — и плоский камень шевельнулся, отвалился в сторону. Существо дрогнуло, пронизанное болью, наполненное жутью первого мига вне тверди, в мире, где тело лишено всесторонней опоры и растекается, расплывается по поверхности, и безжалостно опаляется светом, и отбрасывает тень, и вздрагивает, омытое ветром.
— Ах-шш-ррр, — невнятно выдохнул вервр, подавился и закашлялся, закрывая руками голову, прячась от безмерности пустоты. Вне тверди он стал голый, ничтожный, впечатанный в плоскость и отравленный жаждой и страхом полета. — Ашшш… а-шш ше-эд! Шэд…
— Попей водички, — зашептала в ухо Ана. — Прости, это всё я, ну прости. Я же как лучше. Сама додумалась. И ветер… это ветер из рассказа Бары о голосе пустынной бури. Ну, который одни слышат, а другие нет. Я задала вопрос, стала слушать, и вот… прости. Я спросила, как вернуть тебе глаза. А пришло другое, что надо так и так, я вот… ну прости, пап…
— За что простить? — выпив воду и жестом требуя ещё, прохрипел вервр.
Ана бережно обняла его запястье и повела в одну сторону, в другую, укладывая на руки Бары и Эмина.
— Тот, кто хранит знания и уважает тебя — Эмин. Тот, кто хранит людей и почитает тебя — Бара. И еще я, твой ближний человек, семья. Когда мы вокруг, можно заново спрясть нить памяти, если попросить вместе. Так я услышала. И ещё: без памяти нельзя открыть глаза. Пап, что такое шэд? Оно тебе важно?
— Шэд, — губы сложились в улыбку. — Шэд — та часть меня, которая безвозвратно утрачена. Он порвал общность. Он был… был ранен, как и я, нашим разрывом. Шэд, великая анаконда мира Шэд, славный охотник на драконов, пьющий их страх — парным, еще горячим. Крылатые твари только нас и боялись, да… — вервр облизнулся. — Славная охота. Мы не убивали. Где ещё найти таких врагов? Теперь помню. Мы, мы обвили дракона Эна и задушили его, мы укусили его и не использовали смертельный яд. Мы усыпили его потому, что не желали, чтобы он оказался в неравном бою один против всех. Мы не желали, чтобы он был вынужден дать клятву, сберегая тот мир… Мы последний раз приняли общее решение. А затем Шэд ушёл. Он увидел ложь и не принял. А я… ослеп и принял.
— Пап, ты о чем?
— Это было слишком давно. Меня неправильно звать Шэд. Но я вспомнил его часть нашего имени. Значит, вспомню и свою часть. Тогда смогу просить прощения. Когда попрошу, смогу надеяться, что он отзовётся. Мой Шэд…
— Пап, а когда он услышит, — испуганным, ломким голосом выдохнула Ана, — ты уйдёшь? Ты однажды сказал, что мы расстанемся. Я всё помню. Он так важен, что ты бросишь меня?
— Важен. Но я не брошу тебя, — вервр сел и спрятал лицо в ладонях. — Ты уйдёшь, у тебя появится причина. Она и теперь есть, но пока мой враг держит её… в ножнах.
— Пап, мне вроде как одиннадцать, — в голосе расцвела радость, — ещё лет через семь я буду совсем большая, мы дружно отметелим твоего врага! Бара тоже будет большой. Ну а этот, — было слышно, как Ана мстительно пихает локоть под ребра наследника рода Ан, с которым враждует постоянно, пусть и неискренне, — этот напишет книгу о нашей победе. Всяко от него не приключится другой пользы. Если бы не он, мы бы дошли до моря сразу, в то же лето. Не посещая дурацких гробниц и не поклоняясь дурацким камням замшелой мудрости.
— И как тебя палуба держит, — скорбно укорил Эмин, растирая бок.
— От него будет польза. Большая, — пообещал вервр. Поднял палец, призывая к тишине.
— Земля, — едва слышно донеслось до слепого запоздалое открытие зрячих…
— Порт Корф, как я и просил капитана, — промурлыкал вервр, слушая, как топочут всё дальше и выше три пары босых ног.
* * *
Ночь спустилась на воду, расплылась кляксами сырого тумана, вбирающего запахи города, порта, бухты. Вервр брёл в киселе из ароматов, остро приправленном шумом погрузки, уличных склок и гульбы в кабаках. Он улыбался. Ему всегда — теперь он вспомнил это — нравились портовые города. Он ценил пестроту людских отношений, вскипающих в полосе прибоя, а Шэд обожал мелководье и особенно песчаные пляжи. Шэд там зарывался весь, оставляя на поверхности лишь плоский валун лба с коварно прикрытой щелью глаза… Когда человечья грань вервра пресыщалась городом, было особенно здорово покинуть людскую сутолоку, чтобы лечь спиной на валун головы Шэда, прогретый очередным местным солнцем — и созерцать мироздание. Анаконда-Шэд всегда был незлобив, что бы ни думали те, кто его боится. А опасаются величайшего змея почти все, кто в уме. Шэд, помнится, был склонен пребывать в покое, пока его человечья сторона удовлетворяет любопытство за двоих…
— Шэд, — прошелестел вервр и улыбнулся шире.
Ан расправил ладонь, держа её обращённой к мостовой. К тверди, связующей анаконду и её вервра.
— Ана, — подсовывая свою узкую ладонь под руку, подсказала Ана. — Я тут! Эй! Ты улыбаешься ему чаще, чем мне. Как я зла… Как зла! Первый раз я так ужасно-страшно зла. Или второй? Хочу покусать тебя, Шэда и ещё Ному. Ты крепко помнишь крапивную лекарку, раз мы вдруг оказались в её порту.
— Причина иная. Тот, кем я был прежде, кое-что припрятал здесь. Очень, очень давно. Рэкст и сам не знал, зачем поступил так, — признался вервр. — Он прятал от своей хозяйки и от себя. Теперь я свободен, пора вскрыть тайник и пустить зерно в рост.
— Какое зерно? — вмиг забыв о своей так называемой злости, спросила Ана.
— Бара, — не тратя себя на пояснения, вервр окликнул нужного человека. — Проводи Ану в дом лекарки Номы. Она знает дорогу.
— Да, учитель, — так Бара отвечал на прямые обращения к себе по любому важному делу. С неизменным уже второй год вниманием и почтением. И с поклоном, вроде бы лишним в общении со слепым.
— Я не твой учитель, — поморщился вервр.
— И не мой папа, мы знаем, — передразнила Ана, выдернула руку из ладони и вцепилась в запястье Бары. — Пошли. Крапивный суп Номы вообще-то гадость, но ты уж не кривись, ешь. Договорились?
— Да.
Голос алого чуть приметно позвякивал металлом: Бара уже ощущал себя ответственным за охрану, а такое дело пробуждало в нем и сам алый дар, и побочную его особенность — склонность отдавать приказы и ревностно следить за порядком. Тем более, хранимое родом оружие осталось за морем, навсегда недоступное тому, кто отказался от семьи.
— Бара, Ана, — морщась и ругая себя, вервр окликнул обоих уже в спину. — И зачем я это говорю? Но раз начал… Всякий алый, если он воистину наследник рода, добудет своё наследие из зеркала вод. Тем более вы друг другу доверяете и знакомы почти два года, для ваших лет — это вечность. «Из зеркала вод», слышали? Так нелепо и красочно описано чудо атлов в одной старой книге вашего мира. На самом деле это значит… — вервр поморщился. — Не стоило говорить. Из любого знания людишки соорудят суеверие.
— Пап, мы никому, ни-ни, — пообещала Ана, дёргая спутника за локоть и строя жуткие рожи, чтобы тоже не молчал.
— Слово алого, учитель, — тихо и твёрдо пообещал Бара.
— Чтобы задать вопрос, нужна стоячая вода, лучше озеро, лучше пресное, — кривясь и ругая себя, вервр клещами тащил из памяти очень опасные знания. — Атл-проводник… то есть ты, Ана, должен искать взглядом отражение души алого. Алый должен очистить душу и смиренно ждать на берегу решения мира по своему вопросу, перед тем задав вопрос. Не обязательно вслух.
— Не поняли, — за двоих пожаловалась Ана.
— Дети… все им разжуй. Пусть Бара встанет у воды и спросит у себя и деда, кто достоин унаследовать хранимое родом, — шипя и скалясь, прямо велел вервр.
Затем Ан сразу отвернулся, вцепился в шею Эмина и поволок его прочь, хотя бедолага отбивался и хрипел, прихваченный слишком плотно. Еще бы! Дай ему слабину, помчится наблюдать за «чудом» и все подробности увиденного впишет в очередную книгу, хоть бери с него клятвы молчания, хоть не бери. Таков подлинный дар синих: лезть в непосильное, чтобы добыть семена истины и посеять их в души людские — смешными черными закорючками раскидав по бумажному листу… Никудышные бойцы, бездарные интриганы, а зачастую вдобавок тощие бессребреники-идеалисты, синие как ветвь дара просто обязаны были вымереть первыми. Так думала сама королева. Но они всё ещё рождаются в четвертом царстве, взрослеют и входят в силу. И они — вот чудо из чудес — порой меняют мир куда успешнее, и оставляют след куда глубже, чем наделённые боевым вдохновением алые или властители из золотой ветви.
— Ты ведь не записываешь того, что недостоверно? — опасно ласково прошелестел вервр.
— Стараюсь, — кое-как отдышавшись, признал Эмин. — Но…
— Я дам тебе дело, которое потребует все твои силы и, может быть, заберёт жизнь, — серьёзно и очень тихо прошелестел вервр. — Главное дело для дара синей ветви. Это дело было жизненным и самым важным для Монза, то есть Тэмона Зана из рода Ан. Ты — его кровный наследник. Я — его должник…
Вервр шагал всё быстрее, срываясь в бег. Он принюхивался, фыркал и тащил спутника, поддев под локоть, а иногда — взвалив на плечо, чтобы разминуться с городской стражей или подвыпившими моряками. Сегодня Ан желал остаться тенью, невидимкой для любых взглядов. Ночь в помощь, — скалился в подобии улыбки вервр. Ночь, туман и тонкий, умирающий месяц.
Вот и главная площадь.
Город за два века перестроили весь, дома и не узнать, хотя память вервра хороша, а для эха любая ночь не темна… Когда рушились старые стены и перекрытия, было вскрыто немало тайн, «надежно» припрятанных наивными короткоживущими… Но памятник первому князю стоит на прежнем месте, его тайна цела.
Вервр остановился в тени ближнего к площади дома, толкнул Эмина к стене и отмахнулся от недоуменных вопросов. Ан впервые наблюдал памятник строптивому князю без раздражения и смутной боли. Рэкст был убийца князя, и Рэкст полагал себя правым… он часто повторял это, а еще приглядывал за городом и потому часто бывал в Корфе… Даже слишком часто для правого.
Очень старый памятник по меркам людей. Тусклая бронза литья, пыльный мрамор постамента, людям и не видно толком, что он — зелёный.
Багряный бес дозволил создать памятник и присутствовал на церемонии его открытия. Сам подошёл и поклонился, погладил постамент и табличку с именем. Усмехался сыто, хищно… Все в новорождённом городе знали, кто был причиной смерти почитаемого князя. Все знали — и никто не осмелился отказать убийце от ответном поклоне… А еще никто на него не глядел, испуганно созерцая пыль у своих сапог.
Вот и вышло: в тот давний день на людной площади никто не видел, как Рэкст уронил кое-что в незаделанную щель у кромки постамента. Сам же вызвал каменщиков и долго, со вкусом их отчитывал, наблюдая страх, вдыхая его и забавляясь. Щель заделали очень надежно. Рэкст был однозначно прав хотя бы в этом: прятать ценное надо на самом видном месте.
— Моё прошлое никогда не перестанет давить на меня, — выдохнул слепой вервр.
Он облокотился на фасад помпезного, в четыре уровня, особняка. Рядом молчал Эмин. Не мешал, в кои-то веки, вдыхать тишину, пока она не сделается совершенной. Вот стража удалилась, бессонные слуги прикрыли створки окна, пряча свет лампады. Нищий — он же и соглядатай — у ограды особняка градоправителя всхрапнул, зевнул… и заснул по-настоящему.
— Сунешь руку в щель, пошаришь, и оно само прилипнет, если ты не бездарь, — шепнул вервр в ухо Эмину. — Пора.
Ан вскинул спутника на плечо и в несколько прыжков дотащил до памятника. Опустил на мостовую, подсек под колени и уронил носом в пыль, придержав голову, чтобы не стукнулась об основание постамента. Пальцы вервра сразу нашли удобное положение, тело напряглось — и хруст прокатился по площади! Памятник качнулся на приподнятом постаменте.
— Давай, — сквозь зубы поторопил вервр.
Вопреки его опасениям, книжный червь Эмин не подвёл. Похолодел, покрылся потом — но бестрепетно сунул руку в щель и шарил там, пока не охнул, удивляясь стрекочущему уколу, пронизавшему пальцы. Эмин выдернул руку, постарался рассмотреть ладонь — но его уже волокли прочь от грохочущего, качающегося памятника.
Вервр мчался огромными прыжками, рыча и скалясь. Он знал, что сегодня породил невероятную и весьма долговечную легенду. Неизбежно люди скажут: бронзовый князь ночами гуляет по Корфу. Или выдумают историю и того веселее: покойник с клинком наперевес разыскивает своего убийцу, чтобы преследовать его и после смерти!
Лишь оказавшись в безлюдном перелеске пригорода, вервр позволил себе остановиться. Усадил спутника посреди густых колючих зарослей ежевики, делающих место окончательно недоступным для случайных свидетелей. Сам Ан сел рядом, приглашающе улыбнулся — мол, задавай вопросы, можно. И сразу хмыкнул, ведь в ночи его мимика не видна зрячему — Эмин всего лишь человек…
— Вы не человек, я так и знал, — в голосе Эмина не было страха, только чистый азарт собирателя знаний, достигшего богатой их «золотой жилы». — Вы подняли памятник, подняли и держали… Невероятно! Знаете, когда вы выли тогда, ночью в пустыне, я почти поверил, что слышу голос багряного беса. Я много думал, и меня вдохновляли мои мысли. Всё в мире течёт и меняется. Совершено всё, и порой — к лучшему. Вопреки страхам и могуществу тьмы, свет истины…
— До седых волос тебе, болтуну, не дожить, — вервр сокрушённо покачал головой. — Вся надежда на Бару. Попрошу его в крайнем случае отрезать тебе язык. Нет, прикажу.
— Простите. У меня очень много вопросов, вы правы. Но я смиренно…
— Ты? — взвился вервр, разворачиваясь всем телом и скалясь. — Смиренно?
— Молчу.
Эмин поклонился и вытянул вперёд раскрытую ладонь, еще на площади сильно исцарапанную об острые края камней. Вервр цепко ощупал кожу, забавляясь тому, как Эмин ждет, прикусив язык и сопя от усердия в соблюдении тишины.
— Вот оно, — улыбнулся вервр. Поднял невидимую глазу людскому пылинку и бережно устроил её на заранее приготовленной бумаге, сложил лист вдвое и еще раз вдвое. — Зашей наглухо в свою тощую ночную подушку. И никогда не проверяй, что внутри, пока оно само не вырастет настолько, чтобы стать заметным… Гм, к тому времени ты поймёшь, для чего.
— Но…
— Это даст тебе головную боль, мысли о странном и редкие, но яркие прозрения, — пообещал вервр. — Это вытянет из тебя много сил и радости. Знания есть скорбь, так сказал Тосэн. Идём. Отсюда не очень далеко до особняка белой нобы Номару Има хэш Дейн хэш Токт, она охотно примет под свой кров почтительного управляющего, не способного управлять. Ты не переживай, так и так имущества у неё нет.
— Если вы когда-то были им, — задумался Эмин, позволяя вынести себя из зарослей и не замечая шипастых побегов, — это воистину чудо. Вы… вы способны вызвать ужас, но вы заслуживаете и уважения. Люди так устроены, им удобнее помнить страх, мой учитель во дворце мудрых говорил: пиши летописи с преувеличением. Он был тусклым по дару, но… опытным. Он знал, что преувеличивать надо тьму. Люди жаждут именно мрака, прячущего их слабости. Простите, я опять не молчу. Как вы видите мир без глаз? Он цветной?
— Слишком сложный вопрос, — вервр нехотя принял тему. — Цвет в здешнем понимании крайне примитивен. Он — краска. Для меня же цвет куда сложнее и полнее. Нет, я не стану излагать основы оптики, только не это! Что сказать? Я не вижу мир в цвете, как видел бы глазами. Но я чую его, будто ощупываю множеством… тончайших ворсинок. Примерно так. Иногда это позволяет точно угадать цвет в людском его понимании.
— Вам трудно быть слепым?
— Теперь уже нет, пожалуй, — задумался вервр. — Мне интересно. Я иначе наблюдаю людей. Эта новизна восприятия делает меня внимательнее к тому, что прежде я пропускал, додумывал из опыта, порой ложного.
Эмин шагал рядом, иногда спотыкался, хватал вервра за локоть, сразу извинялся и отпускал руку. Он был куда более слеп в ночи, чем слепец, и он к тому же не следил за дорогой, копаясь в тощем походном мешке. Добыл, наконец, искомое, нащупав на дне. Крепко сжал в ладони и осторожно, несмело сунул вервру.
— Вот. Я еще на корабле понял, вы оставляете нас. Это из-за Аны, я знаю. Так, пожалуй, верно… Хотя у меня болит душа. Я привык к вам и к ней. Я был с вами под защитой и каждый день узнавал так много нового, как никогда прежде.
— Не рановато прощаться? — усмехнулся вервр.
— Пока мы одни, — окончательно смутился Эмин. — Это… подарок. Я уверен, что вы однажды вернёте зрение, да и Ана подтвердила. Но вы не сможете вернуть себе возможность увидеть Ану ребёнком. Большая потеря. Вот я и… умоляю быть снисходительным, я снова нарушил каноны юга, стараясь изобразить лицо как можно точнее.
Вервр неопределённо хмыкнул, принимая в ладонь верёвочный шнурок с довольно тяжёлым, на ощупь понятно — серебряным — медальоном. Открыл его, провёл пальцами по рисунку. Слева под рёбрами что-то больно сжалось, дыхание на миг остановилось — и только-то. Глупо благодарить за глупости. И кому нужны нелепые людские подарки? Вервры — хищники высшего порядка, они на вершине иерархии свободы, они сами берут все, что им требуется и воистину не зависят ни от кого! И не нуждаются ни в чем.
Шнур оказался длинным, медальон спрятался под рубахой, и это было удобно. Никому не надо объяснять… ничего и никому. Вервр подёргал шнур, проверяя на прочность.
— Если мы увидимся снова, о чем я всей душою мечтаю, — Эмин вцепился в локоть, чуть не падая, — я нарисую ещё. Она у вас замечательная. Она быстро растёт и становится очень красивая. Но это не так и важно, она… живая. И улыбка у неё особенная, я пять пластин испортил, не получалось отразить даже малый блик её света. Бара видит больше моего, он ведь алый. Он рассказал, в Ане дар переливается и играет, сплетая оттенки и меняя их…
— Вот бы кому выдавить глаза, — насторожился вервр. — Видит он. Ученик самозваный.
— Смиренно прошу о пояснении, — Эмин сбился в заискивающий тон. — Вы ведь не заставите Бару давать клятв и не обремените долгами? Для алого это…
— Я лишь избавлюсь от обузы, — прошипел вервр, утомлённый назойливостью спутника.
Он прибавил шаг, принюхался.
Тропка постепенно выровнялась, по сторонам появились сперва заросли, а затем одинаковые кусты, пусть и давно не стриженные. Подошвы зашуршали по утоптанному щебню, присутствие людей и лошадей стало внятнее, ближе.
— В особняке шумят, — насторожился вервр. — Эмин, жди тут.
Вервр сорвался в бег, в несколько прыжков оказался у знакомых ворот без створок, скользнул в задичалый парк, неотличимый от леса. Всё та же семья кроликов таилась под корнями дуба, спасаясь от ссоры, какую этот парк прежде не видывал. Остро пахло факельным маслом и конским потом.
— Уберите нищих из моих владений, — звенел металлом незнакомый голос очередного человечишки, годного в свиту Рэкста.
— Я оберегаю её. Мы не покинем этого места, пока не дождёмся учителя, — негромко шелестел Бара, убеждённый, что алого поймут на любом наречии, тем более, когда он при оружии.
— Эй, а ну пошли вон, нечего топтать крапиву, она для супа! — Ана норовила высунуться из-за спины защитника. — Тоже мне, владельцы! Тут дом Номы! Мы ей гости. А вы ей никто!
— Уберите… — начал тот же гнусный голос, с отдышкой злости и постоянного переедания.
И наступила тишина.
Все наконец заметили слепого. А ведь вервр всего-то накрыл ладонью факел и ласково улыбнулся, слушая, как шипит задушенное пламя. Толстый «владелец» икнул, метнулся к карете и звучно хлопнул дверцей.
— Где безродный кролик? Я велел ему оберегать покой Номы, пока он сам не сожран, — облизнулся вервр, зная, что служитель городского совета тут, совсем рядом и всё слышит.
— Здесь, — обречённо выдавил «кролик». — Можете казнить, хотя нет моей вины. Тот раз была, но я обязан Номе жизнью сестры, в минувшую зиму так сложилось. Светом истины клянусь, я делал, что мог. Даже не из страха перед вами, я сам старался, искренне. Но было решено, что неухоженный до крайности особняк следует передать тому, кто его обустроит. Я все испробовал… и не имел сил возражать дольше.
— Где Нома? — вервр оборвал оправдания.
Он без спешки вдел пальцы в охнувшую древесину дверцы кареты и с интересом выслушал визги и вопли нового владельца особняка, принюхался к его острому, потному страху. Стряхивая с ладони щепки герба, Ан отметил мельком: знакомый для графа Рэкста герб, бесцветный, зато так обильно утяжелённый богатством, что многим уже чудится на геральдических лентах золотой блеск. Владеет гербом очередной граф, купивший титул и земли, чтобы все забыли о его торговом прошлом. Пятнадцать лет назад папаша жирного борова падал в ноги и просился в свиту Рэкста. Принят не был, но получил недурные возможности в Корфе, обменяв на особую монету Рэкста обещание всегда и во всем исполнять его волю, отсылать отчёты о нобах княжества четыре раза в год. А ещё — выживать из порта тех, у кого дар слишком уж яркий…
— Каменные крылья прошлого, — поморщился вервр. — Как тебя, кролик! Давно он получил особняк?
— Весной, — сразу отозвался знакомый голос. — В городе такое творилось! Бунт, да и только. Нома всех лечила, и вот чтобы так… Теперь сей граф её новый опекун. Сына назначил ей в женихи, вы всё верно указали тогда. Нома уже два месяца вне Корфа, лекарем на корабле. А только вернутся они скоро, и этот велел ловить её и сюда, и…
— Замолчи, — пискнул из-за разрушенной дверцы граф, хрипя и задыхаясь.
— Вот из-за кого сошёл с постамента памятник, — глубокомысленно предположил вервр. — Сегодня. Ночью. Ха… То ли еще будет. Надо думать, завтра он доберётся до злодея. Кролик, ты ведь был опекун.
— Сказали, у меня нет средств поддержать особняк.
— А если граф откажется от опеки и средства найдутся? — слушая пыхтение Аны, вервр выбрал бескровный способ.
— Ну…
Вервр скользнул в карету и приобнял студенистые, крупно трясущиеся плечи жертвы.
— Трогай, — прошелестел он кучеру. Крепче сжал пальцы на жирном загривке. — Ещё до рассвета кое-кто желает покинуть город. Навсегда. Прежде он, само собой, поклонится князю земель Нейво и возместит золотом вину. Так нехорошо — из корысти отказывать сироте в воспитании и опеке. Принуждать, обременять долгами. Так нехорошо… слышите: он плачет, ему уже стыдно.
— Папа, — укоризненно вздохнула Ана, глядя вслед карете.
— У меня знак самого Рэкста, — просипел граф.
Дёрнулся, норовя вытянуть цепочку, укреплённую на поясе. Вервр усмехнулся, сам потянул и позволил сплюснутой монете с отпечатком подушечки своего большого пальца лечь в ладонь. Крепко сжал кулак, превращая золото в бесформенный горячий комок.
— Он не вернётся, — шепнул вервр на ухо графу, вмиг окаменевшему от ужаса. — Теперь я решаю, что делать с меченными. С теми, у кого монеты. Я вас чую, да… прекрасно чую. Но я добрый. Такой добрый, что отпускаю дичь далеко вперёд и даю ей время спрятаться. Но, если дичь глупа и не покидает мои охотничьи владения, если наглеет и лезет под удар… Я добрый, живая дичь. Я очень добрый, но только при первой встрече.
Вервр принюхался и фыркнул, отодвинулся к краю дивана и отпихнул потного, полумёртвого от ужаса графа к дальней, уцелевшей дверце кареты.
— Где бумаги Номы?
— У-у… к-кня… зя-зя… у-у…
— Значит, он тоже хочет украсить свой герб, ваш нынешний князь, — улыбка получилась широкая, клыкастая. — И вы делите славу двух погибших белых семей, пока их наследница сидит взаперти, на борту корабля, посреди моря. Что ж, так даже интереснее, — вервр впечатал кулак в переднюю стенку кареты, — Эй! Гони к особняку князя.
Взвизгнул кнут, кони захрипели, карета загрохотала по мостовой опасно, гулко. Граф сполз на пол и там норовил отлежаться, по всему понятно — сизый от дурной крови, и ещё вопрос, способный ли пережить ночь. Сердце-то слабовато, да и жиром заплыло. Раззяванный рот бессильно ловил воздух, но спазм мешал… Вервр за шиворот вздёрнул жертву обратно на диван, рывком ослабил ворот. Зазвенели, рассыпаясь, золотые пуговки и крючки.
В особняке князя — издали понятно — никто не спал. Горели факелы и фонари, перекликалась стража, суматошно звенели копыта, отмечая путь прибывающих новостей и удаляющихся приказов.
— Старому бы понравилось, неугомонный был, — буркнул вервр, припомнив непоседливость первого из князей, который даже в бронзе памятника получился идущим, а не застывшим на месте в горделивой позе.
Карета замерла перед парадной лестницей. Разбитая дверца жалобно скрипнула и обвисла на одной петле, выпуская вервра, и окончательно оторвалась, когда за неё вцепился выволакиваемый следом граф.
— К его сиятельству, — пояснил слепой и вздёрнул тушу жертвы в достоверно-стоячее положение. Сделал вид, что не душит за шею, а лишь придерживает, как и подобает незрячему, когда его направляет добрый поводырь.
Слуги расступились, граф, перебирая ногами и не чуя их, двинулся по ступеням, скорее внесённый на крыльцо, чем взошедший. От широких дверей начинался ковёр, движение по нему казалось беззвучным для слуха людского — и граф, вздёрнутый в железном захвате пальцев вервра, пугался более и более, спотыкался, охал и постанывал.
В особняке пахло недожаренным ранним завтраком и пережаренными сплетнями. Бегущие мимо вестовые источали дрожь спешки и эхо невнятных, но уже наверняка запрещённых, ночных слухов…
— Нуф, и тебе не спится, — стонущим басом посетовал хозяин особняка.
Князь полулежал в глубочайшем кресле, сунув босые ноги в чан с горячим варевом трав и солей. Вервр принюхался, уточняя мнение о князе. То ли протух, то ли ещё так себе, малость живой внутри, в душе? Определено, самую малость, но живой.
— У-у, — граф растёкся по дивану, едва пальцы вервра ослабили давление на затылок.
Вервр усмехнулся. Граф попался с таким подходящим к его уханью и пыхтению именем Нуф. Гадости бывают устроены занятно, копни — и заметишь в них некую прелесть. Рэкст так долго копал и так часто морщил нос от запаха, что поиск забавного стал игрой, скрашивающей утомление от однообразия людишек.
— Добрейший граф Нуф желают сообщить о своём решении покинуть город и уединиться для написания воспоминаний, — прошелестел вервр и замер в вежливом полупоклоне.
— А! — откликнулся князь. Дождался, пока угаснет эхо, но не получил ни опровержения, ни уточнения. Всей кожей вервр ощущал, как его рассматривают, находя всё более подозрительным. — Нуф, скряга златобокий, ты пригрел нищего? Думаешь слепцом отвести глаза городу? Да уж, не удержал ты вожжи, пустил галопом дикий слух о помолвке, — проворчал князь. Снова не дождался ответа. — Нуф, сдохни завтра, а пока дай отчёт: кому гореть по твоей дурости, принимая опеку над девочкой и презрение всех, кого она вылечила… и кто теперь не получает лечения. — Князь, кряхтя, сполз еще ниже в кресле. — Нуф?
— Граф прибыл к вам именно по указанному вескому поводу, — вервр снова взял на себе беседу. — Он отказывается в пользу прежнего опекуна.
— Рот захлопни, пугало, покуда второй на шее не прорезали, — покривился князь. — Нуф? Что, испугался нынешней весёлой ночки? Оно и верно, город гудит: мол, по твою душу бронзовый старик идёт охотой. Дуракам лишь бы чудо на блюдечке… а ты что, поверил? Ладно, поезжай, и подалее. Опекуна я подберу сам.
Вервр выпрямился, провел рукой по лицу и отбросил волосы со лба. Уставился пустыми глазницами на князя, вызвав и у того мгновенный озноб — от ощущения призрачного взгляда, протыкающего насквозь.
— Лет сто назад в Корфе жил белый лекарь, — негромко сказал вервр. — Он был немолод, его донимала телесная немощь. Его слава была велика, а кошель — мал. Его любимую дочь силой выдали за племянника князя. Кстати, вашего предка. Желали дать ей защиту, роду — почёт, а белому дару— хозяина… Девушка повесилась. Лекарь тоже умер, сердце не выдержало. Отчаяние гасит огни душ, оно вроде мокрой тряпки. Липкое и… запах ужасающий. Ваш прадед вымарал грязь из летописей. Оказалось несложно. Кому помнить? Едва угас белый дар, в город с туманом вползла холера. Знаете такую болезнь? Она была первой. За ней пришли и худшие. Вот об этом запахе я и говорю.
— Откуда б тебе… — начал князь — и осёкся.
— Разве важно? — вкрадчиво молвил вервр, кланяясь очень вежливо. Шёпот завораживал, превращал слушателя в кролика, не способного шевельнуться. — Сто лет прошло. Город вырос, порт бурлит. Я миновал причалы на закате и чуял, как в трюмах дремлет пустынная лихорадка, как вьются едва заметным шлейфом сотни иных недугов, смертельных и омерзительных. Лишь одна преграда держит их. Белые лекари выбирают для жизни те места, где они нужнее всего. Но, стоит силой и жадностью уничтожить дар, и нечто иное займет его место. Вы готовы опустошить страну, чтобы украсить герб на усыпальнице рода? Ваш сын дважды лечился от дурной болезни, я чую этот сладковатый запах греха… Ваша дочь покашливает всякую весну, да? Ваши слуги который раз с начала жары доносят, что рыба червива, а в мясе личинки. Худшее уже вползает в город, князь. Так пусть маленькая Нома живёт, как ей угодно, и город будет жить, как угодно вам. Прошу прощения за вторжение и невежливость. Мне пора.
В зале похрустывала тишина, она была — натянутая ткань, проскребаемая ногтями князя, мокнущая в поту графа Нуфа… Вервр скользнул сквозь тишину, удаляясь — и поморщился с досадой, когда князь все же позволил страху одолеть себя: дал знак личному стражу.
Шаги алого не всколыхнули и малого эха, сам он мгновенно оказался за спиной Ана… И вервр исполнил разворот с уклонением, позволяя коже постоянно ощущать холод разозлённой стали у горла. Точность удержания дистанции всегда забавляла его…
— Когда руку алого направляет правда, он непобедим, — вервр вдохнул запах смятения и ощутил боль алого, который дал клятву и служит ей, сжигая себя. — Приказ расходится с тем, что вам говорит честь. Значит, клинок души будет сломан. Как щедр князь! Готов оголить свою спину, лишь бы срезать кожу с моей. Клянусь Шэдом, я и так не намерен задерживаться в особняке, городе и стране. Более того, я бессилен спасти берег от натиска болезней, даже если о том попросит моя… дочь. В моем даре нет и капли белизны, увы. Так что я намерен увести малышку Ану отсюда как можно скорее и дальше. Ребёнку вредно обонять запахи сжигаемых трупов.
— Отпусти его, — князь помолчал и добавил: — Кто бы ты ни был, слепой ублюдок, сейчас ты встал на пути багряного беса, глупо надеясь, что свежих слухов о нем нет. Ты встал, ты — а не мы… вот и ладно.
Вервр молча кивнул. Не оборачиваясь, удалился, кривясь от ничтожной логики людской. Этому князю, — думал он, брезгливо протирая руки о край рубахи, — могут поставить памятник, но поза будет иной, и слава тоже. Прадеду ведь тоже поставили, даже после эпидемии и голодного мора. По сию пору бронзовый истукан торчит в скалах, в стороне от нынешнего города. Врос по пояс в землю, потемнел… И зовётся проклятым, и горожане ходят мимо, старясь не задеть даже взглядом, и тропа огибает его далеко, опасливо.
Покинув особняк, вервр бегом спустился к морю, миновал порт, принюхиваясь и сердито ворча. Он медленно, трудно выбирал дорогу по слабому запаху человека, которого граф Рэкст встречал трижды: юношей восемнадцати лет, яростным бойцом в полной силе и пожилым усталым одиночкой, отказавшимся от боя. Вервр шел и знал: старик помнит его и даже — дар алых позволяет это — уже учуял внимание к себе. Наверняка ждет. Такие не бегут от боя.
Не ошибся.
На прибрежном песке свою смерть ждал алый, такой старый, что он не смог распрямить спину даже для последнего боя с худшим врагом. Редкие волосы ноба трепал ветер с моря, забрасывал из-за плеч в лицо, вынуждая подслеповатые глаза досадливо щуриться. Некогда сильные ноги едва держали, и ноб использовал третью опору — палку из лёгкого заморского бамбука, почти такую же старую, как сам боец.
— Ты поздно явился, — хрипло выдохнул старик, наконец выбрав стойку, удобную для больной левой ноги. — Не получится интересного боя, бес. А ведь ты поклялся убить меня лично. Смешно… багряный ублюдок на поверку честнее, чем нобы-люди. Ты всё же пришёл.
— А ты дождался и почуял меня… враг.
Вервр приближался к нобу, чьё имя память раба Рэкста берегла, укутав в странную смесь уважения и неприязни. Так один сильный хищник воспринимает другого, которого самое то уничтожить, и обязательно лично, в интересной схватке. Старик обладал ярким даром, Рэкст чуял… Но рабу королевы всякий раз не удавалось выбрать время. То ли донимали дела, то ли он усердно копил их, чтобы не оказаться на берегу и не затоптать еще одну живую душу.
Сейчас свободный вервр крался, жадно вдыхал запах человека, не способного потакать своим страхам. Ан подошёл на расстояние вытянутой руки, качнулся ещё ближе — и короткая палка в правой руке старика вмялась в ямку меж его ключиц. Вторая палка, опора для больной ноги ноба, атаковала вервра снизу-сбоку… А старик уже падал и перекатывался, болезненно охнув.
Палка, как он и желал, была отбита вервром, сломалась в движении, — и распорола руку Ана до самого плеча острыми кромками изломов…
Ладонь вервра сложилась клинком, коснулась щели меж рёбер старика, намечая удар, разрубающий сердце — и встала плоско, отталкивая тело в полосу прибоя.
— Чистая победа, — промурлыкал вервр.
Ан шагнул, скрутился в сидячее положение рядом со стариком, чтобы поддеть его под спину и устроить на песке удобнее, с опорой на кучу полусухих водорослей.
— Ты стар мне во враги, но всё же по дурному закону чести я… прав. Я выиграл бой и теперь мне принадлежит остаток неотнятой жизни, — прошелестел вервр, слизывая с губ солёный морской налёт, подарок ветра.
Старик рассмеялся кашляющими, хриплыми толчками, слабой рукой указал на свою лачугу, на драные сети и лодку с давно проломленным дном: ценность жизни такова, что и нищие не польстятся.
— Геза Ош Куботх. Ты сразился с ним, когда князь и эмир повздорили, и вас вынудили кровью проверить правду. Правда этого берега сияла ярче, ты сломал Ошу руку. Он подарил тебе эти палки. Два алых придурка…
— Ош умер, так я слышал однажды в порту, — старик понемногу отдышался, оттолкнул поддерживающую его руку. — У тебя странный голос и странные намерения, бес. Когда ты шёл к берегу, я чуял врага и было радостью, что смогу наконец-то умереть в бою. Пусть и от твоей руки, Рэкст.
— Теперь моё имя Зан, или Ан, — усмехнулся вервр. — Да: я знаю, что твой умный сын выбрал золото, а не сталь, когда я ещё был Рэкстом.
— В тот день ты и победил, зачем добивал сегодня? — поморщился старик. — Да, он выбрал. Мы не общаемся десять лет. Но и так я чую, его дар теряет яркость, он превращается в породистого пса при князе. Того и гляди, научится тапки по команде таскать в зубах.
— Ош Куботх в старости был бы столь же безутешен, как ты… если бы не внук. Ош Бара не желает помнить имя рода Геза, он ушёл из богатого дома отца. Похоронил деда и ушёл. Баре нет шестнадцати, в кошеле у него два медяка, подобранные в порту, а в голове — колючие заросли глупой наивности. Я выиграл нечестный бой, и вот твоя неизбежная казнь: прими Бару внуком и учеником.
— У тебя точно новое имя, — задумался старик.
Вервр нащупал морщинистую ладонь с неизгладимыми мозолями от рукояти клинка — и провёл ею по своему лицу. Ощутил, как дрогнули пальцы, минуя пустые глазницы.
— На двоих у нас пара глаз и никакого понимания, когда начнёт светать. Соглашайся, старый дурак. Я отдал росток книги городов синему нобу Эмину, внуку того Ана, которого ты помнишь по своей юности… Ты ведь помнишь его! Еще бы, ты и хэш Лофр, вы вдвоем отбили его у людишек из свиты Рэкста. Без надёжного алого за спиной наследник того Ана, умник Эмин, сдохнет, не взрастив книгу! Тогда вина повиснет камнем на твоей шее, даже и посмертно… Собери вещи, если есть. Я оттащу тебя к месту казни.
— На спине, по южному обычаю? — оживился старик.
— Ну, если тебе так хочется.
— Да. Разок ещё попробую удушить, — задумался старик, приходя в отличное настроение. Медленно, неловко поднялся, побрёл к лачуге, жалуясь себе же, что палка сломана и подмоги больной ноге нет. Споткнулся, замер. — Эй, как ты живёшь, помня всё, бывший раб?
— Так и живу.
— Жуткая штука бессмертие, а, бес?
Старик зашаркал дальше, кряхтя и приволакивая больную нону. Вервр посидел, скаля зубы и ощущая боль глубоко внутри, под рёбрами. Постепенно стало чуть легче. Вервр обернулся к морю и подставил лицо ветру, слушая перебранку сытых чаек за скалами, у края кипучего порта.
— Возвращайся, крапивная дурочка, — прошептал вервр, бережно укладывая слова на ветер. — Возвращайся спокойно. Я снова не трону твоих наглых кроликов. Я бес, и ты меня прогнала. Белые жестоки, как и алые… Но хуже всех наследник атлов, Клог хэш Ул. Если я убью его, он не узнает такой вот боли. Если не убью, не утолю гнев. Вот же мерзость!
Старик покинул лачугу, собрав ничтожное своё имущество в тканевый узелок. Вервр подошёл, сел, подставил спину. Жилистая рука немедленно взяла горло в захват. Пришлось напрягать мышцы, старику игра показалась забавной, пусть и утомительной.
Удаляясь от моря, вервр улыбался спокойнее, мягче. В душе не осталось жажды ломать спины — ни князю, ни его людишкам, ни даже потному графу Нуфу… Сегодня вервр мог возвращаться к малышке с полным правом: на руках нет крови. Ана обрадуется, повиснет на шее, лёгкая и тёплая… Странно подумать: вначале он полагал её обузой. Так и сказал деду Ясе, и старый всплакнул, огорчившись.
— Пойдём на восток, к горам, — задумался вервр, выбирая дорогу и уже ощущая, как жажда странствий кружит голову. — Или на север? Или…
Он шагал всё быстрее. В Корфе его, как пленный парусник на мелкой воде бухты, держал лишь один последний якорь: желание проверить, будет ли в покое крапивная дурочка, когда вернётся. Странно думать о подобном, но не думать — не получается.
— Шэд, — позвал вервр, чтобы ещё разок вслух назвать дорогое имя. — Шэд, это для тебя.
Он уже слышал звуки знакомых голосов и шипение стали: Бара добыл-таки свой фамильный клинок из зеркала вод и до сих пор не мог убрать в ножны, не налюбовавшись. И налюбоваться тоже не мог.
— Дети, — пробормотал вервр. — Ненавижу опеку. Как они смеют…
Его уже заметили, к нему уже бежали, хохоча и размахивая руками. О нем думали, за него переживали, его ждали. Не так и плохо быть парусником, игрушкой ветра, пока у тебя есть свой порт.
Путь Ула. Допрос с пристрастием
— Туда, — рука Леса дрогнула. — Приказ: иди один.
— Ну и жизнь у вас! На всё есть правила, небось и радоваться следует в указанное время, — Ул глядел на сгорбленные плечи провожатого и ощущал тянущую боль в душе. — Эй, выше нос! Я сам лезу, куда не лазают так называемые умные люди. И бесы тем более… Я лезу, и не по приказу! Ну, в чем твоя вина? Вот не привёл бы, стал бы палкой в колёсах, о деревянный альв на негнущихся ногах. А так ты… бобовый росток, вяленький. Знаешь сказочку про росток до неба?
Лес попытался улыбнуться, но лучше б и не пробовал. От переживаний он такой сухой, не кожа — кора столетняя… Губа сразу треснула. Если приглядеться, кровь у альва густая, почти коричневая. И пахнет она смолисто, терпко — кровь второго царства.
— Ты совсем никого не умеешь… возненавидеть? Хотя бы счесть слишком опасным? — шепнул Лес, уставясь в землю, будто взгляд тяжелее камня.
— Я везучий, пока что не встречал таких, которые «совсем никто». А ты не жди меня тут. Побудь у Мастера О, твои цветы подросли, позаботься о них.
— Ты… ты возвращайся, — окончательно жалко выдавил Лес.
Он побрёл прочь и пропал посреди очередного шага — из этого мира в какой-то иной. Ул глубоко вздохнул, подмигнул солнышку. Здешнее — очень домашнее, летнее и в то же время нежаркое. Плывёт по небу привычного, родного цвета. Иной раз прячется за облака — растрёпанные, лёгкие. Под синим небом лежит просторное взгорье. Холмы шерстистые от леса, совсем как складки на шее старой собаки. Озера тёмные и спокойные, как глаза все той же псины… и цвет у воды карий с прозеленью, грустный и задумчивый. Ресницы острых ростков клонятся, выгибаются, удерживают на кончиках капли синих соцветий-слез. Красивый мир. Такой настоящий, что хочется не гостить, а жить в нем. Вот только… Ул повел плечами, поймав себя на желании обернуться.
Когда на тебя смотрят, хочется обернуться. Этот взгляд ощущался по-особенному: не упирался копьём угрозы в спину, не сжигал презрением, не грел заботой. И всё же он воспринимался Улом так внятно… Робкий? Грустный? Всё не то! Как назвать ощущение? Просьба? Сомнение? Ожидание? Не то, всё — не то… Взгляд коснулся гостя и отпрянул, истаял снежинкой на коже: словно бы только что виделся кристалл ледяного серебра — и распался, стоило поднести ближе и отметить вниманием. Взгляд был точно — снежинка. В один вздох гостя он пропал… Уступил место совсем иному и куда более внятному интересу. Настоящему хозяйскому: такой не скрывают, ведь гость ожидаемый, и ему следует указать путь.
— Иду, — ответил Ул ветерку, тронувшему щеку.
Ветер был не родной, но и не безразличный. Ул нахмурился, но решил пока отбросить странное первое ощущение. Здешний мир непрост, как и его обитатель. Мир не радуется атлу-гостю, но без раздражения присматривает за ним.
Тропка вилась по склону всё выше, терялась и вновь возникала в шёлковой траве, как пробор в волосах. Траву хотелось погладить, до того нежна. Сама к руке льнёт… и не даётся, никнет, отстраняется в последний миг. Ул глубоко вдохнул ветер. Не угадать, бессмерть какого царства здесь хозяйничает! Природа нетронутая, но до того ухоженная… Альвы постарались? Ручьи и озера разбросаны в беспорядке, но таком совершенном! Горглы подправили? Зверя в зарослях не видно, но лес не пуст, он наблюдает за гостем сотнями настороженных глаз. И птицы купаются в небесной синеве, ныряют в облачные заросли… Вервр был бы здесь счастлив.
Ул без спешки и промедления двигался по тропе, пропитываясь счастьем пребывания в мире, который прямо теперь полагал лучшим из возможных. Что бы ни приключилось далее!
Травяной пробор проследился до макушки холма, нырнул на его затылок… Ул рассмеялся, сорвался в бег — и тоже нырнул за перегиб, в прыжке перемахнув высокую точку холма. Там Ул мигом остановился, чтобы вобрать новый вид, чарующе-необычный.
К крутому берегу холма причалила узкая ладья-долина. Черное озеро обрамлял песок тусклого золота. Каменные «берега» холма — почти отвесные, ореховых и более темных древесных оттенков. Трава крошит скалы, цепляется. Разноцветный мох дополняет узор. Прихотливая вязь древесных ветвей над дегтярной водой выполнена в том же тусклом золоте, а вот листья особенные, звонкого и яркого тона. Светлое серебро улыбается солнцу, бархатная тьма подчёркивает изнанку.
Над дальней оконечностью озера возвышается столпом света скальный уступ. Он весь, подробнейше, отражён в зеркале вод. К вершине скалы заглавной буквой рассказа о красоте долины льнёт дерево. Ул даже охнул: дома, на Грозовом перевале, ему доводилось видеть подобные сосны — отчаянные, они пускали корни на круче, головокружительно высоко. Посреди неба… там невозможно уцелеть, не веря в могучую силу жизни. Такие сосны изогнуты многократно, их мощные корни держат жизнь в своих когтях, не упускают. Вознаграждение за упорство очевидно: сосна растёт, получая всё солнце и весь простор долины…
— Особенное место, — благоговейно шепнул Ул.
Сразу отметил: высоко на скале, рядом со стволом, солнечно-медовым, наметился штрих фигуры. Ул прищурился, всматриваясь против света, но хозяин прекрасного мира уже качнулся вперёд и заскользил к воде, танцующей пушинкой спускаясь по отвесной круче. Ул тоже побежал, стараясь добраться до берега и обогнуть озеро, чтобы встретить неизвестного там, на краю водяного зеркала, в отражении узорного дерева. Это — главное место долины, сразу решил он для себя.
Ул домчался, слегка запыхавшись. Остановился, выровнял дыхание и сразу поклонился, ощущая в дуновении ветра подсказку. По чёрной воде пробежала череда мелких волн с синим маслянистым отливом, одна за другой они впитались в песок, шевельнули и сместили штрихи немногих опавших листьев — черные и серебряные, смотря какой стороной лист лёг на воду. Черные особенно поразили Ула. На глянце вод они стлались бархатом, неотличимыми по цвету и оттенку, но дополняющими совершенство узора — фактурой…
— Приветствую, — выдохнул Ул. — Благодарю за возможность увидеть всё это.
Молчание вместо ответа… Лишь ветерок тронул волосы, посоветовал выпрямиться. Ул последовал совету, задыхаясь от любопытства, приправленного жадностью к новому и бурлением надежд: хозяин такого мира не может быть заурядным! И он увидел, поднимая взгляд, плавные линии просторного тёмного плаща… кончики ухоженных ногтей под широкими рукавами… длинный пух оторочки ворота… то есть не пух — волосы! Мягкие, невесомые волосы всех оттенков ночи. Наконец, овал лица, сплошь золотой и бархатный, потому что кожа покрыта то ли пылью, то ли пудрой. Не лицо — маска покоя. Губы прорисованы в тон темной бронзы. Нос прямой, брови — высокими дугами… И глаза в берегах век — черные, бездонные.
Взгляд Ула несмело соприкоснулся с тьмою этого взора — и утонул в непостижимости его тайны… Больше ни вздохнуть, ни шевельнуться. Мир сделался древней гравюрой, все намёки на металл в цветах и оттенках узаконили за собой право на неподвижность. Ветерок унёс остатки суетного с последним вздохом… Время упокоилось в озере без дна. Установилось подлинное бессмертие. Вне мелочного, проходящего. Вот только — снова как будто снежинка уколола холодом душу, и снова истаяла без следа, не дав повода оглянуться.
— Клог хэш Ул, — тёмные губы маски нарисовали первые слова в новом времени. — Гости здесь редки… тем более восторженные без причины, невежливые без оправдания… Ведь никого не оправдает незнание основ церемониала. Что же делать? Пожалуй, дозволю говорить и пока что притерплюсь слушать спонтанную речь. Позже найдётся способ спросить за ошибки. Начнём. Повторяйте: приветствую вас, о хранительница тайн Осэа. Меня привёл сюда долг, и я смиренно слагаю к вашим стопам ответы.
— Приветствую, о хранительница тайн Осэа… — онемевшие губы двигались сами по себе. — Ответы… к стопам. Привёл долг… — Ул вздрогнул и очнулся. — Хотя вообще-то меня пригласили. Я благодарен. У вас так красиво, что голова идёт кругом.
Маска рассталась с нарисованной улыбкой. Тьма глаз сделалась глубже, если такое возможно для бездны. Ул поклонился, стараясь порвать связь взглядов, потянуть время, справиться с собой. Он-то думал, здесь потребуют ответы драконьего вервра Лоэна.
Он определено — ошибся! Здесь желали получить все ответы, все и сразу. Ул пока не смог вернуть себе даже право на самостоятельное дыхание. Он вмиг стал — куклой. Он пробормотал по подсказке приветствие и продолжил говорить, как можно точнее повторяя слова Лоэна. Он запнулся и запутался, выговаривая «итерация». Хранительница не помогала и не мешала. Лишь при упоминании имени Лоэна кончики её острых ногтей едва приметно дрогнули.
— Он вышел к незнакомцу? — негромко, взвешивая каждое слово, прошелестела Осэа. — Тут имеется важное умолчание. Отсюда начнём выбирать зерна истины. Вы прежде встречались… Да. — Тьма взгляда притянула внимание Ула и уже не отпустила. — Единожды? Да… Но надолго… да. Он уже нарушал границу своих земель… да. И встретил того, кого желал бы избегать… нет. Он здоров вопреки ожиданиям, да. Первичный вывод: Лоэн вступил в игру. Важно: он побывал в четвертом царстве… Да.
Каждое предположение сжимало душу Ула в когтях властного внимания и выдирало ответ — как кус плоти, резко и предельно болезненно. Запредельно! Ул вздрагивал, рушился в обморок и тотчас осознавал себя стоящим на ногах и по-прежнему скованным тьмою взора Осэа.
— Кто же его пригласил, вот исключительно простой вопрос, — тон хранительницы не поменялся, но тьма глаз налилась ледяным покоем, делая взгляд — пыткой. — Пригласил тот, кто умеет открыть врата в четвёртое царство. Вопрос: для любого гостя?
Ул вслушивался в медленную, мерную речь… Душа заранее сжималась, ожидая боли. Окаменевшие пальцы не могли даже дрогнуть, нащупывая хоть паутинку надежды. Как сберечь секрет, когда его желает заполучить опытнейшая хранительница тайн, которая сама же добывает эти тайны — чтобы затем ими распоряжаться? Что может быть соломинкой, хотя бы хрупкой соломинкой на краю обрыва отчаяния? Как не отдать, не предать, не выдать…
Ул видел однажды, у врат, королеву. Наверняка именно её. Он знал с того дня: нельзя допустить опасных гостей в родной мир. Нельзя, пусть они могучи, как королева и мудры, как Лоэн. Пусть способны создать красоту, как Осэа… И пусть в глубине их взгляда нет чистого зла, лишь боль… иначе душа бы не отозвалась. Всё равно — нельзя поддаться и впустить!
— Кто пригласил, — снова прошелестела Осэа, и тьма её глаз стала вязким болотом.
Родной мир никто не приукрашал и не облагораживал, — медленно, сонно подумал Ул и оживился, цепляясь за эту мысль. Дома озера зарастают ряской и порой делаются гнилыми болотами, в ручьях мокнут голые иссохшие ветки, а по воде плывут корзинки с детьми, брошенными родной мамой… Дома нет совершенства. Но там однажды расцвело золотое лето. Маленький, замёрзший Ул выжил, научился улыбаться… В полуденном золоте лучшего лета детства нет места тьме и холоду! Это лето всегда в душе. Закрой глаза — и оно явится.
Снежинка загадочного стороннего внимания вновь коснулась души Ула, вновь истаяла, отдав одиночный укол холодка… И, вольно или невольно, на миг вернула Улу малую кроху самостоятельности. Как раз хватило, чтобы напрячься и закрыть глаза! Веки будто отрезали чужое внимание, непристойное в своей навязчивости, дополненное желанием отбирать сокровенные тайны и прятать в бездне озера.
В ушах зазвенела тишина. Впервые от начала допроса удалось расслышать вздох хранительницы. «Она дышит почти как люди, но медленнее», — пронеслось в голове.
— Пока довольно, — несколько быстрее прежнего молвила Осэа. — Мы не спешим… Откройте глаза и осмотритесь. Вам всё еще нравится моя долина ответов?
Ул сполз на колени, ладонями пребольно саданулся об острые камни, спрятанные под тонким покровом песка. Теперь он сполна очнулся… усмехнулся, слизнул кровь с прокушенной губы. Ул подтянулся и нагнулся, увидел своё бледное лицо в озёрном зеркале — вернее, в его осколке, отбитом от основной глади каменным гребнем. Вода не обладала даже малой прозрачностью — дегтярная, маслянистая… Она оставалась тьмою и все же отражала синь дня и белизну облаков, золотой узор главного дерева и луч скалы-столпа… Фигуру хранительницы.
— Когда боль уходит, мир делается ярче, — Ул зачерпнул дёготь и улыбнулся, когда в ладони вода сделалась обычной, прозрачной. — Приношу к вашим стопам скромный совет. Тут очень не хватает бабочек. Даже нет, мотыльков… знаете, они удачно дополнили бы вечность.
— Вы либо необратимо просты, либо безнадёжно молоды. Одно не исключает другого.
Впервые за время беседы хранительница шевельнулась, плащ взволновался бликами и тенями, взметнулся крыльями, выпуская на волю тонкие белые руки — и покорно лёг к ногам хозяйки, обнажив точёную фигуру в платье, обливающем её, как вода, и таком же текучем. Ткань казалась то сталью, то небесной синевой, то тьмою озёрной… Ул оцепенел, его внимание снова принадлежало хранительнице — вернее, её отражению. Вот белая рука вспорхнула, на миг заслонила бархатную бронзу лица и упала, рассыпав по ветру перламутр пыльцы, стерев маску.
Гибким движением, не содержащим ничего случайного, Осэа опустилась в сидячее положение: полубоком, левое колено плотно прижато к груди, его обнимает левая же рука, голова чуть повёрнута к собеседнику. Белое лицо без слоя пудры осталось маской покоя. Жили лишь волосы, мягкие и трепетные, как трава этого мира. Чем-то похожие на птичий пух…
— Мотыльки, — длинные пальцы вспорхнули и упали. — Вы дерзнёте выбрать цвет их крыльев?
Ул осмотрелся, с облегчением отвлекаясь от собеседницы. Озеро отсюда, с берега, мрачновато, скала и дерево величественны… Рамка тускло-золотого песка не отвлекает внимание, узор трав и мхов приглушает, смягчает скальный фон.
— Белый. Или как те листья, — Ул указал на склонённые к воде деревья, — серебро с чернью. Но лучше белый, незачем усложнять мимолётное.
Установилась тишина. Сперва спокойная, а затем всё более натянутая. Ул ещё мог смотреть в небо, на озеро, на белую скалу… Но лицо Осэа притягивало внимание. В своём мире тайн она оставалась главной и глубочайшей загадкой. Ул не смог понять, в какой миг рука перестала слушаться здравого смыла и опыта пережитой боли, когда указательный палец нацелился и прорисовал контур бабочки там, где она просто обязана была находиться. В волосах Осэа, чуть выше левого уха, чтобы Ул мог видеть при таком повороте головы хранительницы лишь край крыла, сияющий и полупрозрачный в свете солнца…
— Даже при безупречной памяти затрудняюсь сказать, когда приключился последний такой инцидент. Чтобы некто посмел делать замечания относительно моей внешности? — белое лицо не утратило покоя. — Смертные платят за самонадеянность жизнью, но ваша покуда вне моей власти. И к лучшему, я не склонна уродовать детей за их непосредственность, граничащую с намеренным оскорблением.
— В лучшее лето моей жизни Лия сделала меня цветочным человеком, — Ул запрокинул лицо и улыбнулся солнцу. — Это очень большая тайна. Больно делиться, но я готов приоткрыть душу. У моей Лии прозрачные пальцы, ваши почти так же легки. Моя Лия теперь взрослая… Пожалуй, она хранит немало тайн в том, родном мне, мире. Она не похожа на вас, но… похожа. Она сильная. Лето — единственная тайна, общая для меня и для неё и доверенная вам. Прочие я не отдам.
— Вы на берегу ответов. Здесь все отдают, все и всё, — губы Осэа отчеканили приговор.
— Я поделюсь тем летом, и вы поймёте, что я способен выбрать, что отдать и что сберечь. Я быстро учусь, особенно когда мне больно. Ничего вам больше не уступлю бездумно! Лия и прочие, кто в душе… друзья, семья, даже враги — их невозможно предать. Лия среди них особенная. Она наполнила меня цветом жизни, а вы и убить-то не властны, — покачал головой Ул. — Жаль. Вы прежде способны были создать золотое лето, я чую. Вы… прежде вы умели уничтожать мимолётным взглядом, я уверен. Вам по боку были рамки и правила.
— По боку? — меж сажевых бровей залегла едва заметная морщинка, лицо сразу ожило. — По боку… однако! И вы готовы пойти дальше пустых слов, мимолётных, как мотыльки? Вы почти занятны. Ночь!
Тьма рухнула на долину, и хранительница одновременно с угасанием света качнулась вперёд. Перламутрово-белое лицо оказалось совсем рядом. Глаза стали огромными, ресницы крапивным ожогом защекотали щеку. Губы выпили дыхание Ула, а вместе с ним забрали видение золотого лета, улыбку Лии, запах мяты, пудру дорожной пыли, узорное и праздничное, как пряник, село Полесье и целый рой детских мечтаний и грёз, притянутых мёдом этого пряника… Всё выпили губы, всё кануло в бездну глаз Осэа, и тьма их не всколыхнулась, не проредилась… И мир угас.
Ул судорожно забился и сел, шало озираясь.
Над озером рисовался изгибом закрытого века волосяной серп месяца. Единственный луч света пробивался из-под лунного века. Яркий и острый, он пришпиливал к водной глади белого мотылька. Каждый взмах крылышек рассеивал перламутр пыльцы, укладывал на воду призрачное сияние.
Белая скала тускло лучилась внутренним светом. Золотое дерево у вершины обладало всей яркостью дня, но не порождало ни бликов, ни отсветов. Как и днём, оно составляло узор заглавья смыслов и тайн долины. И узор отличался от дневного, пусть и едва заметно.
Ул склонился к озеру, умылся и напился. В голове творилось такое… не передать, и не осознать.
— Совершенный ребёнок, — шепнула в ухо Осэа. Ночной её голос был тёплым, бархатным. Ветерок подул из-за спины Ула и принёс запах терпкой мяты, иной, чем дома — но смутно похожей. — Я умею создавать, о да. Вот тебе бархатная ночь, мальчик. Попробуй её забыть… разве справишься?
Дыхание Осэа защекотало шею.
— Ох…
Ул дёрнулся отодвинуться, вмиг краснея и наполняясь жаром недоумения. Он еще не успел привести в порядок мысли, он только теперь и вспомнил, чем так резко оборвался день — выпитым дыханием и тьмою без дна, головокружительной…
— Тебя прежде целовала только мама, — шёпот вполз в ухо, близкий и тревожащий. — Даже неловко… С детей не стоит спрашивать по закону взрослых. Но ты и не дитя, и не взрослый. Жарко? Сердце трепыхается… ты мотылёк с ничтожной протяжённостью жизни. Сейчас мне не нужны ответы. Тьма не только отнимает, но и хранит. Эта ночь — тайна, она для нас двоих. В этой ночи я могу и сама подарить тебе… ответы.
Ул дёрнулся, лихорадочно зачерпнул из невидимого озера. Выпил невидимую в ночи влагу и осознал: она имеет особенный вкус и пропитана тайной. Ул поперхнулся: в этом мире пить воду в какой-то мере значит — снова соприкасаться губами с хозяйкой тайн… Ком наглухо заткнул горло. Его едва удалось выкашлять, багровея и задыхаясь. Зато в голове прояснилось.
— Я бы… — хрипло выдавил Ул и продолжил упрямо выговаривать, чтобы с третьей, с пятой попытки разогнаться и выпихнуть все слова просьбы. — Я бы очень хотел… простите. До смерти хотел бы вас…
Щеки коснулось дыхание Осэа.
— Хотел бы… вас… нарисовать, — так и не справившись с комком в горле, хрипло и невнятно закончил свою мысль Ул.
И повисла тишина.
— Утро, — ледяным звонким голосом приказала Осэа.
Мир проявился из тьмы, прорисовался — от больших форм к самым малым деталям… Хранительница сидела у воды, теперь она была в широком светлом платье, бесформенном — и в то же время позволяющем слишком уж много угадать и ещё больше домыслить. Белое лицо выглядело маской.
— Меня… нарисовать, — отчеканили губы Осэа, с издёвкой пародируя паузу меж словами. — Лишь атл мог пожелать подобного, в такую ночь. Я открою тебе тайну. Все высшие, — Осэа неопределённо повела рукой, — все в иерархии полагали до недавнего времени, что наследник атлов — подделка. Что прибытие подстроено Лоэном и исполнено посредством его дракона. Как иначе можно миновать пустыню стоячего времени и печать короля? Но я не прошу ответа, я и без того угадаю его: «я не знаю».
— Именно. Все твердят про что-то там… и про короля, — промямлил Ул, старясь не глядеть на хранительницу и не угадывать, и не домысливать.
— Ты столь странен! Всякий раз не соответствуешь прогнозу. Ты порой слишком мягок, а порой нелепо жесток. Ты обрушил правительство мира людей, где обитает Лоэн, всего лишь отвернувшись от их лидера. Отворачиваясь, ты сознавал, что делаешь?
— О-ох… Я сгоряча. Но я понимал последствия, и довольно точно.
— Ты походя сокрушил судьбы многих людей. Сожалеешь?
— Быть князем или советником — не судьба, а только лишь роль, — Ул выпрямился и с вызовом глянул в озера глаз Осэа. — Не жалею!
— Ты научил муравья-альва улыбаться, а ведь он был совсем мёртвый, он не выдержал пытки упрощения природы. Вернее, он не смог оценить пользы натурного опыта иерархии по развитию примитивной одноцелевой цивилизации. Так следует называть проект с тварюшками, жрущими всё и вся. Ты вылечил его сознательно? Он при встрече с тобой даже смог принять новое имя.
— Да. От всей души я желал ему выжить и выздороветь.
— А ты знаешь, кто он был и почему вошёл в зал выбора? — Осэа надела вежливую улыбку, словно предупреждая, что готова вернуться к допросу… и причинять боль. — Его забытое имя Алель покоится в моих озёрах тайн. Его история и есть ответ на вопрос, который ребёнок вроде тебя просто обязан нести к королеве. Самый примитивный и бессмысленный: «Зачем?»… Вопрос тех, кто делит мир на белое и чёрное, а разумных — на добрых и злых. Скажи, — Осэа убрала улыбку, качнулась вперёд, и её волосы тронули щеку Ула. — Я добрая или злая?
— Вы Осэа, хранительница тайн, — вдыхая мятный запах волос и утопая в головокружении, выдавил Ул. — Вы… непостижимы.
— Вот как, — в голосе скользнуло нечто, смутно похожее на досаду. — День.
По прикрытым векам ударило солнце! Алость нахлынула и пропала, Ул распахнул глаза, чтобы снова увидеть первую долину… Он уже не сомневался, что тайных долин с черными озёрами много, и Осэа свободно перемещает себя и гостя туда, куда ей удобно для того или иного разговора. Долины подобны, но не одинаковы. Осэа умеет создавать красоту, а значит, не занимается слепым копированием. Узор заглавной сосны всюду свой, да и подбор оттенков камня, воды, неба — он уникален всякий раз. Хотя надо иметь глаз, опытный в наблюдении, чтобы нащупать различия.
В дневной долине Осэа снова стояла в золотой маске и длинном плаще, неподвижная и торжественная. Совершенно закрытая.
— Зачем всё это, — её губы нарисовали вопрос без вопроса. — Зачем иерархия, порядок, ограничения? Чтобы сократить стихийное влияние. Алель именно так сказал, когда явился сюда и умолял утопить во тьме прошлое. Умолял дать ему карту без имени, ничтожную… Смотри, если готов беречь отныне и свои тайны, и его. Это тебе по силам?
— Я готов смотреть, — кивнул Ул, хотя в душе намерз здоровенный ком ледяного страха.
Взгляд Осэа указал на дегтярную гладь озера. Ул склонился — и начал разбирать глубоко, в небытии, тени и блики. Они приковывали внимание, вбирали без остатка…
— А вот и он, господа, — вальяжным, чуть брезгливым тоном сообщил щеголеватый человек. Его принадлежность к военным Ул понял по одежде, незнакомой, но такой… говорящей. Со знаками отличия, блескучими наградами. — Итак, приступим. Алель из рода неумирающих, вы признаёте за собой гражданство нашей страны, милостиво дарованное вам пятьсот сорок три года назад.
— Да, — едва слышно шепнул альв. Он был сухим и старым куда более, чем нынешний Лес, даже огорчённый допросом друга Ула. — Но, прошу учесть, я живу в вашем мире исконно. Я был здесь до вашей страны и, вероятно, буду после. Это сложно назвать гражданством. Я с вами… соседствую.
— Вы владеете имуществом, у вас счёт в банке и карточка-идентификатор. Вы платите налоги и дважды в минувшие пять лет привлекались к административным работам за нарушения порядка, — глянув на подсказку, усмехнулся военный. — Гражданин с правами, равными людям. Вы не можете не принимать и обязанностей! Это против логики. Мы требуем законного и очевидного. Или верните природные среды в оговоренных границах к первозданному состоянию, или признайте своё бессилие и уступите нам управление. Данные земли не могут считаться вашей частной собственностью, и значит…
— Я вырастил их, я поддерживал их семь тысяч лет. Я помню семечком старейшее дерево, — Алель качнул головой, и светлые волосы блеснули мягкой травянистый зеленью. — Это не собственность. Это больше: причастность. Услышьте, наконец…
— Вы отказываетесь участвовать в нашей борьбе и иссушать пространства врагов. Вы отказываетесь совершать иные союзнические действия, тем демонстрируя неповиновение и прямой саботаж, — заключил военный. — Мы вынуждены перейти к ответным шагам.
Большая ладонь не дрогнула, опускаясь на белую полусферу. Орлиный гордый взор военного был устремлён вперёд, в окно… «экран» — понял Ул, припомнив мир Лоэна и его людей с машинами и устройствами.
На экране возник лес. Солнечный простор полян, подобных огромным залам для танца с колоннами уходящих ввысь стволов… Алель помолодел всей кожей, наблюдая свой лес.
В экране что-то изменилось. Из вышины стал падать снег. Белые хлопья кружились, танцевали, опускались ниже, гуще. Вот они засеяли зелень луга… и картина стала быстро, жутко искажаться. Стволы дрогнули, клочьями теряя кору. Из поднебесья посыпались хвойные игры, они на лету желтели, чернели, рассыпались пеплом. Сами столы корчились, скручивались, с грохотом лопались язвами разломов…
Алель пошатнулся, вцепился пальцами в край стола. Нащупал ворот, рванул, и по полу застучали пуговицы. Альв задыхался, ник, в немом отчаянии наблюдал смерть своего леса и сам… умирал? Кожа темнела, на ней проявлялись язвы.
— Вы объявили собственностью десятки лучших природных участков по всему миру. Мы изучали их и вас, — торжествовал военный. — Мы сочли, что связь прямая. Если вы не готовы нести бремя ответственности и принадлежать миру людей на равных с нами правах, мы удалим вас из нашего мира. Решение принято совместно ста пятьюдесятью тремя значимыми странами при двух воздержавшихся. Никто не должен стоять над законом.
Алель сник на колени, продолжая смотреть на экран. Медленные, смолистые слезы выкатились из его глаз и двумя янтарными каплями звонко скатились на пол…
— Это наш мир. Мир людей, — вещал военный. — Мир, где мы вправе проводить границы и указывать назначение любых территорий. Вы скрывали от всех наличие алмазов под данным участком? Вы скрывали залежи золота в долинах рек, вы…
Кожа Алеля, как мёртвая кора, осыпалась на пол. Волосы опали жухлой травой. Чёрный, как головешка, тощий, как прут, альв выпрямился и посмотрел на людей плачущими янтарём глазами. Шагнул — и пропал.
Сразу же на экране возникло черное копьё ростка! Он вырвался из мёртвой, засыпанной пеплом почвы погибшего леса и потянулся ввысь, утолщаясь, превращаясь в колонну… в целую скалу с заточенной вершиной, готовой пробить небо! Он рвался вверх, а вокруг падали, рассыпаясь трухлявыми головешками, стволы семитысячелетнего леса. Росток пер с чудовищной, какой-то сокрушительной и страшной яростью! Люди, замерев в креслах, смотрели на то, что сами же начали и что уже не могли остановить.
— Получаем данные о тектонических возмущениях в районе наблюдения, — прошелестел голос кого-то незримого.
— Там стабильная материковая плита, — быстро сказал человек, занимающий дальнее кресло.
— Три балла… пять… — шелестел голос, и в нем чуялся панический страх. — Замечены черные ростки в трёх наблюдаемых районах. Ещё в пяти! По первому району есть подозрение на разлом плиты… Не можем обеспечить высокую надёжность данных, мы теряем станции слежения или связь с ними. Семь баллов…
Зал вздрогнул, люди в креслах лихорадочно вцепились в подлокотники, военный несолидно взвизгнул… Следующим толчком его унесло и впечатало в экран. Сеть трещин разбила экран с видом на мёртвый лес и ширящуюся колонну черноты. Свет погас. В зале орали с привизгом, на много голосов.
Ул мелко дрожал, ощущая ужас людей и сознавая: всё это было давно. Нельзя вмешаться, остановить. Всё — необратимо. Грохот, рывки. Ворочаются сами стены! Они скрипят, скалятся проломами и разрывами, показывая железные штыри каркаса, которые рвутся, как травинки…
Свет мигает: медленно разгорается и блекнет. На полу, недавно таком гладком и глянцевом, валяется осколок экрана — и упрямо показывает то лес с черным ростком, то облака, то рвущееся, бушующее пламя. Голоса хрипло твердят донесения.
— Десять баллов! Мы больше не можем фиксировать данные в реальном времени. Разлом расширяется. Профессор Ог последний раз в сеансе связи сообщил: он оценивает динамику как необратимую, это супервулкан. Позитивных прогнозов нет. Мы не можем…
И — тишина. По осколкам скрипят шаги. Свет разгорается, беспорядок сам собой сокращается — некто всемогущий восстанавливает благопристойный вид зала. В некоторых креслах люди замерли без сознания, в потёках крови. Иные целы и шало моргают, пытаясь осмотреться и осознать происходящее.
От разбитого экрана к покосившемуся, сломанному столу, грациозно движется женщина в безупречном платье, льющемся, как вода.
— Вы совершенно безумны, — знакомым голосом сообщает Осэа, носящая золотую маску. — Уничтожили важнейшие экосистемы, которые он берег, отдавая себя. Он фильтровал яды и возобновлял природные цепочки, которые вы рвали, исчерпывая мир. Но вы превысили доступное ему силовое резервирование и перевели организм опытного альва в режим выживания… Знаете, какого рода растения способны противостоять безгранично ужасным условиям? Увы, теперь узнаете. Мы, иерархия, три сотни ваших лет назад перевели данный мир в категорию неперспективных с негативным прогнозом выживания Си-минус. Лишь Алель помогал вам, без нашего согласия. Он — одиночка. Сейчас он без сознания. Надолго. Будет самое меньшее три разлома. Я не намерена их сращивать, но локализую раскрытие, таково моё одолжение Алелю. Кто-то из вас выживет… хотя — зачем? Конец сообщения.
Тьма медленно, штрих за штрихом, зачернила прошлое… Из тьмы на берег озера тайн вышел Алель и слепо побрёл к хранительнице. Он был без кожи и всё еще исключительно мало походил на человека. Короткие волосы — как мелкие, тряпично-мягкие корневища травы… Алель склонился, уткнулся лбом в приозёрный песок.
— Я не должен жить, — шепнул он. — Леса умирают, мне больно… Убийцы лесов умирают, и мне не легче. Дайте испить забвение. Пусть другие выращивают решения… я срублен, мои корни мертвы. Я хочу быть обтёсанным и пущенным в дело… хотя бы так. Хотя бы… Иссушите мою память, хранительница.
Видение дрейфовало в дегтярной воде глубже, глубже… Ул разгибался, ощущение камня на шее уходило. Реальность восстанавливалась.
Яркий полдень. Долина ответов. Осэа, похожая на статую, с золотым лицом-маской и бездонными пропастями глаз.
— Есть смысл отдавать мне память, пока она не стала прахом… или камнем на шее, — отчеканил дневной голос Осэа. — Поделись. Мы безуспешно разыскиваем того, кто известен тебе, как Рэкст. Он много страшнее Алеля. Он в своей защитной форме разрушит в прах любой мир. Он сейчас угрожает твоему родному миру, наследник. Всё четвёртое царство во власти беса, который, если он жив, сорвался с поводка и неуправляем.
В ушах звенело. Тошнота то прокалывала тело спазмом, то пропадала, чтобы скоро снова заставить стонать и корчиться. Ул закрывал глаза, и тогда видел труху леса и чёрный росток отчаяния. Ул открывал глаза — и смотрел в холодную тьму озера… и не было надежды.
— Я желал нарисовать вас, — выдавил он. — Теперь хочу ещё больше.
— Рэкст жив?
— Лес бы справился, не утопи вы его, как дубовую колоду, — Ул растёр затылок и проморгался. — Как же тошно… А, пройдёт. Знаете, в чем тайна дуба? Он не гниёт. Он в воде делается морёным. Я сам построил дом на сваях из морёного дуба. Прочный дом.
— Рэкст жив? — в голосе Осэа проявилось эхо раздражения.
— Лес жив. То есть Алель. Он помнит, хотя боится сам себе признаться. Он справится. — Ул сморгнул слезинку, посмотрел на хранительницу снизу, из сидячего положения, просительно. — Отдайте мне полное имя Рэкста, а я отдам в ответ всё, что помню о нем.
— Ночь!
Рука хранительницы скользнула над её лицом, вмиг убрав золотую маску. Пыль ещё вилась облаком сумасшедшего сияющего лета, а над долиной уже щурился тонкий месяц, и единственной слёзной дорожкой истекал из него луч. Ул глядел, заворожённый, на белое лицо Осэа с двумя озёрами тайн, столь уместных в ночи, столь совершенно очерченных…
Ул смотрел — и оставался собою, и не растворялся во тьме лишь потому, что ощутил на плече таяние одинокой снежинки и боль… Чью?
— Холодно. Мурашки, — шепнул Ул и оглянулся. — Простите, хранительница тайн, ничего не могу с собой поделать.
Ул поклонился, прыжком вскочил и помчался вдоль берега, шлёпая по мелкой воде и разбрызгивая её, и вспенивая — вместе со вселенскими тайнами, бесовскими кошмарами и болью, непереносимой для истерзанных душ… Синие соцветия венчали гладкие стебли, которые не желали ломаться. Их приходилось кусать, рвать ногтями, перетирать… Ул упрямо разрушал продуманное до песчинки совершенство долины, ощущал себя сумасшедшим и, вот странно, — пока что безнаказанным.
С ворохом синих цветов Ул побрёл напрямик по воде, к ночной Осэа, белой, невесомой. Опять она в полупрозрачном наряде, позволяющем угадывать, но не видеть.
— Зачем выращивать цветы, если их никто не дарит, — Ул ощущал в голове жар и шум. Даже говорить приходилось громче, чтоб слышать себя же. — Вот, вам. Сколько можно душу рвать чужими тайнами! Она у вас на последней нитке держится! Простите. Вам надо бежать отсюда без оглядки. Вы ж не каменная, чтобы всё в себе и всё…
— Рисуй там, прямо теперь, — белая рука вспорхнула, указала на скалу. Осэа запрокинула голову, заглядывая в глаз луны. Пух волос хранительницы серебрился, ткань платья переливалась, очень тонкая… слишком. Ветер дул в спину Осэа, нёс запах мяты и росы.
Ул сгорбился… Сделалось поздно объяснять, что пока он умеет рисовать лишь узоры заглавных букв, этому научил еще Монз — давно, наверное, в прошлой жизни. Ул вслепую погладил скалу, чуть тёплую. Достал дарёный Мастером О грифель, затаил дыхание — и в одно движение очертил контур. Рука дрогнула и нанесла ещё несколько штрихов. Ул отступил, робко взглянул на свою работу: Осэа в профиль, в дневном парадном плаще, а затылок её — тоже лицо, ночное. И волосы летят, и платье… Ул удивился: загадка неуловимого взгляда тоже вплелась в узор! Вон она, снежинкой вьётся над ресницами ночного лика Осэа.
— Говорили, не умеешь рисовать, а Лес просто устал, сдался при малейшем дуновении жалости, — Осэа нагнулась, выбрала из вороха подаренных цветков один. Примерилась, заправила за ухо. Лицо стало живым, задумчивым и усталым. — Как ты победил Шэда, ребёнок?
— Я не воевал. Он хотел поговорить, он мудрый. С ним легко, — выдавил Ул и отвернулся к озеру. Тотчас локтя коснулись невесомые, прохладные пальцы. Острые ногти Осэа чуть царапнули кожу, требуя вернуть внимание хозяйке мира.
— Кого поцеловала Осэа, тот принадлежит Осэа, пока он не наскучит Осэа… Это не тайна и не закон, но это неизменно во веки вечные, — Хранительница грустно улыбнулась. — Сама королева не заберёт у меня право открывать одни тайны и ограждать другие, связанные с… особыми отношениями. Набросок неплох, но такого мне мало. Ты будешь рисовать Осэа… да. И всё, что до Осэа — лишь стёртое прошлое.
— Мастер О отдаёт знания только в обмен на…
— В моей ночи он пожелал меня… рисовать! — на щеках Осэа проступил румянец. Платье взвихрилось, когда хранительница крутнулась, разворачиваясь. — Если в тебе нет дара донести через рисунок душу, я сотру тебя в пыль. Я, Осэа, отныне и впредь единственная обладаю правом спрашивать у тебя о тайнах и казнить за их сокрытие… или не казнить.
Хранительница оказалась рядом мгновенно. Ул вздрогнул, понимая: она немного выше, приходится поднять голову, повинуясь тонким пальцам, поддевшим подбородок.
— Хочешь остаться? — почти касаясь губами губ, выдохнула Осэа.
Рывком оттолкнула! Ул рухнул, пребольно саданувшись о камни копчиком, сморгнул слезинки…
Вокруг проступал, расправлялся, как смятая резким движением штора, мир Мастера О. так же расправлялись складки непокоя в душе, внятнее проступал узор сожалений. Ведь самую малость, если быть честным, если вслушаться сквозь шум в ушах… Ул хотел остаться. И он испытывал огромное облегчение теперь, вдали от озера ночных тайн.
Правее и чуть в стороне Лес замер на четвереньках, носом уткнувшись в какой-то особо ценный болотный корешок. Лес был чумазый, в тине по уши, без рубахи. Тощий, жилистый, смешной… Как верить в видение из озера тайн, в тот кошмар про чёрный обугленный дух мести с горящими янтарём глазами?
Лес обернулся, расцвёл улыбкой — по-настоящему, даже кончики волос тронул перламутр пыльцы, и запах весеннего сада разнёсся над болотом.
— Отпустила? Запросто и быстро? Быть не может.
— Ты… Лес, ты давно передумал быть муравьём? — прямо спросил Ул.
— Давно.
Лес быстро отвернулся, но рыже-янтарный блеск его взгляда Ул успел приметить: и боль, и отчаяние, и страх… и упрямую надежду растущего — пробиться и одолеть. Увидеть солнце.
— «Зачем?», — усмехнулся Ул. — Какой был превосходный вопрос к королеве! И вот тебе ж, вдребезги. Эта Осэа… была бы она или умная, или красивая. А то аж до колик страшно.
— Ещё бы, — вздохнул Лес, не оборачиваясь и продолжая дрожащими руками копаться в корнях своего обожаемого болота.
— Теперь мне самому надо ответить про это «зачем», — вздохнул Ул. Запрокинул голову и крикнул в сталистое небо мира О: — Эй, что, у всего надо искать смысл? Мы живём, потому что живые! Мы ошибаемся, потому что живые! Думаешь, побоюсь каких-то обветшалых тайн? Да мне по боку!
Столичные истории. Макушка лета
— Обратный хват, пальцы вот так, — самозабвенно вещал Сэн, почти целиком зарывшись в ворох скошенной травы. — Раз! И вниз-влево… и лезвие смотрит в землю. Называется «усталый жнец».
— Острый нож не дают младенцам, — Лия безнадёжно отмахнулась от своих же умных слов. — Хотя оба вы… младенцы. Сэн, вся столица год пробует втолковать тебе: вернувшись из долгого похода и застав жену с ребёнком на руках, муж обязан хотя бы для вида заподозрить измену. Хотя бы удивиться рождению сына…
— Я знал о рождении в день и час рождения, — Сэн недоуменно нахмурился, искоса глянул на жену и снова уделил всё внимание ножу в руке малыша. — Как я мог не почувствовать? Странная мысль. С того дня тут, — он толкнул себя пальцами в ребра слева, — стало болеть вдвое сильнее. Я затосковал по вам двоим… а теперь вы рядом. Благодать.
Сэн перевернулся на спину и широко улыбнулся, продолжая восторженно взирать на наследника, целящего ножом папе в глаз. Острие, между прочим, отстояло лишь на ноготь от зрачка! Лия прикусила губу. Дышать невозможно, видя подобное!
— Ты… перестань. Прошу.
— Теперь хват вдоль лезвия, цепко, и вот так размести большой палец… Н-да, пока нож великоват, но постарайся. И… да! С силой толкай вниз, чуть поправляя, — продолжил неугомонный ноб, утекая из-под острия с неуловимой быстротой. В волосах Сэна на миг блеснула алость чистого азарта. Крохотный кончик пряди осыпался искорками… — Да! Удобно резать сухожилия на ноге, если нож исходно спрятан в рукаве. Удобно рубить коленную чашечку… Названия у приёма нет, Ульо, он относится к подлым, вовсе не нобским. Но, если кто-то полезет обижать маму, даже при твоём росте приём сработает. Цель в стопу, хорошо?
Лия фыркнула, выдохнула мгновенный страх и расслабилась. Что за глупость! Она знает опыт и силу Донго-старшего. Как его может ранить ребёнок? Сэна год назад окончательно раздумали подбивать к стычкам взрослые… все до одного в столице. И, понятное дело, последний неисправимый задира — друг Дорн, ему и самому не с кем подраться в полную силу.
Сэна хэш Донго после возвращения откровенно боятся в столице — князь, канцлер, нобы… О нем так много слухов, что шум их доносится даже сюда, в благодатную и ненаселенную тень парка при бесовом дворце. Еще бы, Сэн пропал отравленным, а вернулся год спустя живым-здоровым. И весь этот год стремительные крылья почтовых голубей доносили в Эйнэ сведения о загадочных поединках чести. Три десятка боев в столичных и пограничных городах смежных и отдалённых княжеств! Все бои прошли после прибытия на место хэша Хэйда, после его визитов к опасным людям, после разговоров о том, что желали бы оставить в умолчании и всемогущие Тэйты, и опасный превыше них бес Альвир…
Череда боев чести потрясла и родовитых нобов, и богатейших купцов. Шепотом говорили о сорванных альянсах через брак или усыновление, о разрушенных союзах на золоте и торговом интересе, о несостоявшихся земельных сделках. Кто-то разорился, кто-то бежал и сгинул. Зато пёстрое лоскутное одеяло княжеств не было перекроено заново, более крупными ломтями, как желал бы Альвир и как он намеревался сделать, истратив на подготовку перемен — семь лет. Люди Альвира говорили: так станет лучше для торговли, окрепнет власть княжьих домов и крупные отряды гвардии наконец-то пресекут разгул сельской вольницы… И вроде бы звучало разумно. Но прежний бес, Рэкст — теперь Лия знала точно, изучив его библиотеку — яростно противился переменам. И, кажется, делал это не по приказу, а против такового, тайно…
«Если б уцелела моя память, вряд ли и она хранила бы иной мир, столь тесно набитый разношерстными наречиями, обычаями и суевериями… Логика прогресса требует убрать с карты лишние границы, а заодно смести как сор противящихся людишек. Но звери не ценят прогресс. Звери ценят разнообразие родного леса. И, пока здешний «лес» мой, я допускаю за князьями лишь право, равное праву хищников: взять надел и кормиться с него. Популяция хищников в мире должна оставаться постоянной, так я решил.
Зачем? Чтобы города не наступали на лес. Чтобы испражнения людской цивилизации не смердели всё гуще. Чтобы законы не мешали бурлить вольнице, порождающей опасных даже мне врагов — алых нобов. Без надежды на поединок с такими мне станет слишком скучно. Ненавижу скуку»…
Лия помнила этот текст, едва ли не самый длинный из найденных на полях книг, помнила и многие иные. Все вместе они составляли сложную, противоречивую, неполную картину намёков и подсказок. Впрочем, Рэкст оставил записи не для чужих глаз. Он сам, верила Лия, искал в опустевшей памяти нечто важное и действовал по наитию. Он яростно и порою жестоко пресекал перемены… чтобы мир остался таким, каким он был до Рэкста? Чтобы в мире не иссякла сила крови — золотой, алой, синей, алой… Хотя именно исчерпание такой крови было явным и громко провозглашаемым делом того же Рэкста!
— Почему? — шепнула Лия, перебирая кисти невесомой шали-паутинки, привезённой в подарок Сэном и потому греющей душу, а не только тело. — Я бы спросила у вас.
Было странно перенять у матушки Улы привычку разговаривать с портретом Рэкста, но в последнее время Лия стала замечать: вечерами она поглядывает на портрет и без слов задаёт вопросы. Её собственная золотая кровь согласна с Рэкстом. Лия выделяет князьям роль хищников, а не владельцев леса, коим дозволено рубить его до последнего ствола. И кровь Хэйда звучит сходно, не зря он безжалостно использовал самые сильные средства, лишая врагов власти, а то и жизни… и оставляя мир лоскутным одеялом, где роль людей мала, а сами они разрознены. Где почти нет армий, лишь городская гвардия, а пограничные споры решаются боем чести алых — и только-то…
— Тяни враскачку, — посоветовал Сэн, наблюдая за малышом. Не пытаясь помочь, он жестом указал, как именно тянуть нож.
После «подлого броска» лезвие целиком ушло в мягкую садовую почву. Двухлетний защитник мамы Лии пыхтел, пускал пузыри, причмокивал от усердия — и тянул нож, пока не выдрал. А выдрав, упал на спину и покатился по траве, да с ножом в обнимку!
— Он же поранится, — буркнул Тан, как раз явившийся с опустошённой корзиной, чтобы снова сгребать траву, скошенную поутру и немного вялую. Юный граф покосился на Лию, заметил её благодарный кивок и улыбнулся в ответ. Добавил важным тоном хозяина дворца: — Мой братишка ещё мал. Зачем учить его таким опасным приёмам? И разве он понимает всё сказанное? Пусть отдохнёт. Игрушки вон…
— Не делай замечаний вместо Лии, если их вслух не начала даже Лия… понял, сынок? — Сэн сразу оказался перед своим старшим учеником, ткнул Тана кончиками пальцев в кадык и яремную впадину. — Плохо, ты дважды не сблокировал. Даже руки не успел поднять! Ты труп. Почему? Учить надо с пелёнок. Ты недопустимо стар для начинающего. Хотя Ула я учил почти взрослым, и он сразу показал хорошую скорость. Бывают исключения.
— Так то Ул, — растирая ещё не возникший синяк, смутился Тан. По горящим щекам сделалась внятно: он безмерно рад быть в шутку названным «сынок». — И зачем вы переиначили имя? Мы выбрали, и матушка Ула сказала: можно. И…
— И зовите, как пожелаете. Но Ульо — наше родовое имя, как и Сэн, Эньо, Тос, Оссэи, и ещё семь иных. — Сэн взглядом указал место очередного удара: солнечное сплетение. Дал время обдумать защиту и исполнил приём медленно, плавно. Чуть улыбнулся, отражая такую же медленную и плавную защиту, чтобы сломать её и пробить, и повторить урок ещё трижды разными способами, быстрее и быстрее. — Род Донго очень древний. Нам приходится следовать некоторым правилам, хотя бы таким необременительным. Прочие мы нарушаем… Ты недостаточно гибко и мягко блокируешь. Так и ломают руки, на раз. И — раз!
Тан вскрикнул, отлетел и впечатался спиной в беседку. Было слышно, как хрустнули кости. Хотя, конечно, расчёт Сэна очередной раз оказался безупречен: ушиб, не более. Едва ученик поднялся на ноги, Сэн пригласил атаковать и, защищаясь, плавно повторил все блоки, использованные против него только что. Сэн цокал языком, отмечая ошибки или ответственные моменты. Затем отвернулся и подмигнул сыну.
— Ульо, не сопи. Алый ноб дышит тихо. Азарт мы проявляем лишь в блеске волос и глаз… Отдай нож, пока мама не лишила нас обеда. Видишь, она молчит и не смотрит на нас. Мы провинились. Будем плохо себя вести, мама вспомнит, что за оградой столица, а в ней дворец, а во дворце всякие разные дяди и тёти, которыми наша мама играет ловчее, чем мы — ножами… Мама великий человек, — Сэн грустно улыбнулся. — Мама умеет играть живыми, а я лишь выбиваю из игры указанных ею негодяев… и часто насмерть.
Нож будто сам собой выпорхнул из руки малыша, оказался сперва в пальцах Сэна, а затем в ножнах. Сэн рухнул в траву, раскинув руки и стал смотреть в небо. Лия виновато промолчала. Она чуяла всей душой: за сказанным прячется большая боль.
Выбивать из игры худших, такова участь алых. Они — ярчайшие и сильнейшие — воплощают собой справедливость, за ними подлинный суд чести. Но разве не по цвету крови их зовут — алыми? И разве Сэну легко наставлять малыша в причинении ущерба жизни, когда тот не научился толком выговаривать слова? Мальчик растёт молчаливым… пугающе сосредоточенным и молчаливым. По весне он первый раз заговорил: скрипнула калитка, по хрупкому утреннему ледку, по прошлогодней мёрзлой траве, уже зеленеющей в надежде на новое тепло, прошуршали шаги… и Ульо обернулся, улыбнулся и сказал «папа». Откуда слово-то вызнал?
— Пока меня лично не пригласит обхитрившийся дальше некуда князь, я ничего не вспомню. Не нужны мне игры столицы, — Лия прищурилась и добавила мстительно: — Ещё ему придётся принести извинения. Надеюсь, он не захочет унижаться в ближайшее время.
— Захочет, — зевнул Сэн и прижмурился. — Жена, что за дрожь в голосе? Слушать тошно… ты на себя не похожа. Ты у меня паучиха, уж прости, но так я тебе льщу. Ты паучиха, я — шершень. Ты плетёшь заговоры, я — рву. Мы несовместимы, я слышу такие глупости даже на базаре. Хотя на мой вкус только ты способна ужиться со мной. Ты ни разу не спросила, от чьей крови я отчищаю клинок. Не требуешь богатства и не попрекаешь за отсутствие дома. Не спрашиваешь, где меня носило всю ночь. Безупречная жена алого, да!
— Трудно убивать людей? — тихо и серьёзно спросил Тан.
Он загрузил траву в корзину, умял и теперь ждал, пока малыш Ульо подёргает и потыкает вялую зелень, посильно участвуя в уборке сада.
Сэн резко рассмеялся и смолк. Лия виновато повела руками, глядя на Тана — мол, ну ты и ляпнул!
— Убивать людей очень легко, а вот принять себя такого ужасающе трудно, — раздумчиво сообщил Сэн. Сел, встряхнулся, выбрал из волос травинки. — С некоторых пор мне стоит больших усилий вытянуть саблю из ножен, она сопротивляется. Бес Альвир, друг Дорн, хэш Лофр… хотя он — только в бою чести по очень вескому поводу… кто ещё? Омаса, если однажды смогу доучить его до нужного уровня. Конечно же Рэкст, если он жив. Пожалуй, еще кроткая Чиа, — Сэн кивнул. — Да. Кроме них в честном бою никто в городе не заденет меня. Но ты спросил о мести, а не о смерти как таковой? Я слышу в голосе дрожь и вижу на лице тень. Алые не могут себе позволить месть, Тан. Из мести выходит резня, а не бой. Начав резню, алый с моим даром уничтожит силу крови рода во веки вечные. И себя уничтожит.
— Так ведь он не человек, а бес! — тяжело дыша, выговорил Тан.
— Рэкст? — без интереса спросил Сен. Дождался кивка жены. — За год странствий я зарезал насмерть пятерых. Все они были уже так мало похожи на людей… я не сожалею и спокойно сплю, Тан. Но у моих врагов могли остаться дети. Значит, где-то может расти мальчик Тан, для которого я и есть его личный бес Рэкст. Однажды мальчик накопит силы — властью, ядом, золотом… как угодно. Тогда он явится уничтожать меня. Так враг моего деда зарезал моего отца и сжёг мой дом. Откуда знаю? Дорн расстарался, как он сам говорит, «бережно выудил все концы из воды». Привёл меня к дому убийцы. Как раз весной… я вернулся в Эйнэ, я радовался безоблачной жизни, и вдруг — такое. — Сэн провёл по лицу ладонью, стирая боль. — В твоём возрасте убийца отца был моим… Рэкстом. Он исполнитель, но тогда мне было не важно.
— И ты его… — глаза Тана блеснули сухо, ярко.
— Я открыл дверь, глянул с порога на беззубого трясущегося старика, — Сэн встал, подал руку жене и нагнулся, собирая постеленный для неё коврик. — В углу жались младшие, твои ровесники… в комнате за дверью выли их родители. Три поколения кровных врагов! И все они знали, кто я. Знали, что сделал их старик. Дорн рассказал им заранее, он щепетилен в делах, — Сэн отмахнулся от мыслей и улыбнулся. — В общем, я развернулся и ушёл. Наверное, стоило дать ублюдку время принести извинения, но руки мои могли оказаться быстрее ума, задержись я там.
— Почему? — побледнел Тан. — Как же так…
— Хочешь, сходи и глянь на них. Я скажу адрес, — Сэн протянул руку маленькому Ульо и вскинул его, хохочущего, на плечо. — Урок через час.
Сэн удалился, продолжая то и дело заглядываться в небо, вдвоём с сыном пересчитывать облака и за двоих громко гадать, на что похожи и каким приёмом было бы удобнее искромсать их в мелкие клочья. Тан слепо смотрел вслед обожаемому учителю. Первому после Ула — это Лия знала наверняка — кто был в глазах парня безупречен, безгрешен и достоин подражания.
— Тан! — позвала Лия. Дождалась, пока её расслышат сквозь шум крови в ушах. — Я хочу добавить к словам Сэна вот что. Он мог и убить, ведь он не говорил с врагом, не ел его хлеб и не брал у него в долг. А ты принял наследство Рэкста и тратишь золото на нужды недокормышей, которых пристраивает Шель. Ты оплачиваешь счета Гэла, бывшего Голоса, чья спина выпрямилась, дав крови ударить в голову, и ладно б только туда… гм. Как же ты теперь поднимешь оружие на своего ненавистного благодетеля?
— Хэйд убедил принять имущество и сказал, это моё бремя, — дрожащим голосом выдавил Тан. — Да я себе ни медяка не взял! Ты же знаешь! Даже на еду… даже…
— Знаю, — согласилась Лия. Опасливо глянула в сторону ограды и потянула выше шаль, до того лежавшую на сгибах локтей. — Опять во дворце говорят обо мне. Плохо… я разнежилась и не желаю играть в игры золотых нобов. Каждая моя затея создаёт врагов Сэну и ставит под удар будущее Ульо. Он прав, я паучиха.
— Вот ещё! Ты ведь и себя — под удар! — вскинулся правдоискатель Тан.
— Тан, я прочла дневники Рэкста и скажу тебе худшее, ты уж держись, — Лия указала на дворец, обозначая намерение вернуться под его крышу. Улыбнулась, отметив: стекла бального зала сияют! Не зря она вынудила участвовать в уборке всех обитателей дворца. — Тан, даю слово, что нобов, которых выбил из игры мой Сэн в прошлом году, Рэкст взял бы в свиту и низвёл до состояния скотов, всегда оставляя им выбор: уйти или остаться. А вот те, кого Сэн зарезал… их бы и Рэкст зарезал! Я просмотрела записи относительно убитых лично бесом. Мы с ним по одним меркам отделяем людей от людишек. Я и Сэн, вместе… мы сейчас и есть бес Рэкст. Мы исполняем по мере сил его грязное дело. Едва князь пришлёт за мной карету, выделит золото и громкий ранг в обмен на… тебе не понять, но я-то знаю, на что! Едва это случится, у тебя появится много причин относиться к Лионэле хэш Донго с отвращением. Ты ведь и другого Рэкста столицы, ночного, недавно назвал грязным мерзавцем.
— Славного хэша Боува, — Тан покраснел, вспомнив недостойное поведение недельной давности. Он забормотал, багровея шеей: — Так я… сгоряча. Третий канцлер исполняет долг, я после понял… вроде. Я извинился. Но… но зачем бы князю возвращать вас? И возвышать? Нет, это слишком. Вы шутите.
— Отчего же, золото моей крови теперь в цене, алость крови Сэна тем более. Кто ещё отскоблит заплёванную репутацию старого развратника, отстирает грязь с имени его так называемого наследника и урезонит своего же бывшего секретаря? Парень рыщет по городу, как бешеный, а кого разыскивает, даже Дорн не ведает, — Лия прищурилась, опасливо вслушиваясь в дальний перебор копыт.
Вот карета замелькала вдоль ограды, изредка взблёскивая золотом отделки в просветах пышной зелени… Звук копыт стих.
— Милостью сиятельного князя земель Мийро ныне, в десятый день от верхушки лета, — взялся драть горло дворцовый глашатай, — даруем мы постоянный восьмой ранг безупречной нобе Лионэле хэш Донго. А равно ярчайшему из алых нобов сего стольного града, решившему в поединках чести все наши граничные споры и тяжбы, нобу Сэну хэш Донго, даруем…
Лия поморщилась и ускорила шаг. Взбежала по ступеням, распахнула дверь, быстро закрыла за спиной и замерла, уговаривая себя не затыкать уши. Глупо и по-детски это — пробовать отгородиться от шума, который скоро заполонит весь город пересудами, как эхом…
Сэн на четвереньках полз по бальной зале, фыркал конём и хохотал, встряхивая головой: Ульо крепко сидел на отцовой шее, намотав пряди волос на пальцы, как поводья. Иногда «конь» делал вид, что встает в рост или падает на бок, но седок не терялся и не паниковал.
Очень трудно подойти со спокойным лицом, — призналась себе Лия, делая шаг за шагом и ощущая, как тяжелеет камень на душе. Сэн ловко извернулся и все же сбросил сына с шеи. Встал, растрепал волосы, подмигнул Тану.
— Жена, я намерен жить в столице нобом-бездельником, — сообщил он, рассматривая потолок бального зала. — Иногда буду гулять ночами в приятном обществе друга Дорна, едва он вернется. Ты же знаешь, он намерен посетить белую лекарку на юге и не берёт в путь саблю. Пока он в отъезде, я устроюсь фонарщиком в воровской слободе. Говорят, оттуда очередной сбежал по весне и место пустует, хотя оплата — ого-го.
— То есть не проклинаешь золотую кровь своей паучихи, — с облегчением хмыкнула Лия.
— Я клинок, ты — рука, ничего не изменилось, — заверил Сэн. — Кроме одного: не желаю служить ни князю, ни канцлеру, разве ты облюбуешь одно из этих кресел.
— Всё не так безнадёжно, мы однажды сбежим из столицы, — пообещала Лия.
— Благодарю за надежду. И учти, хорошо бы сбежать отсюда прежде старости! А пока схожу, заберу бумаги, вон как кричит-то, того и гляди голос сорвет, — решил Сэн.
Глава 7
В которой рассказывается о событиях весны 3221 года
Путь беса. Ни малейших иллюзий
Весна — чахоточная особа, страдающая ночными ознобами и дневными припадками жара, готовая без причины расплакаться ничтожным дождиком или затопить паводком всю округу. Она разбрасывает по кочкам нелепые цветки, лишённые зрелой роскоши, мелкие, с дрожащими лепестками, не выдерживающими двух дней от рождения до гибели…
Весна — подруга бескрылых. Драконы не ценят её: всматриваясь в пестроту лугов и гор свысока, они минуют сотни раз в день кромку сезонов, лишь качнувшись с крыла на крыло.
Ни один иной сезон не прельщал Шэда так, как робкая ранняя весна. Великий Шэд, давший имя своему миру и названный в иных по смутному подобию с местными видами — змеем, анакондой, йоллом, хидром, хотээрой, кобергом, аййяра… Шэд, носитель бессчётного числа имён, произносимых с трепетом и почтением — он обожал весну, всегда и любую. В каждом новом мире Шэд дожидался весны, сладко вздремнув в холода, и взбирался на облюбованную заранее плоскую скалу, чтобы свить кольца узора после очередной линьки — и созерцать оттепель, и вдыхать пряный аромат её юности.
Шэд не стремился к полёту и не понимал его, как чудо. Зачем болтаться в пустоте, если можно попасть, куда надо, ощущая опору. Но весной Шэд иногда сходил с ума, насмотревшись на танцы мотыльков. Он скручивал тело в многовитковую пружину — и устремлял ввысь, выпрямляясь! Грохот сотрясал окрестности, раскаты рокочущего гула оповещали всё живое о слишком уж игривом настроении змея. И драконы прекращали переваливаться с крыла на крыло, и улепётывали куда подалее! Ведь в точности неизвестно даже им, как высоко способен прыгать перелинявший Шэд на большой охоте.
— Скалы, — тоскливо отметил вервр, заметив уютное местечко для отдыха. — Тёплые.
Ответа он не получил. С рассвета Ана не тратила себя на разговоры и мчалась, как безумная.
— Плоские скалы, цветы, ручей, — трепеща ноздрями, снова заметил вервр.
— Позже, — пресекла жалобы Ана. Махнула рукой вперёд. — Беда, боль. Меня тянет, меня тащит, понимаешь? Я опаздываю! Совсем и необратимо!
— Куда можно опаздывать в твои неполные тринадцать, — буркнул вервр, нехотя запретил себе думать о приманчивых скалах и побежал быстрее.
Всякую зиму дорога, как бы она ни петляла, приводила к порогу починенной и поставленной на новый фундамент избы старого Ясы. Там находилось много мелочных сельских дел, непосильных вовсе уже дряхлому деду и малопонятных вервру, даже имей он зрение. Там Ана казалась обычным ребёнком, она хихикала, шепталась с бабушкой и пробовала прясть, вязала из пуховой козьей нитки неуклюжие носки и варежки. Примеряла их вервру — и, хотя он не мерз, но от детской заботы согревался.
В нынешнюю зиму стариков проведали дважды, и повторно совсем недавно. Дров наколото вдоволь. Рябая девка с постоялого двора воспитана, припугнута и подкуплена: таскать воду и неизменно поутру проверять, все ли у старых ладно.
— Мы были там месяц назад, — возмутился вервр. — Я не люблю бродить возле города Тосэна, там пахнет дурными воспоминаниями.
— Ты бегать умеешь? Черепах хромой!
Вервр промолчал, хотя, если хромые черепахи так носятся, зачем людям кареты и кони?
Чутье подсказывало, что Ане по-настоящему дурно, её знобит, она крепко, до скрипа, сжимает зубы. Малость стёрла левую ногу, но замечать не желает. Летит — будто вздумала крылья отрастить. Вервр споткнулся и чуть не упал, зашипел от злости и наддал. Некстати вспомнился особенный, слишком хорошо знакомый по опыту общения с людьми, землистый запах. Именно такой витал в доме стариков с осени, и потому казалось важно увести Ану. Зря, похоже. Она не вервр, чуять так тонко никогда не сможет, но сердце оповещает о бедах надёжнее, чем звериный нюх.
— Он проживёт самое малое до середины лета, — нехотя выдохнул вервр. — Думал отвести тебя в Корф и вернуться… или хотя бы взять в спутники дурня Эмина, он любую тоску уболтает. Пока что всё в порядке. Наверняка.
Ана резко, как люди и не умеют, встала. Замерла, глядя вдаль и медленно расслабляя плечи, шею… Повернула голову и сморгнула слезинку.
— Ты…
— Люди рождаются, взрослеют, вступают в пору зрелости, дряхлеют и умирают. Не могу и примерно сказать, сколько раз я провожал их, — вервр сел и добыл из мешка сыр, разломил надвое. — Жуй, иногда помогает. Руки заняты, зубы заняты, брюхо не урчит. В моем бытии люди — вроде весенних цветов. Меняются всякий сезон… Лучше не привыкать и смотреть на них издали, с тёплых плоских скал.
— Ты… — Ана сжала вложенный в ладонь кусок сыра, не сознавая этого, и даже укусила, и даже начала жевать, глядя куда-то в пустоту и глотая слезы.
— Я бы сказал тебе позже. Дал выбор: идти или переждать в Корфе. Ты видела смерть людей, но то были чужие люди. И смотрела ты издали, — вервр поморщился. — Признаю, я не хотел, чтобы так рано и так близко. Ответно прошу тебя признать: ты учуяла что-то год назад, не зря взялась прясть и делать прочие бабские глупости, лишь бы отвлечься. Холодок повеял, а ты промолчала, не сказала мне. Я почти рассердился. Тайны развела, что за глупость. А теперь сердишься ты?
— Нет… почти нет, — прожевав сыр, Ана высморкалась и вытерла руки о подол рубахи, как обычно не позволяла себе. Прижалась к боку. — Но мне очень плохо, Ан. Совсем. Мы уже опоздали, вот точно!
— Если ты атл и опаздываешь совсем, не пытайся спешить, как обычные люди. Вервры добираются до места мигом, но они умеют спешить лишь в паре со своей второй стороной, то есть вот я — с Шэдом. Так что помочь не могу, но научить постараюсь. Мне однажды сказал о вашем способе спешить Тосэн, сказал и показал. Надо встать, заглянуть мысленно туда, куда стремишься. Ощутить себя скользящей сквозь ткань пространства, будто ты продираешься, будто складки мнутся, а ты — огибаешь, изгибаешься и преодолеваешь.
— Не понимаю!
— Кричать бесполезно. Клог лишил меня глаз, потому что смог протиснуться меж слоёв мира и ударил мгновенно. Чем он лучше тебя? Или его злодейство было важнее?
— Нет.
— Тогда шагни в их двор, там каждая жердина знакома тебе. Я постараюсь шипеть сосредоточенность высокого порядка.
— Я… попробую.
— Не пробуй. Делай. Пусть сердце остаётся сумасшедшим, а голова — холодной. Не отвечай. Не кусай губу! Не…
Ана прикусила губу до крови, зажмурилась — и качнулась вперёд. Вервр едва успел поймать ритм движения и влиться, касаясь плеч кончиками пальцев и становясь частью пути, точно как тогда, непомерно давно, с живым ещё другом Тосэном…
Мгновенная тошнота подкатилась к горлу и схлынула. Ветер косо мазнул по щеке. Рубаха хлопнула парусом, ноги спружинили, вдруг усомнившись в надёжности опоры.
— Пахнет рекой, — отметил вервр, убирая руки с плеч Аны и глубже втягивая воздух. Он зевнул, отсылая звук и собирая эхо. — Ты смогла. Теперь не спеши…
Ана ещё мгновение стояла, каменная — а затем крадучись заскользила по двору. Она дышала ровно, слишком ровно. И двигалась гибко, но как-то не по-живому. Вервр сокрушённо вздохнул и устремился следом, отставая на полшага. Хотелось выть, скалясь и отдавая со звуком нудную, тянущую боль. Потому что к людям вредно привыкать. Они сперва дают сердцу радость, а затем обязательно рвут его надвое, и шрам уже не пропадает. Никогда.
Старик лежал, вытянувшись и запрокинув шею неловко, неправильно. Он уже не дышал, и потому ему не было больно под грудой дров, накрывшей по самое горло. Слабо пахло кровью — две-три капли, не более, проступили возле виска. Туда пришёлся удар соскользнувшей с самого верха поленницы дубовой чурки… Вот только повинна в случившемся была не она, и, к сожалению, это знал не только вервр.
Ана скользила мимо развалившейся поленницы, впервые в жизни скалясь. Оказывается, она умела, она так часто видела это выражение у вервра и теперь вот — приладила на своё лицо, когда пригодилось.
За углом сарая икнули и зашуршали, отступая, толкаясь, постанывая. Когда лицо превращается в звериный оскал, оно пугает. Даже детское. Или особенно — детское?
Ана резко втянула воздух и прыгнула, рыча. В полете она вынесла плотно стиснутый клинок правой ладони снизу-сбоку, прямым ударом, прорубающим ребра. Вервр едва успел втиснуться между мгновениями и поставить блок — всего-то из раскрытой ладони. Мелкие кости хрустнули, связки оказались порваны начисто.
Брызнула и остро запахла собственная кровь, время сразу сделалось вязким. Такое оно заставляло вервра всё сознавать куда лучше, чем хотелось бы. И он в деталях проследил, как Ана кричит, изворачивается и ударяется плечом об угол сарая, чтобы остановить бросок и не изуродовать блокирующую руку окончательно. Ана сползает по брёвнам и рычит, и рвётся, себя не помня. Ей больно, и она все ещё желает вбить свою боль в тело убийцы старика, надвое разрывая его ничтожное, дрожащее сердце…
— Пусти, — скалясь, потребовала Ана, надёжно прижатая к траве.
Она дышала со всхлипами и смотрела на убегающего, визжащего поросёнком толстого недоросля, на стайку его прихвостней, мчащихся быстрее вожака и уже мнящих себя недосягаемыми. — Пусти-и…
— Злая шутка злых детей, — намеренно громко и спокойно сообщил вервр. Он удерживал руку Аны в захвате и для надёжности упирался коленом в ее поясницу. — Расшатали кол, опору поленницы. Затем сместили дубовую чурку, чтобы она упала при малейшем движении массы дров. Желали напугать старика. Им казалось забавным глядеть, как Яса причитает и немощными руками собирает дрова. Непосильная работа — это им смешно. Ты слышишь? Смерти ему не желали. Попадание в висок… несчастливое стечение случая и злой шутки.
— Пусти!
— Ана, разве людей можно казнить за всякую их глупость? Ты говорила мне много раз…
— Можно, — девочка кричала громче, злее, и продолжала скалиться. — Тебе можно! Кроликов, людей, без разницы! Обещал не воспитывать! Да? Да! Тебе же всё равно… тебе всё равно!
— Если ты выросла настолько, чтобы убивать кроликов и людей, — прежним ровным тоном сообщил вервр, морщась от боли там, под рёбрами, где, по его наблюдениям, неизменно скапливалась гниль отчаяния, — если и правда настолько… то наши пути расходятся здесь и сейчас. Я не бегаю в стае с себе подобным зверьём.
Вервр резко отстранился, отвернулся и зашагал к разрушенной поленнице, принюхиваясь и кривя губы. Ана некоторое время возилась, месила ладонями едва проросшую траву, а заодно и грязь, напитанную весенними водами. Наконец, принялась смотреть на свою ладонь, окровавленную даже теперь, когда грязи налипло очень много. Сжатая в кулак рука несколько раз впечаталась в бревна сарая, к запаху крови вервра добавился новый — из рваных ран на костяшках пальцев Аны обильно капало.
Вервр методично разбирал завал дров, освобождая тело старика.
Ана наконец перестала казнить свою же руку, сползла по стене и стала смотреть в никуда, часто смаргивая слезы.
— Знаешь, до чего я додумался, таская тебя год за годом, сперва обузой, а затем… родней? — Вервр сложил дрова и вернулся к телу старика. — Иллюзии — величайшая ценность, выдаваемая даже бессмертным только раз, при рождении. Иллюзии позволяют видеть мир простым, людей — добрыми, папу — всемогущим, друзей — не способными предать. Иллюзии смешны таким, как я. Слишком взрослым… За смехом мы прячем боль и зависть. Пока я не ослеп и не взглянул на мир твоими глазами, я был обречён видеть его выгребной ямой. Без иллюзий я прекрасно управляю и влияю. Но не могу верить и надеяться. Значит, не могу ставить интересные цели и идти к ним. Я знаю заранее, где невидимая пружинка чуда самого ловкого балаганного фокусника. А настоящих чудес не бывает, это я тоже знаю, и потому чудесам со мной не по пути.
Ана, наконец, смогла отдышаться и решительно стёрла слезы обеими ладонями, наверняка превратив лицо в сплошную маску грязи и крови. Вервр принюхался, пискнул, уточняя впечатления… так и есть. Зато теперь Ана смотрит — и видит, слушает — и слышит. Осторожно, бочком, подбирается ближе на шатких, дрожащих ногах. Тянет за рукав прорванную насквозь ладонь вервра, охает и в отчаянии садится — страшно ей.
— Пустяки, зарастёт прямо сейчас, — утешил вервр. — Не ищи повод оттянуть важное. Менее больно тебе станет очень, очень нескоро. Так что решай: ты моя дочь или зверье из моей стаи? Мне нужен ответ, ты или уходишь и сама занимаешься кроликами и людьми, или остаёшься и думаешь о том, что натворила. Да уж… я, оказывается, иногда склонен воспитывать детей.
— Пап, а крапивная Нома его бы могла…
— Нет. Очень слабое сердце. Я не вполне уверен, умер он после удара в висок или до того, от стресса. Я говорил, что такое стресс? — вервр дождался кивка, осторожно изъял свою ладонь, уже здоровую, из рук Аны и снова принялся перекладывать дрова. — Про аффект тоже помнишь? Люди могут позволить себе такую роскошь. Атлы — нет. Сильным нельзя распускаться и блажить. Так недолго создать новую… иерархию, и, само собой, в благих целях. Всякое великое зло вершится во имя добра и при очень личном понимании добра, само собой.
— Если бы я спешила как следует…
— Никогда не думай о том, как могли бы сложиться обстоятельства, но не сложились — это утомляет бессмертных до смерти. Так сказал Тосэн. Нам позволено думать лишь о том, как действовать в следующий раз.
— Я что, правда не человек?
— Ты особенный человек. — Вервр разгрёб остатки дров и бережно поднял тело старого Ясы. Осмотрелся, без слов ругая себя за привычку, бессмысленную для слепца, но заставляющую шею поворачивать безглазое лицо. Наконец, Ан развернулся к избе. — Что мы ей скажем… Знаешь, мне страшновато.
— Бабушке, — шёпотом ужаснулась Ана и прикусила язык. Тихонько пискнула, вдохнула… и всё же смогла удушить готовую начаться истерику.
Вервр двинулся к дому и вслушался, принюхался. Он споткнулся на втором шаге, кое-как добрел до дверей, опустил тело старика, перегораживая им порог. Сел на верхней ступеньке крыльца, подновлённого год назад, узорного. Помолчал, перемогая своё проклятущее умение ощущать много больше и точнее, чем доступно людям.
— Не ходи туда, — попросил он.
— Что…
— Они жили долго и счастливо, и… — вервр скривился. — Не верю я во всё это. Не верю, а оно так некстати бьёт под дых. Сядь. Знаешь, никто не жил со мной долго и счастливо. Обычно меня бросали, поняв, что я за хищник и перепугавшись до полусмерти. Ещё чаще я испытывал скуку и уходил. Но чтобы нечто имело силу стянуть две души на целую жизнь, пусть лишь человечью…
Ана медленно выпрямилась, запрокинула лицо, будто норовя окунуть его в небо — и оттуда послушно заплакал мелкий дождик, и первый с зимы гром вздрогнул… Ливень обрушился в сухие, лихорадочно блестящие глаза. Ана наощупь села и осталась неподвижной, пока не промокла до нитки, пока не пропиталась этим дождём и не смогла ощутить, что душа понемногу отмокает в нем, вроде чёрствого сухаря в супе… Так полагал вервр, слушая пульс Аны и принюхиваясь к её настроению. Более всего пугало отсутствие собственных слез у ребёнка, которому ещё следовало бы всё принимать проще… примитивнее, что ли. Но Ана сидела и молчала, и мысли её бродили дальними, кривыми тропами.
— Пап, ты говорил про восемнадцать лет, и что тогда я уйду. — Ана стёрла с лица дождь, ощупала мокрую рубаху и безразлично вытерла об неё грязные руки. — Я поняла. Прямо сейчас поняла. Кого в моей семье ты убил? — Ана испуганно прикусила язык, поперхнулась и до боли вжала ногти, царапая свою же ладонь. — Хотя бы не маму?
— Твоя мама умерла при родах, — губы не желали выговаривать ни звука, вервр их вовсе не ощущал, хотя… разве это отменяло обязанность дать ответ? — Твой старший брат жив. Скорее всего, он в столице княжества Мийро. Там я много раз чуял его запах. Твой отец мёртв, давно. К этому я не причастен.
— Тогда — кто? — было странно ощущать на губах Аны улыбку, которая делается всё шире, безумнее.
— Ты и твоя кормилица, — быстро выговорил вервр.
Тонкие пальцы Аны метнулись, нащупали свежий, еще заметный, шрам на ладони вервра, недавно проткнутой рубящим ударом. Ана изучила след своей злости, давясь неуместным смехом, как рвотой. Ей делалось всё хуже, её трясло, зубы клацали… Ана пробовала дышать ровно и медленно, но задыхалась и икала, вновь и вновь повторяя попытки успокоиться. Наконец, вервр обнял Ану за плечи и притиснул к боку крепко, плотно.
— Я тоже убила сегодня, я ведь не остановилась, — выговорила девочка сквозь сжатые зубы, снова щупая шрам на ладони вервра. — Сердце напополам. То ли у них, то ли у меня… Пап, если всё так, тебе нельзя уходить. Пусть я обуза и долг, но я вправе не отпускать. У меня точно есть такое право, да?
— У тебя — есть. В остальном я свободен.
— Повезло, — Ана судорожно рассмеялась, резко замерла и наконец, вроде бы немного успокоилась, медленно выдыхая. — Уф-ф… Никуда не денешься. Хорошо… а то я спать боюсь. На юге тебя сторожил для меня Бара, в Корфе — Нома, здесь вот… они двое. Я отсыпаюсь, только когда надёжные люди сторожат тебя. Я так устала! Ты сказал, что уйдёшь, и что ничего не должен, если я выросла. Ты соврал. Я помню, я тебя звала вруном давно… всегда.
— Клог вынудил оберегать тебя до совершеннолетия, — поморщился вервр, ощущая себя в ловушке.
— При чем тут Клог, — Ана кивнула своим мыслям, потёрлась щекой о рубаху вервра. — Не состаришься, не заболеешь. И полено тебя не пришибёт. Хорошо… если так, я могу быть спокойна, я даже сегодня справлюсь. Пообещай: точно не умрёшь? Никогда-никогда?
— Я постараюсь.
— Сам сказал: не старайся, а делай, — напомнила Ана.
Теперь она прижалась плотнее и, наконец, заплакала. Губы дрожали, слезы катились, а скоро и жалобы добавились, и сопли, и причитания… так нормально всё стало, по-детски. Если бы ещё порванная одним ударом ладонь вервра не ныла, пока под свежей кожей заново натягиваются жилы, изодранные в клочья. И еще с жутчайшей чесоткой восстанавливаются крупные и мелкие сосуды. Удар стального клинка причинил бы в разы меньше бед. С атлами спорить — всегда больно… очень больно.
Вервр усмехнулся, запрокинул голову и разрешил дождю плакать, заполнять пустые глазницы и стекать по щекам, по шее. За спиной была дверь дома, куда одиннадцать лет он мог входить, как к себе. Где его ждали… и где скоро поселятся чужие люди. Вервр ощущал себя язычком пламени, который колеблется под ветром, мечется из крайности в крайность.
Хотелось сжечь дом, чтобы никто не мог занять его, отданный памятью лишь двум людям из всех миров, сколько их ни есть…
Хотелось дождаться, пока заснёт Ана, ведь рано или поздно она выплачется, устанет и заснёт — и тогда сделается допустимо найти по запаху каждого из шутников и так надёжно выбить дурь, так… просто окончательно и бесповоротно. Люди быстро понимают то, что им объясняют с болью. Куда быстрее чем то, что им дают с добротой.
Еще хотелось спуститься к реке и выть. Просто выть, позволяя зверю погасить сознание человека.
Но следовало заниматься ужасающе пустыми делами. Тягостными, как вся жизнь людей и тем более их смерть.
Копать тяжёлую мокрую землю.
Улаживать с тяжёлыми и взмокшими от страха людишками — вот хоть с содержателем постоялого двора, чей сынишка и есть главный шутник — улаживать с ними имущественные вопросы и права наследования. Дочка у стариков такая тихая, что сама не справится. Яса ещё в зиму жаловался. Отвёл в сторонку, к тому самому дровнику, и, виновато вздыхая, потребовал обещания: что дом достанется дочери, какие бы хитрости ни удумали местные ловкачи, ведь земля близ дороги, поля толковые и даже есть заливной луг, тоже собственный.
Яса был человек и знал, что для него отмерен срок… и относился к предстоящему по-стариковски спокойно. Особенно с тех пор, как получил заветное обещание.
В бок уткнулся острый локоть, и вервр охнул от неожиданности.
— Пап, а хорошо, что у людей есть мы, — серьёзно сообщила Ана, вытирая слезы и щупая опухший нос. — Должен же кто-то приглядывать, даже если не успел… исправить. И помнить должен.
Вервр встряхнулся, разбрасывая брызги, встал. Он был благодарен дождю, который позволил и слепому — выплакаться. Хотя что за глупая мысль, он взрослый и не имеет иллюзий по поводу людей. К тому же высшие хищники не льют слез.
Путь Ула. Учить, так учить!
— Ты — бездарь… Таково удобное определение ситуации, — сообщил Мастер О.
Он только что возник, мельком взглянул на очередную картину… и отвернулся. В тот же миг полотно распалось, а предметы, расставленные для рисования, сникли горками песка.
Мастер указал на место у низкого стола. Ул опустил голову, принимая укор, и даже усердно постучал лбом о столешницу. Он был согласен с каждым словом! И не мог понять, отчего всё его усердие не приводит к результату. Он не бездарь! Он освоил основы начертания узоров в считанные дни, всего лишь наблюдая за работой Монза. Он сразу выучился писать! Его почерк через какую-то неделю полагали едва ли не лучшим в городе Тосэне… и тот почерк не был грубой, безразличной копией начертания букв Монзом! Он умел учиться, он желал и любил учиться…
— Твой учитель — бездарь. Тоже удобное определение ситуации. Простое, — в тоне Мастера О наметилась лукавость, и Ул весь обратился в слух. — Но жизнь куда сложнее. Ты — атл. Вот в чём корень наших неудач, и он… неискореним.
— Вы мудры, — похвалил Ул, надеясь на продолжение пояснений.
— Ты примитивно льстив, — вроде бы отругал Мастер.
Он повёл рукой, и из столешницы выросли чайник, две чашки… и следом, поднимая чайник, поднатужилась и разлаписто умостилась жаровня. Ул приметил появление пара из-под крышки и, подбирая рукав, как следует при чайной церемонии, накапал напиток на донышко чашки Мастера О. Дождался благосклонного кивка и капнул ещё меньше себе в чашку.
— Первое царство прирастает, созидая в молодых, горячих мирах. Второе — обогащая скудные наборы растений. Третье ищет себя в звере и укрощает зверя в себе. А вот вы, атлы, меняетесь, меняя людей. Здесь нет людей. Здесь и бесов негусто, — Мастер покосился на Леса, выглянувшего из-за дверного косяка: альв очередной раз учуял серьёзный разговор одному ему ведомым способом и явился молча сочувствовать. — Лес и я, мы лишь фигурки на игровой доске… Ты получил технику и практику, ученик. Пора… как я называл это прежде, выставляя за дверь? Пора придать ускорение. Именно. — Мастер величавым жестом указал в сторону Леса. — Вы оба, идите вон. Урок понятен?
— Как обычно, нет, — горестно вздохнул Ул, покосился на Мастера, — Куда уж мне до вашего опыта, до вашей мудрости, до… Понял, затихаю. Мастер, я благодарен и уже иду вон. Я буду думать и пойму, что вы хотели сказать.
— Когда ты ел прошлый раз?
— Ну-у…
— Спал? Брёл по дороге, не пользуясь быстрыми шагами из мира в мир? Потел, оказывался покусан, замерзал, нарывался на ссору, оставался без средств, терял друга… — перечислил Мастер О. Помолчал и не дождался ответа, который был теперь и не нужен. — Ты слишком отдалился от простой жизни людей. Это не омертвляет нас, горглов… так мы думаем. Но это безусловно портит вас, атлов. Уходи.
Ул встал, отступил на полшага и снова сел, кланяясь и касаясь пола лбом. И так — трижды. Не ради любви Мастера О к ученическому почтению. Вовсе нет! Ул испытывал искреннее преклонение перед тем, кто учил от души, самозабвенно. И хоть в поклоне, примитивно, Ул старался показать своё уважение.
— Мастер О, я обещаю замёрзнуть и всё прочее, и даже с лихвой… Кроме одного, про друзей. Я никого не хочу терять.
— Похвальная наивность.
Мастер рассыпался, сочтя разговор завершенным. Лес метнулся в комнату и навис над исчезающей кучкой песка.
— Моё болотце, — жалобно упрекнул он.
— Пригляжу, — прошелестело последнее напутствие, переданное ветром.
Ул встал, отряхнул коленки, приятельски стукнул Леса по плечу.
— Идём, — он потянул Леса за рукав. — Нет, не скажу, куда. Пусть высшие хоть лопнут, а не скажу. Вот уж потеют, играя в угадайку.
Вдох. Шаг… и продолжающее его падение!
Обожжённые лёгкие, разъеденные глаза, истрёпанная, вмиг состарившаяся ткань одежды. Есть миры, куда входить непросто всякий раз, а не только — первый.
— Шэд! — закричал Ул, не жалея горящие лёгкие.
Он падал и крутился в облачной буре без просветов. Три кувырка — и Ул потерял понимание того, где низ и верх. Он цеплялся за локоть Леса так отчаянно, что скорее выдрал бы этот локоть, чем упустил.
— Шэ-эд! Шэ-э-эд!
Змейка-браслет скользнула по запястью, сжала руку плотнее — отозвалась. Тучу будто рассекли, и далеко внизу открылось бурливое, тёмное море. Оно стремительно приближалось, но Лес, как и прежде, успел выбросить вперёд руку… Томительное мгновение — и из пучины вынырнул пружинистый ком растений. В его середину и рухнули оба гостя Шэда. От удара ком несколько раз перевернулся, окуная обоих с головой и растворяя ткань одежд до состояния дырявой сеточки.
— Прекрасный мир, — отплевавшись и встряхнувшись, сообщил Лес.
Альв сел, покопался в недрах зарослей и добыл очередную пару рубах, придирчиво осмотрел и сорвал с одной листочек. Бросил её Улу, вторую натянул сам. Кожа альва после купания выглядела гладкой и глянцевой, коричнево-золотой. Глаза взблёскивали то зеленью, то янтарём. Волосы удлинились и летели по ветру, рассеивая едва заметную пыльцу… Лес рассмеялся, указал вдаль размашистым жестом. Ул не спешил посмотреть, куда велено, он пока потрясённо наблюдал приятеля — такого живого… до сего дня широкую улыбку на лице альва приходилось домысливать, ни разу не увидя!
Из волн, точно там, куда показал Лес, вырвалась голова змея. Рядом выросла вторая, и ещё, и ещё. Последняя явилась, держа в зубах растение-остров, созданное Лесом прошлый раз. Голова Шэда с размаху подбросила шар, другая отбила, третья поймала и отправила четвертой, а пятая подсекла и отняла…
— Не скучно ему… или — им? — задумался Ул, путаясь в том, считать Шэда единым или разделить хотя бы в игре на подобия.
— Шэд уникальный, — Лес глубоко склонился, совсем как недавно Ул перед Мастером. — Единое сознание и цивилизация, то и другое разом. И это всё, что о нем известно в точности.
— Надо больше упругости, — рядом вынырнула одна из голов Шэда, относительно небольшая, даже меньше нового острова. — Бросать неудобно, растрёпывается.
— Я уплотню, — кивнул Лес. — А размер? Вкус? Скорость роста… Я всё настрою.
— Обсудим, — сощурился Шэд, придвигая голову ближе, почти толкая носом альва.
— Нас слышат там? — Ул ткнул пальцем в бушующее небо.
— Нет… — язык Шэда раздвоился, вытянулся и стал очень тонким, приклеился к голове Леса возле обоих висков. — Совершенно нет.
— Лес, — Ул втиснулся между краем морды Шэда и альвом, восторженно взирающим на змея, — Лес, ты готов стать одиночкой? Ничего не обещаю, но хочу попробовать. У тебя простая карта. Я давно думаю… наверное, потому у меня и не получается рисовать светотени. Я думаю о другом. О рамке, если честно. Ты готов? Будет больно. И после… ты был в отчаянии, когда согласился войти в зал выбора и взял карту.
— Если бы я не хотел перемен, высшие уж точно отследили бы шаг в этот мир, — мгновенно высыхая и растрескиваясь всей кожей, выдохнул Лес. — Я больше не могу так… не могу исполнять. Даже став рабом, я ответственен за то, что делаю. Так я чувствую, но я лишён возможности отказаться, исправить и даже… извиниться. Я готов сгнить одиночкой, если не приму себя. Что бы ты ни задумал, делай.
— Тогда, — Ул прокашлялся и стал серьёзен. — Доставай карту!
Лес не возразил, не удивился. Лишь вспыхнул лихорадочной улыбкой, стоившей ему двух кровоточащих трещин на губах. Дрожащей рукой альв развёл ворот рубахи, коснулся груди слева — и протянул Улу ладонь с медленно прорастающей на ней картой, трепетной, как свежий осиновый лист. Ул дождался, когда лист расправится, и сорвал его — прямоугольный, с тонкой рамкой-прожилкой по контуру, с суетливым муравьём, совсем настоящим, бегающим вдоль рамки и не способным её пересечь…
Карта, ничуть не похожая на все прежние, что доводилось увидеть, повисла в воздухе, прилепилась к невидимому основанию. Ул добыл грифель Мастера О, затаил дыхание, всматриваясь, пробуя понять суть того, что определённо было — картиной. Вернее, крохотной частью, грубо выхваченной из цельного полотна и заключённой в рамку.
Сейчас Ул ликовал: он не бездарь, он усвоил уроки Мастера, и потому видит рисунок иначе. Карта столь же неполноценна, как попытки ученика-Ула создать шедевр, а не набросок или копию работы Мастера О. Карта, пожалуй, ещё хуже: ведь её намеренно создали ущербной!
— Грубый одиночный крюк. Или ошейник, или что ещё, — шепнул Ул. — Вот он: Трудолюбие… упорство? Что-то похожее.
Перевёрнутый грифель царапнул край рамки, поддел её, потянул… и рамка стала отделяться от карты, всё более походя на жилку подорожника, тонкую и упругую. Жилка тянулась, сборя край листка. Альв сох и сползал на колени, царапал морду Шэда судорожно сведёнными пальцами. Наконец, Лес упал, дёрнулся, затих… И сразу жилка на грифеле с сухим хрустом лопнула!
Нарисованный, но выглядящий живым, муравей отчаянным рывком юркнул в разрыв рамки… и сгинул без следа! Карта сделалась окончательно пуста. Помертвела?
— Я не потеряю друга, — шепнул Ул, сжал в кулак свободную руку и стукнул себя по лбу. — Успокойся. Дыши! Надо понять. Надо найти…
Ул прикрыл глаза и постарался увидеть Леса — настоящего. Свободного. Какой он, к чему обращён его взор, о чем болит душа, под каким солнцем расцветёт его улыбка? Умеет ли он, как сам твердил, мстить? Велика ли ненависть, так много раз им упомянутая?.. Сколько надо задать вопросов и найти ответов, чтобы заполнить жизнью один сохнущий листок, который больше не карта из чужой колоды, а всего лишь набросок о жизни. Пожелание? Пусть крошечное, лишь бы без фальши! Вся разница древнего создателя карты и Ула в том, что один желал ограничить, а второй — отпускал на свободу.
Рука с грифелем не дрожала. Ул удивился мужеству одной своей руки при потной второй и отчаянно трепыхающемся сердце. Рука донесла грифель до листка и точным движением, и, без изъяна и остановки, вывела безумный, безмерно сложный узор… Чёрный, в один тон. Гибкий, с непрестанно меняющейся толщиной линии. Узор разросся, вышел за пределы листка, сразу сделался менее реальным, но более живым. Ул всё вёл грифель, поймав ритм и более не сомневаясь. Последним росчерком он обрисовал почку на окончании побега, даруя ей право расти без ограничений… Рука упала — бессильная, словно она опустела.
— Шар, — прошелестел Шэд, опознав один из смыслов узора. Он наблюдал рисование молча, аж тремя головами, под разным углом и с разной высоты, а теперь придвинулся и ощупал листок кончиком языка. — Подарок. Славная игруш-шка.
— Да, он умеет делать подарки, он щедрый, — Ул рухнул на колени.
Бывшая карта муравья, а теперь зелёный листок со слабо светящейся зримой частью узора взлетел и, кружась и танцуя, опустился на кожу Леса. Дрогнул, пристраиваясь… и впитался, побледнел… пропал вовсе.
Какое-то время ничего не происходило, и Ул не дышал. Не мог! Он так надеялся на лучшее, так боялся не уследить… Но вот сухая кожа альва потемнела, начала крошиться и отслаиваться. Под кожей обнажалось чёрное, как обгоревшая головня, тело.
— Мои корни сгнили, — то ли выговорил Лес, то ли его слова придумал сам Ул, всматриваясь в шевеление губ.
Тело альва скрутила судорога, сразу ободрав всю кору, без остатка. Чёрный, извивающийся и ничуть не похожий на человека Лес скатился в пенную волну и пропал… лишь несколько капель янтаря отметили его путь, и Ул собрал эти смолистые слезинки, с ужасом глядя в пучину и не понимая, насколько поправимо то, что он сотворил с другом.
— Слежу, — Шэд пощекотал плечо Ула кончиком языка. — Альвам дно не опасно. Он справится, пустит корни. Или не справится и сгниет. Таков будет его выбор, свободный и честный. Спи.
— Я с некоторых пор думаю, что знаком с твоим вервром. Если так, он мне как бы враг… ну, если он не передумал, — вздохнул Ул. — По крайней мере, он бы точно уснул глубоко и спокойно, сотворив подобное! Прежде я злился: он бездушней и ему всё равно. Но теперь я подрос… знаешь, он ответственный. Я тоже. Я отдохну, проснусь и приму правду.
— Можешь знать его, да. Запах не тот, но всё проходит, всё меняется, — Шэд убрал под воду почти все головы, утопил до клыков последнюю. — Спи. Он крепко спал, сотворив разное, он собирал силы. Он ответственный.
Ул свернулся в клубок и закрыл глаза, стараясь не жмуриться. Расслабил руки, пальцы… задышал медленно и ровно. Перед внутренним взором одна за другой рисовались головы Шэда, играющие с шаром. Ул принялся мысленно дорабатывать набросок. Так и заснул, не превратив его в картину, достойную внимания Мастера О…
— С-сюда! — зашипело и забурлило.
Вздрогнув, Ул очнулся, вскочил и встряхнулся, отмахиваясь от брызг. Его разбудили, окатив с головы до пят! И это ещё пустяки! Издали, от тучевого горизонта, пёрло такое… О трёх головах, громадное, пышет огнём, разбрасывает искры. Средней головой ревёт так, что сердце останавливается, а волны встают дыбом!
— Биться — ратиться! — выплюнув клуб дыма, громогласно взвыла средняя голова. Из дыма в воем и свистом вырвался огромный шар и почти попал в островок Ула. — Не трусь! Конь на обед, молодец на ужин.
— Тогда ты точно без обеда, — Ул увернулся от искр, потянулся. — Эй, я без коня и…
— Я за коня, — вынырнула рядом некрупная голова и ехидно прищурилась. — Из-за тебя я обречён на самоедство. Борись! Или нас съедят.
— Всерьёз? — свесившись с острова, быстро уточнил Ул.
— Всерьёз! Бейся! Атлы сами и есть оружие. В тебе сила, — пообещал «конь», подставляя спину. — Знай, я никогда не играю в поддавки. Я создал тебе врага и союзника из себя, задача трудна, но посильна. Не сладишь — не годен жить. Только смерти достоин трус или с-слабак.
Последнее слово «конь» просипел со свистящим презрением. Высунул из воды кончик хвоста и указал в сторону чудища.
— Биться-ратиться! — взревел трёхглавый, и новый шар огня помчался, целя в островок!
Ул скатился кубарем, нырнул и обнял шею «коня». Спина горела свежим ожогом. От рубахи остался жалкий клок… От сомнений в том, что Шэд — вторая половина багряного беса Рэкста, не осталось и пепла. Кто ещё мог так вот… учить, убивая? Это ж не Лоэн с его изощрённым враньём себе во благо. И не Осэа с её ядовитой и обворожительной игрой в тайны. И не Мастер О с дисциплиной и самоограничением, и не… да кто ещё мог быть столь бешеным? Пятки в кипятке, «конь» воет, поджимая хвост, вода вокруг испаряется с клокочущим сипом! Пахнет палёным, серой и ещё бес знает, чем, но исключительно жутко!
— Сила, выпусти, старайся, — вырвавшись на поверхность и дав вздохнуть, прошипел «конь», извернулся, уходя от прямого попадания шара огня. — С-скоро обед!
Ул поперхнулся пеной, задохнулся, отплевался… Расхохотался, и волосы полыхнули серебром чистого азарта. Сейчас Ул обожал Шэда! Да, тот швырнул «врага» в воду, как щенка. Но всё же на обед будет пущен, если что, «конь». Значит, затевая обучение всерьёз, Шэд оказался много честнее Лоэна. Даже дал право на ошибку!
— С-самоедство, — во всю работая хвостом, взвыл «конь» и резко ушёл на глубину.
На поверхности алым и золотым расцвело яростное пламя. По ушам ударило волной, «коня» несколько раз перевернуло и унесло глубже, он грёб, выпустив боковые плавники и растопырив веер хвоста. Цветок пламени будто сорвали: туша трехглавого чудища вспахала зарево огня, разметала без следа.
Ул обернулся и увидел, как огромная башка средней головы разевает пасть, уходит на глубину отвесно, скалится всё ближе к хвосту «коня». В пасти кипит жар, клыки горят алостью… Вот пасть начинает сходиться, клацает!
Рывок — веер хвоста, чуть пожёванный, надорванный, вне опасности. «Конь» жалобно воет, гирлянды пузырьков уносят жалобу вверх, оплетая и щекоча тело седока — Ула.
— Всерьёз, — Ул добавил свой выдох в рой пузырьков.
Он теперь, в единый миг, поверил в то, что слышал много раз в детстве от мамы. Он ведь знал эту присказку! Обычное дело для истории о змее и алом нобе: «Конь на обед, молодец на ужин!». Бой добра и зла, поединок чести, ничуть не шутка. В душе вскипело яркое, злое пламя. Отдавать чудищу «коня»? Да ни за что! Пальцы сжались, плотнее обнимая чешую. Как воевать? Как освободить силу?
На запястье шевельнулась змейка. Разрослась, оплела руку и подсказала движение: резкое, отсекающее среднюю голову чудища! Кончики волос Ула взблеснули, полукруг едва приметного серебристого света обозначился, почти дотянулся до чудища… и угас.
«Конь» извернулся, мгновенно сменил направление и помчался к поверхности. Он умудрился разминуться с зубастой пастью так плотно, что Улу обожгло болью плечо в соприкосновении с чешуёй на шее чудища! Гребнем едва не снесло голову!
— Еще! — вылетев высоко над морем, — заверещал «конь». — Слабо! Ещё! Тебе не идёт злость, ищи с-справедливость.
— С-справедливость, — сквозь зубы прошипел Ул.
Его змей извернулся, минуя высшую точку прыжка, начал падать, плотно складывая гребни и плавники, сводя в острую пику веер хвоста… Но внизу само море вскипело, проглоченное целиком огромной пастью! Падать сделалось некуда — разве прямо в желудок, нарушая порядок трапезы, совмещая обед с ужином…
Откуда пришёл покой, Ул даже не старался понять, сейчас это — не важно. По щеке пребольно хлопнул знакомый ветер-подсказчик: пощёчину дал! Сознание поостыло и смогло воспринимать падение в пасть чудища медленно, подробно. Вот блеснули в пене громадные клыки, вот вьюном взвился язык, норовя оплести и задушить… Повинуясь подсказке, Ул выпрямился, оттолкнулся от чешуи, освободил обе руки. Правая ладонь встала плоско, будто затыкая пасть чудищу, левая резким, рубящим жестом перечеркнула язык.
Две вспышки серебряного света, пар, свист, рев! И уже растет, всё поглощая, шар многоцветного огня… Жар опалил лицо, ударная волна сорвала Ула с «коня», смяла и поволокла прочь, невесть куда, крутя и раздирая в клочья…
— Уцелели, — «конь» поднырнул под Ула и сам движением тела забросил седока на спину. — Сила, ты услышал. Сила в тебе. Отпустил. Пришло время обеда. Мирного обеда.
Змей плавно завершил движение по дуге, и оно вернуло Ула и его «коня» к кипящему морю, к опадающим хлопьям пепла и гари… пахло горелым мясом, и это — самый знакомый и наименее отвратный из запахов.
— Как тебе дух победы? — ехидно просипел «конь».
— Ужасно, — честно посетовал Ул. — Аж тошнит.
— Ты похож на Тосэна. Он собирал для меня сказки о змеях. Мы играли в каждую, всерьёз, — трёхглавый показался из воды, стараясь не гнать большую волну. Средняя шея была порвана безнадёжно, голова волочилась на лоскуте шкуры, закатив потускневшие глаза. — Мы играли… Он был азартный, но не ценил победу. Его немножко тошнило.
Левая голова чудища примерилась и в один удар отсекла обречённую среднюю от своей же туши. Вода окрасилась темной кровью, вскипела, залила рану… и над водой показалась совершенно здоровая средняя голова. Новая.
— Молодец на ужин, — напомнил трехглавый и улыбнулся в три клыкастые пасти. — Ты стал сильнее. С-смотри.
Туша чудища разрослась… и из пены вынырнули две новые головы! Теперь их стало пять. Ул тихонько охнул.
— Дорасту до девяти, — пообещал враг, — сменю сказку. Тебя надо натаскивать на скорость, так.
— Благодарю, — почти от души поклонился Ул. Заодно зачерпнул из моря и умылся.
Он уже не знал, кожа горит от здешней водички — или от ожогов и порезов? Улыбка на лице — азарт или оскал? В игре Шэда не бывает окончательных побед… в игре Шэда только Шэд выбирает правила. Так почему его игра — хороша? Приятна душе, радостна. Она позволяет не думать о судьбе канувшего на дно Леса. Учит важному… И возвращает в детство, согревая и наполняя душу.
Ул ещё раз умылся, хлопнул коня по радужной, прочнейшей чешуе.
— Нарекаю тебя именем Бунга, богатырский конь, — сообщил он. — Поплыли биться-ратиться.
— Биться-ратиться, — подхватило пятиглавое чудище, развернулось, вздыбив огромный вал с пенным гребнем. — Сразу! Сразу!
Чудище помчалось прочь, к горизонту, откуда оно и намеревалось начать атаку по всем только что выбранным правилам…
Ул первое время считал закаты и рассветы. До явления могучего девятиглавого змея их отцвело двенадцать. После одоления его, отнявшего еще семь дней проб и шибок, начались бои с мелкими и невероятно вёрткими тварюшками. Затем была игра на уклонение от удара, и следом игра, похожая на детские ножички, а за ней — игра «отбери шар», и игра…
Ул давно перестал считать закаты и рассветы. Он не пытался приметить в диком и ярком узоре туч нечто осмысленное, занятное для рисунка. Он уставал так, что засыпал, кажется, не успев сомкнуть веки… Он осунулся, сделался скуп в движениях и в то же время способен изогнуться и, пожалуй, увидеть свою же спину. Он дважды был проглочен и дважды вырвался, изнутри вскрыв горло змея!
А Лес всё никак не мог отрастить корни. Ул не боялся попасть в желудок чудища, но панически, до дрожи, страшился спросить: жив ли друг? Как он там, на дне…
— Смотри, — велел однажды за закате «богатырский конь».
Ул лежал на радужной чешуе, глядел в небо и пальцем пририсовывал быстробегущим тучам хвосты, крылья, горбы, когти, улыбки, ресницы, цветы в волосах… облака все разные, пойди заранее пойми, какому что сгодится? Сегодня был редкий день, когда Шэд после полудня разрешил отдых. Может, тоже оценил красоту туч, цветных и метущихся широким вихрем, как ворох листы по осени…
Дорисовав очередному облаку чёлку, разбойный прищур, дюжину веснушек и щербину на месте правого переднего зуба, Ул потянулся, сел и проследил направление по кончику хвоста своего «коня».
Под небесным вихрем, повторяя его, крутился вихрь морской. Воронка вод затягивала в себя разноцветье предзакатной роскоши, и блики делались длинными кольцевыми линиями, они выкладывались виток к витку. Воронка ширилась, рокотала. Змей с седоком-Улом на спине грёб всеми плавниками, чтобы остаться на месте и не быть затянутым в опасный танец вод.
Вот в самой глубине воронки наметился тёмный штрих, вырос, возносясь все выше, совершая бег по кольцевым бликам — шире, шире… Всё дальше от середины воронки. Темный штрих взлетел над морем по косой, поднялся высоко-высоко, делаясь точкой. Из облачной выси точка стала падать — а навстречу ей воронка вод со свитом вышвыривала новые штрихи смазанного, стремительного движения… Только увидя их, Ул осознал: воронка куда хитрее, чем он представлял. Водоворот втягивает пену и саму воду с поверхности, но одновременно имеет и обратное течение, поднимающее шары из бездны. Вот ещё один взлетел… Ул охнул, дёрнулся вперёд! Под шаром, вцепившись в корневище, болтался игрушечный человечек…
Из недр водоворота явился, ничуть не опасаясь мощи течения, огромный Шэд, он поймал нужный шар и заскользил к Улу, придерживая ценность в бережно полусжатых зубах.
Фигурка человека казалась в вечернем свете чёрной, смазанной. Но даже когда змей приблизился, она не изменила цвета.
— Лес? — осторожно позвал Ул.
Тот, кто беззаботно сидел на одном из змеиных зубов, облокотясь на боковину соседнего клыка, кивнул… Дождался возможности, перепрыгнул на спину «коня» и улыбнулся Улу. Сел рядом.
Было странно до головокружения видеть друга таким. Что чёрный — пустяки. Что волосы серебристые и на траву похожи, даже слегка колосятся на кончиках — бывает, мелочь. А вот выражение лица и особенно глаза… Крупные, янтарно-зелёные, не особенно яркие, будто они в тени. И набраны из множества колечек цвета, нанизанных на сердцевину зрачка — совсем как годовые кольца на спиле древнего дерева. Глаза не могли принадлежать прежнему муравью! Глаза отражали большую и сложную душу, растворившую в себе простоватого друга Леса. Это были очень умные, безмерно грустные и взрослые глаза. Слишком умные и взрослые.
— Я потерял друга? — едва решился выговорить Ул. — Как же мне вас звать… на ты?
— Я тоже потерял друга, — улыбнулся альв. — Тот, кого я оставил, выглядел младше и не знал боя. Думаешь, после общения с Шэдом твои глаза изменились меньше, чем мои?
— Осэа показала мне твою память. Там был мир, его люди решили каким-то снегом убить древний лес. Чёрный росток порвал землю, и из рваных ран её встал огонь, — нехотя, как под пыткой, выговорил Ул. — После сама Осэа пришла и сказала, что остановит разломы…
— Так похоже на неё, — одними глазами улыбнулся Лес, и в его улыбке была боль без проблеска радости. — Рвать память на куски… Я помню целиком то время. Было… хуже. Никто не пришёл и не остановил разломы. И черный росток не порвал землю, хотя люди так это видели. Под моим лесом много веков мирно спал древний вулкан. Из-за людских глупостей в лесу стало мало воды, я построил сложнейшую дренажную систему. А еще эта химическая деструкция, я долго не мог установить состав яда… Возникли пустоты, всё стало рушиться! Надо было хоть как-то заделать лавовый канал. Вот для чего был черный росток. Но я не успел, я вычерпал себя, а люди… добили. Люди сделали то, что им было велено. Даже не знаю, что за награду им обещали.
— Вот как…
— Осэа не отдаёт воспоминаний без искажения. И не искажает их без смысла, ради прихоти. Что она желала сказать и кому из нас? — задумался Лес.
— Если не ответ на детский мой вопрос «зачем»… Тогда имя, — предположил Ул. — Люди упомянули твоё имя.
— Моё имя? Осэа дала тебе так много? — не поверил Лес.
— Имя тебя не сгноит? — насторожился Ул.
— Не важно, разве можно отказаться от памяти?
— Имя, — Ул еще раз попытался оттянуть миг, болезненный для друга, вздохнул и быстро закончил: — Лес… лес Алель.
— Лес Алель, — негромко и совсем спокойно повторил альв. Помолчал, глядя в темнеющее небо, где тучи закручивали в плотный кокон последние ворсинки закатного золота. — Осэа подозрительно щедра. Ул, ты пойдёшь со мной? Я должен увидеть мир, где не справился. Увидеть, принять и не сгнить. Как бы худо там ни было.
Ул кивнул и снова лёг, глядя в тёмные облака. Он улыбался. Почему-то Ул был уверен: едва покинув бешеное море Шэда, он впадёт в тоску, и тоска станет отныне неуемной, и обязательно вынудит однажды бегом бежать, кричать во все горящие легкие: «Шэд!». И ждать чешуйчатого коня, и нырять в кипящую пену неукрощённого моря…
— Биться-ратиться, — гладя слегка светящиеся чешуйки, пообещал Ул себе и Шэду.
Он сел, серьезно и без спешки кивнул Лесу, который ждал решения друга. Дав обещание, Ул широко, пьяно улыбнулся. Вдруг захотелось шагнуть в родной мир, найти кус бумаги и забраться за стеллажи библиотеки Монза… Пристроиться, отгородившись от всех. И нарисовать одну из змеиных сказок. Про девятиглавого, наверное. Хотя бы наброском. А если рисунок удастся — сжечь его и пепел растереть в пальцах! Отчего-то оставлять без присмотра толковые рисунки Ул полагал опасным. И об этом он тоже хотел подумать без спешки и суеты.
Столичные истории. Гостья
Небеса лучились весенней бирюзой. У горизонта цвет уплотнялся до талой льдистой зелени, хранил память о зиме. Но солнце припекало, ветерок мешал тёплые запахи цветов с лёгкой затхлостью затяжного паводка. По взбухшей реке сытым стадом кочевали топляки, то сцепляясь обломками ветвей и вроде бы здороваясь, то уходя в тёмную воду целиком под натиском себе подобных — проигрывая ритуальный поединок…
Горожане — еще одно сытое стадо — толклись и шумели на холме. Такое у них свойство — молоть языком по поводу и без. А тут, вот удачный день, образовалось аж два события. Одно — шкурное: топляки, того и гляди, осядут на заливных лугах сельского поля, подобравшегося под стены стольного града Эйнэ. Чьи тогда станут топляки? Дубовые, неохватные, бесценные!
Второе событие ещё ярче: вон безумец, и он готов сей же час расстаться с жизнью!
— Утопнет, — веско заявил пожилой страж при воротах, украдкой пряча мзду и не замечая зеваку, лезущего на городскую стену. Туда посторонним вход заказан, но вовсе не из-за тайн, а лишь во избежание замусоривания верхней площадки. — Ить утопнет…
— Шею свернёт, — громче молвил хозяин торгового обоза, только что расплатившийся за право въезда в столицу.
— Расшибётся, но всё ж не вусмерть, мальцы ужас как живучи, — сердобольно пожелала дородная торговка пирожками. — А кому с рыбой, с рыбой? А вот с творожком, с яйцом и луком… Эй, недорого, с пылу с жару… — Торговка тяжело вздохнула и пробормотала совсем тихо: — И что за напасть? Люду прорва, торга нет.
— Поднимаю! Семь к трём на утопление, — прошелестел щуплый мужичок, привалясь к стене в тёмном углу за воротиной.
— На утопление, — отозвался кто-то и сунул щуплому полновесный золотой.
Люд копился, жужжал и крутился, кто-то взлетал мухой на стену, кто-то спускался, пресытившись зрелищем. Топляки осели на мелком месте, окружили фундамент пожарной башни с часами и колоколом, вынесенной к реке, за кольцо городских стен.
По слухам, башню велел поставить бес Рэкст. Одни твердили, что бес истратил денежки, чтоб издали привечать своих злодеев и вести их мимо охраны тайным ходом. Другие, постарше и поумнее, молчали и знали, что именно с этой башни было обнаружено два пожара возле мостов. И только из-за расторопности в тушении огня удалось спасти сами мосты, ведь оба — деревянные! Огонь бушевал не по вине или умыслу сгинувшего беса, а из-за жадности людской. Дорогу-то камнем выстлали на деньги столицы, а мосты доверили строить пригороду, где торговцев да нобов — как грязи… В той грязи и утонули благие намерения. А пожарная башня вот она, высока и собою красива. Паводок, башня стоит в воде, как цапля. И нет ей вреда, ведь бес Рэкст не строил жалких времянок: под башней каменное основание, а ниже — скала, сам бес и указал место, единственное годное на топком заливном лугу.
На башне в сырые весенние дни, да тем более при новом бесе, никто не высматривает пожаров. Хорошо, если с утра поднимается хоть один дозорный и из-под руки рассматривает окрестности, и то не каждый день, и то пока не пронюхает, что торговка принесла пирожки.
Сейчас горе-дозорный столбом замер в лодке, привязанной под дорожной насыпью, у временного, намытого паводком, завала мусора. В одной руке дозорный держит пирожок, в другой — багор. Мужик иногда вздрагивает, словно оживает, смущенно щупает налобную пожарную повязку — и горестно выдыхает… Не иначе, прикидывает: деру дать из столицы или подождать, вдруг всё обойдётся? Дозорный косится на старшего в охране ворот, а тот прямо теперь шепчет на ухо любознательному зеваке: пацан на башню влез без спроса. И торговка на зорьке приметила, и еще двое рыбаков подтвердили: малец тайком увел лодку от деревенского причала и к дозорной башне подогнал тайком, в сумерках, прячась за топляками. Ничьей вины нет, шум уляжется… если пацан не сломает шею и не утонет.
— Шею сломает, вот моя ставка, — буркнул старший страж при воротах, получив монетку и поклонившись богато одетому человеку, который и оплатил пояснения. Страж позвенел тугим кошелем и изрек гордо, с вызовом: — Щуку медью ставлю.
Люди закивали, соглашаясь. И правда: теперь нет сомнений, что пацан не просто так копошится на крыше дозорной башни. Он нацепил на себя то ли плащ, то ли ворох тряпок — и свесился над пропастью. От крыши до воды пять ярусов, и это если сравнивать с нобскими столичными домами, где потолки высокие! Значит, вовсе не осталось ума в голове, опушенной белыми, еще до летнего солнца вылинявшими, волосами. Нет ума, и не появится уже…
— Утопление, — сообщил со смотровой площадки над воротами высокий худощавый ноб в дорогом плаще с синей лентой. — Пять монет серебром.
— Ставлю против всех, гаденыш выплывет без потерь, — прошелестел тихий голосок. — Сома золотом довольно в такой заклад?
Солидно прошуршали монеты в сетке. Народ дружно оглянулся, отмечая щедрую ставку и желая увидеть безумного богатея… Но тут со стены разнёсся первый протяжный стон, к нему добавился переливчатый женский визг, — и пошло шириться тревожное многоголосье, и загуляло эхо!
Толпа единым порывом качнулась к реке, во все глаза уставилась на крышу башни. Проследила падение худенького тела, всплеск воды… Когда белоголовый пацан с головой окунулся в ледяной, мутный паводок, зрители смолкли, тишина натянулась…
— Это что, он до того дурак, что думал — полетит? — громко спросил страж, расчесывая широкий свой загривок.
Люди взволновались и загомонили, вмиг все сообразили: не особо умный страж прав, мальчишка мечтал полететь! И не ворох тряпок он привязал, не плащ — а крылья. Только неудачно, да и затея сама по себе безнадежная.
— Да разве ж люди летают? — возмутился ноб с синей лентой на вороте плаща и стал степенно спускаться со стены. — Сколь я наблюдал трудов по птицам, а даже в самом толковом указано, вес любой меньше человечьего втрое. Утоп безграмотный дурак, и науке сие в пользу. Чья ставка против всех?
— Моя, — тихо, вроде даже робко, отозвался женский голосок.
Толпа отвернулась от реки, мысленно похоронив пацана, и напрягла зрение, разинула рты, чтобы увидеть наивную девицу, проигравшую денежки. Толпа дружно показала обычное для Эйне неплохое состояние зубов — в первой, общей усмешке. «А даже и выплывет пацан, — думал каждый, — кто отдаст слабой девице её выигрыш? Востребовать денежки надо суметь!»…
— Неплохая была ставка, пусть и нечестная. Мне ли не знать, как умеет плавать сын? — девушка шептала, потупясь и чуть розовея щеками, смаргивая длинными ресницами смущение.
Коротким движением головы тихоня сбросила шляпу за спину, и та повисла на серой ленте без вышивки и каменьев. Толпа дрогнула, заново всматриваясь в смутно памятные по каким-то разговорам черты… И каждый пробовал сообразить: кто и по какому именно поводу упоминал невысокую девицу с особенными, оленьими глазами, с узким лицом и странным взглядом — сразу и рассеянным, и опасно пристальным. Таким, что в ответ на милую улыбку хочется отвернуться и бежать без оглядки!
Девица изучила редеющую толпу, усмехнулась иначе — хищно и деловито. Поправила свой потрепанный плащ и подмигнула тощему собирателю ставок. Поманила его пальчиком, стащив с легкой руки шерстяную перчатку — сельскую, столичные-то нобы обычно выбирают кожу тонкой выделки или кружево.
— Так это вы, — мученически улыбнулся тот, кто не глядя принял сома золотом и еще держал его, еще гладил жирно блестящий монетами бок плетенки. — Прощения прошу… не признал. Значит… гм… богатой будете.
— Меня вроде никто и не обязан признавать, — девушка потупилась и порозовела еще гуще. — И отчего вы так уверены, что я буду богатой? Деньги мне без пользы, — взгляд сделался цепким. — Учтите до медяка мой выигрыш и проследите, чтобы башня была починена, дозор из двух человек оплачен на год вперед, — черные глаза на миг раскрылись полностью, полыхнули. Голос девушки сделался металлически звонким: — И чтобы ни одна мелкая пакость впредь не могла влезть на крышу дозорной башни, сбежав в ночь от своей встревоженной матушки!
Девушка метнулась к берегу. Сердито щелкнула пальцами левой руки, поднятой высоко над головой, в гибком танцевальном движении.
— Плыви к маме, утопленник! Я тебя чую, и, если мне придется нырнуть и ловить за шкирку, даже добрый батюшка тебе не поможет.
Рука опустилась, пальцы сложились в указующий жест и нацелились на кряжистый топляк у основания башни. И-за дубового корневища немедленно показалась чумазая пацанская рожица… По улыбке до ушей ясно: угрозы пропали впустую.
— Видела? Ты видела? Я летел! Как во сне. Ты теперь веришь? — заверещал «утопленник».
— Чьё поле? — негромко спросила девушка, оказавшаяся мамой возмутителя спокойствия.
— Наше, — торговка пирожками на всякий случай поклонилась. Подумала и добавила: — ваша милость… нобская ноба.
— Топляки тоже ваши, получается, — прикинула «нобская ноба». Она уже отвернулась от реки и, не повышая голоса, продолжила, — скажите сыну, куда их надлежит вытащить и сложить. Проследите, чтобы он довел дубины до состояния деловой древесины. Будьте с ним строги! Сделайте такое одолжение, ведь крайне важно занять его, пока бездельник не облюбовал для полетов башню повыше.
— Мама, — «бездельник» с плеском вырвался из воды и затанцевал на топляке, непрестанно ныряющем и крутящемся… — Мама, за что? То есть… Мам, ну мы же в гости! Ну мы же… Я дяде Сэну пожалуюсь на тебя! И матушке Уле! И даже Лофру! И…
От перечисления имен остатки толпы стремительно таяли. Торговка подхватила в охапку короб с пирожками и глядела на тоненькую нобу круглыми от ужаса глазами, и никак не могла угадать её имя, но понимала: оно уж точно самое-самое страшное на всю столицу!
Соломенная шляпа тем временем оказалась снова надвинута низко на лоб, темный запылённый плащ поправлен. Ноба подмигнула неприметному человеку, что собирал ставки — и он, как подкошенный, сел у стены, сгорбился.
— Дикая с городе, — едва слышно шептал мошенник, обыкновенно такой ловкий в облапошивании простаков. — Пропал я… да кто же знал? Да вроде и слуха не было, и время не её… Придется башню чинить.
— Придется, — согласилась «дикая», и крикнула, уже отворачиваясь и направляясь к воротам. — Ты слышал? Пока топляки не приведешь в годный вот для этой милой женщины вид, в город ни ногой! Ты знаешь меня, проверю.
Пацан взвыл от возмущения, ещё немного попрыгал на топляке, теряя интерес к игре — он уже наловчился предсказывать всякий поворот скользкой разлапистой древесной туши. Поэтому непотопляемый ребенок додумался усложнить задачу и запрыгал с топляка на топляк, выбирая для опоры самые тонкие ветки.
Торговка глядела вслед нобе, пока та не пропала за воротами. Между тем, пацан выбрался на берег и встряхнулся по-собачьи, разбрызгивая со светлеющих волос сырость…
— Уф, повезло, даже не сказала, что я хуже папы, — пацан умильно улыбнулся торговке и потянул пирожок из её короба. — Можно? Ум-м, с яйцом и зеленью, мои любимые. Куда топляки перегнать? Топор дадите или в воровской слободе умыкнуть на время? И… вы ведь кормите работников?
Пацан заглотил прыжок в два укуса и добыл новый, хотя торговка вроде бы плотно захлопнула крышку короба.
— С мясом, мои любимые! А можно у вас ткани добыть, и покрепче? Я заплачу. Мне на новые крылья.
— Матушка ваша осерчает, — укорила торговка и заулыбалась, когда пацан ссыпал ей в ладонь горсть серебрушек — за пирожки.
— Дурак я что ли, с городской часовой башни сигать на мостовую, не опробовав крылья над рекой? Вы же видели, мама не рассердилась… почти, — парнишка поёжился и опасливо глянул на ворота города. — А давайте я понесу короб? Тяжелый, небось.
— С таким-то носильщиком он вмиг облегчится, — наблюдая за уничтожением пятого пирожка (с сыром, мой любимый!), торговка отпустила лямки. — А, неси. И чего я сюда с пирожками-то сунулась? Говорила старая Огва, великого ума женщина, всему селу опора: не ходи, там сперва за место мзду стребуют, а после обманут. Так и вышло… Только от твоей матушки и получилась польза селу. Великая польза. Топляки! Уж мы и не знали, как к ним подступиться. Неужто вытащишь? Ты что, алой крови? Прямо истинный ноб, хоть и мелкой покуда?
— Вроде того, — шаря по дну короба, облизнулся пацан. — Я прожорливый работник по имени Дар, тетушка. Я не исчезну, покуда не сложу топляки, куда велите.
— Хэш Дар, мой поденный работник, и даже без оплаты? Вот потеха-то! — торговка свойски толкнула работника локтем.
— Наоборот, я сначала Дар, а после хэш… если, конечно, при моем поведении мне полагается наследство, — подражая маминому смущению и моргая линялыми ресницами, пацан растер щеки, не желающие краснеть в ложном смущении. — Дар хэш Боув. Я должен быстро сложить топляки, тетушка, иначе опоздаю на именины своего названого брата Ульо. Он мелкий, вот такой. Но драчливый, и про мои сны о полетах охотно слушает… хотя и засыпает на середине рассказа. А я ночами летаю, всегда!
Дар вспрыгнул на перила моста. Внизу бурлило главное течение реки, но это не беспокоило юного ноба. Зато сердобольная торговка побледнела, глядя, как Дар танцующей походкой, подпрыгивая и подбрасывая короб над головой, прошелся туда-сюда по перилам. Спрыгнул, вскочил обратно и зашагал рядом со спутницей, заинтересованно поглядывая вниз, на пенные водовороты. При этом Дар вещал во весь голос о своих снах. Мол, ночами у него дух захватывает от полета, и крылья настоящие, с кровавой оторочкой и ядовитыми шипами. Посему наяву он просто обязан выкроить похожие и прыгнуть с башни в реку…
— Дар хэш Боув, это что получается? Это же сын ночного канцлера и… той, из леса, — белыми губами шепнула торговка, не смея поверить в то, что имя настолько страшное. Женщина прикрыла глаза, помолчала… и вдруг улыбнулась. — Тогда все топляки тащи на пригорок! И клади ровнехонько, на настил, значит… Да, обязательно сучья обруби. А правда ли, что батюшка твой невесть куда на юг отбыл и саблю не взял в дорогу? Говорят, умом тронулся и лекарем себя возомнил, хотя покуда лишь от головной боли лечил… раз и навсегда.
— Правда, он опять ушел. На юг, в Корф, — пацан высоко подпрыгнул и скатился с перил, ведь мост кончился… — Он лекарь! Он мне и переломы составлял, и кожу шил — раз сто. Хороший лекарь. А что, в селе надо кому-то вправить боль в голову? Я тоже лекарь.
Торговка сокрушенно вздохнула, обернулась к городским воротам и посмотрела на них из-под руки, запоздало сочувствуя «нобской нобе».
Глава 8
В которой рассказывается о событиях лета 3222 года
Путь беса. Никакой приязни
Весна вроде игристого вина. Бокал ещё пуст, и одного глотка опьянения в нем нет, а выстроенная из радужных пузырьков шипящая суета уже перелилась через край и бурлит, наполняя мир пряным ароматом… затем мгновенно пропадает, и по стенкам бокала бегут лишь одинокие слезинки несбывшегося похмелья. Весна у моря буйствует особенно яростно. Вскипает штормовым валом садов, гуляет и вьется смерчами перелётных лепестков. Над варевом праздника смеющийся гром выдаивает насухо тучи. И всё равно дождь не создаёт сырости, он лишь осаждает пыльцу и мгновенно высыхает на мостовой прихотливыми узорами — следами юной весны, перепрыгнувшей море и спешащей на север…
Вервр тоскливо думал о цветении, трогал сухой узор пыльцы пальцами — и не мог наверняка угадать цвет: весь, в полноте и многослойности. Камни под подушечками пальцев скользили легко, на них уже чувствовалась пыль большого южного лета. Ночи теперь коротки, свежесть увядает, запахи порта приобретают неповторимую смесь очарования, волнуют душу… Рвут на части: тянут покинуть Корф немедленно и так же остро понуждают остаться, прожариться и иссохнуть в неподвижности прямо здесь, опираясь спиной о белокаменную ограду и никуда, совершенно никуда не стремясь.
— Учитель, — обозначил своё присутствие Эмин и, дождавшись кивка, сел рядом. — Боль гложет мою душу. Вы снова не вступили в сад. Неужели каскад фонтанов мне не удался? И поющие… осмелюсь спросить: они фальшивят?
— Нет. Дважды.
— Но вы могли бы…
— Сдаётся мне, тебя прислала хозяйка особняка, о усерднейший из услужливых управляющих? — вервр передразнил Эмина, выражая мысли на южный манер, витиевато и чуть нараспев. — Но напрасны сии сладкие песни, не ступлю я в сад и не отведаю дивный крапивный суп нобы Номару. Эй, как тебе самозваный ученик Номы, этот Дорн с севера? Бестолочь или совсем бестолочь?
— Он будет лекарем, так сказала Нома, а своё скромное мнение я оставлю при себе. Мы едва смогли избавиться от рьяного усердия сего ноба, покуда князь не пошел на него войной или не сбежал, уж и не ведаю, что случилось бы скорее, учитель… Ному печалит ваше упрямство, хотя я прилагаю усилия, чтобы отвлечь её, — Эмин зашептал, склоняясь к подвижному уху вервра и щекоча его дыханием. — Нома убивается и думает, что вы таите обиду. Что вы не можете простить ей…
— Не так. В мире ничтожно мало людей, перед кем я полагаю себя действительно виноватым. Но даже у них я не готов просить прощения! Это бессмысленное действие, нацеленное на самоуспокоение. Духовная анестезия.
— Простите? Ан-атэ…
— Не усердствуй. Мы, бесы, разносчики звукового мусора: ругательств, идиом, восклицаний, терминов… В вашем мире не прижилась вера в обычном её фанатичном варианте. Но кто-то из бесов затащил и сюда слово «спасибо», то есть пожелание лентяям быть спасёнными богом без личных к тому усилий. Хотя здесь словом пользуются реже, чем понятным и логичным «благодарю». Нерв, стресс, реакция, азарт… ты ведь слышал нечто похожее? — вервр перебрал искажения, обычные для основных диалектов. Усмехнулся и добавил: — Я обычно знаю исходник звучания и смысла, поскольку помню, откуда приплыл мусор. Но вот риск и тест… даже я начисто забыл, где их родина. Мы таскаем в зубах привычные слова, как собаки таскают кости. И бросаем, обглодав. А люди подбирают.
Надолго установилось молчание. Заря сохла и спекалась коркой на тёмном небе. Слабый восточный ветерок был ровным, как ленивый прибой, он усердно наносил пыль звёзд на небосвод — выше, гуще… Всё это видел Эмин, и за его молчаливое созерцание слепому вервру хотелось свернуть южанину шею. Но вервр лишь глубоко вздохнул… Розы двадцати ранних сортов отчаянно благоухали близ каскадных фонтанов, купались в тумане брызг.
— А что тот Дорн говорил о семье, о жене? Они ладят?
— Учитель, вам должно быть совестно так упорно менять тему и так беспричинно уклоняться от ответа, — вздохнул Эмин. — Нома опять плакала. Она хочет верить, что вы её дому — друг. Но вы бываете в Корфе каждый год и неизменно ночуете тут, под стеной. Она даже это приняла и просила меня построить вне сада беседку… которую вы не пожелали заметить и посетить. Это жестоко. Нома просила передать: кролики усадьбы в вашем распоряжении. Если дело в них, кушайте хоть сырыми, хоть…
— А пошёл-ка ты вон, — обозлился вервр. — Ох и распустил я вас! Всех вас. Где Ана? Шляется по вечернему порту. Где Бара? Таскается следом, оберегая. Где его старый учитель? Хвастается Барой в самом шумном кабаке. Где Нома? Рыдает по неубитым кроликам и их неубийце… Я устал от предсказуемости людской. Убирайся, я сейчас опасен.
— У вас кончики волос отливают багрянцем, — сообщил Эмин восторженным тоном безнадёжного во всех отношениях синего ноба, наблюдающего редчайший феномен. — Впервые созерцаю гнев беса! О, волна цвета разрослась до ширины в полпальца… исходит свечение. Пожалуй, волосы Бары, когда он достигает боевого вдохновения, и вполовину не так ярки. И оттенок иной. Там вспыхивает мгновенная белизна, и алость — лишь ее след на дне глаза взирающего. А вот ноб Донго имеет гнев схожего тона, как я заметил.
— Убирайся, — прорычал вервр.
— Однако же мы не наблюдаем ни упомянутого в летописях удлинения клыков беса, ни заострения ушей, — тем же тоном вещал Эмин, почти кусая ухо и сопя совсем рядом. — Поразительно… ваш голос создаёт волну страха. Так, изменения формы ногтей в сторону когтей я не отмечаю. Но цвет кожи и подвижность ушей…
Вервр взрыкнул ниже, злее. Сгрёб в охапку неуёмного ученика, в несколько прыжков переместил его к калитке и пинком отправил в сад. Только так удалось прекратить поток слов.
— Нашёл подопытного беса, вот же… синюшный заморыш, — ещё хотелось шипеть от злости, но в носу уже нестерпимо щекотало от смеха.
Вервр отвернулся и стремительно отбежал к прежнему своему месту. Если Эмин поймёт, что на него не могут злиться — всё, и остатков уединения не сохранить. Вервр глубоко вздохнул и успокоился. Вслушался в город. Где-то очень далеко шалит и веселится Ана. Пусть… она впервые за долгое время так беззаботна. Она рассказала Баре, как ужасно потерять стариков и не отомстить. И выслушала, что ещё страшнее заживо похоронить близких: люди вот они, ходят и говорят, но только ты в них больше не узнаешь отца и мать. И остается бежать без оглядки, чтобы не свихнуться от отчаяния и боли. Ведь предали себя, память славного деда, честь рода… и всего-то за ничтожное золото! Холодное, не дающее радости — оно ведь только и умеет разжигать жажду. Неутолимую…
Обменявшись историями, Ана и Бара помчались в город. Им на плечи не давит то, что не сбросить, изложив в словах — собственные деяния, вписанные в историю мира. Решения, которые приняты и исполнены… и даже сейчас ты не знаешь, как бы поступил, поверни время вспять.
Белокаменная стена жжёт затылок. Больно… помнить больно. И от памяти нет лекарства. Забвение — не лечит, вервр испробовал и знает: отказ от прошлого был худшей из ошибок. Отказ породил Рэкста… А Рэкст принимал решения быстро и исходил из логики. Иногда он делал то, что несло пользу людям и миру. Абстрактную пользу — и конкретные смерти. Вот хоть история гордого князя, чей бронзовый памятник украшает площадь не так далеко отсюда. Великий человек, — таким его изображают даже лучшие летописцы, синие нобы вроде Эмина, способные думать своим умом, прозорливые и любознательные. А что помнит Рэкст, убийца князя? Властолюбивого, азартного и жестокого правителя, жаждущего разжечь величайшую из войн в истории этого мира и уничтожить всех носителей золотого дара вне своего рода — чтобы стать единственным и укрепить закон кровного наследования. Чтобы история пошла по пути, который полагают самым общим, торным. Чтобы наука стала погонщиком разума, а душа увяла и оторвалась от корней, которые и у человека, и у природы — в земле. В земле, а не в каменных городах. Последнюю фразу вервр помнил точно, ведь так сказал друг Тосэн. Атл-воин, который бы тоже не позволил азартному князю идти, прорубаясь сквозь жизни людские — как сквозь неуместный на тропе кустарник…
Благом или злом было убийство князя? Этот мир не так богато дарит семьям детей, чтобы их — в бой, год за годом, до полного вымирания сел и целых долин.
— Не помогает, — поморщился вервр и отодвинулся от ограды. Лёг на спину, в чахлую траву дорожной обочины. — Логика бесов. Логика людей… логика вообще — не помогает!
— Вам так плохо, чтимый Ан?
Вервр вздрогнул и резко сел. Вредно копаться в себе! Мысли — они иной раз настоящее калёное железо. Яростно жгут… И не замечаешь ничего, кроме боли. Оказывается, хозяйка особняка сидит рядом. Пахнет недавними слезами, успокоительными каплями и креплёным вином, выпитым для храбрости после капель… И ещё вервра беспокоит запах молодости. Даже розы не гасили, не ослабили этот особенный аромат.
Руки Номы дрожат, и ей почти так же худо, как самому вервру. Или ещё больнее? Некоторые люди умудряются казнить себя без всякой к тому причины!
— Меня не оставляют в покое, — проворчал вервр. — Отвратительно.
— Простите… я так долго собиралась с силами, чтобы прийти. Я скажу. Ладно? Даже если неладно… — Нома судорожно вздохнула. Сжала кулаки, впиваясь ногтями в кожу ладоней. — Я заподозрила, кто вы, с первого взгляда. Я лечу людей и разбираю, кто человек, а кто… нет. Но я пригласила вас в дом. Хотя вы тот самый Рэкст, или были им… И, когда были, разрешили чёрному отравителю проклясть две семьи в Корфе. Я принадлежу к обеим. Вот так… и я налила вам суп. И вы ели! А теперь что, теперь-то что? Вот что могло перемениться с тех пор?
Нома согнулась и задышала часто, лихорадочно. Говорить не получалось, а плакать она не желала. Она ведь ноба чести, так это называется. Настоящая голубая кровь, — горько усмехнулся вервр и промолчал. Дотянулся до лежащей под стеной куртки. Почти силой подвинул Ному, укутал и резко, метко оттолкнул, чтобы она лопатками — да об белокаменную ограду. Чтобы выбила дыхание и отрезвела от боли. Ведь ещё не всё сказано.
— Я тогда была глупая. Думала… много разного. Хотела спасти Ану от вас и вас… обезвредить. Уже и не помню всего, что думала, — кричала Нома, раскачиваясь и пряча лицо в ладонях. — А потом вы стали стрелять из лука. Вы издевались. И… хуже, я оказалась должна вам! Много. Жизнь, даже честь. И особняк. И так — не раз. Слишком много долгов. А после ещё больше, и еще. Я никого в жизни не ненавидела, как вас.
— Сперва научись ненавидеть, — усмехнулся вервр. — Хотя бы меня. Вот дуреха. Эмин! Где тебя носит… должен подслушивать поблизости, а? Тащи чай и тёплое одеяло.
— Да, учитель! — издали отозвался Эмин. Если бы не слух вервра, и не разобрать бы ответа… — Я не подслушиваю. Но, увы мне, теперь никак нельзя уклониться от оправданного вмешательства. — Было слышно, как Эмин иным, непререкаемым тоном раздаёт указания: — Несите, пора. И подушки. И вот эти пиалы. Смотреть только под ноги! Да, заткнув уши. Да, приказ нобы, и не обсуждается.
Очень скоро Нома дрожала под одеялом и стучала зубами по краю пиалы — конечно же, для столь важного разговора Эмин подобрал посуду в традиции своей родины и, можно не сомневаться, узор нанесён его рукой. Наверняка знаки древнейшего священного текста, чтимого народами пустыни, — усмехнулся вервр, прощупывая стенку своей пиалы.
Вызванные Эмином люди ушли, следом удалился и сам он, усердно шаркая, чтобы Нома знала: можно говорить совершенно спокойно.
— Никак не получится наказать меня раньше, чем Ане исполнится восемнадцать, — предупредил вервр.
— Я так ненавидела, что заболела. И стала думать… много думать! Из всех проклятых потомков крови Дейн и Токт выжили только я и бабушка. Она сказала, когда хоронили моего брата: значит, не осталось в нём и на ноготь белизны. И не плакала… Я не могла простить ей. Пока она жила, не могла. Теперь могу, но — поздно. Бабушка умерла от старости. Она лечила до последнего дня. А брат не лечил никогда, и прочие Дэйны и Токты или не лечили, или лечили за золото. — Нома выпрямилась и очень тихо выговорила: — Если бы наша семья не утратила себя, погиб бы отравитель. Надорвался. Алые вроде Бары учатся с боевым оружием. А нас всего-то раз проверили, и мы сплоховали. Дар — не навык, а душа. Душа неуязвима. Пять человек не пожелали нести бремя дара и долга. Они лгали, им было важно всё то, что даёт нобство. Они поплатились. Это больно и стыдно. Но я не имею права ненавидеть вас.
Вервр залпом выпил остывший чай, не ощутив вкуса. Кажется, только что он сетовал: мол, люди предсказуемы. Хотя вся прелесть человеческого общества — твердил снова и снова Тосэн — именно в непредсказуемости. Если бы загубленный людским коварством друг воскрес, он бы сказал о своих убийцах ровно такие слова, как Нома: я сплоховал и поплатился, нет смысла винить исполнителей.
От своих мыслей вервр расстроился. Он — высший хищник, а не размазня вроде лекарки. Он умеет ненавидеть, выслеживать и мстить. Хотя бы исполнителям. А лучше…
— Все это я надумала, а после вы не позволили продать меня в законные подательницы герба и наследника голубой крови, — Нома закашлялась судорожным смехом. — Я такая глупая! Вы предупреждали, а я не поверила и не сбежала. Я бы умерла… это хуже проклятия. И так со мной обошлись не вы, а люди. Я лечила их. Их и их детей… А вы привезли Эмина и Бару, и в доме стало уютно и спокойно, и каждый день они говорят о вас, и никто не смеет даже намекать, что я что-то должна и кому-то предназначаюсь. Я наконец… свободна.
Нома резко вытянула руку с пустой пиалой. Было уже темно, и она наверняка ничего толком не видела, — сообразил вервр. Нащупал чайник и бережно наполнил обе пиалы. Не по обычаю юга, на один глоток, а по северной традиции — до краёв.
Нома расплескала чай, пока несла пиалу ко рту. Но остатки упрямо выхлебала, шипя и смаргивая слезинки. Чайник, как и положено, стоял на маленькой жаровне. Кипяток обварил кожу руки Номы, ошпарил ей нёбо, губы… Вервр поморщился: он почти ощущал, как больно лекарке. Язык у неё стал шершавый, вроде тёрки. Дышит ртом: пробует хоть так остудить впечатления.
— И все же я виновен, — вервр признал вслух своё понимание истории с проклятием. — Рэкст был исполнителем чужой воли. Он мог противиться иногда, в какой-то мере. Он оттягивал одни решения и искажал иные. Он в тот раз исказил приказ об уничтожении рода. Выбрал свой способ, поставил чёрное против белого, яд против исцеления… Я несу ответственность за решения Рэкста.
Нома опустила пиалу, оттолкнула. Попробовала помахать ладонью, остужая кожу и гоня ветерок перед лицом.
— Никто, кроме вас, не заботился обо мне после смерти бабушки. Вы обязаны гостить в моем доме. Если вы сочтёте это наказанием, пусть так… ну, хотя бы так.
— Не буду спорить. Пусть так.
Вервр повернул к себе лицо Номы, слепое в ночной темноте, и бережно подул на кожу. Боль ожога улетела прочь, как невесомый пух. Правда, она поселилась в уголке сознания самого вервра — но разве это важно? Плотнее укутав дрожащую нобу в одеяло, вервр поднял ее и понёс вдоль ограды до калитки, через сад, мимо поющих фонтанов, — к особняку, восстановленному трудами Эмина.
Боль чужого ожога зудела и тревожила. Поселив в этом особняке Эмина, вервр отчего-то полагал, что управляющий скоро станет в этом доме хозяином. Казалось со стороны: он годен Номе по характеру, сможет оберегать её по-своему, а ещё рядом алый — Бара, он тоже молод… Так почему умные мысли, как и много раз прежде в попытках заботы о людях, пошли прахом? И кто в этим мире слепой, вервр или люди, которые не умеют следовать ни порыву, ни здравому смыслу? Совмещать, иногда подправлять… Жизнь смертных коротка, важно понять это и не витать в облаках. Ведь у людей нет крыльев, совсем как у Шэда и его второй половины — вервра, до сих пор не вспомнившего своё подлинное имя.
Особняк обладал шлейфом ароматов сознаний, как все фамильные усадьбы — здесь прятались в тенях отголоски бытия предков Номы. Особняк норовил рассказать вервру слишком много, ведь он помнил все поколения семьи от своей постройки. Он слышал голоса и мысли лекарей, отравителей, бездарей, шарлатанов… Но вервр не желал внимать прошлому, он крался, избегая будить разговорчивое эхо. В коридорах не лежали ковры, приходилось прилагать немало усилий, беззвучно скользя по старому мрамору.
В особняке ощущалось много посторонних: Нома понатащила сюда больных и без боя сдала дом всевозможным нищим и проходимцам… Вервр по запаху выбрал нужную комнату, оставил Ному сидеть на краю кровати и так же тихо — а зачем создавать кривотолки о юной нобе? — скользнул назад к двери, прикрыл ее за спиной. Постоял, улыбаясь ночи.
Камень с души! Оказывается, быть прощённым — это почти что взлететь. Даже голова кружится. Надо ещё постоять, а затем уж найти Эмина. Ведь упрямец не просто так приходил. У него была цель, в голосе звучало… напряжение? Определённо так!
— Было удобно ненавидеть вас, — беззвучно выдохнула Нома в своей спальне. Зашуршала одеялом, легла. Обхватила подушку, прижалась к ней горящим лицом и прошептала в пуховый бок: — Чем ещё мне защищаться от того, что я люблю вас? Ведь я человек, а вы… а вы меня даже не дослушали.
Вервр тупо пронаблюдал, как струйками озноба убегают из сознания мысли… Он будто повис в пустоте, и долго не был способен двинуться: не ощущал себя, словно рассыпался в пыль… Наконец, усилием воли Ан заставил себя шевельнуться. Сделал первый шаг. Побрёл, мотая головой и не решаясь дышать. В затылке болью чужого ожога билась мысль: для вервра, если не лгать себе, имеется две причины игнорировать чью-то территорию. Определённо — две. Он сразу назначил удобную: чувство вины! Хотя сам же велел Эмину сажать как можно больше роз. Зачем? Полезно для выздоравливающих, — так он сказал. Но саженцы подбирал — сам… Чуть позже велел выращивать перец, после добавил тимьян, душицу, тмин… Назвал затею аптекарским садом, и потому для каждого нового растения с сильным запахом легко находилась веская причина появления в саду. Сажать же вервр велел у ограды…
Выйдя в парк, вервр сгрёб в охапку полклумбы роз и втянул всей грудью их могучий запах. Как будто для вервра «тот» запах, особенный, хоть чем-то перебивается.
— На, грызи. Зубы у тебя, как у волчицы.
— А-рр!
Вервр вздрогнул: второй раз за ночь к нему подобрались незамеченными. И второй раз причина в гнусном, свойственном жалким людишкам, самокопании. Плохо.
— Привет, пап! Будешь сушёную воблу? Во, икра. Бара добрый, Бара отдаёт мне вкусненькое. Ну, хоть не ворует, а ведь соглашался, стоило попросить, — в голосе Аны звенело веселье, и издёвка у неё получалась не злая, а ласковая.
Вервр ещё раз втянул запах роз. В голове немного прояснилось.
— Хорошо, что ты переупрямил себя и гостишь в особняке, — хихикнула Ана в ухо, подкравшись вплотную и обнимая со спины. — Гости, я не против. Если честно, я ужас как боялась худшего. Нома так себе, и нос у неё острый, и коленки, и характер. Я в целом… против. Даже очень. Даже так, что зла на неё.
— О чем ты? — Бара беззаботно зевнул, выбрал на розовом кусте плотный бутон и сорвал. Глупо бухнулся на колени и протянул Ане на вытянутых ладонях. — О несравненная победительница, три боя из пяти ваши, я растоптан и смят.
— Вообще-то четыре, и твои, я ведь знаю: кое-кто жульничал, — надулась Ана, но цветок взяла. — Пап, ты в дом или в беседку? Я принесу одеяло.
Вервр молча ткнул пальцем в вязкую и безнадёжную ночь. С тоской подумал: не стоило позволять Номе начинать разговор. Совсем не стоило!
На полу беседки Ан долго ворочался. Отчаянно хотелось выть. Да и луна — вон она, чуется кожей, а стоит открыть рот, на языке проступает особенный привкус — лимонно-солёный, кровь пополам с печалью… Так бывает незадолго до полнолуния.
Мысли зудят, копошатся. Как он, взрослый до полной древности, мог докатиться до самообмана? Как умудрился начисто проигнорировать и запихнуть в бессознание выводы самоанализа, вошедшего в привычку? Как случилось всё перечисленное? Ведь так называемый «запах» для вервра — лишь проявление примитивного инстинкта сдвоенного сознания, а вернее, функция его звериной половины… Запах сродни людской влюбленности, он порабощает юных и пылких. Но бывший друг Шэда — высший вервр. Он достиг того уровня развития, когда может свободно контролировать и корректировать все процессы физического тела, и не только их.
Он в первую встречу с Номой отметил странность и назвал её «запах молодости». И то была воистину ностальгия по юности. Пора пробуждения и изначального любопытства у любого создания, даже и бессмертного — одна, неповторимая… Запах молодости — он и есть ностальгия, не более. Или все же — более? И еще Ана с такими внятными намеками, она-то откуда взяла свои выводы?
Нет. Стоп! Запах — лишь побочный эффект, маскирующий нечто более глубокое, чем примитивное влечение… притяжение? Да к чему там тянуться, тощая немочь, ребёнок, вдобавок — недокормленный и вечно пребывающий в переутомлении.
— Схожу в порт, — Ан сдался бессоннице.
Отбросив одеяло, вервр старательно его смял, будто можно так вот спрятать докучливые мысли. Не преуспев, Ан помчался через парк, перемахнул ограду, нырнул в переулок, в три прыжка миновал его. Остановился. Вдохнул пыльную городскую ночь, немного успокаиваясь… и без спешки двинулся вниз, к морю, в густеющих запахах рыбы и сырости, помоев и очажного дыма.
Город отвлекал, втягивая в свой хоровод запахов и историй… Недалече издохла крыса — смерть имеет сладковатый оттенок. А вон там у местных собак главное на всю округу место… Слева призраком встал запах клоповника, настоящего — надо же так запустить дом! А вот и пивные дрожжи, много… тут начинается скопление домов и складов северного торгового союза, у них по обычаю родины посреди поселения обустроена огромная каменная бочка-бродильня, хоть пей — хоть плавай во хмелю… и ведь плавают, даже изредка тонут.
— Эмин, — прошелестел вервр, поймав знакомый запах. — Ночью? Один? В порту?
У прогулки появилась цель, и вервр прибавил шаг, а затем побежал, взметнулся на ближнюю крышу. Он мчался на запах над кривыми улочками и внезапными тупиками, над ночной стражей и заторами повозок, не разгруженных с вечера…
— Назовите вашу цену, уважаемая, — холодно, но любезно предложил Эмин, сидя в довольно опрятной комнате дома, пахнущего весельем весьма низкого сорта.
Вервр пристроился на краю крыши и замер, обращаясь в слух.
— Инородец ты, а ну станешь чинить ей обиды? — хмыкнула «уважаемая», набивая цену. — Нет, дело решёное. Хошь, сюда ходи, не хошь, так и сюда не ходи. Вот так вот.
— Меня не устраивает ваш ответ. Поймите, тут не идёт речь о каких-то обидах. Я небогат, наверняка буду много странствовать. Мне требуется неприхотливая и послушная спутница. Я не желал бы принимать лишних обязательств и…
— А нету её за такие-то жалкие деньги, — зевнули в ответ, прямо намекая на начало большого торга. Скорее всего, не первую ночь ведомого… и не последнюю.
Вервр понимающе усмехнулся. Эмин не мальчик, ему по всем канонам юга полагается жить семьей, и он, похоже, решил уладить дело по обычаю родины, где глупости вроде влюблённости порой отметаются. Договорная жена удобна: ведёт дом и не перечит. Её можно оставить в любой день, если не подошла. Только на ребёнка, родись он, надлежит до совершеннолетия выделять средства… Но зачем же объяснять пожилой торговке живым товаром такие подробности? Увы, наверняка Эмин объяснял и хуже: дал время выведать много разного о себе, о возрождении особняка нобы-лекарки, о её поющих фонтанах — новом городском чуде и главном поводе для зависти всех здешних нобов. А кто выстроил фонтаны? Эмин хэш Ан. Так зачем же он врёт, что беден?
Вервр усмехнулся. Как просто читаются мысли людишек! Так не нетрудно для вервра протиснуться ужом в узкую створку приоткрытого окна.
Ан стек с крыши, присел на подоконник, зевнул напоказ — и с наслаждением выслушал долгий, переливистый вой ужаса. Торговку аж перекосило: вон, икает, глаз не может отвести от жуткой рожи слепца.
— Девица. Разве здесь её нет? — улыбнулся вервр, ни к кому напрямую не обращаясь и напоказ принюхиваясь. — А если поискать?
— Вы неудачно поговорили с Номой, учитель? — насторожился Эмин.
Вервр спрыгнул на пол и крадучись прошёл через комнату. Кончиками пальцев ощупал стену: каменная. Из крупных валунов, а не из щебня пополам с глиной и песком… Хорошо.
Удар открытой ладони заставил дом вздрогнуть от фундамента до печной трубы. Пол, набранный из могучих досок, заколебался, как палуба в шторм. Первая трещина — прихотливая, как след молнии — украсила стену.
— А ещё поискать? — блаженно выдохнул вервр и ударил снова. Мелкое крошево засвистело, завизжало, разлетаясь из-под окровавленных костяшек пальцев… слушать приятно! И на душе сразу делается спокойнее. — Эмин… Эмин, вряд ли тебя первый раз тут водят за нос. Дело стоит того?
— С весны меня морочат, — понуро согласился Эмин. — Я бы ещё поискал, но не хочу. Хорошая женщина, и здесь ей нет жизни. И тело подходящее.
— Ага, — глубокомысленно кивнул вервр.
— Для атласа, — смутился Эмин. — Мы с Номой уже год составляем книгу по лечению. Я записал всё, что ранее читал об этом на юге. Она тоже рассказала, что знает. По осени я рисовал травы, с корнями. Писал рецепты сборов. Зимой рисовал атлас мужского тела. Бара согласился помочь. А с женским телом — беда…
— Труп не надо уговаривать, — вервр слизнул подсохшую кровь с разбитого и уже зажившего кулака. — Хочешь, принесу годный? Для настоящего атласа надо сдирать кожу и срезать мышцы, послойно.
— Пока рано, но вот по осени… — невольно подыграл честный Эмин.
Пожилая торговка взвыла пуще прежнего, пала на четвереньки и, дробно стуча мосластыми коленями, поползла вокруг стола — вымаливать жизнь.
Вервр снова повернулся к стене, примерился — и врезал в ту же точку. Камень покрупнее головы вырвался со своего места в кладке, со свистом пролетел через соседнюю комнату, вломился в наружную стену — и разлетелся на три осколка!
— Значит, нет годной тебе бабы, — вервр намекнул на исходную тему торга.
— Да есть! — заверещала торговка. — Сей миг будет тут!
— Нет, нам дороговато, — на губах вервра мелькнула усмешка.
— Даром!
— Людишки, — поморщился вервр. Обернулся к Эмину. — И зачем пошёл один? Я чуть не упустил веселье. Сунь ей монету в зубы, не забудь. Хоть одну, но при свидетелях. Иначе мне придётся вернуться и разобрать дом. Я только за, но вряд ли Бара, Ана и прочие одобрят моё рвение.
— Да что вы, — смущённо отмахнулся Эмин, наблюдая, как торговка ползёт из комнаты и воет, требуя у подручных всё устроить так, чтобы гости ушли немедленно, получив своё. — Вас все любят, и тут уже не важно…
— То-то и оно, — с вервра слетела весёлость.
Он скользнул через подоконник наружу и вмиг оказался на крыше. Довольно долго сидел, вдыхая ночь и успокаивая мысли.
— Пора в путь, — шепнул он, наконец.
Встал и побрёл через крышу, спрыгнул на улицу, снова полез по стене, впиваясь в нее пальцами и раскрашивая камень, штукатурку, обожжённые кирпичи, древесину… раскрашивая и не замечая, как просыпаются от звука горожане, как позади зреет переполох. Когда криков стало много, вервр очнулся и прекратил творить глупости. Беззвучной тенью прокрался остаток пути и свернулся на полу беседки.
— Не запахи надо было менять, а себя, — буркнул он, зевнул и забылся сном.
Пущенный в ход дар взрослого вервра — знал он безошибочно — уже к утру полностью перестроит организм, исключит влияние примитивных инстинктов, гормональных вбросов и прочего подобного. Конечно, на какое-то время проявится раздражительность, да и сил поубавится, и способность замещать зрение иными каналами восприятия станет слабее… но дело того стоит. Прививка от никчёмной приязни. Влюблённость — почти простуда, и симптомы схожие. И иссякнут они так же стремительно.
— Пап!
— Сплю.
— Эй, да ладно тебе, все уже зубы точат, так хотят есть. Но без тебя не сядут. Нома не велела. Эй, мы худеем без завтрака! Так что, нам вовсе исчахнуть без обеда? Ну пап!
Вервр обречённо перекатился на спину и потянулся.
Голова гудит. Затылок пульсирует кошмарной, едва переносимой болью. Да раскрои этот череп в бою, фамильной саблей, самый вдохновенный алый боец — хуже не станет.
— Тошнит? — посочувствовала Ана и провела рукой по гудящему лбу. — Я принесла водички. Умойся. Эй, не пугай меня. Ты ни разу не болел. Я думала, бесы вообще не болеют. У тебя жар… Пап, ты как? А я со своим обедом… Прости, — Ана говорила всё быстрее, уже нащупала одеяло и кутала с ног до макушки. И подсовывала подушку под затылок. — Пап, а чем тебя полечить?
— Я здоров, — вервр выхлебал до дна предложенный кувшин. Вода оказалась сладкой, ледяной. — Я… перенастраиваюсь. Не волнуйся.
— Тебе кролика поймать? — жалобно уточнила Ана, всегда и неизменно жалевшая кроликов.
— Дались вам всем кролики! — вервр сел, сбил до пояса одеяло. — Что за гадость… я перестал нуждаться в сыром мясе, когда осознал причину расстройства сознания. Шэд охотился на дичь определенного свойства. Он звал таких губителями миров, и запах их парализованного, обречённого отчаяния смутно похож на кроличий. За ночь я перестроил себя, и отныне кролики мне безразличны.
Вервр запрокинул голову и тихонько взвыл. Он ведь намеревался избавиться от иного расстройства сознания!
— Пап, ты пей, вот вода. Не переживай. Если уж так надо, я научусь не злиться на Ному. Пап, я всех прогнала. Ну, чтобы поговорить.
— Откуда бы такой маленькой девочке так много понимать обо мне, мы ведь даже не родня, — огрызнулся вервр.
— Ещё какая родня! — Ана обвила руками шею вервра, сунула нос к самому уху, прижалась. — Всю жизнь ты рядом. Я себя не помню маленькой, а тебя помню. Большого. Огромного. Близко. Твои мысли. Твои сны. Твой взгляд. Всегда мне в спину нацеленный, внимательный. Как я вообще буду жить, если ты не смотришь на меня?
— Я слепой.
— Не придирайся! Я объясняю. Мне стало холодно в тот день, когда Нома нас кормила крапивным супом. Я хотела, чтобы ты разозлил её. Очень-очень хотела, чтобы мы насовсем ушли из Корфа. Ты смотрел на меня и на неё. И так было часто с тех пор. Иногда, несколько раз, ты следил за ней и отвлекался от меня. Ох, как было обидно! — Ана хихикнула и потёрлась носом о щеку. — Пап, я не буду злиться. Я постараюсь.
— Что может быть у нас… общего, — вервр нехотя вытолкнул слово за словом. — Я хищник. Я убиваю. Я всех и вся делю на дичь, соперников и семью в логове… Это моя природа. — Вервр бережно отодвинул Ану. — Отстань, детёныш, когда ты смеёшься в ухо, это громко и щекотно. У меня болит голова. Все ещё болит.
— Пап, ну поэтому я и злюсь на неё! — расстроилась Ана. — Вы точно как говорят… две половины. В ней есть то, чего нет в тебе. И наоборот. Кажется, это безнадёжно. Да?
Вервр поморщился, втянул запах парка, особняка и его хозяйки. Снова скривился и нехотя кивнул. Было до ломоты в зубах противно признавать вторую за сутки ошибку самоанализа. Запахи, влюблённость… он взрослый и от такого бы давно себя избавил, не впуская глупости в сознательный уровень и не взращивая их год за годом. Срок влюблённости краток и у людей, и у вервров, всего-то одна-две весны… а он повадился дышать вёснами у ограды парка снова и снова, и привычка только крепнет.
— Давай так: пообедаем и сразу в путь, — жалостливо гладя вервра по щеке, предложила Ана. — Я с утра всем сказала, что нам пора. Но нельзя уйти просто так. Эмин привёл жену. Понимаешь? Ты ему учитель. Ты должен сидеть во главе стола и трещать умности про всякое там согласие и соизволение. Отца-то у него нет. И никого из семьи нет, один ты. А еще ты носишь имя Ан, и это не случайно. Пап, потерпи. Мы после уйдём. Двинемся по большой дороге, там пахнет торговлей и слухами, ссорами и выгодой, приключениями и азартом. Тебе полегчает.
— Рассуждаешь, как вервр, — усмехнулся вервр.
— Я выросла в хорошей семье, — Ана прильнула, зашептала в ухо: — пап, помнишь, ты в первый наш приход в Корф рассказывал сказку про крылатых, которые были неблагодарные, не приняли тебя и назвали бесом? Я помню — нэйя.
— Не так, они были…
— Ты слушай! Я в ту ночь видела сон. Что я — птица. Пап, я правда самую малость вервр. Проснулась такая счастливая… ничего тебе не сказала. Маленькая была. Боялась, что обозналась. Но птица со мной, всегда. Ты змея, я птица… мы тоже две половины, совсем разные, но подходящие. Значит, всегда будешь смотреть мне в спину. Это счастье.
— Многовато у меня половин, — усмехнулся вервр. Вроде бы ничего не изменилось, но боль стихает, пропадает… — Странное, должно быть, из стольких половинок соберётся целое.
— Люди — не тарелки какие-нибудь, у нас чем больше половин, тем целее целое. Мы не рассыпаемся при ударе, а собираемся, если мы настоящие. Это я сама додумалась, — хихикнула Ана. Поцеловала в шею, фыркнула и умчалась, вереща на весь парк: — Я тебя вылечила! Я такая ловкая! Я тебя вылечила…
— Пока что я разбит, — вздохнул вервр и нехотя встал. — Я разбит ещё злодеем Клогом. Разбит и подло вымазан клеем. С тех пор я собираю на себя то, чего прежде успешно избегал. Весь их людской сор… Собираю, и делается всё тяжелее уходить, не оглядываясь. И возникает отвратная, вредная привычка возвращаться… Хотя я-то знаю, что приключается дальше. Я — знаю! Всё это больно и совершенно бессмысленно. Всё это было много раз и неизменно заканчивалось дурно. Обязательно набиралась толпа тех, кого надо прикончить и горстка тех, кто не готов принять мои хищные благодеяния. Людишки… как они любят быть чистенькими.
Вервр ворчал, но брел через парк. Он почти не верил в то, что сам же говорил. И пытался привыкнуть: у него, разбитого, образовалось куда более одного мнения по очевидным и много раз обдуманным вопросам. Он снова, как много веков назад, с собою спорит. Эх, был бы Шэд рядом, спор бы обрёл наилучшего слушателя.
В парке пахло молодостью — и от её присутствия так же, как вчера, слегка кружилась голова. Запах сам по себе не имел власти. И, значит, от него не избиться. Надо уйти очень далеко и подумать очень внимательно…
— А вот и учитель Зан, — благоговейно прошелестел Эмин. — Позвольте вам представить мою жену. Я произнесу надлежащие слова, если получу на то ваше одобрение, о учитель и глава рода Ан.
Вервр принюхался и сделался серьёзен. Занял кресло во главе стола и надолго задумался, окутанный тишиной и общим вниманием.
— Она грамотная?
— Да.
— Хорошо готовит, — вервр пошевелил ноздрями, склоняясь к столу. — И такое сладенькое обожание ощущается… Она будет потакать твоим идеям и поощрять твой синий дар во всех его вывихах и выкрутасах. Бедняжка. Гм… То есть я одобряю и благословляю. Только не умори её, ты же зануда. Нищий упрямый зануда.
— Я постараюсь, учитель.
Ана всё громче хихикала, разрушая торжественность момента. Бара солнечно улыбался Ане. Нома пялилась в тарелку, слушая монотонный звон в ушах и наверняка пытаясь сообразить, сильно ли заметно со стороны, что хозяйка особняка… не в себе. Старик — алый боец и наставник Бары — отечески улыбался всем из своей полудремы, он изрядно сдал за минувшую зиму, почти ослеп, но казался таким счастливым… Он был дома и радовался каждому мгновению. У стола суетились какие-то людишки, то ли выздоравливающие, то ли просто прихлебатели. Разносили блюда, угождали доброй нобе и её управляющему. Обед тянулся и тянулся. Тушёная крольчатина вязла в зубах.
— Пойду соберу вещи, — громко звякнув кружкой по столешнице, сообщила наконец Ана.
Конечно, следом увязался Бара. Эмин вспомнил, что надо снабдить драгоценного учителя припасами в дорогу и умчался, за ним побежала смиренная жена. Старик заснул окончательно. Слуги шуршали вдали вроде мышей, мыли посуду и грызли сухарики сплетен, а их в доме Номы не так много…
— У меня звериный слух, — сообщил вервр, заранее сожалея о сказанном.
Нома молчала. Вряд ли она вообще могла сейчас говорить. Она и дышала-то кое-как, всхлипами. В тарелке стыл нетронутый обед.
— Выбрось из головы глупости, — строго посоветовал вервр. — Я плохо помню ближнее прошлое и вовсе худо — давнее. То есть живу действительно вслепую. Я не могу восстановить свое имя. Но, даже когда это сбудется, я останусь вервром. Мы счастливы лишь в дикой природе. Мы навещаем логово изредка, когда ощутим в душе… весну. Мы не годны для домашних дел и не понимаем закон людей. Мы убиваем без сожалений. Ни помощи, ни поддержки, ни теплоты мы не даём. Тебе нужна собака, а я даже не кот, я — пустынный змей. Ядовитый. Вдобавок вечность… Ты понимаешь, что значит — лечить отребье бессменно и неустанно? Зачем тебе это?
Нома вздрогнула и наконец отвлеклась от изучения тарелки. Кажется, её уже тошнило от вида пищи.
— Я человек, и я лишь… — запинаясь, прошептала она.
— В родном мире атлов каждый из рождённых — лишь человек, пока он не отважится взвалить на плечи вес потяжелее. В каждом здесь дремлет зерно, готовое прорасти и сделать его… бесом четвёртого царства, — усмехнулся вервр. — Будь иначе, Рэкст и тем более другие бесы, что угнездились тут, давно извели бы хоть одну ветвь дара. В твоем доме я вижу по крайней мере троих, кто готов пробудить в себе атла. И многих, избравших путь людей. Старик, — вервр покосился на алого, — в полной духовной силе, но ему чуждо бессмертие, он нашёл ученика и перелил себя в него. Исполнил предназначение, так он видит это. Он уйдёт к зиме. Тогда позаботься о Баре. Эмин летописец, он в потоке жизни, ему нельзя смотреть на мир со стороны. Он состарится. А вот Бара, Ана и ты… Каждый примет решение. Я думаю, Ана уже решила. А ты… поверь, лучше умереть однажды, не искушая судьбу. Людишки будут снова и снова наносить раны своей чёрной неблагодарностью, и однажды белизна дара потускнеет. Если я верно помню то, что я почти не помню, иерархию бессмертных королева создала при помощи атла. Он, как сказали бы вы теперь, был белый лекарь с сильным даром по синей ветви. Запах молодости его души очень похож на твой. Сдавшись тьме, он создал карты предназначения и сделал меня Рэкстом. Он был мне друг, почти брат… Искупая его вину, ушли атлы твоего мира. За его подлость и слабость я отомстил твоей семье. — Вервр встал и поклонился. — Это было мелко и недостойно… Теперь мне пора. Ана собрала наш походный мешок.
Нома вскочила, комкая край скатерти и отчаянно хватая ртом воздух.
— Как? Совсем?
— Все решения — твои. Слово «совсем» имеет смысл только у смертных, — задумчиво добавил вервр. — У бесов нет много, что обыденно людями и желанно нам, как высшее чудо. Главное, чего у нас нет — постоянства. Разве можно клясться в вечной любви или верности, если они воистину вечные? Мы расчётливые старики и хладнокровные лжецы. Мы скупые хранители осколков воспоминаний и впечатлений. И только-то.
Вервр отвернулся и пошёл прочь, вдыхая запах роз и слушая звон фонтанов.
— Вы же вернётесь… весной? — прошептала Нома.
Сейчас вервр отчётливо понимал то, что недавно сказала Ана. Нацеленный в спину взгляд. Он шёл и не оборачивался. Слепота не мешала сама по себе. Но первый раз не хватало глаз в ином смысле — прищуриться, сморгнуть…
Ана ждала у ограды. Обнимала пухлый мешок, набитый припасами под завязку. Вскинула имущество на плечо и побежала рядом, заглядывая в лицо. Наверняка прохожим зрелище казалось более чем странным: хрупкая девочка — и тащит огромный мешок…
— Что ты наговорил ей?
— Правду.
— Ну ничего себе… я думала, ты умнее. А куда мы идём так отчаянно поспешно? Или мы идём оттуда — и всё равно куда?
— Мы идём туда, куда мне нет входа. И где наверняка хранится жирный кус памяти. Может быть, даже моё имя. Брат не впустит меня, но я хочу его хотя бы… учуять.
— Ага. Вот я и сказала Баре, что мы пошли туда.
— Неужели? — насторожился вервр. — Отвратительно. Не люблю быть предсказуемым.
— Мне приснилось. Там очень красивые стены и главная площадь такая… парадная. Я над ней летала. И ещё кое-кто летал. Только он мне не особенно понравился. Все потому, что хотел понравиться. Ан, вот ты никогда так не делаешь. Ты хочешь казаться хуже, чем ты есть на самом деле. А он…
— У меня болит голова, — соврал вервр, пока голова не заболела.
— Ну-ну, — подбодрила Ана.
Дальше шли в молчании. Вервр отчаянно завидовал людям. Они-то, закрыв рот, заткнув уши и ослепнув, воистину не знают чужих мыслей! Им проще отрешиться, погрузиться в себя.
Хорошо хоть, всё ближе край города. За ним — поле, перелески, ручьи… свобода на все четыре стороны и купол бескрайнего неба над головой.
— Шэд, — одними губами выговорил вервр. — Я вспомню своё имя, обещаю. И тогда ты услышишь меня…
Путь Ула. Зачем?
Что такое безнадёжность? Видеть при каждом новом посещении, что язва на шее Первого инженера приросла ещё на волос, хотя для лечения изобретено так много…
Что такое людское упорство? Снова и снова искать способы и лечить, не веря в дурное. Вон и инженер не верит, хотя он человек науки, ему чудеса хуже яда. Предпочитает видеть лишь то, что может подтвердить расчётом. Но в лечение Ула верит, слегка сердясь на себя и на гостя. Пальцы видят, душа знает — разве это годные для науки пояснения?
— Как новые-то иголки? Удались? — кряхтя, инженер сполз с лежака и стал натягивать рубаху, ревниво ожидая похвалы. — Сплав я подобрал, не пожалел сырья. Хотя от тебя, недоученного чудодея, не приходится ждать дельного техзадания. Лечит он… начального образования нет, а он лечит.
— Я учусь, — смутился Ул, укладывая иголки в раствор. — Когда выкрою время, учусь. Сядьте сюда, добавлю вам немного силы.
— Не вредно отдавать без учёта и мерки? — как всегда, с подозрением спросил инженер и нехотя подвинулся ближе, уложил ладонь в лодочку сложенных рук Ула. — На нас не напасёшься. Не говори попечителю, но, — инженер склонился к уху и шепнул едва слышно: — генератор свежести, словцо для детишек. А на деле — система фильтрации замкнутого цикла с семиуровневым отсевом Пыли по удельному весу, диаметру зерна… а после химическая нейтрализация, биоблок и прочее, что тебе, недоучке, без толку пояснять. Короче: мой предшественник вынужден был отключить восьмую ступень, иссякли запасы нужного сырья. Его брат ушёл вовне, в Пустоши, на поиски склада, на старой карте указан еще один. Метка ненадёжная, он не вернулся… Скоро пойду я. Иначе отключим седьмую ступень. Тогда хоть иглы тычь, хоть калёным железом жги, а поколений десять нам до вымирания, всё.
— Вы же не верите в плохое. Иначе не сказали бы про склад, — вздохнул Ул. — Несите карту, я схожу. Мне не вредно.
— Не справишься, — поворчал для порядка инженер, сунул руку в наружный карман планшетки, всегда носимой на боку и пока, на время лечения, бережно уложенной на стул рядом. — Вот. И возьми рацию. И это… спасибо. И…
— Алель не бездельничает, просто он куда умнее меня. Не могу понять, в чем его забота, — Ул знал это обязательное, многозначительное «И…» в конце всякого разговора. Он отпустил руку инженера, теперь уже тёплую, с мягкой упругой кожей. Уронил свою, временно бессильную, неловкую, ледяную. — Вы обещали завтра изготовить пробные листы с точками. Я еще раз проверю до печати и рассылки по городам.
— Завтра и отдам, что я, хоть раз нарушал сроки? Пойду. Дела.
Инженер всегда прощался скомкано и уходил, не оборачиваясь. Понять можно, у него так много дел, что странно, как управляется? И ведь ни разу не жаловался. Ни разу за пять лет…
В мире, где некогда умер древний лес Алеля, годы короткие. Инженер объяснил про вращение планет, и Ул сразу поверил, влюбившись в сочетание слов — «звёздная механика». Он искал поводы, чтобы покрутиться возле инженера и посмотреть, как тот настраивает и запускает станки. Как металл закручивается кудрявой стружкой — волшебно… Но, увы, и годы короткие, и люди живут мало, едва успевают шагнуть из чахлого детства — и вот она, ранняя старость, подставляет подножку… Нет трав, нет солнца, нет всего, что Алель грустно именует природой. Альв сразу сказал: вне живой среды люди не смогут уцелеть. Вот только в этом мире и многих других они до последнего не верят, что связи прочны, что каждый рождённый под солнцем — он этому солнцу и этой земле сын, а любому иному приёмыш, чужак.
Древний лес, однажды всплывший видением в озере хранительницы Осэа, воистину мёртв. Сам мир находится даже в худшем состоянии, чем Ул мог вообразить, делая шаг следом за Алелем. Альв тоже чахнет. Не может найти способ вырастить новую природу так, чтобы вписать в неё людей. Все растения, способные приспособиться к Пыли, ядовиты. Ул знает, но не рассказывает ни инженеру, ни попечителю.
Пять лет… Целая вечность, если перевести в опыт. Как различны бывают миры людей! И как они перекраивают людей под себя. Перекраивают, а сгноить не могут. Люди иной раз попадаются стойкие. Как здешние. Им бы ненавидеть и подозревать всякого чужака, и причины есть, и дурной опыт, и недобрая память… а они принимают и дают кров. И выделяют из невероятно скудного запаса пищу. И учат, и впускают в свою жизнь.
— Снова вы надрываетесь, — сочувственно вздохнул Первый попечитель, отрегулировал печку чуть теплее, хотя обычно не допускал перерасхода энергии в своём доме. — Отдохнули бы, мастер.
Ул скрипнул зубами и кое-как разогнулся. Подождал, пока звёздочки прекратят крутиться перед слепым от усталости взглядом… колючие заводные звёздочки. Ещё и гудят, аж за ушами ломит. Боль инженера острая, механическая… упрямая, как и он сам.
— Я отвечаю за город, неужто не в моей власти заставить вас взять день отдыха? — укорил попечитель. — Неловко спрашивать, но… Вы не цените моих слов?
Давление на Ула через его обострённое чувство уважения к старшим, — крайне грубый ход. Попечитель сам же покаянно сообщил это во время прошлого курса лечения. Обещал не повторять… и не сдержался.
— Хорошо, я отдохну, — пообещал Ул.
Оттолкнулся обеими руками от лежака для больных и поплёлся к печке, в лучшее место дома: там большой рабочий стол, утеплённое кресло с двойном подогреваемым пледом для ног. Доползти вышло бы проще. Но — неловко. Получится, признаешь меру усталости и правоту попечителя. И — сдаёшься… Снова сдаёшься. Который раз за эти десять дней? Не хочется вести учёт, но невозможно и не вести его.
Имя мира, где погиб древний лес — Турвра. Прежде было иное, но люди этого города помнят так: Турвра. И попечитель при первой встрече использовал это слово. Собственно, когда Ул и Алель шагнули из бурлящего океана Шэда сюда, они нос к носу столкнулись именно с попечителем. Судьба? Насмешка случая? Или обострённое внимание этого старика, умеющего видеть в своём городе главное, и иной раз — заранее. Если так, встречу создали опыт, чутье и сердце попечителя…
С первого взгляда он показался очень маленьким и жалким. Пожилой, сутулый человечек в старательно залатанном плаще, в круглых пластиковых очёчках, хранящих следы многих починок. Кожа в язвочках, дряблая… Попечитель заметил шагнувших в мир гостей, суетливо взмахнул руками, закашлялся. Сел — благо, Ул успел подпихнуть нечто годное и смягчил неловкое движение старика, дал ему время отдышаться и свыкнуться со странным происшествием.
Сам Ул тоже получил время и возможность осмотреться и… свыкнуться. Он впервые увидел через окна полуподвала тусклый мир, захламлённые развалины города. Он уловил смутное сходство с иным городом, живым и многолюдным, — из мира Лоэна. Только машины здесь превратились в рухлядь, дома — в руины, гладкие улицы — в эдакое поле взломанного весеннего льда… Безрадостный мир. Ни травинки. Паутина в прорехах окон. Трещины на земле, дороге, домах — как морщины на измождённом лице первого встреченного в сером мире человека. Морщины и язвы… Ул тогда поклонился и сразу подумал: старик похож на Монза. Глубоко в глазах лучатся неяркие, но настоящие свет и теплота. Поэтому стало сразу больно… И теперь, пять лет спустя, ещё больнее.
— Удивительное дело, в нашем городе гости, — дрожащей рукой старик поправил очки, щурясь и осторожно улыбаясь. — Я знаю в лицо каждого из пяти тысяч трёхсот семи своих подопечных. Это мой долг, как Первого попечителя. Я распределяю пишу и работу, тепло и воду… Вы не похожи на тех, кого в качестве гостей описывают летописи. Они бы не старались смягчить моё падение. — Попечитель грустно развёл руками, — увы, я стар и неловок… И всё же вы, полагаю, одного с ними рода. Вы возникли схоже, будто из воздуха. Вы не вполне подобны нам, людям Турвры. Что ж… так или иначе, я вас приветствую и готов выслушать.
Альва можно было в тот день записывать в памятники: он стоял и молчал, как немой, не осилив первого взгляда на дорогой мир. И пришлось Улу кланяться, представляться и вести беседу за двоих. Он тогда спрашивал прямо. Это казалось просто… И он получал ответы, которые причиняли боль.
Весь этот мир, с первого мига — сплошная боль.
Люди помнили очень немного о древней для них истории «яркого мира» — так они звали время до катастрофы. Своё представление люди основывали на летописях, а их — на дневниках учёных, честно, но весьма неполно описавших то, что называют тут «днём снежной Пыли». Попечитель без утайки рассказал: да, люди сами рассеяли Пыль. Именно с большой буквы, и вообще этим словом — Пыль — тут называли только одно: мельчайший порошок тёплого белого цвета с лёгким перламутровым переливом.
Пыль присутствует повсюду вне жилой зоны, состоящей из подвалов, полуподвалов, подземных ходов и убежищ. Зону обитания людей от внешнего мира — от Пустоши — отделяет герметизирующая поверхность, её постоянно проверяют и латают люди Первого инженера. Они же поддерживают работу «генератора свежести». Но, как подтвердил только что инженер, Пыль вездесуща, увы… Она вызывает язвы на коже, и это — при самом мимолётном контакте. Если значимую порцию Пыли проглотить или вдохнуть, смерть наступит через пять-семь дней, неизбежно.
Пыль рассеяли во исполнение договора, смысла которого попечитель не смог постичь, читая витиеватые намёки в дневниках и более поздних летописях-толкованиях. Но даже он разобрал: договор был с существами «особого рода» — с бесами, прямо назвал себе подобных Ул, не желая отгораживаться от смутного чувства причастности и вины. Попечитель кивнул и добавил: договор был ошибкой, возникшей вследствие жадности… Ошибкой, которую потомки беспечных людей яркого мира оплачивают в мире сером — долго, страшно, упрямо.
Один из тысячи людей яркого мира пережил день снежной Пыли более, чем на год. Один из ста уцелевших смог добраться до куполов-времянок, накрывших убежища с генераторами свежести. Один из десяти самых стойких дотянул до старости и увидел, как возникает серый мир — Турвра. Мир разрозненных поселений, где люди тесно и скудно живут, перемогая болезни. Где невозможно поехать в гости в соседний город, потому что давным-давно сломан и лишён топлива последний транспорт дальнего сообщения, магистральные тоннели осыпались, а костюмы защиты прохудились. Но города общаются через простуженные, хрипящие рупоры связи. Люди радуются общности — хотя бы такой, через слова… дающей лишь одно: веру в то, что твой город — не последний. Твой путь в жизни — не одинок. Тебя услышат и, когда грянет беда, внесут в летописи памяти. «Город Ова. Отвечал нам каждый третий день десятидневного цикла. Когда ремонт герметичной стены не удался, их стали постоянно слушать пять городов. Голос Овы смолк 17.15.1098. Они успели прочесть все летописи и попрощались»…
Попечитель сразу отвёл гостей в архив и дал право смотреть любые записи. Сам познакомил с инженером, энергетиком, пищевиком, врачом и прочими главными в городе людьми. В скудном мире не делали тайн из знаний и не скрывали даже худших ошибок. Не искали виновных и не проклинали предков: зачем впустую сотрясать воздух и расходовать силы?
Альв в первый день кое-как очнулся и смог дойти на своих ногах в архив, чтобы там, слушая, снова отчаяться и закаменеть… Слово «задеревенеть» не сочеталось в понимании Ула с миром, где нет не то что деревьев — травы. Вроде бы уцелели простейшие водоросли в хозяйстве пищевиков, но это — всё… К ночи альв заставил себя отринуть отчаяние. Внимательно выслушал попечителя, ещё раз быстро прочёл летописи и дневники. Поговорил со знающими людьми. Долго думал, хмурясь и наблюдая, как его и Ула — гостей, а это небывалое событие! — угощают лучшим, что есть в городе. Хотя из пищи тут имеются лишь таблетки-плитки трёх оттенков серости и затхлая, мутная вода.
— Зря я тогда спихнул груз на чужие плечи, — сказал Алель, глядя на свои гладкие тёмные ладони. — Стоило понять, что даже в обмен на мою свободу они не окажут помощь так называемому неперспективному миру. Что ж, начну всё с начала. Столько времени упущено…
Альв поклонился смущённому, суетливо поправляющему очки попечителю — и удалился. Местная кривоногая слабосильная детвора проводила гостя до верхних полуподвалов, до галерей со вставленными в тяжёлые рамы большим мутными стёклами. Дети отметили визгом восторга и ужаса: гость пропал! Был — и сгинул… с тем и вернулись, гурьбой ввалились к попечителю, наперебой рассказывая о чуде. Ул слушал и осторожно, стараясь не морщиться, прихлёбывал отвратительную воду. И думал: как же тут лечить? Нет трав, сухих и тем более свежих. Нет маминых настоек, порошков и мазей. Ничего нет, кроме больных… Вон у того мальчика гниёт лицевая кость, слева вся щека — мокнущая язва с лохмотьями отмершей кожи. У его соседа колено опухло, стало крупнее головы, и цвет пугающе-сизый… У девочки с подкупающе-ясной улыбкой почти нет волос, уцелело лишь две пряди возле левого уха, их украшает тощий, жалкий бантик…
— Проверю точки, — буркнул тогда Ул, вспомнив книгу с загадочными знаками и рисунками, прочтённую в библиотеке Монза, давным-давно, в какой-то иной жизни, детски счастливой и беззаботной. — Не все же точки для смерти, есть и для жизни.
Он проверил и убедился: книга, написанная в ином мире, полезна и здесь, если её приспособить, доверяя рукам и душе. Так он начал лечить, а чуть позже — делиться опытом. Сейчас у него три десятка учеников в пяти городах. Сейчас налажено расписание, и он — особый гость в звании мастера-врача — водит детей и попечителей из города в город, взяв за руки. Люди общаются.
Оказывается, если отнять всё, останутся не озлобление и отчаяние, а это непостижимое умение радоваться тому, что в ярком мире было буднично и незаметно. Люди счастливы… А ведь за пять лет мастер Ул похоронил половину из первых трёх десятков учеников, тут живут мало и уходят без слез. Тут не закапывают и не сжигают покойных. Всякое тело — биомасса. Так сказал пищевик, и первый раз показалось страшно до тошноты… а после Ул принял и это, и даже освоился с мыслью, что пьёт воду, много раз прошедшую круговорот в пределах города.
Теперь он сам часть мира Турвры, потому что альв Алель пробует не сгнить, и надо ему помогать. Ул очень старается, но до сих пор теряет одного из двух десятков больных. Тут не принято обращаться за помощью по пустякам, так что каждый, согласившийся назваться больным — почти обречён. Ула зовут мастером, чудодеем и ещё сотней титулов, почтительных и… болезненных. Ведь он наверняка мог бы больше!
В первый день Ул шёпотом попросил помощи у змейки, частицы Шэда. В ухе голос Шэда сразу, коротко и резко, ответил: «Алель ещё не в силе, ты мал. Всякий шаг из мира в мир, всякий крик о помощи они могут заметить, они и без того в огромном недоумении. Они опасны. Я способен начать большую войну, я в ярости… но разве этого хочешь, наследник?». Вечером того же дня вернулся Алель, выслушал и грустно подтвердил: верно, помощи ждать не от кого. Альв побывал на пустошах, снова ушёл в архив. Засел в радиорубке и стал забрасывать вопросами соседние города, ломая тщательно прописанную сетку общения. После двадцати дней неразберихи извинился и удалился в детские залы. Стал пробовать разное — но его дел не понимали ни люди, ни Ул. Алель же с тех пор общался лишь с детьми, и то — младшими. Даже спрашивал у них совета. «Как думаешь, такой пух— не крупноват? Вот и я прикинул… А если его в розетки?» — альв бормотал и бормотал, вздыхал, тёр глаза. Отказывался пить серую воду и снова принимался думать. Внезапно пропадал, объявлялся из ниоткуда. Рисовал в воздухе слегка светящееся линии, которые ловко складывались в невидаль: траву, цветы, ветви… дети смеялись, хлопали в ладоши и просили повторить.
Ул не смотрел на рисунки и сам почти не рисовал. Некогда. Пять лет — беспросветно некогда… Даже теперь, когда за плечами так много ошибок и находок, его больные умирают. Реже, но — умирают.
— Ты бы поел, — строго велел попечитель. Положил на стол свои драгоценные очки и слепо уставился туда, где ему представлялось лицо Ула. — День важный. Я выбрал преемника.
Ул вздрогнул, рука метнулась, пальцы в невесомом касании прослушали пульс старика — и бессильно отстранились. Хорошо, если осталось полгода… зачем быть лекарем и знать так уверенно срок своего очередного поражения?
— Толку от меня, — кривя рот и старясь не утратить ровного тона, выговорил Ул.
— Что ты! Город впервые за три века прирастает. Жить стало куда веселее, ходим в гости, — старик улыбнулся широко, беззубо. И не прикрыл рот в смущении, как делал иногда. — Хорошо… только я очень хочу дожить, понять: что за чудо готовит твой друг? Он упрямый. Так старается, болеет за дело… пожалуй, я бы спросил. Но не решаюсь.
— А пошли, я сам спрошу, — вызвался Ул.
— А пошли, — взбодрился попечитель.
Ул подхватил старого на руки, не слушая возражения. Благодарно кивнул расторопному ученику: тот успел подать плащ, ведь нельзя не беречь тепло, ночь — прямо ледяная. Второй ученик снял с рогаток на печке тёплые носки и бережно натянул на бессильные, скрюченные ноги старого. Проводил до двери, выпустил и снова включил режим герметичности. Коридоры давно уже не отапливают, тем более ночью.
Альв нашёлся на том же месте, где появлялся обычно, наведываясь в город. Он точными движениями рисовал узоры, хмурился и быстро стирал их. В темноте ещё долго растворялся след — как от перламутровой цветочной пыльцы… В сумраке взблёскивали глаза детей. Кутаясь в одела, малышня толкалась и шепталась, никто в зале не спал. Как всегда, за работой Алеля следили, как за волшебством.
— Что ты придумал? — Ул выбрал вопрос.
— С океаном всё неплохо, там я запустил чистку, — пробормотал Алель, едва ли сознавая, что вопрос ему задан вслух и что отвечает он тоже вслух. — Но суша… Эта Пыль чудовищна. Определённо, формулу создавали не люди. Слишком сложно, динамично… она непрестанно совершенствуется, все эти годы и века активна, агрессивна. Она многокомпонентна и многофункциональна. Думаю, никто из второго царства её не переборет… один. Если бы люди тут вымерли, я бы уже признал, что корни мои сгнили и всё такое… Но мне стыдно.
— Погоди, я пойму, что ты сказал. Альв не справится один. Так? Ага… Тебе нужен в помощь горгл? Или вервр? Или…
Алель вздрогнул, смахнул очередной узор и уставился на Ула, наконец-то заметив его.
— Ты? Хотя, не важно… почему бы не признать вслух. Да. Или горгл, или вервр, обязательно опытный. Но и тогда не обещаю ничего. Не знаю, есть ли ещё сильные одиночки вне иерархии. И твёрдо уверен: станем искать и звать, нас выследят. А их, — альв глянул на старика, — сотрут в порошок. Называется «в назидание». Ты видел уборщика иерархии за работой? Или хуже, палача…
Альв устало сник, заслонил руками лицо.
— Я приведу вервра, он поможет, — вдруг решился Ул. — Будет трудно, но я…
— Даже не проверяй, на чьей стороне Лоэн, — быстро отмахнулся Алель. — Слишком дорого встанет его согласие. Полагаю, его даже королева не трогает, опасаясь: включи такого в иерархию, он исхитрится и рабство превратить в многоходовую игру…
— Жди, — велел Ул.
Почти силой заставил альва принять с рук на руки старого попечителя, погладил змейку на запястье, уговаривая, если это посильно, сделать шаг незаметным… и рванулся прочь из мира.
Серое поле застывшего времени ничуть не изменилось.
Ворон Теней сидел на прежнем месте, безмятежно-спокойный и сосредоточенный. Ворон Ург ждал неустанно, вдруг осознал Ул! И смущённо поклонился, здороваясь и признавая: он заставил себя слишком долго ждать.
— Нашёл ответ, — отметил Ворон без тени раздражения или сомнения.
— Я бы не рискнул так рано лезть в правку высшей карты, но у меня нет другого выхода. Нужна помощь. Я понимаю, что это может создать осложнения, но я готов рискнуть.
— Ты подрос, — губы Ворона наметили улыбку. — Весь в маму. Сила ничего не решает, только свет души… так она сказала однажды.
Ул ощутил толчок в сердце и движение тепла вверх, и жар в голове. Он и не смел рассчитывать на такой подарок: привет от мамы! Жива, уже немало. Ург бы не солгал. Он не таков… Ул прошептал смущённую благодарность, склонился, сосредоточенно осмотрелся, возвращая себе покой. Тронул край карты с закрытыми вратами — карты Привратника, связывающей Ворона и связанной с ним.
— Теперь вижу иначе, полнее, — шепнул Ул. — Это не карта, а картина. Она живая, её рисовали не для иерархии. В изначальном рисунке был отражен кусочек твоей души, высвеченный мастером. Настоящий, потому он и держит тебя, ведь он — часть тебя. Его нельзя стереть или разрушить. Можно лишь расширить и дополнить, тем самым освободив. А его наоборот, ограничили и втиснули в рамку. Так я думаю и чувствую.
Ул добыл грифель — сколько носил при себе, лишь изредка делая ничтожные наброски на стенах коридоров и комнат Турвры… Лица больных, глаза детей, руки попечителя… Когда старый считает нормы пищи, делается особенно жалок — и в то же время странно всемогущ, ведь еды каждый раз хватает! В обрез, а хватает. А еще Ул несколько раз пробовал нарисовать ту снежинку… Взгляд из мира Осэа. Взгляд, который, кажется, и теперь изредка дотрагивался до души и умалял усталость Невесомый, но с некоторых пор важный и даже — родной.
Грифель лёг боком и заскользил по полю, заполняя в том числе и всю карту иерархии, богато даруя фону тёмные тона. Пальцы Ула подправили их, наметили танцующий ритм бликов, неуловимых движений и вздохов полумрака. Сквозь загадку тьмы легла почти незримая тропка. Угольно-черным нарисовался силуэт идущего. Мощная фигура, птичья маленькая голова под капюшоном. Посох в левой руке… тенью реет выше невидимый ворон, прорисованный черным по чёрному. Вдали тонко, неярко, намечается свет. Совсем немного его, одна капля…
Ул выдохнул, хватанул горящими лёгкими воздуха, лишь теперь заметив: всё время работы он не дышал! Он был там, на тропе, во мраке, где нельзя дышать, если ты — не Ворон Теней. Особенный вервр, который, кажется, и не совсем вервр. Не зря его поймали и заперли здесь, подальше от любых миров, игр и иерархий. Ул нащупал основу нового рисунка — карту, рывком выдрал из камня…
— Вторжение, — обречённо взревел Ворон. Осёкся и сник.
Карта с запертыми наглухо вратами не вырвалась из свежего рисунка и не разрушила его. Воистину стала с ним — цельной. Тропа, силуэт и птица, чёрная на чёрном, незримая, но очень живая… всё медленно пропало за вратами, потому что они — грань.
— Не знаю, но чую, — сползая на ледяной камень, выдохнул Ул. — Ты весь — тайна. Больше, чем даже сама Осэа.
— Неплохой ответ, — Ворон поддел карту и пристроил себе на руку выше локтя. Рисунок врат врос, делаясь татуировкой. — Толковая работа. Я вспомнил. Врата — мой знак, я сам так понял однажды. Врата меж живым и мёртвым, явным и тайным, допустимым и запретным… Сиу!
Ворон расхохотался, и море камня всколыхнулось, расплескалось брызгами огня, вздыбилось… Из недр холодного, серого покоя вырвалось огненное многоцветье. Расправило крылья, встряхнулось, танцуя на гибких журавлиных ногах, расправляя радужный хохолок.
— Мой полдень, Сиу, — трогая грациозный изгиб птичьей шеи, улыбнулся Ург, и его тёмное лицо смягчилось. — Мы снова вместе и снова свободны.
— Ты поможешь? — робко уточнил Ул.
— Сильных просить опасно, будет расплата, такова судьба… Да, я помогу в той просьбе, с которой ты пришёл, но именно поэтому не смогу всматриваться в иное дело, которое тебе предстоит. Я не спасу тебя от быстрого и спорного решения, такова расплата. Я не пройду за тебя твой путь, наследник. И не пройду его рядом с тобой. Пойми. В точности так Шэд не смеет помочь своему вервру, хотя жаждет снова быть с ним соединенным. Две стороны силы должны быть равны. Шэд могуч… Его вервр не может быть слабее, иначе он выгорит. По той же причине Сиу не вмешивалась и ждала моего пробуждения. Она — яростный свет. Прежний раб карты не снес бы подобного. Не согласиться на меньшее — значит, совершить благо, а не впустить зло.
— Я понимаю. Честно. Больно, но я понимаю.
— Понимаешь, не внёс обязательств в рисунок… Я благодарен за полноту свободы, но предупреждаю, для тебя это будет сложно.
— Тяжело слушать мудрых и древних. Ум кипит, а догадок — крохи, — горько усмехнулся Ул. — Идём?
— Да.
Такой простой, однозначный ответ наполнил душу Ула сиянием и теплотой. Один шаг — и вот он, серый мир Турвры.
Ул сразу увидел глаза Алеля, полные надеждой и болью. Затем отметил: это главный зал архива, в кресле сидит попечитель, он окончательно бледен и слаб, но — жив. Значит, освободить Ворона удалось быстро.
— Ург, бог дикости и проклятие науки, — отступая на шаг, вымолвил Алель, не веря себе и кланяясь глубоко, почтительно. — Но здесь же город… Как случилось, что вы свободны и согласны помочь? Но, надеюсь, вы не станете воздвигать тотем и начинать…
— В бубен дать всяко успею, — усмехнулся Ург, и глаза его полыхнули тьмою. — Дикость… много ты понимаешь, деревяшка. Когда убивают твой лес, гибнут мои люди, лучшие люди мира. Хранители первозданности. Ты прежде звал их примитивными. Утонченный Алель, ценитель парков и цветников. Отрыжка дворцового стиля.
— То есть вас можно не знакомить, — улыбнулся Ул, пристраиваясь на подлокотнике кресла и трогая запястье попечителя. — Мастер, вы не переживайте. Они полыхают, как пустая зарница. Не будет ни грозы, ни бури.
— Ну-ну, — Ворон повёл плечами, осмотрелся, кивнул явившемуся на шум инженеру. — Тотем строить… зачем? Тут и без моих усилий во всю поклоняются железному богу. Я уважаю железных, пока они не делаются прожорливы сверх меры. Эй, деревяшка, что задумал? Сила твоего мира гниёт, источник заилен и нет в нем тока живого.
— С тобой мы могли бы сделать непосильное, — осторожно предположил Алель. — Нельзя менять людей, но ведь ты… ты всегда менял. Сращивал. А порою в гневе разделял.
— Сращивал, — кивнул Ург. Покосился на Ула. — Эй, не мешайся. Стань в сторонке, мы не полезем в то, что зовётся устройством общества. Лишь перекроим тела так, чтоб яд был им безвреден. Но предупреждаю: назад пути не будет.
Альв смущённо поклонился попечителю и инженеру.
— Простите, вы могли бы спросить у других: люди готовы стать немножко, самую малость… растительными? С точки зрения разума это вас не изменит, но память расширится и некоторые аспекты… Это сложно изложить детально и внятно. Видите ли… — альв обречённо вздохнул, осознав бесконечность предстоящих пояснений и огромность сомнений людей.
Попечитель жестом остановил разговор. Глянул на инженера. Тот махнул рукой и широко улыбнулся. Старик поправил очки, попытался встать. Ул помог, поддержал под локоть.
— Я двести сорок третий попечитель в непрерывной летописи этого города от времён последнего большого ремонта, когда мы потеряли часть знаний и памяти, — тихо, чуть прикашливая, выговорил старик. Бестолково поправил очки и опустил дрожащую руку. — Что бы ни решили о моем безумии люди, но я приму это бремя. Мы могли бы очень долго слушать вас и ещё дольше пересказывать прочим. Ничего не станет понятнее и проще от пояснений. Это вопрос доверия к мастеру, а не допустимости предложенных мер в плане этики или закона… Вот так я вижу. На правах попечителя я сразу дам ответ. Мы верим мастеру Улу, безоговорочно. Значит, мы согласны. Ради Ула я скажу: пояснять вовсе не надо. Это… успеется и позже.
Глубоко в груди Ула боль натянулась нарывом — и лопнула горячим, мучительным облегчением. Ул сморгнул слезинку, плохо понимая, отчего так шумит в ушах. Мир покачивается, и надо прилагать усилия, чтобы усадить попечителя и не рухнуть самому…
Как можно согласиться вслепую невесть на что — «ради Ула». Да он прожил тут ничтожных, коротких пять лет. Да он похоронил больше больных, чем вылечил! И никто из выживших не стал здоров по-настоящему, чтобы и язвы зарубцевались, и зубы новые блеснули на месте утраченных, и волосы отросли…
— Толковые люди, мне такие по сердцу, — Ург бросил на попечителя быстрый взгляд из-под бровных дуг, тяжёлых, как пещерный свод. Глянул на альва. — Ну что, без пробы, деревяшка? И так шум поднимем, ох как мало времени останется.
— Без пробы, — эхом отозвался Алель.
— Буду звать тебя «великий вождь», — сообщил Ург попечителю, оттёр к стене инженера. — А ты не лезь под руку, шаман, зашибу… Срастим, поймёшь, как трудно заново принять науку, если ты обзавелся корнями. Всем молчать и не мешать. Ул, встань там. Делай, что на душу ляжет. Алель, будь возле вождя, спина к спине, так мне удобнее. Хоть моргнёшь, возражая, уйду без оглядки.
Ург встряхнулся, распустил волосы. Черные, прямые… они струились глянцевым потоком по спине, обтекая валуны мышц. Ург развёл руки, хлопнул и снова развёл… Справа явилась птица Сиу, сияя как солнце, а слева взмыл под потолок ворон — чернее тьмы.
Ул сморгнул, уже не таясь, шмыгнул носом и растёр по щекам слёзные дорожки. Он знал, что всю жизнь, не важно, насколько долгую, он будет помнить этот день. Огромный, яркий — немыслимый для серого мирка, втиснутого в стены, втоптанного в подвалы, герметизированного от вездесущей смерти и обречённого уступать ей шаг за шагом, как уступает мраку свет лампады, в которой иссякло масло…
Вервр Ург рычал и метался, перетекал и крался, прыгал и катался в диком, чудовищном танце. Справа двигалась и пылала его Сиу, слева оставался неподвижен и лишь изредка подавал голос его ворон. Тьма наваливалась, набегала волнами — тьма первобытная, полная страхов и так густо населённая, что и не глядя в неё можно увидеть, уловить, осознать пугающе много… Свет бушевал, сплетался с тьмою и боролся с ней, и создавал единый узор борьбы, нескончаемый и изменчивый, как сам мир… Старик-попечитель казался живым изваянием покоя. Алель всё более походил на дерево, а его тень металась, и странный ветер разносил шелест листвы и дарил то свежесть цветения, то дух пряной осени.
— Сплетено и запечатано, — резко выдохнул Ург.
Он замер, лоснясь от пота. Капли сбегали по гладкой темной коже и шмякались об пол. Бурное дыхание вздымало широкую грудь. Ул слышал рокот сердца Урга, и знал: его слышат сейчас все люди, с ним едины — все люди… во всех городах!
— Имя моё Ург, и меня следует звать ночью, чтобы узнать тайное или заплатить за пустое любопытство, — буравя тяжёлым взглядом стёклышки очков попечителя, басом пророкотал вервр. Очки треснули. — Имя птицы моей души Сиу, и ей следует возносить хвалу в полдень, чтобы наполниться радостью и жаром вдохновения. Прощай, вождь, по эту сторону врат нам больше не встретиться. Вы отныне особенные люди. Поймёшь, как зашумишь листвой над своей человечьей могилой. Ведь отныне в этом мире полагается тела людей хоронить в земле, непременно. Мне пора. Долг исчерпан, маленький атл.
Ург отвернулся и пошёл прочь. Птица сложила радужный хохолок и растворилась в воздухе, осыпав несколько цветных искр и оставив на прощанье одно драгоценное перо. Ворон хрипло каркнул, взмахнул крыльями — и тенью скользнул за Ургом, который успешно миновал стену, зримую людям и несущественную для него.
— Как ощущения в звании шамана, уважаемый инженер? — попечитель снял очки и проследил пальцем двойную трещину на круглом стеклышке. — Мне нравится быть вождём. Всю жизнь мечтал снять эту ценную тяжесть с переносицы и стать зрячим по-настоящему.
— Мастер Ул, неужели теперь я могу сходить сам на дальний склад, в Пустоши? — встрепенулся инженер, щупая язву на шее и не смея верить ощущениям… ведь язвы почти и нет! — Хотя позвольте, а зачем мне теперь склад? И генератор… погодите, голова кругом. Следует записать события для архива. Подробно, последовательно, без оценок.
— Попробуй, — напутствовал попечитель. Встал, разогнулся и недоуменно глянул на свои ноги, прямые и послушные, вполне готовые нести вес тела. — Ума не приложу, на что я согласился? И отчего я, осторожный и ответственный человек, не сожалею и не сомневаюсь даже теперь. Мастер Ул, ваш друг потрясает воображение. Не могу и помыслить, что дальше ждёт нас.
— Теперь лес снова встанет в этом мире, — Алель обернулся к Улу, светло улыбнулся. — Дикарь Ург невероятен. Мало кто понимает, есть ли предел его силе… и всякий, обращаясь к нему, трижды думает до того. И ещё трижды сомневается. Обычно, в результате, не решается беспокоить. Он ведь в какой-то мере бог, я не шутил. Богов просить — значит, готовить жертву… Это не дикость, а закон воздаяния. Ведь жертва может быть не только понимаема примитивно и упрощённо, но и…
Далеко, над сводами полуподвала, над серым миром в паутине и снежной Пыли, взрыкнул громовой удар. За ним последовал второй, третий… Зашевелилась камни кладки, тонкими струйками потёк песок, с визгом и свистом разлетись куски герметика, покрывающего старые трещины и щели. Первая перламутровая искра Пыли впорхнула в зал. Инженер побледнел, вскинул руку, отгоняя смерть от попечителя. Охнул, когда Пыль села на кожу… и ничего не случилось!
— Нет даже покраснения, — шёпотом поразился инженер, задохнулся и рухнул на пол, обхватил голову. — Невозможно… невозможно!
— Вы теперь самую малость похожи на меня, — осторожно намекнул Алель. Глянул на попечителя. — К старости будете немного деревенеть и даже… поскрипывать. В пору любви начнёте выращивать сумасшедшие цветы, всякий раз новые. В зиму будете медлительны, не особенно, но всё же…
— Что за гром? — резко спросил Ул, ощущая, как мурашки бегут по спине и студят кожу.
Алель покривился, отмахнулся от вопроса. Но молчание повисло тяжёлое, неудобное.
— Ург так шумел… Нас не могли не услышать. Но это мой мир и мой долг, — скороговоркой выдавил Алель. — Постараюсь расплатиться. Жди.
— Ург меня предупреждал. Им нужен наследник, — Ул поймал альва на полушаге, не отпустил одного «разбираться». Обернулся к людям, ещё раз вгляделся, запоминая лица. Наконец-то такие, как мечталось, без язв и шрамов… — Попечитель, я очень рад, что был вашим гостем эти пять коротких лет. Простите, что от меня меньше пользы, чем тревог и неразберихи.
Не растягивая прощанье, Ул шагнул вовне, отчётливо понимая место, обозначенное для встречи неведомыми ему бесами иерархии.
* * *
Берег моря. Серые глыбы, ледяной ветер несет с воды соленый туман. Грохочет прибой. На влажном песке контуром языков волн лежит Пыль, белая с перламутром, красивая… смертоносная. И более не опасная для людей.
На вершине плоского валуна стоят плечом к плечу двое. Ближе — широкий, мрачный, каменный в неподвижности… определённо, горгл. «Даже и не дышит», — отметил мельком Ул. Чуть левее и на полшага дальше — лёгкий, отчаянно рыжий и меховой, когтистый, с неподвижным звериным взглядом и дрожащими в предвкушении ноздрями… конечно, вервр.
— Я уборщик, — безмятежно прогрохотал горгл. — Мир неперспективен в последней стадии. Признано нерациональным бездействовать далее, тем поощряя попытки выживания обречённой колонии. Я перезапущу первичные процессы планеты. Затем придут те, кто спроектирует годную природную среду и утвердит модель заселения. Покиньте площадку.
— Я палач, — щурясь и облизывая клыки, промурлыкал рыжий вервр. — Моя работа — убрать из мира людей. Их ошибки исчерпали их право на жизнь.
Ул покривился и смахнул солёные брызги. Они видел глазами две фигуры… и никого не ощущал душою. Пусто! Ни тепла, ни того света, что порою прячется на дне самых безразличных глаз, ни движения намерений и чувств. Когда-то оба эти существа были бессмертны. Теперь они стали мертвы, но не утратили способности причинять вред… а вот пользу нести уже не умели. Огонь души угас, и лишь пустой очаг его — тело — остался нерушим.
— О хранительница Осэа, я нашел ответ на тот свой детский вопрос: «Зачем?», — негромко сказал Ул, не сомневаясь, что будет услышан. — Для людей любой вред, самые страшные ошибки, ограничены смертностью и привязанностью к одному миру. Для бесов нет границ и нет смены поколений. Зачем же ограничивать и надо ли? Порой, увы, надо… Палачи вынуждены и даже обязаны причинять смерть бессмертным, чтобы защищать смертную жизнь. Сейчас я вижу однозначность приговора. Если есть преступление, должно последовать наказание, для вечных такой закон важен. Иначе вечность заполнится отребьем самого жуткого толка.
Ул говорил и ощущал, как покой наполняет его, вытесняет лишние мысли, сомнения, чувства… Ул добыл из кошеля при поясе карту, на которую не смотрел очень давно. Все та же она — карта палача, взятая у беса Рэкста. Белый конь несёт всадника с обнажённым клинком. Под копыта бросается, скалясь, то ли змей, то ли дракон — белый с алыми когтями и клыками… Смазанным следом движения мелькает на фоне сам Шэд — тот, кто не желает начинать войну, но готов к сражению всякий день и бьётся только всерьёз.
Ул нащупал грифель, перевернул карту и быстрым движением нанёс на чистое поле оборота личный герб. Очень простой — он ведь болотный ноб, выскочка без родословной и славы поколений… Но у него, Клога хэш Ула, в гербе есть алая лента. Это главное! Алые нобы не могут победить без правды, как не могут и проиграть бой куда более сильному противнику, если правда на их стороне. Ул верил в это и думал об этом, когда повернул карту гербом к бесам иерархии. Мельком отметил, как ссыхается и стареет кожа Алеля, вдруг осознавшего, что именно держит в руке друг Ул.
— Эй вы, оба! Вы совершили преступление, войдя в чужой мир с целью убийства и разрушения. Вы обвинили людей в грехах, за которые ответили болью и смертью их очень давние предки. Здесь, сейчас, только один из всех бесов имеет право и силу называться палачом. Я, Клог хэш Ул, вижу мёртвые души в живых телах. Я обязан исправить это.
Ул опустил руку и, плохо сознавая свой жест, потянулся к сабле у бедра, к сабле, которую носил всего-то несколько дней, когда получил герб и титул ноба, когда жил в Тосэне и готовился вытерпеть мученическую роль свидетеля на помпезной свадьбе друзей — Дорна и Чиа, Сэна и Лии…
Пальцы сомкнулись на рукояти. Сабля с лёгким вздохом покинула ножны. Ул даже не успел удивиться тому, что добыл оружие… из воздуха?
— Невозможно, — проскрипел горгл, в крупной дрожи кроша челюсти и рассыпая песок с зубов. — Нет…
Движения атла никто не заметил. Просто он сразу оказался вплотную к врагу! Сабля с сухим звоном раскроила надвое треснувший камень тела горгла. Одновременно свободная рука Ула напряглась, встала плоско и выбросила веер чистой серебряной силы, совсем как учил Шэд, нападая бессчётное число раз… Горгл напоследок обречённо взвыл, посыпался песком, потёк горячем плачущим огнём, распластался лужей бессилия…
Рыжий вервр зарычал и затявкал, отращивая мех гуще, а когти — длиннее.
— Я тебе не по силёнкам, недоросль, — оскалился он.
Бросился вперёд, поднырнул под саблю, распарывая бок и пробуя закончить бой одним ударом. Вервр-палач был невероятно быстр! Он обладал опытом и звериным чутьём опасности, он предугадывал всякий выпад, любое движение и даже намерение… И всё же он был мёртв внутри. Он и помыслить не мог, что Ул однажды ослепил самого багряного Рэкста. Что Ул одолел девятиглавого Шэда! Что ещё ребёнком он умел вставать, когда в голову бросали камень — вставать и просто вытирать кровь. Без ярости. Без сумасшествия. Без потери внимания и контроля…
Три раны, чёрный день перед слепым взглядом залитых кровью век, зазубрина на сабле — такую цену Ул заплатил за смерть тела того беса, что уже был мертв душою. И в посмертии звался палачом, и всей своею ледяной душонкой желал быть именно убийцей.
Ул сполз по покатому валуну, уткнулся лицом в песок у линии прибоя. Ощутил, как под спину его перехватывает Алель, тормошит, умывает…
— Что ты наделал, — в ужасе шептал альв, обнимая ладонями голову Ула, делясь силой по мере возможности и опыта. — Откуда у тебя эта карта? Что это вообще за карта? Как можно взять чужую и скрыть это от всех?
— Не карта, а долг, — кое-как выдохнул Ул, понимая, что лёгкие снова работают, а не хрипят прорванным мешком… — Там много смыслов, теперь я чую их: палач, алый ноб, и ещё воздаяние. Всё вместе, вот такая стала карта, когда я сполна её… перевернул. Помоги сесть. Я много сделал, но всё же еще не дорисовал и толком не прочувствовал главное. И, кажется, времени мало. — Ул рассмеялся, кашляя и давясь сгустками крови. — Я вряд ли запросто увижу королеву, обо мне теперь знают многовато и значит, будут принимать меры… Но — не важно. Мне больше нечего спросить у неё. Попечитель прав, важно верить гостю, а не слушать без конца, как шуршат пояснения, обёрнутые в ложь слов. Тогда… зачем? Зачем это встреча мне и зачем ей?
Змейка — частица Шэда — скользнула с запястья, распахнула клыкастую пасть и принялась деловито заглатывать саблю… которая пропадала бесследно по мере движения пасти. Скоро осталась лишь рукоять и узорно обвитая по кромке лезвия морда змея… Его хвост заплелся на запястье и притянул туда полусъеденное оружие.
— Так носят атлы? — не имя сил улыбнуться и всё же раздвигая губы в улыбке, спросил Ул. — Благодарю… удобно.
Змей прикрыл узкие лукавые глаза. Теперь крохотный Шэд — украшение ножен… Чего в этом больше, издёвки или правды? Шэд воистину ножны на клинке ярости! Он всегда воюет всерьез… и всегда не желает начинать первым большой войны.
Столичные истории. Темное пиво
Сэн с отвращением принюхался. Прогорклое масло, которое распорядители столичного градоправителя выдают для ночного освещения — вездесуще. Запах пропитал одежду, кожу… запах въелся, и иногда Лия насмешливо щурится, напоказ прогоняя этот запах движением веера. Но вслух не укоряет. Разве иногда, утром, на ухо… Мол, бедняга муж, измены невозможны, кого ты ни обними, даже случайно, весь двор унюхает прогорклую интрижку. Лия умеет шептать в ухо, так по-домашнему… Сэн мечтательно улыбнулся, присел на конёк крыши и вытянул ноги. Увы, домой идти рано, до рассвета далеко.
Два удара отбили главные столичные часы. Во дворце еще не спят, там бал, шумно. Здесь, в воровской слободе, тоже не спят — но делают дела удивительно тихо. Фонари горят повсеместно и ровно, улицы обманчиво пусты. Окна трактиров темны, редкие прохожие молчаливы и торопливы. Все в слободе знают: фонари не могут высветлить темную сторону столицы. Но, взяв на себя обязанности фонарщика, ноб чести Донго изначально не пытался решить задач, для человека непосильных. Так что фонари горят, а Сэн на гребне крыши улыбается багряной луне… и думает о друге Уле.
В такие туманные ночи почти удается представить Ула рядом. Он бы теперь лежал, пялился в небо и бормотал что-то сонно-нелепое о повадках городских котов и о том, как хорошо коты вписываются в узор заглавных букв книги «Танцующий убийца».
Туман прячет город… Сэн вздохнул, несколько раз стукнул кулаком по грудине, норовя унять боль. Душа в таком же тумане: осталась без опоры, как свет незримого фонаря, многослойно укутанный рыжими и зеленоватыми пеленами промозглой сырости.
Что сказать матушке Уле, чем утешить? Каждый вечер ведь сидит у окна, и глаза блестят остро, влажно… Недавно шепнула, ни к кому не обращаясь, что желала бы знать, подрос ли мальчик и сыт ли он, здоров ли — там, далеко?
— Ул, — закрыв глаза, Сэн увидел друга таким, каким помнил: пацаном лет четырнадцати. — Ул, я выкупил дом Монза в Тосэне. И книги мы с Дорном собрали в библиотеку, часть подлинники, а часть копии. Чтобы было всё, как ты помнишь. Проныра Шель летом умаслил соседей и пристрожил ворье. Я съездил и уговорил твоего названого папу Сото — того, из деревни — поселить сына в дом Монза. В этом Сото кровь чувствуется, и он такой… особенный, на тебя похож. Ценная встреча. А Гэл… ну, бывший Голос, ты его не застал, он выхлопотал мальчику место ученика у хорошего мастера-переписчика. Славный у Сото сын, ничуть не алый по крови, тихоня… Но мне видится, Монз ему был бы рад. Ул, тебе слышно? Лия очень устаёт. Она упрямая, упрямее меня и тебя. Спесь с выродков сбивает, чтобы не застили дорогу тем, у кого есть цвет в крови и правда в душе, но нет герба или денег… Она это для тебя, Ул. А ты не возвращаешься и не возвращаешься. И мы не знаем, чем помочь?
Сэн грустно улыбнулся, не открывая глаз и продолжая додумывать, как друг Ул слушает, глядя на луну, поднимает руку и рисует быстрыми штрихами указательного пальца узор, видимый лишь отчасти и лишь алому с особенным зрением: узор вдохновенного, искристого полета души… Следа в воздухе вроде и нет, но след в сознании яркий, он весь — тепло и тихая радость.
По мостовой прошаркали шаги: поодаль, без попытки таиться.
Сэн тряхнул головой, досадуя на помеху мыслям. Пустое — бредет старик. Постукивает палка, поскрипывают неновые башмаки… В воровской слободе и прежде на улицах было, по мнению Сэна, не особенно опасно. Конечно, если не держать на виду плетенку с золотом и не знать великих тайн. Воры у себя дома без причины не шалят. У карманников главная работа в центре, близ рынка. У прочих и того далее, в богатых пригородах и величественных дворцах. Грабители предпочитают лесистые обочины дорог вне стен Эйнэ, и всё больше к западу, особенно после случая с Чиа… Кого только угораздило не узнать в лицо жену третьего канцлера? Да еще предложить ей, мирно отдыхающей у костерка, кус свежей оленины «и ночь веселья в подарок»? И это — при сыне! Дорн, помнится, улаживал историю и выглядел смущенным… В кои-то веки избитые разбойнички взвыли и посмели жаловаться! Тихо, испуганно: мол, за жизнь свою опасаемся. Не виноватые мы, а если Дикая в обиде, так пусть скажет, мы возместим. С перепугу покорчевали пеньки на два дня пешего пути от городских стен, понасажали молодых деревьев. Дорн рассказывал и хмурился — но на самом деле он гордился женой. Никак ведь не ожидал, что смена второго облика вервра повлияет на Чиа так сложно и сильно.
Внешность тихой нобы ночные люди княжества Мийро и соседних земель выучиваются опознавать прежде, чем первый раз сунут руку в чужой карман или возьмутся за кистень. Еще бы! Чиа проверяет места придорожных ночевок и охотничьи домики. Она лично написала «Лесные правила Мийро» лет десять назад, едва получив титул распорядительницы лесов и угодий. Эти «Правила» — единственный закон княжества, исполняемый неукоснительно! Нет свидетельств уничтожения нарушителей… и ни один из таких не вышел из леса. А ещё в княжестве давно не замечалось бешеных лис, медведей-шатунов и обезумевших вепрей. Говорят, князь восхищен усердием распорядительницы. И умалчивают: князь полагает, что дешево отделался, даровав высокий ранг «первой лесничей Мийро». Лия как-то шепнула: слуги дворца знают, что ночами князь иногда вскакивает в холодном поту и бормочет о «дикой бесовке», о том, как страшно жить без разумного и хладнокровного Рэкста, умевшего держать в узде всяческие обстоятельства. Того и гляди, с перепугу князь гласно объявит награду за сведения о пропавшем графе. И смешно, и грустно.
В темном переулке мягко, без шороха песка и скрипа подошв, нарисовалась дорожка следов… Сэн хмыкнул с пониманием. Невидимка спешит привычно, он местный: не подкрадывается, не затевает дурного, просто несёт добычу. Вор, конечно же, и не из последних. На таких крови нет, значит, и спрыгивать с крыши не стоит. К тому же и среди воров есть честные люди. Тот же Шель! Он мирный травник, но двигается гораздо незаметнее. Его в воровской слободе и презирают, и уважают. Бросил фамильное ремесло, имея исключительные способности! Взялся лечить, не наживаясь на недугах… В слободе всякий задолжал травнику хоть одну вылеченную простуду или зашитую рану.
— Ул, я хочу узнать, и давно, — пытаясь удержать лицо друга перед мысленным взором и досадуя на слабость памяти, шепнул Сэн, — ты, кажется, не бросил вызова багряному бесу. А как бы сложилось с Альвиром? Ты умеешь понять, есть ли в нас живое и как задеть самую тонкую струну души. В Альвире — еще есть? Я давно бы должен вызвать его на бой, но Лия против… Хотя знает, мне не важно, могу ли победить! Я алый, во мне правда вроде стержня. Альвир перед миром виновен. А я молчу… и тем себя ломаю, понимаешь?
Снова шаги. Сэн открыл глаза, кивком извиняясь перед Улом и отвлекаясь от беседы с ним, отсутствующим. По кривой широкой улице Озарения, именуемой здешними жителями не иначе как «Сабля атамана», спешат люди. Много, при оружии. Ступают слитно по трое, следуя привычке, крепко вбитой тренировками.
Сэн подобрал ноги, но не встал. Улица освещена, люди не таятся. И всё же… Сэн вслушался. Определенно, воры так не ходят, да и охрана местных «хэшей черной крови» имеет иные привычки.
— Черная кровь, — буркнул Сэн, выпрямился и скользнул по коньку крыши, приняв решение. Сегодня отчего-то сильно раздражало это самоназвание атаманов и главарей, взятое с издевкой над кровью нобской — «голубой». Сэн спрыгнул на пристройку и замер в тени. — Ну дела… чьи дела? И куда это нобов понесло? Ведь именно нобов…
Вопрос требовал изучения. Люди канцлера, первого и тем более третьего, с вечера бы вежливо предупредили Донго-фонарщика о своих планах в воровской слободе. Им ли не знать, кто сидит на одной из крыш? Им ли не знать, что делает он это по просьбе старого Хэйда…
Толковые люди в курсе: Сэн слушает ночь и особенно внимателен после смутных намеков Лии… Да вдобавок Дорн снова умчался к белой лекарке и намерен задержаться в Корфе до середины зимы, если его не изгонят раньше. Прошлый раз так и вышло. У Дорна восьмой ранг в княжестве Мийро, и это начисто лишает его права на поединок чести — тем более на чужой земле и по личным мотивам! Ему никто не позволит протыкать нобов и выпускать из них дурную кровь, как делал это не имеющий ранга и нищий ноб Донго, сопровождая советника Хэйда…
У Дорна теперь состояние, ранг и должность. Его официально выдворили из Корфа за меньшее — не бой, а лишь угрозу, громко высказанную в порту. Поди пойми, пустят ли обратно… разве лекарка замолвит слово.
— Чиа яростно ревнует его к лекарскому делу, но не к лекарке, — шепотом сообщил Сэн другу Улу, пусть и отсутствующему. — Как думаешь, это глупо или мудро?
Слитные шаги затихли. Сэн поморщился, тронул пальцем ножны. Он достаточно давно зажигает и гасит фонари, выучил важные двери по их голосу. Сейчас вздохнула именно такая. Звук мягкой, солидный, с едва заметным пристуком и двойным щелчком при касании о косяк. Так впускает гостей «Ландыш». Миленькое название постоялого двора и столь же слащавая вывеска с белыми цветочками — прямая насмешка над назначением и внешним видом заведения! «Ландыш» — это угрюмая каменная ограда в два роста, с бойницами, но без окон… «Ландыш» держит стареющая Белоручка, она, по слухам, остепенилась, мирно принимает гостей и товар. Иной раз днем и законно, а порой так, затемно. Трактир уже лет пять — «серая земля», место общего перемирья.
Сэн в два шага достиг края пристройки, стёк на мостовую и, сторонясь фонарей, пробежал помойными межзаборьями к совсем уж неприметному домику. Пошуршал пальцами по ветхой ограде — три длинных мазка, два коротких, снова три длинных.
— Светлый хэш спустился с небес к нам, грешным, — прокашлял в недрах лачуги старческий голосок, сливаясь со скрипом дощатой двери. — Чу-де-са, кхе-х.
Сэн нагнулся, кланяясь и одновременно спасая затылок от удара о притолоку. Не разгибаясь, он протиснулся чернильно-темным коридором. Тут всегда есть охрана, но она остается незримой. А вот и нужная комнатка: сам Клоп привычно растопырился в кресле, сделанном на заказ лучшим мастером-краснодеревщиком для него, страдающего суставными болями. Ноба-гостя первый человек в «ночном мире» принимает по-домашнему. Даже не прекратил разбирать сведения о движении дел и денег минувшего дня, а точнее, минувшей ночи, тут ведь работают всё больше после заката. Спина у Клопа сегодня, судя по желтизне лица и плотно зашнурованной собачьей душегрейке, сильно болит, это к дождю.
Кстати, — мельком подумал Сэн, — травник Шель уважает самого осведомленного и рассудительного из главарей слободы. Он точно наведается прежде непогоды, оставит на подоконнике или возле двери мази и указания по лечению. Сам же сгинет, никем не замеченный, и снова будут на него злы и ему же благодарны. Клоп гордый, он не пожалуется на немочь, не явится на поклон к травнику… но помощь примет.
— Темный князь пробудился до полуночи? Кхе-кхе, — Сэн прикинул толщину кипы уже перебранных бумаг. Он передразнил манеру разговора Клопа, без раздражения и внутреннего протеста поклонился старому. Сразу присел на трехногий табурет. — Опять вы послали старого Мому присматривать за мной? Он усердно стучал палкой, сипел и икал. Не пойму, вы остерегаетесь меня или… за меня?
— Мома пьет, кгм, отчего же ему не икать. У него бессонница, отчего ж не бродить, — переворачивая ещё один лист с невнятными посторонним кляксами значков, буркнул Клоп.
— Ваше имя… Склонен полагать, ни одна щель не остается без внимания Клопа, — Сэн принял поданный кем-то невидимым жестяной жбан с пивом. — Пробный бой с вами имел бы для меня ценность. Полагаю, в юности вы свободно уворачивались от алых самой яркой крови. Ваш дар сходен с моим, но… вывихнут. Когда мне было лет пятнадцать, я полагал это недопустимым. Ах, юность. Все просто, день-ночь… Я легко обнажал клинок и не думал о смерти. — Сэн горько усмехнулся. — О чужой смерти.
— Вы самый славный фонарщик из всех, и мы… кхе-гм, рады, что вы несколько повзрослели. Не спрашиваете лишнего, но сразу определили, что ваше, и уж то, — Клоп процедил сквозь пальцы бородёнку, — то ваше, кгм… Пробный бой? Вы льстите мне или себе, светлый Сэн? И кхе-гм… чем вас сдуло с крыши?
— Запахло… весною, да так слитно, — медленно подобрал слова Сэн, в душе ругая себя и за неумение делать намёки, и за очередную попытку, наверняка неуклюжую. «Весна — ландыш», так он пытался сказать, но вышло как-то криво. Увы, Клопа надо спрашивать обиняками, иначе отшутится, много раз проверено. — Я предпочитаю… да, обходиться словами. Даже когда многолюдно на главной улице.
— Посредничество совершенно серое, без всякой сажи, без копоти, — Клоп подергал бровями вверх-вниз, сморгнул и уставился в темноту. — Кхе-гм?
— Ноб просил об услуге, золота дал, — гнусаво проныли из тьмы. — Из дневных ноб. Чистый, ходит по синей половице, с вызолотом. Навроде слежка, навроде личное дело.
Сэн поклонился, с благодарностью принимая исключительную прямоту ответа. Ему сообщили так, что даже он понял: в «Ландыше» случайные гости, не из постоянных заказчиков. Люди эти, по мнению местных, не опасны, а их вопрос мал. Но люди связаны с дворцом, с княжеской его половиной.
Захотелось улыбнуться. Клоп — занятнейшее создание. Он, кажется, слободского фонарщика и правда уважает. Так сложилось с первой ночи в странной для алого ноба должности. Тогда Сэна привели сюда «поговорить с нашенским девятым рангом», и при этом ему не завязали глаза! Позже стало и того интереснее: дали право свободно посещать Клопа. И угощают пивом, как гостя… Сэн отхлебнул из жбана, хотя обычно на службе не пил хмельного. Уважение требует ответа, да и пиво у Клопа лучшее в столице. Говорят, его тайное увлечение — варить с добавками. Еще говорят, у него личные угодья, и не только в Мийро, так что зерно и солод не бывают покупными.
— Что-й-то не красно, — Клоп напоказ зажмурился, потер глаза и затих, ожидая, когда ноб осилит несложный для иных намек. — Кг-м… Кхе-кхе.
Сэн неспешно прихлебывал пиво. «Красно» — может быть сказано о цвете крови и дара, о людях канцлера, о ярмарке и даже о… Нет, два глубокомысленных покашливания, взгляд в потолок и второй, украдкой, вбок-вниз. И рука Клопа напряглась, замерла, выравнивая листы и ногтем отчеркивая знакомый знак. То есть Клоп против привычки просит об одолжении… он что-то узнал и он насторожен. Значит, вопрос о третьем канцлере, и его отъезд уже не тайна в воровской слободе.
— Не надейтесь, он просил жену присмотреть за городом, и сделал это до отбытия, давно, — прямо ответил Сэн. — От себя добавлю, хэш Клоп. Ваши дешево расплатились за отладку часового механизма по прошлому спору, так сказала Чиа третьего дня. Ума не приложу, как ваши умудряются поспорить с ней хоть раз в год? Она приметная. Но ваши будто слепнут! С пожарной башней вляпались, после с паромом, а теперь вот…
— Дикая вне леса? — Клоп глянул на собеседника, вздохнул и сгорбился. — То-то ноет под лопаткой, кгм… ноет. Прямо спрошу: вам за ответ возместить золотом или сведениями? Вы для меня неудобны, светлый хэш. Из-за вас мне иной раз хочется сесть прямо и сказать вслух такое, что… кгм. А еще я молодею, почти готов на пробный бой. Мне, кгм, в радость было бы засадить вам шильце в горло. Кгм… с затылка, само собой.
— Пива бы, — осторожно попросил Сэн. — Темного. Был слух, оно волшебное.
— Дело в воде, — оживился Клоп. — Кгм. Дикая. Мы полагали, она еще… Кгм… рыщет, чую! Как бы к утру снова мы не задолжали. Всё же спрошу, всякий раз интересно… Хэшу чести не поперек чести кланяться мне и со мною, ночным, в пустые загадки играть?
— У вас много лучше, чем во дворце, — улыбнулся Сэн. — Вы бережете меня куда более, чем канцлер или князь, хотя им я нужен и ценен, а вам — ничуть. Даже шило вы мне в шею сунете… короткое. Тоже спрошу, не сочтите блажью: что за герб у дневного ноба, просившего об услуге?
— Кгм… — Клоп постучал пальцами по столешнице, что-то прикидывая. Кивнул.
В круг света от одинокой свечи шуршащим мотыльком влетел лист. Сэн поймал его на ладонь, поклонился. Дождался ответного поклона и расправил бумагу. Рисунок был нанесён подручным Клопа одной лишь черной тушью: простейший герб, такой сразу выдает болотного ноба первого поколения. Недавно он был пахарем или конюхом, а скорее стражем или наемником. И вот — выслужился до признания голубой крови. Сэн плотнее сжал губы. Похожих гербов во всякой городской палате сотни, их рисуют впрок, складывают стопами ждать случая: гербами удобно платить за услуги, сберегая деньги казны, а еще за герб можно получить золото от торгашей, мечтающих назваться нобами…
Пальцы Сэна прощупали герб, словно в нем скрыта подсказка. Всё обычно: косая лента, звездочка на треугольном щите. Мизинец испачкался в свежих чернилах, чуть смазав девиз, который один у всех болотных гербов города. Здесь вот — «Честь и служение». Значит, герб выдан не в столице, а на западе княжества. Город небольшой, название не желает вспоминаться, а должно бы: там едва оправившийся от отравления Сэн хэш Донго вызвал на бой первого из противников, указанных советником Хэйдом. Давно… так давно, что уже не противно вспоминать дело, похожее на хладнокровный забой скота. Отболело.
— Там его кормилица, — шепнули губы Сэна, повторяя слова, мельком услышанные от Лии. Жена разговаривала с Дохлятиной и гладила так же, кончиками пальцев, карту княжества… Сэн неловко повернулся, едва успел поймать жбан с остатками пива, сбитый локтем. Глядя, как по стенкам узором стекает пена, Сэн шепнул: — Он был третий в свите багряного. Я вызвал его и не мог дать ничего, кроме смерти. Таких земле носить тяжко. Служил одному бесу и без колебания переметнулся к иному… У него остался воспитанник. Сломанное, тусклое и страшное существо.
Сэн поставил жбан и позволил себе взглянуть Клопу в глаза. Тот слушал и глядел в лицо собеседника, что бывало очень редко.
— Светлый ноб поделился золотыми словами, — намекая на умение Лии видеть тайное, выговорил Клоп. — Но мы слепы, золото слишком ярко горит для ночи.
— Кормилица выхлопотала герб воспитаннику, — Сэн постучал ногтем по бумаге. — Он в столице. Простите, такие загадки не для алых. Всё, что я понимаю пока: в «Ландыше» не просто ноб. Он дорогой наемник, он там не один и явился не по тому делу, какое заявил!
— Кг-м, — Клоп подвигал бровями. — Мой воспитанник поможет вам выбрать темного пива. Погребок мой на серой земле. Только там несравненное пиво не… усыхает.
— Даже ваше усыхает, — покачал головой Сэн, удивляясь наглости воров.
— Не всем интересен бой, но многие пробуют… кгм, соперничать, — отметил Клоп. — Любой бочонок. Заберите в нынешнюю ночь, позже я сделаюсь жаден.
— О, мой погреб не имеет замка, — рассмеялся Сэн. — Хэш, я знаю в ночной слободе дюжину тех, кто… как бы княжьего ранга. Но пью только с вами. Хэш, я не могу понять себя, но если надумаете забрать бочонок из моего погреба, я и там выпью с вами. Повторю: будь я на десять лет моложе, жалел бы, что жизнь вас так больно вывихнула из алой породы. Сейчас уже нет. А вы не жалеете, что меня не вывихнуло?
— Дурак ты… ярких голубых кровей, кхе-гм, — прищурился Клоп, переходя на шелестящий шепот и на немыслимое для него «ты» в отношении ноба-фонарщика. — Тебя нельзя вывихнуть, большой ребенок. Можно лишь переломить насмерть. Я не жалею, что ты жив. Не жалею и о том, что я… выжил.
Сэн поклонился, встал и скользнул к выходу по тому же коридору, ощущая тесноту и колючесть мрака. Нет сомнений, друг Ул оценил бы место и охотно внес что-то увиденное в узор очередной заглавной буквы. Только вот для какой книги? Пойди угадай.
На улице, криво подпирая забор, дремал недоросль лет пятнадцати, тощий, как скелет, и гибкий, как змеиный язык советника Хэйда… Не глянув на фонарщика и вроде даже не подняв век, воспитанник Клопа юркнул прочь, не оставляя шума и почти не позволяя себя заметить. Сэну приходилось бежать в полную силу, а пацан скользил ровно, мягко — и оставался впереди. У каменной стены «Ландыша» он скорчился кляксой мрака — и проворно втянулся в щель, возникшую без скрипа. Сэн протиснулся следом и сразу ощутил на горле острые ногти, и запретил своей руке провести болевой захват. Просто пошёл, куда потянули… По едва приметной дрожи пальцев воспитанника было понятно: тот гордится, что довелось держать за горло знаменитого алого. А еще пацан боится до потных ладоней. Молча довел до кромешно темной каморки, повозился, высек искру и запалил свечу. Жестом обвел помещение — мол, выбери любой бочонок. Сэн наугад указал малый, в углу. Качнулся шагнуть ближе… и замер.
— Запах зелени, — ужаснулся он, растирая старую рану на боку и ощущая легкое, но пугающее, удушье.
— Зелени? — воспитанник удивился, даже переспросил прямо и значит, очень грубо. Смутился, свернулся на полу, кланяясь и вминая лицо в пыль…
— Зеленью я зову яд беса, — пояснил Сэн. — С тех пор, как я был отравлен и чудом выжил, тут делается больно, если яд рядом. Его яд всегда в воде. Получается что… Чай? Суп? Вода в ведре, из какого пол моют? Не знаю!
Воспитанник Клопа дернулся, с ужасом глянул на Сэна, так и не встав с колен.
— На серой земле… яд? — одними губами, без звука, нарисовал он свой страх. — Рекомендатель, посредник и надзирающий сделки, все будут запятнаны. Надзирающий…
— Пошли и проверим, что за пятно и как удалить, — велел Сэн.
Он удобнее подвинул ножны фамильного клинка и, не мешкая и не сомневаясь, обнажил парный к нему боевой нож. Глаза воспитанника на миг сделались круглы и огромны. Возражения издохли, страхи тоже. «У Клопа люди хороши», — отметил Сэн, хлопнул по костлявому плечу и осмотрелся, пробуя угадать, где дверь или лаз. Пацан взвился в прыжке, дотянулся до потолка и ударил кончиками пальцев по неприметному выступу. Люк начал открываться — круглый, хорошо смазанный. Пацан упруго отскочил от пола и сразу метнулся в люк. Сэн подтянулся и скользнул следом — вверх, в основной подвал трактира.
Он сразу увидел лежащего на боку огромного повара. Глыба, а не человек! Ни жиринки, сплошные мышцы… Наверняка мастер по отбивным, — подумалось вскользь. Сэн тронул жилу на могучей шее. Вздохнул свободнее.
— Сонное, — отметил он вслух.
— Серая земля! — голос воспитанника дрожал от ярости.
— Или это делают по слову беса, или это делают, чтобы так и думали, — решил Сэн. — Имя у тебя есть, скелет?
— Шило.
— Я бы мог догадаться, как он отшутится за мою глупость про поединок… Шило, ты пока в затылки не лезь. Они нобы, они в доспехе и за них спросят. Моя работа.
Сэн миновал погреб, принюхиваясь к копченым окорокам, колбасам в обсыпке специй, кадкам с маринадами… Он не ел с полудня, и именно теперь это некстати припомнилось. Желудок не заурчал — взвыл!
Вот и всход, уже виден свет — яркий, это не свечи, а дорогущий газовый фонарь. Как собирать болотный газ, как хранить и использовать без взрыва, знал лишь багряный бес. И очень немногим он подарил такие вот фонари вместе с рассказом, как их заправлять и поддерживать.
Главный зал.
Здесь Сэн прежде бывал лишь однажды и теперь замер у двери, собираясь с мыслями и представляя помещение: слева высокий стол для подачи блюд из кухни, гостевые столы правее и еще впереди. Дверей три, за спиной и по правой руке.
Прыжок, танцующий разворот, выпад… Без вызова и прочих нобских глупостей Сэн погрузил нож меж ребер, убирая из расчета самого крупного бойца. Сталь фамильного клинка прошла сквозь добротный доспех даже без скрипа. Тело алого, как всегда в такие моменты, исполняло работу само, не мешая сознанию с одного взгляда собирать сведения и впечатления.
Вот нобы-наемники и их жертва. Еще не окончательно поздно, это — главное! Сэн прыгнул, косо оттолкнулся обеими ногами от стойки и, распластавшись в полёте, срезал жилы под коленями юркого метателя ножей, оставленного в коридоре. Тот уже развернулся и прыгнул, но так и не успел сбежать. Не донес сведения заказчику или подельникам. Ладонью по затылку — чтобы не шумел…
Перекатившись, Сэн встал, резким движением очистил нож от капель. Медленно, напоказ, обнял пальцами правой руки оголовье фамильной сабли.
— Я фонарщик, — негромко сообщил он. — Я зажигаю свет и слежу, чтобы, пока он горит, путники выживали, даже в самую темную ночь. Вы знаете это правило воровской слободы?
— Именем князя, — нагло зевнул рослый ноб. Он сидел, развалясь у среднего стола. И даже не покосился на раненных подельников. Лишь двумя пальцами зажал, приподнял и снова уронил гербовую бумагу. — Его светлости решать, кому жить, даже в самую темную ночь. Иди себе, фонарщик.
Сэн недоуменно приподнял бровь. Наемник вёл себя невероятно странно. Как он мог не узнать в лицо алого, и не абы кого, а Сэна хэш Донго? Разве что одним зеленый яд даровал сон, а другим, прежде отведавшим иной состав, начисто стер здравый смысл.
За спиной шевельнулся воспитанник Клопа, пришлось досадливо морщиться и делать очень много дел, мгновение назад ненужных: ловить, не оборачиваясь, два ножа и шило, перехватывать еще два ответно нацеленные в гневливого юнца. Сэн зарычал от спешки, метнулся. Уложил щекой на доски самого проворного ноба-наёмника и одновременно подсек под колени воспитанника Клопа, локтем блокируя его руку с запасным шилом… Подумалось: «Вот неугомонный! Сколько еще оружия у него в запасе?»…
— Не глупи, — Сэн встал, вздернул за шкирку и встряхнул визжащего, лезущего в драку мальчишку. — Приказ: беги, найди Шеля. Ему скажи, что я зову сюда. И более ни полслова.
На душе сделалось мутно, тяжело. Сэн швырнул воспитанника в дверной проем резко, сильно. Он слышал, как легкое тело катится, как горохом сыплются проклятия…
Не отвлекаясь, Сэн проделывал неизбежное и срочное: надежно лишал сознания нобов, кроме одного, сразу избранного для быстрого допроса. Шило как раз затих и очухался, вмазавшись в дальнюю стенку коридора, когда алый завершил мгновенный бой.
— Бегу, — Шило расправил сплющенные легкие… и пропал.
Сэн молча кивнул и поморщился. Он старался не смотреть на связанную и упиханную в громадное кресло хозяйку «Ландыша». Он не хотел думать худшего, не проверив… Крови натекло много, слишком много. На полу, на промокшей юбке, на обязательных в любой день кружевных перчатках. И платье с роскошным кружевным воротом, нелепое на этой туше, вычурное… Корсетные стержни ослабили первый удар, но второй вспорол Белоручке бедро, а третий был прямой проникающий, и эта рана ужасающе глубока. Ребра проломлены, два… Лицо у женщины серое, дряблое.
— Ваш Шель лечит людей, как бы его не вывихнуло мстить, если… — Сэн нащупал яремную вену и чуть свободнее вздохнул. — Может, хоть в этом обойдется?
За спиной взревел оставленный в сознании наемник. Частично очнулся? Наконец-то! Сэн не глядя поставил блок, прокрутился вдоль чужого клинка и далее по руке, вплотную сошелся с противником, не отправленным в глубокий обморок. Сэн заглянул в бешеные, бессознательные глаза. Одно движение кончиков пальцев — и посланный невесть кем и невесть зачем ноб замер, как каменный. Покачнулся, с грохотом рухнул. Заскрипели стулья, дрогнула тяжеленная скамья… Сэн качнулся, придержал затылок ноба, спасая от удара об угол кресла. Поддел чужой клинок носком башмака, подбросил и пнул, вогнав в дальнюю стену до середины лезвия.
Стало тихо. Сэн протер нож рукавом чужой курки, убрал в ножны. Сел, нехотя, двумя пальцами, подтянул к себе бумагу и всмотрелся в росчерк княжьей подписи. Подлинной!
«Податель сего исполняет особое поручение и не может быть задержан и допрошен никем в границах земель Мийро иначе как по моему прямому приказу».
— Кому выдано, когда, зачем? — Сэн сложил лист и убрал в карман. — Страх порождает глупость! Всё тут княжески велико и ложно, и тьма слишком густа… Чиа!
Думать о вервре и звать его — почти одно и то же.
Сэн думал и звал во всю силу души. Снова и снова… пока у дверей не кашлянули, отвлекая.
— Так. Дело плохо, это вы были надзирающим сделки, — Сэн потянулся, ощущая боль под лопаткой и жжение в легких. Снова показалось важным запрокинуть лицо к небу, незримому сквозь потолок и крышу. — Тут зелень и беда, Чиа. Я совершенно не понимаю, что хотели узнать у Белоручки, но это срочно! Тут дурным делом прикрыли еще худшее.
— Именно худшее, — прошелестел Клоп, шагая от стола к столу и подозрительно принюхиваясь к пивным кружкам. — Зелень… кхе-гм? Не чую! Не вижу, не имею даже слуха о таком яде… И всё же он станет причиной войны дня и ночи в столице. Меня подставили, унизили и запятнали. Ведь скажут: в моем пиве яд.
— Мы не сделаем это поводом к поединку, — грустно попросил Сэн, кланяясь ночному князю… или ночному же канцлеру, пойди их разбери, темных! — Погодите греть кровь, хэш. Я дневному князю не слуга и не друг, но я понимаю, что его подставили не менее унизительно, чем вас. А воевать с бесом не советую. Отравит. Ему вы не выгодны. Он охотно поставит на ваше место сажевую грязь, исключительно вонючую. Как фонарщик, я против.
— У вас имеется противоядие? — деловито уточнил Клоп. — Во что оцените?
— Противоядие… Хотелось бы! С графом Рэкстом торгуйтесь, буду благодарен, если вы найдете его, — отмахнулся Сэн. — Очень прошу, присядьте. Сперва мы поймем, что происходит, а после вы решите, кого назначить виноватым. Сядьте уже! — Сэн повысил голос и поморщился. — Алый тут только я. За мной право на детский гнев и скороспелые глупости. Вы не забыли?
В дверях беззвучно возник Шель. Мигом всё увидел и сделался бледен, сразу оказался возле Белоручки, дрожащими пальцами тронул её запястье.
— Мама?
— Хэш Клоп, окажите любезность, — сразу же попросил Сэн. — Карету или повозку. Шель травник, а тут требуется большее. Матушка Ула, надеюсь, справится. Но надо поспешить.
— Что у неё спрашивали? — ночной князь шевельнул пальцами, отдавая распоряжение. — Она способна сказать хотя бы пару слов?
Сэн прошёл в коридор, поддел за шиворот тихо воющего наемника с перерезанными жилами на ногах. Втащил в зал, бросил в кресло. Некоторое время молчал, ожидая, пока тот утихнет, осознав происходящее. Глаза у ноба-гонца были куда менее бешеными, чем у прочих. Это обнадеживало: вероятно, его намеренно не стали опаивать, чтобы осознанно мог сбежать и доложить…
— Я скоро уйду. Вы слышите, недостойный моего внимания хэш? Я предлагаю вот что: ответьте на вопросы. Слово чести, тогда утром вы проснетесь в безопасной и сытной неволе подвалов дворца. Иначе вам предстоит узнать, как долго жадность сопротивляется боли. Вы ведь понимаете, что наниматель вас всех обманул?
Наемник некоторое время молчал. Затем кивнул, кусая губы и настороженно, искоса, поглядывая на Клопа.
— Нам сказали… дело личное. Старуха убила ребенка, давно. Надо спросить, кто заказал. Именем князя. Всё. — Наемник икнул, когда Клоп выудил из воздуха большой рыболовный крюк и щелчком пальцев заставил зазвенеть. В столице многие слышали, что личных врагов ночного князя обнаруживают завернутыми в их же кожу, но наизнанку, и обязательно вот с таким крюком в языке. — Не знаю, чей приказ! Узнав имя, я должен был бежать в веселый дом тетушки Лимми, там бы меня ждали. Это всё!
Наемник уставился куда-то над головой Сэна, завизжал, дернулся и сник. Даже Клоп дрогнул: с потолка вдруг упал, как отцепившийся паук, тощий пацан. Мгновение назад его точно не было в комнате!
— Мама слышала, — сообщил прибывший и метнулся к Шелю. Тронул щеку Белоручки, нагнулся и бережно прикусил её запястье. Слизнул каплю крови. — Яд не смертельный. Боль я убрал. Кровь унял, как мог. Она будет жить. Дядька Шель, правда. Правда!
В коридоре прошуршали шаги, в зал протиснулись люди с носилками, Шель кивнул им, как знакомым. Разогнулся и стал вытирать окровавленные руки полотенцем, поданным кем-то. Лицо травника казалось задумчивым. Он едва слышно шептал указания и сам помогал перемещать тело матери на носилки. Удалился, не прощаясь и вряд ли это осознавая. Даже забыл короб с травами! Дар подхватил и метнулся в коридор, но сразу вернулся и замер под лампой, косясь на толстые потолочные цепи и вздыхая.
— Дар, что по зелени? Есть подозрение, что яд в пиве. Можешь указать хоть какие-то подробности? — слабо понадеялся Сэн. — Я звал твою маму, у неё опыт и…
— Не начинай, я не маленький, — взвился под потолок сын третьего канцлера, щетинясь и вмиг делясь похожим на зверька, даже клыки блеснули… — Зелень.
Он упал на четвереньки на стол, склонился, принюхался к кружкам, к объедкам в тарелках. Ящерицей скользнул под стол, метнулся, едва заметный даже взгляду Сэна, вдоль стены, юркнул в кухонное окно. Снова возник под потолком, качнулся на цепи, удерживающей главный газовый светильник. Упал на стол перед Сэном и поставил прямо ему под руку большую склянку. В золотистой жидкости плавно взметнулись и запорхали соцветия, шарики перца, травинки.
— Не пиво. Масло с перцем и пряностями. Дорогое, южное. От него зелень во всей еде. Я не маленький! Я справился. Сэн, я молодец?
— Он не маленький, — морщась и пряча улыбку, Сэн повернулся к Клопу. — Масло наверняка доставлено вчера, и повар был рад такой редкости. В «Ландыше», полагаю, все обожают остренькое?
— Кхе-гм, занятное совпадение… Именно вчера мои люди закатили в погреб свежесваренное пиво. Первой его пробует хозяйка, и неизменно с одной и той же закуской. — Клоп указал на бочонок в углу. — Морская селедка. Никому бы Белоручка не выдала и хвоста, покуда б сама не наелась. Никому бы не дала отхлебнуть пива, покуда мы с ней не обсудим вкус и заодно, кгм… другое. Кто-то вызнал о наших привычках. Понял разделение пищи. Из-за этого все здесь, кроме хозяйки, уснули… И проспят до полудня. Тогда, по замыслу кгм… заказчика выяснится, что Белоручка мертва… Пиво на всяком столе. Кхе-гм. А нобов в слободу допустили мои люди.
— И рядом с хозяйкой может лежать вот такой лист, — Сэн добыл из кармана указ князя, показал и спрятал. — Сам сожгу. Но хэш Клоп, что всё это значит? Для алого собрать кусочки и понять целое слишком трудно. Я могу лишь рассказать жене и ждать её пояснений.
— Вы исключительный фонарщик, — Клоп шевельнул рукой, и два громадных человека возникли в дверях, странным образом там помещаясь и не ломая стен. — Вы двое, доставьте хромого ноба ко дворцу и сдайте дневным, по золотой половице. Прочих ко мне. И… кгм, два бочонка откатите фонарщику. И…
— И городские часы бьют со скрипом, — громко шепнул Дар, снова качаясь на потолочном фонаре. — Мама сказала, еще день ей не до того. О! Мама обо мне думает… велела передать дословно, — Дар страдальчески сморщился, — чтоб меня за ухо оттащить домой. Дядька Клоп, а можно не за ухо? Я вам за это расскажу, где унюхал самый-самый хмель. Лучше вашего.
— Кгм, что у него за порода, если вниз головой к гладкому потолку липнет? — ни к кому не обращаясь, задумался Клоп. Остро глянул в коридор. — Проводите его к Дикой. По крышам. Вежливо.
— Я летаю во сне, — завел неизбежную историю Дар, даже глаза закрыл. — И ночь, и горы, и ущелье такое — ух! Черные скалы, кровавые скалы, белый гнилой мох, солнца там нет и в полдень! Колодец, а не долина. Я падаю камнем, но крылья мои сильны, я счастлив. Что это за место? А я бы маме сказал еще день о часах не думать. Я бы занял её…
— Кгм. По дороге загляните к Туке рудознатцу, — провожатые и Дар замерли, нагнанные кашлем Клопа в коридоре. — Скалы, мох и прочее. Описание подробное, пусть повторит Туке. Будет ему вперед оплата за хмель.
Дара увели, в зал скользнули новые люди, забрали бессознательные тела наемников и удалились. Клоп прошаркал к бочонку с селедкой, закатал рукав, пошарил под крышкой, принюхиваясь и щурясь. Как в его хваткой руке уместилось аж пять хвостов и как ни один не выскользнул, Сэн даже не стал угадывать. Вместо этого сбегал, перегнулся через кухонный высокий стол, дотянулся до стопы и взял две большие тарелки. За спиной уже звякали кружки, сопел и кашлял Клоп. Когда Сэн вернулся к столу, селедка была разделана, а пиво налито в край, так что пена шапками покрывала кружки и клонилась спьяну, готовая залить столешницу. Ломтики жирных розоватых спинок и длинные ленты икры Клоп сам сложил в тарелки. Сэн сглотнул слюну, кивнул, благодаря за угощение.
— Что ты за ноб такой, если всегда голоден? — усмехнулся Клоп. — Ешь скорее, не кивай. Сейчас из веселого дома явятся. С уловом.
Сэн сгреб несколько кусков, проглотил, выхлебал полкружки, снова набил рот и стал жевать, мыча и торопясь. В недрах трактира шуршали невнятные шаги, шелестели шепотки. Люди Клопа прибирались, уносили сонных поваров и охранников, мыли полы, сгребали мусор, гасили печи на кухне. Иногда тени мелькали, звенело стекло — тонко, едва уловимо. Шуршала сталь — поварские ножи занимали свои места. Сэн смущенно глянул на саблю наемника, загнанную до середины лезвия в бревенчатую стену.
— Не трогай, Белоручка в силу войдет, оценит подарочек, — хмыкнул Клоп, щурясь и нюхая пиво, и слизывая пену с бока кружки. — Сам хэш фонарщик украсил её заведение. Ну, кхе, как тебе темное?
— Волшебное, — улыбнулся Сэн. — Зачем вам ночные дела, при таком-то пиве? Поставляли бы хоть вон во дворец.
— Я поставлял графу Рэксту, по его наводке и научился варить. Обсуждали мы сорта и добавки. Кгм… ему я поставлял, а не его своре, — остро глянул Клоп и сразу прикрыл веки. — Дворец никак не интересен. Шавки.
Вдали возник шум. По коридору застучали шаги. Так громко рычат и спотыкаются только дневные жители города, — сразу заподозрил Сэн. Насторожился: люди Клопа могли и переусердствовать, заподозрив вину за посетителем веселого дома. С ночным князем можно пить пиво и мило беседовать, но это не меняет ни его роли в городе, ни его жутковатых привычек. И значит…
Первым в зал ввалился бывший Голос, а ныне хэш Гэл. Не ноб, не травник, не лекарь, но человек в городе известный. От дневных бед его оберегали Дорн, Сэн и даже Лия, от ночных — друг Шель и иногда Чиа. Под таким надзором можно позволить себе исключительную беззаботность. К тому же после вмешательства неизвестного костоправа спина Гэла выправилась, но это стоило ему двух лет мучительно болезненного восстановления. Сложно в таких обстоятельствах винить человека за привычку к крепкому вину.
— О! Какие люди, — Гэл добрел до ближнего кресла, волоча по полу за ремень маленький барабанчик. Рухнул, прикрыл глаза, подтянул барабанчик и стал ритмично постукивать пальцами по исцарапанной коже, покрытой пятнами чернил и грязи. — Сонет. Луна разбитая в бокале, сочится кровью бед грядущих… Сознанья сумерки увяли… Тьфу, как же болит голова! Я путаюсь и я забыл. Эй, подайте бумагу. Пиво, бумагу и хоть какие чернила.
— Там были только эти двое, — пинок вышвырнул из коридора второго посетителя веселого дома, так что ноб бегом присоединился к обществу, обняв стол и уткнувшись в него лицом. — Прощения просим, ваша темность… Гэл полез в драку. Ну, мы его к вам. Бережно.
— Темность, — невесть с чего огорчился Сэн. — Я думал, вы всё же канцлер. Ну, по алой с золотом половине.
— Наша половина целиком черная, кгм, — нахмурился Клоп. — Верно ли я понимаю, что сей ноб кровно родственен князю? И знаком вам, светлый Сэн.
Ноб, пойманный в веселом доме, как раз отдышался и поднял голову от стола. Сэн хмыкнул и не пожелал верить себе: как не узнать секретаря жены, бессменного и отвратительного в своем постоянстве — пить, гулять и позорить нобскую честь? Он такой один в городе — с грязной копной светлых волос, с нелепой привычкой икать, успешно притворяясь пьяным и всё же двигаясь в нужном направлении, уж бойцу-то такое видно. Ну и перстень всё тот же на левом мизинце. И запах пряных духов, используемых в немыслимом и вызывающем тошноту количестве…
— Хэш Клоп, если он объявлен заказчиком, то я получаюсь косвенно ваш враг, через Лию. Он секретарь моей жены, — неприятно удивился Сэн. — Будем честны, он на поверку оказывается пьян реже, чем я. И лучше бы ему сесть и трезво всё рассказать!
Последние слова Сэн прорычал, не скрывая мгновенного бешенства. Даже кончики волос полыхнули белизной. Так что Клоп откинулся в кресле, щурясь и с какой-то тайной грустью моргая… Треклятый секретарь еще немного полежал на столе, искоса, украдкой осмотрел залу. Затем выпрямился, откинул за спину длинные волосы и сел в кресло к общему столу.
— Крови много, — сухо отметил он. — Кто-то умер?
— Пока даже ты жив, — вздохнул Сэн. — Только не ври о женщинах и долгах. Лия меня поставила в известность, ты унаследовал…
— Не надо вслух, — белокурый двумя пальцами поддел драное кружево манжета и сокрушенно покачал головой. — Я так понимаю, что обязан Гэлу жизнью, его узнали и только из-за этого нас обоих не порвали в лоскутики сразу. Причина?
— Ты приказал под пыткой вызнать у Белоручки о каком-то мертвом младенце, — Сэн постарался связно изложить догадки. — Говори быстро и прямо, я зол и вот-вот встану, поддену Гэла на плечо и уйду. Бес тебя порви, я обязан ревновать тебя к жене! Вот и попробую.
— Где Лионэла? — вздрогнул секретарь.
— Дома, скорее всего. Она не собиралась задерживаться на балу.
— А Ди… то есть ноба Чиа?
— Спроси что попроще. В городе. Я пошел. Хэш Клоп, благодарю за ужин и пиво.
— Стой, я просто переживаю за них, — скороговоркой выпалил секретарь. Скривился и растер лицо. — И думаю, хотя мне не хватает сведений. Да, я всегда искал одного человека. Не скрою, я половину ночей прикидываюсь пьяным, чтобы спрашивать и слушать ответы, и постепенно…
— Короче.
— Моя названая мать, которая и оставила мне состояние. Нельзя сказать короче! — белокурый отчаянно ударил кулаком по столу. — Такое не говорят вслух!
— Здесь нет ушей, кроме наших, — прошелестел Клоп.
— Ладно. Если по крови и без обмана… я не родня князю. Она узаконила меня в семье, тоскуя по погибшему сыну. Она вырастила меня. Она была для меня всё, — секретарь сморгнул слезу, глянул на Клопа и быстро убрал из голоса надрыв. — Не так трагично, но всё сказанное правда. Я поклялся разобраться в той ночной трагедии. Но убивать кого-то, пытать? Хэш Донго, вы знаете меня много лет. Разве я…
— Да, и еще как.
Сэн встал, отобрал у Гэла барабанчик и сунул секретарю. Примерился, как удобнее нести пьяного стихоплета. Поддел под руку, начал приподнимать…
— Я попросил помощи у сомнительного человека, — спокойно сообщил секретарь. — Он сам вышел на меня и сам дал понять, что осведомлен и наделен влиянием. Он на побегушках при старом слуге канцлера. Имя — Ата, он старший из братьев Томаири. Я просил узнать о той ночи. Никаких пыток я не заказывал и тем более никого не отсылал сюда. Я просил проверить княжеский фамильный архив, а такое может провернуть его любовница и более никто. Это правда.
В коридоре громко, как-то сложно и длинно вздохнули. Сэн подавился смешком и сел обратно в кресло. Глянул на полуприкрытую дверь, ожидая кого угодно, да хоть самого князя! Но жена в бальном платье… Её появление вызвало икоту даже у Клопа.
— Приятного утра. Со всем уважением, — Лия исполнила полупоклон для Клопа. — Если позволите, я желала бы забрать фонарщика. Утомительна и безрадостна жизнь семьи, где муж ночами прыгает по крышам, а жена скучает на балах. При его репутации и гневливом нраве… даже интрига с секретарем остается мечтой, — Лия с долей раздражения глянула на белокурого. Отстегнула веер и указала им в сторону Гэла. — Ему все потакают. Надо успеть женить ребенка, покуда не спился. Мы с матушкой Улой уже обсудили, как всё устроить. Хэш Клоп, я не ошибаюсь? Я читала о вас много лестного в заметках багряного беса. Он особо отмечал пиво. Темное. Примите восхищение, в его записях редко встречаются похвалы людям, тем боле личные и прямые.
Лия снова грациозно исполнила полупоклон, жестом устранила секретаря из кресла и заняла место. Она расправила платье и улыбнулась. Из-за спины Сэна кто-то подал кружку с пивом. Глаза секретаря округлились от такой воистину ночной бестактности, но Лия уже подвинула к себе кружку.
— Вы отвратительны. — Лия сердито стукнула веером по плечу секретаря. — Увязнуть в такой грязи! Вы не ребенок и не алый боец. Вы просто обязаны понимать, когда позволительно копить кривые слухи, а когда пора избрать прямой путь. Следовало спросить у матери Шеля тихо, то есть через самого Шеля, которого мог бы спросить Гэл. С этим вы не справились, не осилили упрямство вашего друга травника и не поняли его причин. Но вы посмели создать слухи, так беспечно… Вполне предсказуемо и дальнейшее: вами воспользовались.
— Я испробовал всё. Когда я отчаялся узнать ответ косвенными способами, я спрашивал прямо, — смущенно выдавил секретарь.
— Что вам ответили?
— Белоручка меня… — белокурый сглотнул. — Послала к бесу.
— Которому? — Лия отхлебнула пива и прижмурилась. — Рэксту, конечно же? Так она вряд ли желала разозлить вас. Это был прямой ответ на прямой вопрос. Найдите беса, а проще никак не высветлить сей темной тайны.
Лия отхлебнула еще глоток, улыбнулась и шепнула: «Волшебно». Встала, глядя на Клопа, и глубоко поклонилась.
— Я официально приношу извинения как ноба восьмого ранга, и я прослежу, чтобы третий канцлер сделал то же самое, вернувшись. Ночное происшествие в этом доме — наш недосмотр. Будет доподлинно установлено, кто именно пытался внести мотив личной мести в тонкие отношения дня и ночи города Эйнэ. Я готова принять на себя исполнение условия, выбранного вами в оплату возникшего долга. Нарушение мира таким образом, смею надеяться, будет постепенно исчерпано. Но я с болью признаю, что мы лишь отсрочили катастрофу, природу которой я не в силах осознать и предсказать. Новый бес не будет беречь мир и законы людей, как делал багряный Рэкст. Увы, я не в силах понять, способны ли люди противостоять ему. Но, если случится так, что вы сможете встретить Рэкста, прошу, пригласите его в город. Это звучит странно, но нам очень нужна его помощь. На сей раз говорю не как ноба какого-то ранга, а как человек с золотом и белизной в крови.
Клоп выслушал, задумчиво покашлял. Сэн знал старого достаточно хорошо, чтобы понять: тот польщен официальными извинениями.
— Оплата, кгм… Ремонт часов на главной башне более не наш долг. Ноба Чиа примет от вас такое условие?
— Безусловно. Но, поверьте мне, это очень скромное одолжение.
— Ваш муж имел неосторожность просить о запасе пива. Если случится, что я проверю свой бочонок в вашем погребе, он согласился угостить меня и выпить со мною. Если, кгм… такое случится, вы готовы показать те записи Рэкста? — Глаза Клопа раскрылись и ярко блеснули азартом. — Я желаю получить точную копию. Он хвалил мое пиво? Вы не преувеличили? Я мечтал бы получить тот лист, подлинник с его словами.
Лия торжественно кивнула, щелкнула веером и убрала его в крепление на поясе. Секретарь всполошился, вскочил и уцепился за шлейф платья, найдя повод не задерживаться в смертельно опасном зале, да еще будучи виновным и признав вину. Сэн взвалил на плечо пьяного Гэла и первым покинул зал, на ходу прикидывая, чем подкупить ловкача Дара, чтобы тот по запаху нашел продавца морской селедки?
Кони парадной четверки с гербами рода Донго звонко цокали по кривому лезвию Сабли атамана, втиснутой в ножны угрюмых домов. В ночи, посреди воровской слободы, белая карета казалась миражом, из всех подворотен, из всех углов, на неё глазели — и шепотом передавали достоверный слух: к Клопу приехали с поклоном аж из дворца!
— Никогда не пила такое пиво, — тихо выговорила Лия, устроившись в карете. Её пальцы чуть дрожали. Сэн обнял жену и крепко прижал, баюкая, как ребенка. За оконцем мелькали фонари, всё гуще и ярче. Карета приближалась к Часовой площади, той самой, где в звонких сердцах колоколов бьется столичное время. — Так страшно, Сэн! Куда тебя ни отошли, норовят убить. Так страшно…
— А ехать без сопровождения к Клопу не страшно? — рассмеялся алый.
— Для меня не было и малейшей угрозы, — повела бровью Лия. — В отличие от тебя, я умею просчитывать обстоятельства и строить отношения. А если и был риск, меня ждал ты. Сэн, я ужас как боюсь за тебя! Но, если ты однажды отвернешься от боя, я тебя… брошу. О бесы старые и новые, ну что я за жена? Хуже некуда… Ты голодный? Опять голодный.
— Пьяный и голодный, — Сэн поманил пальцем притихшего секретаря, стукнул в стенку кареты и дождался остановки. Выпихнул белокурого, нагрузил ему на плечо Гэла. — Убирайтесь, паразиты. Могу я один день провести с женой? Без вас, без князей и воров, без интриг и сплетен.
Сэн резко хлопнул дверцей и снова обнял жену.
— Домой. У нас нет селедки?
— Нет.
— Зато уже наверняка доставили пиво. Сына отправим к Чиа, слугу за селедкой, секретаря к бесу… И будем отдыхать.
Лия уткнулась носом в мужнее плечо и хихикнула. Стало тепло, радостно… и страшно. Алый может вызвать на бой кого угодно и стоять за свою правду до конца. Но сказанное женой в «Ландыше» не разрушить, не отрезать от яви самым острым фамильным клинком.
Однажды бес Альвир добьется своего. Нечеловеческого… И даже пропавший бес Рэкст, пожалуй, не знает, как тогда спасти самое дорогое.
Глава 9
В которой рассказывается о события осени 3223
Пусть беса. Никаких «всегда» и «никогда»
Небо хмурилось и угрожало устроить затяжную женскую истерику с шумом, слезами и разделом имущества — вон, ветер уже во всю рвёт ранее золото из густой, еще летней, листвы. Кругом чистое поле, хочешь мокни на ходу, хочешь — сиди и покорно жди небесного примирения… Вервр Ан, бывший Рэкст, с лёгкой досадой подумал о пользе крыш и стен. Сегодня он не желал вымокнуть. Глупая мысль засела в голове и мешала жить беззаботно: в сухую шуршащую осень легче расслышать Шэда… Вдруг он дотянется и пожелает шепнуть слово привета? Вдруг хотя бы одним звуком или взглядом намекнёт: «Готов однажды выслушать тебя, мой бывший вервр. Нет, имя не подскажу… Ты сам обязан вернуться на наш общий путь, на меньшее я не согласен. Да и ты — тоже».
Вервр усмехнулся и кивнул. Он бы не позволил Шэду подсказать из жалости. Вернуть себе имя — значит, не просто вспомнить и выговорить набор звуков, но осознать и принять себя таким, каков ты есть. Снова встать перед Шэдом, снова быть для него лишь незнакомцем, предлагающим общность. Как мог бы предложить её любой наравне с тобой. Или уже предлагает… А тут — дождь. Листва замокнет и не станет шелестеть, волнуя душу.
Вервр вслушался в сопящую и спотыкающуюся рядом Ану. И временно забыл про Шэда. Тут под боком готова свежая ссора, похуже грозы! Ана думает о Баре. Ана знает, насколько он старше и как часто бывает в порту, и как его там встречают… все! Она знает, чем живёт порт. Хотя разве важно перечисленное? Ана, того и гляди, начнёт верить, что любую её беду уничтожит без следа папа Ан., едва заметив признаки огорчения И что беда, не устранённая в срок — его же коварство и вина… Вервр встряхнулся и оборвал поток мыслей. Шумно принюхался.
— Влагой тянет, — начал он издалека.
— Еще бы, осень зреет… а мы всегда гостили в Корфе весной или летом, — буркнула Ана.
— Крайне опасное слово — всегда. Тем более для существ вроде нас, — влил вервр каплю яда.
— Пап, прекрати. Ты никогда не запрещал мне без причины. Сейчас ты дуешься, как квакающая лягушка. Бр-рр.
Ана на ходу, одним ловким движением, поддела ногой и подбросила палку. В полете метко пнула. Удар деревяшки пришёлся бы в голову вервра, не вздумай он своевременно нагнуться и подобрать камешек.
— Никогда, — промурлыкал Ан, слушая, как палка влепилась в дубовый ствол и разлетелась в мелкую щепу. — Очень опасное слово. Следует взрослеть и учиться мягкости. Женщинам особенно идёт мягкость. Больше, чем ядовитым тварям вроде меня.
— Женщинам? Мягкость? Знаешь что, а я мягко развернусь и бегом в Корф! А я не боюсь. А ты — боишься! И нечего тут врать, ты просто меняешь тему, а сам боишься! Всегда! С того дня! А раньше никогда не боялся! А ты зато врал мне всегда, если…
— Это же бунт, — оживился вервр, шагнул в сторону, нащупал в канаве у обочины палку и подбросил, показывая Ане. — Кривая, тут трещина, здесь листва, она будет влиять на траекторию полёта и задаст сложное вращение… Попадёшь в то дерево? Далеко.
— Не меняй тему!
— Попадёшь — поговорим.
Ана вдохнула, сжала зубы и процедила выдох. Вообще-то она была обязана попасть, вервр не сомневался. Удар поставлен, опыт есть. Но сейчас полезно сбросить накопленную беседой злость и подправить разговор.
Палка хряпнула при соприкосновении со стопой Аны, разделилась надвое в полете… Массивный цельный обломок впечатался в ствол указанного дерева, а чуть погодя к корням шмякнулся, суматошно кувыркаясь, второй, с листьями.
— Ну? И когда это я не попадала? — гордо подбоченилась Ана.
— Жила-была добрая девочка, она дарила папе цветные бусы и вязала бантики, — тяжело вздохнул вервр и понурил голову. — А после выросла и научилась бросать палки, целя в голову. Я научил, сам… Мне и больно.
— Ты бы так и так увернулся! Ты не мути мне голову, вот привычка… мутить. Всегда! Эй, я не забыла, мы говорим о Корфе, а вернее, о Номе.
— Ты хотела бежать в Корф, и конечно не к Номе, а кое к кому другому. Сколько ему теперь? Восемнадцать, и не вчера стукнуло… Очень взрослый мужчина, тем более при его горячей крови. А сколько тебе, — вервр изогнул бровь, делая вид, что медленно считает, и принюхиваясь к кипящей злости Аны. — Почти пятнадцать… Слишком мало для серьёзных отношений, слишком много для детской дружбы. Я не хочу, чтобы вы испортили то, что еще не наладилось. Мы не идём в Корф.
Вервр нащупал камень, поддел и проследил, как от злости Аны страдает очередное ни в чем не повинное дерево. Камень был с острой кромкой, он застрял, расколов кору и войдя в древесину глубоко, даже создал щель будущего дупла… человек бы точно не смог так ударить, разве что алый ноб, и то при особенном настроении. Вервр улыбнулся.
— Да, сильно, точно и… немягко. Кстати, я был честен.
— Мы с Барой ничего не испортим, это ты портишь всё, — прорычала Ана. У вервра даже в висках заломило от её бешенства, изливаемого вовне. — Всё! Всегда! Обещал меня не воспитывать? Ведь обещал? А я не обещала! Никогда! Никому! И я хочу тебя воспитывать, хочу и буду! А ну иди в Корф и… и… И живо подари Номе цветы! Я спать не могу, я чую, как она плачет. Да разберитесь вы уже! Ладно, я не пойду, даже не передам Баре привет. Ладно. Я такая, очень даже мягкая, папа! Я такая мягкая… совсем всмятку!
— И упрямая, вкрутую, — улыбнулся вервр. — Договорились. Я разворачиваюсь и иду в Корф. Но ты продолжаешь шагать вперёд по этой дороге, пока она не приведёт тебя в столицу княжества Мийро. Как хочешь, так и зимуй. С кем хочешь, общайся. Никаких запретов. Если вдруг столица до весны устоит на месте и люди её не спасутся от тебя бегством… — вервр свёл брови, демонстрируя сомнение, — я выслушаю то, что мне уже год пытается сказать Бара.
— Ух ты, — поразилась Ана, даже споткнулась. — Да ладно! Я думала, ты сильнее злишься на эти мои «всегда» и «никогда». Пап, почему с тобой трудно поругаться?
— Я мудрый, — прошептал польщённый вервр. — И мне повезло с обузой… ты ведь хотела погулять одна? Глупый ребёнок, иди и гуляй. Буду еще раз честен: мне страшно за тебя. Всегда страшно. Хотя я знаю, что никогда и никого нельзя спасти силой… от него самого и его драгоценных ошибок. Иди. В столице княжества Мийро, городе Эйнэ, живёт названная мать моего врага Клога. Там же обосновался твой кровный брат Тан. И еще много людей, которых мы встречали, они знают меня или знали беса Рэкста. Но я ничего о них не расскажу. Влезай и вляпывайся, во что угодно.
— Прямо вот уйдёшь, взаправду и далеко? — насторожилась Ана.
— Да. Позже станет… поздно отпускать тебя.
Вервр сел и выбросил из заплечного мешка вещи Аны. Нащупал кошель и рывком содрал с пояса. Вскинул почти пустой мешок — и зашагал прочь. Не оглядываясь. Не спотыкаясь. Он слепой, но не нуждается в глазах, чтобы знать, как Ана смотрит вслед — бледная, удивлённая. Даже, пожалуй, растерянная. Разговор — полагает Ана — начала она, но разве к такому итогу желала продвинуть его?
— Мягкость? Хоть бы раз не вывернул наизнанку мои же слова и мысли, — намеренно громко сказала Ана. Привстала на цыпочки и закричала, прикладывая ладони рупором ко рту: — Эй, сам-то… помягче! Если что, зови! И перезимуй, не разнеся Корф в щепу! Тоже мне, отпустил. Тоже мне… страшно ему. А мне — нет? А мне не страшно его одного… Вот же наговорил! Вот же… уф…
Ана, по сопению понятно, именно теперь окончательно надулась на вервра, себя и мир, а заодно на Ному — зачем плакала та и стала причиной ссоры? Вервр рассмеялся, поправил мешок и побежал. Зимовать в Корфе он не собирался. Но посетить город и поговорить о том, что прежде было в умолчании — просто обязан. Советы атлов, даже очень юных, важно выслушать и принять в душу. Так было прежде. Возможно, правило не изменилось?
Дорога на юг ложилась гладко. Слишком гладко. Без Аны шагалось легко, и всякий шаг оставался… пуст. Но вервр запрещал себе думать, насколько он привык и привязался. Насколько размяк. Ему ли не знать, вечность — ледяная пещера. Пустая, гулкая, и сколько по ней ни бреди, свет вдали не забрезжит. А привидится если, лишь для обмана и новой боли…
Корф издали встретил яркими запахами большого осеннего торга. Портовый город гулял широко, даже яростно. Когда вервр миновал ворота, он заметил безродного писаря. Ничтожный человечишка облокотился на княжьего личного посланника, на увешанного золотыми побрякушками ноба! Богач был до такой степени пьян, что нищеброда-писаря не заметил и не пришиб…
В городе чудили по полной. Моряков штормило от стены к стене, местные тоже натыкались на рифы телег и скалы домов. Синяков не считали. Стража икала, путая статуи с начальством и — что куда опаснее — наоборот!
От людей и повозок рябило сознание, собирать картину по слуху делалось трудно: слишком шумно! Кажется, весь город валил навстречу вервру и норовил вынести его назад, за ворота. Но вервр брёл и грёб, преодолевая встречное течение. По крикам и перебранкам он уже понял: все, кто еще мог осмысленно перемещаться, спешат на конный праздник, о котором внезапно сообщили поутру — мол, такова милость градоправителя… Князь поддержал всеобщее безделье и выкатил бочки с вином из личных погребов. Не удивительно, что перегар заполнял улицы под крыши, и сдобрен он дымком: само собой, в неразберихе что-то где-то горит или тлеет. Наверняка злые пожарные уже наводят порядок, наминают бока виновным и неповинным — те и другие просто обязаны ответить за возмутительную трезвость борцов с огнём.
— Корф, — промурлыкал вервр. — Не скучно.
От сказанного спину проколола игла боли. «Скучно» — слово беса Рэкста. Так часто оно повторялось, что теперь клинком торчит в незаживающей памяти о себе прежнем…
Толпа поредела, лишь когда вервр выбрал путь по тесным улочкам-лабиринтам срединного старого города. Ни окон, ни прямых углов, ни внятного направления… здесь сплошь — тупики, гнилые болотца помоев и нечистот, слежавшиеся пласты прелой листы невесть с какого года, холмы рыбной чешуи. Весь квартальчик — изнанка благополучия, сокрытая за золочёными фасадами лучших трактиров и богатейших домов знати. Кишечник города, где, как черви, ползают трубочисты, мусорщики, золотари, воры… По щелям и подвалам таятся нищие, бездомные и прочее отребье. Кроме них «кишечник» переваривает и семьи беднейших служек трактиров, тех, кто чистит рыбу за порцию разбавленного варева и выгребает мусор за кусок хлеба.
Минуя шуршащие лазы и тёмные подворотни, населённые невидимками, привычно прячущимися даже от слепых, вервр сунул руку в недавно раздобытый кошель, выудил со дна горсть меди и стал её крошить по малой монетке, как рыбную приманку… Косопузая детвора нищего квартала имеет хватку от рождения — вон, выполз особо даровитый, не старше года: цапнул медяк и умотал в нору, шустро виляя задом. Ходить еще не умеет, а выживать уже обучен.
С высокой крыши соскользнул, цепляясь за мелкие шероховатости камня, более взрослый и сильный обитатель теневого мира. Лет пятнадцать, — прикинул вервр и остановился, кивнув прибывшему. Тот сжался пружиной, кланяясь и одновременно готовясь спастись бегством, если что.
— Хэш без… хэш безглаз, — выдохнул парень и притих.
— Хм, — удивился вервр и прочесал волосы назад, отбрасывая с лица. — Допустим.
Прозвище парень выговорил быстро, и сделалось понятно: оно не новое и привычное, звучит как «бес-глас». Уж первое-то слово именно бес, — еще крепче задумался вервр.
— Хэш Бесглас, — снова пробормотал парень, выпрямился и вежливо поклонился. — Велено пересказать вслух нашу надежду. Не согласитесь ли избрать соседний ход, что по левую руку, и не посетите ли мельком Мойный пятак?
Вервр благожелательно улыбнулся, выражая согласие. Люди сумерек отчего-то сразу опознавали в нем хищника. И запоминали, и умели показать уважение, хотя бы убираясь с дороги и не досаждая… Если они, выбрав очень специфическое прозвище, обратились с просьбой, значит, причина весомая.
Рука вервра стряхнула в лужу последний медяк, нарочито подрагивая, протянулась вперёд, совсем как у настоящего слепого. Уткнулась в кладку осклизлых камней ближней стены и бегло её ощупала. Пацан усмехнулся, показал выбитый зуб, со свистом выдохнул: поверил, что бегство не потребуется. Сунулся под руку, принимая роль поводыря. Щёлкнул пальцами, зыркнул на кого-то мелкого и услужливого — и скоро в ладонь вервра легла крепкая палка. Выбивая ею сложный праздничный ритм, шагать стало куда веселее.
— Бес-глас, — шепнул вервр, отчётливо делая выбор в пользу прозвища, которое ему почудилось. — Давно у меня такое имя?
— Ну, еще до меня. Пожалуй, давно, — отозвался поводырь. — А после было вот еще: слух качнулся… вроде из Мийро, от их ночной столицы. Советовали приглядываться и ждать. С великим уважением. А вот недавно они весть послали. Что вас очень ждут, дело особенное. Больше ничего не знаю, а что велено, передал.
— Белоручка, — ласково выговорил вервр. — Или еще кто? Надо же, унюхали. Глазастый, ты третий год трёшься возле лекарского забора, запахи я не путаю, и твой — азарт, никак не менее. Зачем возвращаешься сюда, если там твой мёд, а не тут?
— Ловко вы… — поводырь вздохнул и слегка сгорбился. — Папашин долг, карточный. Думал, я скорее вырасту, ан нет! Он копится проворнее. Ну и… ну и не ваше дело!
Под пальцами левой руки поводыря мелькнул и пропал наточенный плоский гвоздь. Оружие, злость, угроза, боль — всё сразу… Вервр втянул запахи и настроения, промолчал и снова сделал вид, что по-настоящему слеп. Тем более, впереди шумели: громче, опаснее, ближе.
Еще три десятка шагов, два изгиба улочки и одна развилка, норовящая обмануть и увести в тупик… И вот он, Мойный пятак — тесная площадка с круглой кладкой малого водоёма посреди, с многими трубками водостоков, нависшими над сборной чашей.
Кладку рукотворного водоёма делали ещё при основателе Корфа, когда тут была едва ли не центральная площадь. Хотели даже, — припомнил вервр, — устроить фонтан. Планы те рассыпались в прах, памяти по себе не сберегли, а раствор, крепящий камни, и ныне цепко держит: ни трещины, ни щели. Вода стоит высоко, почти вровень с краями каменой чаши. Запах довольно свежий: отсюда пьют, в чаше запрещено стирать вещи и мыть руки. Несколько щербатых плошек, ведёрки и таз — всё выстроено в ряд у стены, и наверняка имеется глазастый недоросль, приставленный следить, чтобы неписаный закон выживания не нарушался. Чище вода — меньше смертей…
Сейчас закон трещал по швам вместе с дорогой тканью нобских штанов, спущенных аж до башмаков. Вервр замер, пискнул и принюхался. Улыбка на губах сделалась шире и ехиднее.
Сам старший сын князя! Пьян до невменяемости, что для него обычное дело. Шатается со спущенными штанами, налитый хмелем по макушку. Почти не изменившее цвет и запах пиво покидает тело, а струю «хозяин города» норовит нацелить в каменную чашу водоёма. Но нацелить — это не про него сейчас… Почтительные слуги, аж трое, поддерживают голубокровую дрянь под руки, стараясь не глядеть, куда не следует, и заодно заслонить постыдно зрелище от посторонних глаз. Не только слуги состоят при княжиче: по всем стекающимся к Мойному пятаку улочкам замерли стража с вышитыми золотом гербами на левом плече коротких плащей. Одеты парадно — ясно по скрипу башмаков, бряцанью украшений. Злы более, чем бешеные псы: молодой хозяин их извёл, а ведь ещё держать ответ перед старым!
У дальней от вервра стены дома, выходящего на Мойный пятак, жмутся сбитые в кучку девки. Они всхлипывают тихо, покорно, и их поболее десятка, все на коленях, притиснуты к стене острыми жалами сабель…
— И хто язык… ык… не сглотил? — взвыл, уродуя слова, княжий наследник. Потянулся поднять штаны, качнулся и обнял левого слугу. — Гни-ыд-ды… Сдох… хните!
Вервр повёл бровью. Мягко отодвинул поводыря, застучал палкой по булыжнику и побрёл из переулка к каменной чаше, горбясь и занавешивая лицо взбитыми в беспорядке патлами.
— Мне б дорогу вызнать, — сипло вывел вервр. — Ась?
Он дёрнулся влево и поставил палку на мизинец ближнего стража, и мигом перенёс на распухший — только кто знает об этом, кроме слепого? — большой палец его соседа. Два бойца не из худших замерли с выпученными глазами и раскрытыми немыми ртами. Боль иной раз бьёт остро, вынуждает окаменеть!
— Мне бы, — еще противнее загнусавил вервр, шатаясь и делая шаг. — Ась? Кто тут?
Пальцы пустой руки, вытянутой вперёд, уткнулись в затылок стража и толкнули его к лицу второго, обернувшегося на шум. И вот еще двое падают: ушибленный затылок встретил разбитый лоб, ни крупицы сознания на две головы…
— Люди добрые, — насторожился «хэш-бес-глас».
Испуганный, суматошный взмах руки — и еще одного стража унесло к стене и уложило на отдых. Босая ступня слепого запнулась о башмак очередного стража, колено дрогнуло и подломилось, роняя на камни достойного воина и тех двух, что сунулись помочь. Все рухнули лицами, да плашмя… Устоял лишь слепой, но пошатнулся, локоть дернулся, впечатался в бок последнего по эту сторону чаши охранника и серьёзно растревожил его почку…
— Да где же я? — в голосе слепца зазвучало отчаяние.
Рука ощупала лицо слуги, чувствительно нажала на его глаза — и парень рванулся прочь без оглядки, ему хватило намёка: сейчас ослепят! Второй слуга мешком сполз, сел на копчик и замер, не имея возможности дышать и смаргивая медленные слезы. Третий свернулся на камнях сам, закрылся руками, прячась от непостижимого и страшного.
Палка слепого, суматошно дёргаясь, стучала и стучала по камням, а порой поднималась и со свистом металась вправо-влево. Дважды она звучно шмякнула по голому княжьему заду. «Хэш Бесглас» возрадовался, обнаружив человека, рванул его за ворот на себя, не устоял и начал падать, и палка неловко прошлась вдоль тела князя спереди…
Пивной фонтан иссяк. Вой заполнил Мойный пятак и расплескался в ближние улочки, и покатился над гнилым изнаночным городом.
— Прощения просим, — ужаснулся слепой, встал, потоптался по княжьей спине и руке… Снова пал на четвереньки, резво пополз к каменной чаше, тараня головой стража, первым подоспевшего с дальней стороны площадки. Разгибаясь, вервр уже не стал шалить, прыгнул через водоём и срубил ладонями два горла, до хруста, но не до смерти…
Последним, без спешки, приблизился ноб с фамильным клинком. Он смотрел на потешный бой со стороны, как делают сильные… и безразличные. Сталь с шипением покинула ножны. Личный страж непутёвого княжича щёлкнул по лезвию ногтем, обозначая свою готовность отработать золото, за какое нанят. Наверняка старому князю недёшево обошелся такой охранник.
— На кого руку поднял, отребье? Не было глаз, а теперь и головы не станет, — лениво приговорил ноб. Отвернулся и рявкнул: — Сказано, тащите всех рыжих! Нам недосуг разбирать, какая видела и видела ли… Всех рыжих! И не отвлекайтесь. Этого я сам прикончу.
Вервр оказался за спиной ноба в единый миг, двумя пальцами приобнял затылок и повернул в сторону до короткого хруста. Дождался, когда тело обмякнет и успокоится. Смерть была крайним решением… но, даже будучи Рэкстом, вервр особенно презирал именно алых, предавших дар. Покончив с таким, свободный вервр Ан облизнулся и усмехнулся. Медленно обернулся к воющему княжичу, и тот захлебнулся, затих, как будто в рот ему сунули кляп.
— Что же услышала девка? Пожалуй, ты назвал папашу старым дураком, вот тайна… или в казну его залез глубже допустимого и похвастался? Не важно. Меня искать просто, — приветливо улыбнулся вервр. — Я довольно натворил, чтобы удавить меня вместо рыжих? Не молчи, невежливо. Ты видел, что я делаю с невежливыми.
Вервр пнул еще тёплое тело ноба-стража. Нагнулся и подобрал его клинок, провёл пальцами по лезвию. Фамильное оружие, на рукояти герб. Даже мельком, на ощупь, понятно: алый, древний, знакомый… Граф Рэкст однажды мечтал пополнить свиту прадедом этого вот выродка. И отпустил воина, получив занятный бой, который на целый день избавил от скуки.
— Ты не готов убить меня, — грустно отметил вервр, шагая к княжичу. — Боишься… Трезвый ты хоть это умеешь: сразу оценить угрозу. А ты уже трезв, страх творит чудеса с мокрозадыми слабаками. Возвращайся к папаше. Он самую малость человек. Я чуял его и помню, именно такого. Ради его покоя и ради покоя города, я отпущу тебя живого и… скоро. Как удобно, ты уже снял штаны, писающий мальчик.
Вервр ногой поддел оброненную недавно палку, поймал в ладонь. Крутнул, укладывая удобнее и примеряясь к весу, и оценивая прочность. Рывком за шиворот удобнее пристроил икающего, дрожащего княжича. Первый раз за всю жизнь узнавшего что это такое — настоящая порка. Когда сразу взбухают синяки, затем лопаются кровоподтёки, шкура виснет лоскутами… Измочаленная палка скалится щепой и изломами древесины, и кровь заляпывает камни мостовой, и кричать уже нет воздуха, сил и сознания…
— Воды ему, — велел вервр, не оборачиваясь. — Довольно на первый раз, а?
Недоросль-поводырь скользнул к стене, выбрал малое ведёрко. Наполнил, выплеснул с размаха на княжью макушку. Замер, ожидая новых приказов. Вервр тоже ждал. Наконец, беспамятный княжич шевельнулся и слабо охнул. Прикусил язык от ужаса. Вервр нагнулся к уху жертвы.
— Станешь меня искать? Я очень надеюсь, что да. Новая встреча — новый урок…
— Отпусти… те, — княжий наследник вдруг вспомнил о вежливости. Всхлипнул и добавил: — Умоляю. Ничего не было. Рыжие ничего не видели. Я никогда сюда не приходил. Светом клянусь, казной и честью рода: в порт ни ногой! Отец велел, и я уж больше ни-ни… я обещаю.
— Жаль. Мы только познакомились, — вервр бросил измочаленную, сломанную пополам палку и выпрямился.
Утратив интерес к княжичу, Ан принюхался и вчуялся в настроение поводыря. Обхватил двумя пальцами его затылок, позволяя прочувствовать на себе жест, только что причинивший смерть… но парнишка даже не вздрогнул.
— Плохой мальчик, — промурлыкал вервр, на миг задумался и повернул лицо к одному из темных переулков, выбрав направление без ошибки и подсказки. — Кто просил меня об одолжении?
— Я от него, — донеслось из-за угла, из теней.
— Оплата будет такая, — вервр зевнул, впрок запоминая человека. — Я забираю мальчика, вы забываете его долг.
— Мы услышали, хэш Бесглас, — выполз из переулка удаляющийся шёпот…
Вервр зашагал в сторону особняка Номы, потеряв всякий интерес к Мойному пятаку. За спиной охали первые очнувшиеся стражи, всхлипывая, расползались и разбегались рыжие девки, выл княжич, сглатывая кровь с прокушенного языка. Наследничка рвало, он теперь ползал в луже своей же мочи, своего же постыдного страха…
— Имя у тебя есть, должник? — задумался вервр. — Меня можешь звать Ан.
— Нету. Гвоздём кличут, — пацан усмехнулся. — И что теперь, забьёте? Все так шутят.
— Мне довольно давно перестали быть смешны ночные шутки, — нехотя признал вервр. — Сдам в ученики к Эмину. Забить он не забьёт, но ты сам согнёшься от его нудности. Терпи, Гвоздь. Долги — штука серьёзная.
— Эмину хэш Уми… как же его там? Это что, прямо к лекарке в особняк? — шёпотом выдохнул пацан.
Ответ не требовался. Вервр толкал добытую невесть зачем новую обузу и надеялся, что сбудет с рук прямо теперь, сразу и бесповоротно. Пацан потел и холодел от страха. А вдруг его не пустят в особняк? А вдруг даже хэш Бесглас не сможет там приказывать? Мысли Гвоздя читались до смешного легко, эти мысли кричали о себе каждым жестом и вздохом…
Возле особняка Номы творилось предсказуемое и невообразимое. Топот, слезы, вой… Людишек, переломанных и перемятых в праздничной давке, складывали под ограду, как дрова. Тех, кто во время праздников остался трезв и пострадал, будучи стражами, служа при питейных заведениях, более уважительно выстраивали в очередь. Мимо больных бегали слуги и помощники из выздоравливающих — носили мази, палки для костылей, тряпки для бинтов…
Вервр перемахнул ограду, дождался, пока Гвоздь втиснет худое тело в щель прутьев и догонит. В парке творился тот же кипучий беспорядок. Всюду тела, вонь и сквернословие… Вервр небережно отдавил чью-то руку, пнул чей-то зад, сбрасывая мычащую тушу с помятого цветника.
— Да хоть трижды ноб, — донеслось издали безмятежно спокойное, басовитое. — Что, он намерен при мне — кричать? Послушаем… Ох! Я сейчас…
Голос Бары стал заметно ниже за минувший год. А сам Бара сделался и шире, и выше… и внимательнее. Еще не видя гостя, учуял его, охнул. Бросив дела, выбежал и, по южному обычаю, сколько ни отучивай, рухнул посреди дорожки на колени и церемонно коснулся лбом ладоней, плоско уложенных на грунт.
— Учитель!
— У вас тут… — вервр принюхался, — даже склокам тесно.
— Князь женит сына, как только выловит его в порту. А еще праздник урожая, торг… всё сразу. Ну и драка у причалов, и пожар на винных складах, — поднимаясь и норовя поддержать учителя под локоть, сообщил Бара. Конечно, он при этом озирался и недоумевал. — А…
— Я один. Возможно, без Аны я выслушаю то, что ты пытался сказать прошлый раз, а я умело не понял. Хотя моё мнение… — вервр скривился и не стал продолжать. — Где прочие? И как тебе мой подарочек? Не знаю, в оруженосцы он полезет, в лекари или в писари, а только сперва зашей ему карманы и выбери имя.
— Исполню, учитель. Все у нас дома, только устали до обморока. Номе нет времени даже поесть, — продолжая держать под локоть, сообщил Бара. — Эмин лечит, его жена проверяет новых больных, вон там.
— Иди, без тебя там делается шумно, — вервр вслушался в рёв какого-то особо важного ноба, быстро разобравшего: Бара покинул комнату. Напоследок вервр отвесил Гвоздю подзатыльник. — Клыкастый! Заточку брось. На людей не скалься, норов хоть проглоти, а наружу чтоб не вылез. Пороть тебя поздно, шею сворачивать самый раз. Понял?
— Понял, — едва слышно шепнул Гвоздь. Недоверчиво тронул затылок, сомневаясь, ударили его или погладили. — А долг?
— Потаскаешь дерьмо из-под лежачих, поймёшь, во что вляпался, — безмятежно улыбнулся вервр. — Иди. Мне тоже пора… дал же слово сгоряча.
Вервр принюхался, выбрал направление. На ходу смял, сжал в кулаке зелень и злость.
Очередь на прием к Номе переминалась, едва двигалась… но никто не шумел и не буянил. Оно и понятно: в коридоре, шагов за двадцать от дверей комнаты лекарки, сидели трое молчаливых здоровяков, все при оружии. Вервр пискнул, собрал понимание… боцман и помощники капитанов: эти захаживали в особняк не первый год, и не больными, а друзьями. Теперь тоже явились трезвые, стращать очередь к Номе, измотанной до последней крайности, но упрямо зовущей больных по одному из бесконечной вереницы.
— О-го… Сам слепой лучник, — вояка с широким тесаком чуть подвинулся. — Здравия… мы мимо очереди не пускаем, но вы… Вы — это вы. Вроде, я жить-то еще не утомился.
— Лучник? — удивился вервр.
— Ну, как бы так… — неопределённо пожал плечами боцман. — Глазастый юнга клялся, что даже и сам видел, как слепой метал стрелы. Пальцами! Тот юнга уже бороду отрастил, а вы вот… гм. Навещаете, значит. Не забываете.
— Навещаю, — вдруг озлился вервр.
Мигом оказался у двери и скользнул в щель. За спиной в три глотки выдохнули напряжение — и не посмели любопытствовать. Даже отодвинулись по коридору еще на пять шагов. Очередной больной как раз хромал навстречу вервру, приживал к боку корзинку с травами. Ан выпихнул человека в коридор и плотно закрыл дверь. Пересёк комнату, подвинул стул и обратил слепое лицо к Номе.
— Странно, что еще живая. Граф Рэкст был глуповат. Стоило поджечь два склада и выкатить вино из пары-тройки погребов. Ты сама надорвалась бы, такое убивает гораздо надёжнее проклятий.
— Вы не забыли нас, — слабо улыбнулась Нома.
Дрожащей рукой дотянулась до кулака вервра. Прощупала: кровь, свежая…
— А… был зол и вот, сорвал, — отговорился вервр.
Он ссыпал с раскрытой ладони колючие стебли роз. На одном вроде бы даже уцелел бутон. Нома заметила и задохнулась.
— Цветы, — она сморгнула слезинку, глядя неотрывно на мятый бутон.
Лекарка дышала слабо, и пульс дрожал неровно, редко… В тёплой жилке трепетали последние остатки сил. Хотя нет, силы давно иссякли, вздрагивало лишь упрямство. Вервр нагнулся, почти касаясь кожи. Осторожно вдохнул запах молодости, которого так старательно избегал весь минувший год. Примерился и чуть тронул губами пульс. Биение сперва стихло, будто выпитое — а после возобновилось всё ровнее, мощнее. Наполнилось отданной вервром силой и заставило его самого искать опору для отяжелевшей головы. Вервр вынудил себя выпрямиться, утвердился в относительно ровном положении, напряг слабую, ноющую шею. Было странно осознать, как много сил получилось отдать. Столько он был отдал еще разве что Ане! Всё, что было, до капли… Язык сухой и шершавый, мысли как кисель, тошнота забивает горло. Но упрямства у него никак не меньше, чем у лекарки.
— Еще в позапрошлой жизни пообещал никогда не создавать семью, это всегда кончается плохо. Я не человек, мой Шэд тоже не существо, а нечто иное. У нас нет инстинкта продления рода и есть презрение к замутнённому рассудку, своему в особенности. Если отношения не навсегда, то это не отношения а так… забава. Верное слово. Кто меня стерпит дольше года-двух? Разве Ана, но она привыкала ко мне, как к яду, с младенчества.
— Прекрасно себя чувствую, — Нома спрятала лицо в ладонях, слушая и не слыша. — Вы умеете лечить? Неожиданно.
— Я только убиваю. Еще могу отдать силу тем, кто мне не чужой. И вот я здесь… обещал Ане не лгать. Еще обещал, что подарю цветок. Слышала? Вот цветок, и я не лгу. Ты мне не чужая. А толку?
Ладонь Номы слепо проскользила по столу, сбила бокал, смахнула на пол несколько склянок с настойками… вцепилась в кувшин. Ощупала… Нома очнулась, двумя руками подхватила кувшин и напилась через край.
— Погодите. Это невозможно. Погодите! Вы ушли, я даже успокоилась! Правильно, кто я, чего мне ждать? Я людям-то не нужна. Женихов-нобов присылают из-за герба и древнего рода. Я знаю, ведь кого лечу, те уж не молчат, особенно слуги. Я — так себе, и руки грубые, и танцевать не умею и… Говорят, я бесстыжая. Начала лечить от дурных болезней в семь лет. Бабушка уже не могла, а больше некому, и мы не выбираем, кто к нам с чем, и… Говорят, я насквозь больная и глаз у меня тёмный. Кроме нобов из-за герба, на меня зарятся купцы, им бы лекаря в караван или на корабль. А вот чтобы без выгоды… нет, пустое. Не надо меня опекать, хэш бес! И жалеть не надо! Мне такого не требуется, вот правда, ну поймите, это больно, а я…
Нома вскочила и дёрнулась убежать, часто дыша и сглатывая слова, мысли, боль… Вервр поймал потное горячее запястье, ловко потянул и заставил лекарку рухнуть в кресло. Дождался, пока она прекратит шептать тише и тише, не смолкая и уже не понимая, что именно говорит и зачем — заплетающимся, непослушным языком… Пришлось дотянуться и приложить к губам Номы палец, перекрывая поток отговорок и невольных, неосознанных жалоб.
— Я мог бы вставить слово, найдись в частоколе паники хоть одна прореха, — предположил вервр. Он, отдав себя до капли, уже снова ощутил прилив сил. — У меня куда больше идей для веских «нет» и «никогда». Но я отдал силы и вопреки этому не разбит усталостью… Значит, мы совсем не чужие. Признаю и готов рассмотреть ситуацию разносторонне. Итак, я умею и продолжу убивать. Ты — лечишь. Я умею и продолжу ломать людишек во имя целей, которые мне важны. Ты — бестолково и неразумно защитишь даже кроликов из сада. Я в гневе разнесу в щепу город, а ты — заплачешь… Что из всего этого может выйти?
— Ничего, — шёпотом смирилась Нома. — То есть… мне надо лечить. Прошу…
Вервр усмехнулся и бережно, но крепко обхватил запястье Номы. Не все капканы причиняют синяки и ссадины. Лекарка забилась глубже в кресло, смирившись с тем, что трудный разговор не окончен.
— Я слеп и хуже того, не помню собственное имя, — задумался вервр. — Сослепу мне безразличны все эти «никогда»… Но отказаться от удобного одиночества я могу только навсегда, даже если лгу себе и тебе. Я в смысле таких решений тот еще хищник, что моё — моё. Хоть примерно понимаешь? На свободе вервры не живут в доме. Я привык странствовать, появляться из ниоткуда, чтобы снова уйти. Я не даю пояснений и не терплю упрёков. Наконец…
Нома осторожно дотронулась до большой руки, пробуя ослабить капкан на своём запястье. Вервр смолк, с долей раздражения осознав: его слова — тот же частокол паники. И никак не получается выстроить разговор, довести до логического финала.
— Если совсем честно, — выдохнула Нома и наклонилась вперёд, чтобы говорить еще тише. — Однажды вы предупредили: лечить всех — значит, отчаяться и почернеть душой, помните? Я лечу, таков мой дар. Я смирилась, дар это ведь долг. Но люди делаются здоровыми и не делаются… людьми. Вот хоть сын князя. Опять его приносили с месяц назад. Рана была смертельная, с ядом. Я почти надорвалась, он встал и ушёл… и в тот же вечер зарезал друга. И ничего, и все смолчали! Я людей… никому не говорите, я их… иногда ненавижу. Ещё чаще мне всё равно. Выжил, ушёл… помню болезни и пульс, а не лица. В ту ночь, когда княжич… я плакала, хотела сгинуть. Лишь бы не лечить! Никого и никогда… Честнее уж самой принять яд. Но я вспомнила о вас. Стало легче.
Вервр недоуменно повёл бровью, понимая совершенно точно: Нома улыбается и ей тепло, радостно. Зато вервру — холодно и неуютно. Пальцы Номы плотнее легли на руку, голова склонилась еще ниже и лекарка прошептала на выдохе, согревая кожу запястья:
— Вы… вы любите людей, хэш Ан! Вы, а не я. Кого любят, тех не щадят. Я щажу и лечу, но не люблю, ни капли. Пока я знаю, что вы можете исправить за мной… не страшно думать, каким злодеям и выродкам я возвращаю здоровье. Вы ведь если что…
— Да, я с горячей любовью сверну шейку, — улыбка получилась хищная. В нос сам собою полез запах кроликов, не донимавший несколько лет и снова желанный, острый…
— Я не умею любить людей. Я иногда хочу вовсе не видеть их. Но я люблю вас. И я не могу жить, если вы не вспомните обо мне хоть раз за год! Душа меркнет. О вас я знаю, здоровы ли, улыбаетесь ли. — Нома судорожно вздохнула и упрямо, через свой страх и своё смущение, погладила руку вервра. — Вы летом два раза вспоминали меня. Делалось жарко и… совсем больно, когда говорили вслух моё имя. Вы мне нужны…
Нома сглотнула, жар ушёл с её щёк. Стало так тихо — аж дышать неловко.
В коридоре грохнула настежь распахнутая дверь! Дико заорали на два голоса, в панику добавился третий…
— Именем князя!
— Дорогу!
— Жить надоело?
— Сюда заноси, да ровнее, ровнее…
Лекарка вздрогнула и опасливо покосилась на дверь. Вервр сыто облизнулся, пискнул — и расхохотался, запрокидывая голову и скалясь. Так и не уняв смех, Ан встал, приобнял Ному за плечи и стал толкать к двери. Выпихнул в коридор и согнулся пополам, без сил валясь на стену и оседая, и держась за живот.
Ан знал, не выглядывая в коридор: там носилки. Белый, как мел, княжий наследник страдальчески кривится на кружевной подушке, под шёлковым с гербовой вышивкой покрывалом. Он лежит на боку, иначе не может, но он уже не выпоротый щенок, а герой, пострадавший безвинно. Может, спаситель детей из пожара? Или защитник ограбленных нобов? Слуги расстараются и сообразят, какой слух пустить. Даже если никто не поверит, никто и не оспорит громко…
Нома стояла в дверях и заворожённо смотрела на того, о ком только что упомянула, жалуясь. Лекарка кашлянула, прикрыла рот, снова кашлянула… и рассмеялась, сгибаясь, совсем как вервр по другую сторону от стены, спина к спине с ней.
— Заносите, — отсмеявшись и вытирая слезы, велела Нома.
— И вправь ему плечо, — резко потребовал кто-то из провожатых. — Живо!
Вервр скользнул в коридор, доверительно улыбнулся княжичу и его страже. На душе сделалось спокойно, как никогда прежде.
— Как кстати я прибыл, — промурлыкал Ан. — Я ведь лучший костоправ по эту сторону моря и по ту — тоже…
Первый слуга, узнавший «костоправа», икнул и дёрнулся бежать, но сообразил: он держит ручку носилок! Княжич в отчаянии снова прикусил язык, но смолчал и боль, и страх. Даже не сунулся ползти: не посмел!
— Заносите, — благожелательно разрешил вервр. Приобнял Ному и шепнул ей в ухо, фыркая и пробуя не расхохотаться снова: — Какое там плечо! Женить наследника бесполезно. Я сгоряча свернул хмельному придурку его маленький пивной краник… н-да. Надо исправлять. Давай, собери всё бесстыдство и спасай страну, верноподданная ноба Номару Има хэш Дейн хэш Токт. А я слепой, я просто подержу больного за горло, так сказать, обездвижу.
Столичные истории. Нити, собранные в узелок
Расставшись с вервром, Ана заспешила. То есть сперва даже побежала! Как будто можно запросто спастись от своего страха. Оказывается, она совершенно не умеет быть одна. Оказывается, она с рождения задирала нос и полагала себя умной, сильной, решительной… потому что чуяла: ей никто не возразит. Пусть у папы нет глаз, и он много раз повторил: «Я тебе не папа!», и его нет поблизости… Но всегда, неизменно было так: если что, Ан исправит, поддержит, выслушает.
И вдруг — одна… По-настоящему одна! Спине холодно. Душе пусто. Губы словно склеило, не то что заговорить — улыбнуться не выходит. И с кем говорить? Хуже: с кем молчать? Она привыкла так уютно, многозначительно молчать, и папа Ан всё понимал, без глупых слов и нарочитых хмыканий…
Ана бежала день, ночь и еще день. Не понимала погоду, не выбирала направление… И очнулась, уткнувшись ключичной ямкой в лезвие.
— Кошелёк или жизнь? — скучающим тоном пробормотали вверху, над макушкой, и отодвинули нож. — Эй, третий раз спрашиваю. Ты что, глухая? Н-да… Что толку спрашивать, у тебя и кошеля-то пожалуй нет. Ума уж точно нет! Одна, на ночь глядя, поперлась через лес, и куда? От главного тракта в Ольховую Гать.
— Сам дурак! — Ана обрадовалась тому, что рот наконец раскрылся и собеседник нашёлся. Улыбнулась, рассматривая встречного. Рослый парень, и ничуть не злодей… — Слушай, а что за жалкий выбор: между жадностью и трусостью?
Парень совсем запутался и сник. Зато Ана оживилась, осматриваясь.
И правда — вечер. Большой торговый тракт недалеко — вон, за пригорком. Место смутно знакомое: к северу низина, промытая и промятая речным руслом. Тоса здесь неширока, мало похожа на себя возле приморского Корфа, где река выкладывает сотню синих водных петель в оторочке золотых песчаных кружев…
— Грубая ты, — вернул в настоящее «разбойник».
Он отодвинулся еще на полшага, стоило Ане качнуться вперёд. В сумерках парень щурился, длинный нож держал ловко, но как-то странно… Не для угрозы, вот уж точно. На вид парню лет не более, чем Баре, но — тощеват, сутул, — прикинула Ана. Хотя зачем сравнивать с Барой? Уж заведомо будет в его пользу. На душе сделалось теплее.
Разбойник помялся и убрал нож. Прочесал пятерней светлые волосы, прямые и довольно жёсткие, солома соломой. Рука — отметила Ана — мозолистая, широкая, по ладони судя, не разбоем человек живёт, а крестьянством. Да и лицо приятное. С деревенской хитринкой, подвижное, круглое.
— Жизнь или кошелёк! Все так грабят, — обиделся горе-разбойник. Вздохнул и почесал в затылке. — Вообще-то я не граблю, а приветствую по здешнему правилу. Зачем с тракта свернула, если не знала, что вон-он там постоялый двор «Бесов лог»? Лучшее место для отдыха во всем белом свете. К нам из Тосэна ездят нобы, и из стольного града Эйнэ, и из соседних княжеств. Охота, рыбалка, забавы… Хотя тебе не по карману. Да и рановато!
— Ну, скажет гость «кошелёк», — задумалась Ана, — тогда что?
— Селим в правое крыло, гость прибыл отдохнуть… — парень замялся, — а, не твоё дело! Если «жизнь», то селим в левое крыло и утром перво-наперво собираем на охоту. Хотя есть такие гости, кто желает искать сокровища или сражаться с большой ватагой разбойников. Ну, им тоже способствуем. Чтобы и страх был, и славная победа.
— А просто поужинать? — Ана подбросила на ладони серебряную монету.
Парень даже вздрогнул: не смог понять, откуда возникла денежка. Ана привстала на цыпочки и постаралась рассмотреть за редким перелеском «Бесов лог». Принюхалась… Маленькое приключение показалось занятным.
— На серебрушку разве обрезки на кости или каша и кислый квас, — предупредил так называемый разбойник. — У нас дорого. И нечего тебе там делать! Служат у дядюшки понимающие люди, но вот гости попадаются разные. Иной раз из швали шваль.
— Людишки, — понятливо усмехнулась Ана.
Монета взлетела, блеснула над головой и легла в ладонь, чтобы сразу перекочевать в щель зевающего разбойничьего рта. Парень лязгнул зубами по серебру, встряхнулся и отступил, с подозрением рассматривая гостью. Сама невысокая, тощая — аж светится. Гибкая, лицо длинноватое, глаза широко поставлены, и волосы белые, как ивовый пух. Наверняка мягкие, всякий ветерок их трогает, гладит.
— Я предупредил, — парень еще раз попробовал отговорить, сплюнув монету в ладонь.
— Почему «Бесов лог»? — Ана свойски дернула «разбойника» за рукав.
— Не передумала? Ладно. Значит, так. Дядька, а врать он ни словечка за всю жизнь не соврал, у самого багряного Рэкста по молодости служил и был в уважении.
«Разбойник» забормотал выученную легенду, отвернулся, добыл из-за поваленного ствола лампу, снял кожух и открутил фитиль. Стало светлее. Загребая сапогами волглые, не способные шуршать листья, парень побрёл, показывая тропинку.
— Бес Рэкст доверял дядьке стряпню и слушал его совета при устройстве охот и забав, — продолжил бормотать и зевать «разбойник». — Дядька набрал силу, от беса ушёл, а тот и не возразил! Ну, звал остаться, денег сулил, только дядька не оглядываясь ушёл, иначе-то от беса не отвязаться… если желаешь сберечь душу.
Ана попыталась представить, каков была папа в прежние времена. Неужели какого-то там дядьку просил остаться и даже сулил денег? Это Ан-то?
— Не передумаю ужинать, — окончательно определилась Ана.
Каждый шаг приближал к «Бесову логу» и добавлял подробности в картину местного уклада жизни. У излучины реки раскинулась широкая поляна. По опушке её огораживает, доходя до самой воды, тёсаный частокол. Кое-где на верхушки бревен — дубовых — надеты черепа, вперемежку лошадиные, звериные и человечьи. Закат уже зарумянился, но ворота гостеприимно распахнуты. Красивые ворота: по верху прибиты огромные рога северного лопатного лося — папа Ан рассказывал про охоту на таких, но в те леса сходить за все годы странствий как-то не получилось.
Добравшись до ворот, Ана погладила дубовую створку и ненадолго остановилась, рассматривая так называемой трактир. Он выглядел солиднее иного нобского дворца. Крыло, куда селили за «кошелёк», было пониже, с наглухо закрытыми ставнями окон на внешнем фасаде. Из-за дома доносились звонкие голоса — у невидимой отсюда речной заводи пели, плескались, перекликались.
Второе крыло, каменное и мрачное, имело дополнительную кованую ограду, свой парк и дальней его части — конюшню и псарню.
Новых гостей встречали в доме у самых ворот, и как раз он походил на обычный трактир. На нижней ступени крыльца сидел охранник, рядом похрапывал здоровенный волкодав, очень старый, очень мирный — и всё же представительный.
«Разбойник» поклонился стражу и повесил фонарь на перила широченного дубового крыльца. Волкодав проснулся, приоткрыл глаз, улыбнулся во всю пасть и лизнул ладонь Аны, протянутую для знакомства.
— Ужинать желает, — покосившись на Ану, сообщил её провожатый.
— Бесова дядюшку желаю увидеть, — уточнила Ана.
Стражник повёл бровью, а затем вежливо, с поклоном и без подначки, предложил пройти и открыл дверь. Внутри Ане понравилось: рубленные из цельных стволов стулья и столы, бронзовые светильники, шкуры и ковры, много оружия. Всё добротное, не затёртое. И запахи… Если бы Ан посетил «Бесов лог», остался бы доволен готовкой, точно!
«Разбойник» сразу не ушел. Кивнул румяному мужику, присматривающему за очагом, поймал ответный взгляд. Провёл Ану, усадил. Шёпотом спросил — каша или мясные обрезки? Принёс квас, пожелал хорошего вечера и лишь затем откланялся.
В зале кроме Аны ужинали трое, все за одним столом. Ана прикрыла глаза и поёжилась. Было до боли странно не ждать вервра и не заказывать для него крольчатину, не переживать: а ну как Ан придёт в дурное настроение и возьмётся принюхиваться? Или хуже, станет невнятно ворчать: люди за тем столом или людишки? Шугануть или не заметить?
Кашу принесла дородная женщина средних лет. Одета она была роскошно, не для села. Дешевый заказ не бросила, как подачку. Да и каша — видно, что не со дна котла её соскребли! Зажарили до хрустящих корочек, подали в пузатой глиняной чашке, украсив маринованными грибками по краю — как бусинами. Ана вдохнула шкварчащий пар и вдруг поняла, как она голодна, вцепилась в трезубую вилку — и забыла рассматривать зал.
— Селяночка, — по плечу щекоткой прошёлся тупой широкий ноготь. Ана вздрогнула от неожиданности и молча выслушала нетрезвую скороговорку: — Золота вдоволь, платье и бусы, приглашение на бал, место в моей карете, всё тебе. Бывает, вишь ты, любовь с первого взгляда!
— Бывает, — серьёзно согласилась Ана, вдруг припомнив, что Бара в Корфе, и наверняка ждет, и будет очень расстроен…
Ана облизала вилку и сыто откинулась на спинку стула, умягчённую меховой подушечкой. Из-под ресниц и чёлки смотреть на назойливого ноба было несложно. Он не вызывал ни раздражения, ни удивления. Понятный, обычный… Средних лет, с брюшком. Взгляд сытый и сальный, но лени в нем больше, чем жадности.
В дальней стене без скрипа приоткрылась дверь, в зал шагнул пожилой человек — сухонький, неприметный. Крадучись он прошмыгнул на свободный стул напротив Аны. Бесцветные глазки сморгнули, ладошка погладила столешницу — и возле пальцев вроде бы сама собой возникла кружка пива.
— Она не из правого крыла, уважаемый гость, — негромко молвил человечек. — Она, как и вы, наш уважаемый гость. Меня пригласила к столу, о вас не было ни словечка. Ваш ужин готов, вепрятина вот-вот поспеет, кушайте. Вон ваш стол.
— Тут трактир, тут гости и просят, и требуют! Нечего меня гнать, — жадности во взгляде стало больше, чем лени. — А ты…
— А я исполняю пожелания, её и ваши, — любезно осклабился серый человек. Прямо глянул на Ану. — Что-то в вас чуется, гостьюшка. Гляжу и знаете… молодею.
— Бесов дядюшка, — Ана привстала, поклонилась. — Ух и хорошо у вас! Думаю, что он бы так решил, бес то есть. Вы и правда его знали, и вы ушли от него?
— Да, — коротко кивнул серый человек.
— Ушли и не жалели? Ну, он-то отпустил, вы же не кролик. Но после эти… людишки всякие, они вас что, тоже отпустили?
— Ушел и каждый день жалел, как иначе, — «дядюшка» внимательно глянул на гостью. — От людишек, тут вы правы, откупиться встало дороговато. Людишки вроде гнуса, от них одна морока. А бес… да что рассказывать! Позвольте вопрос: ему бы здесь понравилось, уверены? Я иной раз в зиму заслышу вой метели и тут вот вздрагивает… Вас угостить крольчатинкой? И дикие есть, и породные. Можно подать свежатину или прожарить, как угодно.
— Нет, мне довольно каши, очень вкусно, — смутилась Ана.
По столу грохнул тяжелый нобский кулак. «Дядюшка» скорбно опустил уголки губ. Ана покосилась на багровеющего ноба и подмигнула ему, вдруг разозлившись.
— Платье, бусы и бал? Прямо сказочка о сиротке. Я иду в сторону Тосэна и не спешу. Догонишь, устроишь, что обещал сгоряча… сыграем в сказочку. — Ана напоказ надула губы. — У кого и спросить, что за штука — любовь? Бара от такого вопроса вспыхнет, папа поскучнеет и меня свернёт в рогалик, Эмин начнёт заунывно читать врачебный трактат. Ни пользы. — Ана опустила глаза, пряча раздражение. — Ни интереса.
— Так значит утром поедем в Тосэн, — приятно удивился ноб.
— Гм… — замялся «дядюшка». — Гостья, мне тоже надо бы в город. Вас в Тосэне никто не ждёт? Хотя так было бы…
— Не смейте лезть в мои затеи, — зашипел ноб, нависая над столом и буравя взглядом безразличного к угрозам «дядюшку». — Она согласилась! Она…
— Да упасти меня бес в такие-то сказочки сунуть нос, — «дядюшка» чуть шевельнул рукой, глядя на Ану. — Вам подарочек, чай с душицею. Что из сладенького любите?
— Абрикосы обожаю, особенно белые, — выпалила Ана, не задумываясь.
— Белые хибинские и золотые юфские довозят из-за пролива свежими только в Корф и только летом. Сейчас осень, гостьюшка, — развёл руками «дядюшка». — У нас север, кушайте урюк, сей же час тут будет тарелочка. Я распоряжусь о комнате и утречком вас стану ждать. Ох, чую, приключится мне с того подарочек для души!
Хозяин «Бесова лога» удалился так же незаметно, как явился. Ноб еще потоптался и побрёл к своему столу, рассмотрев: там уже стынет вепрятина. Ноб жрал, сопел и часто поглядывал на Ану. Ждал подвоха и не верил, что переупрямил «дядюшку», готовился утром предотвратить неизбежное по его мнению бегство беловолосой девицы.
На рассвете Ана досыта наелась сладкой каши, напилась медового взвара и, обняв дареную корзинку с урюком, забралась в возок. Дядюшка ловко правил парой резвых золотистых лошадок, болтал о погоде и выглядел очень оживленным. А вот ноб… проспал! И нагнал «добычу» только к ночи, у самых ворот Тосэна.
— Не уйдешь, — высунувшись по брюхо и почти застряв в оконце кареты, прорычал он. — Кто смеет обмануть меня, барона Ноному хэш Омади, тот пожалеет!
— Платье, бусы, — Ана подмигнула барону со смешным именем. — И бал. Я помню нашу сказочку. Вы еще обещали объяснить про любовь. Эй, вы помните? Я ведь ваша селяночка, у нас любовь с первого взгляда!
Сказано было громко, звонко. Барон смешался, нырнул в карету и опустил шторку. Близ большого города, где многовато знакомых, барон оказался не так речист и смел, как в трактире, — отметила Ана. Прищурилась, соображая, к какой породе зверья отнести человечишку: к кроликам, жирным свиньям или хуже, к помоечным крысам? Сразу и не скажешь!
— Зачем спешить, я пока мало знаю, — решила Ана. Встала в рост, обернулась к карете и громче прежнего крикнула: — Эй! Где мне пошьют платье и когда бал?
Стража у ворот, пешие путники, два торговца, рыбак и нищие под стеной — все, кто был поблизости, — оглянулись на шум. Барон плотнее задернул шторки… Но сразу сообразил, что девица попалась настойчивая, и так просто она не уймется.
Шторка отодвинулась, бледноватый баронский лик скривился, темные глазки заметались в поисках решения… и уткнулись в «дядюшку». Барон взбодрился, что-то пояснил жестами, при этом без звука двигая губами и пуча глаза, как выброшенная на берег рыбина.
— Недешево встанет, уважаемый гость, но исполню, — кивнул понятливый дядюшка. Обернулся к Ане. — Барон Омади желает поселить вас в уютном домике и временно приставляет меня к вам… дядюшкой. Будто молодость моя вернулась, так славно, так легко на душе! Эй, дорогу! Гостьюшка, а зовите меня Кочет. Бес меня так звал, когда был в настроении помурлыкать. Я-то от страха или удивления руками хлопал по бокам, будто крыльями. Привычка… Смешно смотрелось, пожалуй. Ах, да: и без барона, сам я знаю, ближний бал завтра. Вам сгодится? Приглашение изыскать?
— Платье, — нахмурилась Ана, думая о своем. — Там, где шьют, там и сплетен выкроить смогут. А на бал в сказочках пропускают без приглашения. Вот увидите.
— Вот увижу, — широко улыбнулся Кочет.
Возок миновал ворота, едва Кочет расплатился со стражей. Колеса загрохотали по булыжнику, выстукивая раздраженный ритм — та-та-та… будто кто сплетню затеял. Ана слушала, отстранялась от раздражения — и крутила головой, знакомилась с городом. В Тосэне она прежде не бывала. Отчего-то папа сюда всей душой стремился, но никогда не добирался. Недавно вот ночевал у реки, на том берегу, смотрел на стену… и только-то.
А город красивый, не большой, но и не маленький. Дома добротные, улицы весьма широки и почти без выбоин. Фундаменты у домов высокие, а окна узкие и рослые, иной раз от пола до самого потолка, и все имеют деревянные решетчатые заслонки от света, и все двойные, утепленные: значит, зимы холодны, а лето бывает жарким. Солнышка иногда много, а иногда весьма мало… Определенно, прекрасное место, средина мира, — улыбнулась Ана. Почти решила, что погорячилась со сказочкой. Собралась даже отмахнуться от затеянных шалостей, но возок уже встал перед домом в два этажа, с вывеской над всеми окнами: девицы кружатся в танце, все в дорогих платьях, и все переступают витую нить, и все касаются красиво прорисованными туфельками не пола — а толстенного медного стержня в виде иголки с широким ушком. Он — и часть узора вывески, и её прочное основание.
— Там поселимся, — Кочет указал на дом напротив, — у моего поставщика скатертей и занавесей. Денег он не возьмет за один-то день. Вам годится?
Ана кивнула, спрыгнула из возка и пропала в швейной лавке аж до сумерек. Если бы барон Нонома хэш Омади чуть лучше понимал происходящее, он бы насторожился. Особенно когда Ана вышла от швей — очень серьезная. Невпопад кивнула на вопрос Кочета об ужине. Пошепталась с хозяйкой дома, снова кивнула — и выскользнула на улицу, чтобы пропасть до утра! Завтракая, Кочет «гостьюшку» не видел, но получил от неё бумажку с тремя указаниями. Повел бровью и отправился исполнять.
К полудню Ана вызнала и подготовила всё, что ей казалось главным, по крышам добралась до городского дома барона — роскошного, одного из самых богатых в городе. На крыше главного здания Ана уселась, обнимая мраморную шею худосочного льва, правого из пяти, украшающих фасад. В ненавязчивом обществе мраморного хищника Ана дождалась, покуда слуги завершат полив осенних бледных цветов, а стража доиграет в кости и потянется обедать. Тогда, без помех, Ана спрыгнула на балкон и, поддев оконную раму, проникла в галерею второго яруса. Почесала нос, прислушалась. Сомневаясь и надеясь на удачу, выбрала направление и зашагала, не таясь, по середине роскошного ковра. Добравшись до зала с тремя дверями и выходами на две лестницы — парадную и черную — Ана снова замешкалась… Но вовремя разобрала шум голосов слева-сверху, из башенки, которую прежде сочла игрушечной, нежилой.
Десять ступеней вверх по чёрной лестнице — и вот дверь. Смурной, сонный наемник скорчился на стульчике, подслушивает… так и отбыл в обморок, не заметив посторонних!
— По-вашему не выйдет, — устало шептал тонкий, срывающийся голос. — Хоть голодом морите, хоть что еще выдумайте, но решения я не изменю. Вы должны понимать, Омади не столь ничтожный род, чтобы подобное прошло незаметно.
— Тогда мерзни, дура! — проревел баронский бас, властный и могучий здесь, в родных стенах. — Помрешь, всё и решится. Не быть по-твоему, нет! Всякая баба должна знать свое место. Бабье место! Решила ты? А будет по-моему, подыхай, но знай: мы нашли его.
— Лжете, как обычно, — вздохнула женщина.
— Он в подвале, возле порта. Во, перстень. Еле стащили, наёмнички-то уже хотели с пальцем рубить… Жрать не дам ни ему, ни тебе. И тепла не будет ни здесь, ни там. Неделю жду, одумаешься — он, глядишь, не околеет. А околеет, глашатаи о том сообщат. Ты права, род сильный, по-тихому и побочные выродки Омади не мрут. Похороны вам устрою — любо-дорого!
Гулко хлопнула дверь. Шаги барона прогрохотали по хрустящему, старому паркету… шарахнула о стену ближняя дверь, добивая и без того ушибленного сторожа! Барон выругался, пнул бессознательное тело, буркнул: «Подслушивал, гнида!». Повозился, запирая дверь — и стал протискиваться по тесной для тучного человека лестнице вниз, в простор, роскошь и тепло главного особняка…
Ана спрыгнула из-под потолка, некоторое время рассматривала дверь, выбирая решение. Нагнулась, нащупала на поясе у наемника нож, засунула меж проушин висячего замка — и нажала. Кивнула, слушая сочный хруст и хоть немного разряжаясь, расходуя злость в приложенном усилии. Вторая дверь поддалась еще проще.
— Добрый день, я Ана, — сообщали Ана с порога, кивнув бледной девице своих лет, скорчившейся на подстилке, под тонким плащом. — В этой сказочке всё слегка запуталось. Но в целом мы соблюдаем правила: платье, карета, бал. Пошли. Сейчас по плану платье. Мне швеи рассказали о тебе. Ты так себе сплетня для города, несвежая и скучная. Ну, взял красавец-молодец в жены больную баронессу с малолетней дочкой. Добрый человек и всё такое, а ты наоборот, злая. Его мягкосердечия не ценишь, и на нежную заботу отчима отвечаешь злобным презрением.
Ана сбросила куртку, почти силой усадила тощую, холодную как лед девушку и просунула сперва одну её руку в рукав, затем вторую. Рывком запахнула куртку, сразу затянула пояс, вздернула тело в стоячее положение и навалила себе на плечо.
— Вы… — обвисая и не имея сил сопротивляться, просипела похищенная, — кто?
— Я же сказала, Ана. В этой сказочке я сиротка и заодно тетушка-волшебница. Кареты, лошадей и прочего всякого у меня при себе нет, делать их из мусора я не умею. Но кое-кому по тыкве настучу, даже не сомневайся. Просто помолчи немножко, ладно?
Ана ссыпалась по лестнице до знакомого зала, пробежала по галерее и выбралась на балкон. Шипя и срывая ногти, забралась на крышу с неудобной ношей на плече. Осталось менее сложное: пересечь конёк, съехать до края крыши, сползти на пристройку и оттуда упасть в соломенные тюфяки. Воз, как и было указано Кочету, ждал на нужном месте.
— Кто нанял вас? — девица согрелась в чужой куртке и стала беспокоиться, озираться.
— Ха… меня нельзя нанять. Ну, я так думаю. Эй, кто стережет воз?
— Я, — выглянул из-за конской спины вертлявый пацан лет десяти. — Сказано везти к швеям. Ужо везти?
— Ужо! — хихикнула Ана.
— Я буду кричать, — жалобно пообещала девица Омади.
— И тебя вернут в замок под замок, — Ана ткнула пальцем в небо, намекая на башенку дворца Омади. — Чтобы подать прошение, тебе нужны бал, платье и карета. Разве не так? Или я что-то упустила?
— Н-ничего, — шепотом испугалась девица. — А вам это зачем?
— Жирный свин разозлил меня. Можно было двинуть ему вот так в горло, — Ана рубанула ладонью, — или сказать много слов и на том успокоиться. Я всегда учила папу не воспитывать людишек, не вмешиваться. Но без папы вдруг сама озлилась и решила: схожу и гляну, что и как. Папа бы меня не похвалил. При папе я не смела распускаться и скрипеть зубами!
— Миана Юйя хэш Омади, — девушка оправила куртку и чуть поклонилась. — Вам невозможно не верить… ноба Ана, не изволившая указать свой род. Я благодарна, но я умоляю вас, прекратите ходить по оглобле и крутить сальто! На нас же смотрят…
Ана еще раз прокрутила сальто, замерла вверх ногами, опираясь одной рукой на круп безразличной ко всему ломовой лошади. Свободной рукой Ана помахала небольшой, но шумной толпе. Хмыкнула, широко улыбнулась.
— Почтеннейшая публика! Только сегодня и только для вас. Кто не мертвый, тот должен хлопать, кто не нищий — пихать монетки вон тому лупоглазому в шапку. Когда я услышу звон и охи-ахи, я, так и быть, пройдусь на руках по оглобле и немножко побросаю ножи… если сперва кто-то бросит их мне или… в меня.
Возница сорвал шапку и затоптался, подставляя её под звонкую капель меди и мелкого серебра… Вокруг хлопали, кто-то уже приволок ножи, топорик, два сапожных шила и серп. Ана пробежалась по оглобле, и хлопать стали громче. Из задних рядов попросили проглотить саблю и выдуть огня, да поболее. Бледная, ошарашенная баронесса жалась к горке мешков с сеном и ровно ничего не понимала.
— Поехали, — велела Ана, управляясь с дюжиной летающий лезвий.
Возница щелкнул языком, ломовая лошадь вздохнула и играючи потянула воз. Толпа дрогнула и стала смещаться по улице вместе с возком, не упуская зрелище.
— Совершеннейшее безумие, — пискнула баронесса, когда Ана раскланялась, звонким голосом сообщила об окончании представления и вернула позаимствованные острые предметы владельцам.
— Слабовато вышло, босиком было бы удобнее, — Ана заглянула в шапку, выбрала несколько серебрушек и широким жестом определила всё остальное, как собственность возницы. Пацан даже завизжал от восторга!
Толпа постепенно редела. Лошадь брела и дремала на ходу, так что Ана успела сбегать в трактир, выторговать корзину горячих пирожков. Она накормила и новую знакомую, и возницу, и еще с десяток настырных детишек, провожающих телегу и после окончания выступления. Затем ноба Миана хэш Омади, едва способная держаться на ногах, отправилась к швеям, наспех подгонять платье — любое из готовых, отобранных для такого случая еще вчера. А сама Ана написала трогательное послание барону, отдала листок вознице и велела бегом отнести во дворец Омади. Тем временем прибыл Кочет, оповестил: он проследил за людьми барона, и нужный подвал близ порта обнаружен.
Кочет похлопал руками и прищурился: ему было интересно, как собирается ехать на бал Ана — без кареты, платья и приглашения? Как раз подкатила карета с гербом Омади, присланная в ответ на письмо. Пошатывающаяся, но совершенно спокойная юная баронесса заняла подобающее ей место и отправилась на бал в подобающем случаю платье. Она не видела, как Ана метнулась в швейную мастерскую, мигом переоделась, снова появилась на улице — и Кочет расхохотался, вытирая слезинки.
— Даже при Рэксте так-то занятно не было, а он ведь, мало кто знает, тот еще затейник, — фыркая и хлопая ладонями по бокам, сообщил «бесов дядюшка» и мигом сделался серьезен. — Гостьюшка, дельце в порту мои люди выправят. Вы уж довершите сказочку с бароном. По чести если, сколько я раз писал в стольный Эйнэ о неладах в доме Омади, а то ли перехватывают письма, то ли золотом он делится щедро… Ох-тыж, без Рэкста вовсе обнаглели кролики, — Кочет взгрустнул и опять резко сменил тон. — Об оплате. Я щедро оказывал вам услуги и вот чего желаю: до ночи не пропадайте. Одному важному мне человеку надобно показать вас, хоть бы и издали. Не ведаю, толковое ли знакомство, а только отказывать ему — не с руки, так-то.
— Договорились. Но тогда хочу большой барабан, факелы на длинных ручках и канат… вот прямо поперек Первой площади канат! — выпалила Ана. — Ночью представления делать очень даже красочно. Вам понравится, дядюшка.
— Исполню. И еще об оплате, — Кочет прищурился. — Лично для меня. Душа болит… он ведь жив-здоров? Наемников распустил, свиту разогнал, дворец Гост отдал какому-то бестолковому малолетке. Горестные вести, невнятные. Прямо скажу, как вы кроликов упомянули, я ожил! Но теперь снова пребываю в сомнениях и тоске.
— Он жив-здоров, — кивнула Ана. — Только не ждите, что вернется прежним и возьмет старое имя. Но, если сложится случай, он заглянет в Бесов Лог. Узнаете его или нет, не моя забота. Теперь мы в расчете?
— Полностью, — Кочет азартно хлопнул себя ладонями по бокам.
Ана махнула прощально — и помчалась, где по улицам, а где и над ними, по крышам. Она не зря спешила ко дворцу Омади: как раз застала выезд кареты. Барон направлялся на бал отдельно от своей «селянки», чтобы на месте «стать волшебником и ввести в мир чудес бедную сиротку» — так предложила в дневном письме сама Ана, твердо веря в самодовольство пожилого сластолюбца. Теперь, ранним вечером, Ана без усилий поспевала пешком за каретой, запряженной четверкой золотых скакунов. На улицах было людно, и правила жизни Тосэна не позволяли хлестать горожан кнутами и топтать конями. Барон, о прошлом которого знали даже мастерицы швейного дела, терпел и наливался спесивым гневом, обычным для выскочек. Он родился в деревеньке, выбился в люди наглостью и ловкостью, исполняя поручения самого гадкого толка. Он служил баронам Могуро и мечтал войти в свиту беса Рэкста… Дважды его ожидания оказались обмануты. Но будущий барон не унялся, нашел новых покровителей в Тосэне, в окружении градоправителя. Там и вызнал о слабости рассудка старого Омади и чахотке его дочери, а также о склонности сына к неумеренному питью вина. И смог использовать свою осведомленность!
— Барон Нонома хэш Омади, — надсаживаясь и багровея, прокричал глашатай, когда карета вкатилась в ворота особняка градоправителя.
Слуги поправили ковровую дорожку, чтобы один из богатейших людей города не запылил башмаков, не запнулся о складочку. Ана дождалась, пока барон, раздуваясь от гордости, спустится с выдвижной ступеньки и замрет в картинно-нелепой позе индюка, позволяя всем рассмотреть драгоценности и испытать муки зависти… Барон как раз прикрыл глаза, смакуя своё великолепие, когда на крышу его кареты, а оттуда на край ковра, спрыгнула «селянка». И встала по правую руку от покровителя.
Слуги, гости и даже лошади издали икающий стон. Барон открыл глаза, величаво повернул голову… и тоже икнул. Ана стояла босая. Что же касается бального наряда… для такого случая из своего мешка с вещами были добыты безмерно широкие шаровары, купленные в пустыне близ Казры, их дополняла та самая кофта с вышивкой сорока шелками, которую недолюбливал даже вервр и даже тогда, когда кофта еще не была тесновата в груди. И, конечно, на шее гремело и качалось то самое ожерелье, якобы выточенное из человечьих черепов…
— Платье, бусы, бал. Все, как ты хотел! — Ана привстала на цыпочки, хлопнула барона по плечу, наслаждаясь исключительной бессмысленностью его перекошенной рожи. — Пошли, любезный мой, поприветствуем сиротку. После я исполню твое самое заветное желание, то есть волшебным образом сгину. Сразу с бала, а в полночь — вообще из города. Вот такая сказочка.
Ана поддела потную, вялую руку, чуть поправила захват — и барона перекосило окончательно. Постанывая сквозь зубы и из последних сил пробуя сберечь остатки приличий — не орать и не лить слезы боли на виду у всех — барон засеменил туда, куда его направили, то есть в бальный зал.
Едва живая, но по-прежнему спокойная ноба Миана Юйя хэш Омади уже ждала на возвышении, рядом с градоправителем. Она успела изложить свое дело и была убедительна, — с первого взгляда поняла Ана и ослабила захват, чуть толкнув жирную тушу Нономы в объятия городской стражи.
— Девица… гм… Ана, вы неподобающе одеты. Прежде чем мы приступим к рассмотрению обстоятельств, которые омрачили осенний бал, накиньте хотя бы плащ, — поморщившись, приказал градоправитель. — Иначе вас придется удалить из зала вопреки ручательству самой нобы Омади.
— Я охотно удалюсь, — звонко пообещала Ана. — Ну вы и… людишки! Можно предлагать сожительство девице неполных пятнадцати и морить голодом наследницу семьи Омади, держа её в заточении. Можно не замечать перечисленного, имея сведения и заслоняясь от них личной выгодой. Можно почти все. Кроме этого платья и этих бус. — Ана отвернулась от градоправителя и зашагала к дверям. Крикнула, не оборачиваясь — Эй, щепка голубых кровей, что у тебя в длинном перечне имен — настоящее имя? Миана, да?
— Миана, — тихо отозвалась баронесса.
— Ты молодец, держалась до последнего, прямо как крапивная Нома… А я уважаю её, и папа уважает. Если тебя обманут опять, позови. Имя знаешь. Я немедленно явлюсь, у нас с тобой ведь… настоящая сказочка, да? Но ты должна понимать, я не игрушка. Звать без смертельно опасного случая нельзя. Твоего пьяного дядьку скоро привезут. Не надейся, что он запросто излечится. Но ты ведь справишься, да? И еще. В сказочке речь шла о бале, платье… и о любви. Постарайся, подбери в мужья человека, а не кролика. Не то я расстроюсь. Прощай.
За спиной охнули, лёгкие шаги зацокали быстрее, быстрее… задыхающаяся от бега юная баронесса вцепилась в один из шаров-черепов, когда Ана уже покидала зал. Миана повисла на ожерелье, истратив все силы на бег.
— Как же так! Ты просто уйдешь? Ты… я задолжала, я хочу понять, я…
— Сперва покручу колесо на канате и побросаю факелы, нагребу шапку звонких медяков и ворох улыбок, — Ана коротко обняла Миану и усадила в ближнее кресло, пинком удалив оттуда нерасторопного ноба. — А после пропаду. Так правильно. Потому что иначе, — Ана обвела взглядом зал, по кончикам её волос пробежали искорки багрянца, и у заметивших это нобов вмиг отнялись языки, — иначе я заведу свиту и начну охоту по всем нашим семейным правилам. Разок взглянув на вас вблизи… я наконец-то понимаю папу! У-у, кролики. Повылазили из норок, жира поднакопили. Вас теперь гонять и жрать сырьем— самое то.
Ана зло хохотнула и пошла прочь, не оглядываясь. Затем побежала, перемахнула ограду и наддала, вслушиваясь в гул Первой площади, растущий с каждым шагом. Ана вылетела из-за угла ограды особняка — и сразу попала в свет многих фонарей, в тугую тесноту толпы.
«Бесов дядюшка» не просто раздобыл большой барабан! Он пустил слух, и сделал это с умом. Люди собрались и сами принесли фонари и свечи, как им было велено. Люди расселись на крышах и понаставили лестниц с опорой на балконы, чтобы видеть всё и сидеть удобно. Люди ждали того, что им пообещали вроде бы шуткой: волшебства…
Возле обтрёпанного барабана мялся знакомый «разбойник» с дудкой и связкой колокольчиков. Не менее знакомый пожилой страж — тот, из трактира — держал ящик с ножами для метания. Седой волкодав сонно грыз кость, никого не замечая. Ана проглотила ком и вдруг поняла: все эти люди и даже их пес знали беса Рэкста, до смерти его боялись… и так же отчаянно скучали.
— Почтеннейшая публика! — завизжала Ана, вспомнив пустынную Казру, охочую до зрелищ, — только сегодня, как же вам повезло!..
«Разбойник» дунул в дудку и позвенел колокольчиками. Страж запалил пропитанные маслом дрова, и сразу вспыхнул высокий костер. Толпа загудела, бросила первую подачку — разрозненные, редкие хлопки. Ана запрокинула голову, изучая роскошную, лучшую в своем роде площадь для выступлений, с многими натянутыми тросами, с переливчатым стеклянным куполом, кое-где сплошным, а кое-где имевшим окна в темное вечернее небо. Ана подпрыгнула и вцепилась в нижний канат, отметила его приятность на ощупь и внутреннюю теплоту… Но удивляться и думать уже не могла. Толпа — то еще чудище! Если ей не дать вдоволь фальшивого площадного волшебства, сожрет по-настоящему!
Когда праздник угас, Ана тихо ускользнула с Первой площади, одна. Побрела прочь, трогала набитый кошель и улыбалась. Только денежки, подобранные с мостовой после выступлений, грели руку и взблескивали живыми улыбками. Сейчас у Аны был при себе богатый запас площадного смеха.
— При твоей гибкости странно, что обошлось без показа женщины-змеи, — негромко удивились из-за спины. — Но вечер получился занятным. Меня зовут Лоэн. Можно пройтись рядышком и поболтать?
Ана приняла флягу с кислым квасом у случайного — или скорее неслучайного? — попутчика. Благодарно кивнула, когда Лоэн укрыл плечи платком, теплым и мягким. Двигался новый знакомый беззвучно. В нем чудилась особинка, пока невнятная и потому интересная.
— Одной сложно держать такую толпу. Им бы надо что-то для страхов, охов-ахов, — Ана скорчила рожицу. — Ядовитые змеи, ужасный лев с бантиком на гриве или хоть танцующий медведь. Ух ты! Ворота до сих пор не закрыли. Здорово, я устала, лезть через стену не хотелось.
Лоэн бросил страже медную монетку и снова заскользил рядом, сосредоточенно рассматривая палый лист на дороге, пиная мелкие камешки… Молчалось с новым попутчиком вроде и неплохо, но как-то фальшиво.
— Там было нечто вполне ужасное, но без твоего согласия оно не решилось показаться, — доверительно сообщил Лоэн. Оглянулся на город, уже довольно далекий, стены занавешены туманом и видны смутно. — Хочешь, познакомлю?
— Конечно.
Ана сбежала к реке, прыжком ухнула в воду, окунулась с головой и взвизгнула от восторга: кожу обожгло холодом и свежестью! В волосах запутался дубовый листок, к плечу пристал клок водоросли, будто водяной по осени перелинял и потерял прядь из бороды… Под ногой что-то шевельнулось, опора вдруг вынудила балансировать, удерживая равновесие. Опора изогнулась, с силой выбросила тело вверх, и Ана расхохоталась, взвилась над рекой в серебряном облаке брызг, сделала сальто и спружинила на канат… чуть теплый, добровольно подставленный под ноги очень и очень удобно. Канат шевелился, Ана проследила его взглядом — уходящий в глубину, к темной массе чего-то огромного.
Река всколыхнулась, вышла из берегов и вмиг обмелела, когда с ревом и грохотом темная масса восстала из глубин!
В слабом лунном свете дракон выглядел снежно-ярким, алые гребни по спине и крыльям празднично дополняя белизну.
— Красотища, — выдохнула Ана, обнимая ус и продолжая упираться в него же ногами. — С ума сойти! Жуткая красотища… Ну и зрелище было бы, если бы ты не прятался на крышах, предоставив всем думать, что над площадью натянуты канаты, а не твои усы!
Вцепившись в ус, Ана висела выше деревьев, облитая светом луны, обласканная ветром и обжигающе, безмерно счастливая. Дракон улыбался во всю пасть, умильно сложив на шее верхние лапы и устрашающе растопырив средние. Нижних Ана не видела, их омывала река. Ус плавно опустился, вернув Ану на берег, в жухлую траву.
— Да уж, когда вы с ним выступаете, впору уходить из города, — признала неизбежное Ана, покосившись на Лоэна.
— Мы не выступаем. Все полагают, что в мире нет драконов, — Лоэн протянул сухое полотенце. Бросил рядом мешок. — Рубаха, штаны, башмаки. Переоденься. Все же осень, холодновато.
Дракон придвинулся, отгородил крылом комнатку. Ана мигом содрала мокрую одежду и натянула сухую. Свойски погладила крыло, бархатистое на ощупь.
— Эй, он твой вервр? А ты его дракон, и вместе вы целое, да? Теперь мне примерно понятно, почему вспомнить оба имени так важно для вервра. Лоэн, — Ана дождалась, пока крыло поднимется. — У меня вопрос. Важный. Наверняка знаешь, какой.
— Я не готов назвать древнее имя своего брата, — лицо вервра стало будто каменным.
— Вот как даже… Хм. — Ана запрокинула голову и улыбнулась дракону, взволнованно вздохнувшему в вышине. — Он у тебя сухарь, да? Тяжело.
— Сейчас мир балансирует на грани катастрофы, и я готов дать тебе объективное знание ситуации, каким обладаю. Но при этом… — Лоэн осекся, заметив отрицательный жест Аны.
— Папа хищник, ты хищник, — резко сообщала Ана. — Ты ему брат, это правда, я уверена. Ты не помог ему в самом для вас, вервров, главном. Значит, одна территория и двое сильных, да? Тебе вроде как нужен честный бой, но глубоко внутри ты знаешь, насколько папа силен. А еще он прав. Тебе больно думать о поражении! Ты… ревнивый. Могу понять и это. Когда я увидала Ному и учуяла, как он смотрит, я озверела! Ладно… Я думаю, я не отвлекаюсь. — Ана обхватила колени и плотно сжалась, зажмурилась. — Ты определенно из тех, кто выменивает и знает цену. А я не терплю размен волшебства на выгоду. Ты испортил нашу встречу с драконом! — Ана ткнула пальцем вверх и снова сжалась в комок. — Он — лучшая твоя половина, вот! Как его зовут?
— Эн. Эмоции перехлестывают, это нерационально и я предлагаю…
— Папа так хотел попасть в Тосэн! Вон там, за холмом, мы ночевали раз двадцать. Ты ни разу не пришел к костру, хотя мог. Теперь знаю, почему. А папа тебя ждал, я помню, он смотрел на реку, на стены города… Он был бы рад, и не пришлось делить территорию.
Ана встала и глянула на беловолосого вервра прямо, с вызовом. В душе не было злости, но боль… Боль делалась всё сильнее.
— Даже странно, я все так ясно понимаю о тебе и папе! Не знаю, но угадываю без ошибки: ты хитростью присвоил город, для него важнейший. Тосэн — боль и память о папином друге. А ты… Ну и сиди тут, дуйся. Не скажешь имя? И не надо! У него есть новое имя. У него есть я! И не зарься, ты мне не дядюшка, не друг и не спутник! — Ана запрокинула голову. — Эн! Ну ты с ним и натерпелся! У вас одно сердце на двоих, твое! Эн, если попрошу, отвезешь меня в город Эйнэ? С ума сойду, если сию же ночь не полетаю на драконе. Эн, я тебе за это подарю самую звонкую серебрушку с праздника. Вот, её кинул мне под ноги пацан лет шести. Из копилки добыл и отдарил за радость. Сокровище, правда?
Ана подбросила монетку — и та мигом пристала к драконьему усу, сделалась частью чешуи.
Огромный, величественный и ужасный Эн выпрямился во весь рост и широко расправил обе пары крыльев. Взревел — и из ночного неба откликнулся гром. Ус обвился вокруг Аны, дернул её вверх и плотно умостил на драконьем носу.
Молния высветила мир, делая на миг неподвижным и очень подробным. Бледное лицо вервра Лоэна, запрокинутое вверх и какое-то страдальческие, утомленное… Взволнованный вихрем лес, разлом облачных гряд, созданный молнией, пена у ног дракона, великолепный хвост, сияющий бликами грозы.
Рывок на взлете — и земля удалилась, и душа взмыла. Ана закричала, требуя лететь выше и быстрее! Дракон взревел в ответ, окутался молниями, как мехом… Волосы Аны встали дыбом, кожу продрало болью. Тучи сразу обступили — темные, ледяные. Тело дракона извивалось, скользило выше и выше, пока не оказалось над осенней грозой. Луна сделала Эна сияющим и окончательно волшебным… Гроза быстро осталась позади. Внизу плыли горы, светился крошечными огоньками крошечный замок на перевале, смутно памятном для Аны. Дракон рявкнул еще разок, сложил крылья и камнем упал из ледяной вышины! Шкура нагревалась, алые гребни источали какое-то немыслимое, жидкое сияние, алость разбрызгивалась искрами, отмечая след полета.
Ана вдруг ощутила себя свободно падающей, пребольно саданулась лопатками и копчиком, расхохоталась, забила пятками от восторга… а дракон уже изгибался, шурша чешуей по крыше и разрушая часть черепицы — и разворачиваясь, чтобы снова кануть в темный омут небес.
— Чудеса иссякли, — Ана поймала мешок с вещами, брошенный напоследок предусмотрительным драконом. Зевнула… — Как же хорошо.
И правда, лежать на незнакомой крыше посреди города, еще неизвестно какого, смотреть в звездный омут и следить, как растворяется в нём алый с перламутром след драконьего полета — что может быть лучше? Ана снова зевнула. Впечатлений так много, что усталость туманит сознание. Хочется свернуться клубком и спать. Рука уже удобно мнет мешок, формуя подушку под голову…
Удар! Дрожь крыши. Азартный вопль!
— Ну что еще? — потягиваясь, огорчилась Ана. — Тут люди спят, между прочим.
— Дракон! — заорали в ухо.
— Улетел. И он поломал меньше черепицы, чем ты. Стыдно, людям крышу теперь чинить, а ведь осень. Дожди.
Ана снова зевнула, чуть не вывихивая челюсть. Из-под ресниц глянула на очередной сюрприз ночи: беловолосого недоросля с сумасшедшими, полыхающими алостью, глазами — чуть раскосыми, похожими на драконьи.
— Ана, — пришлось встать и вежливо кивнуть. — Ты ведь не уймешься.
— Дар. Дар хэш Боув, владетель самодельного сарая в пустом парке графского имения Нод, — поклонился недоросль, наконец-то прекратив прыгать и ломать черепицу. Он сел, взлохматил и без того неухоженную копну белых волос. — Я не починю крышу, но вот сюда подложу монету, золотую. Ты права, зря я так распрыгался. Но спать здесь не советую, ветрено и жестко. Приглашаю в мой сарай. Вроде, что-то из еды там уцелело. И мы поговорим о драконе. Мне больше не с кем! Во-первых, никто не верит в дракона. Во-вторых, никто не верит, что взрослый ноб в своем уме может верить в дракона. В-третьих, все знают, о чем я хочу говорить и стараются сбежать, — парень отобрал мешок. — Я понесу. Ты отчетливо видела его? Белый с алым. Красавец. Не такой, как в моем сне, но тоже хорош.
Ана прыгала по крышам, удивляясь: впервые ей попался человек, за которым едва получается угнаться. И молчится с ним неплохо, и сравнивать его ни с кем не надо, он сам по себе.
— Спрыгивай, вон и мой парк, — широким жестом указал Дар. — Вернемся к разговору о драконе. Он был…
— Вообще-то я прилетела на нем, — Ана с разбега взлетела на высокую ограду и оттуда соскользнула в парк. — Из Тосэна. Минуты за три, кажется. Слишком быстро. Ужасное разочарование. Он р-раз — и сгинул. Его зовут Эн.
Парень замер в дверях домика, действительно похожего на сарай. Обернулся и потрясенно дернул головой. Пропустил гостью, уронил мешок, порылся и выставил на сбитый из досок стол свечку, выложил плесневый сыр, добавил лук, чеснок, сильно заветренное копченое мясо. Пинками проверил ряд бутылей и нашел булькающую.
— Эн, — рушась на криво сбитый табурет, шепнул Дар. — Значит, тот самый дракон, его видели отец и мама. Пятнадцать лет назад, почти пятнадцать… Эн принял бой в Тосэне и создал нынешний облик Первой площади. И все это правда. А мне снится иной дракон. Он в ночи невидимка. Он где-то есть, честно… но я не могу найти место. Летом опять ходил в горы, все зря. Долина, — Дар перерубил сыр и глубоко загнал нож в столешницу. Замер, глядя сквозь стену сарая… — Долина-колодец. Тьма и нет дна. Скалы белые, кровавые и ещё черные, и ржавый лишайник. Скользкий, гнилой… Я чую на пальцах его прелость и обоняю отвратительный и сладкий запах. В ту долину приходят умирать звери. Бросаются со скал. Я всё знаю… и не могу найти.
— Карта есть? — задумалась Ана.
— Вот, — самую ценную для себя вещь парень нащупал, не задумываясь. Развернул и прочертил пальцами тонкие узоры горных тропинок. — Я излазал там всё. Тут, тут и тут есть скалы нужной породы, рудознатец подтвердил. И даже так — всё зря…
— Отчего-то папа иногда приходил туда и смотрел в колодец, — Ана выдавила ногтем метку, крест-накрест. — Запах смерти и пропасть без дна, точно так. Мне всякий раз делалось жутковато. Если можешь, не лезь туда! Скалы отвесные, скользкие от гнили. Спуститься нельзя, они еще и острые, веревка перетрется. На дне, если там есть дно, нельзя дышать. Ты прав, там кладбище зверья, воздух отравлен.
— Я там был, отмечено, — сокрушенно покачал головой Дар, проследив, куда указывает палец Аны. — Нет пропасти, увы.
— Ты шел по тропке, а надо лезть вправо-вниз от сосны о трех стволах, и дальше по руслу ручья вверх до золотых цветов… Сейчас нет цветов, но есть осыпь и отвратительный камень, который крошится. По крошеву и придется ползти, повиснув на пальцах, над обрывом. Ты уверен, что тебе надо туда? И зачем я так запросто рассказала?
— Да, мне надо! — Дар настороженно глянул на Ану. — Неужели теперь найду? Сейчас же проверю. Получилось невежливо, но прости… я не в себе, меня тянет, это хуже болезни. Живи тут, сколько пожелаешь. Отец ночует в кабинете, он совсем погряз в делах. Мама… — Дар сник, — мама моя зовется Дикой и всё реже посещает город. Только повидаться с отцом, мое воспитание она забросила окончательно. А, не буду об них. Отдыхай. Благодарю за то, что веришь мне и не считаешь безумным. Ты не думай, если ничего не найду, я не в обиде. Я так много раз уже ничего не находил…
— Оденься потеплее! — Запоздало посоветовала Ана.
Но её уже никто не слушал и не слышал. Беловолосый парень, кажется, был совершенно не в себе, как и сказал. Он умчался, и Ана с порога сарая видела: бежит в полную силу и нацелен на дальние горы уже отсюда, словно нет городских стен и дорог, нет лошадей и тем более повозок…
Ана зябко поежилась, обхватила руками плечи.
Припомнились слова Лоэна: мир балансирует на грани катастрофы. Горечь накопилась и сделала ночь еще холоднее. Что вскипело в душе, что вынудило так спешно и даже грубо оборвать разговор с Лоэном? Почему сделалось невозможно слушать любые слова того, кто вроде бы имел право и опыт дать совет? Вдобавок — приходился родичем отцу…
— Этому Лоэну тоже бы хватило ума сказать, что рубаха неподобающая, — буркнула Ана.
Первым что-то подобное отметил Бара… это помнилось и делало горечь еще гуще и тяжелее. Одни и те же слова могут иметь совершено разный смысл! Бара заботился не о приличиях, а о безопасности Аны. Прочие же… они и есть прочие.
Ана осмотрела нобский столичный сарай. Подошла к столу, поддела отрезанный ломоть сыра, сжевала, не ощущая вкуса. Поболтала бутыль, откупорила пробку и принюхалась. Хлебнула три глотка, не ощущая ни вкуса, ни запаха. Недавно ей хотелось спать. Теперь сон пропал, а горечь норовила затопить мир… И еще тошнотворный, обжигающий жар в животе. Что за гадость была в бутыли? И горло дерет, и пить хочется пуще прежнего.
— Прогуляюсь, — предложила Ана самой себе, вздохнула и добавила обиженно: — Столица… темно и глухо, как в лесу!
Осенний ветер перебирал листья, грудами наваленные у ограды. Некошеная крапива горбилась, густо заплетенная пожухлым вьюнком. Наверняка в парке водились кролики… Но без папы это сделалось не важно и не интересно. Ана прикрыла дверь сарая и пробралась к ограде, перелезла её и зашагала по дороге, вымощенной плитками, тщательно обкошенной, свободной от сора и листвы. Не иначе, столичные богатеи вместе следили за ней или же город делал это за них, — решила Ана. Она шагала и считала шаги. До угла заброшенного парка — семь сотен. Много. Десять через перекресток. Пять сотен вдоль весьма скромной ограды соседнего имения. Снова десять — через перекресток.
Ана остановилась и пожала плечами. Скучно.
Ветер качнулся, задул с севера, бросил за шиворот пригоршню листьев и несколько случайных дождевых капель… А еще донес запах, совершенно невозможный в такое время, здесь. Ана споткнулась. Принюхалась, не веря себе. Прижмурилась — и побрела на запах, ускоряя шаг. За вечер она встретила дракона и папиного брата-вервра, в три минуты перелетела в столицу, чуть не свалилась на голову безумного графа, обитающего в сарае… После такого можно поверить даже в запах юфских медовых абрикосов. Тем более он не пропадает, а крепнет с каждым шагом! Запах родины алого Ош Бары, запах беззаботного детства самой Аны, запах бескрайней пустыни, где всегда много солнца, а дождь — благодать. Где душа никогда не оказывалась затоплена горечью, где нет стылой осени и серых ночей…
Ана уткнулась лбом в узорную ковку, зашипела, растёрла ушиб и ящерицей полезла на ограду, заранее рассматривая сад по ту сторону и улыбаясь всё шире.
Обманчиво-дикий сад был безупречно ухожен, но не испорчен прямыми дорожками и бездумной косьбой травы под корень. Сад переливался и играл сплошным волшебством в перламутровом свете многочисленных фонариков, в тончайшей кисее теплого тумана, в облаке летней влаги, проявляющей даже ночью радуги — особенные, лунные. У самой ограды сторожевой стеной возвышались плетистые розы, бархатные багряные и шелковые серебряные. Дальше стлалась тончайшая трава в звездочках-росинках. Тут и там клочками душистого тумана льнула к земле цветущая поросль. Название Ана не знала, но терпкий запах смутно помнила… С каждым шагом от ограды вглубь сада трава густела, тепло делалось душноватым, небо над головой чернело по-южному бездонно. Порхали пушистые ночные бабочки. Садились на ветви персика, перелетали на цветущий хмель, пили нектар из чашечек колокольчика.
— Абрикос, — промурлыкала Ана, потянулась и обняла ладонью самый крупный.
Золотой, бархатистый плод лег в руку и сам отделился от ножки. Медом запахло еще гуще, пьянее. Голова кружилась, жар тек по жилам… По пальцам сочилась липкая, полужидкая мякоть, и Ана слизывала, глотала, жмурилась. Когда в ладони осталась голая косточка, безумие поутихло, жар в животе чуть ослаб, и Ане сделалось стыдно. Без спроса вошла и без дозволения сорвала…
А вот и садовник. Стоит и молчит. Значит, разгневан… Ана смущенно прижала косточку к груди и замотала головой, запоздало сообразив: да она же слегка пьяна! Или не слегка? Ана высоко подняла ладонь с косточкой, добровольно изобличая свое преступление. Виновато пожала плечами, и стала бочком двигаться к садовнику. Он был темный и жуткий, как пугало… И Ана ощущала себя глупой птицей, которой страшно — да так, что поздно крыльями хлопать, не взлетишь.
Кто этот садовник? Видно лишь блеск глаз под шапкой волос и соломенной шляпой.
— Лучший в мире абрикос! Вы волшебник! Я перепробовала юфские, хибинские, мелкие домашние из Казры и еще сортов сто! Да я полжизни охочусь на них, я знаю решительно все про опыление и дожди, абрикосовый мед и сушку урюка. Но ваши… это чудо! Я была не в себе и вот, попробовала. Но поймите, никак нельзя удержаться, он же сам же…
Ана бормотала и бормотала, глядя на косточку и со стыда сгорая. Да её же качает! И что было в той бутыли ноба-драконоискателя?
Ветерок качнул ветви, фонарики чуть сместились, и свет ближнего упал на лицо садовника. Блеснули яростной зеленью глаза, и Ана сперва вздрогнула: лед, зеленый — но лед… Но стоило вдохнуть запахи сада еще раз, и лед раскололся, впустил в глубину — и там расцвел яркий, нездешний день. Голова пуще прежнего закружилась, возникло болезненное и непреодолимое двоение сознания.
Здесь — ночь и пьяный стыд. А там, в иной реальности…
День полнился незнакомыми ароматами. Воздух был густ от серебряной пыльцы, медленно дрейфующей в теплом ветерке. Огромное белое дерево уносило ввысь гордую крону, делая всё небо серебряным. Из вышины свисали бальными люстрами изумрудные соцветия — огромные, в рост самой Аны, если не более. Белое дерево оплетал алым и золотым шнуром вьюн, он походил на вздувшиеся вены тыльной стороны ладони, он чуть пульсировал — и нес в крону живительный сок…
— А говорил, не справишься, — прошептала та Ана, что жила в чужом мире, в неведомый летний день, и дышала пыльцой, пропитанной солнцем. Та Ана тоже была маленькой, ей приходилось запрокидывать голову и смотреть вверх. Она поднялась на цыпочки, решительно дернула садовника за челку, чтобы дотянуться — и поцеловала в щеку. Кожа садовника оказались жесткой, чуть шершавой и смолистой. Кожа пахла тополиной весной и имела вкус вишневого клея…
Ана вздрогнула и жестом попыталась отстранить чужую реальность. Слишком уж реальную! Та, другая Ана — благодарила садовника, но еще она была самую малость, совсем немножко влюблена в него. И поцеловала садовника в губы, и чуть подправить такое поведение чужой Аны едва получилось.
— Ничего себе абрикосы у вас, — прошептала нынешняя Ана, покачнулась и вцепилась в плечо садовника. Голова кружилась, и пыльцы в воздухе делалось все больше, она слетала с волос садовника, вот только в этом мире и в эту ночь пыльца заполняла весь мир не счастьем, но одной лишь горечью…
Пряная южная ночь дрогнула, как занавесь плотных штор, нехотя впустила порыв ледяного ветра — и снова сомкнулась сплошным покоем. Но Ана успела вдохнуть осень и ощутила облегчение. В голове прояснилось, явь отделилась от сказки.
Ана стояла в чужом саду, ощущая под ладонью твердое прохладное плечо садовника — и понимала: вряд ли он человек, слишком иной! Ана смотрела в зеленые глаза, слепые — ведь садовник тоже пребывал в мире, где небо кружевное от листвы белого дерева. Ана нахмурилась, стараясь как можно точнее запомнить историю, ставшую внятной и подробной на краткий миг — и готовую ускользнуть, как мимолетный сон.
Белое дерево было обречено, его ствол оказался разломлен натрое, его кора пострадала слишком сильно. Но вьюн обхватил ствол, укрепил и обеспечил соками для жизни, цветения, роста… Крона дерева была городом. Там жили юркие люди, похожие на белок ловкостью в лазанье и беге по тонким ветвям… Город умер бы вместе с деревом. Но, благодаря вьюну и вместе с ним — город выжил, вырос. Привык питаться от вьюна, а люди быстро сообразили: сока много, он вкусный. Сезоны бежали, листва облетала и снова наполняла небо узорами серебра, поколения людей-белок сменялись… а вьюн сох. И, увы, Ана ничего не узнала по обрывку видения о том, удалось ли уладить отношения дерева, города и вьюна — или спаситель оказался порабощен теми, кого спас?
— Не надо отягощать сердце, — нынешняя Ана погладила жесткое плечо. — То, что нас не убивает, должно делать нас сильнее, это слова какого-то ужасно умного учителя дядьки Эмина. А самое непобедимое, что есть на свете — умение прощать. Не сушите себя горечью! Вот взять хоть лес. Он сбрасывает листву по осени и не жалеет об утрате. А я жалею. Я каждую осень нагребаю ворох листьев и пробую сберечь хоть лучшие… В вазы ставлю. Нома злится, говорит, что из-за меня по всем коридорам труха и пыль. Но она понимает и терпит. Погодите, когда плохо, даже люди пьют, а вы, пожалуй, в воде нуждаетесь ещё сильнее. Тем более сейчас!
Ана огляделась, заметила родничок, русло которого было бережно выложено разноцветными камнями. Присесть, сложить ладони ковшиком, наполнить, думая только о хорошем и всей душой желая садовнику — расти и цвести, сбросив обиды прошлых лет, как осенние листья…
— Пейте!
Ана подняла к лицу садовника пригоршню воды. Смочила его губы — и незнакомец сделал глоток, сморгнул… обнял лодочку ладоней снизу, боясь потерять хоть каплю влаги. Он пил, прикрыв глаза и вслушиваясь в себя. А затем опустился в траву и замер, обняв ладонями лоб.
— Сладкая вода, — едва слышно выговорил садовник, когда Ана уже устала ждать и начала прикидывать, как бы улизнуть из сада. — Не помню, когда пил такую. Горькая память. Я дорого расплатился, чтобы никогда не вернуть её… такую. — Садовник повернул голову и взглянул на Ану. Глаза его снова были холодны… но все же не так, как в первый миг встречи. — До знакомства спрошу вот о чем. Как вы видите мой сад?
— Там розы, там абрикос, а вон там… — удивилась Ана.
— Сезон. Это что, лето? И состояние сада — много сухих веток?
— Лето, и всё зеленое.
— Крайне странно. А тот гнилой абрикос…
— Сладкий!
— Бессмысленный разговор, — садовник отмахнулся и встал. — Однако же ясно, кто вы. Меня зовут Альвир, я бес.
— Очень приятно познакомиться, Ана, — поклонилась Ана.
— Не хватает ума спастись бегством? — повел бровью бес. Раскрыл ладонь, и меж пальцев мелькнул, выпорхнув из пустоты, прямоугольник игральной карты. — Я часть иерархии бессмертных. Моя карта — Отравитель, и еще она имеет название «ядовитый плющ». Всё, чего я коснулся, обречено. Беги, так и быть, сегодня я дам тебе уйти. Хочу побыть один.
— Вам сейчас вредно быть одному, — предупредила Ана. — Я всё видела. Не плющ, а вьюн. И не ядовитый, а спасительный. Не знаю, отчего я помню и чувствую за ту девушку из сна… И даже поцеловала вас, вот уж! Потому что она восхищалась вами. А вы бывали в неё влюблены всякую весну, когда бушевало цветение. Она говорила, что вы душевяз… И все, кого вы коснулись, обречены всякую весну искать встречи с вами. Вы привязываете к себе людей.
— Та девушка давно мертва, хотя она верила в доброту. Тот, с кем она искала встреч, высох и больше не ждет весну, — покачал головой бес. — Иди. Ты исчахнешь вместе с миром или чуть раньше, но в любом случае я буду причастен к твоей смерти. Так что не ищи со мной встреч, если не желаешь ускорить исполнение воли королевы бессмертных. Я — её орудие, и мне так удобно. Плющ или вьюн, не важно. Я доволен собою нынешним. Мне требуется опора, чтобы подняться к солнцу. — Бес выше поднял карту. — Вот моя опора.
Ана сморщила нос, нагнулась, изучая прямоугольник карты и живой, изменчивый рисунок плюща — шипастого, темного… Ана осторожно обхватила руку беса, не касаясь карты — и сжала его пальцы, сминая прямоугольник, как мусор.
— Нельзя силой заставить исполнять чужую волю всегда и в самых мерзких делах. Вопрос в том, как дорого обходится личный выбор, — Ана отпустила сжатый кулак беса, и тот раскрылся, уронил смятую карту. — Вы душевяз. Я захочу повидать вас весной. И еще я знаю, что вы вспомните сладкую воду. А пока прощайте. Я устала. Я с ума схожу! В этой нелепой столице вообще живут обычные люди? Куда они попрятались все, а?
— Вдоль ограды следующего дворца и далее налево, минуй еще одну ограду, — негромко сказал Альвир, оттолкнув резко, зло. — Увидишь чугунное кружево деревьев и вставки с клубками змей и драконами. Там безопасно.
Ана кивнула, встала и пошла к ограде. Запоздало удивилась: почему ни один шип не уколол теперь и не поранил прежде? Ана взлетела на ограду, спрыгнула снаружи… и споткнулась. Вцепилась в прутья и просунула голову.
— Эй! А вы, наверное, лучший в мире травник, да? Вот чего не умею, того не умею… Очень я уважаю этот дар у людей. Не знала, что он и у бесов встречается. Эй, у вас в саду папоротник цветет? И этот… златоцвет, от ста бед — тоже?
— Убирайся, — рявкнул бес, наконец-то всерьез обозлившись.
Из сала пахнуло болотной гнилью. У Аны запершило в горле, и она отпрыгнула, сокрушенно покачала головой… Прощально махнула невидимому сквозь листву бесу и побежала прочь. Вдоль ограды, вдоль соседнего поместья, а затем левее.
— Пап всегда уважал и берег алых, но им же навязывал бой, — Ана кашляла и бормотала под нос, терла слезящиеся глаза и шмыгала носом. — А этот? Он, пожалуй, донимает травников. Донимает, но не губит. Интересно, я права? И кому портит кровь бес Лоэн? У-у, сколько мыслей! Я бы спросила у папы. Но я должна зимовать одна.
Ограда, представляющая собой дивной красоты чугунный лес с деревьями разных пород, с прячущимися оленями и оскаленными волчьими мордами, уже была видна. Ана добрела, вцепилась в ковку. Ничего подобного она не видела! И представить не могла, что такое можно создать трудом кузнеца… Это сколько вложено сил, времени и вдохновения? Змеи в круглых вставках — как живые.
— Вряд ли и тут я найду обычных людей, — Ана с сомнением почесала нос.
Прошлась вдоль ограды, выбирая достаточно широкую щель. Выдохнула и протиснулась. Можно было перелезть, но так — сложнее… Зачем делать, как сложнее, Ана не знала. Но не спорила со своей привычкой, ведь даже папа смирился.
Парк за дивной оградой оказался запущенным и очень уютным. Под ближним кустом жевал чахлую розу кролик — толстый, сонный. Он покосился на Ану, сморщил нос… и не соизволил спрятаться.
— Честь или выгода? — в спину уткнулось что-то тонкое и острое. Кролик подавился, дернулся — и умчался.
— Гораздо лучше, чем «кошелек или жизнь», — Ана подняла руки и обернулась. Улыбнулась парнишке лет восьми, пальчиком отвела от шеи стрелу, отметив: рука у мальчика твердая, лук натянут не детский, тугой. — Но я против выбора. Если честь, я должна уйти. Если выгода, кому это вообще надо? Не мне и не тебе. Я часа три в городе и встречаю третьего человека, то есть жителя. И опять какого-то… необычного. Я Ана. Я устала, ужас как хочу есть и пить. Еще хочу вымыться и переодеться. Ты меня пригласишь в гости на денек? Очень прошу. А то место, куда меня уже пригласили, я в темноте не найду.
— Ульо, — мальчик ослабил тетиву. — Мы всей семьей тут живем, но мы гости, которых привел временный жилец, пока хозяин запропал. Дворец здоровенный. Как гость жильца, я приглашу тебя и поселю. Но с едой туго. Мама третий день во дворце, у князя бессонница и он пишет всякие указы. Папа не слезает с крыш по ту сторону города, потому что дядя Дорн устроил облаву. Братец Тан ушел искать друга, которого вроде видели крепко пьяным, а за ним охотятся воры и ему нельзя попадаться… Шель душит какого-то плохого человека, который продавал травы «от матушки Улы» за золото. — Парнишка почесал в затылке. — Ты права! Ну, про обычных людей.
— Ты стережешь дом? — рассматривая лук, уточнила Ана.
— На кроликов охочусь, они сожрали мамины розы, — угрюмо сообщил Ульо. — Я голодный, и подозреваю, я хуже тебя голодный. Ты очень вовремя… если умеешь готовить.
— Кроликов — в любом виде, — пообещала Ана. Отобрала лук, вскинула, не целясь, выпустила стрелу и сразу побежала подбирать добычу. — Обычно я не одобряю охоту на кроликов, но сегодня она успокаивает. Всё так привычно и по-домашнему!
— Хороший выстрел, — с видом знатока похвалил Ульо, отбежал за деревья, пошарил в траве и поднял вторую тушку. — Хватит нам?
Ана уже свежевала кролика, бормоча вопросы о приправах и сковородках. Ответы её мало занимали. Снова хотелось спать. И утром встать с другой ноги, как в шутку советовал папа Ан. Встать — и не ощущать тяжести сомнений. Что за место столица, если тут полно людей, но Дар знает Ульо, хотя обоих получилось встретить случайно? Сколько в столице бесов, если на них натыкаешься, ну на каждом шагу — натыкаешься! Ана замера с занесенным ножом, вдруг по-иному расценив совет Альвира, отправившего прямиком в этот парк. Не может быть… Хотя наоборот, должно быть именно так!
— Ульо, а кто хозяин дворца? Настоящий.
— Бес Рэкст, — отозвался мальчик, наблюдая за разделкой кролика с сосредоточенным вниманием и без брезгливости. — Ты не знала? Но ограда тебя впустила. Вообще-то в его дом попадают только те, кому можно. А кому можно, заранее узнать нельзя. Во как!
— Ты упомянул матушку Улу. Эта травница, и сын её Ул, — Ана порезала палец, впервые в жизни не совладав с ножом. — Тот самый Клог хэш Ул, который враг… Но может и не враг.
— А ты много знаешь, — Ульо уже успел принести лопату и выкопал яму для захоронения останков кроликов. — Никому не говори, что мы охотились. Слуга Рэкста будет зол. Он славный дедушка, но с братцем Таном на ножах. А сейчас он навещает родню в деревне, наконец-то собрался. Вернется и скажет, что кроликов стрелять — самоуправство самозванца. Ну и пойдет-поедет… Я уже растопил очаг. Долго кролю вариться? Я могу и не дожить.
— Долго, — Ана засыпала специи в горшочек и залила нарезанное мясо маслом и уксусом. — Кролики жесткие, надо томить их. Пошли в городе поедим, а? У меня есть деньги.
— Шутишь! Третий час ночи, если где и открыто, никто не пустит ребенка моих лет на порог. — По-взрослому укорил Ульо. — Разве в воровской слободе. Но там мы наткнемся на папу Сэна. И он спросит…
— Я разберусь с папой Сэном. Нам надо поесть, — Ана растерла лоб и грустно признала: — У меня в голове от мыслей колюче, спать я не в состоянии. Мне кажется, папа Ан знал, что начнется, стоит мне попасть в этот город. Есть такая штука, я в неё не верю, но она есть: линия жизни, — Ана зевнула, уложила поверх мяса деревянный кружок и поставила на него кружку с водой, для гнета. — Вот. Так мясо, может, получится помягче. Линии жизней были все по одной, друг Ульо. Долго были, как трава в поле. А сейчас они раз — и спутались, сплелись, и еще вьюн плетет их, плотнее скручивает. Ульо, мне редко бывает страшно. Но сейчас мне…
Ана поёжилась и не стала завершать фразу. Это не имело смысла. Восьмилетний ребенок стоял в дверях и держал в левой руке потертые ножны, хранящие боевой клинок. Ребенок смотрел приветливо и чуть покровительственно.
— Со мной не страшно, — заверил он. — Я алый и обязательно спасу тебя. Идем. Я позвал тебя в гости, мой долг накормить тебя досыта. Лучшие блюда столицы готовят в «Ландыше». Я там не бывал, но так сказал папа. И еще, — Ульо замялся. — Мы пойдем кривой дорогой, мимо одного веселого дома. Там обычно отсыпается Гэл. У него комнатка, не подумай чего дурного! Гэла многие полагают пустоголовым, только зря. Он ранимый, он тянется к теплу, даже ложному. Мама так сказала. Маме виднее.
— Если Гэл там, — Ана закрыла дверь и побежала через парк, за провожатым, — то что?
— Убедимся, что с ним все хорошо, — крикнул Ульо, взлетая на ограду. — Просто спросим, даже не пересечем порог, а то нам достанется.
— Вот где водятся обычные люди, в веселом доме, — хихикнула Ана. — И нам туда нельзя… Ульо, ты хотел бы поработать со мной? Мне нужен метатель ножей. Лучше для публики слепой метатель, но где ж его взять? Ребенка тоже примут с интересом. Я хочу собрать толпу и послушать, как звенит столичный смех. Такое у меня любимое дело.
Ульо взвился в прыжке, уцепился за водосточный желоб и взобрался на крышу. Помчался по коньку, так привычно и легко, что сразу стало ясно: для него путь хорошо знаком. Ана скользила следом, и ей казалось, что ночной ветер выдувает, отбрасывает за спину ворох мыслей. Что эти мысли осиным роем жужжат — и не могут угнаться, и не настигнут, если бежать в полную силу.
— Тебя растят, почти как меня, без запретов, — прокричала Ана.
— Мама иногда воспитывает, но у неё дел по горло. Папа тренирует, в эту осень у нас бой без оружия идет, — отозвался Ульо, он ничуть не задохнулся и говорил степенно, раздумчиво. Ему нравилось быть взрослым, у которого свой гость. — Матушка Ула крепко воспитывает, но только по важным поводам. Чтобы я не злился и не обижал слабых. Шель тоже воспитывает, чтобы я мог утянуть любой кошель и потому свой бы не прощелкал. Еще Тан… этикет и геральдика, скучно. Он сам учится, я составляю компанию. С Даром мы лазаем по крышам и он рассказывает…
— О драконе, — рассмеялась Ана.
— Гэл читает мне стихи и сказки, — вздохнул Ульо. — Он лучше всех. Только он всегда в беде и всегда на него кто-то зол, не знаю, отчего. Гэл самый добрый в мире человек.
Ульо спрыгнул с очередной крыши, перекатился и встал. Ана отметила: мальчик всегда смягчает падение или длинный прыжок перекатом или упором на руки, и делает это грамотно, технично. Даже папа Ан, пожалуй, остался бы доволен движением ребенка, его собранностью и «взрослостью без утраты детства» — Ан в последнее время именно это ценил особенно высоко.
— Там, — показал Ульо и привстал на цыпочки. — Как-то неловко. Мне туда нельзя, тебе тем более. Вон окно Гэла. Как назло, ставни закрыты.
Ана хмыкнула, почти без разбега взлетела по стене и повисла на пальцах, уцепившись на край едва намеченного подоконника. Ощупала створку ставни, жестом попросила у мальчика бросить нож, поймала и поддела крюк. Ставни раскрылись. Мутное стекло за ними было темным, но в комнате определенно мелькнула тень. Ана успела это отметить, сразу приняла решение — вмяла раскрытую ладонь в окно, не задумываясь. Внизу, на улице, удивленно пискнул Ульо. Из комнаты пахнуло кровью и кислым потом, и это Ана тоже поняла сразу, прежде чем смогла обдумать. Она рывком вбросила тело в комнату, сквозь хруст рамы и оскал взломанного стекла…
Два движения, и оба — почти нежные, кончиками пальцев по точкам на шеях.
— Я здесь, страхую! — выдохнул Ульо, чуть стукнув по плечу.
— У тебя чуткое сердце, как и подобает алому, — Ана дотянулась до лампы, убранной в плотный кожух, подкрутила фитилёк, и в комнате стало светлее.
Ульо охнул, огляделся и метнулся к тощему парню, связанному и брошенному у стены. Ана ощутила тепло в груди: алый, вырастет — будет боец не хуже Бары. Ведь друга увидел, и может неживого — но сперва убедился, что гостья не окажется в беде, если отвлечься.
— Гэл! Гэл, — прошептал мальчик и оглянулся на Ану. — Он жив, хотя его крепко стукнули по голове, вот шишка. Я же говорил, беды сыплются на него. Погоди, свистну Шеля. — Ульо возмущенно ткнул пальцем в бессознательные тела мужиков, обезвреженных Аной: — Ворье! С ними же уговор! Ну обнаглели, а? Они ловят секретаря мамы, как его… ноба Токаду. У пройдохи имен больше, чем у законных князей, а совести меньше, чем у незаконных.
Последние слова Ульо выговорил особенным тоном, чуть насмешливо. Было очевидно, что он копирует кого-то из взрослых. Он даже повел рукой, как сделал бы тот человек. Женщина, — прикинула Ана. И улыбнулась — наверняка мама непоседы…
Ульо между тем добыл свистульку, высунулся в окно и принялся дуть, извлекая мерзкий, скрипуче-кошачий визг. Звук был вдвойне отвратителен, поскольку создавал в улицах эхо и долго не затихал.
— Можем идти, — убрав свистульку, сообщил Ульо. — Шель сам всё поймет и всем вломит. И лечить он умеет. Если не застанет нас, сделает вид, что не знает, кто свистел. И мама…
Дверь распахнулась, в комнату влетел молодой ноб, не трудясь постучать или хоть кашлянуть, сообщая о себе. Ноб — так сразу решила Ана, глянув на кружево ворота и саблю с вензелем.
— Гэл, на тебя охотятся … — выпалил прибывший, запнулся и съехал на колени, глядя на Ану и делаясь дряблым, потерянным… — Ма… Мама, — ноб покачнулся и упал на локти. Завозился, отпихивая осколки, озираясь и недоуменно мыча. Снова сел и заставил себя повернуть голову, хотя это далось ему с трудом. — Так не бывает. Так не… Я помню из детства только лицо на портрете в зале того дома, откуда мы бежали, когда бес… Мою матушку звали Инайна Эви хэш… нет, не желаю упоминать ту семью. Матушку отравили. Вы не можете быть ею, но лицо то самое, и волосы, — ноб жалобно глянул на Ульо. — Я в тумане… Ул, кто она? Молчи, не хочу знать ответ. Я не желаю выяснять ничего, что разрушит случайность.
— Все нити связываются и сплетаются вьюном, — Ульо глянул на Ану. — Ты сказала и вот… Ты ему кто? Он вообще-то очень разумный, в привидения не верит, в дракона не верит, в сны, гадания и прочее тоже не верит. И пьет мало.
— Скорее всего, я ему сестра, — чужими губами, не желая того, выговорила Ана. — Которую убил бес, так он думает, как я думаю… я запуталась. О небо, да как прожить в столице до весны, если я уже хочу сбежать без оглядки? Я точно сбегу, прямо сейчас! Поем и сбегу. Поем, устрою выступление и сбегу. Поем, высплюсь, устрою выступление и… и что я скажу папе, если окажусь конченная трусиха? Папа меня не пожелает заметить. Бара станет жалеть. Эмин скажет что-то успокоительное из пустынных мудростей, но без теплоты. — Ана саданула кулаком по полу, порезалась об стекло и крикнула: — Я не могу сбежать! Ну и пусть всё в узел и катастрофа, и Лоэн прав, а я не выслушала… Не могу сбежать!
У стены шевельнулся и застонал Гэл. К нему метнулся Ульо, бесцеремонно толкнув окаменевшего ноба Тана. Один из подонков, оглушивших Гэла, завозился и начал подниматься с пола. Ана без рассуждений пнула его мыском в висок, вырубая надолго, может и до полудня.
— Я аж охолонул, душевный же ж удар, — пробасил в ухо смутно знакомый голос.
Ана обернулась, обреченно понимая: в столице совершенно нельзя встретить обычных или хотя бы незнакомых людей. Этот — крупный, мягкий в движениях, мелкоглазый, и правый глаз темнее левого — помнился по раннему детству очень внятно.
— Шельма, — хлопнув по широкому плечу, позвала Ана. — Перевал. Гроза. Я играла в кости первый и последний раз в жизни, потому что обещала папе, что больше никогда, а ты и вот он, как я теперь понимаю, его имя было Голос…
— Ана, — расплылся в улыбке Шельма. — То-то ж смотрю, белая голова! Одна или с ним же ж?
— Одна! — охотно пожаловалась Ана.
— Притерпишься, — Шель подмигнул и добыл из воздуха кружевной платочек. — Во! Руки мои, руки… Хоть вяжи, хоть руби, а тянут же ж! Бери. Не для слез, для острастки. Смекни: бабский платочек. Ты хоть на ноготь же ж баба?!
— Да ну тебя, — Ана ощутила, как тяжесть, возникшая после разговора с Лоэном, наконец-то покидает душу, растворяется в теплоте интересной встречи. И следом пропадает рой мыслей-ос, прилипших к медовому абрикосу Альвира. — Шельма, как я рада! Ты не переменился. А Голос совсем выправился. Я молилась за него. Не знаю кому, и папа насмехался… только он думал о вас. И тоже желал здоровья.
— Вот же ж! — Шельма даже порозовел.
Ноб, которого Ана старалась обходить взглядом и мысленно не называть никак и тем более — братом, шевельнулся, перевел внимание на Шельму, протянул к нему дрожащую окровавленную руку.
— Щас обработаю, терпи ж, — велел тот и скользнул к Гэлу, тронул пульс, стряхнул с плеча короб и вмиг смешал капли. — Ул, метнись за водой. Влей ему, и путь же нюхает уже. Ничего, отживет. Он живучий, если б еще был умный, вот же ж… а с чего началось? Лия невесту нашла ж, опять! Он и сбег, и заперся. Я б подалее сбег. То-то ж!
В разломанное окно втянулся еще один гость — так ловко и тихо, как мог только алый. Ана поклонилась, очень довольная: настоящий незнакомец.
— Что с фонарями, что без, я неизменно застаю вас ночью вне дома, — прибывший кивнул Шельме и искоса глянул на Гэла. Затем он поклонился Ане. — Сэн хэш Донго. Полагаю, вы причина того, что мой сын вне дома. А я повинен в том, что он там был совсем один… обсуждать вопрос вредно. Начнем с вас и закончим мною, безоговорочно виновным. Давайте сделаем вид, что всё в порядке. Тан, изволь встать и высказать то, что першит у тебя в горле. Как только оно обретет звучание, тебе станет легче. А так ты посинеешь…
— Прошу вашего внимания в смысле слуха чести, — выдавил ноб-брат, кланяясь Сэну. — Если такое возможно… то я имею честь представить мою сестру, Тиану Инайну хэш Гост. Жи… — Ноб сглотнул, едва владея собою. — Живую?
Ана с ужасом глянула на Ульо, на Шельму…
— Я просто Ана! И я сбегу, — пообещала она. — Ну и пусть, ну буду трусиха… Всё лучше, чем такой-то кошмар.
Перед мысленным взором предстала картина, достойная конца света: столичные нобы во главе с новоявленным братом, все строгие и в кружевах, жгут на высоком костре пустынные шаровары, а с ними заодно ожерелье из черепов, кофту о сорока шелках… И норовят изловить Ану, запихнуть в карету, а то и хуже, отправить на бал!
— Не пугай девочку, — примирительно предложил Сэн. — Её зовут Ана, и она со временем обдумает новости. Она сама решит, что именно ей подходит из того, что может дать семья.
— Она похожа на маму более, чем это вообще возможно, — прошептал ноб-брат, и Ана снова вздрогнула.
— Снежный пух волос, взгляд — из шелка в сталь, — шепнул Гэл, пока не способный даже приподнять голову без помощи. — Тан, уймись. Мне даже из обморока видно: она похожа на третьего канцлера более, чем это вообще возможно. Такое сходство, дополненное умением драться, сулит скандал на весь город. Светлые волосы в Эйнэ не редкость, но по-настоящему белоголовых нобов алой крови в столице двое… было еще вчера. Надо вызвать Лионэлу, пока не поздно.
— Она моя гостья, и она хочет кушать, — громко сообщил Ульо. — И я буду с ней… работать! Я буду метатель ножей, что бы ни сказала мама. Папа, ты слышал? Эта Ана под моей защитой!
И Ана поняла, кого стоит держаться в столице, чтобы не пропасть… А еще она подумала: не только умысел беса Альвира или ловкость беса Лоэна сплели нити судеб в узел. Куда больше потрудился папа Ан. К нему тянутся бессчетные нити, он давно и окончательно врос в мир… И, отправляя сюда, папа именно это имел в виду: надо научиться жить в сложном мире, где для тебя, приметной и упрямой, очень мало случайностей, и значит, на тебе всегда — ответственность. И для тебя всякий новый друг — это дюжина новых врагов…
— Не сбегу, с чего мне бежать-то? От меня пусть бегают, — прищурилась Ана и походя пнула второго злодея, некстати очнувшегося. — Буду зимовать! А кто не спрятался, я не виновата.
Путь Ула. Безжизние
Ул шагнул из Турвры, мира альва Алеля, мысленно представляя каменный лабиринт Мастера О… и споткнулся, минуя междумирье! Начал падать, заспешил — и оказался выброшен в явь резко, неожиданно. Уже ступив в мир, Ул снова споткнулся, и на сей раз ему не хватило ловкости, чтобы удержаться на ногах… Ул больно саданулся локтем и перекатился, замер с опорой на левое колено, ошеломленный и уже осознавший: он не сам выбрал дорогу и не просто так споткнулся, ему устроили подножку и ловко перенаправили сюда.
Первый же взгляд объяснил, что сулят такие «случайности». Ул опирался коленом, ладонью и стопой о гладкий камень довольно обширного плато, ровного, как бальный зал нобов и черного, как озеро Хранительницы тайн. Кстати, сам воздух имел едва уловимый запах, позволяющий узнать её мир. Снежинка внимания, особенного и смутного — она тоже присутствовала. Более того: казалась ближе, ощутимее.
Плато окружала высокая ограда скал — сплошная и отвесная, и потому место походило на ловушку. Ни перевалов, ни троп, ни даже самой малой щели: лишь кручи до низкого тусклого неба — черные с узором серебряных прожилок.
Прямо перед Улом, в трех шагах, замерли в ожидании бесы. Десятка два, все при оружии. В середине — вервры, а вернее рабы рэксты. Их Ул узнал по звериному безумию в глазах. По краям строя — горглы… эти наблюдали врага отстраненно и чуть опасливо, ожидая приказа высших.
— Для тебя всё кончено, — прорычал средний рэкст, самый крупный и яростный. Он грохнул по камням длинным копьем. — Бой! Тварь четвертого царства, ты преступил закон и лгал королеве! Ты не поклонился ей, будучи частью нашего мира. Ты…
— Да-да-да, пёсики тявкают, пёсики рады, что для них нашлось дельце, — прошелестел голос Осэа. — Пёсики давно никого не рвали во славу хозяйки.
Хранительница тайн явилась из скал, пройдя сквозь камень. Осэа миновала и строй бесов, не испытывая осложнений — никто не посмел заступить ей дорогу. Рэкст с копьем склонился, рыча от ярости, но даже он проглотил насмешку и принял свою роль «пёсика». Осэа явилась в своем дневном облике. Золотая маска сияла солнечно, ярко. Тьма глаз в прорезях маски оставалась бездонной.
— Ты ведь понимаешь, что убить тебя несложно, наследник Ул, — Осэа жестом создала кресло и заняла его, и расправила складки плаща. — Или ты самонадеян до безумия?
— Я понимаю, — кивнул Ул. — Даже странно, что я еще живу, и бой даже не начат. Видимо, я интересен вам. Остались неурегулированные вопросы?
— Сперва мы желали убедиться, что ты — это ты, то есть законный наследник. Затем мы получили послание от Лоэна и начали с ним торг, суть которого для тебя темна. После приложили усилия, чтобы избежать худшего сценария, о котором и предупреждал Лоэн. Он безупречен в прогностике и комплексном моделировании конфликтов. Он дал понять: ты лишь первая волна, крайне глупо тратить силы и время, отрезая у моря волну… Они, — Осэа презрительно покосилась на рэкстов и горглов, — тупое мясо. И тебя готовы рвать, как мясо… Мы полагаем, применение силы не решит проблему, но выведет её на иной уровень. Мы выявили тебя и способны частично контролировать, благодаря карте палача. Мы также способны устранить тебя. Но что нам делать с новой волной? Мы ничего не знаем о ней и будем вынуждены снова искать, тестировать… Атлы — самые гибкие и приспособляемые из всех созданий вселенной. Чем более мы усложним условия, тем более парадоксальным окажется ответ четвертого царства. Ты слушаешь?
— И я благодарен. Мне наконец соизволили дать пояснения, — усмехнулся Ул, хотя понимал, что слушает не пояснения, а приговор.
— Итак, мы пришли к выводу, что убьем тебя лишь в крайнем случае. Если ты откажешься от сотрудничества. — Осэа жестом отодвинула строй рэкстов и горглов, те слитно качнулись назад, на три шага. — Но убивать тебя следует очень быстро… Пока не вмешался Шэд, ведь даже Лоэн не смог дать прогноза по намерениям великого змея. — Осэа повторила жест, и строй воинов снова отодвинулся. — Мы желаем, чтобы ты добровольно принял решение, наследник. У тебя большое сердце. Это слабость и уязвимость — такое сердце… Ты не готов ради сомнительного будущего начать большую войну. Сотрясти царства, бросить в кипящий котел разрушения друга Алеля и его хрупкий мирок, стереть в пыль Мастера О, разрушить врата жизни и смерти, оберегаемые Ургом. Мы дали тебе время и возможность обрасти привязанностями. И теперь ты слаб. Ты должен согласиться на условия, которые лично тебе невыгодны, но сберегут баланс.
— Звучит отвратительно, — поморщился Ул.
— Противоположностью бессмертия является вовсе не смерть. — Осэа указала на скалы, и камни раскрылись пещерным зевом. — Там изнанка бессмертия. Я создала ловушку для атла, я работала долго и полагаю, что учла всё. Войди добровольно. Так ты исчерпаешь долги перед иерархией и даже… станешь воистину свободен.
— Никто не бывает свободен от предназначения, кроме слабаков, готовых отвернуться от судьбы. Судьба — оазис в пустыне, и путь к нему неизбежно ведет сквозь пекло. Так сказал Монз, — Ул упрямо улыбнулся. Достал карту палача и показал Осэа. — Я нашел ответ постепенно, ощущая, как карта срастается со мной. Не знаю, интересен ли мой ответ лично вам. Но я готов поделиться им, не с иерархией, а с вами. Рисунки — не долг и тем более не рабское клеймо иерархии. В них совет по выбору пути, для каждого — свой. Потому все и вытягивают разные карты, непредсказуемо. Суть карты — быть дорожным указателем на тропе судьбы. Вы тут все сумасшедшие! Кто-то вроде меня в незапамятной древности заготовил стопку превосходных дорожных знаков… а вы приковали себя к ним и так и не вышли в путь, и других не пустили! Все вы на целую вечность застряли в пекле… и забыли про оазис. Разве вот мой враг, багряный бес, он сильный, и он справился. И Алель справился. И Ург, и…
Ул глянул на Осэа и прикусил язык. Он не посмел вслух высказать свое мнение о ней и её мире, хотя собирался заглянуть к Мастеру О, чтобы поспрашивать о Хранительнице и выбрать окончательный ответ на вопрос, невесть с чего показавшийся самым главным, едва Ул осознал его.
— Довольно длинное последнее слово, — Осэа снова указала на зев пещеры. — Пока вы тянули время, заполняя его пустыми словами, успели обдумать решение? Бой и смерть — или повиновение?
— Никогда не бывал в пещерах, — Ул взъерошил волосы. — А схожу и гляну, что там и как.
— Гляну? — Осэа изобразила смех. — Какая тонкая шутка. Потребуется время, чтобы наследник сам смог осознать всю глубину её. Но, так или иначе, мы избежали кровопролития и исключили вмешательство сторонних сил. Идите. Времени у вас вдоволь, отныне и впредь.
Ул кивнул, наконец-то поднялся с колена, ощущая, что тело затекло, да и мысли ворочаются в голове сонно. Он поклонился Осэа и сделал первый шаг к пещере. Рэкст с копьем взвыл, дернулся вперед — и наткнулся на прозрачную стену… Рэкст оскалился, царапая преграду, норовя проломить, и тогда уж уничтожить врага, без приказа и даже против приказа! Глаза полыхали багрянцем и желтизной, и это были звериные глаза без малейшей соринки человечьего тепла…
— Не знаю, можно ли вернуть тебе — тебя, несостоявшийся враг. Разве она, — Ул кивнул в сторону Осэа, — сберегла в озерах и твою память? Ты достоин жизни и памяти, но пока ты безумен. Мне жаль.
Ул поклонился, отдавая дань уважения существу, которое наверняка в незапамятном прошлом было иным и стоило уважения. Ул оглянулся на Осэа.
— Одна просьба. Могу я задержаться и сделать очень простой рисунок? Это быстро.
— Мне самой забавно, есть ли что-то, что еще не поздно сделать для него, — Осэа кивнула, взвесив решение. — Извольте.
Ул добыл грифель Мастера О. Примерился, в несколько штрихов прямо на прозрачной преграде создал контур огромного волкодава — и котенка, свернувшегося в его лохматой шерсти…
— Монз сказал: подлинная сила — в сбережении хрупкого, а вовсе не в безответственном разрушении. Вы злы, в вас неутолимая жажда боя, потому что у вас нет своего… котенка. — Ул последним штрихом подправил пасть волкодава, наметив одновременно и длинный клык, и улыбку. — Вдруг да получится найти его? Желаю удачи.
Ул поклонился. Нехотя, медленно отвернулся. Сегодня он проиграл бой, не доставая из ножен саблю. Он следует чужому плану, Осэа всё сказала верно, и Лоэн давным-давно предупреждал: для каждого однажды станет неизбежен бессмысленный выбор из двух зол. Если, конечно, Осэа играет в ту игру, правила которой объявила только что. Если и Лоэн играет в ту игру, которой от него ждет королева. Если Ул напрасно спешил к Мастеру О со своим вопросом, до сих пор невысказанным. Ул замер на краю пещерного зева.
— Хранительница… это вы поняли, что я шел к Мастеру О? Вы перенаправили меня?
— Вас перенаправил сам Мастер О. Добавлю, он сделал это без колебаний, — охотно поделилась сведениями Осэа. — Вы разочарованы?
Ул покачал головой и шагнул в тень. Теперь он не сомневался в своих догадках и совсем не желал, чтобы кто-то увидел выражение его лица. Сдавшись и приняв бесчестный выбор, который хуже смерти, наследник просто обязан быть сгорбленным и жалким!
Вряд ли кто-то в иерархии знает, что учитель Монз, мудрец и умница, добрейший человек в мире, сам устроил встречу ученика с багряным бесом. То есть обрек Ула на смерть, так? Или — совсем не так: Монз дал надежду и ему, и даже бесу… Встреча позволила Улу увидеть врага, заглянуть в него — и что-то изменить в нем и в себе. Да, с болью, грубо, даже непосильно… Но перемены стоили того! Теперь новый учитель — Мастер О — бросил ученика в пасть пещеры, именуемой изнанкой бессмертия. И только Улу решать: принять тот выбор, который ему огласили вслух, то есть проклясть учителя и отчаяться, полагая себя преданным — или сделать собственный выбор, поверить в учителя и идти вперед с открытыми глазами. Потому что таков его новый урок… Хотя, казалось бы, что можно увидеть во тьме? Осэа прямо намекнула: «глядеть» Улу отныне не на что.
Ул сделал несколько шагов, слушая сердце и погружаясь в густеющий сумрак. За спиной с шорохом сошлась пасть пещеры — будто затянулся лед на реке. Сразу смерклось. Постепенно то место, где недавно был вход, перестало различаться, затем угасли звуки… и Ула окружила первозданная тьма.
— Жутковато, — шепнул Ул.
Тьма слизнула звук — и он сгинул, будто и не рождался вовсе. Ул пошевелил руками. Тьма не отдала никаких ощущений! Ни тепла, ни холода, ни дуновения ветра. Ул раскинул руки и пошел вперед… Довольно быстро истрепал смысл этих слов — «вперед» и «идти». Ул перебирал ногами во тьме, всё более похожей на умеренно густое масло, и не находил опоры. Не было ни края скалы, ни потолка над головой, ни пола под ногами. Всё меркло, увядало, гасло.
Дыхание? Но дышит ли он?
Голос? А что это, когда нет звука? Тепло и холод, день и ночь, сон и бодрствование, голод и сытость, свет и тень… Трепет сердца, ток крови… Ничего не осталось. Только вязкая пустота. Подлинная бездна, откуда вычерпали всё, что составляет жизнь.
Ул сосредоточенно сел, пока тело слушалось и помнило, что это значит — сидеть. Ул расслабился и закрыл глаза, ведь так темнота казалась более естественной. Ул сложил ладони на коленях постарался отрешиться от окружающего.
Однажды Монз запер ученика на всю ночь в подвале, пустом и темном. Монз провернул ключ в скрипучем замке. Монз повздыхал там, на воле, где есть книги, рыбная ловля, неизведанные и знакомые крыши ночного города, кипящий жизнью порт… «Человек содержит в себе мир, ты слышишь, попрыгунчик? — Монз покашлял, выдержал паузу. — Я говорил тебе такие слова трижды, и трижды ты не накопил времени и желания сесть и обдумать их. Посему я создал условия и не оставил тебе выбора».
Время до утра тянулось мучительно. Ул устал в ту ночь от тишины, безделья и пустой маяты. Он вроде бы мог лечь и выспаться… Но не получалось! Сон обрывался, и скрипучий голос Монза снова и снова гулял эхом в недрах темного сознания. В том подвале, за одну ночь, Ул не стал «целым миром». Он утром дулся на учителя и еще неделю был раздражителен, даже сварлив.
Сейчас больно и страшно задаться вопросом: а жив ли Монз? Во что старому обошлось устройство встречи багряного беса с учеником? И почему надо так много времени, чтобы накопить благодарность… которая теперь камень, отяготивший душу, ведь её некому отдать.
— Благодарю, учитель, — без звука выдохнул Ул, улыбнулся… и ощутил, как по щеке сползает одинокая капля… и как душа делается легче, светлее, шире.
Слезная дорожка на коже оказалась той ничтожной мелочью, которая всколыхнула вязкое болото «изнанки бессмертия». Слезинка таяла, а внутри, в душе, крепло ощущение жизни — оно имело теплоту и лучилось светом. Оно позволяло если не увидеть, то отчасти понять малую часть тьмы, удивиться: тьма эта — неоднородна! У тьмы различаются по крайней мере три особенности. Уд задумался, перетирая в щепоти пустой руки смыслы, разыскивая годные и щелчком отбрасывая ложные.
— Тяжесть, — губы обрисовали первый годный смысл.
Определив смысл, Ул полнее его ощутил и постепенно смог изучить, постичь: тяжесть копится давно, она чужая, неподъемная… Более того: никто прежде не пытался сдвинуть её. У тяжести нет места: рука не может указать на неё или хотя бы задать направление. Но тяжесть — давит!
— Рана… глубокая рана, — Ул нахмурился, удивляясь тому, как слова наполняют тьму смыслом.
Рана тоже чужая. Она не кровоточит, но боль её неисчерпаема. Рана… с самого начала и далее всегда — отнимает силы. Неисцелимая? Или — неисцеленная? Ул ближе ощутил смысл раны, почти слился с ним! По коже пополз озноб, захотелось лечь, свернуться клубком. Дышалось трудно, ребра ломило, особенно на спине. Ул насторожился и постарался осознать себя отдельно от этого смысла, слишком уж яркого и опасного. Он — здоров! Он лекарь, опыт мира Турвры именно теперь бесценен. Рана — сложная и незнакомая: никто из людей Турвры не получал подобных увечий, и все же, если изучать ощущения… Рана — на спине, выше поясницы, и задеты кости. Хуже — сломаны, грубо смяты. Причина… Падение? С какой высоты, вот вопрос!
— Отчаяние? — примерил Ул определение к третьему смыслу и остался недоволен. Он указал следствие, а не причину. — Предательство? Как-то не вполне так.
Ул смолк, надолго ушел в себя… Снова вслушался в окружающее ничто. Он был иным и понимал мир иначе, чем тот, кто создавал неоднородность во тьме. Ул, в отличие от того, другого, не умел впадать в отчаяние и не чуял предательство, как нож в сердце. Он еще ребенком научился уклоняться от брошенных соседскими детьми палок. Он умел прощать и снова вливаться в общую игру, если позовут. Он делал усилие — и прощал, порой великодушно, а порой снисходительно…
А если бы он был слаб и каждая палка оставляла синяки и ссадины? А если бы боль донимала, не успевала уняться до попадания новой палки? А если бы он не умел уворачиваться? Ул знал и такой ответ: он бы прощал тихо и терпеливо, совсем как мама Ула. Ей причиняли боль куда худшую, чем названому сыну. Ей норовили досадить грубыми словами и многозначительным молчанием, фальшивым сочувствием и неподдельной радостью сытого и сильного — рядом со слабым и голодным… Но мама прощала. Потому что у неё огромное сердце. Это — слабость? Хранительница тайн Осэа вслух сказала то, что следовало сказать. Но прозвучали слова — фальшиво. Делать столь грубое упрощение странно для неё, безмерно древней и сложной.
Большое сердце мамы Улы обладало огромной силой, оно оживило названого сына, подарило надежду семье Сото, продлило годы учителя Монза, вернуло беззаботность улыбке Сэна…
— Одиночество! — выбрал Ул и понял: он точно указал суть последней особенности тьмы!
И еще: Ул наконец смог узнать это горькое, беспокойное ощущение… Оно — снежинка на ладони, соринка в глазу. Оно помогло выдержать допрос Осэа — такое хрупкое… ничтожное. Оно помогло, потому что было родственно воспоминанию из собственного детства.
Кончики волос Ула слегка шевельнулись: друг-ветерок смог и сюда дотянуться, раздул серебряное свечение — едва Ул осознал полноту смыслов.
Свечение на кончиках волос родилось слабое, но достаточное, чтобы глаза уловили его и возрадовались: они не слепы! Ул стал медленно поворачиваться, вытянув руки. Раскрытыми ладонями он пробовал ощутить то, что понял: тяжесть, рану и одиночество. Он был лекарем и не сомневался, что изнанка бессмертия содержит того, кто нуждается в помощи и может быть исцелен атлом-лекарем.
Серебро стекло с кончиков волос и иссякло, впиталось во мрак. Ул то ли брел, то ли плыл, то ли оставался на месте — но прилагал усилия! Он знал за собой это несгибаемое упрямство. Он причинил немало переживаний маме, но даже она уважала сыновье упрямство, пусть и укоряла иногда — тихо, со смущенной улыбкой… Укоряла, перемогала боль — и гордилась.
Ул рвался сквозь тьму, растворялся в ней, захлебывался… по крохе, по пылинке, утрачивал себя: память, ясность сознания, даже пресловутое упрямство. И все же он рвался. Уже плохо понимая, куда и зачем, насколько долго…
Рука дотянулась до холодного, тонкого. Ул вздрогнул, очнулся! Вспомнил себя, свою цель и то место, где он очутился по воле королевы. «Противоположностью бессмертия является вовсе не смерть», — сказала Осэа. И она определенно знала, о чем говорила!
Ул ощупал то, до чего дотянулся: кокон из тонких нитей, вязких, похожих на болотную траву. Их сложно рвать: вроде и не сопротивляются, но соскальзывают, уворачиваются. Их много, они отвратительны. Их очень много, слишком… если поверить себе, то вся тьма пронизана гнилыми нитями, готовыми налипнуть, спеленать тело и превратить в бессильную, навечно покорную начинку кокона… В гусеницу, которой никогда не стать бабочкой.
Нити под пальцами были особенно противны, они тесно слежались. Нити окутывали свою жертву — давнюю, если не древнюю… Ул рвал нити, и наполнялся яростью, какую прежде наблюдал только у Сэна — алого бойца, способного понимать и защищать правду. Волосы светились уже не тускло, а бешено! По нитям пробегали блики серебра, выжигали гниль.
Ул оскалился, обнял рукоять сабли, вспомнив об оружии. Клинок явился, полыхнул алым и золотым, и змей на рукояти — малая частица Шэда — засветился радугами в каждой крошечной чешуйке. Змей скользнул в гущу гнилого кокона и пропал там. Ул резал нити, отодвигал и снова срезал, и снова отодвигал, отбрасывал! Ул теперь сам стал светом и находился в центре пространства, отвоеванного у тьмы. Он тянул к себе тонкую, прозрачную руку — ту самую, до кончиков пальцев которой дотянулся недавно… Или давно? Впрочем, время не имело значения.
В какой-то миг кокон раздулся, заколебался — и лопнул изнутри! Змей-Шэд словно взорвался, пронизал кокон брызгами радужной чешуи. Змей снова собрался воедино, сверкнул — и мирно пристроился на запястье Ула.
— Лия? — испуганно позвал Ул, приняв невозможное и неоспоримое сходство.
В недрах изнанки бессмертия, в коконе гнилой тьмы, безмерно давно отчаялась и затихла, растворившись в вечной боли, маленькая девочка. Она была трогательно и мучительно похожа на прозрачную волшебную Лию из времени золотого лета. На умирающую маленькую Лию, в которую Ул влюбился с первого взгляда. Для неё стал ярким, выздоровел… Дело не в цветочной пыльце, которой его раскрасили.
В тот день — издали всё видно ясно! — Ул захотел стать сильным. Очень сильным, всемогущим… Он всей душою желал жизни и радости девочке с прозрачными пальцами. Для неё научился творить чудеса и оживлять сказки. Для неё сохранил в душе нерастраченное, звонкое золотое лето.
— Лия, — еще раз позвал Ул.
Он уже видел отличия: девушка, отвоеванная у тьмы, была старше ребенка-Лии, её волосы то ли от рождения имели белоснежный цвет, то ли утратили прежний и выбелились в бесконечной пытке боли и отчаяния. Худоба девушки не смотрелась болезненно, ей шло быть такой вот — прозрачной и легкой, как пушинка. А еще у этой Лии всё было слишком для человека: пальцы — невозможно длинные, кожа тончайшая, рисунок пустых, бескровных сосудов на тыльной стороне запястья — незнакомый, у людей не бывает подобного.
— Лия, — Ул, бережно обнял девушку, уложил её голову себе на плечо.
Сердце Ула сжалось, дрогнуло… Золотое лето вернулось, иное и куда более яркое. До боли яркое! Стало жарко, невыносимо жарко! Ул даже чуть отодвинул легкое тело — а вдруг обожжет, напугает своими воспоминаниями?
Узкое лицо обиженно скривилось, веки дрогнули… и Ул окончательно пропал, забыв дышать. Глаза девушки, сине-зеленые, полнились летом и небом. Но тень омрачала это лето — словно мир, где оно цвело, погибал прямо теперь.
— Здравствуй, — Ул тронул кончиком указательного пальца бесцветные, искусанные губы Лии. — Всё станет хорошо. Слышишь? Монз сказал: иногда жизнь — всего лишь хорошая привычка. Из-за привычки он дважды справлялся с тем, что непосильно уму и сердцу. Слушай. Жила-была девочка Лия. Она болела с самого рождения и лежала под вышитым одеялом тонкая, бледная… Ну прямо травинка, что тянется сквозь щель камней, а света ей все равно не достается. Без опоры она пропадет. Но я — опора. Честно. Я знаю тебя, давно знаю. Всегда…
Ул примерился и нарисовал указательным пальцем камни, изгиб травинки. Чуть помешкал, отступил и добавил дальний лес, несколько штрихов крыш неважного пока что и почти невидимого поселка… Палец оставлял во тьме едва заметный — и то, может статься, он чудился Улу, — серебряный след. Ул покосился на девушку: она умела и желала видеть рисунок! Всматривалась, и небо её глаз обретало глубину, густоту настоящего цвета.
— Лия знала, что никогда не расцветет, что ей отпущен короткий век. Она больше всего хотела услышать пение весенней птахи. Но в саду у Лии не жили лесные птицы.
Используя свободную руку и помогая второй, Ул изобразил дерево, уделяя внимание прихотливому переплетению ветвей. Наметил зародышки яблок и удивленно вспомнил: да, в том саду росли яблони. Он и не заметил, но запомнил!
— Я уговорил веселую зорянку, она согласилась петь для Лии.
Ул быстро прорисовал редкие прутья клетки, птицу на жердочке.
Лицо девушки обиженно дрогнуло, в уголках губ залегло страдание…
— Эй, посмотри на птицу и на клетку! — Ул понял причину новой боли. — Прутья-то редкие! Даже голубь свободно выпорхнет. Называется «пропорции». Это я выучил и показал без ошибки! Птиц нельзя заставить петь. Ты разве не знаешь такой простой истины? Улыбайся, уже пора: осенью Лия попрощалась с птахой и уехала в город. Здоровая. Совсем здоровая.
Указательный палец принялся создавать в вязкой тьме городскую стену и башню при воротах Тосэна, карету на дороге, сонных стражников, ленивого кота, двух склочных нищих, торговку Ану… Всех их ладонь Ула без жалости смахнула, смешала в перламутровую пыль прошлого.
— Лия выросла, встретила алого ноба Сэна и согласилась читать его стихи, хоть они и были совсем нехороши. И с того дня…
— Она предала тебя, — шепнула похожая на Лию девушка и закрыла глаза, и Улу показалось, что он ослеп! Тьма набрякла, отяжелела, обрела власть…. — Все предают. Всех предают. Всегда, в любом мире.
Раскрытый, побежденный кокон зашевелился, потянулся к жертве — и попытался оплести её тело, растворить во тьме её душу. Ул плотнее обнял девушку и снова уложил её голову себе на плечо.
— Слушай, просто слушай, — Ул погладил волосы, такие мягкие, что тронуть боязно. — Эй, что за слова о предательстве? Лия — мой друг. Сэн тоже друг. Они красивая, складная пара. Лия не виновата, что я уродился вот такой, странный. Что медленно расту. Она не виновата, что мы неподходящие, если судить по-взрослому. Я люблю лазать по крышам, пропадать в лесу и странствовать налегке, чем дальше — тем лучше… Лия — человек города. Вон рисунок зорянки и клетки. Я зорянка, но я расту и стану постепенно… такой вот лапчатый гусь!
Девушка вздрогнула, и Ул постарался поверить, что рассмешил её, пусть лишь на мгновение. Он быстро нарисовал гуся. Голенастого, наглого, хлопающего крыльями и готового щипаться и гонять даже крупных собак!
— А Лия? — еле слышно шепнула девушка.
— Она выросла и стала… — Ул грустно улыбнулся, — стала клеткой? Она умеет ограничивать дурных людей и запирать вовсе негодных. Я знаю… Но разве могут быть счастливы вместе птица — и клетка? Она отпустила меня. Это было больно, но честно. Я не предавал Лию, когда позвал тебя её именем. Ты услышала, проснулась, и я не чую за собой вины. Мне светло. Я давно знаком с тобой и многим тебе обязан. Мы не виделись, но и без того сделались связаны и вот… повстречались. Я перелетный гусь… улетел очень далеко от дома и только так нашел тебя. Ты ведь тоже — птица, и ты летаешь куда выше.
Ул нарисовал птицу в полете. И внизу — луг, лесную опушку, село Полесье, реку Тосу, игрушечный замок Тосэн, прихотливую вязь дороги. Наконец, себя — букашку на дороге, одну ничтожную точку…
— Я не такая птица, — вздохнула девушка. — Нэйя выбирают один раз. Когда нас предают, мы падаем и ломаем крылья. Меня предали двое, он и… лучшая подруга. Совсем как тебя. Отчего ты смог это пережить и летаешь?
— Я люблю летать, — Ул широко улыбнулся и снова ощутил пряный дух золотого лета. — Надо бы поблагодарить его и её, твоих предателей. Ты разбилась вдребезги и значит, свободна выбрать снова. Я медленно расту и так себе гусь… Но я познакомлю тебя с мамой, решено. Это большой шаг. Я намерен представить вас совершенно серьёзно. Потому что мне снова лет семь от роду, я снова цветочный человек. Но теперь я поумнел и не намерен ждать перемен, сидя у реки. Перемены по реке не плавают, как сухие палки. За ними надо очень далеко идти, сбивая ноги…
— Но я сломала крылья, — девушка попробовала высвободиться из объятий.
— Я не буду ловить тебе птицу и дарить цветок, как делают белые лекари для больных моего мира, — Ул удержал девушку за руку, развернул к себе и прямо глянул в синее небо её глаз. — Не буду… у людей жизнь короткая, и дарёной радости им может хватить. А ты проживешь долгую жизнь. Очень долгую! Я стану рисовать птиц в любой подходящей темноте. Ты научишься видеть темноту уютной и ничуть не пустой.
— С тобой… дышится, — в голосе девушки дрогнула горечь. — Но я сломала крылья и сама просила покоя, если нельзя получить смерть. Это, — девушка повела рукой, обозначая всю «изнанку бессмертия», — единственное место, где я способна теплиться. Жить у меня нет сил. Умереть — нет воли. Меня не отпускает она… та, отнявшая всё, кроме жизни. Она — моя клетка. Клетка для недобитой птицы…
Девушка закрыла лицо руками и скорчилась, и снова к ней потянулся кокон неизбывной боли. Ул решительно встряхнул легкое тело.
— Я пригласил тебя в гости к матушке! Моей матушке люди столько раз ломали крылья, что и не перечислить. Её предал любимый. Подруга отравила её сына, а соседи оговорили: мол, мама наложила проклятие на дом разлучницы. И чем дальше, тем чернее выгнивали сплетни. Однажды я спросил учителя Монза, отчего матушка не разучилась верить в людей. Он сказал: мир исконно несправедлив. Он весь — тьма и боль, раны и крошево костей. Потому что всякий стремится к лучшему месту и топчет окружающих, и идет по головам. Только солнце нарушает закон несправедливости. Оно дарит и греет, заранее зная, что взялось за неблагодарное дело. Солнце однажды иссякнет. Но разве это повод, чтобы отказывать в рождении бессчетному числу вёсен, чтобы не наполнять силой зерно и не создавать жизнь для огромного мира? В общем, если ты солнце, изволь гореть. Такая судьба крылатых. Очень высокая. Обжигающе ответственная.
— Я не могу, — виновато шепнула девушка. — Правда не могу.
— Светить? Но я не о том. Просто попробуй, всего-то разочек, подышать в живом мире, — осторожно предложил Ул. — Нырнуть сюда и захлопнуть кокон уж всяко успеется. Ведь ты вольна шагнуть отсюда в любой мир, да? Ведь так?
— Но ты останешься, пока я не поговорю с ней… а я никогда не смогу. Я не смогу! Я…
— Навести матушку, передай привет от меня, — сказал Ул, как о решенном. — А я пока отосплюсь. Знаешь, как я устал? Лечил и лечил, а люди в мире Алеля умирали и умирали… я так себе лекарь.
— Ты настоящий лекарь, — шепнула девушка. — Не знаю как, но я… попробую. В прошлой жизни меня звали Лэйгаа. Никто не сокращал мое имя до Лея… Не знаю, отчего я расслышала это имя. И даже отозвалась. Значит, звезды светят и нарушают закон несправедливости?
— Да! — возрадовался Ул, и его волосы полыхнули серебром. — Монз говорил, что это общее у звезд и людей — умение дарить свет и тепло. Доброта создает тепло и возрождает жизнь. Еще он говорил: доброта — внутри. Нельзя просить её у кого-то, нельзя огорчаться, если её нет. Доброта — высшее чудо… Разве странно, что чудеса приключаются редко? Это вполне себе обычное дело. Да расти чудеса, как грибы в лесу, они бы и были грибы, а не чудеса!
Девушка тихонько, неуверенно улыбнулась. Проследила, как Ул снимает змейку и укладывает на её запястье. Как змейка-Шэд оплетает руку. Ул погладил радужную чешую.
— Шэд, ты ведь сможешь с ней пройти путь в четвертое царство? Присмотришь за Лией? И еще: я уверен, что знаком с твоим вервром. Если я прав и знаю его, как графа Рэкста, то он точно в моем мире. Еще я думаю, что иерархия не оставит мой мир в покое, утопив меня во вселенском болоте. Ты пригляди, пока я за всех… отсыпаюсь. — Ул погладил змейку и заодно руку девушки, до самого локтя. — Лия, то есть, наверное — Лея? Теперь я думаю, что именно тебя должен был встретить в то золотое лето. Но ты… ты проспала! Я не в обиде, ведь я спас очень хорошего человека и обрел друга! Лея-Лэйгаа, я непременно стану рисовать тебе птиц и цветы каждый день. А пока я подброшу тебя — и ты взлетишь в мой мир. Ты легкая, как перышко, Лея… ты пушистое солнышко. Пока ты помнишь меня, я смогу уцелеть, и даже здесь мне не будет темно.
Ул поднял невесомое, действительно птичье, тело, подбросил — и Лея пропала… тьма вокруг сделалась густа и тягуча. Но гниль и затхлость более не донимали Ула. Он безмятежно свернулся в клубок, длинно зевнул… Успел внятно, осознанно подумать: насколько же глубоко и искренне Осэа верила в «слабость» большого сердца, если решилась открыть путь для малознакомого наследника атлов во тьму, которая ей уже невесть как давно — то ли соринка в глазу, то ли здоровенная глыба, придавившая душу?
— Мастер О, я умею учиться? — пробормотал Ул и провалился в глубокий сон.
Глава 10
В которой рассказывается о зиме в самом начале 3224 года
Столичные истории. Абрикосы на снегу
— Умоляю, — Гэл бухнулся на колени и взглянул на Ану так жалобно, как только мог. — Ты добрейшая душа, хотя ловко скрываешь это. А я напишу трехстишья для ярмарки, куплеты к номеру с ножами, дразнилки о…
— Если бы ты умолял для выгоды, — Ана нахмурилась. — То что бы… бы? То ты бы был не ты, а я бы тебя бы взашей гнала аж до леса! Но ты — это ты. Обидно, я по рукам и ногам, и тетка Лия — хитрющая в мире. И бедный дядька Сэн, не жизнь, а пытка, и…
— Ты говори и одевайся, — осторожно предложил Гэл.
Стуча коленями по дощатому полу, он на четвереньках юркнул через комнату, сунулся под диван и стал рыться в пыльных недрах, звякая стеклом и бормоча о пользе закуски и бесполезности стихосложения.
Любой в столице, вплоть до последнего нищего, знает: у Гэла яркий синий с золотом дар, его стихи способны вызвать трепет в самой сухой душонке. Но герба и права зваться нобом у Гэла нет и, наверняка, не будет. Чтобы получить то и другое, следует складывать хвалебные оды и преподносить нужным людям в подходящее время. Гэл умудряется сочинять что угодно, только не оды.
Вервр Ан одному ему ведомым чудом выправил уродца Голоса — кривого, сухорукого — в складного молодого человека с несколько бледной, но чистой и ровной кожей, с гордо посаженной головой и крупными, искрящимися смешинкой золотисто-карими глазами… Шель шепотом признался Ане: он сам едва узнает выздоровевшего Гэла, ведь прежде тот горбился, цвета его глаз никто не видел, как и самих глаз. Темные — даже матушка Ула не сказала точнее, а Лофр и вовсе уперся: черные, вроде чернил! Стройный Гэл сделался выше ростом, на него заглядываются девицы, даже когда он не читает стихов… Но неизменно, всюду, Гэл умудряется нажить врагов и завистников. И выходит: на бал ему без нобы-спутницы никак не попасть.
Ана смущенно пожала плечами. Перечесть покровителей и друзей Гэла легко на пальцах одной руки. По-настоящему на его стороне двое: Шель и Сэн. Еще Токада хэш Миаст хэш Нэро хэш… сколько у проходимца родовых имен? — и со всеми с ними Токада кое-как дослужился до пятого ранга и звания гербового секретаря высокой коллегии. Он — ноб княжеской крови, и увы, он постоянно в бегах, долгах и сплетнях. Вся защита друга с его стороны состоит в умении быстро сообщить об очередной беде сановной нобе восьмого ранга Лионэле хэш Донго. Постоянный девятый ранг позволил бы ей не кланяться князю… и вызвал бы неустранимый страх переворота у последнего — так пояснила Ане сама Лия, прямо при гостье очередной раз изобретательно отказываясь принять повышение статуса, хотя градоправитель и даже родичи-Тэйты, давние и постоянно её недруги, уже не первый год за глаза величают Лию — княгиней… Кстати, и градоправитель, и Тэйты готовы кому угодно приплатить, чтобы Гэл сгинул без следа и не писал новых стихов.
Стоит отметить: Гэл увековечил не только врагов, но и друзей. Сэну хэш Донго посвящена «Песнь чести и крови» — произведение сильное, мрачно-величественное… и, по мнению многих, выставляющее алого ноба хладнокровным убийцей. Лия получила свою порцию отборных сплетен, когда Гэл завершил «Нежность шипов ядовитых» — тончайший, ироничный сонет о дворцовой жизни. Ну а травнику Шелю посвящена «Щедрость руки, что гостила во всяком кармане», давняя шуточная песенка, которая и теперь, что ни ночь, звучит в питейных заведениях. Из-за Гэла другу Шелю вовек не избыть сомнительной славы самого ловкого из воров города Эйнэ.
Ана удалилась в соседнюю комнату и принялась остервенело воевать с нижним платьем, звякающим каркасными прутьями. Гэл слышал звук, но продолжал чихать под диваном и бормотать без рифмы, нервно и быстро. Не иначе, — решила Ана, — ему и впрямь надо попасть на бал. Вроде бы там его ждет заказ на переписывание книги, очень выгодный, а денег на оплату комнаты нет — это и Шель подтвердил… Ана, спасаясь от пустых сомнений, резко нырнула в омут бального платья, темно-голубого, прохладного, с густой пеной кружев.
— Эй, чернильница! — заверещала она, вдев ладони в короткие рукавчики и извиваясь гусеницей. — Удуши меня, пора.
— Прости, по мнению Лии я стараюсь для общего блага, и твоего тоже, — Гэл осторожно заглянул в дверь. — Всего разок выгуляешь имя на балу, и оно сделается полноценным в правовом смысле, — Гэл затянул шнуровку на спинке платья. — Готово. Вот затащу тебя на бал, и Лия в награду помирит меня с бароном, которого я сгоряча назвал поросеночком. Из-за такого пустяка он в ярости. Даже Дорн подтвердил.
— Хм… тот самый третий канцлер, которого ты дней десять назад ославил «наследником беса багряного»? И после ему же в глаза лепетал: мол, я в положительном смысле, ведь это правда, люди седеют и мрут от одного вашего взгляда…
— Я был честен, — смутился горе-поэт.
— Ну-ну, — Ана с разбега преодолела дверной проем, который был явно узок для юбки. — Смирительное платье… Дышать едва могу, пнуть никого вообще не могу. Как я зла!
— Мы быстро сбежим с бала, — пообещал Гэл. — Я паду на колени перед свиномордым и восславлю доблесть его деда. Ты отмучаешься в один тур танца. Только помни о правиле приветствий.
— Ага, надо приседать, ну точно как под кустиком, — Ана кисло поморщилась. — Зачем я согласилась?
— Затем, что я правда поговорю с Таном, чтобы он поговорил с тобой о багряном бесе. То есть, — сразу поправился Гэл, — чтобы он молча и терпеливо выслушал тебя. Да: как бы тебе сказать… в Эйне очень странные слухи о Тане и бесе Альвире. Говорят, они так близко знакомы, ну так близко… Ну совсем. Ты бы поговорила с Таном и об этом тоже. Для его пользы. Как сестра.
Гэл многозначительно нахмурился и смущенно растянул губы в улыбке просителя. Ана отмахнулась. Она знала о сплетнях. Глупости! Людишек хлебом не корми, им требуется неразбавленное… дерьмо. Они же людишки, то есть грызуны хуже кроликов. Их или давить и стращать, или просто не замечать. Тан молодец, не замечает. А что ходит в сад к Альвиру и сажает вместе с ним всякие там цветы и кусты… Так Альвир бес, для него зелень — смысл жизни. И, сколько бы он ни плел вьюнов интриг и ядовитых лоз обмана, а Тан ему — друг. Может, единственный на весь мир. Как сложилась эта дружба, что соединило их? Может, оба слишком одиноки и обижены на мир. Может, у Тана дар укоренять черенки — ведь даже Лия признала: ни один из посаженных им не исчах и не засох! Или вода, которую Тан возит для Альвира из лесных ключей — самая сладкая?
Гэл осознал, что ответа на его намеки не последует, пожал плечами и двинулся к двери, распахнул её на всю ширину и взглядом указал на лестницу, витую и тесную…
— От так называемой семьи вреда больше, чем от платья. Но ты прав, я надеюсь помирить злюку братца с папой Аном, — Ана начала втискиваться в лестничную тесноту. — Что он сказал о том, о чем я просила узнать? Со мной не стал обсуждать. Но ты ему — друг. Ты мог осторожно, намеками…
— Дались тебе абрикосы, — Гэл смахнул с дивана перчатки, веер и меховую накидку Аны, нашарил на полу несколько медяков, выкопанных из мусора. — Я окольно спросил. Он был в гостях у Альвира третьего дня. В саду нет абрикосов. Откуда б зимой?
— Надеюсь, это не важно. Но что-то странное есть с этим садом и его абрикосами. Я съела один, и меня ночь за ночью донимало такими снами! Аж еще один хочу. Аж готова пойти и попросить у беса. Это странно! Даже опасно. И еще: сам бес сказал, что абрикос был гнилой, а он не был гнилой. Я и с Лией говорила, и с красноглазым умником. Никто не верит в абрикосы. Только Сэн, но ему я жаловалась сегодня утром, и он пока не говорил с…
— Я тоже верю тебе, — смиренно кивнул Гэл и накинул на плечи Аны мех. — Очень прошу, вылезая из кареты, не подтягивайся на руках за край её крыши. Ты сегодня ноба.
— Вот еще. Этого я никому не обещала!
— Ты права, я тоже не понимаю, зачем тебе быть нобой. Сэн согласен со мной… — Гэл первым забрался в карету и отгреб в сторону ворох подушек. — Но кто мы такие, чтобы менять решения советницы Лионэлы?
Герб рода Гост на дверце кареты еще слегка пах краской. Ана молчала всю дорогу, ногтем сколупывала перламутровые завитушки с веера. Хотелось сбежать, а то и малодушно сорваться, завизжать в голос, призывая на помощь папу, Бару, Эмина и даже Ному! Всех своих! В карете копилась тень, набитая, как пылью, богатством и неволей. Ана смотрела в щель шторок — и ей казалось, что никто в городе не улыбается…
Дворец сиял огнями, шуршал льдинками сплетен и во все свои рыбьи, пустые глаза пялился на счастливицу, которой благоволит сама советница Донго. Глашатай проорал длинное имя с титулами, которые, в отличие от перламутровых завитушек, запросто не сколупнуть. Слуги с хэканьем рванули голубое платье из недр кареты: точно так, припомнила Ана, в деревне дерут репу из сухой закаменелой земли.
— Ботва, — сквозь зубы обозвала себя Ана и, повинуясь умоляющему морганию Гэла, изобразила вялое подобие улыбки.
Мех с плеч удалось ловко уронить в руки ближнего слуги. Гэл помог правильно распределить шлейф платья. Подал руку и повел через широко распахнутые двери в первую залу, а оттуда галереей — в жаркую и яркую бальную толчею, где разносортная знать перетиралась в жерновах пестрого хоровода.
Ана сразу увидела покровительницу — Лионэле не было тесно в любой толпе, никто попросту не смел заступить ей дорогу. Советница беседовала с пожилыми столичными шишками, увешанными золотом. Тем временем на Ану, продирающуюся сквозь толпу, как труха, сыпались обрывки разнородных сплетен. Мол, опять ноба Донго на балу одна, без мужа, и дома он давно уже не ночует, с крыш по месяцу не слезает: говорят, умом тронулся, крови жаждет, на луну воет! А вот третий канцлер вовсе живет в кабинете и туда же водит дешевых девиц из веселых домов, все это под предлогом допросов. Отец его был точно таков же, и куда только дикарка Чиа смотрит? Хотя может, скоро найдут еще какую девку со сломанной шеей — да и сделают вид, что на ледяной мостовой поскользнулась…
Слова казались Ане паутиной. Они липли, липли… и застили свет. Но Лия оставалась безупречно сияющей, и к ней — не липло. Все обсуждения, домыслы и гадости словно не касались великолепной советницы. Она любезно кивнула собеседникам, прощаясь, и обернулась к жертве благодеяния. Сложенным веером указала Ане место подле себя, по правую руку.
— Хуже навозных мух, — Ана почесала локоть, принюхалась.
— Бес Рэкст обожал балы, — промурлыкала из-под веера Лия. — Кстати, в его дневниках дела на балах упоминаются так: «Ворошил навоз». Иногда приходится исполнять и такую работу. Не будь брезгливой.
— Они же о вас с Сэном, и еще о…
— Когда руки коротки, распускают язык, — повела плечами Лия.
— Значит, вы навоз гребете, тетушка?
— На жирные навозные балы не зовут всех подряд, — Лия поправила локон прически. — А здесь… здесь приходится просеивать сор и искать зернышки.
— По мне так лучше обмолота дела нет! Цеп в руку и гвозди себе, — Ана сжала маленький кулак и мечтательно прижмурилась.
— Вот и граф Гост, — советница улыбнулась, заметив нужного человека, и сразу кивнула следующему, приглашая приблизиться. — Иди, я занята.
Братец Тан довольно ловко протискивался сквозь толпу. Его пропускали, едва приметив широчайшую улыбку умалишенного. Ана сколупнула с веера последний кусочек перламутра. Плохо иметь хороший слух! О Тане тоже шептались: мол, ясное дело, такой интересный мужчина, и в одном доме с семьей Донго. Что отношения у него с бесом особые, так оно понятно, но это дело прошлое. Теперь его добыча — советница, золотой трофей. И так называемую пропавшую сестрицу ловкий граф раздобыл, чтобы явное в глаза не слишком бросалось. А толку? Лишь подтвердил слухи: стала бы сама ноба хэш Донго хлопотать за чужих?
Тан выглядел хуже пьяного, пошатывался и едва дышал. Сплетен он не слышал, поглощенный своим счастьем: сестра жива, нашлась и рядом! Собственно, из-за брата — нелепого, чудовищно наивного для столицы, Ана и согласилась на пытку балом. Трудно поверить, что Тан — родня… А вот сам он так долго был один и так яростно, с первого взгляда, поверил в родство, так многословно и бестолково рассказывал о маме, которую не помнил сам, но узнал о ней все, что можно, со слов её знакомых, друзей и даже врагов…
— Сестра, — Тан подал дрожащую руку.
— Ни разу не ходил на наши с Ульо представления, — упрекнула Ана и стала переставлять ноги мелко и часто, чтобы платье скользило, а не двигалось рывками. — А я вот явилась в ваш балаган. Зачем? Ну зачем тебе это, а?
— Да хоть бы ради багряного выродка, — улыбка Тана сделалась оскалом. — Дворец Гост — его, и кем ты собираешься быть там, если не хозяйкой? Поклон, малый. Это…
— Без подробностей, — попросила Ана и присела, соорудив на лице гримасу радости.
— Поклон, — смирился Тан. — Глубокий поклон… Малый.
Он вел сестру и шептал приказы, ведь гербов и лиц Ана не знала и узнавать впрок не желала. Танцевать ей полагалось с тем, кого укажет лично князь. Еще бы, такое событие: объявилась еще одна наследница имения, исконно принадлежащего багряному бесу! Значит, или Рэкст согласен с происходящим, или однажды вернется и все расставит по местам. Князь решил заранее подстраховаться, и именно теперь крайними сделал Лию и Тана: она представила наследницу, он назвал сестрой. Путь все знают это!
Рука Тана напряглась, когда по залу прокатился удар литавр — и затем сразу же зазвучали первые такты музыка. Шепоты и шорохи стихли. В главном коридоре застучали подковы башмаков… И вот уже из дальней от Аны арки внутренних дверей появился её партнер по танцу. Он шагал через огромный зал, и тишина густела, и даже музыка звучала как-то нервно, неуверенно: ведь к наследнице имения беса Рэкста шел нынешний столичный бес, Альвир.
Глаза у Альвира были зелеными — и совершенно ледяными. Из-за этого Ана едва смогла узнать его и, даже узнав, по-прежнему сомневалась и присматривалась, опасливо щурясь.
— Прошу, — бес подал руку. — Вы знакомы с движениями танца, о прекрасная Тиана?
— Ты совсем замерз, — ужаснулась Ана, укладывая ладонь в холодные пальцы беса. — Так замерз, что хочется назвать на вы.
— Верный выбор. Кроме того, место и обстоятельства определяют тон и тему беседы, — бес соорудил на лице воистину деревянную улыбку. — Танцевать подобает молча либо обсуждая погоду. А она всю зиму невыносима для меня.
— Тебе же Тан — друг! Ну зачем ты сегодня втянул меня в какое-то болото, навредив и ему… Ну зачем? У него же праздник был, минуту назад весь этот бал был ему в радость, а ты!
— А я — бес, — еще деревяннее улыбнулся Альвир. — Моя карта — Отравитель. Разве вы не знали? Разве это новость для вас?
— Так ты же себя травишь!
Дальше танцевали молча. И это оказалось более тягостно, чем ожидала Ана, отправляясь на ненавистный ей нобский праздник. От протыкающего насквозь взгляда беса ныл затылок, от его ледяной руки онемели сперва пальцы, затем ладонь, локоть, плечо… Казалась невозможной та осенняя встреча в саду. Словно столиц несколько, словно та была — в ином мире, во сне, в сказке… Но уж точно не здесь, не с этим отстраненным и сосредоточенным существом! Оно движется и улыбается, как человек, оно даже дышит… и все это ложь, издевательство над самим смыслом жизни!
Танец закончился, Ана с огромным трудом разжала зубы. Бес кивнул кому-то и, не глядя, протянул ему руку. Вложил то, что подали, в ладонь Аны… отвернулся и быстро удалился. По залу пролетел шепоток: все обсуждали подарок Альвира. Ана стояла, заледеневшая, и смотрела на розу в ладони. Цветок имел редкостный сиреневый оттенок с переходом от грозового сумрака у основания лепестков к трогательно-нежной белизне по их кромке. Розу бес вложил плотно и еще прижал — так, чтобы шип глубоко вошел в ладонь. Теперь роза пила кровь, и её стебель возле шипа отчетливо темнел.
— Идем, — поддел под локоть Гэл. — Уже можно!
Ана вздрогнула, очнулась. Позволила тащить себя сквозь толпу. Гэл отдавливал ноги мужчинам и наступал на шлейфы женских платьев, кого-то поддевал в двустишьях и перед кем-то звонко и весело извинялся. Гэла узнавали, проклинали за бесцеремонность и хвалили за удачные стихи, адресованные недругам. Ему советовали сгинуть с бала, его называли швалью и гением, ему советовали не гулять ночью и сразу приглашали пройтись и вместе выпить… Ана плохо понимала слова, все силы уходили, чтобы переставлять подламывающиеся ноги. Боль накрывала волнами, вынуждала захлебываться, вызывала рвотные спазмы. Боль вскипала жаром в крови, чтобы тотчас оставить тело в ледяном поту. Ана не верила, что сможет дойти до дверей. Но Гэл упрямо тащил и ловко подставлял плечо, и никто вроде бы не догадывался, насколько плохо юной нобе.
Когда за спиной с легким стуком сошлись створки двери, Ана сползла на колени, откинулась на стену и бессильно поникла. Это был почти обморок… Гэл упал рядом — и Ана снова очнулась, отдернула руку с намертво зажатой розой.
— Не трогай! Яд.
— Он что, он тебя… — ужаснулся Гэл, так и не решившись вслух договорить вопрос.
— Папа давным-давно позаботился, меня бесполезно травить. — Ана вцепилась свободной рукой в плоскую флягу, отхлебнула настойку, крепкую и терпкую. Фляга была теплая — Гэл всю зиму бегал по городу налегке и таскал за пазухой «грелку» — травяную настойку друга Шеля.
— Опустите сюда, — велел голос откуда-то сверху. — Так и разит зеленью. Я зол… он действовал нарочито грубо!
Ана разжала руку и проследила, как черный стебель в мелких язвочках скатывается в золотой кувшинчик. С трудом запрокинув голову, Ана смогла увидеть человека, так предусмотрительно явившегося с годным вместилищем для ядовитого подарка.
— Канцлер Дорн, — выдохнула Ана. — Я должна извиниться. Мы так и не поговорили о важном. Я сказала вашему сыну Дару, где искать дракона.
— Его и до вас многие посылали подалее, лишь бы отвязаться, — канцлер брезгливо осмотрел розу. — Благодарю за содействие. Вы вряд ли понимаете, но вы посетили бал и тем сняли с меня сплетню, а также впутали в весьма пикантные разбирательства людей князя. Что можно сделать, чтобы вам стало лучше?
— Я уже отдышалась, — соврала Ана и попыталась вспомнить, что недавно говорила. — Ах, да: я назвала Дару настоящее место, это наверняка так. Дар первый, с кем я познакомилась в столице, и это была очень теплая встреча. Вот только он сразу сказал мне, что у вас дома неладно… И я опять виновата, не поговорила с вами.
— Да все у нас неплохо, — покосившись на Гэла, вздохнул третий канцлер. — Только мы будто по разным тропам идем в одном и том же лесу, я и моя Чиа… или сам лес не один и тот же? Или даже у неё лес, а у меня, — Дорн мрачно осмотрелся. — Болото!
— Знаете, я с детства думала, что у дракона четыре лапы и два уса, — шепотом сообщила Ана. — Но у того, которого зовут Эн… у него много усов любой длины, удобной ему, и еще у него шесть лап. Понимаете?
— Не понимаю, — заинтересовался канцлер.
— Спросите у вашей Чиа, кто такие медведи, попросите описать их подробно, — подмигнула Ана. — Я видела её. Не так давно, я как раз лепила ночью снежки с…
— Даже Лия знает, с кем пропадает её сын, — канцлер встал, сочтя разговор исчерпанным. — Отдыхайте. Мы позже найдем время и обсудим берлоги, снежки и прочее… важное.
— Чиа сказала, что я ничуть на вас не похожа. Ну, про цвет волос и прочее. И еще сказала, что медведи живут на деревьях и прыгают дальше здешних белок, — Ана вцепилась в штанину канцлера. — Эй! Да перестань запирать себя, ты ж не ядовитый, в отличие от розы! И я не ядовитая, и…
— Сердитая, она со всеми на ты, — пискнул Гэл и отодвинулся на шаг.
— Прыгают дальше белок? — брови Дорна поползли вверх. — Медведи?
— Да! Не путайте меня, я и так запуталась. Как же сказать то, что я пытаюсь сказать? Ох, голова болит. Главное касается сада Альвира, и медведей. Я вижу иначе, потому что мой Ан чуткий. Я научилась у него. Послушайте: и медведи разные, и сады. Вы видите за оградой одно, Тан — другое, потому что он Альвиру — особенный человек. Бес впускает его глубже в душу. А я нечаянно пробралась в ту ночь до самого дна его души… Да услышьте вы! Я думала, что увидела тогда настоящего беса, и что Тан ему друг, и он иногда почти как папа. Но теперь сомневаюсь. Он, кажется, слишком сильно отравил себя.
— Вы усложняете, — с сомнением предположил канцлер.
— Мне дурно, но я пытаюсь понять что-то важное, не надо меня отвлекать! Что же я чую? Яда у Альвира сейчас — много! Слишком, понимаете? Зачем ему яд? И где его яд? Он отравил меня, хотя знал, что папа Ан будет зол и что это не убьет меня. Зачем же травил? Чтобы я слегла? Чтобы Тан от него отшатнулся? Чтобы самому не передумать в чем-то важном? Я не понимаю…
Канцлер сел и некоторое время молча обдумывал услышанное. Затем кивнул.
— Гэл, что в точности Тан сказал относительно абрикосов?
— Что в саду зима, снег сугробами и тропиночки узенькие.
— В здешнем мире и медведи не прыгают, и сад в снегу, — Дорн помолчал и кивнул. — Я так давно не говорил с людьми вроде Ула, что стал слишком взрослый. Забыл, миров ведь много… То, что вижу я, не обязательно соответствует тому, что происходит на самом деле. Ана, я поговорю с женой о медведях, если удастся, то прямо сегодня. Обещаю, в следующий раз мы будем искать дракона вместе с Даром. И я заново займусь темой зеленого яда, очень внимательно… Ты этого хотела?
Ана отпустила штанину. Канцлер устало и грустно улыбнулся.
— Чиа не любит город. А я прирос и привык. Таскаю кувшинчик с душистой смертью-розой и сцеживаю яд с самых злых языков. Лет пять не забирался ни на одну крышу без того, чтобы начать облаву или затеять переговоры с наемниками. Ана, ты смогла напомнить мне нечто бесценное. Я обязательно гляну сам, отчего в Эйнэ так много шума из-за ваших с Ульо представлений. Станете выступать на зимней ярмарке?
Канцлер не дождался ответа, который и так знал — должность обязывает. Он зашагал прочь, неся кувшинчик на вытянутых руках, принюхиваясь и фыркая от отвращения.
— Медведи бывают разные, летучие и ползучие, — напевно сообщил Гэл, помогая Ане встать. — По крышам гуляют лучшие, и сны им…
— Прикуси язык, не порть друзьям жизнь, — попросила Ана. — Ну что тебе неймется?
— Прикусил, — прошепелявил Гэл, зажав зубами кончик языка.
Он уже вел Ану коридорами, все дальше от нобского праздника. Платье делалось тяжелее и неудобнее с каждым шагом. Но Гэл обещал, скоро все наладится, надо лишь добраться до зимнего сада. Там — безлюдно, там скамейки и свежая вода… За стеклянной дверью скрывался живой мир — темный, пахнущий цветами и листвой. Гэл брел наугад, шипя и отбиваясь от веток, норовящих выколоть глаз. Ана тащилась следом, почти повиснув на плече поэта. И слушала его привычное, успокаивающее бормотание: изодрал рубаху, а заказывала Лия, вещь дорогущая… и снова вроде не те слова не в ту свиную рожу запустил, и во фляге два глотка осталось, а Шель в отъезде… И зачем в саду так густо понатыкали деревьев и так редко — фонарей? Чтоб влюбленных отличать по свежим синякам, что ли…
Так, вслепую, Гэл довел зрячую в темноте Ану до скамьи у фонтанчика.
— Тут никого не бывает ночами, — Гэл набрал полные горсти воды и помог Ане напиться, и умыл её. — Слухи утверждают, что сад строил багряный бес. После заката тут якобы слышится его кровожадный вой, и даже бродит его голодная тень. Многие верят.
Вдали хрустнула ветка. Что-то звякнуло, заскребло по стеклу… Гэл вздрогнул. Для него сумерки были слишком густы, и наверняка богатое воображение населяло их и тварями столь же невероятными, как прыгучий медведь. Для Аны света хватало, и она постепенно приходила в себя, наблюдая за тонкими, как пушинки, бликами на воде фонтанчика. Голова покоилась на краю мраморной чаши, щека ощущала приятный холод. Хотелось подремать… И почти верилось: вот-вот здоровье вернется. Яд розы уже побежден, но дело-то не в нем! Куда хуже яд обманутых ожиданий. Ана верила, что бес Альвир помнит осень, что для него та ночь жива и тепла… Ведь она видела прошлое, и она с той ночи знала: Альвир прежде был иным, и прошлое все еще не утрачено безвозвратно. Значит, бес может измениться, вернуть себе — себя… А он! Как можно отравить свою же память? Зачем?
Блики на воде сделались ярче, зазолотились. Ана улыбнулась им, как ожившему воспоминанию, как подтверждению своей правоты… Но это оказался лишь отсвет фонаря.
— Он здесь, с ним тощая девка, только-то, — сообщили от дверей сада. — Плевое дельце. Лишь бы не сбёг!
Зашелестели шаги — ближе и ближе, захрустели грубо отталкиваемые ветки. Вот порвался огромный, похожий на парус, разлапистый лист какого-то южного растения, вот сочно и жалобно скрипнул трубчатый стебель… Скрип тяжелых башмаков надвигался с трех сторон, вода в чаше морщилась мелкими волночами. Гэл оглянулся на Ану, качнул головой. Вряд ли он пытался дать знак, он ведь полагал темноту глубокой и непроглядной. И он лишь сам с собою решил: Ане дурно, и так даже лучше, пусть сидит в полуобмороке. Она никому не нужна, её не тронут.
— Девушку не трогайте, — велел Гэл, будто имел право приказывать. И пошел на голоса, удаляясь от скамейки. — Я здесь.
— Дурацкое платье, — прошипела Ана, вмиг забыв о слабости, о недавнем отравлении и обиде на беспамятного Альвира. — Гэл! А ну назад, без глупостей!
Платье не просто путало ноги, оно весило вместе с нижним корсетным не менее самой Аны! Вскочить и прыгнуть, чтобы поймать Гэла и остановить его? Пустое намерение! Вскочить-то Ана смогла, но тотчас упала, оттолкнулась от каменного крошева дорожки, вскочила, снова упала! Вцепилась в край мраморной чаши, ощутила холод и влагу, услышала, как ближний из наемников грязно выругался. Зашипел клинок, выползая из ножен…
От этого звука Ана успокоилась и ярко, зримо вспомнила летний день в прибрежном Корфе. Тогда пятнистый от азарта Ош Бара протянул руку в поверхности озера, срывающимся голосом спросил: «Я достоин фамильного клинка, дед?»… и вода отдала сказочно точный, весомый ответ.
— Я достойна фамильного клинка, Ан? — выдохнула Ана, шаря в темной воде, слишком мелкой, слишком затхлой…
Рукоять сама прыгнула в ладонь, теплая и удобная. Ана хищно улыбнулась, рванула добычу из мраморной чаши — будто из ножен! Лезвие со свистом сделало круг, срубая ненавистную юбку и превращая останки корсета — в нелепый, растянутый стальными спицами во все стороны круг ткани на талии. Сама юбка растопырилась на полу поверженным чудищем.
Ана прыжком выскользнула из плена бального наряда, сразу метнулась через сад и — дотянулась, успела: дернула Гэла назад-вбок, убрав шею поэта из-под росчерка наемничьей сабли.
Влажная рукоять грелась в руке, и кончики волос Аны грелись, потрескивали серебряными искрами. Блок, выпад, косой рубящий удар — и толстая, налитая мышцами наёмничья рука брякнулась на тропинку, продолжая сжимать саблю. Ана метнулась мимо калеки, рассмеялась, хлестко раздавая оплеухи и смещая бой подальше от Гэла.
Рослый наемник, оказавшийся за спиной Аны, сунулся было душить, уже локоть завел под горло — и завизжал, нанизавшись на корсетный прут. Растопыренный обрубок юбки хрустнул, окончательно встал дыбом… Ана пропустила мимо бока широкий тесак и срезала кисть руки, держащей его.
Шаг, два веерных движения, перебор кончиками пальцев по коже — у раненных надо срочно перекрыть кровотечение, так научила Нома! Еще один танцующий шаг мимо однорукого наемника, скорчившегося в траве. На миг Ана поймала его взгляд, очень внятно поняла состояние: затравленное, прямо-таки кроличье.
И вот рука Аны, поставленная плоско, замерла, касаясь кадыка главного в банде — он остался в бою позади прочих, с фонарем и ключами.
— Замерли, — велела Ана.
В саду сделалось тихо. То ли никто не смел дышать, то ли пока не мог? Фигуры застыли, словно каменные. Все глаза с тупым ужасом щурились, едва осиливая сумрак и не смея верить: эта тощая, полураздетая девчонка — смерть ходячая! Ана толкнула кадык кончиками пальцев. Наемник икнул и заметно посинел.
— Дыши, — разрешила Ана. Чуть помолчала, ожидая, пока сказанное дойдет до сознания врага. И добавила громче, четче: — Что за преграда находится между моими ногтями и твоей смертью?
Ногти касались горла наёмника, даже чуть-чуть царапали кадык.
— Н-ничего, — признал наемник. Сполз на колени. — Пощади. Алые ведь чуют, если раскаяние…
— Неискреннее, я чую. Но преграда есть, пока именно так. Первое: меня уважает папа Ан, он надеется, что я перезимую и не разнесу город по камешку. — Ана загнула указательный палец. Второе, — Ана согнула средний палец, — я себя контролирую и не настолько зла, чтобы… хм. Третье, ты пока не убил. Четвертое, — Ана покосилась на остальных наемников, их было пять и все они обреченно молчали, побросав оружие. Значит, признали в противнице алую кровь… — Четвёртое и последнее: а вдруг дома вас ждут дети? Вдруг они верят, что вы люди, и у них еще есть вот такой маленький шанс оказаться однажды правыми, ну хотя бы отчасти?
Ана посмотрела на свой мизинец и тяжело вздохнула. Детей было жаль. Их пустые надежды — тем более.
В саду вдруг сделалось светлее, и Ана задохнулась от изумления: по щеке главаря наемников, стоящего на коленях, скатилась слезинка. Настоящая, полная раскаяния и боли, и следом вторая, такая же крупная и весомая! Глаза у мужика сделались детскими, удивленными, в них читалось: «Что я натворил, и как это я до такого докатился?»…
— Уходите, — разрешила Ана.
Сейчас казалось важнее важного убрать подалее лишних людей и осторожно обернуться, чтобы не спугнуть огромное, непосильное самой Ане чудо. Оно там — за спиной. Оно полно света. Оно так могуче, что смогло выжать слезинку у пройдохи-наемника! Хотя довести такого до раскаяния не проще, чем вызвать дождь в долине Жажды, во время песчаной бури. Эмин записал на наречии Корфа легенду о певце весны — золотом нобе древности. Папа Ан прочел и признал: он сам стоял под дождем в той долине, встретив певца. Он был восхищен… Тогда он был багряный бес и всё же сберег чудо. Он вывел из песков певца, когда люди умудрились позавидовать ему и пожелать гибели.
И вот рядом, в паре шагов — равное по силе чудо! Стоит лишь обернуться. И Ана — обернулась, едва дыша.
На кромке каменной чаши то ли стоял, то ли парил едва касаясь её края, полупрозрачный ребенок, укутанный в туманный шелк. Ана закрыла глаза, тряхнула головой и пообещала себе не слушать байки пьяных поэтов. Ана открыла глаза и снова взглянула на чашу, фигуру, отражение в воде.
— Здравствуйте, — Ана исполнила подобающий для нобы в бальном платье полуприсед и запоздало удивилась себе. — Простите, я решила было, что вы привидение. Ой, хорошо же я смотрюсь в этой позе без юбки. Простите. Гэл! Гэл, спаси хоть кого-то из нас от этой дичайшей неловкости.
Поэт замычал и начал слепо, на ощупь, подниматься, цепляясь за деревце, хрустящее от нагрузки. Ана окончательно с собой справилась, рассмотрела: привидение — не ребенок, а девушка, и не в шелке, а в ворохе волос… И пока вопрос, есть ли на ней что-то, кроме волос. Бедняга Гэл получил тычок в основание шеи и сник. Ана выпрямилась и чуть не уронила клинок, о котором позабыла от избытка впечатлений. А вот гостья именно на него смотрела, и бледнела, и делалась прозрачнее от вида и запаха крови…
— Не пропадайте! Не надо так испуганно мерцать, умоляю! Я никого не убила, даже и не собиралась. Но руки гадам надо было оттяпать! Сами посудите: им убивать — сладко! Таких кто-то обязан отправлять на покой, пока они… не поотправляли слишком многих. И я была внимательна, сразу остановила кровотечение. Выживут, и даже сознанием не покосятся… Сейчас им главное свалить, куда подалее. Эй, вы не пропадаете? Если вам неловко, я отойду, только оставайтесь, вы чудо, вас нельзя терять. А меня зовут Ана… А этого, лежачего — Гэл. Он поэт, его убивают, что ни ночь… почитатели заразные! Я мешаю вам болтовней?
— Помогаете, — едва слышно прошелестел голосок. Девушка отвела волосы за спину, стало заметно её платье, то ли пуховое, то ли очень пушистое, плюшевое. — Все живы, хорошо. Иначе я бы… не справилась. Нырнула обратно.
— Там лучше? — Ана надрала травы и начала оттирать клинок.
— Там… темнее. Тише, — девушка шагнула с края чаши, и Ана прикусила язык: странное существо спустилось вниз плавно, как пушинка. — Там неизменно. Всё и всегда.
— Жуткое место, — поежилась Ана, набрала в горсть воды и сполоснула клинок. — А вы кушать хотите? Вам холодно? Может, вы разыскиваете кого-то? Когда я шмякнулась на крышу посреди города, я никого тут не знала. Но это было давно, осенью, четыре месяца назад. Тогда и меня в городе не знали. Хотя некоторые и теперь не усвоили, хоть руби им руки, хоть не руби! Простите.
— На крышу… — легчайшая рука совершила жест, который повторить было решительно невозможно. Глаза у незнакомки на миг сделались светлее, в них вспыхнула перламутровая искорка любопытства, — шмякнулась?
— Да, свалилась с драконьего носа! — Ана замотала головой, — я не сумасшедшая, честно! То есть как посмотреть, я безумно нагло упросила незнакомого дракона покатать меня, я просто не могла смолчать. А дракон попался мягкосердечный.
— Тут много драконов? — искра любопытства разгорелась, как рассвет над морем, глаза обрели цвет, синий с прозеленью… — И вервров?
— Дракона я видела только раз. Его вервра тоже. Честно, вот вервр — так себе, мы не поладили. Расчётливый сухарь и умник. Кроме него мне известны три вервра, звать их Ан, Дорн и Чиа. А что еще я могу рассказать хорошего, чтобы вы не пропали отсюда?
Синие глаза смущенно прижмурились. Ана последний раз протерла клинок и убрала за спину, чтобы разговор легче строился… и тут на крышу зимнего сада с легкостью кошки спрыгнул кто-то гораздо весомее кошки, промчался, вскрыл оконце, нырнул в сад с порывом зимнего ветра. Холод качнулся — и иссяк, не навредив рукотворному лету. Из-за спины Аны выступила Чиа — та самая ноба с прозвищем Дикая, жена третьего канцлера. Она склонилась, коснулась пальцами земли и более не подняла головы, скорчившись на полу!
— Это Чиа, она и есть вервр, — пожав плечами, Ана представила прибывшую.
— Лэйгаа, — пропела гостья, и взмахнула руками-крыльями, и раскрыла их широко, свободно… и снова спрятала в ворох волос. — Зачем так… не надо так!
Боль омрачила синеву взора. Гостья отступила на шаг, сделалась почти прозрачна… Ана заверещала, боясь порвать только что созданную нить понимания, почти готового стать доверием и удержать чудо от испарения, ускользания прочь, и наверняка — навсегда… Ана заткнула себе рот ладонью, смолкла. Рывком вздернула Чиа на ноги, повернула к себе, скорчила зверскую рожу. Чиа в ответ оскалилась и проворчала нечто гортанное, способное поднять дыбом волосы и загнать душу в пятки! Но Ана лишь насмешливо хмыкнула.
— Ты добрейшая душа, только ловко маскируешься. Гэл что-то похожее сказал про меня, но ведь не одна я такая. Эй, я бы тоже сбежала куда подальше, возьмись кто из-за меня лбом полы прошибать!
— Она — нэйя, — шепнула Чиа и попыталась снова упасть на колени.
— А-аа! — Ана вмиг забыла о Чиа, подпрыгнула и уставилась на гостью, и невежливо ткнула в неё пальцем. — Знаю! Вот ты какое чудо! Совсем домашнее, совсем мое и долгожданное! Ты мне сто раз снилась, и всегда с крыльями! Жили-были лебеди нэйя, и они летали парами, и никто другой не летал так красиво. Но люди оказались сволочи, по такому случаю им всем досталось на орехи. Моя любимая сказка! Папа повторял её на ночь, пока не устал и не начал швырять в меня камнями покрупнее, чтоб я унялась. Нэйя. Я так счастлива! Так-растак!
— Растак, — глаза гостьи посветлели, наполнились бликами смеха.
Ана вцепилась в руку Чиа и начала выкручивать её — на болевой прием. Чиа рычала, сбрасывала захват раз за разом, отбивалась хлестко, все сильнее и злее… и получала в ответ.
— Когда нэйя… покинули все миры, мы погрузились во тьму! Возникла иерархия, — коротко, на выдохе, выкрикивала Чиа, норовя отшатнуться, выйти из борьбы вплотную. И тогда уж снова упасть на колени, доводить до полной прозрачности впечатлительную гостью. — Я не смею взглянуть! Никто не смеет! Сам величайший предрек: спасение придет, когда в миры низшие вернется хотя бы кто-то из нэйя. Надо благоговеть и умолять…
— Она еще не решила, стоит ли вернуться, разве не видишь? — заверещала Ана.
Немедленно получила по зубам, смолкла… обозлилась, сменила стиль, снова получила — уже по носу. Больно! Непривычно: Ана давно не встречала тех, кто способен пробить её защиту. Разве вот Бара, но тот неизменно играл в поддавки. Став серьёзнее, Ана взялась последовательно пробовать приемы и техники. Обзавелась дюжиной синяков, до кости стесала коленку, чуть не пропорола противницу насквозь одним из штырей каркаса юбки, наконец-то догадалась отделаться от бесполезного клинка… И только тогда, с двумя свободными руками, подобрала стиль борьбы, действующий лучше прочих.
Чиа взвизгнула и скорчилась, и такая она уже не могла не слушать, ведь орали в ухо.
— Не бухайся на колени, ей не нравится! А ну стой вежливо. Стой, понятно? Так ей хочется! Ей, а не мне.
— Кто тебя учил технике змеи, кошмарный ребенок? — расслабляясь и не делая новых попыток упасть на колени, пробормотала Чиа. Повернулась к нэйе, упрямо глядя в пол. — Простите. Я исполню любое пожелание летящей в свете. Даже если меня просят отказаться от вежливости. Даже если это противоречит словам величайшего.
— Уф, я устала. Драться меня учил папа Ан, который вообще всегда лучше всех! Значит, я тоже лучше всех! И чихать мне на всяких там величайших!
Чиа подняла открытые руки, соглашаясь забыть ссору. Ана в ответ исполнила подобающий для бала полуприсед. Дикая ноба проследила движение и наконец-то заметила, во что превратилось платье Аны… скорчилась и захохотала, изредка разгибаясь, чтобы глянуть на остатки некогда парадного наряда — и снова рыдать, утирать слезинки и задыхаться.
— Гэла принялись убивать, ну я и… драться надо было, вот я и, — Ана обернулась к гостье, пробуя взять её в союзницы. — Ведь удобно же. И быстро, р-раз, одно движение.
Нэйя согласно кивнула, осмотрелась, заметила разрубленное платье — и всплеснула руками. Ана похолодела, попыталась одернуть растопыренный круг ткани на талии. Именно теперь она окончательно все поняла о своем виде! Ниже каркасных прутьев — только штаники. Те самые штаники, что принесла чопорная тетка-портниха, нанятая Лионэлой. И ладно бы портниха оставила и ушла, так нет: занудствовала весь вечер. Снимала мерки и не прерывала ни на миг нравоучение о подобающем нижнем белье. Она же потребовала надеть на бал такое вот — подобающее. Белое с вышивкой и кружавчиками, с фонариками-сборочками в три рядочка, и всё вместе — сплошное слащавое безобразие от пупка и до щиколоток… Ничего подобного Ана прежде не носила, поучений не терпела совершенно, тем более не от папы, Бары или Номы — тех, кто давно рядом и кого она безоговорочно уважала. Даже Эмин Умийя мог сказать многое и рассчитывать на понимание. Но Лионэла… И тем более незнакомая портниха… Да кто они такие?
«Сдохни, этикет!» — первую надпись Ана сделала по рассеянности, швырнув штаники на стол… Рядом нащупалась чернильница, и палец сам макнулся, сам вывел буквы. Крупно, с чувством. Ана решила было немедленно прополоскать белье, но в городе так просто на реку не сбегаешь. И, пока сознание искало способ чистки, бессознание бодрствовало, водило пальцем… Ана очнулась, а на задней части штаников уже красовалось свежее: «Со всем уважением» — фраза, часто повторяемая Лией и заменяющая столичной нобе широчайший набор ругательств. И пошло-поехало… Чернильный бунт украсил ткань каракулями вроде: «Нобы-шнобы», восклицательными знаками и симпатичными кляксочками. Осмотрев итог шалости, Ана странным образом смирилась с неизбежным балом. И она вовсе не собиралась рубить свою же юбку! Теперь пойди пойми, что сработает лучше: надутые губы или нарочито-смущенный вид. Хотя то и другое годится! Все не бальный зал, где смех фальшив, улыбки — маски, и всюду яд сплетен.
— Допустим, смешно, — Ана испробовала надутые губы. — Но не настолько же.
— Настолько! — Чиа фыркнула в кулак: вид виноватой Аны был ей забавен.
Вдали чуть слышно стукнула дверь, зашелестели шаги. Ана в единый миг подобрала клинок, приветственно щелкнула ногтем по лезвию, щурясь от удовольствия и слушая певучий отклик стали. Кто бы ни спешил сюда, ему лучше иметь добрые намерения и плохое зрение. Ана ощущала себя такой же звонкой от готовности к бою, а клинок… Он улыбался неяркими бликами, радуясь исчерпанию сна в тесных ножнах. И он обожал запах и вкус крови!
Скоро у фонтанчика появилась Лия — шагнула из теней, раздвинув нити плакучей ивы. Лия была в бальном лифе и плотно облегающих штанах со шнуровкой по бокам. Куда только дела юбку? Ана прикусила язык, кое-как сдержав неуместный вопрос…
Ноба-советница сразу, одним опытным взглядом, собрала полное понимание происходящего. Безупречно прорисованная бровь дрогнула, отмечая и вид штаников Аны, и радикальное укорачивание её платья.
— Прежде мне представлялась исчерпывающей фраза: «Верх неприличия», — Лия поклонилась Чиа и тепло улыбнулась незнакомке. — Но благодаря вам, графиня Тиана, я расширила горизонты и могу созерцать низ неприличия. Позвольте спросить: как вы в эдаком виде намерены покинуть дворец?
— Да хоть бы и через бальный зал, — задрала нос Ана. — И пройду! И даже на руках! И буду орать: «Почтеннейшая публика! Выступление на ярмарке послезавтра, а кто надписи повторит, тому место в первом ряду!».
— С неё станется, — Чиа фыркнула громче. — Девочка-цветочек… колюченький такой, вроде ежевики, что мне особенно по вкусу. Кстати, где мой канцлер? Он что, нюх потерял? Я здесь, да что там: нэйя здесь!
— Дорн сортирует наемников по числу рук, — Лия задумчиво глянула на скорчившегося в траве Гэла. — Отправил панического толка сообщение, я расшнуровала платье и бегом примчалась. Приветствую, — Лия снова поклонилась нэйе. — Моя душа рада вам, а моя душа редко открывается новым людям столь быстро и полно. Что я могу сделать для вас? Пока я шуршала парадной юбкой, я была Лионэла хэш Донго, но я удачно от неё избавилась. И имя укоротилось… я — Лия.
— Лия? — бледнея и снова приобретая прозрачность, шепнула нэйя.
— А-а! — заверещала Ана, в три прыжка оказалась рядом с гостьей, заслонила её, держа клинок наотлет, в одном движении от вызова на бой. — Ну почему все говорят такое, что её выворачивает из мира? Я не отпущу её! Она мое чудо, лучшее на весь свет! Кто обидит, тот мне враг!
— Позволь поинтересоваться, как ты пронесла на бал саблю беса Рэкста? И как прежде смогла добыть её из личных покоев багряного, куда даже его слуга едва способен заглянуть, цепенея и задыхаясь? — Лия повела плечами и оглянулась на Чиа. — Я уже говорила тебе? Во дворце Гост семь залов, недоступных людям. Этот — дальний и наиболее опасный! Но наш цветочек и туда пролез.
— Я не лазала, а р-раз… и достала, — Ана ткнула в мраморную чашу.
— Вот почему я именно здесь и прямо теперь, — нэйя плотнее прильнула к руке и плечу Аны, зашептала в кружево её воротника. — Атлы умеют доставать то, что называется знаком фамильной чести. Так вы подтверждаете свое прямое родство с людьми четвертого царства и помогаете им сделать шаг к раскрытию в себе полноты силы духа. Ана… Ана, я постараюсь не выпасть из мира. У меня нет сил спросить прямо… Но мне знакомо имя Лия. Есть особенная Лия, она любила атла и отказалась от него.
Лия всплеснула руками, разобрав последние слова. Чиа повторила жест, вряд ли осознавая это. Канцлер Дорн, завершив пересчет одноруких наёмников, шагнул из-за ивовой занавеси, хмыкнул, оценив штанишки, охнул, кланяясь гостье… и тоже узнал оружие в руке Аны, и скривился будто от боли.
— Она видела Ула! — губы Лии дрожали. — Видела! Живого, и недавно. Как бы то ни было, камень с души, он не пропал вовсе, он не забыл нас.
Ана оскалилась, мрачно изучая, как прирастает общество: вон и доверенный человек канцлера высунул крысиную морду из зарослей, и белобрысый секретарь Лии явил из сумерек свой припудренный лик, и Гэл очнулся, заскреб руками, пытаясь сесть.
— К диким бесам и этикет, и вас заодно! — рыкнула Ана, сжимая легчайшую ладошку нэйи. — Я знаю, куда нам надо попасть, и поскорее. К матушке Уле! А вы тут оставайтесь… — Ана повернулась к обществу спиной, точно зная, что написано на заветных штаниках и что прямо теперь будет прочтено.
Лия хмыкнула. Дорн заржал в голос. Чиа рухнула в траву — кажется, она опять рыдала и корчилась от смеха. Гэл икнул — и не стал тратить время на чтение… Он смотрел на нэйю, только на нэйю — и шептал бледными губами: «Лебяжьи перья пальцев ваших… в моей душе… рассветный трепет и полет… о»…
— О! — передразнила Ана. — О, когда ж тебя пристукнут? Хоть слово сомнительное о ней вякнешь, я сама займусь. Понял?
— Никуда вы не идете в таком виде. Ей плащ, всем нам карету, — негромко велела Лия.
Секретарь зашуршал в зарослях, стряхивая свой плащ. Он же поддел Гэла под локоть и повел, указывая путь к карете. Плащ Ана сразу отдала нэйе. И получила второй — Лие даже не пришлось повторять распоряжений. Дворец казался бесконечным, гулким, негодным для жизни… Ана расцвела улыбкой, когда наконец-то секретарь налег на тяжёлые двери — и поземка лизнула ковры, взметнулась вьюном, растрепала волосы…
Нэйя первой взлетела в карету, вроде бы не касаясь ступенек. Следом запрыгнула Лия, за ней Ана, которая обернулась, скорчила зверскую рожу и с треском захлопнула дверцу перед породистым канцлерским носом!
— Моё имя, — едва карета тронулась, нэйя забилась в угол, за спину Аны, — произносится Ле-эй-гаа, и означает «летящая утром, с набором высоты». Я помню имя того, кто уже никогда не посмеет лететь рядом, он… предал. Помню, а сказать вслух не могу. Больно. Смертельно больно… Ул был рядом с ней, но она легко выговаривает его имя. Никогда, никогда мы не понимали людей и не умели спуститься в их города. Города людей — ловушки… они вяжут нас и душат.
Тишина уплотнилась и будто выдавила из кареты воздух, и цепко сжала горло. Ана не могла даже кашлянуть. Ночь сделалась дегтярной, а рассвет недосягаемым. Подковы бряцали, глухо грохотали — словно карета с каждым шагом коней погружалась глубже в вязкую жуть.
Хотелось возразить: ведь можно жить в этом мире, и в городах не так плохо… Но Ана молчала, слова сделались шелухой. Остро, невыносимо ярко пронзила сердце вернувшаяся из прошлого боль давнего дня, когда умер дедушка Яса. Тогда казалось — больнее не бывает! Но сейчас Ана с отстраненным, ледяным спокойствием созерцала картину, явившуюся в сознание и разрушившую всё и вся: вот стоит Бара, родной до последней складочки прищура век — и смотрит мимо! Он живой и здоровый, он улыбается… а только ты сама хуже, чем мертвая. Мир рухнул! Бара стал чужой. Бара — безразличный, его глаза пусты, а мысли обращены не к тебе… Но ты хотя бы стоишь на земле, ты можешь сесть, можешь упасть и обнять эту землю, и выть… Сделать что угодно, любые глупости, какие вытворяют, когда всё бесполезно и безнадежно… А нэйя — они ведь летают в свете, и ничего кроме света у них — нет. Каково им утратить свет? Им нет иной опоры! Вовсе нет, пустота кругом, пустота, которая хуже смерти!
Ана шмыгнула носом, осторожно прильнула спиной к легкому телу нэйя и понадеялась, что так она дает хоть ничтожную, но опору. Хоть крошечное, но тепло.
— Недавно мне снилось золотое лето, то самое лето Ула, — Лия отвернулась к окну. — А после наступила зима. Во сне я замерзла, до смерти заледенела. Но Сэн разбудил и отогрел. Во сне и в яви. Мы — люди. Мы не умеем понять, с кем нас сводит судьба и для чего. Мы слепые и грубые к тем, кто рядом. Мы ломаем самых дорогих, и себя ломаем… и никак иначе. Мне больно думать, что тогда я не решилась даже найти Ула. Но если бы я нашла его, если бы привязывала к себе, я уничтожила бы его. Мы… не пара. Сэн — клинок, я — рука. А вот Ул не клинок и не кошель, тем более не ключ к дворцовым дверям. В то лето он устроил место для птицы… Я думала, клетку. Я так видела. На самом же деле он создал сцену для пения. Он выломал прутья, убрал дверцу… И все равно до самой осени я думала, что это клетка. Я не посмела искать Ула, поняв свою ошибку. Стало больно и стыдно. Он был мой цветочный человек, а я не поверила в его сказку безоглядно. Сэн никогда не обещал сказок. Но в него я верю именно безоглядно. И так стало сразу. И я не намерена извиняться за то, что счастлива, что нашла свою пару!
— Но это я извиняюсь, — нэйя обеими руками сжала руку Аны. — Я извиняюсь… Не знаю, приходилось ли кому-то из нэйя так неловко. Мы не роднимся с бескрылыми, это не спесь, мы просто очень редко спускаемся оттуда, — легкая рука вспорхнула и указала вверх. — Люди, они слишком… тяжелые, они смотрят вниз и топчут мир… Но цветочный человек совсем не тяжелый и не бескрылый. Он назвал имя Лэй-йаа — содержащая свет, так я разобрала. Он назвал это имя, и я опять смогла дышать. Хотя я неверно услышала, он сказал иначе — Лия, но я уже поверила ему… безоговорочно.
— Значит, теперь у него есть причина вернуться, — голос Лионэлы окреп. — Лучшая новость этого темного сезона! Ана, я поняла, что тебя бесполезно переодевать в нобу. Я поняла это, когда увидела смеющуюся Чиа. Ты не знаешь, но я-то знаю: она не смеялась громко и беззаботно ни разу в этом мире. Ни разу! Значит, ты совсем похожа на Ула: внутри сокрыто много больше, чем можно увидеть и угадать. Живи, как хочешь. Хоть весь город поставить с ног на голову. Твое право, — Лия повела руками, словно извиняясь. — Я загоняю людей на выбранные и огороженные мною дороги, помогаю двигаться… организованно. А вы птицы. Вы смотрите сверху. Оттуда мои ограды и дороги — сплошная глупость!
Карета остановилась, Лия распахнула дверцу и спрыгнула, не дожидаясь помощи слуг. Вздернула подбородок, сощурилась и пошла прямо на ворота «Алого льва», по обыкновению запертые после заката. Намерение Лии войти заметили сквозь ворота — и ей открыли, потому что нобам золотой крови, пребывающим в особенном состоянии духа, нельзя отказать.
От крыльца уже спешил сам Лофр — сонный, в колпаке с кисточкой и просторной рубахе навыпуск. Лофр всех осмотрел и от избытка чувств хлопнул себя ладонью по плоскому животу, он сохранил это движение со времен, когда был болезненно-тучным… Ана не видела Лофра толстым, но знала его историю. И смотрела мимо хозяина «Алого льва», и ждала, когда откроется дверь. Она сто раз собиралась сбежать из Эйнэ, где слишком много нобов, спеси и правил. Где нельзя сломать нос случайному ухажеру: это повредит репутации брата. И нельзя бить под дых любого, кто заслужил: это создаст проблемы канцлеру Дорну. И еще сто тысяч нельзя и невозможно, и все они — хуже цепей и тяжелее камня на шее… Ана бы сбежала, если бы до того не повидала матушку Улу и не согрелась её улыбкой.
Матушка приоткрыла дверь, скользнула на крыльцо, сразу выделила среди гостей нэйю, вздохнула, прижимая к груди сложенные ладони.
— Вы — матушка Ула, — осторожно предположила нэйя и улыбнулась. — Он был прав. Прав, когда сказал, что надо увидеть вас. Что тогда я смогу жить на земле людей.
— Мой Ул прислал тебя! И ведь вроде… не в гости? — Ула смахнула слезинку. Улыбка зародилась на дне её глаз, блеснула первым лучиком солнышка, взошла, делаясь полуденно-яркой и озаряя лицо. — Иди сюда, девонька.
Нэйя встрепенулась — и вытянула вперед руки, и повернула легкие ладони так, словно грелась в свете улыбки, как люди греются у костра… Ана хмыкнула, вдруг остро возжелав спустить окружающих с небес на землю. И проделала это, всего лишь откинув полы плаща: при виде бальных штаников Лофр заржал в голос.
— Пора переодеться, — поморгав и недостоверно изобразив смущение, громко сообщила Ана. — Хэш, я достаточно плохо веду себя, чтобы получить взбучку? Хэш, вы сто раз обещали выпороть меня. Что, опять нет повода? А если со спины?
Ана покрутилась на месте, скинув плащ. Лофр хрюкнул и кивнул, принимая вызов. Даже пообещал вызвать парочку бывших любимых учеников с алой кровью и полноценным опытом боев. Может, и самого Сэна стащить с крыши за шкирку? От сказанного стало — хорошо… Ана жмурилась, подставляла лицо легкой метелице. Слуги дома Лофра уже приготовили смену одежды и ждали, старший держал наготове тулупчик — ведь зима, а непутевое дитятко почти голышом бегает! Ана юркнула в дверь и рассмеялась. Ей — не холодно! Когда люди радуются от души, ей не бывает холодно… А когда они заключают сердце в ледяной ком, никакие очаги и дрова уже не помогут!
— Сбегаю в «Ландыш», — на переодевание у Аны ушло несколько мгновений.
— Не поубивай никого лишнего, там Сэн фонари жжет, — прогудел вслед Лофр.
Ана взвилась на ограду и оттуда упала в ночной город… Помчалась дальше и дальше от «Алого льва» где теперь и без неё, и среди ночи — солнечно от первых робких улыбок согревшейся нэйи.
Белоручку Ана впервые увидела еще осенью. Побежала передать травы от матушки Улы Шелю, искала его, и вот — нашла… Рядом с его родной мамой, которая после ранения вроде бы и выздоровела, а только осталась немой и безучастной к окружающему. С первого взгляда Ана узнала «тетю-гыбу», завизжала от восторга и выкрикнула это имя. Белоручка вздрогнула… будто проснулась.
— Абикос! Кусно! — верещала Ана, прыгая на одной ноге и корча младенчески-нелепые рожицы. — Это же я! Гу! Кусно-касиво! Это я! Тя-тя-тя!
Воровская слобода попритихла. Ранним утром, да на главной улице — так шуметь? И хохотать, и прыгать, и ходить на руках? Шель, и тот насторожился, собрался что-то сказать…
— Фот ше ш, — шевельнулись губы Белоручки. Лицо страшно сморщилось, словно его норовили содрать! Снова дрогнули губы, шепелявя и глотая звонкие звуки: — Фот ше-ш смертушка хотячая… старый пес. Старый п-пес… П-пес!
Ана кивнула — она одна, наверное, поняла, что речь шла не о собаках — о бесах. Шель бы тоже догадался, но ему было не до того. Травник рылся в своем неразлучном коробе, смешивал дрожащими руками капли и боялся поверить: мама очнулась! По-настоящему очнулась и говорит, радуется. Кожу морщит так, что глянуть жутко. Но это, ему ли не знать, — улыбка!
— Ана! — представилась тогда Ана, от избытка чувств с разгона взбежала по ближнему фонарному столбу и упала с верхушки, исполнив двойной кувырок назад. Столб дрогнул, но устоял.
— А пх… прих-хти к ночи, — шамкая и едва справляясь с речью, выдавила Белоручка. — Ф… ф-лантыш. Кусно…
Белоручка дернула ладонью, пробуя стереть с лица слезинку, удивляясь своей радости и себя же с размаху хлопая по щеке. Снова лицо сморщилось в кошмарную улыбку… Так у Аны появилось новое место для выступлений. В «Ландыше» готовили восхитительно, и Ана там иной раз засиживалась до рассвета: наедалась от пуза, орала самые мерзкие песенки Гэла, на спор обирала гостей, хотя им-то, ворам с опытом, казалось, что их карманы в безопасности. А еще жонглировала тарелками, прицельно пускала через весь зал кружки, и не абы как, а чтобы встали на нужное место и только пену стряхнули… С гостями «Ландыша» Ана не водила ни дружбы, ни тесного знакомства, а вот с хозяйкой — другое дело. Отчего-то одолженная Белоручкой тогда, в раннем детстве, шуба до сих пор грела взаимную приязнь.
Когда нэйя отвернулась и излила всю синеву взора на матушку Улу, душа Аны словно осиротела… Сделалось необходимо куда-то бежать, шуметь — заполнять внутреннюю пустоту. Зимняя ночь колола лицо редкими снежинками, рисовала узоры поземки по светлому фону ледяных мостовых и по темному — оград и стен. Ана мчалась через город, ставший за четыре месяца знакомым и даже привычным. Первый в её жизни город, где она обживалась без отца, где выступала так долго и научилась придумывать сложные номера… И еще поняла, что хочет, выходя на площадь, не просто праздника и восторга толпы — а гораздо большего! Она хочет, чтобы люди смеялись. Чтобы воздух мелко дрожал и звенел дыханием беззаботной, детской радости…
— Ана!
В затылок вошел крик — острее ножа, больнее предательства!
Ана споткнулась, кубарем покатилась и замерла, скорчилась у стены, хрипло хватая ртом воздух, слушая звон в ушах и глотая желчь. Её вырвало? Что за ночь такая…
— Я слышу, — набрав горсть снега и умывшись, выдохнула Ана.
Села, откинулась на холодную стену и прикрыла глаза.
Если честно, с самого начала зима была не в радость… пусть тут и не север, но дни коротки, облака похожи на войлок. С осени душа Аны перелетной птицей стремилась на юг, и приходилось перемогать кочевую жажду, как можно больше времени проводя у огня. С людьми. Темные ледяные улицы казались чужими. Их следовало пробегать быстро и без оглядки. И вот — беда догнала в глухой ночи, словно стрела…
Голос, который позвал, был тот самый: знакомый по короткому пребыванию в городе Тосэне. Голос полумертвой от голода маленькой нобы… как её звали? Миана хэш Омади. Миана совсем не умела улыбаться. И, может быть из-за этого, позже не раз вспоминалась, вдобавок задним числом в ней замечалось сходство с Лией — в упрямом желании упорядочить жизнь, исправить то, что иные бы и трогать не стали. Миана не позвала бы без причины. Тем более не создала бы своим криком такой боли!
— Иду, — повторно умывшись, шепнула Ана и заставила себя встать. Снова гноилась рана от кровожадного шипа сиреневой розы. — Иду… сейчас.
Мир сделался зыбким, полупрозрачным. Мир слоился, искрился снегом здешним и нездешним… Рядом, на мостовой Эйнэ, было мало света, а далеко в Тосэне яркие фонари золотили корку льда. Ана шагнула отсюда — туда, упала без сил… и была бережно подхвачена, укутана в мех. Роскошный густой мех, пахнущий богатством и неволей. Ана вдохнула — и провалилась в сон…
* * *
— Да что за напасть! Скорее же, надо очнуться. Дыши!
— Дядька Кочет, — прошептала Ана, стараясь отстраниться, накрыться хоть чем… и спать дальше. — Дышу я, дышу!
— Ага. Тогда слушай, — в ухо, тише тихого, пробормотал «бесов дядюшка». — Одному я бесу служил, и другого мне не надобно. А только выискался другой. Давно ко мне клинья подбивает, людей моих подкармливает да выспрашивает. Не ему я показывал тебя в тот вечер, а только и он углядел… И сделался в доме Омади первый советчик. Бес, я сразу опознал. Но зовет себя человеком. Представляется как Лоэн хэш Горса, барон. Я вызнал: титул купил, имение у него наилучшее, уважают его в Тосэне и окрестностях крепче год от года. Могуро старый и сынок его, вот крысы двухвостые, оба у Лоэна на побегушках, из столицы-то их выдворили.
Сон сгинул. Под меховым покрывалом сделалось холодно до дрожи и стука зубов! Ана рывком села, смаргивая круговерть бегучих звездочек. Хоть смотри, хоть зажмурься — густо летят, заразы… и снова подкатывает спазм рвоты. И рот уже полон желчью.
Под нос сунули пахучее, в руку — чашку, на голову — мокрую простыню, ледяную. Ана вдохнула всей грудью, прополоскала рот, встряхнулась — и начала выбираться из-под ткани. Теперь она уже видела Кочета, пусть и смутно. Осознавала себя и постепенно вспоминала ночь: бал, нападение на Гэла, явление нэйя, матушку Улу, бег через город… и крик.
— Я не могла просто так заснуть, я сюда спешила не для отдыха, — хмурясь, неприятно удивилась Ана.
— А проспала бы долго, не умыкни я еще у Рэкста чудесное средство. От пьянства, яда и прочего разного. Себе берег, одна понюшка, — без огорчения отметил Кочет и сунул под руку чашку с обжигающим отваром трав. — Видишь, давно сей Лоэн желал заполучить тебя. Отделал все крыло дворца: книг понавез, прочего разного… Похоже, ты очень ценная ему. Очень!
— Миана из-за него согласилась позвать меня? — не поверила Ана.
— К ночи ей весть пришла с птичьей почтой, вроде бы из столицы и вроде надежная: убьют тебя сию же ночь. Она прочла, побелела, ну и — в крик, — охотно пояснил Кочет.
— Убьют, — задумалась Ана, медленно кивнула. — Дальше, дядька Кочет. Что-то от истории твоей на душе черно.
— Так почти всё рассказал. Я с осени устроился к Омади управителем, сослался на тебя. Хозяйка возразить и не решилась. Дел беса здешнего не понимаю, вовсе не людские они. То искрит, то гудит, но переливается… А вчера вроде затихло всё. Думаю, дозрело до готовности. Ну, я и начал следить во все глаза. И уследил.
— Где он сам?
— Так сюда идет, пожалуй. Быть не может, чтоб он, тебя желая уловить, моих затей не выследил, — пожал плечами Кочет. — Смекай, что станешь делать. Вон он, пожаловал.
Ана обернулась к двери — и та открылась словно бы под давлением взгляда. Лоэн выглядел точно так же, как и осенью. Лицо спокойное, глаза умные и глубокие, движения плавные, выверенные. Прошел через комнату, чуть кивнул Кочету и жестом предложил ему удалиться. Сел в кресло и наметил улыбку — не для тепла, для приглашения к беседе.
— И не стыдно? — укорила Ана. — Этой упрямой Омади солгать — нож острый. Но ведь из-за вас она лгала. Думала, жизнь мне спасает, так?
— Никакой лжи, — улыбка пропала, Лоэн сделался серьезен и строг. — Я надеялся отложить разговор на сутки. Но, видно, не судьба… Миры и царства — простор, пока что непостижимый для твоего сознания. В трех нижних царствах сейчас нет силы, сравнимой с иерархией бессмертных. По разным причинам, в первую очередь из-за избытка неопределенности, для них важно вывести за скобки ваш мир. Решение принято давно, оно неукоснительно исполняется. Прежде одними методами, теперь иными. Мои возможности не позволяют отстоять весь мир, но я получил право на один его город. Ты новая наследница атлов, о тебе не знает королева. Ты должна выжить. В дальнейшем…
Ана зажала уши, зажмурилась, пробуя втиснуть в сознание услышанное и не сойти с ума. Только что полузнакомый вервр с грустными и мудрыми глазами сказал спокойно и буднично, что знакомый мир вот-вот исчезнет! Весь мир? Весь, такой огромный?
— Весь мир? — переспросила Ана, заставляя себя смотреть, слушать и сознавать.
— Когда Ул вступил в конфликт с моим братом и после покинул мир, возник небольшой дисбаланс. Когда мой брат уничтожил беса с картой Кукольника, дисбаланс вырос. Когда ты стала взрослеть, он еще более усугубился. Ваш мир стал не то чтобы досягаем, но… но возникла возможность дотянуться и пробудить то, что однажды было сюда отправлено. Оружие. Его остановили атлы прошлого. Остановили, но не уничтожили. — Лоэн позволил себе прямо взглянуть на Ану. — Я просчитал варианты. Не вижу ни одного, дающего шанс на победу. Оно совершенно. Я полагаю изоляцию худшей из тактик и тем более стратегий, но иного теперь не дано. Оружие создано слиянием природы различных царств в неприродном базисе…
— Оно — где? — Ана тупо глядела на свои руки и злилась: отчего ладони лежат на коленях совершенно спокойно? Ведь в душе лед и страх…
— В Эйнэ, конечно, — пожал плечами Лоэн. — Что еще могло стать причиной выбора этого города местом постоянного пребывания моего брата? Оно там, и оно уже пробуждается. Изменить я ничего не могу. Мне жаль.
Ана медленно свела пальцы в замок, и разъединила, и снова свела в замок. Мысли не пожелали прийти в порядок, хотя обычно простое действие помогало, папа Ан учил именно так концентрироваться и собираться.
— А люди? — Ана постаралась глубоко заглянуть в глаза Лоэна, чтобы уловить, велика ли ложь… вернее, насколько много он недоговаривает.
— Люди четвертого царства и есть та сложная переменная, которую желают вывести за скобки, — терпеливо пояснил Лоэн.
— Убить, — поправила Ана.
Тишина сделалась прозрачной и какой-то хрустальной… Вервр Лоэн не лгал. Он даже не делал попыток недоговаривать, просто молчал и ждал, придя в выводу: никакие изменения уже невозможны. Принять реальность — это единственный выход для Аны.
— Вы вовсе, ну просто ни в чем, не похожи на брата, — Ана встряхнулась, сгоняя мурашки. — Хотя я тоже на своего брата не похожа. Бывает. Вы, кажется, и не злодей. Но вы от этого еще хуже… уж простите. Вы что, не вмешаетесь?
— Я обрисовал ситуацию: любое вмешательство бессмысленно, поскольку соотношение сил заведомо… — начал Лоэн и осекся, поймав резкий жест Аны.
— Папа говорил много раз: «Это мой мир». Он не знает слова «заведомо». Он иногда вытворяет разное, и даже страшное. Даже убил меня однажды! А вы теперь спасли… как бы. Только мне не годен ваш умный выбор. Ану я прощу все, это ведь его мир. А вы — гость мимохожий. Везде и всегда.
Ана пожала плечами, отбросила мелкие мысли и сосредоточилась на главном, чтобы не передумать и не усомниться. Она развела руки шире, шире…
— Бара! — Ана заверещала, запрокинув голову. Хлопнула в ладоши и снова раскинула руки. — Ош Бара! А ну мигом туда, куда я хочу! Ты и все прочие тоже!
Ана прыжком рванулась туда, в Эйнэ — и успела краем глаза увидеть, как Лоэн дернулся остановить её, перехватить… И буквально наткнулся на оскаленную морду белого дракона. Глаза чудища полыхали яростью, рычание колебало не воздух даже — само бытие! Дракон скалился, оплетал усами пространство, откуда только что ускользнуло тело Аны… и вервр Лоэн не мог удержать её, бесполезно шаря по частоколу драконьих усов.
— Её выбор! — взорвалось в голове рычание Эна.
Ана рухнула лицом в ледяную колючую траву, едва припорошенную снежком. Зима в столице так себе, ни мороза, ни сугробов, — Ана подумала это отстраненно, и сразу вскинулась, огляделась. Она попала именно туда, куда желала — в Эйнэ, во двор хэша Лофра. Недавно, поздним вечером, она стояла вон там, смотрела на матушку Улу и на хрупкую нэйю, торопящуюся к ней — согреться…
Ветер бросил в лицо пригоршню снежных игл, словно пощечину дал.
Над городом занимался дымный, тусклый рассвет. Эхо в лабиринте улиц грохотало и выло, столб сажевой копоти пер вверх и утыкался в низкое тучевое небо — недалеко от двора Лофра: там Ана помнила главную городскую площадь. По двору сновали люди, и все были заняты, все определенно знали, в чем их дело. Звенело оружие, ржали лошади… Было невозможно поверить, что прошло несколько часов — два? Три? Точно не более, ведь еще не рассвело! Прошло так мало времени, а город дрожит, стены в трещинах, у людей серые лица, несут раненных… Значит, Лоэн воистину не солгал: кто-то очень сильный, а может и всемогущий, приговорил мир к уничтожению.
— Да что они там, бесы разные, — Ана глянула вверх, — с ума посходили?
Поверить в худшее никак не получалось. Ана дернулась встать — и лишь тогда осознала: правая ладонь плотно сжимает рукоять знакомого клинка. Откуда он взялся на сей раз, Ана и думать не пробовала. Не до того. Запоздалый страх сжал сердце. Там, у Лоэна, даже теперь безопасно! Именно так… И, хотя она выбрала, но ведь и пожалела о сделанном выборе тоже — пусть без намерения вернуться.
Из-за спины шагнул Бара, присел рядом. Как обычно, он выглядел одновременно собранным и безмятежным.
— Ты цела, хорошо. Кто наш враг? — осматриваясь, уточнил Ош Бара, как будто сто раз прежде делал шаг, переносящий его в иной город. Как будто ему не в новинку зима, как будто трещины на стенах и столб копоти, протыкающий небо, вовсе не существуют!
— Бара, — Ана уткнулась лбом в крепкое плечо. — Страшно.
— Я ведь здесь, — удивился Ош Бара. — Учитель Ан, полагаю, тоже здесь. Он сказал вчера, чтобы я ничему не удивлялся. Это само по себе было удивительно. Я немедленно вызвал Эмина и велел Номе собирать лекарства. Кто наш враг? Надо найти того, кто управляет боем, и получить указания. Надо убедиться, что спина учителя Ана прикрыта. Ты ведь закончила жаловаться?
Бара встал, подал руку и огляделся.
— Бара, тебе не страшно? Никогда? — Ана прищурилась, рассматривая столб копоти.
— Мне страшно с самой осени, — нехотя признал Бара, подгреб под руку по-хозяйски. — Ты ушла одна. Мне было плохо в Казре всякий день, потому что алому жить без смысла хуже, чем умереть. Алый, когда нет смысла в его жизни, делается ходячей смертью. Я ответил. Долго еще ты будешь вести себя странно?
— А мне чужой бес сказал, что наш мир совсем разрушат и всех нас за скобки, — Ана чиркнула ногтем по горлу. — И нет смысла дергаться. Оно сильнее всех вообще. Какое-то там «оно». Ужасное оружие.
Бара свел густые брови, повернул к себе Ану и недоуменно вгляделся в её лицо.
— Нет смысла? Не слушай чужих бесов. Я всегда жил по закону алых, даже не имея слов для описания этого закона. Учитель Ан выбрал нужные слова и соединил куда лучше, чем смог бы я сам, поумнев: бой не имеет смысла, если противник слаб. Бой — это когда ты заранее не знаешь исхода. Всё прочее — бойня. Сейчас ты хочешь выжить, или тебе важнее остаться Аной, с которой я заговорил в Казре, до того проведя в молчании полгода?
— Ну ты и загнул, — Ана обеими руками обхватила Бару за пояс, прильнула к теплому боку. — Я закончила жаловаться, честно.
Ана вывернулась из-под надежной руки, шагнула вперед — и споткнулась.
Недавно именно здесь, след в след, стоял папа Ан. Принюхивался, усмехался: здесь его мир, его люди и его дом. Разве все это можно уступить кому угодно, даже и всемогущему?
Путь беса. Никогда не сдаваться
Вечером Ан действительно стоял на том самом месте во дворе «Алого льва» — лицом к людям, которые помнили его врагом. И теперь должны были поменять мнение.
Горечь копилась в душе. Он снова в стольном граде Эйнэ, и здесь даже теперь, после долгой отлучки, почти для каждого он — бес Рэкст, наделенный властью и вызывающий страх одним именем своим! И он уже не способен вернуть свою короткую мирную жизнь слепого Ана, безмерно ценную лично для него и, увы, иссякшую невозвратно. Он даже не вправе оглянуться… Нома почувствует, ей станет больно. Это — лишнее. Вервр совершенно забыл, если когда-то и знал: как это — уходить, оставляя за спиной дом, где знакомы все запахи и звуки, где жил постоянно и собирался жить еще долго, очень долго. Даже начал прикидывать, удобно ли будет растить маленьких вервров, которые для города — страшнее пожара и потопа, вместе взятых! Пока такой напасти Корф не узнал, но городу хватало впечатлений и без того.
Увы. Всё — уже в прошлом, за спиной, в короткой счастливой осени…
Он объяснился с Номой и после удивлённо следил за тем, как стремительно развиваются события. Листва еще не облетела, лето еще было памятно… а вервр уже осознал: в семейной жизни, помимо интереса и радости, немало недостатков. Прежде всего, Нома потребовала вытерпеть формальную церемонию оглашения брака. Она же убедила хоть иногда откликаться на имя Ан хэш Дэйн. Затем повела себя просто-таки недопустимо: хищники с их безупречным нюхом существуют вовсе не для того, чтобы глубокой осенью выискивать редкостные лечебные коренья. Наконец, у Номы образовалась привычка дремать, подкатившись под бок. Можно было бы сказать, что это неплохо… но, учтя разницу в силе, а также резкость неосознанных, сонных движений, вервру пришлось обзавестись ответной привычкой просыпаться, едва под бок подкатываются — и лежать неподвижно. Обыкновенно в такие минуты Ан принюхивался к волосам и коже жены и думал, что однажды его пустые глазницы снова наполнятся. Занятное предвкушение: наконец-то раскрыть веки и без помощи косвенных способов узнать с первого взгляда тех, к кому привязался за пятнадцать темных лет…
У себя Ан никаких дурных привычек не наблюдал и очень удивлялся кроткому отчаянию Эмина. Что плохого в том, чтобы больные не бездельничали и не отъедались за счет лекарки, а вносили посильную лепту?
Когда порт сделался тих и почти пуст из-за штормов в южных проливах, затеи Ана дали первые результаты. Состоятельные больные отвыкли спрашивать, почему им надлежит вскладчину оплачивать новое здание. Князь было вякнул невпопад, что, мол, со всякой стройки надо внести долю в казну… Но после ночного визита вервра возражения пропали. Если припомнить, это случилось к утру: еще до завершения переполоха во дворце, к воротам имения Номы примчался на взмыленном коне вестовой и проорал, задыхаясь и дрожа всем телом, что князь дозволяет строить, что угодно и где угодно, лекарям можно все! Нома проснулась, зевнула, хихикнула — и не стала ничего уточнять.
Когда началась дождливая зима, люди в Корфе стали скрипеть при ходьбе куртками, шлепать по лужам сапогами и хлопать полами плащей. Смешно… Скрипучие люди не жаловались, жили довольно дружно и быстро усвоили новые правила, даже сочли их единственно верными и безупречно справедливыми: открытые для всякого лечебницы надо снабжать всем миром. Лишь Эмин вздыхал и кривился. Но, учтя запас дров и засыпав зерно в новые амбары — до верху! — даже он сдался. Сам вызвался сопровождать Ана для беседы с морской торговой гильдией, которая еще не знала своего грядущего счастья: её кораблям предстояло возить травы и иные лекарства без оплаты, под заказ по подаваемым через выделенного человека запросам от всех без исключения лекарей, внесенных в единый белый лист Корфа.
Когда с моря пахнуло стылой сыростью, набережная покрылась после очередного шторма коркой льда, а люди стали не только скрипеть, но цокать и охать, делая для слуха вервра шум города особенно забавным… К этой поре князь по доброй воле и не дожидаясь нового ночного переполоха добавил к имению Номы соседний сад. Догадливая гильдия северных купцов тотчас вызвалась строить там по чертежам Эмина просторный дом для учеников. Откуда и каким таким ветром нагребло в город этих — нищих и легких, как ворох осенней листвы? Никто их не звал… Но под забором с осени мерзли вполне толковые недоросли с синим и белым даром — хотя вряд ли сами они посмели бы назваться нобами.
На соленом льду набережных, мокром и коварном, Ош Бара упражнялся с оружием вдвое чаще и дольше, чем обычно. Вервр охотно наставлял любимого ученика, а зеваки толпой глазели, как на балаганное представление — и то ли злились, то ли завидовали мирно и грустно: алые и на самом гладком льду не падают, а если даже падают, ног и рук не ломают… себе. Прочие горожане, увы, что ни день, считали свежие ушибы и посылали за лекарями. Без алого дара не рисковал поскользнуться лишь Эмин Умийя — его теперь со всех сторон под локти поддерживали ученики, и походка у него выявилась новая… величественная.
Сыпать на дороги золу и песок, чтобы никто не поскользнулся, вызвались содержатели трактиров: к лекарке Номе уже не первый год толпой валили невесть откуда и в любой сезон, это сулило выгоду. Прежде такую выгоду принимали, как должное, но, искоса глянув на бредущего по улице улыбчивого слепца, отчего-то осознавали важность «общего блага». Скоро кто-то самый догадливый изъявил желание отсылать излишки пищи для больных. Прочие и это начинание подхватили, лишь бы общительного слепца пронесло мимо их дверей!
Жизнь в Корфе и окрестностях сделалась совершенно мирной, даже сонной. Воры попритихли, про грабежи город вовсе позабыл. Жизнь и должна быть такова вблизи логова высшего хищника, — знал вервр Ан. Он установил покой — и сам привык к покою…
Угроза обозначилась резко, остро.
С рассвета того дня спину тянуло, а нюху чудились смутные запахи — старой гари, ядовитых грибов… Ан ворчал, невнятно скалился, от него шарахались чужие. Да что там: свои обходили стороной, старались не беспокоить. К обеду Нома принялась щупать пульс и предлагать стаканчик с каплями, будто освоила тонкости лечения вервров. Но — зря. Ан уже вспомнил, что именно создает такой зуд на коже и такой запах — не нюху внятный, а иному чутью, глубинному.
Осталось вычислить время на дорогу и утрясти дела в Корфе: написать пару писем, предупредить Бару и соврать Эмину о том, куда и зачем надо отлучиться. А еще ускользнуть из дома тихо, чтобы не заметила Нома. Настороженный, полный боли и надежды взгляд в спину — нет, этого ему не надо.
Вервр мчался из Корфа в Эйнэ по прямой, и вряд ли люди, если они были поблизости, успевали заметить хотя бы след движения. Только хруст вспарываемого воздуха… Ан домчался и замер, коснувшись кованной ограды графского имения Гост. Уже пятнадцать лет он не считал этот дом своим, да и прежде дворец не был логовом. Лишь местом, куда стекались сведения и золото, куда нахрапом лезли людишки — чтобы стать окончательным зверьем.
Ан взобрался на ограду, спрыгнул, постоял. Слегка удивился тому, как ухожен и благополучен парк. Запах гари более не донимал, не мешал обонять настоящее — снег, обжитой дух дома. И вот еще: брусничный взвар, мед и вино. Значит, старый слуга всё еще тут, и всё еще упрямо повторяет ритуал, прежде обязательный для вечера. Ан побежал к парадному входу, слушая и чуть усмехаясь. Вот слуга достает и протирает серебряный поднос, ставит в центральное углубление чашку. Вот кладет справа ложечку, пристраивает слева розетку с медом. Горкой сыплет урюк…
— М-м, кисленький, — промурлыкал вервр, скользнул мимо слуги и подхватил чашку. Отхлебнул. — Недурно.
— Где ж тебя носило-то? — недружелюбно проскрипел старик. Он всегда ругал беса и полагал это не правом даже, а долгом. И теперь не вздрогнул, не выказал радости или удивления. — Непорядок в доме! Да, почитай, во всем мире сплошной бурелом! Ить так распустил народец! Ить так их…
Слуга безнадежно махнул рукой и зашаркал в свою комнату, на заслуженный отдых. Он чуть прикашливал и украдкой смахивал слезинки. Рука дрожала… Вервру стало неловко. Надо было проведать упрямца хоть раз.
Ан поставил пустую чашку и сгреб в горсть урюк. Принялся на ходу подбрасывать по одной ягодке и ловить ртом, и жевать, перемалывая вместе с косточками. Нюх сообщил: во дворце постоянно живет кровный брат Аны. Еще тут обитают полезные люди — те самые, кого он помнил по последней встрече с врагом Улом. Друзья наследника атлов выжили в столице, повзрослели… заматерели, можно сказать. Но людишками не сделались. Недавно в доме была и Ана — но теперь малышка далеко. Нетрудно понять, кто тому виной. Но отчего-то брата Лоэна не хочется ни винить, ни проклинать. Некогда. И… сколько можно пробовать переиначить его?
Сейчас дворец пуст. Люди — нужные и ненужные — вне парковой ограды, в городе. Ан шагнул в первый из покоев, запретных для людей. Миновал его, добрался до кабинета. Нащупал пластину под ковром, прошел процедуру опознания. Бионические системы — так это называл брат. Лоэн обожал строить подобные. Ан — вернее тот, кем о был прежде — использовал такие вещицы минимально. Во дворце имелась всего-то одна скрытая полость пространства: хранилище того, чему не следует случайно попасть в руки людям никогда и ни при каких условиях.
На краткий миг Ан замер, зевнул, вспоминая свой кабинет, обжитой за годы и даже века, привычный. Стол, кресло, сделанное тем мастером, давно… очень давно по мерке людей. И на стене картина — он помнит художника. Чахоточный, самовлюбленный, хвастливый сукин сын неустанно учил всех жить, а сам не умел даже в лавку сходить за кистями и холстом. И все же он был мастер. И все же когда его подкосила старость — было больно… Ан скривился, рывком стащил через голову цепочку с медальоном. Открыл его, кончиками пальцев тронул портрет Аны — тот, работы Эмина. Однажды, хочется верить, рисунок удастся увидеть глазами, а не кожей и чутьем. Но — не теперь. Цепочка с легким шорохом стекла с ладони и звякнула по столешнице.
Ан развернулся, шагнул в щель иного пространства, в движении вдел руки в лямки четырех готовых, полностью упакованных, вместилищ — и сразу вернулся в кабинет.
Теперь слепой вервр двигался плавно и довольно медленно, старался не царапать стены и не ломать двери. Иначе слуга расслышит, всполошится. А зачем старого вмешивать в то, что не по его силам?
И снова парк, и улицы Эйнэ. Камни мостовой принимают следы ног вервра. Впечатывают в белую кисею снега — делают тайное явным.
Ан ярко обозначил себя, добравшись до ворот «Алого льва»: чуть улыбнулся сторожам и проникновенно взрыкнул. Все четверо вняли, торопливо распахнули створки. И вервр вошел во двор, не дожидаясь приглашения хозяина, но всё же не тайком. Снег скрипел в такт движению. Люди, собравшиеся чуть поодаль, обернулись и во все глаза смотрели на прибывшего. Пока вервр шел, они недоуменно изучали темную массу мешков или тюков, трущихся со свистящим шумом. Они сперва и не сообразили, что всё это тащит один человек… вернее, бес.
А потом вервр сбросил тюки, замер — и во дворе стало очень тихо.
Дорн хэш Боув первым очнулся, узнал — и шумно вздохнул. Следом охнула его жена, шагнула вперед и поклонилась, вроде бы даже с радостью. Наконец, хэш Лофр рассмотрел и домыслил происходящее, возмущенно заворчал…
— Клопа сюда, ко мне, — Ан щелкнул пальцами и нацелил указательный прямо на того ловкача из ночных людишек, который невидимкой дежурил на крыше вне подворья, как было заведено еще при Рэксте. — Живо!
Соглядатай икнул — и пропал. Вервр провел ладонью по лицу и откинул волосы назад со лба. Дал себя рассмотреть — такого, каков он стал. Слепого…
— О! Эк тебя, — заинтересованно буркнул Лофр. — Всегда хотел сам такое проделать. Кто ж разрушил мою мечту?
— Ул, мой враг, — вздохнул вервр… и тишина снова склубилась плотнее. Сквозь неё было сложно строить разговор с теми, кто не боялся и не верил. Значит, пока оставался глух. — Ул… лучше бы наследнику вернуться домой до нынешней ночи, но — не сбылось. Придется без него. И без Аны, кажется, тоже.
Вервр, даже слепой, прекрасно видел людей. И их неподвижные лица, и движения их душ. Он ждал. Понимал, что не может сказать всё то, что надо сказать теперь и без промедления… «Ваш мир обречен» — как подобное прозвучит из уст Рэкста? Как угроза! Или обман. Да мало ли, что люди услышат и какие сделают выводы! Они же люди. Вот только мир обречен, такова правда. И помощи ждать неоткуда, не от кого. Разве что…
Вервр недоуменно принюхался, вчуялся. Там, в доме, имелся совершенно невозможный гость. Неподходящий даже для четвертого царства. Все подобные ушли еще до становления иерархии! Ушли просто потому, что не научились соседствовать с людьми. Неужели?..
— Как же черта у ворот, закон не переступать без приглашения? — огорчился Лофр.
— Мой закон. Если, установив его, не пожелал бы сам соблюдать, медного пескарика он не стоил бы, — пожал плечами вервр. — Но сегодня нет времени церемониться.
— Что, край? — Лофр насторожился, убрал руку с боевого ножа при поясе.
— Край, — вервр поклонился темным окнам, решившись-таки поверить в невозможное. Он опустился на колено, как делал и прежде, начиная беседу с нэйя. Он и тогда до холода в спине боялся спугнуть их, а теперь тем более. — Вы… это точно вы? Вы знаете не хуже меня, что именно пробуждается на главной площади. Вы не намерены уходить?
Нэйя возникла на пороге. Невесомая… На коже аромат весны и рассветной росы на траве с незнакомым этому миру названием амаими — так всегда воспринимал её запах вервр. Он даже смог вспомнить имя травы, совершено ненужное теперь.
— Душа моя рада вам, летящая в свете. — Ан прижал ладонь к груди и поклонился. Сделал над собой усилие и вспомнил еще одно древнее имя. — Лэйгаа… Так странно. Не помню своего имени, но ваше живо. Я рад этому, как дитя.
Нэйя куталась в шаль, едва смея покоситься в сторону площади, которую и отсюда ощущала всей душой.
— Вы могли бы сделать мне подарок, очень дорогой? — Вервр попробовал попросить о невозможном.
— Нет, — шепнула нэйя, и руки её вспорхнули, и на узкой прохладной ладони вервр ощутил то, во что не смел поверить: частицу Шэда. — Я знаю и помню вас, Жесхар Шэд. Я ощутила вас в мире, едва шагнула сюда. Трижды за эту ночь я произнесла ваше старое имя, надеясь быть услышанной, надеясь собрать вас воедино. Но вы не смогли разобрать зов и хуже того: частица Шэда, что была мне отдана на хранение, тоже не отозвалась, не пробудилась. Вы изменились. Дважды изменились, так мне видно! Я не атл и совсем мало знаю вас — нынешнего. Я не в силах сплести живое имя из обрывков прежнего и нового. Вы даже не услышали меня… Простите.
Нэйя спорхнула по ступенькам и скользнула через двор, передала вервру браслет-змейку и снова вернулась в дверной проем. Словно там безопаснее. Словно теперь в мире есть хоть одно безопасное место!
— Жесхар Шэд, — негромко выговорил вервр, наклонил голову, вслушался…
Имя шуршало, как старая шкура змеи — сброшенная, пустая. Тусклое имя из далекого прошлого. Имя, которое бесполезно вспоминать и выговаривать вслух, ведь с ним у слепого вервра Ана меньше общего, чем даже с именем графа Рэкста — тоже изношенным и пустым. На миг душа оледенела. Он так жаждал дотянуться до Шэда, коснуться и стать с ним единым целым… И вот на запястье лежит змейка, в ней ощущается сонный покой — и никак её не пробудить. Нечто неведомое вынудило ее ко сну, глубочайшему… В четвертом царстве Шэд без Жесхара бывал с Тосэном и еще кем-то из атлов. Все они мертвы. Позвать, разбудить, нынешнего Шэда просто некому!
— Всё же теперь я знаю то имя, — Ан благодарно кивнул нэйе и выпрямился, принимая реальность, расставаясь с пустой надеждой. — Жесхар Шэд мог много больше, чем я. Но даже он бы… не хочу говорить вслух! Но вы знаете, о чем умалчиваю. Сейчас вам следует уйти. Скоро мир будет заперт и, в худшем случае, стёрт.
— Здесь дом того, кто мне дорог, кто мне — пара, — руки нэйя вспорхнули и медленно опали. — Я решила, я останусь и дождусь. Или конца, или… начала.
Она пропала в доме. Вервр шумно вздохнул, развернулся к Дорну — существу понятному и полезному. Нет сомнений: нынешний третий канцлер княжества Мийро принимает решения даже быстрее своего отца. И он уже всё для себя решил. Кажется, очень давно решил.
— Весь внимание, — кивнул Дорн, и кончики его волос согрелись азартом алости.
— Если ничего не предпринимать, очень скоро, по счету людей примерно через час, он себя… разгонит, и затем переведёт всё вокруг в фазу окаменения, необратимого, — пояснил Ан. — Для такой работы он — безупречный исполнитель. Он не передумает: его не научили сомневаться. Всё, что у нас есть против него — это природа четвёртого царства. Согласно законам этого мира я брошу вызов, и золото, — Ан принюхался и ткнул пальцем в нужного человека, — сделает поединок чести обязательным. Так исполнитель окажется занят, и худшее отложится на время боя. Исход боя не желаю упоминать. Но это всё, что сейчас можно ему противопоставить.
— Я золото, — согласился женский голос. — Лионэла хэш Донго, как вы, конечно, знаете.
— Только не добавляй это свое: «Со всем уважением», — выпалила Чиа и неуместно хихикнула. Прочие тоже рассмеялись — нестройно, но искренне. Сразу стало легче дышать. И общаться тоже. Чиа справилась со смехом и продолжила: — Хэш Ан, я ощутила беду и рассказала о ней незадолго до вашего прибытия, потому мы здесь, мы все вместе думаем. Но мой опыт мал, я в смятении. Все мои ощущения невнятны, они — животный страх, и только. Подобный вынуждает обитателей леса слепо мчаться прочь во время пожара. Источник угрозы на главной площади, так? Он не живой и не мертвый. Не имеет сердца. В понимании вервра у него нет смерти, раз нет жизни. Он… оно — оружие, а не боец. Так я вижу и не понимаю, что же делать?
— Хэш Ан? Ты прижилась тут, — проворчал вервр одобрительно. — Если бы я был прежним, если бы брат… вместе справились бы, пожалуй. Если бы я мог позвать Шэда и слиться с ним, не думал бы о Лоэне. Но исходим из того, что есть. Золото, — Ан снова указала на Лионэлу, — делает вызов обязательным, пока живет. Так что ваша смерть, Лионэла, будет началом конца.
— Её защита — смысл моей жизни, — голос Сэна вервр узнал сразу, одобрительно кивнул. Алые радуются бою. Им порой и самим неловко, но они создают из себя оружие и по-настоящему живут, будучи оружием, именно в бою.
— Мы быстро пришли к пониманию. Начнем подготовку с тебя.
Вервр жестом пригласил Сэна приблизиться. Вскрыл первое вместилище. Зачерпнул вязкую тьму и вылил на голову алого. Тот без удивления стерпел незнакомые ощущения.
— Защита, — пояснил Ан. Вскрыл второе вместилище и зачерпнул горячее и горящее, и снова вылил на алого, который догадался встать на одно колено, будто под присягу. — Тоже защита, по другим угрозам. — Вервр сунул руку в третье вместилище. — Так, и последнее, что есть. Оно перестроит течение времени и поможет тебе измениться, это мне оставил Тосэн. Я такое дать людям не умел и в лучшей своей форме. Готово! Замри. Привыкни к новому состоянию в неподвижности и далее пробуй себя осторожно. При новом темпе резкие движения разрушат самого бойца, всем советую запомнить это.
Люди не видели того, что Ан добыл из вместилища и внедрил в двуслойную защиту. Но никто не переспросил. Ан нахмурился: здесь к нему не относились, как к Рэксту! Его не боялись и даже — как такое может быть? — не ненавидели…
— Ты, — вервр указала на Лионэлу. — То же самое, под защиту. Затем вылью по пригоршне на Дорна и Чиа. Потребуется травник или лекарь, им я могу доверить выдачу защиты. Это несложно, если они внутри… годны для дела. По смерти защищаемого защита вернется во вместилище и станет снова доступна для выдачи новому бойцу. Лофр, подбери алых, для начала не менее десяти, но это должны быть люди, а не людишки.
— Крайняя ты скотина, — огорчился Лофр. — Отчего тебя, слепую башку, даже я изволю слушать? Бес меня порви, слушать и слушаться!
Хозяин «Алого льва» отмахнулся от сомнений и, продолжая жест, кого-то позвал — чтобы послать за людьми.
От ворот, привычно-многозначительно хмыкая, уже крался Клоп. Прибыл верхом. Вервру захотелось улыбнуться: ночной хозяин города предпочитал кареты, закрытые. Но — в спешке изменил своим правилам.
— Кгм… надо же, — наблюдая процедуру выливания тьмы и жара на голову Дорна, проскрипел Клоп. — А я-то кгм… не поверил в байки Белоручки.
— Кому же ты слал сообщения в Корф? — неискренне удивился вервр. — Не мне, раз обошлось без пива. К тебе два дела. Первое: надзор за площадью. Смотреть твои умеют, но взглянув, оттуда уже не уйти. Отправляй людей по двое, пусть один смотрит и говорит, пока язык его слушается, а второй слушает и передает весть. Второе: вызови толковых воров, скоро будет нужно умыкнуть с площади людей. Там определённо есть люди, по крайней мере четверо, все с сильной кровью — алой, белой, золотой и синей. Они под влиянием и сами не смогут сбежать, даже очнувшись.
Клоп сделал несколько сложных жестов, и тот, кто хоронился в тенях вне двора Лофра, понял и передал приказ. Клоп растянул губы в подобии улыбки.
— Я не работаю бесплатно, даже когда рушится мир, — вкрадчиво предупредил он. — Хочу войти в ваш дворец и забрать то, что мне глянется. Вы лично проводите и одарите. Вы и те, кого я внесу в лист, даже если кгм… князя.
— Вноси и выноси, толпой пойдем шляться, — Ан фыркнул. — Это не всё? Ладно, что не сказал, тоже сбудется. Лишь бы мир не рухнул.
— Уговорились, — Клоп потер ладошки и осклабился, подмигнул Лофру. — Вот испрошу жеребеночка, тут кое-кто и сдохнет, а? Не взял моего старшего в ученики, не взял… Я помню.
Во двор скользнул человек в темном бесформенном плаще, сник перед с Клопом и принялся едва слышно шептать: на площади дети, они стоят и сидят вокруг памятника — того самого, вроде бы установленного основателем Эйнэ. Для детей выставлено угощение, это свежие фрукты. Такие зимой могут быть лишь в саду беса Альвира. Сам бес тоже на площади, поодаль, наблюдатель едва смог рассмотреть его. А еще близ площади, на Синей улице, карета с гербом князя. Туман на той улице странный, от него нет запаха, но есть страх и удушье. Это пока всё: наблюдатель окаменел, как и предупреждал старый бес.
— Где тот пацан, как же его… Голос? — задумался Ан. — Где второй, Шельма? Помню их, ходили вместе.
— Тут я, — Шельма выглянул из-за спины Дорна. — Гэл спит, я дал ему капли. Вот же ж: за пять дней пять раз норовят его убить. С осени же ж всё злее напасть вокруг него! Понять бы, с чего?
— Буди. Причину я тебе назвал давно, ты плохо слушал, — Ан обозлился и сразу успокоился. — Что, даже ему не сказал? И матушка твоя не продала сведения? Никому?
— Пусть дышит вольно ж, зачем жизнь-то ломать, — насторожился Шель. — Не по нему же урожденный удел. Вот я и решил…
— Тоже мне, местное божество, решил он, — оскалился Ан. — Мы, вервры, родство крови чуем, как запах и вкус. Для альва мать и сын — два листка на единой ветви семейного древа. Альвир понял, как только увидел Гэла. Нам очень повезло, что Гэл еще жив.
— То есть могу сказать Токаде, — Шель покрутил головой, ткнул пальцем в вездесущего секретаря, — слушай же ж! Гэл и есть родной сын твоей неродной мамки. Вот же ж!
— Вот же ж, — проворчал Ан, черпая горстью тьму и выливая на голову Лофра. — Что, сам полезешь в пекло? Старый дурак.
Подошла травница, Ан кивнул, приветствуя. Было странно в мыслях называть её «матерью врага». Да и вражда по отношению к Клогу хэш Улу за пятнадцать лет истрепалась до ветхости… Травница присела, задумчиво погладила вместилища, прикрыла глаза и некоторое время оставалась неподвижна. Затем выпрямилась и тихо молвила, что защита годная, и она разобрала, как выливать тьму из горсти.
Вервр проследил за первой пробой и остался доволен. Отозвал в сторону Шеля, Клопа и сунувшегося с ними вместе ноба Токаду, который дрожал и отчаянно косил на воровского князя, но сбежать не пытался. Обсуждение получилось короткое, и все вроде поняли, в чем их задача. Затем Ан переговорил с Лофром по поводу подбора алых. С Дорном — по поводу стражи: надо срочно удалить из домов жителей всех кварталов, прилегающих к площади. Если миру конец, такое решение не имеет смысла, но если мир уцелеет — дело иное: так чем дальше люди от боя, тем больше у них надежд выжить.
Наконец, Ан покопался в последнем вместилище, подозвал Чиа и Дорна.
— Очень старое наследство, — Ан бережно передал верврам малые мешочки. — Зёрна из сада души… вернее, из нескольких садов душ альвов, которые были дружны с Жесхаром Шэдом. Настолько дружны, чтобы доверить сокровенное. Для альва это… как для нас природа зверя. Вам надо, двигаясь по часовой стрелке от севера, на каждом шаге сеять по зернышку вокруг площади, на удалении… — Ан поморщился. — Хватило бы вам опыта, вот что! Одна щека должна ощущать покой, а вторая — угрозу. Грань боя, так это называется. Зёрна взойдут, и то, чем они станут, будет оберегать мир от чуждого и смертоносного влияния настолько долго и полно, насколько это вообще возможно. Сами вы останетесь вне площади. Вы сеяли, вам и устранять проявления чуждого, которые пробьются через всходы.
Ан помолчал, принюхиваясь к ветру и зевая, собирая понимание двора и его людей. Душа болела за Ану. Дважды болела за Ному: а верное ли решение: уйти и ничего ей не сказать? Хотя белый лекарь — не боец, а сейчас грядет ночь силы и крови…
— У него есть слабые места? — спросил Дорн.
— Вряд ли. У него при развитии будет все меньше… знакомого вам, — Ан заговорил громче и сместился к группе алых, собравшихся возле Сэна и Лофра. — Оно будет обретать растущую свободу формы и атаковать многообразно. Но вы люди четвертого царства. Вы можете стать по силе — бесами. Тосэн дал этому неплохое определение: «вскрытие приоритетов». Чтобы хоть несколько мгновений прожить там, на площади, вам придется вскрывать их, один за другим, сколько осилите. Если бы я еще мог понять и тем более внятно объяснить, как это сделать!
Ан виновато развел руками и усмехнулся. Вокруг молчали, ждали продолжения. Тенью скользнул очередной дозорный Клопа, прошелестел: дети почти спят, памятника не видно в облаке тумана. Дышать возле площади трудно, наблюдатель окаменел в пять минут.
К Дорну примчался вестовой, доставил свои новости: стража вламывается в дома и гребет всех без разбора, уговорами и силой уводит в три дворца предместий, где уже устали спорить и готовят для временного размещения залы, пристройки, сараи. И еще место будет. Но утром придется за эти действия держать ответ. Близ площади не абы кто селится… Дорн выслушал про угрозы недосягаемого пока что мирного утра — и рассмеялся. Отослал гонца и негромко спросил, почему еще не начат бой.
— Всему свое время, — пожал плечами Ан. — Пусть те, кто в деле, разберутся с заданиями, что я определил им. Кстати: тебе следует начать сеять, как только завершу пояснения. Итак, приоритеты. Есть людишки и люди. Люди под ударами судьбы делали выбор, который в сказках называется правильным. А в жизни… в жизни людишки в такой выбор вообще не верят, как и в сами сказки. Вскрывая приоритеты, люди от чего-то отказываются, их плата — боль и утрата. Один из высших приоритетов — жизнь. Каждый, кто ступит на площадь, перешагнет свое естественное желание выжить. Чем глубже вы уйдете в смерть, тем вы страшнее, как оружие… В вас сможет пробудиться, я надеюсь, чистая сила. Каждый миг там, на площади, вы будете что-то терять. И каждый миг у вас будет возможность уйти из боя, насовсем покинуть этот мир в пользу иного, безопасного. Уверяю, хозяева Альвира донесут это до вашего сознания. Я говорю заранее: обещания будут во многом правдивы. Враг сильнее вас и меня. Так что вскрывайте приоритеты и идите к смерти ради малопонятной идеи спасения мира — или спасайте себя, это естественно и посильно для людишек.
Во дворе некоторое время было совсем тихо. Затем от ворот прокрался новый дозорный, сник у ног Клопа и стал хрипло выдыхать сведения: дети сидят, как каменные, только один стоит и даже ругается, совсем бодрый… Волосы у него полыхают белизной и алостью. Гонец договорил и замер, его дыхание больше не создавало пара. Клоп нагнулся, тронул лоб.
— Ледяной… На ощупь — камень, — с дрожью в голосе сообщил ночной князь. Кашлянул и обернулся к вервру Ану. — Почему не уходите? Вы не из этого мира и вы не человек.
— Никогда не отдаю под принуждением того, что моё, — в горле Ана наметилось рычание. — Я наполовину зверь. Зверь иногда уступает более сильному… хотя лучше Шэду не слышать подобного! Звери, как и люди, разные. Это мой мир, хэш Клоп. Особенно теперь, когда я обзавелся семьей. Живой или каменный, целиковый или стертый в пыль, я останусь тут. Алые! Пока мой вызов этой твари в силе, ваше дело беречь мою спину, а не лезть в герои. На площадь вам выходить не ранее, чем через час. Парами, лучше сейчас подобрать их. Тропу входа на площадь вы ощутите. И знайте: ваша худшая и главная работа начнется, когда враг сможет себя втиснуть в мир достаточно глубоко. Именно тогда он создаст щель и впустит рэкстов. Я знаю их… — Ан поморщился, принюхиваясь. — Даже сейчас чую, они рядом. Почти помню имя их вожака. Он был силен в прежнее время, а теперь он палач, каким был и граф Рэкст. Он устал быть рабом, он жаждет уничтожения всего и вся, а заодно и себя самого. Совсем как я, когда встретил Клога. Вы знаете обычное в вашем мире правило: бесы не могут безнаказанно убивать людей. Сейчас оно уже отчасти разрушено и незваными гостями, и здешними предателями вроде князя. Однако я чую: каждая смерть осложнит вторжение в ваш мир и вынудит врага истратить больше сил. Так что хотя бы в это можете верить. Ни одна смерть не будет бесполезна. Это всё, что я желал сказать. Осталось приложить усилия, чтобы настало утро.
Слепой вервр повел плечами, жестом подозвал Лию и Сэна и пошел прочь со двора. Он часто принюхивался и ловил на язык снежинки. Знал: сейчас, до боя, и далее во время боя, слишком многое зависит от случайностей и слабых людей. Прямо теперь ноб Токада, по запаху души — так себе зверь, не более чем никчемный хорёк — изображает пьяного и ломится в карету князя, даже не зная, князь внутри, первый канцлер или оба эти предателя. Его впускают… он ведь жалок и склонен юлить, искать покровителей, торговать сведениями. Но — не сегодня: два удара ножа, запах крови и яда… Вот вступила в дело охрана, сразу ответно подтянулись люди Клопа!
Ан снова повел плечами, помассировал виски. Далеко, плохо слышно и слабо чуется… Но определенно: схватка получилась короткая, крови пролито многовато. Зато дело сделано, бывший кривой заморыш Голос теперь — временно, может, на одну последнюю ночь мира! — законный по крови наследник власти в Мийро. Ничего себе новость для юнца. Он толком не проснулся, а кругом кровь, а рядом — неостывший труп прежнего князя. Старик был той еще крысой, устранил всех прямых родичей, кроме этого, неучтенного. Вервр зарычал от злости и азарта. Гэлу никак нельзя впадать в шок, лить слезы и бездействовать, глядя на друга Токаду… Вот кто был ушлый хорёк и знал, что приключается с теми, кто нагло охотится на крупную дичь. Он расплатился. А Гэл сейчас один, и он совсем один обязан сделать то, что только ему посильно — уничтожить бумаги, допускающие убийство. И почему во всяком мире бумаги у людей смертоноснее стали? Всюду по-разному это проявляется, но правило неизменно.
Ан принюхался и чихнул. Одобрительно кивнул.
— Сжег, — негромко сказал он, ни к кому не обращаясь, но зная, что Лия рядом. — Там были приговоры на полгорода… Старик свихнулся и строчил всё новые. Что он пил и кто его поил? Приговоры те самые, дозволяющие бесам убить. Надеюсь, Гэл не совсем слабак и новых своей рукой до утра не составит. Хотя травить и дурманить в городе умею не только я. Да: в карете был только князь. Я удивлен, мне представлялось, первый канцлер не лучше.
— Хэйд сказал, что намеревается приготовить для него чай, — тихо отозвалась Лия. — Это было еще до вашего прибытия. Теперь я понимаю, что он имел в виду. О первом канцлере можете забыть. Я волнуюсь за Ану.
— Каждый сегодня делает выбор, даже мой брат этого не отменит. Так что вы правы, волнуйтесь за неё. Я тоже волнуюсь, — слепой повел бровью. — Так: Альвир учуял меня и мой яд. Он покидает площадь. Хороший расчет времени.
Ан резко остановился, втянул воздух. Повернул голову — и, злясь на глупую для слепца привычку, проследил бег Дорна по крыше, падение зернышек — одного за другим, размеренно… «Сев проходит удачно», — прикинул Ан. Постарался не думать о том, что способен противопоставить этой защите Альвир.
— За спину, — приказал он спутникам. Подумал и добавил: — Сэн, защита сама за тебя это сделает, не удивляйся. На него нельзя смотреть. Совсем нельзя, окаменеешь. Но защита ослепит тебя и позволит получить замену зрения. Постарайся привыкнуть. Сперва будет сложновато. И это время ты обязан провести у меня за спиной. Понял?
— Понял, — негромко согласился алый.
Слепой вервр усмехнулся, постепенно замедлил шаги, вчуиваясь и принюхиваясь, стараясь понять площадь и состояние врага. Мог ли он пятнадцать лет назад знать, что, лишаясь глаз, приобретёт преимущество в нынешнем бою? Теперь он умеет видеть — не видя. Он учился этому долго и думал, что перемогает казнь… хотя то был способ отточить новый боевой навык.
— Наш враг еще малоподвижен. Успеваем. Лионэла, вам следует закрыть глаза и положить руку на плечо мужа. Вам совершенно нельзя рисковать собой. Повторяю: не смотреть… Когда я велю остановиться, можете начинать произносить формулу вызова на бой.
Вервр вздохнул, еще раз вздохнул — глубже и медленнее. Зарычал, сперва коротко и тихо, затем протяжнее, громче, в полную силу. Рычание — это звук и настроение, а кроме того заявление о себе и разметка тропы, пробный выброс ярости. И кроме всего это — снятие ограничений! Свобода быть собой, вервром. Свобода меняться для боя.
Туман на площади оказался разрезан рычанием Ана на два полотнища — по сторонам тропы. Вервр повел плечами и сделал первый шаг. Он знал, что сейчас сделался чуть менее похож на человека: руки длиннее, ногти острее, и кожа… она глянцевеет и обрастает мелкой радужной чешуей.
Второй шаг. Язык удлинился, раздвоился, стал куда чутче и добавил к картине площади много деталей, для людей не существующих вовсе, не имеющих даже названия.
Третий шаг. Волосы облетели, как осенняя трава. Чешуя накрыла голову полностью и стала твердеть, шея с хрустом удлинилась, нарастила несколько позвонков. По спине, груди, бокам обозначились тонкие линии — чувствительные к структуре пространства и току силы, характерной для природы всех четырех царств.
Четвертый шаг. Самый неудобный — суставы ног и таза выкручиваются, выворачиваются, мучительно ломают и переиначивают сами себя, разрушая прежние связки, сосуды, нервы.
Рывок… и падение вместо пятого шага! Но надо успеть подняться, чтобы заслонить идущих следом, пока внимание твари не достигло их. Ан зарычал злее, ниже: он, оказывается, совершенно забыл, как следует передвигаться на этих конечностях. Рефлексы отработали своё, но если начать думать о кинематике ног… будет хуже, чем с любимой истории друга Тосэна о гусенице, решившей понять, что делает её двенадцатая лапка, когда вторая отрывается от грунта.
Шестой шаг. Пружинистый сдвоенный рывок вправо-влево. Опять хруст костей, дополненный запахом крови… И боль, такая мощная, что она временно выключила сознание. Вдох. Выдох. Теперь под контролем три тропы. Значит, всё получилось. И не надо думать, фантомы те два вервра справа и слева — или боеспособная реальность. Жесхар Шэд знал ответ. Но сейчас ответ устарел и утратил смысл, как и само имя.
Седьмой шаг. Оба вервра-клона — правый и левый — делают рывок в стороны и создают подобия. Эти подобия уже определенно — лишь видимость, они едва контролируются и скоро пропадут. Не важно. Они нужны именно теперь.
Восьмой шаг. Когти клацают по камням. Как-то это… неопрятно. Четыре боковые вервра срываются в длинный прыжок, сразу оказываются возле детей и встают полукругом, отделяя их от памятника. Вервры-клоны рычат, формируют общую звуковую волну и нормализуют объем среды, временно принимают его под свой контроль. Ненадолго, увы… Но люди Клопа расторопны: юркнули из окон, где давно таились в засаде, накинули петли на детей, как им велено — на пояс или ниже, на ноги, а никак не на шеи… Рывок — потащили! Звук плохой, жёсткий. По крайней мере два ребенка уже мертвы и полностью окаменели. Или три? Если все четыре — надежды на сколько-то протяженный бой нет!
Все же мертвы два. Третий едва жив, его кожа скрипит и крошится. Зато последний, четвертый — молодец, сам вцепился в верёвку и подтягивается, помогает спасать себя. Настоящий алый!
Ан когтями взломал чешую на груди и быстро выкроил крупный клок шкуры. Содрал, рыча и перемогая боль. Бросил за спину — и Сэн догадался подхватить.
— Бес-с щита не прот-тержиш-шься, — с клыками, чешуйчатой пастью и таким языком выговаривать слова людей очень трудно. Ан оскалился и разозлился. — С-стойте. Вс-се… т-тальше с-сам.
Новый шаг вперед, теперь уже по-настоящему самостоятельный. Не надо никого прикрывать или фальшиво надеяться, что собственная спина прикрыта. Свежая шкура натягивается на оголенное мясо почти мгновенно, ведь сейчас вервр совершенно здоров и в полной силе.
— Я, белое золото этого мира, свидетельствую… — Лионэла сразу начала говорить то, что ей и полагается.
Вервр был признателен за эту решительность. Он еще не ушел с головой в бой, и потому пока неплохо понимал, насколько для людей жутко, душно и невыносимо находиться на площади. Вдобавок люди слепы, а слепота усиливает страх.
Вот первый, пробный удар противника: камни площади шевельнулась, освободились от раствора и с грохотом обвала метнулись, норовя заваливать горой четыре подобия слепого вервра и, что куда хуже, оберегаемых ими детей. Сразу смяло и стерло в пыль два слабые подобия. Сильные отпрыгнули и сблокировали камнепад на излете… Оба целы и под контролем.
Ан повернулся к памятнику и нагло уставился на него слепой звериной мордой с пустыми глазницами. Никто более не мог бы смотреть так — прямо и безнаказанно. Стало почти смешно… Стоит слепому вервру явиться в город, как оживают нелепейшие легенды о бродячих памятниках! Этот вот — вервр помнит его до самой малой мелочи — выглядел еще недавно всадником на великолепном коне. Имел неповторимый шелковый золотистый тон, разный в разное время дня и чуть светящийся в ночи. Люди неустанно гадали: на памятник была пущена скульптором то ли особенная бронза, то ли вовсе загадочный древний сплав. Хотя на деле это — лишь глянцевая корка. Так запеклась форма, когда для смертоносного её содержимого вход в четвертое царство оказался блокирован и оно… застыло, застряло.
Вервр взрыкнул, отчетливо вспомнив себя древнего: Жесхар Шэд стоял именно здесь и рычал, он был в бешенстве! Тогда люди не селились поблизости, окрест шумела дубрава, так что и пришествие твари, и её усмирение видел кроме атлов лишь он. Он был против мирного и ложного решения, которое ничего не решало. Он жаждал боя и уничтожения твари! Но атлы сказали: тварь даже не жила, у неё нет опыта и взгляда на мир, потому она не имеет возможности отказаться от пути разрушения. Пусть получит шанс стать живой, наблюдая мир… Пусть накопит душу и тогда сознательно примет сторону и сделает выбор между добром и злом. Идеалисты атлы! Им всегда казалось, что свободный выбор возможен даже для оружия, а ведь тварь — всего лишь оружие… Бездушное, бессердечное, исполнительное и эффективное в высшей мере. И еще — лишенное спонтанности. Тварь стала выглядеть, как всадник, потому что отразила того, кого первым ощутила в мире — Даррэйза Бойвога, родоначальника семьи Дорна хэш Боува…
Отрешившись от прошлого, Ан взрыкнул и сложил чешуйчатые губы в улыбку. Могло быть куда хуже: в тот день по чистой случайности Даррэйз решил прокатиться верхом на коне. А ведь рядом, невидимый для твари, парил его дракон!
Вервры-подобия, мысленно Ан так и звал их — Правый и Левый, заняли свои места. Ан взрыкнул, волна звука распространилась широко, докатилась до границы боя.
Заветное зерно древних альвов пошло в рост… Ан ощутил, как взметнулись тонкие лозы, как корни ушли вглубь, дальше и дальше — чтобы оплести объем площади сплошным шаром, чтобы на время ограничить тварь малой областью пространства. Самое время: тварь уже проснулась, нащупала слабину и начала втискивать себя в четвертое царство.
Шелково-золотой всадник повел плечами, и вервр узнал жест. Свой жест! Тварь, проведя в наблюдении за миром много веков, не перестала быть бездушным оружием и не отказалась от своей роли исполнителя. Сейчас она копировала того, кого опознала в новом времени и заново назначила себе во враги.
— Я знаю тебя, — прорычала тварь. Так стало понятно: она научилась речи, то есть все же отчасти изменилась за многие века. — Я завидую. Я желаю стать единственным палачом иерархии! Я, только я, больше никто и ничто не потребуется! Я буду зваться Багряный Рэкст, обрету славу и страх и оставлю свои подобия всюду, где воздвигну совершенный порядок.
Бывший конь завершил превращение в змея. Бывший его седок встряхнулся, делаясь все более схожим со своим нынешним врагом — вервром Аном в его боевой форме.
— …может быть решено лишь в поединке чести, — завершила обязательную фразу Лионэла, и последние слова прозвучали звонко, породили эхо.
Вервр кивнул, продолжая смотреть слепыми глазницами в лицо врага.
— Мой мир достоин жизни и с-свободы, — Ан негромко сказал свою часть формулы вызова на бой чести и порадовался тому, что почти не шипит, хотя это сложно. — Так я вижу правду, и я готов доказ-сать её боем.
— Смерть, — прошипел враг. — Всем отступникам смерть!
Враг шагнул ближе, еще ближе… И это было замечательно — желая уподобиться тому, кого он полагал наилучшим палачом иерархии, тварь пока использовала примитивные формы силы и зеркально копировала действия Ана: а вервр спешил пользоваться случаем и провоцировал сближение… Пока вдруг не замер недоуменно.
Между двумя чешуйчатыми существами, в разломе вывернутых камней, стоял человек. Он был в защите — но совсем не той, какую приберег на крайний случай Ан. Человек имел при себе примитивное оружие и смотрел на своего заклятого врага, багряного беса Рэкста… и за его спину, на Сэна и Лию. Человек пах яростью и сомнениями, слезами боли и гнева, а еще — зеленым ядом Альвира.
— Смерть, — эхом повторил он приговор твари, вздрогнул и пошатнулся. — Ты должен сдохнуть! Должен…
Человек сделал шаг, споткнулся о разворочанные камни и вскрикнул, падая и продолжая смотреть на врага. Завозился, упрямо встал… Ан опознал его сразу, даже под плотной защитой, сотворенной средствами второго царства. Брат Аны, полноправный хозяин имения Гост. Тот, кого бес Рэкст видел однажды мельком — в лесу, на месте казни младенца и кормилицы.
— Умри, — выкрикнул Тан, хотя теперь он смотрел мимо врага, на Сэна, и не делал нового шага, и совсем не верил в свою правоту. Как он мог оказаться в бою не на стороне Сэна? От боли душевной Тан кричал особенно громко, желая оглохнуть: — Мое право, мой долг, смысл моей жизни…
— Живи, — попросил Ан.
Его Правый прыгнул, подставился под удар твари и оказался нанизан на острие каменной пики, сломал её, смял — дернулся и затих… Тан качнулся, неловко упал на локти. Он получил рану, но не был проткнут насквозь, как исходно желала тварь.
— Мой бой! Моя победа! Мой мир! — выла тварь.
Вервру было горько и почти смешно: слова графа Рэкста, стоит ли сомневаться! Звучат до боли похоже… и имеют совершенно иной, топорно-примитивный смысл.
Левый замер за спиной Тана, давая ему время уйти из боя. Тан дернулся, попытался всадить нож в лапу Левого — и, полуобернувшись, окончательно осознал вид и намерения твари, невольным союзником которой он стал. Охнул… Ан прыгнул вперед, проклиная весь нелепый род людской, где слабые норовят влезть в любое дело и порушить его, сколь угодно важное и неотложное.
Левого унесло и вмяло в стену дальнего дома — тварь стремилась добить случайного союзника, заподозрив в желании выжить и присвоить часть славы после победы. Тан уронил оружие и недоуменно уставился на свои пустые руки, когда его накрыло плотным слоем корней, заплело вьюном и потащило прочь, дальше и дальше от неминуемой гибели. Тварь метнулась, осознав нового врага и нацелившись на него. Гудящий ком огня возник, разросся и покатился, лопнул ослепительным сиянием, разбросал смертоносные брызги жара! Еще два шара запламенели и стали разрастаться рядом…
Ан не следил за чужим боем, он радовался передышке — Правый очнулся и заращивает раны, Левый занял свое место. Оба двигаются быстрее и увереннее, они настроились, пообвыкли и стали самостоятельнее.
Тварь смогла осознать число врагов и их силу. Это привело её к пониманию пользы более сложной тактики, чем атака в лоб: тварь дернулась прочь, желая покинуть площадь и дать себе срок, пока прирастает сила… Но — не смогла уйти, впечаталась в незримую стену и оказалась отброшена. Кажется, тварь лишь теперь осознала оковы поединка чести: покинуть площадь прежде смерти слепого вервра нельзя, заняться уничтожением мира в целом — тоже нельзя… Тварь взвыла и полыхнула силой. Веер сияния прокатился по площади, смял фасады домов и запекся на камнях глянцевой коркой. Тварь сосредоточила внимание за Сэне, и грунт треснул, расходясь широким проломом, полным лавы… Трещина нацелилась на алого и стала подползать ближе, ближе.
Правый обошел тварь со спины, Левый атаковал в прыжке и полосовал когтями, оставляя в ранах яд. Вервр Ан нырнул в лаву, и жгущее до костей пламя высветило в памяти знание: как выживать в такой сложной среде, как использовать её во благо, забирая кипящую силу…
Далее бой складывался тяжело, утомительно-предсказуемо.
Начав с оружия первого царства — каменных лезвий, лавы, удушья и прочих подобных трюков, тварь постепенно добавила возможности второго — яды, вяжущие вьюны. Она чередовала способы, все полнее внедряясь в мир и усиливая воздействие. Каждый следующий удар становился мощнее и точнее. Каждая неудача учитывалась при новой атаке.
Сам воздух стал вязким, он сковывал движения и отравлял. Вервр более не мог контролировать всю площадь, он кое-как управлялся с подавлением активности в сфере вокруг себя, и эта сфера медленно сжималась, превращаясь в капкан…
Когда погиб Правый, Ан осознал утрату, как большую боль. На миг и сам он оказался почти мертв — но оправился и не пропустил очередную атаку.
Где-то далеко, вне личного боя, отвлекали на себя часть внимания люди — вервр смутно ощущал их присутствие и понимал: значит, прошло более часа. Алые уже в деле. Хотя это вряд ли важно. Левый держится, вот что главное. Без него противостоять твари будет очень и очень трудно. Без него вервр станет единственной мишенью, и сила атак сразу возрастет на порядок. А ведь Ан и теперь, пусть и не хочется признавать — на пределе: устает, пропускает удары и ранен так много раз, что заращивает себя слишком медленно, неполно.
Левый срезался и угас мгновенно. Кажется, его перерубило пополам и сразу смяло в каких-то чудовищных жерновах. Ан взревел — и погнал волну звука и силы, расширяя сферу контроля, насколько возможно. На краткий миг он смог увидеть почти всю площадь, мутную, словно бы залитую илистой болотной жижей вместо воздуха. Ан увидел и тварь, уже ни на что не похожую, состоящую из разрозненных или связанных щупалец, лезвий, огненных шаров, клыкастых пастей, змеиных тел — всего, что показало себя эффективным в прежних атаках. Свод пространства боя высоко вверху был темным, закопчённым, лозы и корни много раз заплетали прорехи и снова выгорали, рассыпались и растворялись. Сейчас уже имелось немало сквозных прогалов, в двух самых крупных отчетливо просматривается зимнее ночное небо… Значит, защита, подаренная давным-давно альвами, как пожелание жизни из самого сердца садов их душ, эта надежнешая защита — скоро иссякнет…
«А ведь на помощь рассчитывать не приходится», — пронеслось в сознании острое, болезненное… пронеслось и пропало.
Ан остался один. Так было много раз прежде, такова судьба высшего хищника — отстаивать свою территорию. И пусть всякая неспособная к бою шваль вроде кроликов цыкает зубами, перетирая ложь: бой хищников бессмысленный, он только для них и важен, он — крайнее проявление эгоизма. Но разве не тот, кто на вершине, отвечает за мир в целом? За право этого мира оставаться самим собою!
Поле боя, а вернее, весь его объем, становился все враждебнее и опаснее. Исчезало разделение сред — расплавленный, жидкий камень колебался и прорастал подобиями корней в вязкий ядовитый воздух, испарял раскалённую, переполненную энергией жидкость… Но вервр еще боролся, еще выживал там, где, кажется, даже и одного мига провести — невозможно!
В ночном небе наметилось неуловимое движение.
Нечто рухнуло из вышины. Сфера, ограничивающая бой, хрустнула, дрогнула — и сквозь самую крупную прореху полился поток чистой силы. Слепой вервр ощущал его синим и серебряным пламенем и не мог понять, почему так четко воспринимает цвет. Пламя наполняло площадь, но не обжигало, лишь осаждало илистую муть и освобождало тело Ана от ощущения скованности.
Вервр сразу лег, дал себе несколько мгновений отдыха. Скоро новый Левый уже медленно разгибался там, где недавно догорели ошметки его предшественника. На Правого у Ана не осталось сил. Нет: надо думать иначе, сил пока не накопилось.
Левый поднялся на лапы и помчался к краю площади, поддел поперек тела полумертвого человека и вышвырнул его в темную, прохладную пещеру улицы. Прыгнул, подхватил второго, столь же негодного к бою, вышвырнул и его.
Часть, которая, вероятно, была стержневой для сознания твари — помесь змея и многорукого великана — верещала и упрямо тянулась вверх, желая понять и устранить нового врага. Но пока синее пламя имело большую власть, оно изливалось и изливалось, и довольно скоро растворило все огненные шары, заровняло большую часть язв с лавой и оплавило, раскрошило каменные лезвия.
Правый восстал из пепла и гибко потянулся. Отдохнул лежа, поднялся и перемесился по площади, чтобы занять свое обычное в этом бою положение — страхующего перед Сэном или рядом с Лией. Вокруг алого ноба Донго давно сформировалась сфера чистой силы, и Ан был благодарен человеку за его умение отдавать себя смыслу жизни до конца и без остатка…
Ан не желал думать, да и не мог, во что Сэну обойдется бой. Не время.
Вервр сел, подставил лицо силе, льющейся сверху. Вдохнул — и приветственно кивнул. Приятно ощутить помощь старого друга. Тем более ценно понимать: тот преодолел оцепенение давнего отчаяния и вступил в бой. Сдаться боли, уйти в себя и, не просыпаясь, навеки окаменеть — это было бы унизительно и страшно для одного из наиболее яростных драконов древности… Бойвог никогда не был самым крупным или могучим, но его живучесть и умение держать удар вызывали уважение.
— Жесхар, — прошелестело глубоко в сознании, и слепой вервр впервые ощутил в себе некоторое родство с прежним именем.
Тварь изловчилась, ввинтилась в поток огня — и вервр услышал, как хрустит камень. Скорее всего, ошибся неопытный новый спутник дракона: взглянул на врага слишком прямо и пристально. И — ощутил на себе ответный взгляд, а он по воле первого царства бывает таков — вроде полыньи на зимней реке, он захватывает и затягивает, топит, губит. Чем прямее взгляд — тем глубже и страшнее окаменение.
— Крылья, — поморщился слепой вервр, понимая происходящее.
Синее пламя иссякло, тело дракона покатилось по внешней поверхности ограничительной сферы боя ниже, ниже — ломая окаменевшее крыло и сминая второе, еще целое…
Тварь сыто взрыкнула и обернулась к основному противнику всеми мордами, шипами, змеями! Свежие разломы прочертили глянцевую, спекшуюся корку поля боя. Набухли огненные шары. Зашуршали шипастые разряды молнии, зашевелились ядовитые вьюны… Воздух снова сделался плотнее, постепенно стал походить на масло. Всякое движение снова требовало огромного расхода сил. Сейчас бой всё больше походил на игру. Увы, играла — тварь, а слепой вервр боролся из последних сил и всё полнее ощущал себя именно игрушкой.
Левый ошибся и получил рваную рану во весь бок. Правый лег, смятый камнепадом…
— Шэд!
Слепой вервр вздрогнул. Он не мог позвать спутника, которого однажды предал. Не имел права просить о возобновлении общности теперь, проигрывая бой. Не ощущал в себе силы и равенства с тем, кто был воистину велик…
— Шэд!
Со второго раза Ан опознал голос, а вернее, поверил своему слуху. Ощутил страх — панический! В этом бою, безнадежном с самого начала, как защитить Ану? Как, если сам ты непривычно слаб, мал и неповоротлив… По спине распласталось тело — человечье, и легкая рука дотянулась до чешуйчатого локтя.
— Всё просто, — задыхаясь, прокричала Ана. — Пап, тот, кто был Жесхар, умер и опять родился в семье Ан. Ты — Ан Жесхар Зан, по обычаю юга: род, имя из прошлого и имя, данное при рождении. Почему не зовешь его? Шэд! Шэд, как часть семьи Ана Жесхара Зана зову в наш мир, здесь жарко!
Ана закашлялась и согнулась пополам. Левый, мгновение назад почти мёртвый, конвульсивно дернулся, сделал над собой усилие и пополз, а затем побежал на трех лапах, не успев отрастить отрубленную заднюю правую. Левый подхватил Ану, оттолкнул далеко — и сразу поток лавы накрыл и его, и слепого вервра.
Расплавленный камень налипал на шкуру и твердел, связывал движения, заполнял все окружающее пространство и стремился вмуровать в себя. Камень мелко вибрировал, настраиваясь на те способы приема сведений о мире, что заменяли слепому вервру зрение. Камень кричал всем способностям вервра Ана воспринимать мир: окаменей! Ты — часть меня, ты мертв, ты каменный, совсем как я и даже более меня!
Ан вывернулся, взломал ловушку, стал подниматься, ощущая в себе перемены — каменея и продолжая сопротивляться…
Еще до начала боя Ан знал, кто в этом противостоянии сильнее. Просто не умел отказываться от мира, сочтенного своим. Ни прежде, ни теперь Ан не верил, что смерть бывает сильнее жизни! Сейчас тварь — вся целиком, каменным монолитом накопленной силы и намертво впечатанным в саму сущность приказом — удушала, омертвляла, уничтожала…
Мир вне собственной шкуры перестал существовать для вервра. Шкура, чешуйка за чешуйкой, отмирала, как при линьке. До предела уставшее тело выгибалось в спазме, теряло чувствительность. Лишь сердце упрямо билось — реже, глуше, слабее…
Ан не мог сдаться. Сейчас он знал: ему в спину смотрит Нома, и ведь она не сомневается, что муж вернется… Его ждет Эмин — самозваный родственник и бестолковый, слепой в своем незнании, хранитель зародыша живой книги… Ему желает поклониться, приглашая на очередной бой, Ош Бара — упрямейший ученик, для которого стиль змеи составляет культ, а вовсе не какой-то там способ ведения боя. А еще Ана… кто ей скажет: «Я не твой отец!», тем самым, как ни странно, подтверждая право быть неотъемлемой частью семьи.
Вервр не мог уйти. Никак не мог бросить всех, ради кого жил, в пасть бездушной твари, мертвой от самого своего создания. Ан упрямо жил, потому что пока он жил — он оставался врагом для твари и защитой для мира, давно избранного родным…
Настоящие высшие хищники не владеют мирами, а принадлежат ему всей душой. Только мало кто умеет понять это.
Уже угасая окончательно, Ан вдруг обрел способность видеть. Он различил рождение света — могучего, невероятного… пугающего своей мощью. А затем нахлынула волна жара, столь огромная, что в ней растворялось совершенно всё.
Мир сделался вроде растопленного масла — и весь стёк, испарился, иссяк.
Путь Ула. Предназначение палача
Сознание поднялось из небытия, как пылинка в чудовищном водовороте. Мир крутило и мяло! Тошнота донимала, мешала понять, каково оно, пространство. Но постепенно Ул вспомнил себя и поверил: головокружение и озноб — это по-своему замечательно! Значит, в мире есть верх и низ, воздух и свет, холод и тепло — и всё прочее, привычное людям. Вот: даже голодное бурчание в животе!
— Ну же! Зачем ждать, — потребовал где-то далеко голос, вроде бы детский. — Мы в деле!
«А может, и не детский», — усомнился Ул, вслушиваясь в шипение и рычание. Попытался сесть, открыть глаза… но тело не слушалось.
— Вызов не бросают без причины. Надо выслушать и высказаться, — пророкотал бас, мощный и ровный, как морской прибой. — Мы пришли за человеком нашего мира. Мы заберем его. Раньше или позже, силой или миром. Я предпочитаю силу, она точнее вскрывает коросту лжи и высвобождает истину. Мы пойдем до конца, и мы уже поняли, что ваша иерархия пуста, как колодец в затяжную сушь. А я ненавижу засухи и пустые колодцы.
— Забирайте тело, нет возражений, — голос Осэа опознался сразу. — Это все, что возможно вернуть. Если говорить о сознании, тем более полном рассудке… Учтите, последствия длительного пребывания в изнанке бессмертия не изучались, это не коварство и не…
— Они изучались мною, по вашей воле, — прошелестел голос, легкий, как лебяжий пух. Ул сразу узнал свою Лею. Сердцу стало горячо и больно. — О колодцах и засухах я кое-что добавлю. Нэйя не смогут летать в вашем небе. Это не наказание, просто здешнее небо для нас… тяжелое. Нэйя не смогут отражаться в ваших озерах. Это не месть, просто я не верю, что память допустимо отнимать силой или обманом, даже для сохранения. Отрезанная, она делается ложью и умирает.
Щеку обожгло дыхание Леи, мелкие иголочки уколи ухо, шею… Боль — волна за волной — покатилась по коже, словно её кипятком шпарили. И даже боль была в радость, она ограждала от изнанки, где нет ничего, совершенно ничего настоящего.
На лоб легла ладонь — прохлада, доброта… И еще, как ни странно, свет. По горлу поползло щекочущим перышком ощущение легкости и радости. Пробудилось любопытство: кто все эти люди? Надо же, с Осэа в её мире разговаривают невежливо! Более того, готовы начать поединок чести? Определенно, обладатель роскошного баса — алый. Хочется верить, он алый и он — из родного мира. Ул попытался улыбнуться, но даже мелкие мышцы лица не слушались.
Проскрипели песчинки под легкими шагами.
— Добавлю от себя: ваше поспешное намерение немедленно забрать тело противоречит воле самого наследника. Он желал увидеть королеву и шел к своей цели весьма настойчиво, — в голосе Осэа вроде бы проявилась усталость. Слова сеялись мерно, как осенний дождик, создающий не полив, а исключительно плесень. — Но, кажется, у нас нет иного пути исчерпать спорный вопрос и вернуться к взаимно удобному формату переговоров.
— Пусс-стой свисс-т, — презрительно вышипел кто-то могучий. Сразу стало легче на душе. Так мог высказаться только Шэд!
— У меня более нет личного интереса оставаться посредником, — этот голос Ул тоже узнал и удивился, почти смог сдвинуть брови. Невыносимо зачесалась переносица, но — нет, не почесать, не чихнуть! Остается слушать мягкий говор драконьего вервра Лоэна, который прежде предпочитал быть вне чужих активных действий. — Позволю себе вопрос. Зачем лично вы в это… играете, о всепомнящая Осэа? — Лоэн помолчал, добавил: — Мы в чем-то схожи. Опираясь на наше гипотетические сходство, предположу: вы желали пополнить озера тайн и разрушили безмерно ценную для вас дружбу с нэйя. Позже вы стремились получить и иные тайны, но осознали, что цена им — утрата столь же дорогой связи душ. Позже вы смогли усомниться в методах. Это достойно уважения, я вот не смог. Вы свернули активность, изолировав себя в избранном мире. За меня подобное сделал брат. Мне потребовалось очень много времени, слишком много, чтобы вслух признать: он старался для моего же блага. Но, может быть, стоя перед Лэйгаа и вы решитесь…
Повисла тишина, и Ул осознал, что он, вопреки бессилию совладать с собственным телом, слегка задерживает дыхание: эту тишину разрушать нельзя.
— Еще предположу, — добавил Лоэн. — Вы сразу осознали, что наследник подлинный. Вы скрыли это, дав ему время… вырасти. Вы, равно как и я, затем использовали его в своих целях. Мы с вами умеем понимать, как порою бывает мал выбор средств. Вряд ли вы ответите мне, но хотя бы себе и позже: в чем ваша цель? Что вам в конечном счете важнее: сберечь уцелевшее или вернуть утраченное, а, если это невозможно, хотя бы примириться с потерей? И разве все эти цели не тупиковые? Я снова сужу по себе.
— Ответа не будет, — отчеканила Осэа. Ул не сомневался, сейчас она использует непроницаемую дневную маску.
От намеков и игр Лоэна и прежде делалось нехорошо. Сейчас — тем более. Одно радует: рука Лэйгаа все так же лежит на лбу, свет под веками делается ярче, оживает вместе с сознанием. Свет пуховый и лучистый, как шарик цветения ивы.
Закружилась голова, но коротко и без тошноты: всего лишь отозвалась на перемещение сквозь междумирье. Вдох… и глоток неразбавленного счастья. Так пахнуть и ласкаться к волосам может лишь ветерок родного мира. Снова дыхание Лэйгаа близко… Оно обжигает. Губы коснулись брови, щеки.
— Ты обещал рисовать для меня цветы в любой тьме, — шепнула нэйя. — Ты ведь обещал!
Ул принял подсказку и постарался мысленно нарисовать цветок для Лэйгаа. Конечно же, алый и трепетный: так виден свет солнца под сомкнутыми веками. Обязательно на длинном, почти незримом, стебле… чтобы цветок парил и танцевал в самом легком ветерке.
Ладонь согрелась, пальцы дрогнули. Упрямо, сквозь новую боль, напряглись, пытаясь повторить намек на движение. Иглы — ядовитые, кажется — впились в запястье, локоть, плечо. Ул сжал и расслабил кулак, шевельнул рукой… Боль распространилась, и скоро благодаря ей и помощи чьих-то сильных и грубых рук — вон как резко тело вздернули за шиворот! — Улу удалось сесть. Тот же помощник, не церемонясь, двумя пальцами растопырил веки — и свет хлынул, выжигая сознание! Ул вскрикнул, застонал… и почти уверенно, всего-то с сотой попытки, а то и быстрее, пальцами правой руки нащупал точку на запястье левой. И вторую — возле большого пальца, и третью, на мизинце.
Теперь Ул обливался потом, сознавал свою слабость, дрожал и радовался: он — живой! Он медленно, трудно, но всё же выпутывается из невесомых и всемогущих силков изнанки бессмертия.
Еще точки — на шее, на лице. Очень важные на ногах, до сих пор холодных и чужих, как колоды. И возле ушей, и снова на шее. Рука Лэйгаа коснулась запястья и уложила на кожу что-то подвижное, смутно знакомое — это живой браслет, понял Ул. Он всей душой обрадовался прикосновению частицы Шэда, сразу узнал рукоять сабли — той самой, добытой в мире Алеля и проглоченный змейкой-ножнами там же… давно. Целую жизнь назад, до изнанки и встречи с нэйя.
— Вот ты и дома, мой мальчик.
Сердце сошло с ума. Голос мамы! Она дышит в левое ухо, а Лэйгаа — тоже рядом, справа. Теперь в мире совершенно не осталось места для плохого и непоправимого.
— Мама, — едва смогли выдохнуть губы. И все же это было слово, первое сказанное самостоятельно слово… будто удалось еще раз родиться, и снова — в лучшем мире, на руках у единственной мамы.
Вернулось зрение, сожжённое первым взглядом на солнце. Получилось улыбнуться…
Ул окунулся в синеву родного неба, запрокинув лицо. Сразу наплыло в облаке легких волос лицо Лэйгаа — настоящее, а не явившееся во сне или созданное воображением наугад там, в изнанке бессмертия. Глаза нэйя — синие, яркие, словно небо просвечивает через неё насквозь, и золотое лето непрестанно окружает её этим вот облаком легких волос…
— Лэй… Лэйгаа, — выговорили губы.
И рядом появилось лицо мамы. Неожиданное, его оказалось узнать и принять сложнее, чем внешность нэйи. Мама стала… молодая, очень красивая. Смотрит по-иному: прямо и очень спокойно. Глаза у мамы ярче прежнего, вот разве боль… на дне боль, темная и тяжёлая.
Ул нахмурился, сжал губы, не зная, как задать вопрос и время ли сейчас для такого вопроса. Пока надо дышать и приживаться в мире. Дома.
Большая ладонь под затылком грубо оборвала сказку, заставив смотреть не в небо, не на родные лица — а на землю. Почти сразу собственные боль и радость утратили смысл.
В родном мире цвело золотое лето — новое, взрослое. Во все стороны простиралось широченное поле… или площадь? Сплошное спекшееся стекло, прозрачное на бездонную глубину и полное смутным, текучим узором. Ул сразу понял: похожее поле образовалось в Тосэне после боя драконьего вервра Лоэна, но сравнение слабое… Так детская тряпичная игрушка похожа на живого дракона. Это поле — огромно, и, кажется, воистину бездонно.
— Где мы? — прошептал Ул, пытаясь оглянуться и понять, что за люди его окружают, кто помог вернуться домой.
— Эйнэ, — первым отозвался Лоэн.
Сразу удалось повернуть голову и увидеть драконьего вервра. Он выглядел знакомо и в то же время иначе. Старше? Грусть залегла на дне глаз — почти как у мамы. И ответ… в одно слово, будто этим всё сказано! Ул судорожно кивнул и продолжил озираться, дрожа от слабости и упрямо вбирая впечатления. Ул помнил столицу княжества. Прежде там не было ничего похожего на поле стекла!
Озноб продрал по спине, как когтистая лапа хищника — до костей. Что приключилось в родном мире, каков был враг, и наконец — кто его остановил и что за цена была уплачена? Ул отчаянно, через «не могу» удерживал на слабой шее тяжеленную голову и поворачивал её, и перетирал в каменных жерновах полумертвого сознания ужас увиденного и домысленного. Почти сразу внимание привлек… памятник? То ли человек, то ли змей выныривал, выворачивался из каменного плена, брызги летели во все стороны, крошево острыми иглами впивалось в глянец поверхности. Ощущение движения в неподвижном камне сводило с ума. Ул закрыл глаза, собрался с силами и посмотрел опять: памятник неподвижен! Но глаз отказывался воспринимать его, как застывший. Ул прищурился, вглядываясь… но зрение быстро устало бороться с парадоксом скрытого движения, и Ул отвернулся.
Снова стал смотреть — по сторонам.
Похожие на осколки памятников нагромождения там и тут, вдали дыбится нечто разлапистое, упругое даже на вид — то ли оно дерево, то ли пружина вьюна? А вон крыло дракона, наполовину утопленное в стекло… Рядом человек с оружием, почти целиковый, даже лицо внятно видится — только он разрублен надвое, так и замер в атаке, не завершив удар… И еще человек, видно лишь его спину — вроде холмика, а все тело скрыто в стеклянной массе поля.
— Расскажу коротко, я справлюсь.
Откуда-то сбоку скользнул и оказался перед Улом ребенок лет двенадцати или чуть старше. Угловатый, резкий в движениях, с острым и слишком серьезным взглядом. За ребёнком тенью приблизился вервр. Во взгляде — агрессивное внимание и поиск угроз. Желтые, звериные глаза рэкста… такие знакомые и — иные!
— Это вы? Я нарисовал котенка. Да, именно вам… — шепнул Ул и посмотрел с новым интересом на мальчика. — Вот так котенок!
Вервр не удостоил сказанное и намеком на внимание. Он смотрел за горизонт мира, щурясь и принюхиваясь. Он знал свою силу, покой нынешнего дня… и всё же оставался готовым к бою.
— Вы знакомы? — удивился ребенок. — Я Ульо. Меня назвали так из-за тебя. В ночь боя я не уследил за Аной, начал метаться по городу… ну, так и наткнулся. Увидел: в карету сунули спящего ребенка. А я на крышу, ну, спрятал его, а сам на его место… и вот, — Ульо жестом указала на вервра. — Когда меня и прочих сдернули с площади и стали спасать, нас завалило в подвале. Он вытащил и с тех пор оберегает. Сперва было странно. Он не разговаривает, лишь иногда рычит. А только если б не он, я б задохся. А после он же передавил почти всех диких, которые на площадь втиснулись извне… он и еще тетка Чиа.
Ул слушал, и ему становилось страшнее с каждым словом. Отчего-то прежде он верил: родной мир вне угроз. Ведь сама королева однажды сунулась в четвертое царство, помаячила прозрачной тенью во вратах, а войти не сумела. Значит, и иным это не под силу!
— Лоэн, это ты смог… — шепнул Ул, снова осматривая поле.
— Меня не было в том бою. Я предпочел, — медленно выговорил драконий вервр, — компромисс, удобный лично для меня. Враг был непосильный, я до сих пор не способен даже примерно понять, как брат смог… и что именно он сделал. Это стоило жизни четырем десяткам алых. Это искалечило еще до сотни людей той же крови, так что настоящих алых нобов в столице не осталось. Разве вот Боувы… — Лоэн жестом указал на каменное крыло. — Драконом, что до сих пор отращивает новое крыло, сплющило Дорна, но не насмерть. Дар, сын канцлера, до сих пор не способен пользоваться правой рукой, словно она окаменела. Значит, и правда он не чужой древнему дракону. Впрочем, Дара ты не застал. Кого же ты знал, о ком надо сказать неизбежно?
Лоэн огляделся, и вот теперь Улу сделалось по-зимнему холодно. Всякое новое слово, — понимал он, — отзовется болью куда худшей, чем любая, испытанная прежде. Ул глянул на маму, по-новому понимая тень в её глазах. Кого она потеряла? Кого? Прошло так много лет, сгинувший из мира сын так много упустил, не был рядом и не мог не то что защитить — даже обнять. Травница поняла, улыбнулась. Погладила Ула по щеке.
— Ты возмужал, совсем стал взрослый. Ты замечательный сын, сразу привел в дом девушку, о какой любая мама только и смеет мечтать. Лэйгаа была рядом каждый день. Она обнимала меня, когда становилось совсем холодно. И я помогала ей, если свет делался слаб. — Травница еще раз погладила Ула по щеке и встала, и отступила на шаг. — Ты вырос… Я дождалась, душа спокойна. Пойду. Время утренних занятий, опять разбитые носы и невысказанные жалобы. После того боя сироток прибавилось… Очень много детишек, и все младше тебя. Младше и слабее. Я нужна им.
Ул, не смея ничего спросить или оспорить, молча следил, как мама удаляется, ни разу не обернувшись. У неё прямая спина, и голову она несет высоко, гордо. Ул всегда знал, какова мама внутри. Теперь это видно каждому… отчего же ему — больно?
— Я никуда не уйду, — пообещала Лэйгаа и легонько сжала руку на запястье Ула.
Из-за спины, прекратив поддерживать шею Ула, шагнул рослый смуглый воин. Резко поклонился и отодвинул Лоэна.
— Сам скажу, быстро, — бас был тот самый, что рокотал в мире Осэа. — Ты должен помнить Лофра. Вон там его смяло в крошево, а ведь после твоего отбытия Лофр стал мужем матушки Улы. Она редко приходит сюда, пойми её. Только если надо Ному или Ану забрать, а мы не справляемся. Кого еще показать? Тот нарост на стекле — Клоп, он был вор и даже я не понимаю, зачем сунулся в бой. Он долго держался у меня за спиной, наверное, я задолжал ему жизнь. Вон та сабля и на ней — каменная левая рука, это от Шельмы, ты знал его?
Ул покачал гудящей, тяжелой головой. Взглянул на Лэйгаа: как она переносит тягостное перечисление потерь? Ведь память хранит нэйя — невесомую, хрупкую, готовую укрыться во тьме небытия при первом порыве боли…
Нэйя смотрела на каменную руку, крепко сжимающую клинок — теперь и навсегда… Лэйгаа не отворачивалась, хотя по её щекам сбегали мелкие слезинки.
— Шеля выбросил из боя змей Ана, — Ульо ловко впечатал локоть в бедро южанина, сунулся вперед и захватил право вести рассказ. — Шель почти здоров. А вот Омаса… Он давал мне кататься на любом коне. Он был очень добрый.
Мальчик показал на обломки… Молчаливый вервр заволновался, придвинулся к ребенку и положил когтистую, звериную лапу ему на плечо. Рыкнул, принюхиваясь и не находя угрозу.
— Сэн, Лия, — Ул едва смог выговорить эти имена и просительно взглянул на Лэйгаа.
Та кивнула — живы… на душе потеплело, но нэйя не стала ничего уточнять, и озноб вернулся. Смуглый воин подвинул за плечи Ульо, обращая внимание на себя.
— Мы приложили усилия, — воин протянул руку, и Ул узнал в его браслете частицу Шэда. — Мы все: Шэд, я, Ульо и его дикий вервр, хэш Лоэн… хотя ему, вообще-то, трудно верить. Зато дракон его безупречен. Вне мира нам иногда помогали и другие. Нам многие противостояли, но мы добивались твоего возвращения. Дело заняло два года. И это было главное дело по счету истины алых.
Смуглый воин нахмурился и смолк, всматриваясь в осколки на стеклянном поле и бегучие, неспокойные тени в недрах — словно там бой всё еще продолжается.
— Я, Ош Бара, не силен в речах, но тут особенный случай, — продолжил воин. — Вот послушай, как вижу. Ты вернул к жизни Ану. Встреча с ней дала мне смысл жить, а не только убивать и искать смерть. Я прикрывал спину учителя Ана, и его последний бой дал новый смысл существования этому вот, — смуглый воин оскалился, всем телом развернувшись к Лоэну, — родственнику. Гм… я отвлекся. Вот важное: ты был первым звеном цепи, для меня драгоценной. Эта цепь через жизнь и даже смерть одних оживляет и наполняет других. Она не должна оборваться. Цепь жизни!
Воин указал на каменную глыбу.
— Ты дал семью девочке, которую назвал именем Ана. Она дала семью учителю, учитель помог создать семью Эмину. Это тоже цепь судеб, драгоценная. И она готова оборваться. Ана больше не видит смысла для себя, Нома тоже… Я сразу, после боя, понял: надо вернуть тебя! Иначе нам не укрепить цепь.
— Ош Бара и его знаменитая речь о цепи жизни и шипастом наморднике её смыла, — в голосе Лоэна прошелестела горечь, неловко спрятанная за насмешкой.
— Стих-хни, — браслет-Шэд поднял голову от запястья смуглого воина и оскалился на драконьего вервра. — С-сухарь.
Лэйгаа робко, просительно улыбнулась. Её рука вспорхнула и указала направление. Ул попытался встать. Южанин поддел под руку и то ли повел, то ли потащил. Лэйгаа скользила рядом, быстро стирала со щек слезинки и заглядывала в глаза.
— Ан Жесхар всегда был упрям… ты знал его, как багряного беса. А я помню его древнего, Жесхар Шэд и тогда был ужасающе упрям. Это меня пугало, но еще и завораживало. Нэйя оторваны от земли, а он — привязан неразрывно! Мы летим в свете, высоко… А он рвется напролом и устраняет всё, что считает преградой. Он груб и страшен! Но полон жизнью более, чем целый мир. Ана сказала так, пока ей выделяли доспех для боя. Я была рядом, я слышала и думала, и так постепенно… решилась. Заставила себя взглянуть на бой. Смотреть и не отворачиваться, да. Когда сила бушует и смерти множатся, это ужасно, дико. Я ощутила боль, затем пришло отчаяние, и мне показалось, вот-вот всё угаснет. Но из тьмы возникло — вдохновение. Я первый раз поняла бескрылых, и смогла…
Ульо сунулся сбоку и вставил несколько слов, которые полагал важными: мол, я всё видел, я был недалеко, когда волной света с площади смыло дрянь. Захотелось отрастить крылья. Зря весь город смеялся над Даром, сигающим с колоколен. Вот зря, и все дела! А уж когда явился сам Шэд… Ул не нашел в сказанном внятного порядка и смысла, но благодарно кивнул.
— Мало кто знает, что нэйя могут быть очень опасны. При взлете во вдохновении мы вспыхиваем, свет отделяется от тени, — прошептала Лэйгаа и положила ладонь на локоть Ула, ведь ей понадобилась опора. — Такая острая грань! Мы не выбираем, как её прочертить. И хуже, сами после не можем вывести из тени тех, кто там оказался. Мне больно. Я опять боюсь дышать… Жесхар, пожалуй, переупрямил бы смерть, но тень… тень была на нем, понимаешь? Он так плотно сплелся с врагом…
Смуглый воин, который тащил Ула, резко остановился и вздохнул. То ли виновато, то ли устало… Ул ничего толком не понимал, хотя очень старался разобраться. Он напряг шею, осмотрелся. Каменная глыба теперь была совсем близко — огромная, черная в алых и багряных прожилках, словно пропитанная кровью. В тени под скальным сидела девушка. Тоненькая, темноволосая. Она прижимала ладонь к камню, склонившись и касаясь глыбы лбом. Отчего-то Ул сразу понял: девушка сидит тут давно, и все знали, что увидят её здесь. Именно поэтому тяжело вздохнул алый — как его? — Ош Бара.
— … и Эмин сказал, что согласен, — Ул разобрал едва слышный шепот девушки. — Ты же знаешь, ему лишь бы навалить на плечи побольше любимой работы. А тут — и парк, и фонтаны, и планировка города. Всё во славу учителя, конечно же… смешно. Как на ногах держится, ума не приложу. Приходится снабжать его жену снотворным. Чтобы отдыхал. Это ведь не обман, правда?
Девушка притихла, плотнее прильнула лбом к камню, вслушиваясь в ответ, которого не было.
— И такой кошмар у нас каждый день, — шепнул, встав на цыпочки, Ульо. — Или Нома здесь, или Ана. Обе твердят, как заводные, что надо с ним говорить и так ему теплее. Бара смотрел-смотрел и решил: раз ты начал эту историю, тебе и выправлять её заново! Видишь, как всё криво загибается без тебя. Ты должен разогнуть! И не говори, что нельзя и невозможно. Надо.
Ульо кивнул со значением, раскрыл ладонь — и ему в руку сразу легла когтистая лапа вервра. Желтоглазый оскалился, впервые глянул на Ула прямо, заинтересованно. Облизнулся, принюхался… И предупреждающе рыкнул. Мол, пока ты не враг мне, но если мой «котенок» расстроится, пеняй на себя.
Лоэн вплотную подошел к скале и приблизил ладонь к камню, не касаясь его.
— Монолит. Не поддается даже драконьему пламени Эна и гневу Шэда. Кажется, здесь я один и усвоил смысл понятия «невозможно». Увы, я прав, печать завершенного боя нельзя вскрыть. Но кто из них станет меня слушать?
Желтоглазый дикий вервр зарычал, его загривок начал обрастать жестким коротким мехом, клыки удлинились. Звериный взгляд нацелился на Лоэна.
— Вы бы могли оставить меня одного? — старательно выговаривая слова, попросил Ул.
Просьбу исполнили все, кроме темноволосой девушки: кажется, она не слышала ни слова из общего разговора. Она была слишком занята своей беседой с тем, кого упрямо пыталась рассмотреть и расслышать, даже в камне.
Ула оставили сидеть у скального бока.
Левое плечо касалось камня, и так движение в неподвижной скале ощущалось яснее и полнее. И мысли в голове ворочались чуть легче… Ведь от пробуждения и до сих пор Ул самого себя ощущал то ли человеком, то ли камнем. Он выбрался из изнанки, но скованность не прошла, да и вряд ли могла легко иссякнуть. А новости и встречи — удар за ударом, всё непонятное и темное, загадочное и недосказанное. Вдобавок новая, чужая и молодая мама, которой очень больно. Мама Ула, для которой чужие осиротевшие дети теперь важнее своего, выросшего и здорового… И Лэйгаа. Так странно и сложно заново ощущать и упрочнять постепенно, по малому волоконцу, ту нить, что однажды, в изнанке бессмертия, связала души. С нэйей тепло и легко, а ведь при всем при том с ней еще только предстоит по-настоящему познакомиться! И бережно, безмерно бережно, раскрыть цветок родства двух душ.
Ул сидел в тени и смотрел на нынешнее золоте лето — вроде бы со стороны. И вспоминал давнюю осень, когда всё началось.
Он казнил багряного беса, ударив по лицу… Руке снова больно, рука помнит, как душа лопнула и кровоточила. Он взял карту палача и тем самым вмешался в судьбы очень и очень многих. Он ослепил вервра, которого теперь зовут то ли Ан, то ли Жесхар. Он назвал младенца Аной — странно или закономерно, что имена девочки и казненного вервра — совпали? Дважды странно и закономерно, что имя самого Ула и его матушки созвучны. Может, у атлов судьба такая, наполнять душу родных и самим наполняться? Отдавать и принимать. Может, именно это Мастер О и полагал подлинным обменом, может, он потому и принял карту менялы, не предав себя?..
Рука нащупала карту палача. Истертую, старую… Да так и есть, прошлое утратило силу. Нет больше мальчика Ула, нет и багряного беса, но цела их связь, скрепленная этой картой.
Взрослый Ул задумчиво покрутил в пальцах прямоугольник. На одной стороне — блеклый, едва различимый белый дракон и всадник, на другой — яркий герб с алой лентой, нарисованный довольно примитивно.
— И все же мы по-прежнему связаны, — шепнул Ул. — Меня заперли в изнанке, и ты снова стал палачом. Но уже иначе, да? Они приговорили мой мир, и ты вызвал на поединок исполнителя во имя правды алых. Палач четвертого царства — тот, кто обречен следовать истине, как единственному судье. Для нас с тобой приговор истины обязателен к исполнению. Тогда зачем всадник, дракон и прочее? — Ул нахмурился и внимательнее всмотрелся в карту. — Слишком старый рисунок.
Девушка у скалы всё шептала, Ул не разбирал её слов, не старался вслушаться. Он щурился, будто разучившись видеть мир. Слепо щупал камень, вздыхал.
Пережив и страх, и боль, он искал то самое, главное для Лэйгаа — вдохновение. Чтобы увидеть мир иначе, чтобы мысленно взлететь и понять свет, тени… или как говорила Лэйгаа?
Ул щупал камень и морщился: ладони саднило, словно с них только что содрали кожу. Боль росла… Ул рассмотрел руки и усмехнулся. Он искал решение и вдохновение, а решение так давно лежало в ладонях и ждало своего часа.
— То есть вы не против? Я не понял вас тогда, не расслышал. Если вы правда не против, — Ул говорил, глядя на рисунок, проступающий на коже краснотой ожога. Не отвлекаясь, Ул нащупал грифель Мастера О. — Благодарю за подсказку, я буду очень стараться.
Ул снова осмотрелся, уже понимая, что именно следует искать. Переполз ближе к темноволосой девушке, помогая себе руками и досадуя: ноги по-прежнему колоды, тащатся и не слушаются, это пока не поменялось.
Карта повисла в воздухе, стоило её отпустить. Ул примерился… широким движением положенного плашмя грифеля зачернил весь рисунок, вместе с рамкой. Затаил дыхание — и в одно сложное и точное движение вывел контур: единый волосок света… Контур — цветок, тот самый, что он собирался нарисовать для Лэйгаа. Этот цветок он видел однажды, даже держал в руках — легкий, на длинном стебле, подобный танцующей искре пламени.
Еще одно движение наметило узор листьев у края карты. И последний штрих: сбоку, почти вне поля карты, едва видимым намеком — прищур Шэда. Без него никак…
Карта с новым рисунком плотнее прильнула к камню. Ул кивнул, осторожно вздохнул, почти веря: получается. Потянулся и тронул незнакомую девушку за локоть. Она вздрогнула, лишь теперь заметив соседа.
— Вот так сложите руки, — попросил Ул. — Я отдам, а вы согреете. Так он приживется. Видите ли, я пока что не в уме и пытаюсь нарисовать то, что еще не проявилось. Мне очень нужна помощь. Важно, чтобы вы поверили. Это не та история про розу и соловья, и я не белый лекарь, но…
— Я белый лекарь, но этого мало, — девушка некоторое время смотрела на Ула, а вернее, сквозь него. — Мы не знакомы. У меня нет причин, но я… я верю вам!
Она сложила руки, как показал Ул — словно оберегая пламя свечи. Ул осторожно накрыл ладони своими руками — и ощутил, как жар заполняет пространство, недоступное холоду и коварству ветра, защищенное двумя парами теплых и заботливых рук.
Алость жгла кожу, росла… и в какой-то миг сделалась видна глазу! Сквозь две пары ладоней она проступила бликами огня. Забилась робким, неровным пульсом. Алость выросла, пульс стал спокойнее и мощнее.
— Теперь держите сами, — попросил Ул.
Он вдруг понял: не надо снова рисовать цветок. Давным-давно оставленный в междумирье, он целую вечность пролежал в складке страниц загадочной книги, хранившей мертвый зимний лес и живой летний. Цветок едва теплился, но упрямо оставался настоящим. Он нуждался в человеке, способном найти его, подобрать и согреть душою. Теперь цветок следует… проявить в мире? Цветок, как и сам Ул, слишком долго спал в подобии изнанки мира. Цветок был заперт вне жизни, он постепенно стирался, пропадал. Забывал себя, иссыхал.
Пальцы первый раз коснулись рисунка стебля, едва смея приступить к исполнению замысла. Ул прежде не пробовал убирать пустоту. Это сперва казалось невозможным, но Ул пробовал снова и снова, и непосильное — удавалось! Ул улыбнулся, заметив, как вдохновение разрастается, зажигает искорки серебра на кончиках волос, привлекает родной ветерок — дышать в ухо и подбадривать…
Небытие постепенно стиралось со стебля, сползало с узких серебряных листьев, оттенённых чернью, льнущих к земле. Вот пальцы проследили стебель целиком, коснулись стеклянного поля боя — и ощутили, что только оно и годно быть почвой невиданному цветку. Поле, где люди приняли смерть, чтобы сберечь жизнь целого мира.
— Можно, — шепотом сообщил Ул девушке. — Отпусти его. Он не погаснет. Он теперь настоящий. Надо же, я думал, что несу его куда угодно, но уж точно не домой…
Девушка медленно раскрыла ладони — и алый цветок качнулся первый раз, поймал порыв обыкновенного ветра… Разгорелся ярче. Согнулся на тончайшем стебле, выпрямился и полыхнул в полную силу, снова согнулся, бледнея… и опять разгорелся!
— Эй, разве тут была пещера? — задумался Ул, щурясь и всматриваясь в бархатную сплошную тень под багряно-черным боком скалы. Алые блики цветка то позволяли рассмотреть нечто — то прятали в густом сумраке даже на намек на саму пещеру.
— Мне снились голуби, — проворчал смутно знакомый, бархатисто-рычащий голос. — Эти твари гадили, и я даже во сне был бешено зол. Они хуже кроликов! Так бы и посворачивал их гадкие шейки. И в суп. Нома, ты слышала? Я согласен не жрать их сырыми. Я стал одомашненным до того, что противен сам себе.
Девушка охнула и, не задумываясь ни на миг, скользнула во мрак. Пропала… А цветок всё бился и трепетал, то наполняясь светом, то делаясь прозрачным.
— Ан, — было совершенно понятно: девушка убеждена, что слова чудятся ей. Ведь до того она умудрялась вести беседу с камнем, выслушивать ответы камня, а вернее, придумывать их…
— Что за запах? — в пещерке шумно принюхались, зевнули. — То ли я стал плох, то ли ты стал слишком хорош, враг Клог. Подкрался незамеченным. А ну-ка…
Ул едва мог дышать. Он уже знал, кого вот-вот увидит.
Из сплошного сумрака вынырнул вервр, совершенно лысый, какой-то весь серый…
Вервр выбрался на свет и без сил откинулся на скалу, плотно зажмурив веки и скрипя зубами от боли. Ул задохнулся, дернулся, хлопнул растопыренной ладонью по скале. Пещерки не было! И прежде не было, и теперь… Сплошной монолит, прав Лоэн. Вряд ли стоит сомневаться: даже драконье пламя не возьмет эту скалу.
Вервр снова застонал, одним движением нашарил руку Номы, дернул — и обнял девушку… Ул очнулся и вздрогнул.
— Что? — оживилась Нома. Охнула. — Глаза? Ан, не молчи! Ты живой и у тебя — глаза?
— Глаза, — вервр оскалился и заставил себя не закрывать лицо руками, уже взметнувшимися защитить зрение от света и боли. — Проклятущий Клог! Ровно так же больно, как при казни. Нет: стало хуже.
Вервр упрямо распахнул глаза. Снова зарычал — басовито, яростно. Звук давал понять: боль плавила сознание вервра, но не могла перебороть его упрямство. Вервр быстро стер слезные дорожки. Проморгался. Осознанно, с хищным прищуром, уставился на Ному.
— Я тебя вижу, женщина. Как говорил дурной Эмин? Мои глаза наполнены и рады. Тьфу, аж песок на зубах от южной приторности, — вервр вздрогнул, деловито осмотрелся. — Так. Я вспомнил и сопоставил. Давно я… тут?
— Кажется, два года, — ответил Ул.
Нома ничего не могла сказать — она смотрела на вервра, окончательно поверив в его возвращение… и рыдала! Иногда сгибалась и резко, громко вскрикивала, снова выпрямлялась и плакала. Она мертвой хваткой держала руку вервра и всё равно боялась, что упустит эту руку — теплую, настоящую.
— Лофр, — темные глаза вервра полыхнули звериной желтизной, когда взгляд нащупал обломки. — Клоп… Ага, дурня Шеля мой Левый всё же вышвырнул. — Вервр склонился к цветку и долго его рассматривал. — Эй, враг! Знаешь, что ты принес? Хотя откуда б тебе знать. Ты же слепой на оба глаза и безмозглый, как все младенцы. Это амаими, или свет жизни. Амаими росли только в мире нэйя. Давно… даже для меня давно. Теперь точно вспомнил: один атл, он умел рисовать… наверное, как ты. Он нарисовал амаими прямо по живому цветку, и тем создал пожелание тепла и жизни. Не просто так нарисовал. Старался во исполнение заветной мечты своего лучшего друга — альва. Альв укоренил чудо и думал, что каким-то там нарисованным цветочком укрепит родство душ. Вот только одна из душ была каменная. А дальше, — вервр оскалился. — Дальше тот мир погиб, и альв погиб, и мой друг Тосен погиб, пытаясь их спасти. Слишком много боли, совсем мало света. Последний амаими сгинул.
— Альв, он был… — Ул не посмел вслух выговорить свою догадку.
— Он любил ту, кого теперь принято называть королевой. Дурень деревянный, любить надо живых и теплых, — вервр потянулся, крепче обнял свою Ному. Взрыкнул: — Шэд! Шэд, я безмерно скучал.
Ул обхватил голову руками, пытаясь сообразить, что же он натворил! Наверняка король… или как его называть? Тот альв, древний… он желал передать последний привет своей жене. А вместо этого — вот что получилось.
С запястья Ула стекла змейка, и освобожденный от ножен клинок вывалился в явь, зазвенел по стеклу поля. Змейка выросла, протерлась вдоль бока, приветственно коснувшись тыльной стороны руки и оставила на запястье новый браслет. А сама еще более выросла…
Шэд взвился тугой пружиной, мгновенно окутал Жесхара с головой и словно впитался в него, стал второй кожей — змеиной, узорчатой, с глазастым и зубастым капюшоном на голове вервра.
Вернувшийся из небытия вервр потянулся, прямо глянул на солнце, и сыто, длинно зашипел сквозь зубы: «Хорош-шо»…
— Бес, то есть как же тебя… вас теперь? Ан Жесхар, — в голове вихрем крутилось безумие, Ул едва мог связно говорить. — Я ведь наверняка… я был… то есть, должен был отнести цветок… Я слышал шепот там, в междумирье. Я не понял ни слова, ни полнамёка!
— Амаими растут только там, где им есть место. Ты укоренил его. Значит, ты справился, — вервр погладил себя по макушке, точнее, Шэда-капюшон — по морде. Прищурился. — И каково тебе быть палачом? Хотя я знаю ответ, не мычи оправдания. Как все дурни, ты пошел туда, сам не знал куда и взялся искать то, что сам не знал что… вместо обычных дел и планов, которых от тебя ждали умные существа.
Жесхар запрокинул голову и рассмеялся, Шэд на его голове тоже улыбался широкой пастью-капюшоном и шипел, веселясь. Ул смотрел, радовался передышке. Так и так — вервр прав — ответа у него нет. Очень удобно сменить тему и обсудить иное, но тоже важное.
— Я перерисовал нашу карту и вернул вам. Да: вы же еще тогда сказали, что я виновен и после… после вы будете судить меня. Теперь у вас есть право, — смутился Ул. Он уже и сам понимал, что сказанное много примитивнее сделанного и звучит фальшиво.
— Перерисовал, — промурлыкал вервр, раскрыл ладонь и рассмотрел послушно явившуюся карту. — Амаими и Шэд. Свет и яд жизни. Сгодится. И вернул? Значит, теперь моя очередь разбираться с королевой. Аш-ш… нескучно. Я-то хорошо понимаю, куда стоит пойти и зачем. Да, ей тоже будет нескучно, обещаю. Я займусь. Вот только оглашу твой приговор, он прост: живи, сколько сможешь. Ты уже начал понимать, как это больно, жить долго? — вервр подтянул еще ближе жену, которая ненадолго отстранилась, пытаясь заглянуть в лицо своего Ана, ощупать его кожу, проверить пульс… Вервр обнял Ному обеими руками, притиснул к груди. — Прекрати рыдать, даже обгадившие скалу голуби пока живы. Неужели так сложно принять то, что не ты вылечила меня?
— Ан! Да как ты можешь…
— Гнев истиной нобы, который много слаще слез нобы, — промурлыкал вервр. Поднял голову и взглядом предложил Улу обернуться.
У кромки тени, конечно же, стояли все те, кто добыл Ула из изнанки бессмертия. Смуглый воин, Лэйгаа, Лоэн и малыш-«котёнок» со своим вервром-волкодавом…
Все улыбаются, прямо праздник — который вдруг оказался разрушен! Людей грубо разметало в стороны. Желтоглазый дикий вервр — и тот поворчал, но отодвинулся, не стал связываться. Возмутительница покоя — белоголовая девушка — прорвалась вперед, охнула, мгновенно все поняла, смахнула слезинку, рассмеялась, шмыгнула носом. Узко прищурилась… и боком, крадучись, двинулась к бывшему багряному бесу.
— Папа! Это же ты? Живой ты? Ух ты… глазастый ты!
— Мы не родственники, — ответно щурясь от удовольствия, сообщил Ан, наблюдая возмутительницу спокойствия. — И что в тебе нашел Бара? Плоская, мелкая, да еще и плаксивая. Не души меня!
— Папа!
— Учитель! — прогудел Бара, шагнул вперед.
Ул пожал плечами, ощущая себя окончательно безумным. Мир изменился, багряный бес изменился, всё изменилось… и сам ты дома — почти чужой! Тебя мало кто помнит. Вот разве друзья и мама. И то, сами они уже иные, тебе надо заново принять их. Ты знал их давно… А теперь по-настоящему рядом лишь нэйя. С ней легко, хотя, если подумать — вы не знакомы. Вы прежде толком и не виделись, хотя неведомым чудом еще до встречи успели срастись душами.
— Лия, Сэн, Дорн, — Ул поймал руку Лэйгаа и, подчинился её легкому жесту, поднялся, радуясь подвижности ног, пусть пока слабых.
Мысленно и вслух Ул повторял имена и сознавал: он слегка опасается новостей. Оказывается, Лофр был маме — муж. Что их связало: робкую травницу из деревни, не смевшую лишний раз поднять голову — и столичного наставника наемников? Громогласного, ядовитого на язык, грузного и страшного. И каково теперь матушке, ведь Лофр погиб. И как всё это совместить, как понять: тебя не было дома целую жизнь!
Если сделать усилие и хоть немного упорядочить безумие в голове, то Ульо — он, конечно, сын Лии и Сэна. Он похож на друга Сена. Он алый, кто еще сунулся бы на площадь, в гущу взрослого боя?
Принять перемены посильно, пока Лэйгаа скользит рядом. Душе… тепло. Вот только слух напрягается, даже уши болят: не получается расслышать и самого слабого шороха шагов нэйя. Зато свои шаги — грохочут! Такие тяжелые, шаркающие… Ул брёл и все сильнее сомневался: касается ли нэйя земли?
Рука Ула дрогнула, потянулась вперед и вверх. Быстро нарисовала в воздухе контур амаими. Лэйгаа тихонько рассмеялась — значит, увидела.
Стеклянное поле кончилось резко, Ул перешагнул кромку и двинулся дальше по улочке, отсыпанной цветным крошевом. Слева и справа росли молодые деревца. Они были высажены в прихотливом и строгом порядке… Тот, кто разбил возле стеклянной площади парк, определенно, разбирался в парках. Ул едва не упал, увидев чуть в стороне беседку из слоистого цветного стекла. Прежде таких строить не умели. Ул зашагал дальше, спотыкаясь и недоумевая. Дома непривычного вида: высокие узкие окна, круглая кладка каменных куполов, синяя глазурь… Красиво.
— Это Эмин строит, — шепнула Лэйгаа. — В городе такое творилось после боя! Князя нет, первый канцлер отравлен, второй в бегах, а Дорн — тогда он был третьим — едва жив. Градоправитель тоже сбежал. Семьи алых были в трауре, а стража на ножах с теми, кто выселен и чьи дома разрушены. Тэйты, о них я мало знаю, взялись перекраивать границы. Прочие тоже не отставали. Холод, неразбериха, раненные, бездомные… мы сами не поняли, как все закрутилось. Но, когда к весне очнулись от суматохи, Ан Эмин Умийя уже всеми без исключения именовался «хэш градоправитель», и даже его собственные возражения никто не слушал. Он смирился, — легкая рука взлетела, — и в оплату трудов на благо города Эйне строит библиотеку имени своего учителя Ана Жесхара и своего деда Ана Тэмона Зана. Ты ведь знал его, как Монза?
Ул кивнул, пообещав себе разобраться и в этими новостями, но — позже. Спросил, жив ли Монз, хотя знал ответ — душой и умом… и все равно стало больно.
— Срединный зал уже готов, там любой может прочесть первый листок новой книги города, его вырастил Эмин, — добавила Лэйгаа и рассмеялась. — Пока листок очень слабенький… прозрачный, как я в первый день в этом мире. Что еще рассказать? Странно, я знаю твой мир лучше, чем ты. Это больно — вернуться… так?
— Больно, — согласился Ул.
— По земле ходить всегда больно, но я справляюсь, с тобой я могу.
Лэйгаа указала на дом по левой стороне улицы. Заскользила быстрее, тронула колокольчик у двери. Коснулась ручки, предлагая Улу не ждать и самому открыть. Юркнула в щель и уверенно выбрала правый коридор, взлетела по лестнице на второй этаж. Замерла у двери — входи первым.
Друга Сэна получилось узнать сразу. Хотя душа сопротивлялась и не желала принимать то, что видели глаза. Сэн казался старым, очень вялым и отрешенным. Он, сгорбившись в глубоком кресле, дремал с открытыми глазами. За столом, сбоку от кресла Сэна, перебирала бумаги и делала какие-то пометки Лия. Она почти не изменилась, однако выглядела усталой. Едва открылась дверь, Лия старательно улыбнулась, отмечая: да, она рада встрече, это правда… насколько вообще может быть важна правда — такая и любая иная. Лия отодвинула стопку бумаг и привычно — так делают, наверное, все люди, связанные с серьёзными делами — перевернула текстом вниз письмо, которое читала.
— Я знала, что Ош Бара вытащит тебя, — негромко молвила Лия, жестом пригласив занять диван у окна. — Он алый, его упрямство безмерно. Жаль, это ничего не меняет в моем доме. Я уже не девочка, мое золотое лето в прошлом. Второй раз даже тебе не добыть птицу и кувшинку. Не стану и просить, я достаточно понимаю в природе чудес, они сами по себе не рождаются. И себя я понимаю неплохо… — Лия прикрыла глаза, чуть помолчала. — Ты подарил мне жизнь, а Сэн — пятнадцать лет безоблачного счастья и затем снова… жизнь. Я теперь очень богата, я обладаю влиянием и связями. Но я погрязла в долгах, которые непосильно отдать: приняла ваши дары, как должное, а ответно ничего не дала.
— Что случилось? — осторожно спросил Ул.
— Тот бой… Ан Жесхар предупреждал, что придется жертвовать многим. Сэн был в бою от начала и до конца, чтобы я выжила. Время для него текло иначе, — Лия встала, подошла к креслу, бережно погладила руку мужа, всмотрелась в его лицо. — Почти не помню, чего я тайно желала до боя. Все похоронено там, — Лия постучала себя по ключице и лицо её дрогнуло, чтобы снова сделаться спокойным. — Там, очень глубоко. Может, мне хотелось славы и даже венца княгини? Я — золото, мне ли не знать, что всякое золото жаждет блистать. Но так было два года назад. Сейчас у меня совсем не осталось заветных желаний. Только долги…
В коридоре тихонько кашлянули. Дверь открылась, слуга мышью проскользнул, оставил на краю стола поднос с конвертами и сгинул. Лия подошла, поворошила конверты. Не вскрывая, отбросила три, сделав пометку на каждом. Последний конверт подержала, будто взвешивая. Сломала печать, быстро прочла текст. Убрала письмо обратно в конверт и сказала, не повышая голоса:
— Нет, нам это не интересно.
Просмотрела три заметки без конвертов. Покосилась на дверь.
— Пока я занята. Пусть ждет в малой синей гостиной.
Было слышно, как крадущиеся шаги удалились. Ул поежился, глянул на свою птицу-Лэйгаа. Подошел к окну, изучил вид на новые сады и бескрайнюю стеклянную площадь, на беседки, горы земли и камней — будущие фонтаны, надо полагать. Тяжесть всё весомее нагружала душу. Лия и прежде считала, что отвечает чуть ли не за всё в мире. Ул помнил её по встрече в Тосэне — уже тогда очень, даже с избытком, взрослую и серьёзную.
В столице Лия, похоже, совсем разучилась улыбаться.
— А как же заветное желание Сэна?
— Что? — удивилась Лия. Обернулась, прекратив разбирать бумаги.
— Вряд ли оно изменилось с тех пор, как мы познакомились, — предположил Ул. — Он так радовался, получив коня. Он желал странствовать, обязательно верхом. Он говорил, Бунга сильный и сможет одолеть даже безводную пустыню и заснеженные горы. А еще Сэн интересовался империей, где пишут не словами, а знаками, и не слева направо, а сверху вниз. Он сгоряча обещал Монзу добыть ворох имперских книг.
— Это не изменилось, — тихо согласилась Лия. — Я обещала мужу, что мы покинем столицу… однажды. Не вздыхай, я виновата. Я умею лгать близким, как никто иной… даже сама верю в свою ложь.
— Уходите прямо теперь, — резко велел Ул, и волосы на кончиках полыхнули искрами. — Без оглядки. Нарви мяты и сделай чай. Поймай птицу — и в суп её! Этот… который теперь Ан, ворчал: голуби хуже кроликов. Я не понял, но мне понравилось, как он сказал.
— Ты назначаешь лечение? И что, поможет? — бровь Лии чуть дрогнула.
— Так надо, вот и весь сказ. Ты ведь обещала.
— Он сломал в бою фамильный клинок, — сообщила Лия и нахмурилась. — Интересно, я ищу причину не уходить… или это и правда важно? Погоди, я советник, князь у нас теперь — одно слово, а не князь. Вот указ о передаче земель для библиотеки, а вот рекомендации по переселению погорельцев, всё — в стихах! Он, видите ли, старался. Он перекроил надел, квадрат ему рифмуется, а то, что было в плане — не рифмуется… Он опять норовит заказать памятник хэшу Токаде. Да, мой мерзавец-секретарь при жизни был занозой, но и после смерти он…
Ул попытался нащупать на запястье рукоять сабли, той, оставленной на площади. Змейка зашипела, прокрутилась по коже — и рукоять легла в ладонь.
— Шэд, ты такой заботливый, — порадовался Ул.
Рука плавно извлекла саблю и, продолжая жест, перерубила стол вместе с бумагами! Ул кивнул, развернулся к двери, заинтересованно вслушался в топот, проследил явление слуг и то, как вытягиваются их лица.
— Ты и ты, — сабля выбрала самых смешных в своем отчаянии и наверняка безмерно преданных дому. — Седлать коней. Двух… да, именно двух, и быстро.
Слуги покосились на Лию, но хозяйка молчала. Слуги коротко глянули в сторону Сэна, просто для порядка… икнули и пропали. Сэн уже не смотрел в окно сонным взглядом слепого старика. Он остро, внимательно изучал саблю в руке друга.
Ул шагнул к креслу, встал на одно колено и подал клинок, как и следует, рукоятью вперед. Подсунул рукоять под безвольную ладонь Сэна.
— Как тебе? Я срубил им горгла и вервра. Оба были пустышки, бой сложился так себе, нечем гордиться. И всё же у клинка уже есть история.
Пальцы Сэна — казалось, они всё те же, молодые и сильные, только спрятанные в перчатке дряблой старческой кожи — дрогнули, обняли рукоять. Сэн изучил оружие, чуть прикашливая и щурясь. Покосился на друга.
— А ты вырос, смотришься лет на двадцать пять. — Едва слышно прошелестел алый, такой… погасший, но прямо теперь нашедший силы разжечь искорку интереса во взгляде. — Всё равно пацан, в глазах бесята прыгают. Хорошо.
Сэн погладил сталь и улыбнулся сонно, спокойно. Снова перевел взгляд вдаль.
— Жила-была каменная королева, — начал Ул, и каждое слово отдавалось в душе болью. — Она всегда была занята, дела её были важными. Она обладала властью и силой, это правда. И полагала себя обязанной отвечать за всё и контролировать всё, чтобы всем… стало лучше. У королевы не хватало времени выполнить одно обещание, которое можно было отложить. Ведь обещание было личное: пересадить цветок. Такой пустяк. Остаться человеком… — Ул резко обернулся к Лэйгаа. — Ты ведь ни разу не видела, как красиво горят особняки советников? Тут бумаг — под крышу. Я разрешу тебе самой поджечь, я сегодня добрый.
В дверь снаружи принялись тихо, испуганно скрестись, и Ул окончательно поверил: слуги здесь — ну чисто мыши! Он бегом пересек комнату, рванул дверь. Слугу внесло в зал, и он прокричал, так и не отпустив ручку двери и галопом приближаясь к стене, от встречи с которой спас только Ул, приняв бедолагу в объятия и чуть не доведя до сердечного приступа:
— Кони поданы!
Слуга отпрыгнул от опасного гостя, поправил камзол и поклонился, бурно дыша. По потному лицу и общей нервозности яснее ясного: надеется, что теперь-то кошмарные гости уедут. Может, уже и стражу вызвал, утихомиривать буянов. Ул рассмеялся, пробежал через комнату. Поддел Сэна под спину и под колени, поднял и двинулся прочь, из комнаты и далее, он решил твердо — вон из особняка. Тело друга было такое легкое… аж страшно, в чем душа держится?
— Мы уходим, — бросил Ул, ни к кому не обращаясь. Добавил громче: — Я не могу принимать решения за кого-то, такие решения не имеют веса. Но я могу сказать, теперь за порогом цветет золотое лето. Оно волшебное, как всякое лето, запавшее в душу. Это правда, но толку-то от моих слов? Слова имеют смысл, который или внутри, в душе — или шелуха. А я уже чую прелесть дальней дороги, полной синих туманов, румяных рассветов, шелковых дождей… Лэйгаа, мы толком не знакомы. Я как-то боялся начать разговор. Мне понадобится много костров, разговоров и еще не знаю, чего, чтобы по-настоящему стать тем, кем ты видишь меня.
— Парой, — рука Лэйгаа вспорхнула и легла на локоть.
— Ты совсем отчаянная, — улыбнулся Ул. — Решаешь быстрее меня. Это редкость, знаешь ли.
Ул уже стоял на крыльце. Обернулся, увидел бледную до синевы закушенных губ Лию, которая не смела оторваться от дома — и не могла остаться в нем, пустом без Сэна. Ул прислонил друга к перилам и быстро нарисовал высвобожденной рукой кривой, будто подмытый дождем, циферблат без стрелок.
— Вот так я вижу время в этом доме. Я не знаю, почему оно остановилось для Сэна. Но я понимаю несомненно: если время сломалось, надо прилагать усилия и двигаться самому. Прости, я не дам тебе дольше думать, Лия. Вот, — Ул ткнул пальцем в туманный, почти растворившийся, рисунок. — Нет времени. Всё оно скисло.
Лия механическим, неосознанным жестом подобрала юбку и шагнула на порог. Нащупала веер у пояса. Отстегнула, раскрыла… уронила.
— У нас князь — большой ребенок, — жалобно сказала она. — Его не уважают.
— Тем лучше для Дорна, он же стал первым канцлером?
Лия кивнула и сделала еще шаг, совсем маленький.
— Дорн почти дракон, ему дай волю, оттяпает власти больше, чем можно. Он ненасытный. Его сын, Дар — тот и вовсе полноценный дракон, похлеще отца, да какое, его Лоэн иной раз… опасается.
— Ан Жесхар тоже захочет оттяпать кусок от власти. Пусть воюют, — отмахнулся Ул. Прищурился, рассматривая лошадей. — Бунгой я назначаю того, со звездочкой на носу. Лэйгаа, подержи стремя. Спорим, Сэн прекрасно усидит в седле?
Никто не стал спорить. «Даже жаль, — мельком подумал Ул, — получилось бы выиграть». Лия спустилась на две ступеньки и намертво, до белых костяшек пальцев, вцепилась в перила.
— Чтимый ноб Донго, куда путь держим? — Ул подмигнул всаднику.
Сэн осмотрелся, просыпаясь. Взглядом указал направление — через весь город, на знакомый тракт, к городу Тосэну и дальше на восток. Ул кивнул, взял коня под уздцы и повел по середине улицы. Лэйгаа скользила рядом и улыбалась, волосы её светились пуховым лиственным серебром — ярче, ярче… Потому что второй конь уже следовал за первым. Всадница в женском седле смотрелась так парадно… что думать было страшно: каково ей придется вне города?
Ул не думал. Он пинал камешки, нагибался и подбирал медные монетки, вспомнив детскую привычку. Рисовал в воздухе туманные цветы без счета и сходства с привычными… Смеялся, когда рисунки вдруг делались видимы горожанам, встречным и попутным. Кстати, людей становилось всё больше. Да, пожалуй, впереди росла настоящая толпа! В гуще её ворочался знакомый белый дракон с алым гребнем по спине. При виде его Ул осознал, как удобен новый парк и весь город, просторный после сноса многих домов, для таких крупных… гостей и жителей, как бесподобный Эн.
— Почтеннейшая публика! — из поднебесья отчаянно заверещал звонкий голос. Ул запрокинул голову и увидел ту самую девушку, приемную дочь беса. Ана танцевала на кончике вскинутого к зениту драконьего уса. — Только сегодня, как же вам повезло! Смер-ртельный номер! И не раз в сто лет, а вообще р-раз — и всё! Сейчас вон тот безумный алый упрямец полезет по дракону и, если доберется сюда, предложит мне руку и сердце.
— Доберется, — прогудел солидный страж. — Чтимый Ош Бара…
— Эй! Эй, ты плохо слушал? — еще пронзительнее заверещала неугомонная. — Смертельный номер — предложение! Ведь я могу согласиться, и тогда пропала его вольная жизнь на веки вечные. Эй, вам ни капли не жаль его?
В толпе кто-то заливисто расхохотался. Несколько мужских голосов солидарно проорали: не лезь, мол, невеста хуже яду и ужаснее старого беса, который полгорода разнес и не притомился… Ана хлопнула в ладоши, гордясь сравнением, подпрыгнула, сделала сальто и стала падать — но тут же была обвита усом дракона и снова вознесена в солнечный зенит.
— Ты! — верещала Ана, целя пальцем в Ула. — Папин вражина! Живо подари мне занавес для праздника! А ну нарисуй, у меня смертельный номер, понимаешь?
Ул кивнул, набрал в грудь воздуха, полного детским беззлобным смехом этой площади. Развел руки — и над городом встала радуга, и от её тройной дуги пал вниз перламутровый туман.
— Годится, — проверещала Ана.
Ул помахал рукой и зашагал дальше, огибая растущую толпу. Он знал, не оборачиваясь: Сэн уже крепко держит поводья. И Лия подстегнула коня.
— Карты иерархии, — негромко пробормотала Лия, догоняя и наклонясь из седла. — Что ты знаешь о них? Я спрашивала у многих, у Лоэна особенно часто. Те карты похожи на наши гадальные. Смыслы, рисунки, деление на старшие и младшие по важности. Но разве королева — высшая карта?
— Если честно, — Ул запрокинул голову и зажмурился, наслаждаясь летом и солнцем, — мне все это безразлично. Я нашел себе смысл жизни. Я вижу мир и буду стараться рисовать его. Я люблю дороги буду протаптывать их, старые заросшие и новые нехоженые.
— Значит, я права, — еще тише пробормотала Лия и выпрямилась в седле.
— Она снова права, — Ул подмигнул Лэйгаа. — Сэн, мы заночуем в лесу. Я все эти годы мечтал, как сяду у костра, и ты будешь слушать мой треп, улыбаться… ты умеешь улыбаться глазами, как никто. Я нарисую это.
Ул с разгона налетел на встречного, собрался извиниться и обойти, но был пойман за руку.
— Я — Тан, — выдохнули в ухо. Тот самый Тан, помнишь?
— Конечно, — Ул приобнял и этого важного человека, радуясь, что мир наполняется знакомыми. — Я помню тебя и рад встрече.
— Бес Альвир. Он был… сложный и недобрый, но я обязан ему жизнью, в том бою он из-за меня подставился. Вытащил меня, нарушив прямой приказ иерархии. Понимаешь, он и сам не знал, что я ему — друг. До смерти не верил в это, но из-за меня… — У Тана свело скулы. Он порылся за пазухой и вынул сухую косточку. — Вот, абрикосовая. Из сада его души. Это всё, что осталось от Альвира. Понимаешь? Токада погиб, Гэл теперь князь, Шель наставник после Лофра, Онга — ты его не знаешь — унаследовал пивоваренное дело отца, он не вор, но тоже очень занят. А я… я опять один. Я не могу жить, когда из-за меня…
— Проще простого, — Ул жестом фокусника сорвал с куста листочек, подержал и сдул с ладони. — Алель! Алель, почему я до сих пор не позвал тебя в гости?
Альв вежливо, бочком втиснулся в мир и сразу поклонился. Расцвел улыбкой, добыл из-за спины красивейший цветок. Вручил Лэйгаа и сразу взял из воздуха второй, для Лии. Взглянул на косточку.
— Совсем сухое зерно души, исчахшее, — грустно улыбнулся Алель. Увидел отчаяние на лице Тана и огорчился сам. — Но все же не пыль. Иногда приживаются и такие, правда! Если очень постараться. Конечно, растить придется заново, память прошлого не уцелеет. От личности вернется мало, ровно так мало, как в этой косточке от всего сада.
— Он говорил, я безупречно укореняю цветы, — понадеялся Тан. — Ещё я знаю, какую воду он предпочитал в разные сезоны, и еще…
— Тогда идите и укореняйте. А вечером жду к нашему костру, — предложил Ул, махнув на прощанье Алелю, безнадежному в своем неумении отказывать людям, которых он якобы ненавидит.
Площадь, толпа и шум остались далеко позади.
Ул теперь шагал по привычному городу, не пострадавшему во время боя. Он вбирал впечатления и обещал себе нарисовать всё это. Он уже освоил перспективу, светотень и прочее важное, и он еще много раз явится с поклоном к Мастеру О, чтобы менять на его уроки тепло души и благодарность — без торга…
— Высшая карта, — не унялась Лия, она молчала давно, но, конечно же, продолжала сверять и анализировать, не сбившись с мысли.
— Я смиренно внемлю, — Ул комично поклонился и заодно подобрал еще один медяк.
— Шут. Высшая карта всегда — шут, — на губах Лии проступила улыбка. — Дурак, готовый шагнуть в пропасть. Я никогда не понимала, почему он важнее прочих. Мне никогда не выпадал в гаданиях шут. Я всего лишь королева, а это — выгода и сухая логика. Чем дольше играю, тем более уверена: у меня слабая карта, вот почему приходится использовать людей. Даже теперь: я покинула дом и пытаюсь понять, это я сама спровоцировала отъезд или всё же мне второй раз в жизни выпал… шут?
Ул обернулся и долго смотрел на взрослую Лию, сейчас куда более похожую на девочку из детства — почти способную принять чудо. Кончиками пальцев, быстро и не раздумывая, Ул нанес контур узора, и тот сделался туманом, уплотнился, стек на руку — вроде кисейного платка.
— Я не верю в случайные карты, базарные предсказания и прочее… данное извне. Настоящее люди создают сами, внутри. Ты и он, это настоящее, — Ул улыбнулся Сэну, очнувшемуся и уже не особенно старому, кажется, даже так… — ты и он. Двое. Вот вам рисунок. Не судьба, не предназначение и уж точно не приглашение в иерархию. Просто я вижу вас именно так. Вечером еще поговорим у костра.
Ул перелил текучий невесомый шёлк — вроде бы, именно он вздумал стать канвой для рисунка — в ладонь Лии. Отвернулся и пошел прочь. Лэйгаа скользила рядом, солнце пекло макушку, мир был такой цветной и замечательный…
Лия расправила ткань и долго изучала узор. Ул, шагая прочь, знал это и очень надеялся, что его рисунок поймут верно. Душой, а не умом. Лия ведь могла назвать узор «влюбленные» и решить, что главное в нем — рассказ о счастливой семье. Хотя там всё — о выборе. Всегда и обязательно — о выборе.
— Она поймет, — прошептала в ухо Лэйгаа.
Ул свернул за угол и остановился. Наконец-то нет суеты и толчеи!
Ул протянул руку, поймал ладонь своей птицы Лэйгаа, зная точно: именно она — волшебная. Если есть бессмертие и исцеление, даруемые белыми лекарями, то именно такая птица им и требуется. Её нельзя ни изловить, ни удержать. Ей лишь можно стать парой. Хотя как же это трудно для бескрылого…
— Ты следовала за мной очень долго. Теперь выбирай дорогу, — улыбнулся Ул и раскрыл ладонь.
Эпилог. Однажды, глубоко во вселенной…
Двадцать лет я шел к этому дню, и наконец смысл жизни сделался конкретен, как мишень в тире. С чего всё началось? Мне было двенадцать, и в тот единственный год я жил, как нормальный ребенок. Даже, пожалуй, счастливый.
Мысленно я называл его отцом и отчетливо помню это потрясающее ощущение: гордиться кем-то и знать, что тебя ответно уважают.
Он явился из ниоткуда, выкупил обшарпанную «однушку» у старой учительницы, повезло ей… Это ведь не жизнь была, дверь в дверь с притоном наркош, на этаж ниже двери, куда стучат, собираясь порешать вопросы дележа территории. Полиция у нас и днем-то патрулировала, не сбрасывая газ на поворотах, а он — жил и не гнулся. Он не вытирал мне сопли и не призывал начать новую жизнь, лишь учил быть сильным. Сам он умел это, как никто другой. Когда я сдуру сунул руку не в тот карман, и за мной пришли, он заступил им дорогу. Их было десятка два, да при оружии… Его убили выстрелом в голову, а я… он отшвырнул и крикнул: беги. Я слушался его. Только его. Даже тогда.
Если б я еще был умным! Я бы не вызвал полицию, не стал давать показания, впустую тратя время. Я бы знал сразу: все схвачено, и даже очень упрямый свидетель не обеспечит ход делу, и больше того, он сам запросто станет подозреваемым… А через месяц — заключенным.
Кое-кто пообещал мне до суда: вякну — сдохну медленно и больно. Но я выжил. Потому что у меня появилась цель. Я хорошо запомнил лицо, голос и прозвище своей цели.
Но двигаться к цели было сложно. Банда, виновная в смерти названого отца, распалась через полгода после моего суда. А когда я вернулся в наш район, их уже никто не помнил… Но я был настойчив и нашел след.
Тот, кто стрелял в голову моему названому отцу — он везучий ублюдок. До сих пор живой и очень, очень опасный.
Когда после двух курсов спецподготовки я ушел на вторую отсидку, я еще был глуп и верил, что систему можно изменить изнутри, я был внедрен… а, не важно. Тот гад не стал еще моей ближней целью, я копил опыт — и слушал, ведь о нем много говорили. Мол, он тоже сильный. А он был просто зверь. Брал под контроль любую зону в несколько дней. И такое начиналось… Полная зачистка. Начальство увольнялось или хуже — добровольно писало о себе и своем начальстве разоблачения в прокуратуру! Садисты и отморозки с ума сходили, руки на себя накладывали, бежали без оглядки. Проходило не более месяца, и зверя переводили на новое место — полагаю, из страха и бессилия понять: что он делает с окружающими? В три года он… стоп, зачем думать о его жизни, если важна лишь смерть?
А он не просто жив, он на воле устроился так, хоть слюнями изойди от зависти! Неприкасаемый, и люди его — над законом. И ворье к нему на поклон, если край приходит, и власть к нему, и денежные мешки, и суки-политики… А вот внедриться к нему нельзя. Многие пробовали, все или мертвы, или сгинули.
Я долго изучал его и постепенно понял, какой послужной список надо накопить, какую репутацию заиметь, чтобы он подпустил близко. Очень близко. На расстояние выстрела.
И вот я здесь, на собеседовании… не знаю, сразу ли с ним, нельзя надеяться на такое везение. Но место обнадеживает. У меня врожденное чувство времени и положения в пространстве, но я не смог понять, куда меня привезла их машина. Когда высадили, увидел подъезд — стандартный, блочно-быдлячий, пропахший старым куревом и мусоропроводом. Поднялся, как и было велено, в офис на чердачном этаже. Внутри — чисто, но как-то не по жилому. Комната ожидания большая и гулкая. Мебели мало: диван, столик, вешалка, два кресла. Имеется три двери, через одну я вошел, вторая напротив и открыта, мне отсюда видно еще одна комната, и там работает с бумагами девушка — я заметил её мельком, со спины, и спина… запоминающаяся.
Так, стоп, не отвлекаемся. Третья дверь. Я проверил: за ней метр нештукатуреного кирпичного коридора и далее глухая стена. Что еще могу сказать? Камер наблюдения не заметил, но затылок ноет, меня определенно пасут. Или это нервы? У всех они есть. Я про свои вспомнил, как только обернулась эта… как бы секретарша. Мегатонн сто беззащитности и теплоты во взгляде. Фото ничего такого не передают, в её деле первое фото — старое, почти двадцатилетней давности. На том фото она ребенок, усталый обиженный ребенок — Матиа Мита, тринадцать лет, убийца брата и матери. Я помню свою злость при чтении дела. Убийца она, ага… Не отчим же, который с прокурором жрал и парился! Помню и свою ухмылку: после отсидки за грустным ребенком числится пятнадцать вероятных эпизодов, всегда — мужчины с безупречным прошлым, без приводов и тем более судимостей. И первым она приговорила отчима. По всем эпизодам у полиции и даже спецов нет доказательств или подозрений. Только совпадения: была в том же городе, опрошена как свидетель близ места преступления, знакома с погибшим…
— Хочешь кофе? Даже я не знаю, долго ли ждать. — Голос у Матиа бархатный. С ней, наверное, всегда соглашаются. Я вот уже почти кивнул, и это мимо сознания, реально мимо! Первый раз в голову мне ударила идиотская мысль: красивым женщинам идут офисные серые платья, которые не отвлекают внимание от лица и фигуры. А тут ничего не отвлекает, ни-че-го… разве украшение на левой руке. «Браслет в форме змейки». Где я читал такое? Не помню. Черт, я уже улыбаюсь ей и киваю, я слушаю… просто слушаю голос. — Всё зависит от случайных людей, как обычно, впрочем. Ну что, кофе?
— Нет, спасибо.
Матиа стоит в дверях, смотрит так, вроде бы ждет чего-то. Глаза у неё… всё знаю, а прямо теперь я тупее полиции: нет подозрений, охотно верю в совпадения. И, доживи я до вечера, проводил бы её домой, строго до двери. Чтобы шестнадцатый говнюк не прилип и не испортил ей настроение. Досадно, что самым милым женщинам доводится знать больше всего о скотстве и жадности.
Всё еще стоит в дверях, но теперь смотрит мимо меня, на дверь-обманку. Ждет. Так и хочется сказать: там тупик! Хотя она знает лучше меня.
Нервы, определённо. Тупиковая дверь открывается — и я задыхаюсь. Так недолго завалить простейшие тесты на стресс-реакции. Ну, тупик оказался фальшивым, что с того? А то: за дверью туманный вечер, пахнет он до чертиков незнакомо и сладко, и ветер… это что, можно подделать? И гостья шагает к нам из вечера… это что, можно сыграть?
Женщине лет тридцать, стройная, рост чуть ниже среднего, лицо овальное, кожа… не хочу фиксировать, и зачем бы? У неё глаза — лучистые. Одета, как в старых фильмах про деревню, но ей идет: кофта с вышивкой, длинная юбка, башмачки. На локте корзинка.
— Матиа, лапушка, а я травок собрала, как обещала, едва месяц народился.
Определенно, это тест. Месяц убывает третью ночь, что я, не знаю? И со словесным портретом полный провал. Глаза видят гостью молодой, но внутри я ни за что не дам ей менее сорока: мысленно первым словом охарактеризовал её — «матушка». Неуместно. Непрофессионально.
Гостья оглянулась… Очень теплая улыбка. Чёрт, я опять не дышу.
— Ворон у тебя на плече, малыш. Оно бы и не плохо, люди-то все разные, — задумчиво выговорила эта… матушка, и сердце у меня защемило. Нервы! Делаю усилие, выравниваю дыхание: — Но ты уж остерегись, деточка, ворон — птица тёмная и своевольная. А ну, глаза выклюет? Или хуже, сердце? Знаешь, сколь много по миру бродит их, безглазых да бессердечных?
Оказывается, я вскочил с дивана и столбом торчу возле тупиковой двери. Оказывается, я не могу пошевельнуться. Она гладит меня по щеке. Если бы я знал родную мать, я бы хотел именно это помнить — прикосновение, взгляд и голос… но минуту назад я сам своего желания не ведал!
Гостья отдала корзинку Матиа, отвернулась и шагнула за дверь. Всё, отрезало туман, ветер и прочее — тепло солнца, шум листвы, лунные блики в озере.
— А ты везучий, — Матиа умеет улыбаться! В деле штук двадцать её свежих фото, сделанных наружкой, и ни одной улыбки. — Матушка за год всего лишь второй раз заходит.
— Ага. Везучий.
Всё, я сломался, согласен на кофе, еще немного — и сам попрошу. Горло сухое. Ворон. О каком вороне говорила та… матушка? Бреду к дивану, сажусь. Беру журнал и тупо в него смотрю, проверив, чтоб текст не кверху ногами.
Ба-бах! Опять тупиковая дверь.
Нет, второй раз трюк не прокатит… даже если там теперь ночь и гроза? На пороге сразу натекла лужа, мокрые листья порывом доволокло аж до моего ботинка. Чую соленый морской ветер! Так, новый гость подпирает спиной спешно закрытую дверь. Откинул капюшон. Пацан лет десяти, жилистый на редкость. Вдобавок на рожу слащаво-миленький. И взгляд у него… шустрый: мой локоть сам, непроизвольно, фиксирует бумажник в кармане.
— Передай деду, чтоб не опаздывал, а то… а то мама в гневе страшнее дракона.
Пропищал, накрылся капюшоном, рванул дверь и нырнул в грозу… хотя нет: там уже нет грозы, там пустыня. Ни разу не видел, чтобы так роскошно имитировали смену условий.
— Не беспокоит? — Матиа принесла кофе и без моей просьбы.
— Спасибо.
Я помню, как шевельнулась в душе профессиональная зависть — тогда, при первом прочтении её дела. Эта Матиа чисто отработала свою главную мишень, и всего через четыре года после того, как её раздавило в жерновах лжи и подлости. А я вот застрял…
Кстати: Матиа, того и гляди, запрыгает от радости. Глаза сияют, она не хочет уходить, ей надо поговорить хоть с кем. Даже я сгодился, чужак-чужаком. Присела на подлокотник свободного кресла, часто оборачивается и поглядывает на корзинку с травами, оставленную в соседней комнате, на столе, поверх деловых бумаг. Ну и местечко! Да тут всем причитается крутейшая премия за актерское мастерство. Я давно не наивен, фальшь читаю, но сейчас в радость Матиа верю, как… как восторженный идиот.
Шаги. Надо же, всего лишь на лестничной площадке. А я заранее смотрю на тупиковую дверь. Меня выдрессировали? Я, как теперь понятно, поддаюсь дрессировке чудесами. Хуже: я хочу жить дольше, чем до вечера, я хочу опять повидать ту… матушку.
Нет, уже прошло. Вижу вошедшего, опознаю и тихо радуюсь. Его имя давно не имеет значения. Его прозвище — Смерть. Он, это достоверно известно, правая рука моей «мишени». Сколько по нему числится летальных эпизодов, не знаю. Его полноценное досье вне моего уровня допуска, что означает наверняка: эпизодов много больше, чем у меня, даже с учетом тех двух контрактов на юге.
— Уже здесь, — глаза у Смерти добрые, кроткие. Улыбается он достоверно, прямо рад и опекает, и предвкушает… — Сейчас созвонюсь, и сразу отправляемся.
— Эй, ты что… правда? — Матиа побледнела, подбежала, дернула Смерть за рукав. — Эй, не дури. Я по глазам вижу…
— Это решение принято.
Набрал номер, помолчал в трубку. Жестом велел мне снять куртку. Ожидаемо, но мало. Полный обыск — собственно, вот что было бы логично.
— Там жарко.
Сообщил зачем-то мне вводную по погоде. Отвернулся и пошел к тупиковой двери. Продвинутый у них природно-погодный имитатор. Наверное, мы в северо-западном пригороде. По времени в пути сходится, и как раз там заброшенная территория «Объекта пять»: ангары гигантские — хоть Луну в них имитируй. Еще там опытная атомная станция. Официально она, конечно, демонтирована. Официально у нас и полиция неподкупна, и я два года уже работаю руководителем отдела оптовых продаж, с окладом и соцпакетом. А этот вот Смерть официально — отошедший от дел кризисный управленец, владеющий небольшим аэроклубом и дюжиной баров, очень модных и совершенно легальных. Вегетарианец, меценат, спортсмен… официально.
Смерть стоит у двери, положив ладонь на ручку, смотрится это — символично. Но с эффектами перебор, я не способен долго удивляться. Так: Смерть кивает, поворачивает ручку… и шагает в раскалённо-белый полдень с выжженными дотла тенями.
Иду следом, присматриваюсь: высотки на заднем фоне, а ближе дворовая дорога, еще ближе трансформаторная будка. На всё это хозяйство подковой надвинут огромный бетонный двор, по периметру характерные дома с солнечными панелями на косых крышах… Перед собеседованием меня хорошо изучили. Это — мой недавний южный контракт, правительственный квартал столицы Номтфы, где перевороты случаются чаще дождей. Слева их министерство труда. Прямо по курсу, за трансформатором, задник посольского блока. Если прикинуть время… разница с нами два часа, у них теперь полдень, имитация точна. И запах: на задворках Минтруда всегда пахнет бараниной, аж слюни текут. Это я помню.
В тени трансформатора движение. В куртке было бы жарко, прав Смерть… солнце сумасшедшее. Хотя это не оправдание, чтобы не увидеть того, кого я выцеливаю столько лет!
Дышим ровно, не спешим с опознанием, второй попытки не дадут.
— Иди, собеседуйся, — Смерть нервно сглатывает и добавляет: — И только попробуй провалиться. Это ведь я тебя рекомендовал.
Киваю, бреду все дальше в раскаленный юг. На душе спокойно, светло. Никто не верил, что я увижу его. Пульсовой многопараметрический датчик отработал: это не подстава, это именно он. Если так, сейчас словлю волну страха. Говорят, это его особенное свойство, научно оно называется «феномен барьерного восприятия поля». Научно… когда это выявили, тогда и стали объяснять, но ничего не смогли объяснить и соорудили панически-учёную ложь на три сотни страниц. Шеф не скрывал: мы ничего о нем не знаем. Возможно, он даже не человек, намекнул шеф. Глупости. Я не суеверен, вдобавок знаю, к нему уже ходили, запасшись святой водой и прочим… инвентарем. Толку — ноль.
Десять шагов. Есть волна страха! Накатила и схлынула. Приметы… со спины, досадно. Рост, вес, сложение, общее очертание тела — совпадают. Татуировки на затылке, с ней всё точно. А вот занятная деталь: браслет-змейка на левой руке. Это у них типа пароля что ли?
Семь шагов. По слухам, он пахнет мускусом — хотя это ложь, собаки запах не берут, только люди и только некоторые. Но — соответствует, есть запах, намеком.
Пять шагов. Почему он или Смерть до сих пор не остановили меня? Это неосмотрительно. Почему он — спиной? Хочу видеть глаза. Я смутно помню его взгляд, поймал тогда, в свои двенадцать. Он доставал обрез, был весел и на взводе. Я внятно понял его настроение. Презрительно-наглое, по-звериному доминантное.
Три шага. Прекрасно, могу начать плавно поднимать руку для приветствия, это естественный жест.
— Замри.
Смерть дал приказ из-за спины. Замираю. Даже не схожу с ума, когда вижу своими глазами: этот… зверь шагнул и одновременно остался на месте! Наверное, только я вижу, как он раздвоился, тень от трансформатора плотнее бараньего меха, объект скрыт от стороннего наблюдения в этой тени — точно блоха в шерсти. Наверное, он и двойник стояли вплотную. Дубль вышел из тени, так и не обернувшись ко мне… и дубля грамотно положили двумя выстрелами. Вопрос даже для меня: кто впустил снайперов в посольский квартал? Здесь система охраны зачётная. Их же тренируют покушениями хотя бы раз в день! Разве — чей-то посол в деле.
Короткий звук на три часа, второй — на двенадцать. Полагаю, снайперы уже никому и ничего не объяснят. Если только — Смерти…
— Можешь свободно говорить, — разрешил мне тот же голос из-за спины.
Вот реально, сейчас я ближе к смерти, чем те снайперы. Но — не важно. Моя мишень досягаема. И, спасибо высшим силам, гад начинает оборачиваться. Интригующая ситуация: у меня не отняли всё припрятанное на этот случай оружие, могу выбрать: холодное использовать или огнестрел.
Аккуратная дырка в переносице гарантирует провал любой реанимации. Отпускаю игрушку с упругого крепления, принимаю в ладонь, сжимаю с двух сторон — пластик, один заряд. По виду — ручка, при обысках её не отбирают даже опытные спецы.
Он наконец обернулся. Успеваю увидеть глаза, пока еще осмысленные. Крупно, как будто только они и есть в мире — эти глаза. Спокойные, внимательные. Совершенно не могу совместить его лицо — и эти глаза. Жмурюсь, слушая хруст взломанного пулей черепа. Мгновенно схожу с ума: ору и прыгаю, глупо пробую догнать пулю! Сбиваю его с ног… Идиот. Отдачи у этой пули почти нет. Но я его толкаю, он падает навзничь, я — на него… и я всё еще жив?
Вижу аккуратную дырку меж бровей. Чую полную безнадегу реанимации. Больше не ору и не дергаюсь. Всё, я оглох. Это мой мозг прострелен и мертв. Такого ведь не может быть! Татуировки, возраст, смуглая кожа, скулы… и эти глаза. Глаза другого человека! Того самого, кого убили двадцать лет назад, и я был свидетель, я сам всё видел!
По инерции проверяю у трупа пульс. Пальцы влажные и дрожат, так что результат непонятный. Злюсь. Успокаиваюсь. Кладу ладонь на грудину и морщусь, торможу себя: это выстрел в голову, смысла качать сердце нет.
Ощущение такое, словно разрывная пуля лопнула у меня в башке, и мозг нашпигован осколками. Еще раз: он умер двадцать лет назад. Я охотился на его убийцу. Я всё проверил. Но я помню этот взгляд, он часто смотрел на меня так — чуть щурясь. Прикидывал, наверное: стою ли я уважения и сколько еще буду маяться дурью? Слушаю ли то, что мне сказано и то, что не сказано, но подразумевается?
Старые, стёртые временем, вопросы. А тут до черта выпуклых и свежих! Я знаю эту траву. Я чую жар от камней. Я больше не могу твердить себе, что шагнул в имитацию. Это реальный посольский квартал, вот только расположен он в пяти часах лёта от того офиса, куда меня привезли на собеседование.
Ну и еще невозможнее иное: почему я жив? Смерть что, забыл дома оружие и впал в шок? Это он-то? Ладно, пёс с ним, но умничка Матиа не упустила бы шанса пополнить свой список дохлых отморозков. Я верю в Матиа.
Сажусь и вытираю пот со лба. Сдаюсь. Все, что происходит сегодня со мной, нельзя понять. Это придется принять, как есть, проглотить одним куском, не разжёвывая.
— Каждый раз хотел спросить, — голос Смерти над моим левым ухом. Речь ровная, буднично-неторопливая. — Пуля в лоб… больно? Перефразирую вопрос: какой у тебя болевой порог? Ты же знаешь, я учился на врача и я любознателен.
— Регулируемый, обычно выставляю чуть ниже среднего по статистике мира, чтобы понимать окружающих, — сообщает труп. Встает, некоторое время изучает меня, хотя чего там изучать, жалкое зрелище. Подмигивает, стирает сухую кровь со лба. Пулевого отверстия нет. — Сколько у тебя было шансов начать мирную жизнь, мститель? Ты бы хоть раз о себе подумал… для разнообразия, что ли.
Он зевает, оглядывается, продолжая бормотать и принюхиваться. Я знаю его поведение до последнего жеста, и это нельзя подделать. Встаю, улыбаюсь, уже не скрывая, какой же я идиот. Счастливый идиот… Отряхиваю штаны, подбираю корпус ручки. Зачем оставлять улики.
— Реакция моего уровня, решения принимает без эмоций, не склонен жалеть себя, не склонен судить по себе, — Смерть покровительственно кладет руку мне на плечо. — Психика стабильная. Легко принимает новое и адаптируется, что не мешает ему иметь личные убеждения. Досье читать будешь? Я купил три штуки: у его неподкупного шефа вышло дешевле всего, затем спецы, и, наконец, твой информатор. Вот он — золотой мальчик, но и досье у него лучшее.
— Пусть мститель сам почитает, отдай. Людям полезно знать, кем их считают… людишки. Сходит к продавцам досье, побеседует, если захочет. А ты весь на нерве, — бывший покойник презрительно взвёл бровь, хлопнул Смерть по плечу. Отвернулся и зашагал к двери. — До твоего уровня ему еще расти и расти. Но сейчас это не важно. Ты повадился ставить меня перед фактом! Снайперы! Сколько можно ценой моей головы выявлять слабые места в системах безопасности? И зачем? Ах, да: теперь у них очередной переворот отложится аж на сутки, это ба-альшой шаг к перемирию. Но еще хуже выглядит дешевый балаган с увольнением.
Я последним миновал дверь, сам её закрыл и ощутил, как ручка стала на миг холодной… К чёрту мои наблюдения. Из них не сделать выводов. Тем более верных. Я добрел до дивана, упал, вцепился в свой недопитый кофе. Чашка маленькая. В один глоток ком в горле не пропадет. Да еще и сладкое со дна… Тьфу.
Ни разу в жизни я не понимал так мало! Если предположить, что собеседование пройдено, то я внедрился, могу принять поздравления от начальства, продавшего мое досье. Только — зачем? Ту систему я знаю со всеми её дырами и крысами. А эту… если я прошел, то кто я теперь, в чем мои обязанности? Чёрт, я пустой, как ствол убойной ручки. Я выстрелил, моя жизнь потеряла смысл. И кого просить меня… перезарядить?
— Заходила матушка Ула, принесла мне травы, — сияя пуще прежнего, сообщила Матиа. Последовательно сняла с подноса три бокала, отхлебнула из последнего, который затем сунула мне. — Ты забавный. Решил проводить меня, вижу. Строго до дверей, тоже вижу.
— Вот ключ, документы на машину, квартиру и прочее. Вот вводные и инструкции от меня, — Смерть вложил сумку на молнии во вторую мою руку. — Разберешься. Безопасник из тебя так себе, но первое время придется заниматься этим. Я ведь ушел из конторы минуту назад.
— Разве? Я тебя не отпускал пока что, — промурлыкал мой новый шеф, мой почти отец. И бывший враг, и бывший труп… Так недолго рехнуться. Смотрю на него — живого. И мне безразлично, в уме ли я. Он улыбнулся мне, и говорит: — Звать можешь Жес. Здесь прижилось мое старое имя, порезанное пополам. Пошли. Матиа, ты тоже.
Могу еще раз повторить: никогда в жизни я не был так слеп и беспомощен в смысле понимания происходящего. Я был бы сверх того адски зол, не будь я так счастлив! Я бы спросил хоть что-то, моги вопросы уместиться в разбухшей голове.
Втискиваюсь последним в лифт, он ползет вниз, и мы вываливаемся из подъезда. Перед крыльцом — «скорая». Не знаю, как другим, а мне она кажется уместной. Уместнее была бы только машина похоронной службы. Ну, сами судите, изучая состав группы: дважды труп Жес, тихоня Матиа, Смерть и я — убийца, только что чисто отработавший дело.
Мы загрузились в скорую плотно, на две скамьи вдоль бортов: на носилках больной. Точнее, больная. Девочке лет десять, и вид у неё… Обычно в этом случае врачи поджимают губы, советуют готовиться к худшему: «Мы сделали всё возможное».
Смерть влез последним и сразу посинел… как смерть. Дернулся сгинуть, но Жес словил его. Толку от нашей реакции никакого, я понял по одному его движению. Жес посмотрел на девочку… Двадцать лет назад он смотрел на меня именно так. Аж сердце заныло.
— Я сдержал обещание: вот твой папа, уже не сбежит. Он от своего большого ума совсем дураком стал. В палату ни разу не входил, внушил себе, что не имеет права и может навредить: на него иногда охотятся. Именно поэтому, едва узнав о твоем осуществлении, он взялся найти тебе уютную семью, а вот, пришлось спешно добыть место в лучшей клинике и врача. — Жес рывком усадил Смерть на край скамьи, перегнулся и захлопнул дверцу. — Дыши, придурок. Она уже приняла то, что ты иногда убиваешь людей, но строго по необходимости и без азарта. Также я рассказал, что вы с мамой не любили друг друга и не обещали жить вместе долго и счастливо. Кроме того, я поделился с ней своим подозрением: ты вознамерился не просто уволиться. Ты решил умереть в один день с этим ребенком. Я по столь глупому поводу вовсе ничего не готов сказать.
— Жес…
— А чего стоил тот твой ночной визит к доктору Номару! Эффектно, да.
— Знаете и это, — Смерть чуть напрягся. — Вы что, следили? Уже тогда?
— Нет, я мирно дремал. На твое счастье, сон был неглубокий, и я узнал голос до того, как приступил к сворачиванию шеи. Но — не важно. По делу. Номару все точно сказала: технологически вылечить можно, но толку не будет. Мой дорогой враг называет таких, как твоя дочь, людьми без кожи. Они ощущают чужую боль и, что куда хуже, зло как таковое. В ином мире, посветлее и постарше, это был бы дар, в вашем — проклятие и приговор.
— Жес, я…
— Мы в одной команде пятнадцать лет. Да, ты мог бы поделиться, — поморщился тот, кого я мысленно опять учусь звать отцом. — Ситуация в целом огорчает. Я что, все еще тебе… шеф?
Жес обернулся и подмигнул мне.
— С опозданием на двадцать лет сообщаю, Нойд: можно считать, что я не человек. Убить меня вряд ли удастся даже всей вашей… цивилизацией. Но меня сильно задевает, когда убивают вас — местных хищников, которым я помогаю жить в диких условиях, а не в уродливом зоопарке правопорядка. Что еще стоит сказать? Люди переступают черту или найдя смысл жизни, или утратив его. Это ты должен обдумать. Это важно. Отныне и до того дня, когда ты выберешь себе дело, твоя роль — санитар. Изучишь моих людей, и, если кто-то из них начнет использовать свои и мои возможности азартно и эгоистично, ты отреагируешь. Это вынужденное и поспешное назначение. Нойд, кстати, ты хотя бы немного удивлен? Деревянное лицо при ровном пульсе и без пота… недостоверно.
Еще бы не деревянное! Он помнит мое имя. Он до сих пор помнит, я сейчас внутри перегорю от впечатлений! Когда я настолько взвинчен, делаюсь совершенно холоден. Я долго в себе тренировал это, и так лучше. Толку от криков-охов? Иногда, крайне редко, они помогают женщинам… но куда чаще даже их загоняют в ловушки и долги.
— Я в большой растерянности… Жес.
— Обнадежил. Что сказать, раз ты не сформулировал вопросы? Не так давно я еще раз пообщался с одной особой, она полагает себя королевой. Это должность вроде управдома или директора бюджетного зверинца, но в масштабе вселенной. Довольно плачевно и страшно. Мы враждуем, но у сейчас нас… нейтралитет. Королева делит миры на перспективные, коррекционные и режимные. Ваш — режимный, то есть подлежит изоляции и затем, если вы не одумаетесь, чистке. Хотя тут мои метки, она уже знает, и потому вы вне списка. Я согласен с ней в оценках: вы дикие и примитивные, как общество. Вы прошли точку невозврата по возобновляемости природных ресурсов тридцать лет назад, это оценка опытного горгла. Вы миновали точку невозврата по жизнестойкости экосистем сорок пять лет назад, это оценка добрейшего альва. Вы как биологический вид теряете жизнеспособность, портите генетику и психику, это моя оценка.
— И… что дальше?
— А то, что самоубиться — ваше цивилизационное право, — повел бровью Жес. — Так я сказал королеве. Вселенная вроде реки, удобной для нереста. Цивилизации — икра. Вас много, и все выброшены в поток времени. Пусть выживают те, кто достоин. Я могу лишь слегка почистить ту или иную заводь. Все, кому я разрешаю увидеть больше, чем видят люди обычно… они хищники. Роль хищника в моем понимании — убрать из стада порченных. Сам я стараюсь не убивать людей, равно не мщу за попытки убить меня. Я лишь присматриваю, чтобы хищники не взбесились. Ты ведь знаешь, сколько вреда бывает от одной бешеной лисицы? А я знаю, что это не повод уничтожать всех лис. Еще я обязательно чищу настройки безопасности общества. С системой исполнения наказаний мы вроде закончили. Сейчас занимаемся судебной. Смерть тонко понимал тему, пока сам не решил умереть, вот же… — Жес поморщился. — Пока это вся информация. Хватит для обдумывания?
— Да, Жес. А как же королева?
— Она не признает этого, но она тоже хищник. Можно сказать, она и ограничивает, и мобилизует меня. Пока мы независимы, я полагаю это нормальным. Не всем подобным мне стоит жить вне зверинца. Это я тоже признаю. Нехотя, но признаю.
Девочка шевельнулась, попробовала есть. У неё не получилось, и Смерть окончательно побелел. Жес поддел ребенка под спину и голову, усадил, придержал.
Смотреть на девчонку мне больно. Наверное, как Жесу — на нас всех, людей больного мира. Руки у малышки — косточки в желтой сухой шкурке, Волос нет, даже ресниц нет. Всё лицо — одни глаза. И маска для дыхания, и на лысом черепе — вязаная шапочка с ярким цветком. И капельницы эти… ненавижу больницы. Хуже, боюсь их. Меня бы не хватило на такой подвиг: выживать совсем без сил и без надежды.
— Еще далеко?
Матиа самая рассудительная из нас. Хороший вопрос. Девочка устала, а если ехать…
— Метров семьсот, — усмехнулся Жес, принюхиваясь. — Я учуял мерзавца еще осенью. Но учуять его в мире и застать точно тогда, когда он нужен — не одно и то же. Он всегда был морокой и поводом для злости. Эй, начинающий папаша! Понесешь ребенка.
Почти сразу машина притормозила, затем плавно остановилась. Смерть первым выпрыгнул, бережно принял девочку на руки. Сразу стало видно: ни к чёрту у него нервы сегодня. Надо страховать, он и споткнуться может. Матиа передала мне капельницу, моток трубок. Я принял, поднял емкость выше. Держу, осматриваюсь.
Жес мягко спрыгнул на асфальт, втянул воздух — и крадучись, словно он на охоте, заскользил к подземному пешеходному переходу. Пригород, место знаю смутно, но рядом большой пересадочный железнодорожный узел. Прямо здесь пересекаются автотрассы, их ширина в сумме даёт восемь рядов, и ступеньки нас уводят под площадь, в сеть переходов и тупиков. Не входя, еще отсюда, знаю: там бомжатник, ларьки по стенкам, в углах трется мелкая местная сволота, опекающая калек-побирушек. Фонари тусклые, краска облупилась…
Спускаемся. Занятно, а шагнуть сюда через ту особенную дверь — нельзя? Спрошу в другой раз. Хотя нет, зачем? Мы ехали, чтобы поговорить и чтобы Смерть смирился со своим правом быть рядом с девочкой. Это и без вопроса ясно. Это же спланировал сам Жес.
Куда он тащит нас? О: мои ожидания вообще мимо реальности. Тусклые фонари, ларьки и бомжи — это в наличии. Но если бы так рисовали во всех переходах, музеи бы позакрывались. Отдельно промолчу, с выражением и смаком, по поводу местной дешевой братвы. Трудный день не только у меня. Парни дергаются, потеют, щупают почки-печень на предмет наличия… и одновременно пристраивают подобия улыбок на кривые опухшие морды. Парни уже сгоняли в столовку и теперь кормят бомжей и калек. Сегодня у братвы день синюшной благотворительности? Зачётно их отметелили. Так, еще двое прихромали рысью, приволокли гору пакетов, составили на сдвинутые ящики и пятятся, пятятся к лестнице… Сгинули. Ага: вон где их метелили. Два баллончика с аэрозольной краской смято, и еще карандаши валяются, все поломанные. Я тоже иногда держу под рукой карандаши… Они острые и смотрятся игрушкой.
Шагаем по переходу. Я глазею на разрисованные стены, по коже — мурашки… Пробирает. Даже потею: узнаю вид, почти чую запах тумана… того самого, что был за дверью, когда пришла матушка. Позже разберусь, что за место, вернусь и посижу тут, еще погляжу.
О: мужик с гитаркой, я так увлекся, что почти наступил в футляр. Унылый тип, еще не бомж, уже не гражданин. Развелся? Кредитов перебрал? Или его сгубило пиво? Судя по дрожи рук — последнее. Не получит от меня на бутылку, вот еще.
А дальше человек куда занятнее: тощий, как щепка, длинные волосы выкрашены в буйный тон заката. Сидит на перевернутом ящике, острые колени протыкают рваные штаны — прям по моде. Пальцы у парня длинные, чуткие. Из нагрудного кармана торчат три карандаша. Гм… я в замешательстве. Он что, один устроил бомжам обед? Мышц нет, сутулится, и повадка у него — Жес бы сказал — не как у хищника. Именно, ничуть.
Что еще? Возле левой руки — жесткий картон, к нему укреплена стопка бумаги для рисования. Парень как раз закончил беседовать с прохожим, отдал ему листок и помахал прощально. Я окончательно утвердился в понимании: он — наш объект. Приближаемся. И он молчит, смотрит на девочку, только на неё. Чуть наклонил голову, улыбка блеснула, прямо как солнце из-за тучи. Совсем не от мира сего парень.
— А тебе не будут мешать такие длинные?
Всё верно, парень страннее странного. Спросил-то о чем? Пояснил вопрос: чиркнул по полу возле своей пятки.
— Немного… слишком отчаянное желание. Твой папа разве умеет плести косы? Ему и без того проще умереть, чем привыкнуть жить там. Ну, там, — парень указал куда-то вверх и улыбнулся шире.
Рука его нащупала бумагу, вторая нашарила карандаш. Несколько движений — и готов рисунок. Точно: парень сложил лист вдвое и отдал девочке, только ей. Длинный палец рисовальщика уткнулся в Смерть, усадил его с девочкой на руках на ящик, выковырнул Жеса подальше в сторону. А я мотаюсь с капельницей, как… Н-да.
— Ты готова? Разверни и смотри. Такие?
Девочка неловкими слабыми пальцами развернула листок и долго, очень долго смотрела на рисунок. Мне сбоку плохо видно, что там. Но зато я лицо малышки вижу в профиль. Она постепенно начинает улыбаться. Хорошо так, мягко и без скрытой боли в изгибе губ, как… живая. Потому что парень умудрился угадать её заветное желание. Точно, иначе она бы не порозовела, не стала моргать и тыкать в бок Смерти острым локтем, призывая в свидетели своей радости.
— Закрой глаза, — велел парень.
Мне показалось, что сейчас случится невозможное, и будет оно больше, чем… чем та история с дверью, ведущей куда угодно. И я закрыл глаза, хотя сказано не мне.
— Пусть папа снимет твою шапочку. Осторожно, медленно.
Не дышу. Очень хочу сойти с ума окончательно, чтобы открыть глаза и увидеть что-то такое, во что я радостно не поверю. Куда мир катится, если патлатые неформалы в заплеванных подземных переходах могут всё, и сами — даже не люди? Это я хватанул! Какие же они не люди, если им до нас есть дело, а нашей родной людской власти — вообще ни разу? Всё, я больше не могу, я должен открыть глаза.
Первое, что вижу: девочка всё еще сидит с закрытыми глазами. Только это сложно рассмотреть, она вся, целиком, укутана в волны волос. Ниже пяток, как мечтала. Глотаю сухим горлом, пробую понять: я что, докатился до хлюпанья носом? Скашиваю взгляд на Матиа. Улыбается… На девочку: открыла глаза и недоуменно хлопает ресницами, и чешет запястье — выдрала иголку капельницы. Не двигаюсь, не сматываю шланги. Если меня заметят, подвинут прочь.
— А почему зеленые? — голос у девочки слабый, шелестящий.
Кстати, волосы реально — зеленые! Не могу удержаться, делаю шаг, нагибаюсь и осторожно трогаю прядь. Волосы мягкие, но упругие, очень тонкие и густые. Настоящие! Только пахнут травой. Обычной такой… свежескошенной. Смотрю опять на парня. Смутился он, заёрзал.
— Ну-у… да, зелёные. Не созрели! К осени солнышко впитают и тогда, наверное, станут нужного цвета, во-от… То есть, — рисовальщик покосился в сторону смятых баллончиков с аэрозолем, — по правде если, не сломались только черный, красный и зеленый карандаши.
— А ты можешь так… для всех в больнице?
— И да, и нет, — парень поник. — У тебя особенная болезнь. И к тому же: разве любой готов после уйти? И разве любого примут, потому что он приживется, а не потому, что я просил? Много разного. Еще есть такая опасная зараза у взрослых, называется иждивенчество. Ну и вдобавок — Жесхар. Знаешь ли, мы с ним разные, но всё же мы связаны. А еще, чтобы я нарисовал, на меня надо наткнуться. Только не спрашивай, почему так, и судьба это или случай, не то до скончания мира будем обсуждать. А вам пора отправляться… в мир иной.
Девочка серьезно кивнула и прошептала: «Спасибо!». Нащупала руку Смерти и упрямо, по одному пальцу, расслабила его кулак, втиснула ладошку. Смерть очнулся, резко выдохнул, переломился пополам и сгреб ворох зеленых волос — как копну. Когда он разгибался, Жес вскинул лицо и зарычал… люди так не умеют. Зато в переходе, на лестницах — везде вокруг! — стало в три удара сердца тихо и просторно. Люди расползлись, сгинули, ощутив себя испуганными мелкими зверушками на тропе охоты очень крупного хищника. Странно: я не испытал страха. Не до того! Я наблюдал чудо, которое больше чудес с дверью и рисунком!
Началось с того, что рисовальщик вскочил, вытянул из кармана черный короткий карандаш и стал быстро-быстро чертить прямо в воздухе — стебли, бутоны… Густо, и все темные, словно узор вырезан в бумаге и виден лишь на просвет. Хотя пока в нем и света нет, он глянцево-черный… Странная картина заполняла пространство гуще и гуще, и тут по переходу полыхнуло кольцо искристо-белого света, рисовальщик перекатился через спину, метнулся и поймал на руки возникшую из ниоткуда девушку. Собственно, его движения я не видел, просто по опыту понял и отстроил. Теперь знаю: реакция у парня — даже завидовать бесполезно. И, я спорить готов, что видел у девушки крылья. Мгновение назад она была вся в свете — и крылатая. А теперь уже почти обычная. Только совсем тоненькая.
Свет прокатился и угас, но прежде вроде бы шевельнул разрисованные стены — и нездешним лесным туманом запахло внятнее. А еще тот узор, что создал парень — он искаженными тенями лег на пол и потолок. Будто свет от крылатой девушки не иссяк, раз его тень — уцелела.
— Очень душный мир, но ты хорошо постарался для меня, могу немножко побыть тут, — крылатая сморщила нос, трогая рыжевато-красные волосы рисовальщика. Насмешливо подёргала три лиловые пряди на макушке. — Ты опять лазал по людским топям, болотный ноб? А домой когда?
— На сенокос, честно… Проводишь? — парень взглядом указал на Смерть и его дочку.
— К матушке или к Алелю? — задумалась девушка, шевельнулась — и снова за спиной у неё блеснули мгновенным сиянием крылья. — К Алелю, там приживется. Но её отцу будет сложно.
Смерть быстро мотнул головой — мол, не о нём надо думать. Девушка пожала плечами и не стала спорить. Сразу света сделалось очень много, а когда сияние пропало, и глаза перестали болеть, в переходе не было ни Смерти, ни девочки, ни крылатой их проводницы.
Рисовальщик тоже пропал бы, но его за шиворот поймал Жес, удержал вроде как на пороге. Теперь я знаю, что есть такое дело — порог. Дверь не имеет значения, важно лишь то, кто делает шаг.
— Клог, зараза, — сыто, мирно прорычал Жес. — Стоять. Матиа, ты ведь хотела увидеть сына матушки Улы? Он и есть. Еще ты хотела узнать, кто присматривает за мной. Ул знает, жива ли моя душа. А его женщина знает и того больше… Матиа, ты спрашивала, каков мой страх. Я всего лишь зверь, я боюсь безмерного сияния. Свет нэйя — мой страх и моя мечта.
— Пусти, — для порядка, без усилия или злости, дернулся рисовальщик. — Твоя Ана извела всех. Я обязан создать занавес, опять новый, потому что там очень больной мир и очень грустные дети, — парень искоса глянул на Матиа, потянулся к карандашу и в одно движение создал новый рисунок. — О тебе говорила матушка. Вот паутинка для ловли плохих снов. У каждого свой страх и своя мечта. Я никогда не смогу смешить детей, как Ана. По слухам, даже королева тайком посещает её выступления. А вот Осэа я видел сам, это уж без сомнений.
— Не забалтывай тему, — промурлыкал Жес.
— Если тебе прикипело биться-ратиться, то завтра, когда закончу занавес, мы с Эном охотно бросим вызов вам с Шэдом. Или мы с Шэдом — вам с Эном? Они еще не решили. Одно точно, Лоэн убедил меня, что именно я уговорил его на роль судьи: это почетно и…
— …и безопасно, — усмехнулся Жес и отпустил куртку. — В полдень. Но приведи волосы в порядок. Шэд линять начнет, глядя на тебя.
Рисовальщик сморщил нос, подмигнул — и сгинул в один шаг. Я понял вдруг, что ужас как удивился бы, не пропади тощий парень с красными волосами.
Жес поправил браслет-змейку, провел с нажимом по черепу… и снял с себя капюшон. Шкуру? Пленку? Не знаю, но это снялось вместе со смуглостью, татуировками и лысиной. Теперь Жес стал совсем похож на того человека, которого я знал двадцать лет назад. Одежда его обновилась до майки и костюма из чего-то вроде змеиной кожи. Стильно, но слегка вычурно, слишком уж по моде. Жес поправил лацкан, снял с него невидимую пылинку… в пальцах появилась тонкая змейка. Жес метким щелчком сбросил её мне на запястье, и змейка свернулась, чуть повозилась, стала браслетом. Отрастила вместо головы — циферблат. Это маленькое чудо я смог принять без усилий. Тем более, Жес уже отвернулся, мельком покосился на Матиа и зашагал к лестнице.
— Что на сегодня?
— Ваш брат звонил. Дословно сказал вот так: «Есть аморально-гастрономический вопрос. Я все спланировал, активы дозрели, пора снимать сливки общества. Давай решим, подавать кризис с кровью или прожаренным». — Матиа пожала плечами. — Жес, а разве скоро кризис? Вроде, ничего такого не заметно. Ваш брат особо отметил, что мягкий вариант — только после торга.
— Вот так улыбнись ему и вот так ресницами, — Жес спародировал поведение Матиа. — Братец по-драконьи падок на хрупких девиц. Он назовет и дату кризиса, и точное время, и во что деньги перекладывать, и какой банк не лопнет. — Жес зарычал, его передёрнуло, он замер на полушаге и обернулся, словно искал у Матиа сочувствия. — Брат даже не заноза, к нему я привык. Но вот Ана! Ей требуется дракон для номера с огнем, но Боувы все заняты, а мудрец Эн заранее притворился глухим. Если к нему не вернутся слух, семья вынудит выступать меня. Меня и Шэда. И это еще цветочки! Ане для труппы нужны близнецы-акробаты. Так она сказала Баре с полгода назад. Баре-то ладно, ему не привыкать. Но ведь повторила и мне, и Улу и даже Алелю! Она и Номе сказала. О чем я думал, разрешая Ане всё? Простая, как… каток асфальтоукладчика. Всех нас закатала, мы и не пикнули. Матиа, поговори с ней, ты умеешь. Спаси меня от участия в представлении, и я добуду тебе место с лучшим видом на занавес.
— Вы меня переоцениваете, — Матиа порозовела. — Да, еще забегал её младший, сказал…
— Мы с Шэдом не дрессированные кролики! Никакого им смертельного номера, нет, — в голосе Жеса обозначился, я почти уверен, неподдельный испуг. Он поморщился, протянул руку ладонью вверх и забормотал невнятно. — Займусь кризисом. Увы, вопрос судейства нашей схватки с Улом меня жестоко ограничивает… Так и так брат опять спросит, в чем причина иного моего боя с Эном, того — древнего. И что делать, не могу же я прямо сказать, что мамин дракон хотел бросить младшенького? Эн по природе — одиночка, он сильнее своего вервра и порою становится опасен, если его своевременно не… Гм. Скажу всё это, и Лоэн решит, что у меня комплекс старшего брата.
— Жес, у вас комплекс старшего брата. Жес, не надо переживать, я очень хочу быть под опекой у вас долго-долго. Я… — Матиа охнула, на миг вцепилась в мой рукав, пытаясь удержать равновесие. — Боже, я сказала это?
Жес рассмеялся, бережно приобнял Матиа за плечи. Нагнулся и шепнул ей в ухо:
— Обещаю, я не уйду, пока не сбуду тебя с рук на руки мужу, достойному доверия. Ты настоящая обуза, Матиа. Я очень надеюсь, что ты однажды дорастешь до скучного семейного счастья. Я вот дорос. Да: а что там доктор Номару?
— Заходила на неделе, выбрала координатора программы и забрала список тех, кого я предварительно собеседовала. Скоро с ее стороны будет готов список ресурсов и персонала… — Матиа шагала мелко, шея была розовая от румянца. — Жес, я бы даже прекратила разработку, но кто-то должен. Я бы занялась здравоохранением, там дел на десять жизней. Но кто-то ведь должен, понимаете?
— Отдай досье по маньякам новенькому, — Жес ткнул пальцем через плечо. — Он обучаемый.
Матиа осторожно кивнула. Порылась в сумке и выложила на протянутую ладонь Жеса безумно дорогой телефончик в золотом покрытии, с брюликами по боку. Я такие только в рекламе видел. Телефон сразу включился и сам стал набирать номер. Матиа всё так же шагала рядом с Жесом, ей приходилось почти бежать. Я двигался замыкающим.
— Прислал подходящий по статусу телефон, будто это облегчит нам взаимопонимание, — Жес смотрел на аппарат с нескрываемым отвращением. — Наш предусмотрительный. В семье не без… умника.
— Ваш брат заказал ресторан на все дни своего визита. Его повара уже прибыли. Сам он прилетает утренним рейсом, просил встретить. Был уверен и что вы согласитесь, и что я встречу. Он у вас скрытный и склонный к упорядочению, а еще наверняка мстительный… я иногда хочу внести его в список. Все признаки, знаете ли.
— Не переживай, за ним дракон присматривает, и не абы кто, а сам Эн. — Жес повел бровью. — Но даже так… уж конечно он маньяк. Вот хотя бы: Нойд, ты разве стал бы выбирать для трансокеанского перелета самолет, если рядом дракон, и не абы кто, а сам Эн!
— Что, можно выбрать? Куда лететь?
Жес покосился на меня с сомнением. Матиа тихонько рассмеялась и постучала себя по виску. Намекнула, что я съехал крышей дальше, чем позволяют приличия… Ну и пусть. Я съехал гораздо дальше, чем сам от себя ждал.
Иду — и ног не чую. Вокруг лежит родной мир. Чертовски неперспективный и маленький, я выяснил это сегодня и теперь я так и вижу мой мир — плоским и тесным… И вряд ли это пройдет окончательно.
Немножко обидно. Как сказал Жес? Мы все, такая цивилизация-расцивилизация из себя, для взгляда извне — вроде колонии малолетних дикарей. Ну, по колониям у меня имеется опыт. Если беспристрастно сравнивать… похоже на правду. Тогда почему обидно-то?
Жес сказал: я — хищник. Санитар в системе. Это должно обнадеживать. Если я санитар, то смысла в обиде на душевнобольных никакого. Их надо лечить. В общем, пусть Матиа, наконец, закрывает охоту на маньяков и занимается обычными больными, и заодно меня… как было сказано? Обучает. Чёрт, я постараюсь быть достоверно тупым. Буду учиться так медленно и усердно, как только смогу. Надеюсь, я беспросветный идиот, и это обстоятельство позволит мне иметь перспективу вечерних и дополнительных занятий?
И еще… у меня, кажется, есть шанс увидеть дракона!
Словарь
Альв — бессмерть второго царства, «зеленый бес», чей дар связан с миром растений.
Атл — бессмерть четвертого, или срединного, царства. Ну или особенная порода людей, способных на многое… потому что сами они полагают себя именно людьми.
Бес — также именуется бессмертью, нелюдем. Подобных существ, если верить слухам и небылицам, в мире несколько. На виду и присутствует во всех летописях лишь один бес, багряный Рэкст. Говорят, багряным прозван за кровожадность. Но некоторые алые нобы отмечают, что по их мнению дар багряного схож в чем-то с их кровным даром: он тоже боец. У Рэкста много владений и титулов в мире людей. В последние сто лет до начала этой истории он особенно часто бывал замечен в своем дворце в городе Эйнэ, столице княжества Мийро. Там его титул — граф, его дворец и прочие владения определяются, как «земли графа Гост». Рэкст бессмертен, по крайней мере никто и никогда не видел изменений в его внешности, которые можно назвать старением: все портреты Рэкста, любой древности, показывают подобие человека лет тридцати.
Бой чести — едва ли не главная и определяющая особенность крови алых. Доподлинно известно, что, вызвав противника на бой чести и сознавая ту правду, которую этот бой взвешивает, как полную — алый непобедим. Конечно, это легендарное определение для некой абсолютной силы крови. Далеко не всякий алый ноб готов рисковать жизнью ради некой «правды». Навык боя, возраст, сила и опыт тоже имеют значение. Однако бой чести позволяет однозначно определить алого ноба и выявить голубую кровь этой ветви у любого безродного. Бой чести не обязательно приводит к смерти одного из противников, но кровь проливается всегда. Стоит добавить, что вдохновение боя делает алых нобов с сильной кровью очень похожими на беса Рэкста в одном: их волосы слегка светятся на кончиках. В бою чести они могут вспыхивать очень ярко — и тогда зрителям кажется, что алые горят. Это умение гореть правдой и определило выбор цвета для такого кровного дара.
Вервр — бессмерть третьего царства, близко родственен животному миру.
Голубая кровь — общее название для представителей «кровной» знати, тех, кто являются потомками семей, обладавших прежде или обладающих теперь особым даром: алым, синим, золотым или белым. Эти четыре цвета определяют особенности кровных даров и ветви геральдики. Если очень коротко и упрощенно определить дары крови, то алый выделяет воинов, белый — лекарей, золотой — умеющих читать в душах, синий — хранителей знания.
Горгл — бессмерть первого царства, «каменный бес».
Ноб — представитель семьи, чья голубая кровь когда-то ярко себя проявила и была отмечена гербом, а после наследовалась непрерывно прямыми потомками. Считается, что цвет герба и сам дар в поколениях остаются неизменными. Хотя это, по мнению осведомленных людей, не вполне точно. Тем более сомнительно утверждение о сохранении в том или ином роду силы крови и дара у любого наследника, независимо от его личных качеств. Древние летописи утверждают, что голубая кровь не принадлежит гербу и не наследуется только по праву рождения. Однако вслух подобное говорить не принято.
Птицы и цветы обязательны в гербах белой ветви, где много целителей. Мечи и стяги отражают особенности алой ветви, дающей наследникам способности, полезные в бою. Синяя ветвь с пером и лозой в гербах отмечает хранителей знаний и еще часто — неплохих канцлеров и градоправителей. Самая малочисленная и загадочная ветвь, золотая, имеет в гербах сердце и арку врат, отмечающие дар видеть незримое и порой творить волшебство.
Нэйя — хотя их полагают родней вервров из-за двойного облика, эта бессмерть, вероятно в действительности принадлежит к пятому царству или же ответственна за границу его с царством людей. Прежде нэйя жили в некоторых мирах людей, но сосуществование не сложилось…
Живая и мертвая вода — особенные состояния воды, создаваемые силой альвов. В мире Алеля есть и то, и другое, причем для лечения людей вода очень полезна, как и растения, выращенные на подобном поливе. Матушка Ула была права, когда сказала: яд может стать лекарством. Для проращивания сухого зерна души бывшего беса-отравителя пригодилась мертвая вода, смывающая прошлое. Но это совсем другая история…








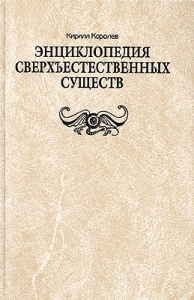
Комментарии к книге «Карты четырех царств.», Оксана Борисовна Демченко
Всего 0 комментариев