Русь Богатырская: былинные сказанья
Об авторе этой книги
Автор этой книги сам мог бы стать героем большой и увлекательной книги. Впрочем, он уже стал героем художественно-документального кинофильма «Верность», созданного режиссером Борисом Карповым в 1976 году. Портрет В. А. Старостина, воспроизведённый здесь, — кадр из этого фильма.
Но начнём с истока. Василий Адрианович Старостин родился в 1910 году в вятской деревне Клюжино, где ещё полной жизнью жили народные обряды, песни, сказки, поверья. Василий Адрианович признаётся, что, простившись почти на тридцать лет с сельским бытом и крестьянским трудом, он как бы совсем забыл народное мышление и речь, но в какой-то момент всё это воскресло в нём со всей силой и жизненностью.
В конце 1920-х годов Василий Старостин начал свои юношеские странствия. Побывал и на Дальнем Востоке, и в Москве, и в Белоруссии. Уже тогда не раз задумывался о работе над словом, о писательстве. Но всё же выбрал науку, окончил химический факультет Московского университета и перед Великой Отечественной войной руководил кафедрой химии в Витебском педагогическом институте.
После войны В. А. Старостин вернулся к преподаванию химии.
Его деятельность в этой сфере отнюдь не сводилась к изложению уже известных истин. Вдохновляемый идеями своего учителя и старшего друга, самобытного учёного и подлинного мыслителя в области химии П. Н. Кобозева, Василий Адрианович стремился понять химические законы в единой, вселенской цепи природного и человеческого бытия. Кстати сказать, его научные размышления, несомненно, сказались позднее и в словесном творчестве.
В 1955 году Василий Адрианович круто меняет свою жизнь и становится председателем большого колхоза Костромской области, которому по его предложению было присвоено имя «Русь Советская».
Представьте себе лесистые костромские края, среди которых затерялась деревушка Сергеево, состоящая всего из пяти изб.
В нескольких километрах — усадьба великого русского драматурга Островского с её легендарными лесными урочищами и родниками. В одной из сергеевских изб поселился председатель колхоза В. А. Старостин. Километров на пятнадцать во все стороны от Сергеева протянулись земли «Руси Советской». Под руководством В. А. Старостина колхоз стал одним из лучших в области. Глубокое уважение завоевал колхозный вожак у жителей окрестных сёл и деревень.
Говорить о книге Василия Адриановича нелегко; она ставит перед читателем и критиком много спорных вопросов. Коснусь только двух, но, по-видимому, наиболее важных.
Каждый народ на определённой ступени своего исторического развития создаёт бесценные сокровища национальной культуры — эпические сказания, в которых поэтически отражается трудный и величавый путь становления народа, воплощается народное самосознание и мироощущение. Эти сказания складываются и развиваются в течение долгого времени, нескольких веков или даже тысячелетий. И поскольку исторические судьбы народов различны, существенно отличаются и судьбы национальных эпических сказаний.
Нередко получается так, что в течение столетий отдельные сказания живут, не сливаясь, как, например, эпические повести ирландцев - саги, которые были рано записаны и дошли до наших дней как целый ряд самостоятельных историй.
Есть, наконец, и ещё один путь: отдельные сказания многие века живут в памяти народа, и уже в эпоху развитой литературы профессиональный писатель записывает эти сказания, обрабатывает их и объединяет в целую поэму, эпопею. Такова судьба эпоса карелов и финнов: лишь в XIX веке финский учёный Лёнрот собрал отдельные песни – руны и создал единую эпопею под названием «Калевала».
Своеобразна судьба и нашего национального эпоса. Он начал создаваться тысячелетие назад и к XV веку уже достиг, по-видимому, своей зрелости, сложился приблизительно в том виде, каким мы его знаем и теперь. И сложился он в форме отдельных, подчас глубоко различных по своему духу стихотворных сказаний, получивших позднее название былин. Былины творились и распевались безымянными гениальными поэтами на широких просторах Руси от Киева до Новгорода. Начиная с XVII века былины стали записывать, и теперь мы имеем закреплённое, письменное бесценное эпическое богатство, запечатлевшее становление нашего народа — его борьбу со слепыми стихиями и его жизнь в единстве с родной природой, его битвы с враждебными племенами и сотрудничество с добрыми соседями. Былины эти выразили национальный характер народа, его душу, его стремления и идеалы.
Но существуют и отдельные, подчас совсем не связанные между собой и глубоко различные сказания. Существование в виде отдельных сказаний имеет и своё огромное преимущество перед единой поэмой. Объединение сказаний в поэму неизбежно ведёт к известной утере многообразия, богатства и самодовлеющей ценности отдельных эпических образов, мотивов, красок. Поэма — это как бы море, которое не может не быть единым, однородным. А наши былины — это словно полноводные самобытные реки, которые текут, не сливаясь, не превращаясь в одно, как текут по родным просторам столь непохожие друг на друга Волга и Днепр, Дон и Кубань, Волхов и Нева.
И всё же нельзя не мечтать о создании на основе былин национальной эпопеи. Первые замыслы и опыты этого рода относятся ещё к XVIII столетию. Известный в то время писатель Василий Левшин создаёт в 1780 году целую книгу «Сказки богатырские» на материале русских былин. Сподвижник Державина Николай Львов издал в 1795 году «Добрыню» — «русскую эпопею в совершенно русском вкусе», как он её определил, а сам Державин написал «поэму-оперу», также называвшуюся «Добрыня» (1804). Ещё ранее Карамзин сочиняет «богатырскую сказку» «Илья Муромец» (1795). Видный поэт Михаил Херасков создаёт в 1803 году на материале былин поэму «Бахариана» (от древнерусского слова «бахарь» — сказочник); Батюшков пишет повесть «Предслава и Добрыня» и т. д.
Эти произведения в той или иной мере представляли собой попытки создать национальную эпопею или хотя бы наметить путь к этой великой цели. Но несмотря на то, что авторы стремились создать нечто «в совершенно русском вкусе», как раз этого-то не получалось. Литература ещё далеко не была готова к разрешению этой задачи. Необходимы были и гораздо более глубокая близость литературы к народу и его творчеству, и создание подлинно национального художественного стиля, и громадная работа историков, этнографов, фольклористов, языковедов, чтобы писатели могли приблизиться к верной постановке труднейшей задачи. В то время даже сам былинный материал был собран только в незначительной своей части и совсем ещё не изучен.
И закономерно, что в первой половине XIX века серьезные писатели уже не пытаются создать эпопею на почве былинного эпоса, они осознают всю сложность такого предприятия и историческую неподготовленность к нему. Молодой Пушкин, правда, задумал поэму, в которой должны были действовать Илья Муромец, Добрыня и другие былинные герои, но, набросав только самый общий план поэмы, отказался от этого замысла.
Лишь через много лет обработкой былин занялся другой великий художник, Лев Толстой. Его работа представляет подлинный интерес и ценность. Однако это только приступ к делу, только набросок эпопеи.
Не буду останавливаться на других опытах этого рода и сразу же обращусь к современности. Нельзя не упомянуть здесь один исключительно важный документ, в котором глубоко и верно сказано о сегодняшнем значении проблемы создания национальной эпопеи.
Речь идет о записке, которую направил незадолго до своей смерти в Союз писателей один из крупнейших русских поэтов, Николай Заболоцкий. Он писал:
«Многие культурные народы имеют систематические своды своего эпоса. Эти своды получили всеобщее признание, несмотря на то, что некоторые из них (напр., Песни Оссиана) в свое время были скептически восприняты частью научной критики... Собиратели русских былин не посчитали себя вправе систематизировать свои записи и печатали их в том виде, в каком они были сделаны со слов народных сказителей... Но вместе с тем все сделанные им записи былин Гильфердинг считал «сырым материалом», он считал, что для «полного, окончательного издания» былин ещё не наступило время...
На протяжении столетия было сделано несколько попыток выполнить эту работу... Однако большинство этих книг выполнено авторами без достаточной научной подготовки и при весьма невысоких поэтических данных...
В наше время интенсивного роста народного самосознания и новой международной роли русского языка дело организации народного эпоса в единое стройное целое следовало бы считать делом общенародного и государственного значения».
Далее Николай Заболоцкий сформулировал ряд принципов работы над созданием народного эпоса. Он писал, в частности:
«Поэты-составители... не должны бояться творческого вмешательства в текст... здесь, однако, должен быть полностью соблюден такт и обнаружено полное понимание былинного стиля».[1]
Поэт сам начал работу над обработкой былин, но успел создать лишь небольшой фрагмент «Исцеление Ильи Муромца». Но задача была поставлена им глубоко своевременно.
Истоки книги Старостина «Русь богатырская» восходят ко времени, отделенному от нас почти двумя столетиями, — времени первых опытов в этой области. Но автор подошел к решению задачи по-новому и создал совершенно оригинальное произведение, дав ему новое жанровое определение — «былинные сказанья».
В его работе слиты воедино два начала — народность, которая проникает в ритм, речь, образы и самое мироощущение, и в то же время ярко выраженная писательская индивидуальность, всецело личный характер, воплощающийся также и в ритме, и в речи, и в образах, и в видении мира. Авторы созданных до сих пор переложений былинного эпоса избирали, как правило, одно из двух решений: либо стремились как можно точнее воссоздать исконный текст, либо, напротив, давали более или менее полную литературную его переработку. Между тем сочинение В. А. Старостина нераздельно связывает оба начала — фольклорную, народную стихию и литературную. Точно так же слиты в его книге древность и современность, что очевидно выступает и в языке, сочетающем тысячелетние фольклорные выражения и черты сегодняшнего народного говора.
Осуществив этот синтез, автор обрёл неожиданную свободу: он смог ввести в свое произведение образы, мотивы, имена и стилевые приемы, которых нет в известных нам былинах (в частности, образы и мотивы из эпосов других народов); он сумел пойти по пути вымысла, своеобразной реконструкции мотивов и т. п. И всё это не нарушает единства содержания и стиля его книги.
Содержание её действительно едино и цельно: это именно «Русь богатырская», как её понимает, видит, чувствует автор. Свободно вымышляя, автор столь же свободно отказывается от тех былинных образов и мотивов, которые не соответствуют его замыслу и пафосу. А пафос этот достаточно широк и многообразен. Перед читателем встаёт образ русского богатырства в красочных, разносторонних его проявлениях.
Таково решение своеобразного фольклориста и поэта, прекрасно знающего к тому же современную народную жизнь, сознание и речь народа и вместе с тем отнюдь не склонного жертвовать своей писательской личностью ради выражения одного только общего, коллективного начала. И характерно, что наиболее удались автору те места и главки книги (а таких мест очень много), где он вступает уже на путь вполне самостоятельного художественного вымысла, создает как бы новые «былинные» сцены и эпизоды.
Ясно, что художественное решение В. А. Старостина может быть оспорено другими поэтами и исследователями былинного эпоса, которые будут доказывать, что создание национальной эпопеи должно идти иными путями, пользоваться иными методами. Сомнение и споры в этой области не только возможны, но и неизбежны.
Но столь же ясно, что книга «Русь богатырская» даже вне зависимости от проблемы создания национальной эпопеи обладает несомненными художественными достоинствами. Она представляет собой важный и интересный эксперимент на пути осуществления, по слову Николая Заболоцкого, «дела общенародного и государственного значения».
Нельзя не обратить внимания и на осуществленный автором опыт вольной реконструкции древнерусских языческих сказаний о богах и героях сказаний, в которых глубоко поэтически осмыслены взаимоотношения человека и природных сил. Горько сознавать, что у нас так мало и плохо исследуется в последнее время это наследие русской старины и грамотные люди гораздо лучше знают древнегреческие сказания об Олимпе (которые подробно изучаются в школе и изложены в ряде массовых книг), чем древнейшее творчество своего народа. Книга В. А. Старостина пробуждает интерес к этому наследию большой эстетической ценности.
В заключение нельзя не сказать ещё об одной стороне дела — о ритме, или, иным словом, о ладе книги «Русь богатырская».
Важно прежде всего подчеркнуть, что В. А. Старостину присуще особенное, я бы сказал, первородное отношение к тому, что называют художественной формой. Очень широко распространено восприятие формы, в частности ритмической, стихотворной формы, только как некой «одежды». Тот факт, что стихи написаны, скажем, ямбом или частушечным ладом, представляется не столь уж существенным; суть дела, мол, в «содержании».
Между тем для В. А. Старостина — и в глубоком смысле он прав — два произведения, из которых одно написано, допустим, хореем, а другое былинным ладом, отличаются самой своей сутью, воплощают совершенно разное мироощущение.
В. А. Старостин полагает, что, отказавшись от традиций древнего былинного стиха, наша поэзия утратила не только определенную ритмическую форму, но и само воплощённое в ней содержание. Вот почему автор стремится возродить былинный лад и самим своим творчеством, и теоретической разработкой этого лада в целом ряде статей, опубликованных им за последние годы.
Кое-кому это может показаться ненужным и даже странным. Ведь вот уже почти 250 лет русская поэзия развивается по иному пути. Она воплощается в ритмической форме общеизвестных пяти классических размеров. Правда, можно вспомнить о «Песне про купца Калашникова» Лермонтова, о некоторых произведениях Некрасова и других поэтов, выходивших за пределы классического стиха. И все же это только отдельные отклонения. Так оправданны ли попытки возрождения былинного лада?
В этой связи очень уместно будет напомнить о творчестве одного замечательного, даже удивительного человека, имя которого уже было названо. Речь идет о Николае Александровиче Львове (1750— 1803). Он вырос в имении около Торжка, с шестнадцати лет служил в Измайловском полку, чрезвычайно серьёзно занимался самообразованием, объездил Европу. Львов был подлинно ренессансным человеком. Он построил целый ряд замечательных архитектурных сооружений, занимался разведкой и добычей каменного угля, записывая и издавая русскую народную музыку, сам сочинял оперы, был теоретиком и практиком крупных торговых операций, переводил Анакреона, Петрарку, исландские саги и т. д., и т. п. Он был вдохновителем наиболее значительного русского художественного кружка конца XVIII столетия и членом Российской академии наук. Собственно говоря, всего и не перечислить...
Помимо прочего, Николай Львов, ближайший друг Державина, был талантливым поэтом. Здесь имеет смысл обратить внимание на одну сторону его лирического творчества.
Львов вступил в поэзию через три десятилетия после того, как Ломоносов создал русский стих в том его виде, в каком он, в общем и целом, существует и теперь. Львов очень высоко ценил Ломоносова, но, исходя из национальной идеи, предлагал пойти по иному пути — по пути русского народного стиха. Он писал почти 200 лет назад:
Выйду, выйду я в поле чистое И, поклон отдав на все стороны, Слово вымолвлю богатырское: «Ох ты гой еси, русский твёрдый дух! Сын природных сил, брат весёлости, Неразлучный друг наших прадедов... Покажися мне, помоги ты спеть Песню длинную, да нескучную, Да нескучную, богатырскую!..» ...Но что, товарищи! Что уста ваши ужимаете?.. ...Знать, низка для вас богатырска речь? Иль невместно вам слово русское. На хореях вы подмостилися, Без екзаметра, как босой ногой, Вам своей стопой больно выступить. Но приятели! в языке нашем Много нужных слов поместить нельзя В иноземские рамки тесные. Анапест, спондей и дактили Не аршином нашим мерены, Не по свойству слова русского Были за морем заказаны; И глагол славян обильнейший, Звучный, сильный, плавный, значащий, Чтоб в заморскую рамку втискаться, Принужден ежом жаться, корчиться И, лишась красот, жару, вольности, Соразмерного силе поприща, Где природою суждено ему Исполинский путь течь со славою, Там калекою он щетинится, От увечного ж ещё требуют Слова мягкого, внешность бархата...[2]Нам должно быть совершенно ясно, что творческие устремления В. А. Старостина не новы, они опираются на давнюю и весомую традицию русской литературы.
Конечно, нельзя согласиться с тем, что былинный лад должен и может «вытеснить» классические формы стиха. Но для меня несомненно, что наряду с классическим стихом в русском словесном творчестве может и должен существовать и развиваться тот былинный лад, которым в наши дни наиболее умело владеет Василий Адрианович Старостин.
В. Кожинов
Перевелись ли богатыри на светлой Руси /Каменное побоище/
Из-под озера да моря Ильменя, Из ключа-родника из поддонного Источилась-истекала там живая вода, Под землёй Старо-Русовой просачивалась. Да и вышла-повышла-повыбежала‚ Выбегала-вылетала матка Волга-река: Широка-глубока под Казань прошла, А пошире и того ещё — под Астрахань. Я вставал-приходил к Волге-матери, Я выспрашивал, я выпытывал: «Отчего перевелись богатыри на Руси?» Видно, спрос мой был не ко времени, Видно, не было в нём правды-истины — Волга-матушка осержалася, Волновою непогодой разражалася, Охлестнула-обдала меня холодной волной: Не хотела Волга-мать речевать со мной. Без ответа-привета я стою одинок, Я под бурею, я под хмурою. В пенном вздыме шумят воды струйные, А мне в уши свистят ветры буйные — В буревейном-то шуме-гомоне Я прослышал-познал многозвонный спев: Он и слыхан, и стар, и не слыхан, и нов! Позапал мне в память из таких вот слов: Там не бель на полях забелелася: Забелелася ставка богатырская; Там не синь да на чистых засинелася: Засинелися мечи булатные; Там не крась на широких закраснелася: Закраснелася кровь со печенью. Было тут кроволитье, боротьба-битва зла. У бела шатра почиваньюшко: Вечным сном почивает млад Добрынюшко — Пал Никитьевич‚ во неравном бою, Очи ясные закатилися, Руки сильные опустилися, Груди белые испорубаны, Плечи мочные испосечены. А над витязем стоит-насмехается Басурманченко-богатырченко: Тать-вор во шатёр забирается, Там чужим добром забавляется. За усладой воровской забывается. А на ту порý по ковыльной степи Не туман клубит, и не дым дымит, Серым облаком пыль поднимается, По-над травами расстилается. Удалец-молодец на богатырском коне В край незнамый на дозор отдаляется. А тут добрый конь на скаку да и встань: Не летит, стоит, не поскакивает, На дыбы встаёт да все похрапывает, Тянет конь богатыря в другую сторону. Богатырь на коня рассержается — У него спор с конём разжигается: «Ах ты, волчья сыть, травяной мешок, Разве яйца да учат курицу? Разве конь выбирает путь всаднику? Ты с чего, волчья сыть, меня не слушаешь? Ты куда меня воротишь не вперед, а назад?» Отвечал добрый конь славну витязю: «Чую дело я там недоброе: Во Добрынином шатре пирует чуж-чуженин — Он пьёт, он ест, выхваляется: «Нынче я убил Добрыню Никитьевича, Завтра я убью Алёшу Поповича!» А и бьёт боец коня до мяса чёрного. Добрый конь под Алёшей возвивается. Перед бел-шатром опускается. Над Добрыней Алёша приклоняется — Вечным сном перед ним спит названый брат: Очи ясные закатилися, Руки сильные опустилися, Ноги скорые отходилися, Груди белые испорубаны, Плечи мочные испосечены. Грусть-тоска во слезах источается, Грудь Алёшенькина воздымается, Буйна сила в ней возгорается, В бел-шатёр богатырь прорывается. Басурманченко-богатырченко Хочет взором сразить, хочет словом съязвить: «Роды ваши-де в боях неустойчивы, Племена ваши недосильчивы, А и ты, русин, трусоват-слабоват, Не тебе меня поборать-побивать!» Были ль речи те, стали ль не былью? А и были — их Алёша не выслушивал: Он и брал-хватал, через стол метал Басурманченку в поле чистое, Не замедливал, на врага наседал. Он, Алёшенька, силён смелостью, Буйной удалью, скорым напуском, Не успел ещё враг весь повыхвастаться — Лепетал ещё да болтал язык, А уже у него на грудях сидел Удалой-молодой смел Алёшенька. Нож кривой вынимал, на врага поднимал Грудь пороть, вырезать сердце с печенью. Возмолился-взвыл басурманченко К Чернобогу своему богатырченко: «Ты спаси-сохрани, Чернобоже, меня От напасти злой, смертной участи!» Вмиг прислал Чернобог Черноворона, Прилетал тот, вещал по-человечески: «Гой еси ты, Алёша, ты Попович млад, Не воспарывай грудей у басурманина. Я помчусь-полечу за море синее, Раздобуду целющей и живой воды — От неё и оживёт добрый молодец, Твой братарь, твой Добрыня, сын Никитьевич!» Отлетал Черноворон за леса, за моря, Добывал-приносил из-за синь морей Он целющей да он и живой воды. И воспрыскивал Алёша целющей водой Раны тяжкие на Добрынюшке — Зарасталися раны, исцелялися. И окрапливал Добрыню он живою водой — Пробуждался добрый молодец от смертного сна. И возрадовались друг другу витязи. Басурманченку с великой радости Отпускали на волюшку на вольную. Лихорадостил басурман-лихован, Утекал-ликовал да подскакивал, Да притоптывал, да прихвастывал: «Убивал я Добрыню и Илью убью! Дай мне силы, великий мой бог Чернобог, Принесу за то тебе, Чернобоже, я Человеческую жертву кровавую: Зажряхую[3] тебе всех русских витязей, — Вместе с ними самого Илью Муромца!» И давал Чернобог упрошеннику Колдовацкую силу ведьмацкую: Побежал Побегайко-богатырченко, Басурманченко на Сапат-реку. Ударялся головой о сер-горюч камень — Порассыпался песком по крутым берегам, А из каждой-то да из песчиночки Нарождался могутай: на коне богатырь! Было то на восходе красна солнышка: Восстал Илья Муромец — он раньше всех, Оглядел бел свет, увидал напасть, Воскричал стар казак зычным голосом: «Гой вы, братья, могучие витязи, Окружает нас да несметная рать, А вы дремлете-спите, прохлаждаетесь, Ни беды над собою не ведаете: Хочет ворог нас да взятьём всех взять, Под коней подмять, по полям разметать!» Восставала тут сила — и на силу пошла; Сила вражеская, волшебная, Против — русская сила, сокрушебная. Затрубили громом-трублей трубы медные, Заретивились кони борзые, Запосвистывали стрелочки калёные, Заповизгивали смертоносные, Засверкали шеломы золочёные, Зажигалися сердца богатырские, Завысвечивались брони харалужные, Загремели щиты цельнокованые, Затрещали копья длинномерные, Застучали мечи о кольчуги-щиты, Зачиналася битва неуступная, — Завязался великий кровавый бой. Тридцать витязей славно ратятся, Тридцать первым сам Илья Муромец. Потерялося время в боротьбе-борьбе, Посмешалося утро с вечером, Посливалася темна ночь со днём, Миг от вечности и различить нельзя. Славно витязи витязенствовали, И над пришлою ратью и волшебною Одержала победу сила русская, Богатырская сила сокрушебная. Воскричал тут Алёша Поповичев, Порасхвастался-поразбахвалился На беду себе и всем витязям: «Битва кончилась, а в нас боевцах Силы-удали не поубавилось: Наши руки ещё не умахалися, Наши кони ещё не ускакалися, Наши силы ещё не уходилися, — Подавай нам силу нездешнюю, Мы и с тою силой, витязи, посправимся!» Услыхал похвальбу-похва́стину Во подземном во царстве царь Чернобог — Взликовала душа в нем чернущая: «Выхваляйся ты, Алёшка, поповский сын — Похвальба богатыря обессиливает, А во мне от неё растёт могущество, Выхваляйтесь-хвалитеся, витязи, — Ваша сила вся перейдёт в меня!» И восстал Чернобог перед витязями Невеликим и негрозным воителем: «А просили вы, русские витязи, Посразиться да с силою нездешнею... Я — один, а вас тридцать, с вами ваш атаман — В тридцать первых богатырь Илья Муромец!» Распалялся Алёшенька на вызов таков, Поднимал-напускал коня борзого, Налетал да сшибал, да под копытами Истоптал воевита под конскими. Он затаптывал, приговаривал: «Эй, хвастун-хлобыстун, не тебе одному Пересилить нас, тридцать витязей, С нами тридцать первый — Илья Муромец! Вот и смят ты, вояка, да и мной одним, Да одною ино поступью конёвьею — Ты не сила, а слабость нездешняя!» Не успел ещё Алёша слов домолвить всех — Глянь: стоит воевит, он не смят, не измят, Он над смелым Алёшей изгаляется, Он в глаза богатырю насмехается: «Трусоват ты, Алёха, и совсем не смел: Лих меча — и того ты поднять не сумел. И не меч у тебя: иззазубрен и ржав, Косарем щепать лучину бабам только и гож!» Таковая речуха смех-насмешливая Богатырское сердце раззадорила. Изымал богатырь свой булатный меч, С буйной удалью Алёша поднимал его, И воителя-ненавистника Рассекал-разрубал пополам сплеча. Пали на землю две половинины. Взликовал от буйной удали Алёшенька, Начинал влагать в ножны богатырский меч — Глянь: с земли да восстают половины те, И становятся двумя воевитами, Оба сильные, неотступные, Оба с боем они на дружину идут. Налетел на них Добрыня Никитьевич, Разрубал он мечом да и тех двоих, Пали на землю четыре половины от них - Восставало с земли четыре воина, И все живы они, и все в бой идут! Наезжал на четверых Илья Муромец, Рассекал-разрубал он всех пополам, Восемь мёртвых повалилось половиночек - Восставало из них, невредимых, боевых Восемь воинов-воеванов лихих: И все живы они, и все в бой идут! Тридцать витязей возволнова́лися, На воителей накидава́лися; Тридцать первым с ними — стар казак Илья; На нездешнюю на силу все обрушивались. Они колют. они бьют, они рубят сплеча, А посеченных, и живых, и всех Кони-лошади в землю-мать сыру, А и топчут, а и мнут, а и затаптывают, — Да побитые те возрождаются, Да истоптанные поднимаются, Все разрубленные да удвояются, И все живы, боевиты, и все в бой идут! Безовременье остановилося, На бойцов-удальцов понавалилося И на души свинцовою глыбой легло — Обессиливают русские витязи, И ведут они две битвы непосильные: Против бедственной напасти — битва первая; А вторая — против слабости-бессилья в себе. Напасти́нища-бедища-неминучина! Удаль русская ещё велика-жива, Да ведь мóга былая поистратилась: Намахалися плечи могучие, Ускакалися кони богатырские, Притупилися мечи булатные, Поломалися копья долгомерные, Посрывалися тетивы на луках, Лих побитая та сила поднимается, Поразрубленная да удвояется, Воевитна и жива и всё с боем идёт! Тут у стар казака Ильи Муромца Разгорелося сердечушко ретивое, Разретивилась душа богатырская, Разбуянились мысли-помыслы, Возгремел-возревел зычным голосом он: «Братья-витязи, богатыри мои! Сила страшная нездешняя сильнее нас, А не нам уступать и той напасти злой! С нами естен завет от дедов-пращуров: «Умри — не сходи с родной земли!» А не мне ль чудным сказом было сказано, А не мне ли на роду было назначено: «На бою мне, Илье, смерть не писана!» Во погибельную во безвременицу, Перед бедственностью-неотвратимостью, Чую вновь я в себе силу гордую, доблесть смелую, слово вещее — Крепью крепко оно несокрушимою, И незримым всесильем источается, Этим словом в вас, дружина, братья мои, Я вкладаю дар-достоинство всё своё: На боях вам смерть не будет писана, Всем вам, богатырям, моим соратникам! Да не пасть с ратоборною нахлынью вам, Ни с какою, ни с земною, ни с подземною, Ни с небесною силой, ни с нездешнею! Встанем, братья, мы за святую Русь Неприступною великою крепостью, Обороною несломной, горой каменной!» И свершилося чудо чудное, И содеялося диво дивное: Изнаполнился стар казак Илья Неизбывною, несокрушимою Силой сильною, неразрушимою, — Не язвит её калена стрела, Не пронзает копьё долгомерное, Не сечёт её ни булатный меч, Не сминает её ни копытастый конь, Ни земная мощь, ни подземная, Ни небесная, ни нездешняя, Никакая рать неисчислимая Не расколет, не сломит Илью Муромца: Несдвижимой стал Илья крепостью, Нерушимою горой каменной. И дружина с ним вместе верная Восприяла от Ильи слово клятвенное. Восклицала кликом-гласом единым она: «На бою богатырям нам смерть не писана! Встанем, братья, мы за святую Русь Нерушимою крепью-крепостью, Обороною: горами каменными!» И сплотилися братья-витязи — Перед ними вражье полчище несчисленное И мечами сечет, и булавами бьет, Колет копьями. пронзает долгомерными, Посвистучими стрелами расстреливает. Стрелы рвутся, копья гнутся-разламываются, Булавы — те во блины ин расплющиваются, Разбиваются мечи на крохи мелкие. Несразимое, неуязвимое Поднялось богатырство святорусское. Удивился подземный чёрный царь Чернобог, Подходил он ко строю несразимому, Видит он всю дружину по-прежнему: Тридцать витязей святорусских тут, Тридцать первый — атаман Илья Муромец, А недвижны они, а изваянны они. Долго думал-гадал и додумался царь: Перед ним — богатыри окаменелые! Со злорадства подземный царь пустился в пляс. Он приплясывал, приговаривал: «Вот я искоренил богатырей на Руси: Нету нынче и не будет обороны ей, Ни защитников, ни храбров-витязей — Захиреет в веках и исчезнет Русь!» Расплясался Чернобог, пораспрыгался, Вдруг услышал он громогласный зык, Изо каменной глыбы человечий глас. Сам Илья-атаман возглашал-воззычал: «Не пляши, не пусторадуйся, царь Чернобог, Живы все богатыри мы на Светлой Руси, И житве духу нашему не будет конца, И отныне и до веку стоять Руси, А нам быть ей обороной и защитою!» Мир потряс Чернобог смехотой-язвотой: «Ох вы, русские вою́ны-горю́ны, Отыскали в мертвом камне укрытье себе, А я, Чернобог, над мертвым царством — царь! Пожелаю — подниму цепи каменные Из гранита-кремня скалы, кручи вверх до небес, Пожелаю — сотру громады горные Обращу-пущу все на ветер в песок! А мне эти изваяньишки стереть — за чох, Из них дух ваш богатырский рассеять — за плёв!» Думу вздумал Чернобог, дело делать стал. Напускал на изваянья богатырские Рать свою колдовскую, ту тьмочисленную. Разбегался первый ратник, ударялся он — И от крепи богатырской отлетал-улетал, Упадал серым камнем, валуном в траву, Ано, крепость высока, невредима стоит! Ударялся и второй чернобогов вой О высокий оплот — отлетал-упадал Валуном-серяком во болотину. Возъярился Чернобог, бельма вытаращил, Уши вывострил, язык выпустил, Завизжал-зарычал на несметную рать, Напускал её на крепость богатырскую. Разгонялись-налетали воеватели, На ногах, на бегах, на рысях, на конях — Не пробили непробивного камени: Ни до трещины, ни до царапины — Прочь все поотлетали-поотскакивали, Валунами-каменьём меж бурьянов, осок, По яругам, по топям, по грязивым местам, По лесам, пустырям порассыпалися, Оставался Чернобог в одиночестве. Силу буйную колдовскую свою Поистратил он на Каменном побоище, А сгубить богатырства на Руси не смог. Обессилен и слаб, под землею сник. Через громы, ветра посвистучие Взрокотала мне Волга-матушка: «Есть и будут они, богатыри, на Руси, Да незримо богатырство святорусское, И нетленно в веках, в русских людях живёт, Им стояла -и стоит Русь светлая, Крепче камени богатырский дух!»Сказанье о Славуне и Микуле
Было — не было ли это быванье? У небесной Зари-Заряницы Нарождалося два любимых чада, Два сыночка, две малые кровинки. Мати радостна, очи лучисты, Ин весь мир расцветает под ясным Заряницыным светлеющим взором, Расцветать и дитёнкам-ребятёнкам. Лучезарная Заряница‚ Во сынах она своих возлелеет Разум истинный, добрые души, А к тому и все мечты-устремленья. Оба сына — два добра, два солнца. Да судьбует Судьбина по-иному, Всё несёт в себе она, и власть, и силу, И всё будущее в дланях своих держит. Очи разные у Судьбихи: Одно око — чернущая чернедь, А другое — сиянное небо. В чёрном зло у роковухи таится, В голубом — добро и светлые деянья. Добиралась Судьба до Заряницы, Допроворилась до спящих младенцев, Сорывала покрывалину с зыбки, Добрым глазом на младенца воззрилась — Стал он солнцем тёплым и светлым. Возрастать ему лучистым Ярилой. На другого-то всем злом богиха, Чёрным глазом своим сверканула, — В миг единый боженятко малый Почернел-потемнел-обезобразел, И все зло изо всей вселенной, И все нехорошество мира В душу детскую вошло, испропитало. И отчаянье Заряницу, Горе горькое охватило; Принималась упрашивать слёзно Да умаливать Судьбину-ворогушу: «Изыми ты зло из младенца, На добро пересудьби ему участь!» Отвернулась от 3аряны Судьбиха. И тогда от тоски, от печали Побледнела Заряна-Заряница. И покрылося синее небо Облаками седыми да густыми. И ручьём горючие слёзы Заручьились из очей у Заряницы. И теперь не роса на землю, Частый дождь из слёз хлыном хлынул. Вдруг промолвила суровая Судьбина, Зарянице прогрохотала: «Будет добрым твой Морок, Заряна, Если дочерь земли и неба Да позрит на него с любовью». Так воскликнула Судьбина и исчезла. И вошла в Заряницу надежда. Западала за леса Заряница. Сын Ярилка вырос в Ярилу, В дароносного бога Даждьбога И взошёл красным солнцем в синем небе. Вьется русая бородка у Ярилы, А глаза полны синью небесной. Он на белом коне по небу Ездит в белой льняной рубахе. По земле пешком Ярило ходит. Незанузданный конь за ним ступает. На земле и на небе Ярило — Он добро рукою щедрой сеет, Посыпает добром Ярило, Жнёт добро, добром оделяет. От него, от Ярилы-солнца — Жизнь, и хлеб, и любовь, и радость; От него — и всякое счастье По всей земле, и всем людям. Мрачный брат Ярилин — чёрный Морок — Он ушёл в подземное царство. Злобным богом он там богует; Только злобство своё он не хоронит Во своей подземелине затхлой, А выносит его на землю. Густо сеет зло чёрный Морок, Землю злом Чернобог посыпает, Щедро зло своё пожинает И злорадно злом людей оделяет. На земле от Морока — мученья, И несчастья, и ненависть, и войны, Беды разные, всякая морока. Каждым утром на небо Заряница Сына светлого Ярилу выводит. Каждый вечер она же выпускает Подземельного Морока чернягу. И мечтает всё ещё Заряница: Сын недобрый её подобреет. И тогда ночи мрачные исчезнут Навсегда над землёй осветлённой. У Ярилы от богини Роженицы Селянин родился, сын могущий. У земли, у Земницы — дочь Славуна От Перуна, от громоносца. В один час они народились, В один миг они оголосились, Одним светом они осветились. И Славуна — дочь земли и неба — Породнилася с Селянином. Канул срок, у молодых поселенцев На Земле, во вселенной юной, Славимир первый сын народился, А потом другие братья и сёстры, Дети славные росли богатырями. Славимир своё богатырство Проявил ещё младенчиком в люльке; В час урочный пришла к нему Судьбина И злой стороной повернулась Чуток был малыш Славимирко: Он беду себе великую почуял И со злом не захотел мириться, Повернулся малец в колыбельке, Приподнялся, за Судьбиху уцепился И ухватисто, и крепко, и цепко. Повернул Славимирко Судьбину, Стороной повернул к себе доброй. От такой неожиданной ухватки Растерялась и богиха-роковуха. В свой час Славимирко повырос. Он стал кузнецом знаменитым. Всеми дивами мир дивил он, Но дивнее всех див у Славимира Было диво, великое уменье: Мог он судьбы ковать людские! Стал соперником самой Судьбине. Умножалась и крепла семейка Яриловичей, Ярилиных внуков. Наполнялись у родителей души Безмятежным да бодрым весельем. Мать прекрасная, дивная Славуна Год от году всё цвела-расцветала. И не только не старилась с годами, А красивее становилась Славуна. И земной красотой своей дивной Уж прославилась по всей вселенной. А богиню Заряницу муки Из-за Морока, злосчастного сына, Никогда ни на миг не покидали. Ни избавиться от горя, ни забыться. По утрам ещё сверкала Заряница И светилась радостным счастьем, На Ярилу глядучи, на солнце. А под вечер тоска да забота Донимала материнское сердце Из-за сына непутевого такого: Из-за Морока, страшенного злодея. И вечерняя Заряница Тихо меркла и с тоской неизменной В подземелицу к Чернобогу Опускалась во тьму ночную. Душу мрачную у сына Заряница Наставляла на путь добрым словом, Мнила тёмные в ней силы пересилить. Тщетны были её наставления. Только худших бед натворила. Лиходейному сыну Заряница Рассказала-поведала-открыла: Был рожден-де и он доброносцем, Ярким солнцем сиять на небе, Быть весёлым и улыбчивым светилом. Да Судьбина так насудьбила И лихим его уделом наградила. Распалился новой жаждой Морок; Захотелось ему стать над миром, Да не светлым светилом животворным, А злоносным лихим владыкой Над небесным и поднебесным, Над земным и подземным царством, Чернобогом над всей вселенной. Приближался он мирным и молящим, Принимался просить Заряницу: «Одари меня Ярилиным ликом, Походить хочу, мати, на солнце». Про себя же Чернобог замыслил: «Стану я походить на Ярилу, А тогда его и с неба низвергну!» Рассказала добрая матерь, Доповедала недоброму сыну, Положила-де завет Судьбина: Даже он, и злодейственный Морок, Может светлым восстать да ясным: «Если встретит тебя и полюбит И любовными глазами глянет Дочерь славная земли и неба». Ах ты, матерь заря Заряница, Сажу чёрную сделать ли белой, Да чернущую осветлить ли? А запала задумка злодею, Изожгла ему нутро злоедным жженьем. И повылез на белый свет Морок Из своей подземелины погиблой И погнался за светлой Славуной. Не один, а с лихоликой лиховщиной. Охватила Славуну тревога; Сердце замерло, душа затрепетала. И покончилась радость для Славуны. Светлый день для неё стал мрачен, Хуже полночи темнущей, тёмен. А сильны были Мороковы страсти, А все замыслы неукротимы. И от Морока несчастной Славуне Нет ни жизни, ни воздуху, вздоху. Днём оставит ей свой образ безобразный; Ночью явится сам со сворой И устроит шабаш отвратный. Ах, страшны для Славуны эти ночи, А страшнее уж нельзя и придумать! Ин по тем временам первозданным Частых звезд ещё не было на небе И ни северных сияний-полыханок. Ясный месяц ещё несветим был. И явился злодушный Морок Ко Славунке такою ночью — Напугал её до полусмерти; Он угрюмый, страшный, непотребный; Руки длинные, когтистые пальцы; А глаза его навыкате сверкают В темноте язвительным сверканьем: Сам-то он чумазлай чумазый, Рожа — будто крыло вороново, Лохмы-волосы грязнущие свисают, А носище огромный да крюкастый, Да мосластые, костлявые скулы. Щёки впалые, и весь он в морщинах, Бородёнка в редких волосёнках, В редких, реденьких, а толстых и длинных... Лопоухий ушан ушастый... А придёт он, да начнет морочить, — Заморочит головушку до боли, Затуманит морочным духом душу... Славуница, несчастная Славна — Ах. и деться не знает куда ей. Убивается морочливая сила, Все прислужники Чернобожьи, Неуступную Славуну склоняют Полюбить носастого ушана. Лезет нелюдь, а всё в личинах Человеческих, приветливых, приглядных. И шепнула тут Мороку Хитрость Поприкинуться жалким да несчастным, Тем разжалобить Славунино сердце. И запел он запевом заунывным: «Да, злодей, — говорит, — я недобрый! Но в злодействе своем виноват ли? Так Судьбина мне наворожила! Только если ты меня полюбишь... Полюби меня, Славуна, полюби же, Я тогда из злодея стану И великим и добрым богом, Светоносным, как брат мой Ярило! Полюби меня дурного, — говорит он, — Полюби меня хмурого, такого Полюби меня смрадного чернягу, А ведь светлого и всякая полюбит. Ты любовью святою, Славуна, Мир-вселенную от зла избавишь. И тебя за великий подвиг этот Все восславят, и земля, и небо, Веки вечные мир не позабудет! Вознеси меня любовью своею, Вознеси от зла к добру, от мрака к свету! Я — могущ, ин пусть Чернобог я, Но смазливцу не чета Селянину!.. Да и что для меня Селянин твой? На него я дыхну единым дыхом — По вселенной он прахом разлетится!» От такой от похвальбы зловейной У Славунки голова закружилась. И она без чувств повалилась. Подлетел хищным скоком к ней Морок. В этот миг появилась Заряница. И дала она кудлатому сыну Головою знак удалиться. А сама приклонилась ко Славне. Привела Заряница Славну в чувство, Да к тому же уговору обратилась. Ох, заря ты, заря Заряница, Ты и ласкова, ты и приветна; Ты ведь можешь и запросто Славну Обезволить приветом да лаской. Вот, гляди, и в уговорах преуспела: Вот уже, вот она, Славунка, Ради подвига доброго дела, Ночи ждет любовно Морока встретить, Твоего чернодушного сына. И пришла ночь страшная эта. И вечерняя заря Заряница Привела безобразного сына, Привела его ко Славне и померкла. А Славунка — она готова, Уж на всё она, несчастная, согласна: И раскрыть ему, Мороку, объятья, Поглядеть на него любовным взглядом, Обласкать необласканного лаской, Неутешенного утешить. Вот на Морока она взглянула, На подземное страшилище это, На злотворного злобоносца... Он стоял и дышал нечистой страстью, И вокруг себя смертное удушье Источал тлетворным дыханьем. И тогда перед гнусной образиной Вмиг слетели Заряницыны чары, Позабылись все её увещеванья. И Славунка в ужасе да в страхе Шагу сделать ко Мороку не в силах! Видел это черняк, и громыхнул он: «Подойди ко мне с любовью во взоре! Что недвижно стоишь изваяньем?» — Вопрошал в ночи озлобленник грозный. В вопрошанье том чуялась угроза. За угрозой и пагуба скрывалась. Устрашилась пагубы Славна! И тогда-то великая решимость Овладела её душою. Осветились глаза дивным светом. И от света того просветлела Вся ночная непроглядная темень: Ночь кромешная стала светлее Против дня при Яриле-солнце. А в таком-то освете замогильник, Страхолюд стал ещё страхолюдней. Да его уже не видела Славуна. И воскликнула воскликом громким: «Слушай Морок-Чернобог подземный! Я отдам тебе весь, весь свет мой! Очи, взор от очей своих отдам я! Но и ты поклянись, ты клянись же. Что ничем никогда не тронешь Ни детей моих, ни мужа Селянина! Ты клянёшься ли мне в этом, Морок?» И в ответ ей Морок поклялся. И ещё возгласила Славна: «Я отдам тебе, Морок, сердце, Но клянись же ты прежде, Морок, Что нигде, никогда‚ не тронешь Ни детей моих, ни мужа Селянина! Ты клянёшься ли мне в этом, Морок?» И в ответ ей Морок поклялся. И тогда Славунка обратилась Мыслью к детям своим и Селянину: Посылала им привет прощальный. И воскликнула: «Пращур Сварже[4], Если свет от очей моих и очи Возродительны для вселенной, Победительны над тьмою ночною, Очистительны для Морока будут, —- Да примет их царь подземный!» И исторгла Славуна очи Из глазниц своих словом и волей. И сокрылся свет на мгновенье. И темно стало, жутко и душно В этой тягостной темнотине. Ано чистые Славнины очи Не коснулись нечистого бога, А незнамо влекучей силой Они ввысь к небесам взвилися И рассыпались на частые звезды. И ночное темнущее небо Первый раз засверкало звёздным светом. Дивным стало оно, прекрасным. И воскликнула снова Славуна: «Пращур Сварже, небесной воле Предаю теперь своё сердце, В нем любовь и жизнетворная сила, Если душу исчаднику возродит, Да приимет его царь подземный!» И извергла единым дыханьем На себя свое сердце Славуна. Но и чистое Славунино сердце Не коснулось подземного исчадья, А рассыпалось на мелкие зёрна Да по всей земле по широкой. В это время раскрылась небо, Сам Даждьбог хоть и в полночь явился, Вместе с братом своим Перуном. Перед ним и Чернобог сокрылся. И склонился Ярило над Славуной. Лик его затуманился печалью. И заметил Даждьбог Ярило: «У Славуны колыхнулось дыханье». Взял его и вознёс Ярило Высоко к полуночному небу. И последним Славуниным дыханьем Он зажег несветимый месяц. Косы русые Славунины Ярило На небесных северных высотах Порассыпал россыпью искристой. Обратились они северным сияньем. В руку левую взял череп Славунин, Носит вечно его у сердца. Подходил Перун ко Славуне, Изымал из дочери душу, Возносил её на небо в Вырей, Дал ей имя Матерсва-Перуница[5], Сделал вестницей меж небом и землёю. А ведь Морок так Мороком остался, Злым, недобрым, прежнего злее. Нету в мире любви насильной, Зло не может стать добром через насилье. Раззлобесился Морок ещё больше. И задумал отомстить он смертью Селянину и Славуниным детям. Да ведь клятв преступать своих не мог он; «Не своею рукой погублю их!» — Царь подземный так решил, а на это Породил он чадо из мрака, Воспоил в пропастине подземельной, Возлелеял царя Моровита И наслал его на Селянина. Завязалось крушебное сражение. Наделила мать Селянина Порождающей растинной силой. Эту силу он не растратил: Возрастил он сыр-бор дремучий И поставил перед собою Непролазные трущобы обороной. И возвысилась перед Селянином Крепость крепкая, древесная защита. И была она пред Моровитом Плотной, частой, непроходимой. Отдохнул Селянин за укрытьем. Супостат Моровит не помыслил От сраженья с Селянином отступиться. Наточил-навострил он зубы, Принимался изгрызать ограду, Вековечные могучие деревья. Перегрыз он все дубы и кедры; Перегрыз он все сосны и ели. Одолел неприступицу и снова Нападал Моровит на Селянина. А врагу борец упорный не сдаётся: Воздвигает могутник перед собою Неприступные каменные горы, Выше облаков кремнистые скалы. И в каменья Моровит возгрызся. Перегрыз он скалы и горы. Закипела неистовая битва. К тому времени у Селянина Сын подрос Славимир, кузнец искусный, Перенял Славимир уменье Ото всех кузнецов во вселенной, От земных кузнецов и небесных. Отковал Славимир оборону Из железа, из оцела[6], из булата. И теперь Селянин на битву вышел Не с дубьём-колодьём, не с камнем, А с оружьем встретил он супостата: И мечом, и копьём, и секирой, И калёными стрелами с концами На оцела булатной закалки. Но и тем Селянин, борец отважный, Не сразил, не победил супостата. И железным своим грозным оружьем Не изгнал он царя Моровита. Поистратились в борьбе неравной Могутные Селяниновы силы: Победил Моровит Селянина: Пал борец после битвы упорной! Под землей возликовал чёрный Морок. А и пал великан Селянин-то, Да подрос к той поре Микула. Возмужал и окреп, стал сильным. Заступил на отцово место И с противником ринулся в битву. Был Микула простым человеком, Не был он в отца великаном. А с царем Моровитом битвы Он успешнее повёл и Селянина. Вот и первую победу одержал он, Молодой победитель Микула. Не мечом, не копьём, не секирой И не стрелами с оправой железной, Одолел он особой силой. И сильнее она стрел смертоносных, И меча и копья и секиры. После долгой упорной битвы Изнемог было в борьбе Микула —— Моровит-Голодай и одолел бы, Да взмолился к матери Микула: «Матерсва, моя матерь Славуна, Дай мне силы для одоленья». Услыхала Матерсва-Перуница И на зов откликнулась сыновий, И взяла она силу у Даждьбога, И на землю ниспустилась птицей. И овеяла всю крылами. Пала сила живой росою По полям, по степям, по долинам. Оживила роса те зёрна — Эти зёрна, они ведь были Порассыпанным Славуниным сердцем, _ Оросились теперь бессмертной росью, От неё и занивились нивы: И пшеницей, и матушкой рожью, Ячменём, и овсом, и просом, И любою хлебной растиной. Вырастала перед Микулой Густостойная хлебная поросль: Становилась могучей обороной. И бессилен Моровит перед нею Ведь волнистые зелёные нивы Отдавали свои силы Микуле‚ А царю Голодаю — бессилье. Так от нив обретал Микула Мощь победную в сраженьях с Голодаем. А слабел Моровит и бессилел. Вот размяк он, раскис, порасплылся, По бокам развис листом поблеклым. И хотя все ещё был жив он, Да к борьбе Голодай не годен. Велики ли вы, хлебные колосья: Не толсты, а тонки ваши стебли! Злаки в поле — не лес дубравный, Не дубы вы, не сосны, не кедры, А в борьбе против Голода восстали Вы надёжнее лесов непроходимых, Могутнее дубов вековечных, Неподатливее кедров крепкоствольных! Нивы хлебные, Микулины нивы, Вы — не камни, не горы, не скалы. А в сраженьях против Моровита Вы надёжнее и скал кремнёвых, Неуступнее и гор гранитных, И камней-лежаков неодолимых. Хлеб Микулин да нивы полевые, Не звенит в вас ни железа, ни булата, Никакого убойного оружья, Инно против царя Моровита — Вы надёжнее железа и стали, Вы грознее любого булата, Вы победнее всякого оружья! Ах, не вечной победой Микула Победил царя Голодая! Бог подземный, неусыпный Морок, Лихобойному тому порожденью Обновлял-прибавлял голодной гнуси, К новым битвам Моровита готовил. Не оставил упорственный Морок Затаённой мстительной затеи: Истребить Славунин род да с корнем вырвать; Всех славян искоренить на свете! А Микула — хоть он не был великаном — Получал от нив великую силу, И никто её не смог бы пересилить: Никакой богатырь, ни воин, Ни герой, ни могучан сторослый. Ни земные, ни небесные боги, Ни подземные темные силы Одолеть не смогли бы Микулу! Потому-то и тщетны были Чернобоговы всякие усилья. В час урочный на Микулины нивы С поднебесья нисходит Ярило. Ходит он по полям колосистым И даёт земле плодородье. Собирает горсть ржаных колосьев И в руке их во правой носит. По полям мирно шествует Ярило, А за ним белый конь с крутою шеей. А поднимется на небо Ярило — Блещет миру благодатным светом, Возродительным теплым сугревом. В небесах на коне Ярило ездит, Даждьбог светоносец Ярило. С ног босой, а в рубашке белоснежной: Тонкой, светлой рубашке полотняной. Изо льна ему внучка-славянка Соткала, отбелила и сшила. И рубашка та вечна, неизносима. Едет в синих небесах Ярило. У него в руке левой — череп, В правой держит он ржаные колосья. Лих победы-то над Моровитом Не давалося вечной Микуле: Он, Микула Селянинович, должен Каждый год побеждать Моровита, Каждый год вступать в борьбу с Голодаем. Уж вот так победит его Микула, Бездыханного в землю зароет Да осиновым колом пробьёт злодея, Тяжеленным камнем придавит, Царя Голода под осень захоронит... А весной глядь-поглядь: Моровит-то Жив опять, невредим, проклятущий. Он идёт-бредёт на Микулу, Потрясает рукой костлявой; Он клыками щёлкает, грозится Погубить Микулу и с семьею, Заморить его голодной смертью, Истребить всех людей поголовно. Думал было Микула-победитель: «Я не буду Голодая больше Зарывать-закапывать в землю, Я не буду кол осиновый в спину Забивать ему в яме могильной. Я не стану придавливать камнем, А возьму и на мелкие части Разрублю-рассеку, раздроблю я, Разнесу-размечу-расшвыряю Супостатца по всей земле широкой. Уж тогда-то Моровит не восстанет!» И по сказанному сделал Микула. Супротивника победил он. Раздробил-разметал его части. Расшвырял их по всей земле широкой. И зима протекла спокойно. А весной глядь-поглядь: да опять же Моровит идёт-бредёт на Микулу. Он стучит-брячит костями сухими. Он трясёт костлявою рукою. Он клыками щёлкает, грозится Уморить у Микулы ребятишек, Всех людей и самого Микулу. Снова бьётся с ним, ратится Микула. Снова он Моровита побеждает; Снова думает извечную думу: Как избавиться навек от бедотворца? «А давай я сожгу вражину В полыхающем огне пепелящем, Размечу его пепел по ветру, Разнесу-распылю по вселенной!» И разжёг он костёр огромный, Распалил горяченное пламя, В пожирающее пекло низвергнул Побеждённого Моровита. Пособрал остатний пепел Микула И по ветру его развеял. Задождили дожди под осень, Смыли начисто прах Моровитов, Унесли в моря глубокие пепел. «Вот теперь не возродиться бедоносцу!» Так Микула подумал, да Морок Пособрал по морям-океанам Все пылинки-пепелинки по водам, Лихостную свою бедственную силу Вдунул в мертвого Моровита. Вновь восстал Моровит на Микулу. Он идёт-бредёт неотвратимый. Он стучит-брячит костями сухими, Потрясает кулаком костлявым. Он клыкастыми щёлкает зубами. Он ярится сокрушить Микулу И Микулиных ребятишек. И тогда-то понял Микула: Та борьба с царём Голодом извечна. Понял это сын Селянинов И с уделом таким смирился: Со врагом к вековечному сраженью Изготовился пахарь Микула. А подземник-ненавистник Морок Не обрёл торжества над Микулой. И познал враг в своих попытках: Нет, нельзя умертвить Микулу, А в борьбе такой непобедим он. Тот борец и труженик Микула На полях своих и нивах бессмертен. И тогда злоковарный Морок Ещё новое коварство замыслил. Вот позвал он из тьмы кромешной Красноглазое ушастое исчадье: Черныша-чиликуна из каменистых Да глубинных щелистых проемов. И Черныш-чиликун явился —— Он губастый, ноздрястый, смурогий. Два глаза — два больших лукошка. Из-под верхней губы слюноватой Два клыка опускаются книзу, Загибаются ниже подбородка, Уши круглые — две сковородки. Чиликун — он ходил и чиликал Постоянно и неотступно Ручьевал в глубинах подземных. Повелел Чернышу подземник Морок: «Собери ты из недр твердиземных Власть у золота всю колдовскую; Отыщи изумруд зелёный. Выплавь ты, чиликун, кольцо такое, Притягательный сверкучий перстень, Чтобы кто на него ни глянул, Всяк бы тут же им и прельстился, И не смог бы от него оторваться!» Чиликун Черныш по повеленью Из-под горных глубин недоступных Собрал золота несметные горы. Из него он извлек всю владу. Владу-власть всю из золота исторг он И в кольцо на огне переплавил, Изукрасил бесценным изумрудом. И принес Чернобогу перстень. Морок взял и заклял таким заклятьем: «Ты вселись, моя душа, в этот перстень! Всё проклятье моё и лихость, Моя ненависть, войди и укройся Чаровейным этим изумрудом! Ты из царства тьмы изыди, перстень! И вселись ты мной в царство света! И блесни! И покори! И прожги ты! И тогда ослепнут народы От сверкающего огненного блеска. И в своей слепоте безумной Пусть не будут добра они видеть! Ано зло за добро принимают! Ано зло добром называют! Пусть сердца их окаменеют От прожога твоего огневого! Да ин в душах пусть возгорится Алчность, жадность, злодушье, свирепость! Слушай, золото, ты изумруд мой! Слушай, перстень, завет мой подземный: Ты иди и повергни народы, Покори всех людей моей воле! Стань слугою моим, а над миром —— Властелином бессловесным, но всевластным! И да пусть же погибнет каждый, Кто тобою, мой перстень, прельстится, Ослеплённый возьмёт его в руки! Пусть же первая погибь постигнет И падёт на отпрысков Славуны! А и прежде всех на пахаря Микулу! Так иди же ты по свету, перстень! Разнеси по земле преступленья И вражду рассади меж народов. Да не будет меж ними больше дружбы, А раздоры, да ненависть, да войны Раздирают пусть и мучат людство, И реками льётся кровь человечья. Под твоею растленною властью И грабители и воры да станут Средь народов самозваными вождями. И бесстыдные, бессовестные люди Человечеством пусть управляют! Да сотрут они своими делами С лиц людские веселые улыбки, А из глаз поисторгнут слезы, Из грудей безутешные стенанья! Да задушат они печалью И тоскою истерзанные души! Да не будет на земле одичалой Никому ни веселья, ни счастья!» Вот таким заклятьем бог подземный Напитал изумрудный перстень. И подкинул его Морок в день весенний На Микулину пашню приманкой, Погубительным обольщеньем. Пашет пашеньку свою вечный пахарь. День сияет. Высится солнце. Светом землю Ярило обмывает. И теплом её отепляет, До глубин он пашню прогревает. Будь, земля, ты тепла и плодородна! И мягка, и пухла, и влажна ты! Лягут в землю пшеничные зёрна. И горох, и овсяное семя, И ячмень, и лён, и гречиха. И повырастет хлеб на пропитанье, А рубашка — на одеванье! Будет людям и жизнь, и веселье, И земные все радости уделом! Пашет пашню пахарь Микула, И об этом текут его думы. Он бороздку за бороздкой прокладает. Он пласты кладёт на пласточки. Он выпахивает каменья И отваливает их во сторонку. Так Микула Селянинович свершает Свой непышный, да великий подвиг. Наезжает он на Мороков перстень. А до перстня ли теперь Микуле? Не до золота сыну Селянина! На приманку не глядит Микула — Ведь не золото ищет в поле пахарь, Роет землю не ради изумрудов! И не видит соблазна Микула! Он проходит мимо искушенья: Он сырой привалил его землею, Он пластом понакрыл изумрудок! Вот за это пахарю слава! Ведь не будет теперь зла по миру! Не свершится заговор злодейский! Не падет на людей проклятье! Человеческий род его избудет! Да прознал, да проведал Морок: Тот подарок запахал-де Микула. Кликнул снова Черныша бог-подземник, Отодрал за лопушистые уши, Наплевал ему в красные глазищи, Надавал по зубам клыкастым. Чиликун лишь повизгивал от боли, Красноглазое лохматое уродство. Утолил лихоту свою Морок, Проскрипел Чернышу напоследок: «Отыскать в земле утерянный перстень И Микулу им оморочить!» Побежал-полетел уродец. Много времени искал-избивался Чиликун Черныш на вспаханном поле. Да нашёл, да достал, да подсунул Он Микуле проклятую находку. И Микула подсовину увидел. Он тогда остановил кобылку. Привалил на земельку сошку, Приклонился и поднял перстень. В руки взял, поглядел — дивился: «То-то будет ребятишкам игрушка!» Ой, Микула, удалой ты пахарь, Молодой на земле работник! Не гляди ты на этот перстень! Не прельщайся ты им, проклятым: У него блеск и жаро́к, да лжив он; Красота изумрудная обманна! Отвернись от сверкалины зелёной, Золотым не ослепляйся сияньем: В изумруде зеленущем — злой Морок, В чистом золоте — зло вселенной! Позабрось, Микула, этот перстень! Ты закинь его в безлюдные горы! Ты сожги его огнем пепелящим, Порасплавь его пламенем палящим! На куски размельчи его, Микула! Разотри его в пыль меловую, Раскидай по белому свету! Ничего не совершил Микула: Не закинул он перстня за горы! Ни в огне, ни в пожаре не расплавил. Не растер в порошок его пылистый, Не развеял по белому свету! А воззрился Микула на находку, Да упился погибельным сверканьем. Ослепило Микулину душу Изумрудное слепящее горенье, Золотое томливое искренье. Помутился у пахаря разум. И тогда поглядел Микула На свою работягу-кобылёнку. И она ему не показалась. И подумал он: «Мала и невзрачна, Нестатна́ кобылёнка, некрасива! Мне теперь да коня бы такого, Поскакучего да борзого, как ветер, Во сверкучей да пышной сбруе. Мне бы всадником-воином гордым В золотом шеломе да доспехах По полям скакать-красоваться, Величавиться перед народом! Мне царём бы стать над землёю, Королём надо всей вселенной! Мне владыкой бы возвыситься грозным, А не пахарем худородным!» И стоит безумный Микула На своем недопаханном поле. Не глядит он теперь уж на сошку, От лошадушки своей отвернулся. В голове его назойливые мысли Бродят, ползают, свиваются клубками. Мозг туманят чумные думы О больших городах подвластных, О дворцах хрустальных высоких, Да о замках неприступных королевских, Да о землях-народах покорённых, Да о странах завоёванных дальних. Страсти подлые Микулу охватили, Унесли его лихим уносом; Позаткнули-одикарили душу, Напитали душу ненавистным ядом, Поселили жадущую зависть. И недобрые, худые мечтанья И несут, и несут Микулу. Ах, куда они несут, в какую пропасть? Приходила в ту пору к Микуле, Приносила обед пахарю на поле Дорогая любимая Надёжа, Молодая-верная супруга. На неё и не глянул Микула. Он не видит ослепленным взором. Он не слышит оглушенным ухом. Допросилась-дозвалась Надёжа До безумного-неистового мужа. Посмотрел на неё Микула. И худой ему супруга показалась, Нежеланной-чужой-далекой. И красавица вдруг стала некрасивой. И любимая стала нелюбимой. Дорогая стала ненавистной. Встрепенулась-испугалась Надёжа. Хочет в чувство привести она Микулу, Торопливо трясет его рукою, Окликает молящим словом: «Что случилось, Микулушка, с тобою?» А Микула стоит, не отвечает, Рассердился, да с ненавистью-бранью Отпихнулся он от Надёжи. Уходил он с перстнем злополучным, Уносил вместе с этим обретеньем И тревогу, и худую заботу, Страх да робость, да спесь, да жадность. Пьёт очами он блеск изумрудный, Сам душой иссыхает от боязни: Ох, увидят! Ох, похитят! Ох, отнимут! Люди встречные — сокровище-перстень! Ты очнись-приглядись, Микула! Да прозрей от сверкального блистанья И вглядись ясным-чистым взглядом, Ты увидишь в заколдованном перстне Не зелёный изумрудный камень В многорадужных переливах, Самого ты Чернобога увидишь. Он глядит на тебя и морочит Твою душу мороком зловещим. Он в тебя нечистым духом проникает, Злоботворный владыка тьмы кромешной. Ты, Микула, под власть лиходею И подпал через этот перстень. Без сознанья твоего вливает Он в тебя свои замыслы и мысли, Без действ он тебе внушает Непотребные гадостные чувства, Без трудов — запретные желанья. Вот уже несносной занозой, Ядоносным жалом вонзились Эти новые, страстные мечтанья О владычестве, о богатствах, О дворцах, о палатах грановитых. Вот желанье — в большом королевстве Стать всесильным королём всевластным — Обратилось в порыв безумный. Вдруг неведомый смерч налетел да Подхватил, да понёс Микулу, На широкий на путь поставил. По нему же медлительным ходом Похоронное шествие с гробницей Золотой да алмазной продвигалось. Занесло Микулу в то королевство, — Тут король не своею смертью умер: Его дети-сыновья отравили Из губительной жажды до престола. А ещё обрядить не успели Мертвеца короля в путь последний, Не успели положить в домовину, Не успели ещё вынести за двери, А между сыновей его, двух братьев, Запылала-занялася ссора Из-за власти, из-за короны. Там уже за столом поминальным Эта ссора обратилась в драку. Драка кончилась войной междоусобной. Раскололось надвое королевство, Потряслось оно раздором-смутой. Началась кровавая сеча. Содрогалась земля в жестокой битве. Кровь лилась из-за короны королевства. Под конец в этой распре непотребной Повстречались королевичи сами. И лицом к лицу они столкнулись. А Микула взирал на раздор тот И возжаждал быстрой гибели братьям. И Микулина жажда утолилась: Младший брат убил старшего брата, Да и сам пал от ран смертельных У подножья отцовского трона. Восхотел злорадно Микула: «Пусть теперь всё это королевство И престол, и жезл, и корона, И дворцы, и палаты, и замки Перейдут под моё владенье!» Так и сталось по восхотенью. Он — король в великом королевстве. Он — владыка непобедимый. Он — в боях несразимый воин. А и нет ни в чём пределов Микуле: Ни желаньям его запретов, Ни страстям его препон досадных, Ни стеснений разгульным чувствам. Всё везде ему и всюду доступно, Всё открыто, всё удается: Тут по-честному, там бесчестьем, Ещё чаще всего неправдой. Заколдованный неправедный перстень Все пути и препоны отверзает, Все поганые, все кривые. Всем страстям отворяет наслажденья, Всем желаньям — быструю утеху. А желанья да страсти у Микулы Ныне только преступные да злые. А внушает их Микуле сам же перстень, Порождает злодушный Морок На погибель самому Микуле И всему Микулиному роду. Возжелал король разрушить старый замок И замыслил воздвигнуть новый. Потекли бесчисленные толпы: Шли понурые, худые люди, Шли невольники с покорностью рабской. И размашисты замыслы Микулы, Да унижены, несчастны, прибиты Исполнители его замышлений. Кто там гонит рабов на труд тяжелый? Да закрыт он покрывалиной чёрной. Из огромных белых каменных глыбин Замок новый под бичом свистящим Подневольники воздвигали. Понуждал-погонял неотвязно Истязатель-погоняло всё тот же — Под пугающим чёрным покрывалом. А ведь это сам Моровит был — Враг заклятый для Микулы прежде. Ныне — друг ему, пособник и союзник. Нет предела Микулиной власти. Всё возьмёт. Всё отторгнет. Всё отнимет. Утолит он любые желанья. А ведь нету Микуле счастья От такого непомерного всевластья: Робость, страх, опасенья, тревога, Треволненья, суета, заботы Разъедают, снедают душу. Окружает короля Микулу Не святая человеческая дружба, А вражда, зложелательство, непри́язнь Под угодливой-приветливой личиной. Приближенные подлизники-вельможи Уж давно догадались о перстне: Каковую таит в себе он силу. И хотя все льстецы и лицемеры, Блюдолизы перед Микулой И валялись смиренно во прахе, Да одну мечту лелеяли, растили: как самим овладеть волшебным перстнем? Ан хватило у Микулы и сметки, И догадки, и хитрости крикливой, И жестокости суровой и кровавой Оградить себя от посягательств. А жила в тридевятом царстве, В тридесятом была государстве Раскрасавица царевна Пылавна. И прослышал о ней король Микула, Загорелся любовной страстью. Рвёт и мечет он и землю роет: Как добыть-покорить царевну, Овладеть красотой её дивной? Не пошёл, однако, он ни походом, Ни войной не двинулся Микула: Поспособствовал Микуле перстень — Во дворце красавица Пылавна! Да ведь счастья в королевские покои И она не принесла Микуле. Только новые свары да ссоры Огласили дворцовые своды. Это был тоже дар от перстеняки. Береги его, король Микула, Чиликуново подаренье! Углядела царевна Пылавна У Микулы-то кольцо с изумрудом — И совсем не стало жизни Микуле. Просит, плачет и денно и нощно: «Подари мне, Микула, перстень, То кольцо золотое с изумрудом, Я взамен отдам тебе сердце!» А Микула отринул притязанье. Обуяло безумье царевной: Ты подай ей тот дар, да и только! За любовь был готов Микула Одарить да и щедро царевну: Ни дворцов не жалел, ни замков, Ни богатых земель обильных, Ни торговых городов и посадов. Это был брачный торг позорный. Продавала любовь Пылавна, Покупал её король Микула. Королевская плата царевну Не прельщала, не обольщала. Не нужны ей обильные земли, Не нужны города-посады, Ни палаты, ни дворцы, ни замки. Даже верности мужней от Микулы Не просила царевна Пылавна. За любовь свою одну цену хотела: Золотого изумрудного перстня! Измотался, устал Микула От царевниных домогательств. Не стерпел он, изгнал царевну. Там тоска по Пылавне снова Овладела королем Микулой. Припустился он вдогонку за Пылавной. Как догнал он её, не догнал ли? Что там было или не было меж ними? Рассказать о том никто не может. Ино что между ними и было, То быльём поросло быльистым. Чего не было, то стало небылицей. Одинокого Микулу в чистом поле Тёмна ноченька заставала. Он, Микула, от склок царедворских Да дрязг, да сплетен дворцовых, Поустал-поутомился изрядно, Потому и не спешил воротиться Во дворец к холуям да блюдолизцам. Захотел Микула в чистом поле Вольным воздухом надышаться, В одиночестве под звёздным небом Безмятежным покоем усладиться. Погляди ты, Микула, на небо, Погляди на эти частые звёзды, Ты очисти от тьмы свою душу, Освети её Славуниным светом! Возродись ты, Микула, от паденья, Поднимись из погиблой пропастины. Ты гляди, вот мерцают звёзды: Это слезы они проливают, То Славунины очи плачут, Материнские жалью истекают Над тобой, над погибающим сыном! Тишина опокоила Микулу. Крепким сном он уснул безмятежным И унесся во сновиденье. Поднялась Микулина праматерь, Подошла ко внуку Земница. И взяла его за правую руку, Повела, показала правду. И воспринял Микула знанье Не со слов прислужников хитрых, Не по присказкам угодников льстивых, Не по песням подпевал бездушных, Не по сказкам льстецов лукавых. И Микула ужаснулся правде; Он познал-увидал перед собою: Без него во всём подсолнечном мире Моровит всюду властвует вражина. Стал теперь он сильнее Микулы И царистее всех царей на свете. И тогда-то Микулину душу Ущемила великая досада! И ещё познаёт Микула: Лишь одни его прислужники сыты, Прихлебатели из свиты королевской Да наместники-правёжники по землям. Они сыты и пьяны среди голодных, Эти толстые-мордастые вельможи. Они празднуют, пируют, веселятся, А народ, чёрный люд, горе мычет: Он и холоден, и голоден, и беден. Исхудалые больные дети, Изможденные матери — тени, Вон, согбенные, скитаются по миру. Истощённые отцы в лохмотьях Насугорбленные бродят-ищут, Не находят хлеба-пропитанья. Без Микулы Селяниновича — горе! Горе бедственное в жизни — сиротство! Без труда твоего, Микула, Без спасительного — погибель! Ты изменник, Микула, и отступник! Во своё селенье прибыл Микула, В дом покинутый к семье заявился. Видит он, истомлённая, больная, Чуть жива одинокая Надёжа, В дымной хижине убогой ютится. Дремлют дети голодные в отрепьях, Плохо спят, просыпаются часто. Хоть бы корочки сухой бы — просят, Хоть бы крошку, голод утолить бы. Только нет у Надёжи ни крошки! Разболелась душа у Микулы, И заныло ожившее сердце. Позабыл он и про перстень проклятый, Про кольцо свое роковое. И тогда его праматерь Земница Привела снова в чистое то поле. Привела — подала ему в руки Подаванье на вид неказисто: Небольшую суму подарила. А дарила она, говорила: «Ты бери, мой внук, подарок этот — В нём тебе моя ТЯГА ЗЕМНАЯ. В ней вся сила и власть земли сокрыта, Вся земная тягота и легкота в ней, Всё счастье за труды над землею. Ты в труде том обретёшь такую силу, Что уже и тяготы не заметишь: Легкотой она тебе обернётся! Ты бери мой подарок с чистым сердцем. Ты бери эту тягу земную, Ты бери, никогда не измени ей. С нею будешь счастлив на земле ты, От тебя осчастливятся все люди! Ино силу в тебя вкладаю, Назови ты эту силу: СОВЕСТЬ, — Она даст тебе над злом одоленье, С нею будет легка ЗЕМНАЯ ТЯГА!» Ранним утром проснулся Микула. Ясно сон свой ночной он помнит. Снова в чувствах он — пахарь Микула, Не король, не властелин-повелитель Покорённых земель и народов. И летит он нетерпеливый, Думой мчится-летит в края родные, До семьи до сиротской страдной. А за думой той мечтой сам Микула — Он спешит, домой торопится-стремится. А при нем его тяга земная, На персте же Мороков перстень. Да: и тяга земная, и перстень! Две враждебные, крушительные сути, Супротивницы—непримиримки. Обе властны они над Микулой! За которой же останется победа? Победит ли тяга земная? Заглушит ли душу Мороков перстень? Вот взглянул на него Микула, На кольцо, на перстянку-заманиху. Тем же мигом ослеп Микула: Снова в душу вошло всё зло вселенной, Все нечистые помыслы мира Обожгли, отравили сознанье. Вновь король он, властолюб беспощадный. И готов он злоедным смехом Над голодными-холодными смеяться, Над несчастными шутить в злых шутках. Гоном гнать он готов жестоким Всех несчастных, убогих, бедных, Горемык и страдальцев неутешных. Вот намерен правитель бездушный Повернуться во дворец королевский, Во свои золочёные палаты. Ан тогда на бедре и ощутил он Непомерную свинцовую тяжесть — Приковала она его на месте. И ни шага он вперед не может сделать, На вершок ногой не в силах подвинуть. Опустились у Микулы руки, Отравила сознанье досада, Помутила разум отрава. Гнев да ярость изожгли ему душу. И срывает он Земницын подарок: Сумку малую с тягою земною. Тяга падает к ногам Микуле, Ложным счастьем душа удалая, Лихорадостной свободой взыграла, Завихрилась, ветром-вихорем взметнулась. Подымают ветры-ветровеи Пересохлые-пожухлые листья — Их срывают с ветвей отмерших. «Гей, Микула, а твои мысли-думы Не посохлые ли да листочки, То не осыпь ли от увяданья, То не прах ли от пагубы душевной?» — Слышит голос тот из недр своих Микула, И с тревогою ему внимает. И тоска одолевает Микулой. И пронзается сердце мукой. «Что мне делать?» — говорит себе Микула. «Ты вернись и возьми тягу земную, От неё да получишь возрожденье!» И вернулся Микула к тяге, Он — к Земницыному подаренью, Сумку с тягой поднимал без усилья. И тогда прояснился разум, И слетели странные чары. Позабыл он про Мороков перстень. И в груди у него полегчало, В голове у Микулы просветлело, Сердце новым занялося счастьем. Королевствовать он уже не хочет, Над народами владычить не желает. Образумился пахарь Микула. И пошел просветлённый, да не к дому, А к волнистому море-океану. Сладил челн себе поплывучий, Удалился в нем в открытое море Далеко, ан берега не видно. И закинул Микула перстень В глубь морскую, в пучину-хляби, Под ходячие пенистые волны, Под зелёные валы с седою гривой. Он закинул кольцо роковое. Да не будет попадать оно людям, Больше зла творить не станет в мире. И вернулся к полям своим Микула! И принялся за труд на нивах. Ожила земля и зацвела вся. И не стало на земле ни убогих, Ни голодных людей, ни несчастных. Отступил от человечества царь Голод. Посрамлен был подземный бог Морок. А в далёком царстве Пылавна Всё ждет короля Микулу, Всё мечтает своим очарованьем У Микулы отнять тот перстень. Не могла дождаться Пылавна. Не стерпела, пустилась в путь-дорогу. Рыщет-ищет знакомое место, Не находит она королевства, Ни владыки короля Микулы. Натыкается на пахаря в поле. И глядит, и узнаёт в нём Микулу, Короля могучего былого. С укоризною смотрит Пылавна, Щурит глазки с ужимкой ехидной: «Ха, король да за пашню взялся!» А сама глазами зыркает подло: На руках, на Микулиных пальцах, Ищет перстня она и не находит. От досады померкло сознанье. Пашет землю свою Микула. Перепахивает чистое поле. Пласт кладет на пласт ровным-ровно. Борозда-то — стрела прямая. Точно вымерены загоны. Пашет он без огрехов, без клиньев. Велика его сила, могуч пахарь. И свершается чудо на поле: Заглядается Пылавна Микулой, Неподдельной его красотою Да уверенной пахаревой силой. Ан теперь и не надо Пылавне Ни царств, ни королевств, ни власти, Ни богатств, ни злата, ни алмазов. Один ей Микула нужен. И сказала ему о том Пылавна: Без него-де и жить она не может. Призадумался пахарь и ответил: «Хороша ты, царица Пылавна! Да краса твоя, прекрасная Пылавна, Пред красотой моей Надёжи меркнет! Лишь она, одна моя Надёжа —— Мать дитёнкам моим любимым, Лишь она одна моё солнце. А другого мне солнца не надо! А иное меня не согреет! В темноте иное не осветит, В горе горьком меня не утешит. Ты ищи своё счастье, Пылавна, Ты ищи во другом его месте, Ты ищи не на этом поле, А в иных ты найди его землях!» Так сказал своё слово Микула. Он сказал и взялся за сошку. Крикнул он, понудил кобылку И повёл по пашне бороздку. А Пылавна одна осталась. Оставалась одна Пылавна. Охватила её кручина, Окручинила тоска-змеина. Озаботила надрывная забота. От любви изнывает Пылавна. На уме у неё один Микула. И не хочет она быть царицей: Ей судьба немила такая! Вот идет она к Славимиру, К кузнецу приходит судьбоковцу: «Ты кузнец-молодец-судьбоковец! Моё сердце любовью разбито. Ах, судьба моя горевая! Ах, расстроена она и навеки! Ты поправь, ты поправь мою судьбину, Облегчи мою тягостную участь!» Отвечал Славимир Пылавне: «Не смогу я судьбы твоей исправить: В судьбоковстве ведь я не всесилен! А судьба твоя для человека — Не плоха, инда так завидна. Что ещё тебе, Пылавна, нужно? Дан высокий тебе царский жребий!» Разрыдалась в ответ Пылавна: «Не хочу быть правительницей грозной! Ненавистен мне царский жребий! Ты откуй мне судьбу такую, Чтоб меня полюбил Микула!» «Не могу, не сумею, Пылавна. Отковать тебе судьбу такую — Ан другие разрушать судьбы надо! Я тебе откую, Пылавна, И забвенье, и новую участь. Но она не будет без страданья, Хоть не будет она и без счастья!» Принимался Славимир за работу. Он любовное страданье у царицы Сжег в своем горниле до праха. И тогда на Пылавну пало Исцелительное забвенье. А потом Славимир иную Отковал Пылавне новую долю. Сделал бедной её, безродной, Одинокой сиротинкой-крестьянкой. Поселил при большой дороге В стародревней ветхой лачуге: На изнеженное холёное тело Он наслал неизлечимую хворобу: Он покрыл её всю коростой. Не кузнец-судьбоковец охворобил У царицы Пылавны тело: Все нутро её сгноено было, Испропитано нечистью дурною. Год за годом шли чередою, А в лачуге при большой дороге Без сознанья, без разума лежала Во болезни прокажённая девка. Проходили здоровые люди, Их от запаха тошного мутило. Они дальше отсюда бежали. Проходили убогие калеки, Заходили во смрадное жилище, Оставляли больной пропитанье, Скудный хлеб и питьевую водицу. Так Пылавна в язвах и коростах Ровно тридцать лет пролежала. Через тридцать лет избавленье Ей пришло от немощи скорбной. От кого? От какого чуда? Песня будет об этом другая.Сказанье о пахаре Громоносце и кузнеце Славимире
Над Днепром Словутичем Киев город стольный, В Киеве — веселье, труд и работа. Славные витязи от бед да напастей Верною службой город ограждают. Жить бы не тужить бы без горя-печали: В будни трудиться, в праздник веселиться. Да пора такая без гореванья, Время золотое без бедованья Вдруг прошло, сокрылось, былью обратилось. Налетал на Киев Змей-огневержец, Домов сожигатель, людей пожиратель. Выходили сильные могутинцы — Все в огне да пламени испогибали: Нет на Змея на того управы, Нет на лютого в Киеве силы. И грозит страшенная Киеву погибель. Людей охватило горе-гореванье. Ходит страх по городу, всех берёт за горло. Ужасом смертельным киевлян он душит. Где найти спасенье от супостата? Кто от насильника стольный град избавит? Змей-страхолюдин силу набирает, И ползёт по Киеву он, многоглавый. И рычит-рокочет-угрожает: «Ха, могу я, сильный, весь город Киев Поджечь-запалить да единым дыханьем, В дым спустить огнистый, пламень языкастый! Я киевлян всех пожру-поглотаю, В пекле испеку да на огне поджарю! Вот погуляю, вот повеселюсь я!.. Чур, да мне данью живой откупайтесь: Девицу-красавицу — утром на завтрак, Юношу в полдень на обед ведите, Отрока красивого — вечером на ужин!» Отрок, внук Микулин, Микша Кожемяка — Он и Славимиру внучатый племянник —— Кожи мял на сбрую, воловьи, на обувь, Великую силу накопил в руках тем: Булат раскалённый в горсть зажмёт он — Булат струями лезет меж пальцев! Чудная сила у Кожемяки! Думает-гадает Микша про Змея. Буйною решимостью наполняет душу: «А избавлю Киев я от напасти!» Ну и ко словутому деду Славимиру, Кузнецу великому, идет Кожемяка: «Дедушка, передник, тот припон чудесный, Одолжи на время твой кузнецовский — Ведь в огне огнистом он не сгорает, Перед твоим горном надёжно испытан. А пойду я, дедушка, в бой на Змея, Задушу руками супостата! А припон твой чудный будет мне защитой От огнедышца, от пожиганья... Ухвачу за хоботы за Змеевы, Задавлю змеища-живоглота!» Славимир Микше, молодцу, ответил: «Доброе ты дело задумал-замыслил! Я тебе словом, допомогу делом, Против огневого-змеёвого жару Дам тебе запон свой несгоримый! Три кольца булатных, три цепи железных Выкую тебе я перед битвой. Выходи на Змея на огненосца! Пала палящего ты не устрашайся! Ухвати за хоботы да замкни их в кольца. Посади змеища на три на цепи! Мертвым приковом пригвозди, прикуй ты У Днепра ко скалам, внук мой Микша. После победы мы с тобою, Микша, Изготовим великое орало: С радугу небесную, с тучу дождевую! Борону изладим — железные зубья: Каждый зуб не меньше дуба векового. Вот в такие снасти запряжешь ты Змея, Выедешь на пашню в каменные горы. На враге, на Змее на укрощённом, Сохой великанской ты перепашешь, Бороной булатной переборонишь Каменные горы вместе с лесами, Измельчишь каменья в мелкий песочек, Скалье кремнистое обратишь ты в пашню. И места бесплодные, горная пустыня, Для людей пусть станет степью плодородной!» Сказанное слово становилось делом. Меха загудели, зашумели горны: Славимир да Микша взялись за работу. Сыплются искры, пламя полыхает, Белым каленьем калится железо. Молоты грохочут, гремит наковальня, Кузнецы удалые песню запевают. Вот уж и на хоботы Змею готовы Кольца-нахоботники — хомуты стальные. Высятся горою тяжкие цепи. Брал их Кожемяка легко, без натуги. На берег днепровский отправлялся, Надевал передник, запон Славимиров, Вызывал на битву Змея-людоглота. Бой жестокий, долгий завязался: И не трое суток, не три дня, три ночи, Три недели выстоял в битве Кожемяка, И Змееву силу он пересилил: Хоботы Змеиные он окандалил, Запер на замки их в хомуты стальные, Змея пригвоздил он над Днепром ко скалам. Мечется Змеище, вся земля трясётся, Глохнет всё живое от рёва Змеева. Идёт Кожемяка с вестью о победе Ко Славимиру-кузнецу во кузню. Новое дело в кузне загудело. Славимир да Микша выковали соху Со стальным оралом всю из железа, Борону-огромину — из стали-булата. Было орало у сохи чудесной Велико — с небо, а светлом под месяц. В бороне зубчатой зубья—великаны — Сосны столетние прямы и толстенны. И пошел за Змеем Кожемяка. Отмыкал он цепи от скал кремнистых, Пригонял Змеюгу ко сохе железной. Запрягал он Змея прочною упрягой, Выезжал на Змее распахивать долы, Да леса, да горы, утесы и скалы. Высятся громады, к небу уходят, Каменными глыбами землю покрывают. На горах, на скатах, на крутых на склонах Леса возвышаются, глухо рокочут. Эти все горы славный Кожемяка По Славимирову слову-совету Силою Змеёвой с землёй сровнять хочет, Вместо них вырастить тучные нивы. Рвется из упряжки Змей-огненосец, Дышит огнём-пламенем на Кожемяку, Сил своих на пашню отдать не желает. Микша Кожемяка бьётся-побьется, Змея к работе принудить не может. Думает-гадает Славимир, решает: «Как бы да Микше помочь в трудном деле? Погоди-тко, Микша, я тебе на Змея Верное сделаю понуждальце!» И пошел он в кузню, взялся за работу. Он ведь, Славимир-то, кузнец-судьбоковец: Он и судьбы может выковать, и людям, И скотам, и даже громовитым тучам! Пораздул горно́ он, положил железо, Раскалял до яркого жгучего каленья. Молотом ударил — загремело в кузне! Славимир-искусник ну и потрудился: Выковал судьбу он туче громоносной! Да пришла б та туча с громом-грохотаньем, С громом-грохотаньем, огневым сверканьем, Пришла бы, заявилась она к Кожемяке, Громы трескучие отдала бы в руки, Молнии сверкучие передала Микше. Как кузнец замыслил, так все и сбыло́ся. Выходила туча, туча громовая, Отдавала молнию Кожемяке в руки. Молнию сверкучую, силу громовую, Громы свои грохоты, гулкие раскаты. Стал Кожемяка грозным громовержцем, Стал повелевать он молнией-громами, Стал Микша равен самому Перуну. Выходил на тяжкую Микша на пашню. Молниями сечь он принимался Змея, Сотрясать громами, гнать на работу. Змей заизвивался, взвыл и подчинился, С силами собрался и вперёд рванулся. Началась неслыханная, дивная работа: Пахарь чудовный сохой великанской, Пашет он и горы, и междуречья, Тесные ущелья, скаты и долины. Высоко поднялся, далеко он видит: Вон толпой столпились высокухи-горы, По ним ходят тучи, облака клубятся, И ползут туманы на синие сопки, И растекаются вниз по долинам, По лесам кудрявым, по голым каменьям, По уступам скальным, по мшистым утесам. Змей трехглавый запряжен да в со́ху, Гибкими постромками стальными привязан. Скалит он пасти, злится-ярится, Пусть и с неохотой, ан соху ту тянет. Будет: огрызнётся Змей на Кожемяку, Страшными пастями назад обернётся, А тут чудный пахарь громким криком вскрикнет, Громом громозвучным потрясёт над Змеем Правою рукою над строптивым. Затрясутся горы и долины, Грозные раскаты громко зарокочут, Мать земля сырая в громе всколебнётся. Левою рукою тряхнёт Кожемяка — Молнии разящие полетят на Змея, Острые вонзятся, обожгут-ужалят! Змей заизвивается в мучительных корчах, В ярости бессильной на пахаря взвоет И вперед рванётся укрощённый. Борозду-огромину пахарь пролагает, Сваливает в борозду и леса и горы, Равняет долины, крушит скалы, Ровное поле вслед за ним ложится. Вороной железной поле боронует, Крошит каменья Кожемяка, Их в песок да глину растирает. Сила змеиная потом кровавым Льётся-истекает на пашню ручьями, Поле заливает, землю питает. А земля-землица полив принимает, В силу плодородную обращает, В чернозём тучный-хлебородный. Так-то Кожемяка для деда Микулы Распахал все горы в широкое поле. Горные кручи, бесплодные каменья Посровнял с землёю вместе с лесами, Степью пораскинул до Русского моря. Пахарь за Карпатские принялся за горы. Змей на работе обессилел, Исхудал-избился на такой на пашне. Стал недвижим он, стала и работа. Сколь ни грохочет Микша громами, Сколь ни гвоздит он молниями Змея, Всё без пользы: Змей вперед ни шагу! Змей изнурился, а хитрость в нём осталась. Вот он умыслил одурачить Микшу. Лёг на сыру землю, завыл-застонал он, Запросил у пахаря передышки: «Отпусти меня ты, Микша Кожемяка, Отпусти на самое малое время, Отпусти напиться во Днепре водицы. Я тогда воскресну, силою воспряну, Допашу всю пашню тебе, Кожемяка!» Микша — юный пахарь — молод он, доверчив, На Змеёву просьбу согласился: Выпряг он Змея, дал ему волю. Ко Днепру рванулся Змей свободный Вместе с коварной, тайной задумой: «Как пойду да лягу поперёк Днепра я, Запружу широкий Днепр запрудой, Водам днепровским к Русскому морю Путь загорожу я, не дам пробиваться! Из берегов тогда Днепр повыйдет, Полою водою Русь позатопит, А Кожемяку волнами смоет! Буду тогда я снова вольным, Полечу крылатым да по всей вселенной!» С радостью-весельем быстрым перемётом До Днепра широкого Змей переметнулся, Лег поперёк он водам запрудой, К берегам прижался, ко дну придавился. Мечутся днепровские запертые воды. Вздулся Днепр широкий, волнами он ходит, Пенными валами о запруду бьётся: Рвётся перелиться Днепр через Змея. Змей не пускает: на глазах растет он, Растет-раздувается, делается выше... Нет, не будет ходу Днепру через Змея! Беду таковую видит Кожемяка. Взял он свою молнию, слово ей молвил, Сам на блискучую на неё садился. И сверкнула молния мысли быстрее, До Днепра кипучего доносила Микшу. Соскользнул на берег Микша перед Змеем, Грохотом-громами над ним разразился: «Хитрый-лукавый Змей ты обманщик, Прочь из вод днепровских, вставай-поднимайся!» Змей Кожемяку не желает слушать, Из Днепра подняться он не хочет. Грозные-слепые водные хляби Ходят и волнуются, и бушуют. Вот из берегов они скоро уж повыйдут, Вот разольются по тем новым пашням, Вот они потопят и всю Русь святую. Перед бедою этой перед грозной Микша Кожемяка не устрашился: За громы, за молнии за свои хватался. Изгвоздил он молниями враждебника Змея, Выбил из Змея дух последний. Как из Змеища дух повышел, Так и запруда поопала. Только Змеёвы остались останки. Стали они каменной твердой грядою. Понабрался силы Днепр ревучий, Перекатил свои бурные воды Через тот остов окаменелый. Так и появились днепровские пороги! Мы же будем славить немеркнущей славой Дивного работника Кожемяку За его победу над злодейством‚ За труд, за работу, за дивную пашню!Святогор Неустрашимый
В давние, далёкие быванья, В древнее, седатое время Жили на белом свете Буйные-отважные скифы. Помыслом были богаты, Воображеньем щедры. Дивные сказанья породили О богатырях, о нартах. Скифы исчезли, да остались Вечные бессмертные сказанья, Скифские сказанья о нартах Живы, нетленны, любимы Посреди кавказских народов. Древнее скифское творенье В наших откликнулось былинах Богатырём Святогором. Славные нартские сказанья От осетин, от кабардинцев Ныне навеяли мне мысли О Святогоре-нарте. Я же по тем навеям Песню пропеваю эту О неустрашимом нарте, О богатыре Святогоре. Жили-были славные нарты Возле горы высокой, Возле Вершины Счастья. Жил среди нартов старец, Старенький кузнец, а искусный. В рудную душу проникал он, Знал-понимал язык железа. У кузнеца семейство Было восемнадцать ребятишек. Выросло восемнадцать Быстрых да славных нартов. В битвах они отважны, На лесной охоте — удачны, На всех работах ловки. Только в одном неудача Старшего брата постигла: Младшие все переженились, Этот невесты не находит. Все-то его на смех поднимают: «Вот неженатик—неудачник! Вона бредет Несчастливец!» Тут и рассердился неудачник: «Я, — говорит, — людей не хуже. Я себе жену добуду тоже!» Вот и коня подобрал он. За Кубань-реку он заехал. Между Днепром и Волгой Долго Несчастливец скитался. Был и на тихом Дунае: Не отыскал себе невесты! В северные дальние страны К самому морю заехал, К бурному морю ледяному. Там он обрёл себе счастье: Выискал-выбрал невесту —- Девку-великанку Поморянку. Эта великанка Поморянка Нартам пришлась не по нраву: Сильно белолица девица, Волосы желтее солнца. Этих белянок-великанок Нарты отродясь не видали. Стали молодых они чураться, Саклю обходить стороною. мужа. незадачливого нарта, Снова зовут Несчастливцем, Жил и живёт Несчастливец И в стране родимой — пришелец, Хмурый, одинокий отчужденец. Лишь одну мечту он лелеет: Сына он ждет от Поморянки. Сроку желанного дождался Тихий-молчаливый Несчастливец. Вызвал он мудрую Шатану Принимать дитё от роженицы. А и народился ребятёнок, Всем-то дитё на удивленье. В первый же миг нарожденья Вырвался он из рук со смехом. Бегает-скачет младенец. А за ним степенная Шатана Мечется, поймать его тщится. Ну и попрыгай народился! Вот к очагу он подбегает, Жар там несносный пылает, Угли горячие сверкают. Миг — и несмышлёныш дивный В пламень-огонь запрыгнул. Вскрикнула от ужаса Шатана. Руки у неё опустились. Ноги у неё подкосились. Чувства от испуга лишилась. Встала с лежанки Поморянка. Ни у неё в голосе крика, Ни у неё в сердце тревоги, Таковы слова говорила: «Ты очнися, матушка Шатана! Тут беды ещё не случилось! Если сгорит в огне мальчонка, Значит, он того и достоин! Если же огонь-жар палючий Сына моего не затронет, Значит. я витязя родила! Будет богатырь он дюжий, Славный герой неустрашимый! Матери, мне, — на радость! Нартскому народу — на славу!» В чувство Поморянка Шатану Этими словами приводила. К пламенному-жаркому огнищу Женщины обе подходят. Угли в прожигающей жаровне Тлеют-пылают-сверкают. Видят жёны дивное дело: Мальчик на углях раскалённых Целенький лежит да играет, Пухленькими ножками дрягает‚ Ручками уголья хватает, С места на место их кидает. Вместо пеленки мальчонку Синее пламя пеленает. В пламени парнишка не плачет, Только смеётся-хохочет. Вот и говорит Поморянка: «Сына я достойного родила! Будет он храбрым нартом!» Дивом дивуется Шатана: «Рада, я рада, Поморянка! Сына ты достойного родила! Если бы ты, Поморянка, До Вершины Счастья добралась бы, Талою-горною водою В полдень бы сына напоила, Вырос бы он сам счастливым Да и нартам счастье принес бы!» Путь к Вершине Счастья недоступен — Нет на него отважных! Матерь одна Поморянка — Гладкие стены и скалы, Щели-теснины-утёсы, Горные ревучие стремнины — Только она одолевает; Вместе с сыночком восходит До снеговой Вершины Счастья. Мать вырубает для сына Кайлом во льдине отвесной Колыбель-пещеру ледяную. Хочет напоить сыночка Теплым молоком материнским. Нет! Не желает малышонок: Он отвернулся от груди, Выскочил из рук от Поморянки, В люльку ледяную улегся. Капли студёные принялся Ротиком ловить, насыщаться. Горных орлов на уступе Бойкий пострелёныш увидел. Взрослого человека В когти орлы схватить могли бы И унести в поднебесье. Маленький мальчик воспрянул, Горных орлов распугал он, Выгнал с Вершины Счастья. К матери младенец вернулся: «Ты меня оставь здесь, мамаша! Ледяной водою пропитаюсь. Глянь, она стекает с сосулек Прямо над самым моим ложем». Малые годы миновали. Вырос на Вершине Счастья Маленький младенец в подростка. Мудрая Шатана приходила; Матери говорила: «А не пора ли, Поморянка, Нашего Неустрашимку На скакуне поиспытать нам? Может ли он всадником ездить? Вырос ли он храбрым нартом?» Кликнула Сына Поморянка, Доброго коня велела выбрать. Вышла навстречу Шатана, Неустрашимке сказала: «Ну, покажи теперь, сын мой, Как ты конём управляешь? Как он под тобой заиграет? Вырос ли ты храбрым нартом?» Плетью ездок коня ударил. Взвился добрый конь да помчался, Всадника сбросил на дорогу. Экая досада мальчишке! Малым младенцем он не плакал, А тут полилися слезы! Мальчику сказала Шатана: «Рано тебе ещё ездить!» Вновь на Вершине Счастья Мальчик растёт-подрастает, Силы богатырской набирает. Новые годы миновали. Выдержал отрок испытанье. Нартским наездником стал он — Славным-могучим-быстрым. Надо коня ему выбрать Для богатырских походов, Для молодецких наездок — В нартский табун идёт он конский. Ищет скакуна да не находит: Кони все слабы-негодящи. Худенький замухрышка Лезет вдруг сам в уздечку. Сердится Неустрашимец: «Прочь, провались ты, окаянный! Пальцем тебя по хребтине По исхудалой ударю, Надвое хребет переломлю твой!» Диво: назойливый Заморыш Вдруг заговорил по-человечьи! «Ой, молодой Неустрашимец, На Святой Горе ты воспитался, На Вершине Счастья воспоился! Ты — Святогор неодолимый, Самый сильный витязь на свете! Ты — мой единственный наездник! Кроме тебя, никто не сможет Справиться со мной, замухрыгой! Кроме меня, коня иного Ты и не ищи — не отыщешь!» Юный Святогор Неустрашимый Отвечал на речи конёвы: «Больно ты срамен, коняга: Стыдно на такого и садиться!» «И чего задумал ты, лохмотник, — Вдруг заржал в ответ на то Заморыш, —— . Будто сам ты в золоте сверкаешь, Словно ты богач какой на свете! У тебя всего-то во владенье Руки да душа удалая. Выехать на праздник к нартам — Не в чем тебе и показаться! Ин тебе поведаю тайну: Это я для виду худяга, Чтобы меня не украли, Этаким прибедняюсь. Статным скакуном да красивым Я обернусь, когда надо!» Для испытанья Святогорко Бил-колотил во всю силу Конику Заморышу по заду И кулаком и ладонью. Коник стоит, не дрогнет, Не пошатнётся каурый! Взял-зануздал его отрок И привел домой на показку. «Что ты привел себе за клячу?» —- Вскрикнула парню Шатана. «Что ты за дохлятину выбрал?» —- Выкрикнула мать Поморянка. «Это мы сейчас ещё узнаем, Это мы сейчас испытаем, Годен ли куда мой Заморыш». Брал-накладал на конягу Старое седло Святогорко. Крепко затягивал подпруги, Сам на Заморыша садился. Свистнул богатырским свистом, Хлыстнул урезистым хлыстом, Бронзовой оплёл он плёткой, Стеганул худягу-замухрыгу. Тут и возъярись Заморыш, Тут под небеса и возвейся: Выше Вершины Счастья Всадника занес удалого! Нарты на нартовское поле Съехались на ристанье[7]. Прибыл туда и Святогорко На своем коняге колченогом. Вот было веселье именитым Гордым-прославленным нартам: Едет на клячонке оборванец В старой-худой одежонке, Ветер лохмотьями играет, Всадника с конищем качает. Кляча хромоногая плетётся, Тащится еле-еле. От хромоты на копыта, На все четыре припадает. Видят, смеются джигиты, Животы от смеха надрывают. Смирный оборванец да тихий — Стал он скромненько во сторонку, Злющих насмешек и не слышит. «Эй ты, нищак худородный‚ Кто ты, скажи, и откуда? Где скакуна, желторотый, Выкопал себе такого?» «Нарты, да вы потише, — Тут же издевались другие, — Это же славный витязь! Борзый у него иноходец: Наших скакунов он обгонит! Всех ещё, гляди, перекусает! Нас-то богатырь такой ражий Всех да, поди, переловит, В кучу одну покидает!» Вот проиграли трубы. Нарты изготовились ко скачкам. Вышел Насрен могучий С луком да стрелою золотою. Выстрелил стрелок искусный. Молнией стрела проблеснула. Три дня стрела летела, Далеко на землю упала. Кто из джигитов удалых На иноходце доскачет, Первым стрелу отыщет, С золотой находкой вернется, Кто победит на скачках? Ринулись резвые джигиты. Пыль — до неба: солнце затмила! В топоте копытном сотрясалось долго ещё нартское поле. Вот налетел буйный ветер, Облако раздул пылевое. Сирым одиночкой маячил На своей убогой клячонке Отрок оборванец Святогорко. Робко к старейшинам-судьям, Древним старикам седобородым, Подковылял на лошадёнке‚ «Мир вам, старейшины-судьи! Вы и мне дозвольте поехать За золотою стрелою!» Все засмеялись судьи На полунищего мальчонку, На его облезлую клячонку. «Ладно! Согласны!» — сказали. Ну и поплёлся Святогорко Тем же неуклюжим ходом: Конь его с копыта на копыто Еле переступает, Еле он ноги волочит, Ногу за ногу задевает, Скрылся уродливый всадник За поворотом, за пригорком. Там-то Заморыш встряхнулся, В доброго коня оборотился, Вихрем вперед устремился. Быстро догнал он всех джигитов И перегнал удалых нартов. Много не мешкал Святогорко: Отыскал стрелу золотую, Спрятал её в свои лохмотья Да и назад завернулся. Спешился, спать завалился На половине дороги. К этому лишь времени нарты На него наехали, узнали: «Кто? Да оборванец этот! Как сюда попал он? — удивились. — Спит? Ну и пусть же спит он! Сон-то ему больше подходит, Чем состязаться с нами!» Повеселились веселяги Да и вперёд заспешили. Вовремя проснулся Святогорко. Мигом ко старейшинам вернулся. Подал стрелу золотую. Взъахали судьи, воздивились: «Как это на кляче колченогой Можно победить на трудных скачках?» Смотрят старейшины в поле, Ждут остальных джигитов. «Что вы, почтенные судьи, Али затревожились о нартах? С ними ничего не случилось! Я сюда их целыми доставлю, Всех невредимыми верну вам!» Так слово молвил Святогорко На своего на каурку Он залезал неуклюже, Поковылял неспешно. В поле же опять помчался, Вихрем полетел навстречу нартам. Встретил усталых, недовольных. Стал поперёк дороги. Выждал и без слова-звука Всех похватал с коней джигитов, Конников к седлу приторочил, Как ни попало привязал их Ко своему седлишку: Головы с ногами помешались — В разные стороны торчали. Нартских рысаков переловил он Да за золотые уздечки Их притянул друг ко дружке, Крикнул богатырским криком, Кони табуном помчались. Едет за ними Святогорко, Покриком вперед их гонит. Всадников-джигитов знаменитых На своем Заморыше везет всех. Ихняя-то шутка и пала Делом на них нешутейным: «Всех нас переловит!» — шутили. Ан переловил Святогорко: Взаболь, однако, а не в шутку! А ведь и ещё шутили нарты: «Эта худорёбрая клячонка Наших жеребцов перекусает!» Вечером и эта шутка Правдой нагольной обернулась: На коновязи Заморыш И перекусал нартских коней! На пиру, за нартовским застольем, Перед победителем на скачках, Перед оборванцем безвестным, Выложили судьи подарки. Неустрашимый Святогорко От даров богатых отказался: «Я не за подарками приехал! Женщинам отдайте их и детям! Я хотел у нартов поучиться Выучке-искусству на скачках!» Вымолвил речи таковые Да и ускакал Святогорко, Так и не узнали нарты: Кто он такой и откуда? Старый Насрен Длиннобородый Собирал мужчин на охоту. С просьбой приехал Святогорко: «Добрый Насрен! — говорит он. — Ты дозволь мне ехать вместе с вами. Я не из богатых, а из бедных: Нету у меня оснарядки! Все же не буду я лишним: Стану прислуживать взрослым, Все выполнять приказанья. После за труд мой за честный Щедрые нарты не забудут Из своей богатой добычи Выделить и мне свою долю!» Глянул Насрен на лохмотья, На заморённую клячугу, Мальчику так ответил: «О невозможном деле‚ Юноша бедный, ты просишь: Ты ещё слишком молод, Конь твой никуда не годится. Глянь ты на наших коней: Нет для них преград неодолимых, Голода они не замечают, Холод и жара им не страшны, На хромоногой-убогой Ты пропадёшь на этой кляче! Лучше я скажу, чтобы дали Крепкую тебе одежду. Матери на пропитанье Выдали баранины и проса!» «Славный-достойный тамада! Пусть будет путь твой украшен Добрыми делами и славой! Я же не хочу подаяний, Я не желаю подачек! Сам зарабатывать жажду Честным трудом на пропитанье! Выучиться я стремлюсь у нартов Выдержке и бесстрашью, Ихней находчивости ловкой! Если желаешь, тамада, Бедному юноше добра ты, То возьми меня на охоту!» Сдался Насрен Длиннобородый, Принял в поход Святогорку. Едут ездоки по долине, Едут в междугорье к лесу. Там на лесной на опушке, На берегу горной речки Нарты на миг задержались И Святогорке наказали: «Парень, подходящее место Здесь подыщи для ночёвки! Тут поставь шалаш для укрытья; Для костра сухарнику найди ты: На ночь заготовь его с избытком — Чтобы костёр горел до утра!» Больше ловцы слов не тратят, Движутся ватагой на зверя. Опытным охотникам нынче Не улыбается счастье: Звери от них убегают, Нету ловитникам удачи! Парню-небывальщине, напротив, Валом валит удача: Звери бегут к нему сами — Стая оленей по долине На Святогорку прямо мчится. Тут бы ему лук да стрелы, Тут бы копьё ему в руки. Ах ты убогая бедность, — Нету у юнца снаряженья! Ин не упускать же ловитвы. К дубу Святогорка подбегает, С корнем он дуб вырывает, В стадо размашисто кидает. Многие олени побиты! Едет на Заморыше к тушам, К месту добыток перевозит. Кожи снимает, свежует. Ставит шалаш просторный, Шкурами его одевает. Жаркий костёр разводит, Мясом котёл наполняет. Варит, и жарит, и парит. Ночью добытчики явились. Голодны-усталы-сердиты: С пустыми руками, без добычи. Что не повезло этим ловчим? Что за невезуха на ловленье? Выехали ловчики на ловлю С бранью, да с руганью, да с ссорой. Каждый бахвалился-хвалился Ловкостью-удалью-силой, Редкой удачливостью, сметкой. Во похвальбе да бахвальстве И позабыли ловчане Зверя, и лов, и уменье. Вот и явились с лесованья С голеньким не́том да пу́стом. Видят охотники диво: Выстроен шалаш огромный, Прочный-уютный-добротный. Шкурами оленьими покрыт он. Полон котёл свежим мясом. «Чьё это добро?» — вопрошают. «Славные-удачливые нарты! — Им Святогорко отвечает. — Только вы отправились за зверем, Я пошёл по вашему приказу Место искать для ночлега. И набрёл на эту лужайку. Были здесь какие-то люди, Этот вот шалаш и кострище, Мяса оленьего запасы. Встретили меня незнакомцы Как дорогого гостя. Щедро и радушно угостили, Ласково потом меня спросили: Кто я такой и откуда? Я на вопрос им ответил, Что я слуга у нартов Славных-знаменитых-именитых. Как услыхали незнакомцы Грозное имя: нарты... Страшно они перепугались, В страхе вскочили-убежали, Всё своё добро покидали!» Тут неудачники забыли Сразу про свои неудачи. И возгордились собою: «Видите, витязи-герои, Как велика наша слава —— Только одно наше имя В трепет людей повергает!» Так повторялось трижды. Трое суток нарты с охоты К месту возвращались пустыми. Трое суток им Святогорко Мясо-оленину готовил. Трое суток нартам небылицу Он повторял слово в слово. Трое суток нарты гордились, Друг перед другом зазнавались Нартской устрашающей славой. Это пустое зазнайство Слушать Святогорке надоело. Думает он, размышляет: «Ну-ка хвастунов проучу я!» Двинулись на промысел утром Промысловики раненько. В спеси своей высокомерной: «Эй, ты, — кричали Святогорке. — Где ты, лохмотник-мальчишка? Слушай же, нищий-оборванец! К вечеру чтоб на новом месте Новый шалаш был поставлен, Жаркий костёр разгорелся!» Мигом повелённое дело Сделал ухватистый парнишка: Новый шалаш поставил, Нового хворосту кучу К новому костру заготовил, Новой охотой в новом месте Новой зверятины набил, он. И к Вершине Счастья обратился: «Мать моя, Гора святая! Снежная обитель счастья! Ты меня вспоила-вскормила. Ты была моей колыбелью, Силою-счастьем наделила! Я прошу тебя, как сын твой: Ныне ты нашли на землю стужу, Ветер да буран снегопадный!» Кончил мольбу Святогорко. Синее небо потемнело. Тучи навалились снеговые. Ветры подули буревые. Вьюжные метели налетели. Так отвечала на молитву Горная Вершина Счастья. Долго ещё бури буревали. Глыбы ледяные с гор срывались. Сыпались снежные обвалы. Вырвал Святогорко дубище. Срезал старательно ветки. И положил его у входа, Сам в шалаше укрылся. Воет-завывает непогода. Воют морозные ветры. Ждёт у костра Святогорко Гордых охотников-нартов. Далеко за полночь вернулись Ловщики со звероловли — Снова без единой зверюшки! Встретил их дубиной Святогорко. Грозно он деревом махался, Громко кричал усталым нартам: «Кто это непрошеный лезет? Кто это наглый смеет К нартскому шатру приближаться? Я не пущу без дозволенья! Прочь вы отсюда, бродяги, Я вколочу в вас разум, В головы ваши пустые! Прочь, шатуны, убирайтесь!» Окрика сердитого кони Нартские перепугались. Грозной свистящей дубины Нарты и сами убоялись. Бурная буранится буря. Ветер деревья ломает, Снегом да льдом осыпает. Голос Святогоров — громче: Голосом он заглушает Грохот и свист буранный. Тут наши герои оробели. Тут храбрецы присмирели. Тут богатыри поослабли. Слово замерзшими устами Выкрикнуть пытаются мальчишке. Ветер буревой перебивает. Да и поприкинулся мальчишка, Будто из-за ветра их не слышит. Так озорник забавлялся Над именитыми мужами. Так продержал их Святогорко Долгое-мучительное время. Холод их лютый заморозил, Всадники закоченели: Даже и спешиться не могут. Вершники примерзли к седлам. Ан и понатешился вволю, В полную мальчишечью усладу Мальчик над спесивыми мужами. Видит он: уж нарты еле живы. К ним идёт-спешит, подбегает, С деланным испугом восклицает: «Батюшки! Да что я наделал? Это же Насрен Длиннобородый На гнедом коне на могучем! Каюсь, храбрец, перед тобою! Каюсь, соплеменников отважных Я не различил ведь, глупый!» Тут парнишка вынул нож булатный. Оледенелые подпруги Он перерезал на конях: Снял полуживого Насрена Вместе с седлом с коня гнедого, Перетащил к костру тамаду, Усадил поближе к огонёчку. Полумертвых всадников прочих К жаркому костру как ни попало Нашвырял швырками[8]‚ навалом. Так вот нашутил Святогорко. Сучьев сухих в костёр подбавил Начали оттаивать нарты. Стали дивиться Святогорке, Силе его необычайной. Ну а мальчишка по-былому: Скромен, и тих, и услужлив. «Вы, — говорит, — храбрые нарты, Тут пока в тепле отдыхайте. Я посторожу ваших коней!» Нарты у тепла-то оживели, Ужином готовым закусили, Спать в шалаше повалились. Вышел на волю Святогорко И к Вершине Счастья обратился С новою просьбой-мольбою: «Мать моя, Гора Святая! Славная Вершина Счастья! Снова ты услышь меня, как сына: Ты укроти непогоду, Ты убери мороз и стужу! Усмири ты снежные бураны, Утиши ты ветры буревые! Ты верни цветущее лето В этот край заброшенный-безлюдный!» Как молил отрок Святогорко, Так оно всё и случилось: Сгинул мороз-холодило, Теплое лето воротилось! На своем Заморыше кауром На охоту прянул Святогорко, Залетел на север далеконько. За Кубань, во степи заехал. Там нашел косяк диких коней. Ловкою охотничьей сноровкой Он погнал табун, свою добычу. По пути Заморышу сказал он: «Ты покусай коней, Заморыш: Самых отборных, самых сильных, Чтобы на них при дележке Сразу не позарились нарты!» Выполнил Заморыш приказанье. К утру пригнал на стоянку Всю свою добычу Святогорко! После своих злоключений Спят безмятежные нарты. Храпом богатырским оглашают Тихую-зелёную долину. Вдруг в шалаш ворвался конский топот: Это бесчисленные кони Скачут где-то, землю сотрясают. Испугались храбрые нарты. Сон глубокий как рукою сняло. Витязи проснулись-повскакали, За свое оружье похватались, К битве приготовились жестокой. Думают отважные нарты: То на них враги нападают. Видят отважные нарты: Гонит табун коней мальчишка. Спрашивают нарты Святогора: «Что это за кони и откуда?» Отрок мужам отвечает: «Витязи храбрые, покуда Пас я по долине ваших коней, Выгнали серые волки Диких коней из лесу, Прямо на меня налетели. Как только волчья стая Злая меня увидала, Кинулась вся врассыпную... Кони-то все нам и достались. Некоторых волки покусали!» Радуются витязи, толкуют: «До чего ж удачливый народ мы: Всё нам легко удается — Вона какое богатство Само собой привалило! С этакой добычей великой Можно и окончить нам охоту!» На очередное бахвальство Сильно рассердился Святогорко, И решил бахвалов он покинуть: «Славные герои, — говорит он, — Мне теперь пора домой вернуться! За труды мои небольшие Выделите мне мою долю _ Дайте хоть искусанных тех коней!» Нарты ответили надменно: «Ты, молокосос-оборванец, Рано подавать тебе свой голос! Некогда тобой нам заниматься!» Тут и поразгневался мальчонка. Мигом на Заморыша вскочил он. Голосом гневным крикнул; «Если вы, хвастливые нарты, В доле моей отказали, Сам я тогда забираю, Что принадлежит мне по праву!» — Взял себе искусанных коней. На мужей очумелых Инда не глянул, уехал. Нарты остались и стояли Долго в глубоком раздумье. Год проходил за годом В подвигах, походах, в охоте. Слава о нарте Святогоре Ширилась-росла-вырастала. Не было по силе ему равных Ни по отваге, ни по сметке, Ни по великодушью. Рослым становился, плечистым, Грозным Святогор великаном. За его за храбрость и отвагу Звали его все Неустрашимцем. Не был теперь он и бедным. Кончились давно над ним насмешки. Гость к нему однажды явился, Юноша тонкий да стройный В латах, во шлеме золочёном. Гость был одним этот странен. Лат своих, кольчуги, ни шлема Он не снимал ни днем‚ ни ночью. Вот и говорит он Святогору: «Славный-удалой Неустрашимец! Я к тебе за помощью приехал! Я ведь тоже нарт по рожденью. Было у меня семь братьев, Семь богатырей отважных, Семь дорогих-любимых. Бедствие застигло нас однажды: Полчища к нам явились Грозных одноглазых великанов. В битве с одноглазниками братья Все мои смелые погибли. Старый отец один остался, Старая матушка больная. В горе они безутешны. Дни и ночи слезы проливают. Я слабоват-слабосилен. Мне с одноглазыми врагами Мощи не хватает сражаться. Я прошу тебя, Неустрашимец! Нарт Святогор знаменитый! Просит мой отец безутешный! Выйди в поход на одноглазых! Отомсти свирепым великанам За моих убитых братьев!» Долго упрашивать не надо Неустрашимца Святогора. Быстро в поход он собирался. К бою богатырь снаряжался. Гость ему ещё поведал: Злые одноглазики лихие — Каменные горные духи; Камнями они повелевают, Горными вершинами качают, Скалами отвесными движут. Силой победить их неможно. Взять надо хитростью-сметкой. «Я, — размышлял Неустрашимец, — В хитростях не очень искусен, Буду надеяться на силу!» Время идёт, протекает. Многие пройдены дороги. Долгие пути миновали. Вот и каменистые твердыни — Царство одноглазых великанов. Слышат одноглазики опасность, Горными грядами потрясают, В небо каменья кидают. Движутся каменные тучи — Вот они засыплют Святогора. Щит богатырь поднимает, Держит его над собою, Держит над спутником юным И над конем своим каурым. Поняли одноглазцы: Так не победить им Святогора. Скалы ходячие воздвигли; То они сойдутся друг с другом, То они опять разойдутся: Будешь меж ними — раздавят! Спрашивал коня Неустрашимец: «Как между скал проехать? Ты перенесешь ли, Заморыш?» Славный каурка Святогоров Больше не прикидывался клячей. Кличка только прежняя Заморыш — Так она за ним осталась. «Нет! — конь ответил Святогору, — Скалы высокие эти Мне никогда не перепрыгнуть. Как бы высоко я ни прыгнул, Камни мигом вырастут выше! Ан и проскочить между ними, Славный мой хозяин, не сумею: Как бы далеко я ни прыгнул, Все же окажусь на середине. В этот миг скалы сойдутся: Нас они с тобой расплющат!» «Умный ты, верный мой каурка! Умный, да только неразумный! Ум нашептал тебе робость! Разум нашептал мне смелость! В миг, когда скалы разойдутся, Прыгай, Заморыш, в междускалье, Прыгай, а там — моя забота!» Вот разомкнулись каменищи. Поразлетелся Заморыш, Да и в расщелине, в середине В том междускалье оказался. Скальные-утесные кручи Начали надвигаться, Вот они, вот они сомкнутся! Вот они, вот они раздавят... Нет! Святогор Неустрашимец — Он ко борьбе готов упорной: Сильными своими руками Каменные кручи раздвинул, В землю навек водвигнул. Скалы перестали смыкаться. Скалы перестали размыкаться. Скалы навсегда застыли Вечным-застывным покоем. Так Святогор Неустрашимец В царство властителей горных С гостем своим пробился. Вместе с ним против одноглазцев Выступил в победную битву И сокрушил великанов. Всадники после сраженья Едут по чистому полю. Вот на пути перед ними На семь дорог развилье. Был до того гостейко Весел, охотлив на слово. Радость в речах струилась, Песня победная пелась. Вдруг замолчал и притих он, Думой отуманился печальной. Грустное слово промолвил: «Славный-благородный витязь! Воин Святогор Неустрашимый! Эта дорожная развилка — Наше с тобой расставанье. Здесь мы распростимся с тобою! Ждут меня мать и отец мой!» Снял молодой наездник Шлем золотой-сверкучий. Выпали косы девичьи, Чёрными жгутами пали Прямо на землю сырую. Ясного дня светлее Вспыхнуло лицо у прекрасной, Волосы — темнее ночи. Славный Святогор Неустрашимый — Духом-то был невозмутим он, Сердцем своим неупадлив. Инда тут и дух возволновался, Инда и сердце забилось. Мысли к девице потянулись, К дивной красавице Светлавне. Чёрные косы Светлавна В руки брала-поднимала, Ими лицо закрывала. Ночь-темнота наступала: Святогор не видит прекрасной, Только он голос слышит: «Я тебя жду, Несокрушимый!» Темная рассеялась темень. Где она, красавица? Нету! Имя одно от дивной, Имя осталось Святогору, Светлое имя Светлавна. Светлое имя Светлавна Светит Святогору и греет. И зовёт к себе и призывает. Витязь на верном каурке В путь опасный едет-выезжает. Горы и долины минует, К счастью пути открывает. Стали счастливыми все нарты. Да и возгордились —— говорили: «Что нам небесные духи? Что нам небожители, людям? Все добываем мы сами! Строим-работаем сами! Счастье куем себе сами! Что для нас делают боги? Надо ли им поклоняться? Мы их в глаза не видали! Пусть же к нам явятся боги, Пусть они покажутся людям! Пусть перемолвят с нами слово! Если мы их увидим, Если мы их узнаем, Разумом их испытаем, Силою их проверим, Мужество и великодушье Божеское измерим Нашей людскою мерой, Если мы поймем-убедимся, Что они, боги, нас лучше, Что они людей совершенней, Будем богов почитать мы! Пусть же к нам явятся боги!» Боги не явились к нартам. Нарты на богов рассердились. Нарты собрались и решились: «Больше не будем молиться! Больше не будем поклоняться Гордым богам небесным!» Нарты не стали молиться, Нарты не стали поклоняться: Нарты богам послали вызов. Были у нартов двери Низенькие в жилищах. Новые, вместо низких, Сделали высокие двери. В низкие-то двери нарту Надо прийти и поклониться. Пусть же не подумают боги: Кланяются им-де нарты. Нынче в жилище нарты С гордою головою, Входят они без приклону. Спрашивают боги друг друга: «Что там случилось такое С нартским народом нынче? Люди совсем нас забыли: Жертв больше нам не приносят, Нет ни поклонов, ни почтенья!» Вестника боги шлют на землю, Ласточку к нартам с вопросом: «Чем недовольны вы, люди?» Вестнику нарты сказали: «Пусть они явятся к нам, боги!» Грозный громовник Шибало Загрохотал на всё небо: «Нарты стали слишком счастливы! Надо нартский род изничтожить! Если мы их оставим, Будут они как боги! Люди заберутся на небо, Примутся бороться с богами. Надо укротить строптивых!» Так между небом и землёю Буйная вражда начиналась. Вышли небожители на нартов, Вывели на небо три солнца. Ночью и днем те пылали, Тучи дождевые разогнали, Землю у нартов иссушили. Нартские посевы погибали От изнуряющей засухи. Вышел Святогор на поле. Вызвал он тучу дождевую. Туча дождём обильным Землю сухую напоила. Выросли тучные нивы. Снова небожители решили Бедствием обрушиться на землю: Дождь неимоверный наслали, Вымочить задумали посевы, Нартов загубить потопом. Вышла тогда Светлавна, Светлое лицо свое раскрыла, Солнцем по небу блеснула, Тучи дождевые разогнала. Неуязвимы нарты. Бог богов — небесный хозяин Ласточку снова призывает, Вестником к нартам посылает, Спрашивает у отважных: «Что вы для себя хотите: Вечной ли жизни, нарты, Или же вечной славы?» Думали нарты недолго, Ясно ответили и скоро: «Что нам от вечной жизни? Нам нужна вечная слава!» Боги на ответ возъярились: «Как это люди да могут Вечной желать себе славы? Вечная слава для смертных Вечную жизнь означает! Ино накажем дерзких! Пусть они в борьбе бесславной Все до единого погибнут!» Людям непокорным и гордым Боги войну объявили. Приняли божественный вызов Неукротимые нарты. Вышли они всем народом: Женщины с ними и дети! И началось сраженье. Небо с землёй перемешалось. Горные вершины закачались. Рухнули каменные горы. Воды в морях всколыхнулись, Выплеснулись до неба. И разлились ревучим ливнем. Доблестно сражаются нарты Против богов всемогущих. Лёгкой победой боги Нартов покорить мечтали. Лёгкой победы не досталось: Нарты, отважные люди, Небу не покорились. Вот и говорит Шибало: «Счастье окрыляет нартов! Счастье несет им Светлавна. Счастье Святогор им утверждает. Мы доконаем Светлавну! Мы порешим Святогора! Будет нам тогда легка победа: Выбьем мы дерзостных нартов!» Молнии свои да громы — Все на Светлавну обрушил Яростный Шибало-громовержец. Вместе с ним другие боги Всем своим небесным оружьем Также навалились на Светлавну. Пала прекрасная в битве. И возликовали боги. Восторжествовал Шибало. Местью исполнился жгучей Нарт Святогор за Светлавну. В божеский строй врезался, Бога богов поражал он Острым ножом своим булатным. Рухнул божище на землю. Тверди земные взволновались, Вырвались волнами к небу, Мощными горами застыли. Ныне эти волны можно видеть — Это Кавказские горы! Бьются с богами люди. Встретились равные силы. Равным-то ратным силам “Быть не может равной победы. Может быть равная погибель. Гибнут мятежные нарты, Гибнут они со славой! Гибнут и заносчивые боги, Гибнут они бесславно! Битва всё тише и тише. Вот уж на бранном поле Нету двух храбрых ратей: В брани костьми легли нарты, Да не уцелели и боги! Только один бог Шибало Вместе с Шибалихой богихой Громом раскатным громоносит, Молниями сверкает. А перед богом Шибалой Только один нарт остался, Славный Святогор Неустрашимый. Вот для последнего удара Мчится с Шибалихой Шибало Вихрем со всеми громами. А и Святогор Неустрашимый Весь устремился на бога. Вот они встретились-сшиблись. Грохнули громы, засверкали. И в громовой этой сшибке Взору ничего уже не видно: Только огонь да пламень, Молнии, дым да искры... Искры рассеялись во мраке... Молнии сверкучие потухли. Громы гремучие затихли. Пламень и огни погасли, Чад порассеялся дымный. Замерло-смолкло-притихло Шумное, бранное поле. Трупы богов и нартов Вместе перемешались. Ино среди этих трупов Не было Святогора. Не было и бога Шибалы, Не было Шибалихи-богихи. Вечной-бессмертной славы Нарты себе хотели. Славу они получили. И по всему Кавказу Живы и поныне сказанья, Песни-преданья о славных, О непобедимых нартах. В битве, в последнем сшибе, Жив Святогор остался. Жив и с Шибалихой Шибало. Бога Шибалу с богихой Кинуло за Днепр широкий, А Святогора — к Волге. Долго в беспамятстве все трое После пораженья лежали. В злобной досаде Шибало Вместе с Шибалихой очнулся. Злобой змеиной оба Стали они изжигаться. Злоба змеиная обоих В змеев огнедышцев обратила. Змеем Горынычем Шибало Стал на реке на Горыни. Сделалась Шибалиха Змеихой. Смутное воспоминанье В Неустрашимом Святогоре После беспамятства осталось: Где-то в какой-то битве Враг не добит коварный. Где этот враг и кто он? —— Вспомнить Святогор не может. Ано с земли он поднялся, Верного каурку увидел, по земле по русской Славный богатырь поехал.Илья Муромец и Святогор
Едет богатырь в чистом поле‚ Едет Святогор на каурке. Щит при нём богатырский. Нет на нём ни лат, ни кольчуги. Нет ни брони, ни снаряженья. Память во Святогоре Чуть начала просыпаться. Вспомнил да смутно очень Бой свой с Шибалой последний. Ах победил бы врага он, Будь бы при нем меч надёжный. Вот Святогор узнал-проведал: Есть на земле Святорусской Дивный кузнец-судьбоковец. Едет богатырь, не медлит В кузницу ко Славимиру. «Скуй ты, — говорит, — мне меч по силе, Латы-броню-снаряженье И для коня всё убранство! Скуй мне судьбу, судьбоковец, Самую простую, человечью! В битве какой-то — плохо помню — Вся моя судьба была разбита! Выкуй мне судьбу да посчастливей!» «Выкую, — кузнец отвечает, — Я тебе меч по силе, Всё боевое снаряженье И для коня убранство. Мог бы и судьбу тебе, витязь, Выковать, да не знаю, Будет ли полным счастьем Эта судьба твоя счастлива? Судьбы ковать людские — Очень мудрёная работа. Кончишь её — увидишь: Вышло не по замыслу творенье! А перековать невозможно — Это не кусок железа! Лучше бы такой заботой - Ты меня не связывал, витязь!» «Ладно, кузнец-судьбоковец, Выкуй мне сначала меч по силе. Если это дело одолеешь, Я буду рад и счастлив. Так я буду рад и счастлив, Что с любой судьбою смирюсь я, Всякую тогда приемлю, Чтобы у тебя ни получилось!» Взялся Славимир за работу. Первый и единственный в мире Выковал он меч для Святогора, Все снаряженье и убранство. Взял Святогор меч булатный, С полною силой размахнулся, Гору кремнёвую ударил Сильным замашистым ударом — Надвое гора разлетелась, Вот это меч — что надо! Радостен-счастлив—весел Гордый Святогор Неустрашимый. «Мне, — говорит он Славимиру, — С этим мечом горя нету, Беды не бедоносны! Дай мне судьбу любую — Будет никакая не в тягость!» «Я, — Славимир отвечает, — Вот уж её тебе готовлю!» «Что-то её не вижу?» «Тонкий кую я волос — Трудно его и увидеть. Да и о том ты подумай: Следует ли человеку Знать свою судьбу заране?» «Я — богатырь, не баба! Мне ли судьбе в глаза не глянуть?» «Славный богатырь могучий! Вот тебе судьба, Святогору: С огненным биться со Змеем И победить его в битве. После победы жениться, Витязь, тебе на девке, Коя тридцать лет пролежала В смрадном и душном гноище!» До Шибалы до Змея на Горынь на реку Донеслись до громоносца вести грозные: На Святых на горах Святогор-богатырь Восстал и обрёл силу прежнюю. Нет, не прежнюю, а сильнее он стал: Нынче есть у него неотразимый меч! Поднимался Шибало, на восток поглядел: Увидал богатыря там могучего, Узнавал Святогора да с булатным мечом. Загремел-загрохотал Змей-Шибало тогда: «Ведь не я ли его в битве громом побил? Кто же там под Святогора на коне летит? Да с булатным ещё богатырским мечом? Кто бы ни был, а я, я помчусь-настигну! Если это Святогор — я покончу с ним! Если это другой — пусть погибнет и он: Я громом побью, я огнем пожгу!» Полетел Змей-Шибало на задорный на бой. И принял от Святогора свой конец роковой. Службу верную, неизменную Сослужил Святогору Славимиров меч. Победил богатырь супротивника: Громового огненосца разрубил-распластал. Так закончился тот бой вековой! Победитель на битву не истратился, А с победой своей стал сильнее ещё. И растёт его сила, умножается. Святогор своей силой услаждается. На беду себе силой хвалится: «Нет нигде на земле, нет нигде под землёй, Нет нигде в поднебесной, нет нигде в небесах, Нет такого силача, как я, Святогор! Ох, куда мне истратить эту силу свою? На какую победу и в каком бою? А поеду-ка я к Славимиру опять! Пусть возьмётся мне он два кольца отковать! Я в земную твердь вкреплю одно кольцо! А другое вкреплю в твердь небесную! Я руками за кольца возьмусь-ухвачусь И с землей небеса я сведу-съединю!» То не гром гремит, богатырь летит. То не молния сверкает, блещет шлем золотой, Едет день, едет ночь удалец-молодец. Сторонятся перед ним звезды частые. Светлый месяц во сторону шарахается. Отстаёт от Святогора красно солнышко. Вот приехал Святогор в землю Сиверную. К Славимиру кузнецу заявляется! Просит он кузнеца отковать два кольца. Превеликие кольца да прекрепкие! Чтобы взяться руками мог за них Святогор И с землёй небеса друг ко другу примкнуть. Призадумался Славимир кузнец. А потом говорит Святогору он: «Я бы мог, богатырь, эти кольца сковать. Да сковать-то ведь не из железа их. Тягу надо земную — из неё их сковать!» «Где мне тягу земную отыскать-принести? Я готов это сделать — расскажи, Славимир!» «Погляди‚ Святогор, в поле чистое: Там по нивам-хлебам вон идет мужичок. Он несет при себе сумку маленькую. А в ней — тяга земная, в этой сумочке! Ты пойди-догони, мужика попроси. Если сумку он даст, ты сюда принеси!» Поскакал-полетел Святогор на коне Догонять мужика с сумкой маленькой. Думал он мужика в мах единый догнать, Мыслит мигом вернуться ин обратно — назад. Но случилось тут чудо чудное, Сдивовалося диво дивное: Он, мужик, хоть пешочком небыстро идёт, Святогор от него и на коне отстаёт: Отдаляется все дальше и дальше мужик. Самый быстрый скакун, самый быстрый ездок — Анда пешего в поле и не может догнать! Как обиду такую стерпеть-пережить? А и тут Святогор разъяряется, На коня своего рассержается; Бьет каурого он инда в кровь сечёт! Разъярённый богатырь будто гром гремит. На каурого Святогор кричит. Шибкой молнией небесной конь по полю летит. Только пешего, того чудесного И на борзом-летучем-богатырском коне Ездок мужика не догонит никак. Возмолился-воскликнул Святогор-скоролёт: «Гей ты, добрый человек, ты постой-погоди! Дай догнать мне тебя, слово вымолвить!» Вот и встал-подождал пешеброд ездока. Догонял-говорил Святогор ему: «Славный путник! Тебя на лихом скакуне Не могу я догнать! Кто ты? Мне скажи. Ведь могуч я, силён Святогор-богатырь — В поднебесной-вселенной нет противника мне! А с тобой состязаться оказался я слаб!» Говорил Святогору незнакомец в ответ: «Я — крестьянин, мужик, землепашец я! А зовут меня Микулой Селяниновичем». «Ты скажи мне, Микула Селянинович! Что несешь ты в своей этой сумочке?» «Я несу и ношу, Святогор, в суме Избавленье от бед человеческих. Это — тяга земная, это — ноша моя!» «Не отдашь ли ты, Микула Селянинович, Эту тягу земную не отдашь ли ты мне?» «Если сил твоих хватит, Святогор-богатырь, Ты бери и владей моей ношею!» Отстегнул суму Микула Селянинович, Положил на придорожный на камушек. Святогор поспешил, он с коня соскочил. Он к суме подбежал, он рукой ухватил. Колебнулась от ухватки мать сыра земля. Ан, сумочка! Не посдвинулась! Богатырь вокруг бьётся-мучается. А не может той овладеть он сумой. И совсем могучан из сил повыбился. Только тяги земной он не взял, не понёс! Позабыл Святогор тогда про кольца свои, И не хочет небеса да с землёю смыкать, Устыдился Славимиру и показываться! Как по чистому по полю по раздольному Богатырище едет Святогорище. Сила в нём всё растёт да прибавляется. А и сам Святогор выше каменных гор, Выше туч головой возвышается. Душит силища его непомерная. И не знает Святогор: куда силу девать? Уж от силы великой потемнел светлый ум. Чистым полем Святогор перебирается. А земля под ним вся колыхается. Уж нельзя ему ездить по святой Руси! Засыпает душа, дремлют чувства в нём. А дремотным сознаньем сознает ещё он: «Надо мне добираться до каменных гор! Уж не носит меня мать сырая земля!» На Святые на горы заезжал Святогор На огромном коне и сам — огромина. И растёт его сила, все растёт да растёт. А ненужная силушка, отжившая. Даже нет от неё плода-семени: Молодая жена Святогорова Ездит вместе с ним, а бесплодная. На плече в ларце, в золотом дворце Возит он её, ненаглядную. Было сказано Илье Муромцу‚ Пусть бы ехал он на горы Святогорские, Да нашёл-отыскал Святогора Илья, Получил от него Святогоров меч, Получил от него науку ратную, Во боях, во сраженьях побеждать врага. Вот идёт Илья по Святым по горам. Вдруг увидел он — не виденье ли? Перед ним гора высоченная: Выше облака она ходячего, Выше тучи она дождевой-громовой. Позакрыла гора небо ясное, Затенистила солнце красное. А не то ещё дивно Илье Муромцу: Не гора это была, богатырь матерой. Он бел, он сед на кауром коне. Едет, едет богатырь, а сам сном объят. «Эко диво, — говорит Илья Муромец, —— Богатырь-великан на коне сидит. На плече у него ин хрустальный дворец. А ведь едучи спит, на поездке храпит, Что от храпа листочки содрогаются! Ну-тко дай разбужу я его ото сна!» И непросто нагнать великана Илье: Великанский конь только шаг шагнет, А Илье на коне надо день скакать! Закричал тут Илья, разбудить хотел. Да не слышит богатырь — знай посапывает! Вдруг каурый конище задержался-встал. Илья Муромец великана нагнал. И ударил его со всего плеча. Он ударил булатною палицей. Спал и спит, и не слышит, и не чувствует Великан того удара богатырского. Собрал-напряг свои силушки И второй раз ударил Илья Муромец. Был могуч удар, беспощаден бой, Да опять не проснулся богатырь на коне! Тут Илья и совсем рассержается. Сверх сил, сверх мочи ударяет он По всаднику булатной палицей. Повернулся великан, приоткрыл глаза: «Ах, да то святорусский богатырь меня бил! А я думал: это комарики Налетели-укусили по три раза меня!» Отвернулся богатырь и вновь заснул. Перед тем хлестнул он каурого. Конь пошел, великанище скрылся из глаз. Не успел Илья и слова вымолвить. Вот стоит Илья, думу думает: «Это, видно, и есть Святогор-богатырь! Ну ин как мне с ним да ещё встретиться? Ну ин как мне с ним да разговор начинать?» Вот едет Илья по Святым по горам. Наезжает млад на дуб на раскидистый. Дуб велик и разлапист, он полнеба закрыл: Стольный город в тени затенился бы! А под дубом не город, а раскинут шатёр. На-убел-бел шатёр белёшенек! По краям красно шит-повышит весь, А по кромочкам тонко выстрочен, А у входа лежит дорогой ковёр. Подивился Илья чистоте-лепоте. Да убранству всему красовитому. «А и кто такову чистоту блюдёт? Не мужское, видно, делышко, а женское!» Отпустил млад коня богатырского На зелёный на луг, на траву-мураву. Сам зашёл поглядеть он во бел шатёр. На кирпичном полу — ковры шёлковы. Да стоят там столы белодубовы. Да кроватища богатырская. Одолел Илью неотвязный сон. Он хозяина не ждал, не спрашивал: Повалился спать на широку кровать. Н проспал во прохладе трое суточек. На четвертый день поднимался гул Из-под северной под сторонушки: Мать-сыра-земля заколебалася, Темны лесушки пошатнулися, А вода из морей-рек повылилась. Да Илья-то не слышит: крепко спит во шатре. А тут добрый конь, Ильин бурушко, Проязычил языком человеческим: «Ай же ты, Илья, добрый молодец! Уж ты спишь-лежишь, не пробудишься. А невзгоды над собой ты не ведаешь: Воротился домой Святогор-богатырь! Тебе биться с ним, воевать нельзя. А за твой самовол он убьёт тебя! Ты спущай-ко меня в поле чистое, Сам на дуб залезай густолиственный!» Восстал Илья на ноги резвые. Отпускал коня в поле чистое. Залезал на дуб, во густу листву. Подъезжал ко шатру богатырь-гора. На плече у него да хрустальный дворец На вечернем на солнышке поблескивает. Он хрустальный-блистальный с прозолотинами. Вместо крыши на дворце — восемь башенок, башни яхонтами изукрашены, Дорогими-редкостными самоцветами. Снял с плеч Святогор свой хрустальный дворец. Отмыкал его золотым ключом. Выпускал жену богатырскую. От блистательной от женской красоты-лепоты Побледнело на небе красно солнышко. Потускнели на дворце прозолотины. И поблекли все камни-яхонты. Очи ясные, брови чёрные; Поглядит-сверкнёт — огнем прожжёт! Загляделся Илья — и кругом пошла От красавицы головушка буйная! Заходила в шатёр молода жена. Вынимала она скатерти браные. Накрывала столы белодубовы. Выставляла все яствушки сахарные. Наливала меды она стоялые. Святогор с женой усладилися. Пили-ели они, веселилися. Час пришёл, Святогор повалился спать. Не уснула жена богатырская. Из шатра выходила красавица. Обдувала шатёр она, обмахивала. Опахалом кругом все опахивала. Скорым временем дело сделала. Потянуло красавицу одной погулять. Вот гуляет она да всё раздумывает. На земле следы да всё разглядывает. И, гуляючи, она повысмотрела На сыром дубу Илью Муромца. Подходила к нему, заговаривала. Да с дубочка сойти все заманивала. Илье с дуба сойти инда хочется. Прогневить Святогора он опасается! А красавица стоит, привораживает. Да угрозой ему поприграживает: «Ты сходи, не тяни, добрый молодец! Проведи час весёлый со мной, молодой. Буде ты на мой зов не откликнешься, Разбужу пойду Святогора я! Разбужу да скажу, будто ты, молодец, Ввел во грех меня да насильственно!» Что тут делать Илье с этой бабою? И слезал Илья с дуба древнего. Час весёлый провел со Святогорихой. Тут бы сесть Илье на добра коня, Ускакать-улететь ему прочь от греха. Да красавица богатырёва жена, Забрала она и с конём Илью, Посадила ко мужу во глубок карман. Разбудила Святогора от крепкого сна. Просыпался Святогор, запирал жену Во дворец голубой да на ключ золотой. Ставил груз дорогой на плечо себе. И поехал он по Святым по горам. Богатырь на коне забывается. Ото сна, от дремоты он качается. Добрый конь под ним спотыкается. И очнулся Святогор и бранит коня: «Что ты, волчья сыть, травяной мешок? Ты с чего это ныне спотыкаешься?» Отвечал-говорил Святогору конь: «А дивья ли мне спотыкаться-то? Опереж я возил, Святогор, тебя Да жену твою богатырскую. А я нонь вожу и тебя, и жену, Да ещё богатыря с богатырским конем!» И вытаскивал Святогор тогда Из карманища Илью Муромца. Он выпытывал, он выспрашивал: Кто он есть, Илья, как попал сюда? Илья Муромец не скрывается; Правдой-истиной изъясняется. Охватил Святогора неистов гнев. Вот становит на землю он хрустальный дворец. Выпускает жену свою изменницу. Он разгневанный, он рассерженный. Он готов снести ей буйну голову, Разорвать-раскидать тело белое. Пожалел Илья ту красавицу. «Погоди, Святогор, лютовать-казнить! Мы рассудим это дело на иную стать. Ты поставь жену впереди себя. Ты возьми, Святогор, в руки лук тугой. Ты пусти в жену калену стрелу. Ты пускай стрелу, заговаривай, Чтобы пала стрела на младу жену. А я буду стрелу отговаривать, Чтоб красавицы она не трогала. Чьё сильнее слово, то и верх возьмет!» Согласился Святогор на такую казнь. Он повёл жену на широкий дол. Он поставил её впереди себя. Калену стрелу на лук накладывал, Он гневный наговор наговаривал: «Ай же ты моя калена стрела! Ты лети, ты пади, стрела перёная, Ты — не на воду, ты — не на землю, Не на дерево, дуб кряковистый, Не на гору упади твердокаменную. Ты пади, ты лети, калена стрела, На мою на жену на неверную. Ты пади жене на грудь белую, Разорви у жены сердце с печенью!» Святогор стрелу заговаривал, А Илья стрелу отговаривал: «Ты лети, ты лети, калена стрела, Ты на воду пади, ты на землю пади! Расщепи, стрела, дуб кряковистый! Разорви, стрела, гору каменную! Ты минуй, стрела, молоду жену, Сохрани у неё сердце с печенью!» Натянул тетиву Святогор-богатырь, Выпускал стрелу в молоду жену. Полетела-запела калена стрела; Загудела по воздуху перёная. Залетела стрела, пала быстрая И на воду она, и на землю она. Попадала стрела в дуб кряковистый, Угодила на гору на каменную. Расплескала стрела воду брызгами. Подняла её тучей до неба. Пролилась вода проливным дождем! Раскопала стрела, землю в пыль разнесла — Стало озеро тут глубокое! Расщепила стрела дуб кряковистый, На лучиночки, да на щепочки. Угождала стрела в гору каменную — Раскололась гора, в песок рассыпалась. Молоду жену стрела не тронула! Оставалась жена невредимая. Святогор-богатырь не озлобился — Он отвёл свой гнев, успокоился. «А живи ты, жена, ты неверная, Ты живи без меня, как надумаешь! Только я тебе с этих пор не муж! Я не муж тебе, я с тобой не жилец!» На коней богатыри посадилися. И отправились в поездки богатырские. Святогор-богатырь с Ильей Муромцем Поменялись крестами нательными. Назывались они братьями крестовыми. Старший брат — Святогор, младший брат — Илья. На коне старший брат призадумался, Замолчал-поник-пригорюнился. Снова сон на него неодолимый напал. Илья Муромец с него сон прогнал. Святогора Илья снова в чувство привел. «У меня судьба, — говорит Святогор, —— Непонятная-вероломная. Счастье я нахожу, где его не ищу. А теряю его, где потери не жду! Мне женитьбу в судьбе предсказал Славимир, Что на гнойной девице жениться мне. Ну вступил я в бой да с такою судьбой! Сам себе я задумал задуму: Заявлюсь я в Поморское царство, Я найду при дороге избу, Ту худую-гнилую развалюшку. Я убью ту невесту-гнойницу: Не бывать ей Святогоровой женою! Пусть умрёт во своем она гноище! Как задумал я, так и сделал. Расспросил-разыскал пути дороги. И приехал я в Поморское царство. Вот нашёл я то придорожье. И наехал на убогую домину. Покосилась домина, покривилась. Как старуха, набок привалилась. Попросела на ней ветхая крыша. Поросла-задернилась травою. Я зашел в эту ветхую домину. В полумраке никого не увидел. Огляделся, узрел я ложе. А на нем ту девицу во гноище. Почернело в коростах тело. Как еловой корой оно покрыто. Вот она, вот она, моя врагиня — Про себя я стоял и думал — Так не быть же тебе моей женою! Закипело-возъярилось сердце. Вынимал я новый меч Славимиров. И во всю свою яростную силу Я по девке-гнойнице ударил. Не хотел я глядеть на останки, На убитую я не глянул. Рад был только, что с нею покончил: Ещё не было воина в мире, Ещё не было брони и кольчуги, Чтобы меч мой, или нож булатный, Одним махом на две половины Супротивника не раскроил бы. А и этот удар по наречённой, Но противной и гадкой невесте, Был по силе неимоверен. Столько ненависти вложил я, Что померк у самого мой рассудок. Закачалась домина от удару. Зацепил я за что-то в поспешке, И сорвал я с рукоятки камень-яхонт. Загремел он по кирпичному полу. А мне было тогда не до камня. Я вскочил на коня и уехал. Как прошло поры-времени три года. Проезжал я по граду Святогорску. На базарной на площади вижу: На торжище народ собрался. Посреди того скопища людского Иностранная-заморская купчиха Разложила дорогие товары. У купчихи несметное богатство! Да народ на богатство не смотрит: На купчихину красу все дивятся. На купчиху-красавицу я глянул И покою с того взгляду лишился. Ох, куда я ни пойду, ни поеду, Всё прелестная стоит перед глазами. Все о ней только помыслы-думы, О красе о еённой несказанной. И терпенья у меня недостало: Я к прелестнице чудесной явился И сказал, что хочу на ней жениться. А она засмеялась, согласилась. Этот смех уязвил мою душу. Да согласье моё разум замутило. Мы не стали долго думать да медлить: Тем же днём поспешили-обвенчались. Утром рано с женой проснулся. Поглядел ей на белые груди, Усмотрел между ними рубчик И спросил я супругу молодую: «Что за рубчик на груди твоей, Пылавна?» Вот она мне что на это рассказала: «Я родилась когда-то? Не знаю! Помню только одну свою хворобу: Тело тридцать лет лежало во гноище! Вдруг невед человек появился. Плохо видела его и не помню. Но одно мне в память запало: Он вошел ко мне и чем-то размахнулся. Что-то яркое в руках его блеснуло. Что-то болью мне грудь резануло. Я от боли и сознанье потеряла. А потом, когда я очнулась, То здоровой была и весёлой. Так отстала от меня хвороба. С тела белого короста спала, Как еловая кора отвалилась. На груди свежей-алой кровью Невеликая рана сочилась. И от этой-то раны — рубчик. Я не знаю, кто был мой избавитель; Избавитель тот да исцелитель. На полу отыскался камень-яхонт. Продала я его и на деньги Накупила много разных товаров. Начала торговать, разбогатела. Нажила золотую казну бессчётну. Корабли понастроила червлёны. По морям я поездила разным. Побывала во многих дальних странах. В славный град Святогорск попала. Тут нашла я тебя — свою судьбину!» Вот такой-то, мой меньший братец, Рассказала сказ жена молодая. И дознать бы мне тогда да понять бы: Что ин мне от судьбы своей не скрыться, Ни мечом от неё отрубиться! Ан я взбунтовался душою! И за меч я уж было схватился! Зарубить её, Пылавну, устремился. Да ведь только на меня она взглянула, Потушила во мне всю ярость, Пуще прежнего любовь воспылала. И остыл мой гнев, и заглохла Моя ненависть огневая. Да заглохла-остыла не навеки! Вспоминаю только про смех её весёлый, Он покажется мне насмешкой: Что смеётся-де она надо мною, Что к больной к ней с мечом явился, Хоть скрываю да не признаюсь я. И живет в душе моей рядом Злая ненависть с горячей любовью. Любовь, ненависть да третья — ревность. С каждым днём все больше стало мне казаться, Что она от меня уйдет к другому. А тогда я дворец построил. Я построил дворец хрустальный. Золотыми запорами запер В нём свою жену молодую. И возил на плече его и думал, Что себя оградил от измены. А вот сам привез свою Пылавну, Сам привез её на измену!» Обучал Святогор Илью Муромца Богатырским-военным ухваточкам, Боевым удалецким поездочкам, На коне молодецким посадочкам. Илья Муромец — он переимчивый, Превзошёл все науки богатырские, Перенял все обычаи ратные. Научился он нападать на врага. Нападателя сам приспособился Отбивать-отражать, миг удачный словить, От меча уклониться уклончиво, От стрелы увернуться увертливо. По далёким окраинам, по святой Руси Полякуют два братца крестовые. Да с того ли с полюшка великого Отражают набеги степняковские. Степняки-враги-супротивники Стали тише воды, стали ниже травы. Вот однажды Илья да Святогор-богатырь — Проезжали они по Святым горам. Вдруг узрели там страшенный гроб, Велику гробовину, великующую. А на ней была надпись понадписана: «Как кому суждено по судьбине своей Во гробу сем лежать, тот и ляжет в него!» Расшутилися братья крестовые. Принимались они оба с роком играть. Оба с роком играть да судьбину пытать. Положился во гроб Илья Муромец. Домовина ему велика пришлась: Широка-глубока, во длину длинна. Тут пришёл и Святогору для игры свой черёд. Подошел он ко гробу да и замер над ним. Сердце дрогнуло, оробела душа. И сказал Святогор: «Тут погибель моя! Это здесь меня настигает судьба! Отойти ли отсюда? Устрашиться ли? Отдалить ли ещё свой последний миг? Нет! Не дело это будет богатырское! Святогор Неустрашимый был бесстрашен всегда. И с бесстрашьем своим я в этот гроб ложусь!» Положился во гроб Святогор-богатырь. Гробовина всем по нему пришлась! И с задором воскликнул Святогор Илье: «Точно он про меня, гроб-то, делан, Илья! Ещё крышку возьми-кось да накрой ты меня!» Отвечал Святогору Илья Муромец: «Не возьму-ка я крышки! Не закрою тебя! Шутишь шуточку, братец, немаленькую — Сам себя хоронить взялся заживо!» Рассердился на меньшего старший брат: «А твоя, Илья, не богатырская речь! Не боюсь я, Илья! Не пугай ты меня! А бери давай крышку да накрой ты меня!» «Не возьму я этой крышки, не накрою тебя!» Приподнялся из гроба Святогор-богатырь. Ухватил он ту крышку и закрылся в гробу. И прихлопнулась крышь белодубовая — У Ильюшеньки сердце дрогнуло: Прилегла та крышь да прижалася, И незримыми корнями в гробовину вросла. Бьётся-силится Святогор под ней, А не может встать-приподнять её. И бесстрашье его тут покинуло. И взмолился Святогор к Илье Муромцу: «Ай, ты младший брат, помогай-иди — Поискала-нашла, знать, судьбина меня! Не могу я встать, крышки этой поднять!» Подбегает-спешит Илья Муромец: Рвётся крышку сорвать, да не может Илья! Говорит тогда Святогор-богатырь: «Ты возьми, брат Илья, ты мой меч-кладенец! Ты разбей тем мечом этот гроб роковой!» Илья Муромец за меч принимается. Да ему не под силу совладать с мечом! Говорит тогда Святогор ещё: «Наклонись ко мне, к малой щёлочке, Богатырским духом я дохну на тебя — Твоя сила от него поусилится!» Наклонился Илья. И дохнул Святогор На него богатырским своим духом живым. И вздохнул Илья Муромец от духа того. И легко в руки взял и поднял меч. И ударил по крытью гробовому Илья. Искры огненные пробрызнули. Только крышка гробовая не рассеклася. А по месту-то по ударенному Вырастала полосища железная. Святогор во гробовине задыхается. Громче прежнего он взывает к Илье: «Душно, душно мне, мой крестовый брат! Ударяй ты сильнее по гробу мечом!» Ударяет Илья из всех своих сил. Искры огненные сыпом сыплются. Да крытьё деревянное-дубовое Не берёт, не сечёт Святогоров меч. После каждого удара вдоль по месту тому Пояс толстый-железный накладается. Святогор во гробище задыхается: «Наклонись ты, Илья, ещё ко щёлочке, Передам я тебе всю свою силушку!» «Будет силы с меня и тоёй, что есть! А не то, Святогор, мать сырая земля На себе перестанет носить меня!» И сказал Святогор последним голосом: «Хорошо ты решил, мои брат Илья, Что наказа не послушался последнего, Что на силу мою не позарился. То не я говорил, то вещал мертвый дух. Мертвым духом пахнул я б тогда на тебя! И упал бы ты мертвецом от него! А теперь прощай, богатырь Илья! Ты владей мечом-кладенцом моим! То испытанный, то победный меч! Уж такого другого Славимир не скуёт! А теперь мне легко, легко становится. И ликует душа моя счастливая. Я над роком победу всё же праздную —— Не совсем ведь из мира я сего ухожу! Сам замену себе я повыучил. Сам свой дух передал богатырский тебе, Своей волей вручил тебе оружьице! Володей, братец мой, век моим мечом! А коня моего богатырского Привяжи ты, Илья, ко могиле моей. Совладать-то с ним, окромя меня, Не сумеет никто во вселенной всей!» Так сказал Святогор и замолк навек. Изо всех щелей пошел мёртвый дух Со кровавою красной пеною. И стоит над могилой Святогоровой Опечаленный Илья Муромец. На грудь буйна голова опустилася. Очи ясные заслезилися.Вольга богатырь вещий
Свет осветил небо тёмное: Месяц и светлый, и ясный блеснул. Звёзды рассыпались яркие. В Киеве родился могуч богатырь. Вся продрожала сырая земля. Дрогнуло царство Сантальское. Синее море всколебалося. Тёмные леса приклонилися. Воды из рек-озёр повыли́лися Ради рожденья богатырского Молодого Вольги Всеславьевича: Звери ускакали в дремучие леса, Змеи уползли в горы каменные, Птицы улетели за облака, Рыбы уплыли в синие моря. Вольгина родимая родительница — Хочет она сына вертеть-пеленать. Вольга-то, он да противится, Матери перечит, возговаривает: «Ты не пеленай меня, матушка, В эти пелёночки шелко́вые! Ты не пояси меня, родимая, В эти пояса золочёные. Лучше ты, матушка, надень на меня Доспехи-латы богатырские!» Мать содрогнулась-ужаснулася, Сердцем вострепенулася. Хочет надеть на мальчика Малый колпачок земли греческой. Вольга головёнку повёртывает: «Не надевай ты мне, матушка, Этот колпачок земли греческой! Лучше надень богатырский шлем! В правую рученьку мне вложи палицу трёхсотпудовую. В левую — плеточку шёлковую». Мать перепугалась-встрепенулася. Чада не насмелилась ослушаться: Вольгу в пелёнки не пелёнывала. Латы надевала богатырские, А на головку — золочёный шлем. В правую руку дала палицу, В левую — плёточку шелковую. В ноги — копьё бурзамецкое. В головы — седёлышко черкасское. Стал он, Вольга, растеть-матереть. Отроку, а тайностей-мудростей Много узнать похотелося: В синее небо за облака Соколом-птицей залётывать! Щукою-рыбой в морях ходить! Волком по заполицам порыскивать. Львом по лесам порыкивать. На семь лет задавался Вольга Всем обучиться мудростям. Двадцать лет проучился он! Добрую дружину хоробрую Выбрал себе он богатырскую: Тридцать молодцов без единого. Сам становился во тридцатых он! Тридцать жеребчиков выбрал Вольга. Тридцать некладёных-нелегченых, Всех тёмно-карих — один к одному. Выстроилась дружинушка. Латы на молодцах поблёскивают. Блёстки-железки позвякивают. Кони копытами о землю бьют. Выехал Вольга Всеславьевич: «Здравствуй, дружинушка хоробрая! Слушайте братца большего! Делайте дело повелённое: Вейте веревочки шелко́вые. Сети-силочки плетите вы, Ставьте в дремучем-частом лесу. Вы наловите лисиц да куниц, Диких зверей, чёрных соболей. Белочек серых, горностаюшков, Тех поскакучих серых зайчиков. В сети ловите вы по три дня! По три дня, по три ноченьки!» Слушали братцы младшие То приказаньице старшее: Вили верёвочки шелко́вые. Сети-силочки наплётывали, В темных лесах понаста́вливали. Ждали-ловили по три дня, Недосыпали по три ноченьки. А и ни единой зверюшечки Не наудачили, не выловили. Сам вышел Вольга Всеславьевич. Да и обернулся рыкучим львом. Да и поскакал по лесным местам, По перелескам, по опушечкам. И по трущобам, и прогалинам. Стал он зверьё из лесов выгонять Из потаённых-укрытых мест. «В сети-силки заворачивать Белок-куниц, да бобров, да лисиц; Зайчиков, чёрных соболей, Маленьких горностаюшков. Сети-силки переполнились. Славно дружинушка натешилась. Весело вернулася в Киев-град! Отдыху Вольге не надобно. Дело задумал он новое: «Добрая дружинушка хоробрая! Слушайте братца большего. Делайте дело повелённое: Конского готовьте волосу, Да сильё плетите петлистое. Малое-большое-ловитвенное. Ставьте силки, несите силышки В тёмный лес да на самый верх. Соколов ловите, гусей-лебедей, Селезней да серых утушек. Малую птицу и большую, Разную залётную пташицу!» Слушали старшего младшие. Делали дело повелённое. Петли-силки навязывали. Ставили в лес да на самый верх. Ждали-ловили по три дня. Бдили — не спали по три ноченьки. Да и не единой пичужины В хитрое сильё не повыловили. Вышел тут Вольга Всеславьевич. Сам повернулся птицей орлом. Да и полетел по подоблачью. Стал заворачивать гусей-лебедей, Соколов ясных, серых утушек. Малую птицу и большую. Разную пернатую пташицу. Дополна силки переполнилися. Славно дружинушка натешилася. Весело вернулася в Киев-град. Отдыху Вольге не надобно. Новое он дело задумывает: «Добрая дружинушка хоробрая! Слушайте вы братца большего. Делайте дело повелённое: Нынче возьмитесь за топоры. Стройте суденышки дубовые. Тките-вяжите неводы, Разные путёвья шелко́вые. Да и поезжайте в море синее. Рыбу ловите белужинку, Окуня-плотичку-щучинку. Да и дорогую осетриночку. Ловлю продлите по три дня: По три дня, по три ноченьки!» Слушали братья, старалися. Брали топоры дроворубные. Строили суденышки дубовые. Неводы-путёвья изготовили. В море выплывали синее. Ждали-ловили по три дня. По три дня, по три ноченьки. А и не поймали ни рыбёшеньки! Вышел тут Вольга Всеславьевич. Сам обернулся щукой-рыбою. Да и нырнул в море синее, Рыбу заворачивал рыбистую Окуня-щучку-плотиночку, Да и дорогую осетриночку. Неводы-путья переполнились. Славно дружинушка натешилась. Весело вернулася в Киев-град. Славному Вольге Всеславьевичу Нету ни сроку, ни отдыху; Ни утомленья от дела-забот. Снова собирает он дружинушку: «Добрая дружинушка, хоробрая! Будет нам тешиться по тёмным лесам! Полно нам рыскать по чистым полям! Хватит нам плавать по синим морям! Важное дело пристрело к нам. Надо поехать проведчиком, Надо разведать-узнать-напытать, Что там Сантал царь задумывает? Выбрать кого нам разведчиком? Даньку послать, так долго ждать. Данька силён, да увалень! Саньку послать, так вином запоят: Зря пропадет там без догляду! Васеньку ли молодшего? Васенька — он хоть и мал, да удал. Только и Васеньку послать нельзя: Он на красавиц позарится — С девицами распотешится, С красными разыграется, Будет его нам долго ждать! Видно, мне, Вольге, самому идти!» Тут обернулся Всеславьевич Малою птицею-пташицей‚ Быстрой-залётной ласточкой. Только его и видели! В ту ли Санталью богатую Перелетел он море синее. К царским палатам белокаменным Сел у открытого окошечка. Слышит он — царь говорит жене: «Красная Елена Панталовна! Знаешь ли ты да ведаешь ли: Нынче на Руси не по-старому, Все на святой не по-прежнему — Цветики там не порасцвели, Травы на лугах не повыросли. Знать, на Руси Вольги вживе нет! Нынче Сантал, я храбрым стал. А и не боюсь выйти с боем на Русь! Девять городов там возьму-покорю! Девять сынов я своих одарю! Я тебе, царица Панталовна, Шубу привезу драгоценную!» Красная Елена Панталовна, Так она Санталу ответствовала: «Слушай ты, глупый ты, царь Сантал, Лучше тебя я знаю-ведаю: Травы на Руси растут по-прежнему! Все цветы цветут по-старому! Вживе-здорове богатырь Вольга́! Ночесь во снах мне привиделось, Будто с восточной сторонушки Малая птаха выпархивала. С западной сторонушки сизый орёл Ей да навстречу вылётывал. Пташка восточная-малая Западного великого Сизого орла повыклёвывала, Пёрышки-перья повыщипала, Все их по ветру повыпустила!» «Гой ты, царица Панталовна! Видишь ты сны неразумные! Глупые сны все несбыточные: Пташке ли орла-то повыклевать? Мне-ка в Санталье и заботы нет За неприступной укрепою. Море кругом непроплывное. Горы везде непроходные. Щука по морюшку не проплывёт! Дикий олень по горам не пройдёт! Надо, я на Вольгу с битвой пойду! Этого Вольгу в полон возьму!» Выслушал Вольга такой разговор. Быстро к дружинушке вернулся своей: «Добрая дружинушка хоробрая! Будет вам без дела спать-отдыхать!» Вывел тут Вольга Всеславьевич К морю Сантальскому дружинушку. Буря на море буреванная. Море от бури неприступное. Вольгины молодцы кручинятся. Сетуют-печалятся-поохивают. Буря да ветер их потряхивает. Жалуется Вольге дружинушка: «Тут потерять нам буйны толовы!» Вольга над дружиной насмехается: <Старые бабы вы, запечные! Утлые старухи вы, хилые! Нет богатырской в вас смелости! Вам бы у печки горшенничать! Вам у колодца портомойничать! Бабские лясы вам по-бабски точить, Бабскими хихиками зубы калить!» Вымолвил слово ко времени Вольга удалой Всеславьевич. Сам обернулся он щукою. Молодцев щурятами всех обернул. В море дружинушка плеснулася, Струи проплыла непроплывные, В царстве Сантальском оказалася. Горы перед дружиною Встали грядой поднебесные. Скалы-утесы недоступные. Белые вершины на солнце блестят, Острые в тучи уткнулися. Вольгиных молодцев страх пробрал: «Тут потерять нам буйны головы!» Вольга в ответ рассержается. Он над дружиной насмехается: «Старые бабы вы, запечные! Утлые старухи вы, хилые! Где же ваша удаль молодецкая? Где же ваша доблесть богатырская? Где ваша смелость русская?› Славный Вольга́ Всеславьевич Слово своё молвил ко времени. Сам обернулся оленем он. Молодцев сделал оленятами. Мчатся-несутся между гор Быстрые олени тонконогие, Стройные-златорогие. С выступа на выступ перепрыгивают. Скалы и камни перемахивают. Щели-ущелья перелётывают. Перескакали горы каменные. Сделались олени дружиною. А перед нею тут лес до небес. Добрая дружинушка хоробрая На переходе поизмучилась. На перелёте изнурилася. Сон одолел добрых молодцев. Спит она, дружинушка, да Вольга́ не спит. Волком Вольга́ оборачивается. Много насгонял-понабил зверья. Снова обернулся добрым молодцем. Тёплых шкур да мехов наснимал. Взялся кроить да и шубы шить Куньи-лисичьи-соболиные. Сшил да укрыл-одел дружинушку! Только он с делом покончить успел, Тут и поднялась непогодица. Ветер подул-запорывничал. Вьюга завыла-запосвистывала. Тут бы и помёрзнуть дружинничкам, Выручили шубоньки тёплые! Крепко дружинушка похрапывает. Спит она, дружинушка, да Вольга́ не спит. Снова он птичкой-ласточкой Вылетел в столицу Сантальскую. Снова он Сантала подслушивает! «Гой ты, Елена Панталовна! Я собираюсь на святую Русь! Девять городов отобью-возьму, Я одарю ими девять сынов, Стольный Киев под себя склоню!» Держит ответ Панталовна: «Нет, не взять тебе, царь Сантал! Ни девяти городов для сынов! Не склонить тебе ни Киева! Ночесь спалось, во снах виделось, Будто с восточной сторонушки Выбежал золоторогий олень. Будто ещё с западной сторонушки Выскочил полосатый тигр. Тигр на оленя прыгнул-пал, Только олень не поддался ему. Тигра олень наземь свалил. Голову тигру копытом разбил, Волос за волосом повыщипал, Все волосинки по ветру пустил!» «Ах ты, царица Панталовна, Видишь всё сны безрассудные! Это невиданно-неслыханно, Чтобы олень да тигра побил! Наша Санталия богатая — Ни для кого не доступна она: Тёмные леса вокруг стоят, Топи-болота непролазные. Звери рыскучие их не пройдут. Змеи ползучие не проползут. Птицы летучие ласточки Через леса непроходимые, Через чащобы непроглядные — Даже и те не перелётывают! Скоро я выступлю Русь воевать! Есть у меня войско несчисленное. Лошади-кони есть борзые. Сабли-мечи есть острые. Палицы накованы булатные. Луки тугие-верные. Стрелочки нервные-калёные!» Вольга Всеславьевич с окошечка Речи Санталовы повыслушал. Перелетел на земелюшку. Сделался маленьким кротиком. Норы подкопал он в горницу. Выбрал ходы в оружейницу. Сделался Вольга горностаюшкой. Луки тугие повыломал. Сабли-мечи он повыщербил. Палицы булатные дугой согнул. Сам оборотился, волком стал. Юркнул на двор по конюшенкам. Добрых коней всех поперебрал. Глотки у коней поперервал. Сам оборотился ласточкой Да и прилетел ко дружинушке: «Добрая дружинушка хоробрая! Полно-ко вам, братцы, спать-почивать!» Встала дружинушка, двинулась. Вырос перед нею заморский лес. Там и болота топучие. Топи-трясины зыбучие. Зверь там поскакучий не проска́кивал. Гад поклевучий не пропа́лзывал. Не оробели дружиннички: «Лес — это дело привычное. Просеки мы там повырубим. Корни-деревья повыкорчуем. Сделаем дело — куда хочешь пройдём. Топи-болота повысушим. Стлани нарубим, повыстелим. А и по болоту куда хошь пройдём!» Вольга дружине выговаривал: «Лес нам рубить, так нас будут бить! Топи сушить, так нас в них топить! Надо нам быстрыми ласточками Перелететь, когда враг не ждёт!» Вольга молвил слово ко времени. Сам обернулся быстрой ласточкой. Ласточками сделал и братцев всех. Ласточки взвились туча тучею. Перевалили дремучий лес. Прямо перед войском Санталовым Добрыми молодцами славными Сели да и обернулися. С ходу-прилёту и в бой пошли! Войско Санталово опешило. Кинулись санталовцы к добрым коням — Добрые кони все загрызены! Войско за луки схватилося — Луки тугие переломаны, Шелковы тети́вочки все порваны. Войско схватилось за сабли-мечи — Сабли-мечи все повыщерблены Войско Санталово — за палицы, Палицы булатные все погнуты! Не с чем санталовцам в бой идти! Кинулись ратники кто куда! Вольгины воины их колют и бьют. Гонят-воюют, в полон берут. Вот и столица Санталова. Вольгина рать на привал пошла. После перелётов-переходов-боёв Стало дружинушку в сон клонить. Спит уже дружинушка хоробрая. Спит она, дружинушка‚ да Вольга не спит. Как обернётся ясным соколом. Да как полетит по заоблачью! Плохо пришлося гусям-лебедям, Селезням, серым утушкам. Вольга на пропитаньице Много понабил для дружины своей. Сам обернись лёгкой ласточкой, Да и — ко дворцу ко сантальскому. Сел на окошечко и слушает — Царь Сантал похвалялся: «Слушай, Елена Панталовна! Вольгу я скоро мечом посеку! Вольгину дружину конём потопчу! Сам я помчусь на святую Русь, Девять городов отвоюю там. В Киеве на царство сам воцарюсь!» «Глупый ты глупый, царь Сантал! С Вольгой тебе ведь не справиться. Вольга-то вот уж стоит у ворот!» С места поспрыгнул царь Сантал. Криком на царицу он закричал, Топотом по полу затопотал. В правую щеку её, в левую бьёт. За косы хватает он Панталовну. На пол кидает на кирпичный её. Топчет царицу, приговаривает: «Старая ты ведьма, болтливая! Вольге, не мне, ты желаешь добра! Только я Вольгу мечом посеку! Вольгину дружину конем потопчу! Сам покорю себе святую Русь! Стольный я Киев взятьём возьму! Вольге столицы моей не брать! Крепость у нас вокруг прочная. Каменные стены толстенные. Ворота тяжёлые железные. Крючья-засовы медные. Сверху-то стены — рыбий зуб. В стенах самострелы поставлены. Стрелы смертельные-отравленные Сверху и снизу бьют-простреливают! Людям проходу во столицу нет. Птицам пролёту не находится! Только на стыках каменных стен Есть невеликие щелочки. В первую щелочку мураш проползёт. Капля воды во вторую протечёт. В третью — только мысль человеческая!» Вольга повыслушал, с окошка вспорхнул. В стан прилетал да братцев будил: «Добрая дружинушка хоробрая! Полно вам, братцы, спать-почивать! Царь Сантал — он не спит, он бдит! Русь намеревается всю покорить! Вас до единого конём потоптать!» Вскинулась дружинушка дружная. Двинулась дружинушка за Вольгою. Вот она, крепость укрепная. Стены стоят твердокаменные. Приступу к стенам высоким нет. Смертными да отравленными Бьют самострелы стрелами. Сильно дружина опечалилась: «Как нам будет стену пройти? Видно, потерять тут головушки!» Охает, вздыхает дружинушка. Вольга те охи подслушивает, Сам над дружиной насмехается: «Старые бабы вы, запечные! Утлые старухи застарелые! К тыну подошли огородному —— Тына перепугалися! Всё богатырство ваше в дрожь пошло! Как нам стену-крепость пройти? Дело-то это невеликое: Есть там на стыках каменных стен Три небольшие щелиночки. В первую мы муравьём проползем. В щёлку вторую каплею Мы просочимся, дождинкою. В третью — мыслью человеческой!» Вольга Всеславьевич догадлив был, Слово он молвил ко времени. Вместе с дружинушкой хороброю В щелочку малую прополз муравьём. В щелочку другую — каплею. В третью проникли щелочку Мыслью они человеческой. Вот и стена твердокаменная, Крепость Санталова пройдена! Вольгины воины в бой пошли. Взялся и Вольга за сабельку. Смелая дружинушка дружная Скоро ко дворцу прорубилася. Царь Сантал запобегивал. Вот на замочки на крепкие, Вот на запоры на железные, Вот на засовы на булатные Прячется-запирается. Вольга на ту пору-времечко —— Он уж и ворвался во тот во дворец. Двери-пороги норой распинал. Крепкие засовы кулаком разбивал. Вот он, и Санталов покой перед ним. Царь Сантал от Вольги пятится. Падает-корячится-прячется. Взял его Вольга Всеславьевич, Брал-поднимал за кудри чёрные, Выше головы его подкидывал Да и ударял о кирпичный пол. Тут ему, Санталу, и конец пришёл. Вольга повернулся в Киев-град. Слава прошла о нем великая!Вольга и Микула Селянинович
По полям, по лугам, по широким степям, По всему по раздолью по русскому Едет Вольга князь собирати дань. Едет Вольга князь за получкою. Проезжает со дружиной, слышит пахаря: Где-то пашет он да покрикивает, В поле сошка, слышно, поскрипывает. Самого-то ратая не виднушко. И поехал по слуху князь на пахаря. Едет уповод[9]‚ едет Вольга два, Едет целый день да и до вечера. А не может он до пахаря доехати. Только слышно — ратай в поле: пашет он. Едет Вольга день, едет Вольга два, Поспешает на всю прыть лошадиную. А не может догнать в поле пахаря! Ино третьим днем князь увидел его: Ин орет в поле пахарь, понукивает, На лошадку свою он покрикивает. Сошка ра́таева да поскрипывает. А о́мешки по камешкам почиркивают. Ведёт пахарь бороздку немаленькую В край уедет, с другого не видать его! Начинает ора́тай бороздочку — Он у тёплого моря полудённого. А кончает ора́тай бороздочку У холодного моря полуночного. Пашет пахарь, бороздки помётывает. Он каменья-коренья вывёртывает. Небольшие камешки валит в борозду. А большие каменюги он стеной кладёт. А кобылка у ра́тая соловая. Ещё сошка у ра́тая кленовая. Лемеха-сошнички все серебряные. Вожжи шёлковые, гужи сафьяновые. Говорит князь Вольга таковы слова: «На здоровье тебе, пахарь, оратаюшко! И пахать, и орать, и крестьянствовать!» Отвечает оратай-оратаюшко: «А спасибо тебе, Вольга Всеславьевич! Мне здоровье на пашню очень надобно, Мне орать да пахать да крестьянствовать!» Ещё спрашивал Вольга у оратая: «Ты скажи-ка мне, пахарь-оратаюшко, Как по имени тебя звать-величать?» Неспроста князю пахарь ответствовал: «Ты послушай меня, Вольга́ Всеславьевич! Как я пашни под рожь, под посев напашу; Как я ржи накошу да во скирды сложу, Домой выволочу да дома вымолочу; Ещё драни надеру, да я пива наварю. Мужичков-старичков соберу-напою. Станут тут мужички меня покликивать И по имени меня звать-величать: «Молодой Микула Селянинович!» А теперь же ты мне поведай-скажи, Куда держишь путь, Вольга́ Всеславьевич?» Отвечает князь Вольга пахарю: «Еду я, Микула Селянинович, К городам своим за получкою. Я — ко Гурьевцу, я — к Ореховцу, Ещё к третьему городу Крестьяновцу!» «Был я в городе, Вольга Всеславьевич! Закупил я намедни соли три мешка. Увозил на кобылке на соловенькой. А живут там, скажу, мужики-купцы Не купцы, подлецы всё разбойники. Ты чужих-то врагов утихомирил, князь. А своих врагов не успокаиваешь. Нападали на меня городские те, По прозванью купцы, а всё разбойники. Обкружили меня они со всех сторон: Просят денег-грошей подорожных с меня. А не то ещё и погубить грозят. Заплатил я им гроши подорожные Невеликою вот этой шалыгою[10]. Будет долго им памятна плата моя: Кои стоя стояли, теперь сидя сидят. Кои сидя сидели, теперь лёжа лежат. Кои лёжа лежали, тем и век не встать!» Говорит тогда Вольга Всеславьевич: «Гой еси ты, Микула Селянинович! Поезжай со мной во товарищи Наводить порядки да в моих городах!» Слов не тратил оратай-оратаюшко. Он тут гужки сафьяновы повыстегнул. Он кобылку из сошки повывернул. Снял хомут да седёлко, на кобылку сел. На поездке-то и спохватился вдруг: «Стой-ка, Вольга свет ты Всеславьевич! Я оставил свою сошку во бороздочке. Надо бросить сошку за ракитов куст. Не для ради прохожего-проезжего. А для ради мужика-деревенщины: Осколотят ведь омешики серебряные, Оснимают отрезы булатные — Чем я буду пахать да крестьянствовать? Надо сошку из земельки повыдернуть. Из омешиков земельку повытряхнуть. Надо бросить сошку за ракитов куст!» Князь Вольга свет да Всеславьевич Посылает из дружинушки хоробрые Пять могучих, пять добрых молодцев, Сошку ту из земельки повыдернуть, Из омешиков земельку повытряхнуть, Ещё бросить бы сошку за ракитов куст. Пять тех молодцев из дружинушки Подъезжали ко сошке кленовенькой. Они сошку за ручки ухватывают. За оглобельку сошку повёртывают. Они тянут-толкают и вокруг вертят. А не могут они сошки повыдернуть, Из омешиков земельки повытряхнуть. Бросить сошки не могут за ракитов куст. Десять молодцев из дружинушки Снова сошку за ручки ухватывают, За оглобельки сошку повёртывают, Они тянут-толкают, вокруг вертят, А не могут они сошки повыдернуть, Из омешиков земельки повытряхнуть. Бросить сошки не могут за ракитов куст. Посылает тут Вольга всю дружинушку. Они сошку за поручи ухватывают. За оглобельки сошку повёртывают. Они тянут, и толкают, и вокруг вертят. А не могут сошки повыдернуть, Из омешиков земельки повытряхнуть, Бросить сошки не могут за ракитов куст. Говорил тут Микула Селянинович: «Ай же, Вольга ты славный Всеславьевич, То не мудрая дружинушка хоробрая!» И поехал ко сошке сам пахарюшко. Брал он сошку кленовую одной рукой. Из земельки легонько повыдернул. Из омешиков земельку повытряхнул. Бросил сошку он за ракитов куст. Подивился Вольга на ора́тая. Посадились на коней и все поехали. У оратая кобылка — она шагом идёт. А у Вольги конь — он рысью пошёл. У оратая кобылка семенит грунцой. А у Вольги конь — запоскакивал. Запоскакивал, отставаться стал. И кричит отсталый Вольга, покрикивает, Шлемом пахарю он помахивает: «Стой-постой ты, Микула Селянинович! Кабы эта кобылка да коньком бы была, Так за эту кобылку я пятьсот бы дал!» Подождал князя пахарь, говорил ему: «Мудрый, Вольга, ты, свет Всеславьевич, А слова говоришь все глупые: Как была эта кобылка жеребулечкой, Я взял её из-под матушки, Заплатил за неё пятьсот рублей! А теперь этой кобылке цены-сметы нет!» Подъезжала дружинушка ко реченьке, Ко той реке ко Смородинке. А на том берегу у Смородинки Собирались стеной все-то гурьевцы, Мужики-купцы те разбойники. И завидели они Микулушку, Закричали все, переполошились: «Вон едет тот — он третьёва дни Побил-полупил нас шалыгою. И один-то он нам достался солоно, А теперь ещё и войско навёл сюда!» Подались наутек купцы-разбойники, Только пятки засверкали на солнышке. А тут Вольга князь сын Всеславьевич —— Он привык догонять врага беглого. Расходилася кровь молодецкая, Разгорелась в нем удаль храбрецкая. На погоню князь Вольга изготовился; Понастроился на удар перейти, Полонить-победить врага бегущего. Да Микулушка Селянинович Упредил-придержал князя скорого. Он сказал Вольге́ таковы слова: «Ай мудрый ты воин, Всеславьевич! Да на глупое дело насыка́ешься[11]: Погляди-ка ты на Смородинку — По-над речкой мосточки все калиновы. А поделаны мосточки все поддельные: Под настилом у них слеги понадпилены; А под слегами столбы понадрублены; Понадкопаны подкопы великие, Понаставлены ножи в них булатные. А хитры купцы те разбойники: Видишь, дел каких понавыдумывали!» Объезжала дружинушка Вольгина Все подкопы с ножами подкопные. Миновала мосты поддельные. Заявился Вольга́ со Микулою Во свои во три да во города. Там с делами князь поуправился. Он с разбойниками поразделался. Наложил на купцов дани-выходы. Говорил он Микуле таковы слова: «Много белого свету я повыездил! Много разных людей я повысмотрел! Много див-чудес я повыглядел! А такого чуда-дива я не видывал, И не видывал и не слыхивал, Чтоб мужик простой-чернопахатный Был сильнее дружины богатырской моей! Да и это ещё чудышко в полу́чуда. Много хитрых людей я поперехитрил. Много мудрых людей я перемудрил. Ни по мудрости, ни по хитрости Не имел я себе супротивников. А я нынче нашел и по мудрости; А я нынче нашел и по хитрости Супротивника себе славного. Ты простой мужик, Микула Селянинович! А во всём-то ты превзошёл меня: По догадке, по силе, по разуму! Уж и я ль не учился много мудрости! Уж и я ли да не поперенял Всех наук, всех грамот, всех хитростей! Да всему, видно, я не довыучился!»Вольга и братья Ливики
У Чимбала — короля того немецкой земли Жило-было два любимых племянника, По прозванью два брата, два Ливика. Говорят королю два брата Ливика: «Ах, ты, дядюшка наш, ты Чимбал-король, Повелитель над всей немецкой землей, Дай ты силы нам по сорок тысячей, Дай казны золотой по сту тысячей — Мы пойдём-гульнём по святой Руси, Мы пойдём-дойдём и до Киева Ко тому ли ко Вольге Всеславьевичу. Как душа-то у нас разгоралася, Как плечо-то у нас раззуделося, Бранный пир пировать захотелося!» Говорил в ответ тот Чимбал король: «Молодые вы, два брата Ливика, Я вам силы не дам, я оружья не дам, Ни копья, ни коня‚ ни полушечки Из моей королевской золотой казны. А не ехать вам на святую на Русь На почестный, на бранный, на кровавый пир! Вы послушайте, племяннички, — для вас мой рассказ. Ох была пора, я ин был силён — На учёт не учесть и на счёт не счесть, Такова была моя сила-армия. Молодецкой во мне было удали Не про вас, про таких добрых молодцев! Эту силушку я потерял-погубил, Удаль прахом пошла, поразвеялася! Отчего моя удаль вся прахом пошла, На каких ветрах поразвеялась? На каких полях моя силушка Порастеряна, порастрачена? Ох, пригублена моя силушка На святой на Руси вся великая! Ветры русские поразвеяли Мою удаль всю, молодечество! Сколько сил на Руси я ни наживал, А назад ничего не приваживал. Да и сам-то я только тем и рад бывал, Что хоть целыми ноги уволакивал. Лучше дам я вам, два брата Ливика, Силы сильной всей сорок тысячей. Поезжайте с ней в землю Ливонскую, Много золота в ней, много се́ребра, Много есть бессчётной золотой казны. Вам достанется всё с бою малого, С некровавого добудется се́ченья!» Как давал-выдавал братьям Ливикам Ихний дядюшка тот Чимбал-король Силы ратной одной сорок тысячей. Отпускал их во землю во Ливонскую. И пришли туда два брата Ливика, Королевских тех два племянника. Города огнём все прошли-пожгли, А поля-то конями повытоптали. И погнали они из Ливонской земли Добрых молодцев строй за строем в ряд, Красных девушек да — толпицами, Молодых молодушек — вереницами. Навалили телеги ордынские Красна золота, скатна жемчуга, Чиста се́ребра да несчётной казны. Выезжали два брата Ливика Во далёкое поле чистое. Пораскинули шатры чернобархатные. И на той на великой на радости Начинали пить-есть-веселиться они. Разошлись братовья, порасхвастались; «А не честь нам хвала молодецкая — Не поехать ещё и на святую Русь: На почестный пир к Вольге́ Всеславьевичу. А поедем мы, повоюем Русь — Не такою добычей удобычимся!» Скоро-быстро два Ливика соскакивали, Сокликали дружину, выступали в поход. И гудит, и звенит, и стучит, и бренчит Рать немецкая-удалая, Скороходливая-ловковитая. На конях стрельцы — они поскакивают, Шустро сабельками все помахивают. Из тугих луков в небо постреливают. Не доедучи до Вольги Всеславьевича, Принялись зорить за селом село; За деревней деревню на дым пускать. Они топчут и жгут и в полон берут, Пахарей-мужичков повырубливают. Расходились два брата, два Ливика: Разгулялись они гулевой гульбой. Во шатре своем чернобархатном Они пьют-едят, прохлаждаются Да удачами своими похваляются. А на ту пору́, на то времечко Далеко вдали, у иной земли В чистом поле князь Вольга Всеславьевич Во шатре своем белом опочив держал. Прилетела к нему малая пташечка Из далекого краю разорённого. Да садилась на шатёр белополотняный, Начинала петь-жупеть, выговаривать: «Ой, ты Вольга-князь свет Всеславьевич! Спишь-храпишь ты, князь, не пробудишься: Над собою невзгодушки не ведаешь; Из немецкой земли понаехали, Налетели к тебе гости незваные: Пришли два брата, два Ливика. Принялись они за селом село, За деревней деревню на дым пускать. Они топчут и жгут и в полон берут, Чёрных пахарей повырубливают. И на той на великой на радости Они пьют-едят, прохлаждаются; Над тобою, князь, надсмехаются!» Просыпается Вольга Всеславьевич Скоро вскакивает на ноги резвые. А душа-то у него разволновалася, Богатырская кровь расходилася. Брал-хватал он ножище-кинжалище. Он бросал-кидал о дубовый стол. Пробивало ножище-кинжалище И дубовый стол, и кирпичный пол; На сажень уходило во землюшку. Сам себе Вольга-князь тут жаловался: «Ах ты молодость моя, золота пора! Был-то мастер я в молодых годах По полям серым волком поскакивать, По крутым горам — горностаюшком, По морям, по волнам — щукой-рыбою. У меня ли головушка состарилась, Молодецкое сердце изоржавело, Кудри русые поседатели! Серым волком теперь не скакать по полям, По крутым по горам —— горностаюшком! Полечу-ка я чёрным вороном К братьям Ливикам на повыглядок!» Полетел Вольга́ чёрным вороном Во далёкий стан к братьям Ливикам. Покружился он день до вечера; Всё повыглядел, всё повысмотрел: Где полки́ стоят, где коней пасут, Где хранится оружье военное. Рать немецкую Вольга повысчитал, Борзых коней он всех повыписал. Улетел на реку на Смородинку. Собирал-сокликал девять тысячей Добрых молодцев против Ливиков. Собиралася дружинушка, слушала — Ей князь свой наказ да наказывал: «Ты дружина моя добрая-хоробрая! Ты послушай, дружина, что я повелю: Вырезайте вы щепочки все липовые — Они будут вам, братцы, жеребьями. Всяк на жеребье себя подписывай Да кидай на реку на Смородинку. Я по жребью да по липовому Прочитаю судьбу-жребий каждому!» Братья делали дело повелённое. Вырезали они жеребья липовые. Свои надписи на них понадписывали, Покидали на реку на Смородинку. У одних жеребья камнем тонут ко дну! У других жеребья супротив быстрины, Супротив быстрины по воде плывут! А у третьих жеребья по теченью идут! Как встал тут Вольга Всеславьевич, Рассказал он дружине о же́ребьях: «У которых жере́бья камнем канули, Утонули в реке во Смородинке — Тем на битве бойцам убитыми быть. Выходите такие дружиннички: Не ходите со мной на поле бранное! У которых бойцов по Смородинке Супротив быстрины жере́бья пошли — Тем на битве на этой быть ранеными! Выходите и эти дружиннички, Не ходите со мной на поле бранное! У которых жере́бья по воде пошли, Тем на битве быть невредимыми! Выходите за мной в поход, на бой Только те, у которых по Смородинке, По теченью жере́бья понеслись-пошли!» Брал Вольга с собой три тысячи. Не дорогой, не путём, ночью тёмною Подводил он дружинушку к Ливикам. Укрывал бойцов в тайную укрывину, Говорил он дружине таковы слова: «Вы послушайте, братцы, слово моё. Проберитесь вы ночью тёмною В этот ратный стан невидимками. Вы тетивочки у луков вражеских Изорвите все да повырвите. Остры сабли у врагов ин повыломайте. Все железные мечи у них повыщербите; Для себя отберите оружьице, Сохраните себе самолучшенькое! Ещё с тем самолучшим оружьицем Проберитесь на пастьбу лошадиную. Добрых ко́ней у врагов вы повыглядите, Для себя самолучших повыберите, Всем остатьним глоточки повырежьте. Ранним утречком ждите знак от меня. На сыром на дубу чёрным вороном Там возграю вам я во первый раз, — Вы седлайте скорёхонько добрых коней! Во второй раз возграю чёрным вороном, —- Вы садитесь-ка, братцы, на добрых коней! А возграю ещё я во третий раз, Вы летите-рубите силу вражескую!» Обернулся князь чёрным вороном, Полетел во стан ко братьям Ливикам. Угулялись-уходились вражьи воины — Загодя свои победы отпраздновали. Спят-храпят, трудной думушки не думают. Они тешатся, они видят сны: Будет завтра раздолье погулять-потоптать За сто верст кругом землю русскую! Во шатре своём спят и два Ливика. А над ними на дубу Вольга бдит — не спит! Зачиналося утро раннее. Тут возграял Вольга чёрным вороном — Просыпались от грая братья Ливики. Из шатра своего они повыскочили Да на ворона глаза повыпучили: «Ах ты чёрный, ты ворон, что ты каркаешь? Ты упалый-усталый, ты на чью на беду? Старый ворон, награешь ты беду на себя: Скоро мы поберем да туги луки; Накладём на тетивы калёны стрелы — Мы застрелим тебя, чёрна ворона! Мы прольём твою кровь по сыру дубу, Пораспустим твоё перье по чисту полю!» Во второй раз возграял чёрный ворон в ответ. Рассержалися больше братья Ливики: «Чёрный ворон, с чего ты раскаркался? Ты на чью на беду тут возграялся? Старый-дряхлый-упалый — на свою на беду: Мы прольём твою кровь по сыру дубу, Пораспустим твоё перье по чисту полю!» А и в третий раз возграял чёрный ворон ещё. А и тут-то два брата Ливика, Подхватили они трубы медные, Похотели затрубить сбор на смертный бой. Трубы медные не трубят — не гудят! Это Вольга их за ночь позабил-позалил — Он травой, он водой, он сырой землёй! А на ту пору, на то времечко Удалая дружинушка Вольгина На конях, на рысьях налетела она На военный, на ратный, на немецкий стан. Поднялись-повскакали вражьи воины. Побежали они ко оружьицу. Да оружье — оно всё попорчено, По полям-лугам поразмётано. Похватались они и за добрых коней — У коней-то все глотки повырезаны. Братья Ливики посмутилися, Прочь с Руси они покатилися Со дружиной своей со немецкой-то На уход пошли, на убег побегли. Понастигла их дружинушка Вольгина, Всех повысекла, всех повырубила. Брату Ливику — брату старшему — Оба глаза стрелой в бою повыстрелило. А младшему брату Ливику — Обе ноги ему да повыломало. Посадили безногого меньшего На безглазого брата старшего И отправили во землю немецкую, Ко тому ли ко дядюшке Чимбал-королю. Вольга-князь отправлял-приговаривал: «Ты, безглазый брат, неси безногого! Ты, безногий, дорогу показывай. Да и встречным ещё и поперечным всем К нам на Русь, сюда дорогу заказывай!› Приходили два брата, два Ливика На неметчину ко Чимбал-королю. Увидал да племянничков дядюшка, Похватался король за головушку: «Ах вы, ах мои любезные племяннички! Говорил я вам, удалым молодцам, — Не ходите вы на святую Русь! Не бывайте у Вольги Всеславьевича! Знает он языки ворониные! Знает Вольга языки все птичие! Знает он у людей все помыслы! У него только помыслов узнать нельзя! И узнать нельзя, и победить нельзя! Ах, и что же вы, племяннички, наделали? У меня была сила — рать великая! А теперь-то я остаюсь ни с чем! Обесславленный-обессиленный! Да и вы получили увечье себе; Да несчастье — на веки на вечные!»Царь Возвяг и последний подвиг Вольги
Волга-матушка, ты русская река, Широка, глубока, велика. В старину было глубокую, Да за Волгой за широкою Объявился там царь Возвя́г, Царь Возвя́г сын Таврульевич. Он сидит на стуле-бархате На златом, на ременчатом; Злые замыслы обдумывает: Как пойти ему на светлую Русь, Разорить, полонить, покорить? Ино вдруг перед задуминой‚ Перед этою озлобиной, Царь Возвя́г захирел-заболел. Проняла его хвороба, довела; В три дуги да поскрючила, В три погибели Возвягу свела. Он не спит, он не ест, он не пьёт, Он от боли извивается, Он вопит надрывается. А ведь стонет от Возвяги народ. А Возвягу и погибель не берет. Жив злодей, не окочурился! Поселилася давно в нём смерть, Забралась невидимкою. В нем свила гнездо уютливое. Изнутра его ворочает. Изнутра ему кости грызёт, Крутит-вертит-переламывает. Царь Возвяг корчей корчится, В три дуги изгибается. Затрясла его трясучка-лихота. Затошнила-задушила тошнота. А и тут у Возвяги-царя На руках когти выросли, Изо рта клыки вылезли. Он себя когтями рвёт и дерёт, Сам назад перегибается. Он до пяток башкой достаёт, В ноги с рёвом вгрызается. Ну забило-закидало его, На кровати заподбрасывало. То ли чад, то ли дым, то ли пар Заклубился удушливый. Ан из клубов и повыросла Одноглазая гремучая змея. Глаз горит и поблескивает. А над глазом у змеи — хохолок. Хохолком змея потряхивает. За змеюгой-одноглазиной Смерть сама из пара выросла, Дыроносая костлявиха. На Возвягу Смерть уставилася Пустоглазым тёмным поглядом — Звягу ест она им поедом. Кости жёлтые-высохлые Друг о дружку побрякивают; А костлявиха покрякивает. Занесла над Возвягой она Косу острую-убойную. Навела на Возвягу она Ту змеину одноглазую. Возмолился к ней царь Возвяг, Запросил пощады-милости. Отвечала смерть-костлявиха: “Я дам тебе, царь Возвяг, дам тебе пощаду милостивую И навеки от погибели спасу, Если примешь ты в сердце своё От змеи‚ моей дочери, Одно семечко змеиное!» Царь Возвяга возрадовался От костлявихиной дочери Принял гнусное семечко Он — змеиное в сердце своё. Принял он, восстал и выздоровел. И своей избавительнице Говорил таковы слова: «Чем тебя одарить-наградить? Ты моя благодетельница! Что захочешь, то и спрашивай — Всё отдам за избавленье тебе От того часа смертного!» Отвечала Возвяге Смерть: «Ничего мне не надобно! Мне одна только надобна Чаша крови младенческой. И возьми-тко ты, царь Возвяг, Заколи сына единственного. Нацеди чашу крови из него, Выпей чашу эту дочиста. Напои в себе змеёныша, Что наро́дится из семени, Из змеиного засеянного. Этим ты и окупишь мою Для тебя услугу верную!» «У меня, благодетельница Смерть, Сына нет, а дочь единственная!» «Как змеёныш в тебе вылупится, У тебя и сын народится!.. Напоишь ты змеёныша Этой кровью сыновнею — Станет змей в тебе хранителем, На войне оберегателем. Будет он тебя хранить-оберегать: От любого оградит богатыря! Не страшна для змеёныша Ни калёная-перёная стрела, Ни копьё долгомерное, Ни булатная сабелька, Ни тяжёлый-железный меч, Ни свинцовая палица! — Говорила Смерть Возвяге-царю. — Ты страшись-берегись, ты беги От того человека, Возвяг, От того, который в смертном бою‚ Может в битве, может в се́ченье Без раздумья жизнь и голову Положить за мать-родительницу!» Наступило утро раннее. Выходил из почивальни царь Возвяг. Выходил он рад-радёшенек‚ Он здоров-здоровешенек! Полетела слава скорая. Царь Возвяг пооправился, От хворобы повыздоровел. Заварились во дворце кутежи, Началися лихие грабежи, Кутежи бесшабашные, Грабежи сильно страшные. А не зря, а не зря у царя В сердце семя змеиное На посев на злой посеяно! Время шло, с ним исполнил Возвяг Всё со Смертью по до́говору. Народился сын единственный — Загубил, не пожалел он его: Тёплой кровью младенческой Воспоил Возвяг змеёныша в себе. Стал змеёныш помогать ему На бесчинных насильничествах. Ныне Звяга со змеёнышем Ни в каком не победим во бою: Ни засечь того змеёныша, Ни убить, ни застрелить его нельзя: Не брала его, гадёныша, Ни калёная-перёная стрела, Ни копьё долгомерное, Ни булатная сабелька, Ни тяжёлый-железный меч, Ни свинцовая палица! И раздумничает Возвя́г: «Как пойти войной на светлую Русь? Если мне со полдён пойти — Там я с Вольгою встречуся. Вольгу я не пытал на войне. Слух идёт о нём по всей земле, Что его победить нельзя. Не пойду со полдён я на Русь! А пойду-ка я на светлую Русь Со полуночи‚ с севера». Как пошёл на окол Возвяг, Взял он город за городом. На удаче распотешился И на стуле, на бархате Он сидит, суды рассуживает, Он ряды свои разряживает, Прихлебателей одаривает: Награждает их и жалует. Всех прислужников князей да бояр, Перебежчиков-изменников Он деревнями, он сёлами Ублажал, всех поместьями, Городами с пригородками. Он Фому дарит То́кмою, А Ерёму — Красным городом. Гордея — он Вологдой, Ахрамея — Васильем-на-Плесу. Одарил, стал всех чествовать. Царь Возвяг сын Таврульевич — Он на стуле, на бархате, На камке на черевчатой, Он сидит да он честью честит: Костылищем размахивает, Во всю силу охаживает По боярским бородам, по усам, По согнутым по ихним горбам, По прижатым к земле головам, По сверкающим синим плешам. Все дары раздарил Звяга-царь. Тверь одну не подарил, поберёг. Приготовил богатую для любимого для зятюшка, для Щелкана для Дудентьевича. На делёжке Щелканища На той не случилося. Ездил он, ездил зять, лиховать, Ради чёртова правежу, Ради дани да выходу, Брал Щелкан сын Дудентьевич, Брал он с поля по колосу — До последнего колосика; Брал он с улицы по курице — До последнего цыпленочка; С мужика брал по пять рублей. У которого пяти рублей нет, У того он дитя заберёт. У которого дитяти нет, У того он жену заберёт. А жены у которого нет, Он того самого заберёт. У Щелкана не выробишься, Со двора вон не вырядишься! Воротился Щелканище: «Дорогой ты мой тесть Возвяг! Ты чужих бояр ожаловал — Ты их селами-поместьями, Городами-пригородками, Позабыл только, тестюшко, Про любимого про зятюшку!» «Дорогой мой зять Щелканушко! Зять Щелкан сын Дудентьевич! Не забыл я, упомнил тебя, Я припас-уберег городок: Одарю тебя, Щелканушко, Одарю Тверью славною. Тверью-городом богатою!» Ах, рад был Щелканище, Веселился Дудентьевич. Поспешал-добирался он Вновь до чёртова правежу, Принимался для Возвяги-царя Снова брать дани-выходы. Проклинают Щелканища Все и всюду его походя: «Ах, пропал бы ты про́падом, Сквозь землю провалился бы. Ох, остыть бы тебе, злодей Щелкан, На булатном на ножичке, Ох, на остром бы остыть на копьё!» Полетели до стольного Вести-жалобы до Киева, Все до Вольги Всеславьевича: «Ты избавь нас, повыручи, Вольга свет наш Всеславьевич, Ты избавь нас от Щелканища‚ От пса кровожадного, людомора живоглотного. От его ли от пра́вежу Нет ни жизни, ни роздыху- у Щелкана не выслужишься, Со двора вон не вырядишься!» Собирается Вольга-князь На Щелкана на Дудентьевича, На того на Возвягу-царя‚ На Возвягу Таврульевича. Вольга к Твери приближается, А Щелканушко кончается. Вольга в Тверь, за ворота, заступил. А Щелканище дух испустил. Спознавал об этом царь Возвяг, Соскочил он со столика, Захватил гузно в горсточку, Полетел он воробышком! Далеко залетел Возвяга, Далеко сел за Волгу с перепугу. А что же теперь ему делать? А и что же ещё ему замыслить? И припомнил тогда царь Возвяга Уговор-разговор со Смертью: Ведь его тот выкормыш-змеёныш Оградит от любого человека, Упасёт от погибели верной. Упасёт-оградит: ведь не найдётся Никакой супротивник, не решится Ради матери жизни лишиться. Сам Возвяга — он в том уверен. Да и нету уж матери у Вольги: Вольга сам стал старенький старец -— Мать у Вольги давно скончалась. Значит, Вольги Возвяге не бояться! Значит, Вольги Возвяге не страшиться! И вставал-поднимался Возвяга. И с походом он выступал на Вольгу. Начиналось великое сраженье. Добирался князь Вольга до Возвяги. Извергает Возвяга из пасти Ядоносного змеёныша на Вольгу. И вступает со змеёнышем Вольта Во решительный поединок. Оперённую стрелу из лука Выпускает Вольга на змея — Прямо в голову ему попадает. Не поранен стрелою змеёныш — Не разбит, не расколот череп: Отлетела стрела и упала. Улыбнулся злорадно Возвяга. Долгомерным копьём во змея Ударял князь Вольга с разгону. Не заколот и копьем змеёныш! Поломалось о змеиное жало И на землю копьё упало! Засмеялся Возвяга лихо! Вынимал меч булатный Вольга, Ударял он мечом по змеищу — Разлетелся на брызги меч булатный! А и цел-невредим змеёныш! Захихикал Возвяга зловредный. И свинцовою палицей Вольга Ударял во всю силу по змеюге. Да распалася палица на капли. А змеёныш-то жив, и готов он Острым жалом вонзиться в Вольгу. Царь Возвяга злоедно хохочет, Говорит он победные речи: «Князь! Пришел к тебе конец неминучий! Ты мне лучше в полон сдавайся! Я тебе жизнь дарую, Вольга: Укрощу я дите свое — змия! Он тебя не сразит тогда, Вольга!» Отвечает Возвяге Вольга: «Нет, не сдамся тебе в полон я! А дите твое, Звяга‚ а змеюгу Укрощу-удушу я рукою!» «Не тебе удушить его, Вольга! Только тот удушить его в силах, Кто за мать, за родительницу, может Положить свою голову без страха! У тебя в живых матери нету! За кого ты свою голову положишь?» «Ах ты царь, ты Возвяг, просчитался: Русь моя — мать моя родная! . она — эта мать моя — бессмертна! За неё и готов положить я Жизнь и голову свою за Русь святую! Не меня, а тебя неминучий От меня настигнет миг смертный!» Тут змеёныша Вольга хватает Да из пасти у Возвяги вырывает. Пал Возвяг обессиленный на землю. Наступил на него князь Вольга. И погиб под стопой его Возвяга. А змеёныша Вольга рукою Могутною-богатырскою душит. Ядоносец, злорадный гадёныш Извивается в корчах предсмертных. Весь яд он и всю свою силу Собирает во змеином жале. Исторгает змей жало из зева, Поражает он, жалит Вольгу. От ужаленья втрое силы Прибывает в руках у Вольги: Разрывает Вольга змея на части, Погубителя страшенного губит Да и сам упадает бездыханным! Слава вечная воину Вольге!Добрыня изгнанник
У Добрыни мать — холопка-подневольница: Всю жизнь во холопах подневолилася. Подрастал млад Добрыня в бедноте да нужде. Ох ты ох, нужда! Ох ты бедствие! Где младому разойтись? Поразгуляться где? Уж как было Добрыне да пятнадцать лет. Захотелось белый свет поглядеть-посмотреть. Уходил Добрыня в поле чистое. Повстречал молодой там боярских детей. Потешались они играми дворянскими Да забавами княженецкими. Увидали Добрыню боярёныши, Принялись изгаляться-смеяться над ним: «Вон рабочич-роб, раб идёт-бредёт! Работу́-скудноту на плечах несёт! Мы возьмём в раба да стрельнём в раба! А нам за раба не отвечать никогда!» Похватали тут дети боярские, Тот лук, тот стрелу, этот нож, там копьё. Принялись они в Добрынюшку Никитинца стрелять, и кидать, улюлюкать-свистать. И на копьях булатных злую смерть метать! А Добрынюшка не сробел молодой. От калёных стрел поувертывался. От ножей поотбился шапкой худенькой. А булатные копья на лету половил. И пошел на боярских пересмешников. Он зашёл в толпу помаленечку, Повернулся Добрыня потихонечку. Тут и стал по ним да похаживать, Да мучителей своих похватывать. Хватит за ногу — ан прочь нога. Хватит за руку —- да ведь прочь и рука. Хватит за голову — голова долой! Н насмешнички поиспугалися, Кто куда от Добрыни разбежалися. И князьям да боярам понажаловались. Поздним вечером Добрыня заявился домой. Со слезами сынка повстречала мать, С гореваньями-причитаньями: «А с чего я сижу, мать несчастная? Сирота теперь сижу да бесприютная! О тебе ли моё, родимо дитятко, Я сижу да проливаю слёзы горькие! Ты отколь в мире, горе, объявилося? Ты зачем, злое горе, да прилётывало? Ты — не с синего моря холодного. Ты — не с жёлтого песка того голодного. Вышло, горе, ты из города стольного. У дубовых дверей не стучалося! Ты не по мосту красной девушкой — Залетело в окно чёрным вороном! До заутра, ох, к сыну милому Понагрянут ещё судьи немилостливые. Заберут его в темницу заключебную. Ты жемчужинка моя ненаглядная! Ах, зачем тебе было ещё трогать бояр? Будь вы прокляты, злодеи супостатные! Слышу, точите ножи да всё булатные На любимого на сына на Добрынюшку! Ох-ти мне, ох-ти мне да тошнёхонько! Кабы взять те ножи навострённые — Не дала бы вам, злодеи живоглотные, Над сыночком моим вам надругиваться! Распорола бы вам груди душные! Да повынула бы сердце с печенью! Распластала бы их я на мелки куски, Отвалила бы в корыто свиньям в месиво! Тёмна ночь тебе, сын Добрынюшка, Не для сна теперь, не для отдыха! Тёмна ночь для ухода от врагов тебе! Слышу, как идут, как постукивают. По двору тебя они поискивают... Ты иди-уходи‚ ты болезный мои! Сокрывайся-одевайся тёмной ноченькой. Ох, безродного тебя, изгнанника, Отрываю-вынимаю из сердечушка! Уж и кто теперь, ягодиночка, В ночь осеннюю приютит тебя? Обогреет-приголубит в стужу лютую, Кто покормит-насытит во голодный час? Уходи ты скорее, Добрынюшка! Слышу, как идут, как постукивают! По двору как злодеи побрякивают! Ты иди, ты спеши, моя болиночка! Ах, зачем я на муки породила тебя? Ах, зачем произвела да на белый свет? Будут грозы-дожди да полоскать тебя, Ветры буйные продувать-сквозить, Зимы лютые замораживать, Жары летние изнурять, палить. Ты не вздумай, Добрыня, покупаться в Днепре Не задумай раздеваться, купаючись, Чтобы беды над тобой не стряслось бедовой... Ах, прощай ты прощай, моё дитятко! ...Слышу, как идут, как постукивают! По двору как злодеи побрякивают!» То не вор, то не тать, не злодей-душегуб, Не разбойничек-подорожничек Ночью тёмною прокрадается, По бёзлюдным путям пробирается: Юный отрок в изгнанье Добрынюшка От боярской от мести сокрывается — Он уходит от суда кривосудного. Ты прикрой молодца тёмна ноченька‚ Не повыдай его лихим догонщикам! Далеко от людей в поле чистое Удалился юнец в безопасицу. Там под утречко приютил его Част-ракитов куст у Днепра у реки. Утомлён-заснул млад Добрынюшка На убогой-худой на дерюжинке Да под матушкиной покрывалинкой. Заряница заря загоралася, Красным золотом рассыпалася По туманным местам, по листам-кустам, По ковыльным растинкам-былиночкам Скатным жемчугом понавесилась. Только спит, всё спит одинок беглец, Под ракитовым кусточком отторженец. Поднималося на небо солнце красное. Заряницыны убранства все повысушило. Порассеял туман бог Стрибог — ветерок. Просыпается Добрыня к середине дня. Не стонал, не тужил от напасти лихой. Ой, ты, молодость, дело юное! Дело детское, беззаботное. Для тебя ль, молодинка, Днепр-река по колен! Для тебя ли по пояс море Русское. Для тебя ли беда — то под ветром туман. Гореванья — росиночки под солнышком. Для тебя все заботы — пыль дорожная: Попылит-постолбит да уляжется! Смыть беду-вереду в добрый час молодцу — Освежиться—умыться водой ключевой. Подходил тут Добрыня ко Днепру ко реке. В нём журчит струя, струйка первая, И мальчонку к себе она приманивает. А тут солнышко полудённое Припекает жарою-истомою. «А зачем умываться, коли можно мне Искупаться всему во Днепре во реке?!» Позабыл тут Добрыня материнский заказ: Без одежды во Днепр не входить во реку. Поразделся Добрынюшка скорёшенько. Всю одежицу запрятал под камушек. И заплыл-поплыл млад днепровской струей, Струйкой первою, струйкой тихою. Разошелся Добрынька, распотешился; Все запреты позабыл материнские. Он из первой заплыл во вторую струю. Подхватила она да понесла его. А Добрыня от удали песню запел. Услыхали эту песню берегинюшки — Русалинки днепровские подводницы. Услыхали-увидали затейницы. Они песней удалой позаслушались; На Добрынюшку позагляделися — красотой молодой восхитилися. Захотелось берегиням с юным отроком Поиграть-поплескаться-позабавиться. Стайкою белою ко мальчоночку и подплыли-окружили Добрынюшку. Вот тут-то оно и веселье пошло. Берегини с Добрыней заигрывают. На мальчонку озорницы поплёскивают. Да водой ключевой они побрызгивают И туда и сюда его подталкивают. А Добрынюшка-то он ловок и быстр: Успевает от всех и отплёскиваться, От веселых русалок отбрызгиваться, От всей резвой толпицы отталкиваться. Оттого задор всё задорнее‚ А весельице всё веселистее. Вот так-то игруньи шутят шуточки. Вот так-то шалуньи шалят шалости. Раззадорься тут млад да — во третью струю! А тогда берегини испугалися: Не пускают Добрыньку, задерживают. Он, удалый, берегинюшек не слушается: Он и волю их переволивает; Он и силу их пересиливает; Он плывёт по Днепру на серёдочку В эту самую быструю во третью струю! И взыграла-взволновала-забурлила струя. Заходили по ней волны грозные. Из-под первой волны дым столбом столбит! Из средней волны искры сыплются! Из-за третьей волны синь-огонь сечёт, Обдаёт Добрыню жаром-пламенем. Добрый молодец не устрашается! Вдруг от слышит зов с громким хохотом: «Эй ты молодец! Ты, безусый юнец! Ты и что за удалец‚ ты и что за пловец, Если ты не доплывёшь до моря Русского! На девятой волне не искупаешься, Ты со мной‚ стариком, не посравняешься!» — Вызывал-рыковал то сам старец Днепр. прогремела-разнеслась эта речь по земле, По всей земле да по всем морям. Услыхала её зла 3меёвина, Овдовелая Змеиха Горыниха. А Добрынюшка — он и мал да удал! Он на грозный на вызов и ответ свой дал: «Слушай, Днепр, старый дед, — не из робких я! Поплыву и до моря до Русского! Искупаюсь на его на девятой волне! Поравняюся и силою с тобой, стариком. Мне-ка Днепр — по колен, море — по́ пояс!» Оробели тут берегинюшки: Позамолк у них смех да шуточки. А Добрыня над ними и посмейся тогда: «Уж куда резвота ваша делася? Уж куда всё веселье потерялося? Берегинюшки, днепровские дочери, Ещё что вы приуныли на седом на Днепре?» А и тут-то берегини все воспрянули, Позабыли остерёгу осторожливую. Вновь-опять началась игра-забавушка. И плывёт, и плывёт Добрыня к морюшку. Вот и море, оно — вот уж близко, видно: Волны чёрные воздымаются И стеной водяной воздуваются. А на волнах тех — шапки белые. А за морюшком туча темная Поднималася, надвигалася. Не для цве́сти она, не для радости! Кабы туча та грозовая была — Во громах бы она изгремелася Да во молниях бы иссверкалася! Кабы туча та дождевая была — Пролилась бы она частым дождичком, Издождилася, истощилася, Безделухой над Добрыней прокатилась бы! Кабы туча та ветровая была — Вся на ветры бы поизвеялась! Ах‚ не туча то позатучилася: Вылетела из гнездовья погани́ца Змея. Поганиха Змеиха Горыниха, Там услышала, там узнала она: Ведь теперь-то Добрыня на Днепре один. Погубить Змея замыслила Добрынюшку! Увидали берегини, сдогадалися: За Добрынею молодые похваталися. Увлекли они мальчонку из третьей струи. Увлекли они мальчонку из второй струи. Увлекали берегини, приговаривали, Своего отца они упрашивали: «Уж ты, Днепр, ты Днепр, ты наш батюшка! Уноси ты Добрыню от лихой беды! Помоги ему уйти от Горынихи!» Повернула струя днепровская‚ Понесла она Добрыню с берегинями Ко тому ко заветному ко бережку. А Добрыню Змеиха настигает, грозит: «Ох‚ и долго я быванья такого ждала! Стерегла я удачливого случая: Где бы это мне Добрыню повидать-повстречать? А теперь-то Добрынюшка в моих руках! А какой ты, Добрыня, смерти хочешь себе? Если хочешь, тебя я огнём пожгу! Если хочешь, тебя я в Днепре утоплю! Если хочешь, тебя я мечом засеку! Если хочешь, тебя я стрелой сражу! Если хочешь, тебя я копьём проткну! Если хочешь, тебя в когтях разорву! Если хочешь, тебя я живьём проглочу! Если хочешь, тебя я хватьём задушу, Обовью всего хоботьями змеиными, Выпью-высосу твою кровушку! Нс видать тебе, Добрыня, красна солнышка! Не видать тебе, Добрыня, ясна месяца! Не видать тебе, Добрыня, частых звёздочек! Не видать тебе, Добрыня, родной матушки, Ни сестры, ни людей, ни святой Руси!» Увлекали берегини Добрынюшку. Приносили молодца до своего бережка. Не успел он ни одеться, ни одежды схватить. А Змеина-злодейка настигала его. У неё, у Змеихи, было девять голов. Было девять голов из девяти хоботах. Из трёх голов дым-огонь полыхал. Из трёх голов стрелы прыскали. Из трёх голов копья сыпались. Напускалася Змеиха Горыниха На Добрыню молодого, беззащитного. Раскрывала три пасти стрелоносные. Полетели-засвистали стрелы грозные И смертны и часты, — посекучий дождь. А Добрыня за камень позапрятался. Не достали, не достигли, не сразили его Те змеюгины стрелы все отравленные! Налетела Змеиха и с другой стороны. Раскрывала хоботья копьеносные. Принималась метать копья острые. А Добрынюшка и тут увёртлив был: Схоронился он за дубом за кряко́вистым Меж корней во глубокой во рытвине. А и тут его копья не ранили, Смертоносные Змеихины не тронули. Пораскрыла Змеиха пасти огненные. Принялась дышать огнём-пламенем. Тут Добрынюшке не конец ли пришел? Не сожгла ли его огнедышица? Посгорели кругом густые травоньки. Посгорели кругом леса дремучие. Посгорел над Добрыней дуб кряко́вистый. Порасплавились камни кре́мнистые. Зашипела Змеиха, завозрадовалась: «Вот Добрыню теперь я испекла в огне! Вот Добрыне теперь и конец пришёл! Вот его, молодца, подхвачу-понесу Моим детушкам малым на закусочку». А и рано Змеевина ликовать принялась! Не погиб ведь Добрыня в змееносном огне! Только тело его, тело белое Потемнело оно, ожелезело: Закалился в огне млад Добрынюшка! Несразим-неуязвим стал отрок млад: Ни огонь его не сожжёт, ни спалит! Ни стрела, ни копьё, ни булатный меч Не сразит, не пронзит, не рассечёт его! Ухватился молодец за огнистую пасть, Да попрал-прижал смертным жимом он Ещё две других ко сырой земле. Он не ждал, отрывал три башки у Змеи! Испугалася Змеина: беда пришла! И рвалась Змея, да не вырвалась. И взялась тут Змеиха и хитрить, и юлить, Молодяжку обманами обманывать: «Я жалеючи тебя, добрый молодец, Молодую твою жизнь уж не стану губить! А тебе не загубить меня и подавно! А поладим мы, Добрынюшка, да миром с тобой! Мы положим оба заповедь великую: Ты не тронь, не ничтожь мой змеиный род! Ты не езди на горы Сорочинские! Не бывай ты на той на Горынь на реке, Не губи дорогих моих змеёнышей. Откажусь и я летать на святую Русь! Я не буду летать ни во Киев-град! Я не буду таскать больше русских людей, Ни девиц-молодиц, ни малых детушек!» Ай, доверился Добрынюшка Горынихе. Полагал со Змеёй он завет таковой. Улетала Змеиха ко змеёнышам. А понять-то и не понял младёшенек: Сколько силы таится богатырской в нём?! Ой, ты доля, моя ты доля, Разнесчастная сиротская участь! Ты звезда ли моя золотая, Золотая ты звезда, а горёвая! Выше ясного месяца взошла ты, Выше красного солнца встала. Ясный месяц, звезда, ты затемнила, Солнце красное моё потушила! Я остался в темноте одиночкой Без тепла да без света, без сугреву! Я на свете — бесприютная бродяжка, Я былинка одинокая в поле: Ветры дуют — былинку качают, Вихри злые былинку завивают, Да к земелюшке низенько приклоняют. После долгого бродяжного денёчка Принастигнет тебя тёмна ночка, Ночевать-то никто не пустит: Все разбойником тебя называют, Подорожничком величают; Закрывают от тебя все окошки, Запирают на запоры ворота... Ты и днюй и ночуй, бродяжка, Одиноким во чистом поле, Хоть в мороз, хоть в пургу, хоть в ливень! Повстречались бродяжке скоморохи, Шутники все потешные Добрыне. Привечал скоморох Вавило. Он играл, Вавило, во гудочек, Он во звончатый во переладец. Говорил Добрынюшке Вавило: «Ты иди, ты иди к нам, отрок милый, С нами вместе иди скоморошить!» А Добрыня и рад был привету: Принял участь скоморошью эту. Обучился Добрыня на гуслях На яровчатых играть на диво. Заиграет он печальную песню — Опечалятся люди да заплачут; Небо ясное станет хмурым, И прольётся дождем дождистым. Заиграет весёлую Добрыня — И запляшут леса и горы. Повернутся лежачие камни. Приутихнет волненье на море. А учителем-то у Добрыни Был тот скоморох дед Вавило. А с Вавилой самим так было: Приходили к нему два весёлых, Два весёлых потешных человека; Приходили да Вавиле говорили: «Ты пойдём, добрый молодец Вавило, Ты пойдём, Вавило, с нами скоморошить. Мы пойдём в то Иное царство Переигрывать царя Собаку, Ещё сына его да Перегуду, Перекликивать дочь Перепеву, Переплясывать зятя Переплясу!» Собирались весёлые люди, Сокликались на собор скоморохи. Уходили они в Иное царство Переигрывать Царя Собаку. А навстречу им мужик с горшками, Едет он на базар торговати: «Вы куда пошли, весёлые люди? Вы в какие края, скоморохи?» «Мы пошли на Иное царство Переигрывать Царя Собаку, Ещё сына его да Перегуду, Перекликивать дочь Перепеву, Переплясывать зятя Переплясу!» Говорит им тут горшечник-черепаня: «У того ли у царя у Собаки Двор-то каменный, а тын железный. Царь Собака людей загубляет‚ Он головушки им отрубает, На тынники он головки насажает! Там и вашим, скоморохи, быть головкам!» «Уж ты гой еси, гончар-черепаня! Ты не мог и добра нам задумать! Ты не сказывал бы нам такого лиха! Заиграй-ка ты, Вавило, во гудочек, Да во звончатый во переделец, А Кузьма с Демьяном припособят!» Заиграл тут Вавило во гудочек, Он во звончатый во свой переладец — Полетели куропатки с рябцами, Полетели пеструхи с тетеревами, Полетели марьюхи с глухарями, Полетели мошники с косарями, К черепану они на оглобли Налетели — посадились стаей. Черепаня был рад, горшечник. Стал он бить да ловить, да прятать На возок всю набитую птицу. А приехал гончар в городочек, Становился горшечник во рядочек, Развязал черепан свой возочек, — Полетели куропаточки с рябцами, Полетели пеструхи с тетеревами, Полетели марьюхи с глухарями, Полетели мошники с косачами. Посмотрел черепан в возочке — А лежат там один черепочки! Всё идут скоморохи по дороге. На речице видят: красная девица -— Она белое бельё полоскала, Набело она холстины белила. «Уж ты здравствуешь, красная девица! Набело тебе холсты полоскати!» «А спасибо вам, весёлые люди! Вы куда пошли по дороге?» «Мы пошли во Иное царство Переигрывать царя Собаку, Ещё сына его да Перегуду‚ Ещё дочь его да Перепеву, Ещё зятя его да Переплясу!» Говорила скоморохам девица: «Вам счастливого пути, скоморохи! Вам счастливо, весёлые люди, Вам счастливо всех переиграти И — того вам царя Собаку!» «Заиграй ты, Вавило, во гудочек Да во звончатый во переладец, А Кузьма с Демьяном припособят!» Заиграли весёлые люди. А у той у красной девицы — У неё были все холсты холщовы, Стали шёлковы все да атласны! Всё идут скоморохи по дороге. Вот пришли они в Иное царство. Вот увидели весёлые люди: Перед ними сам царь Собака. Царь Собака могуч и силен: Над морями Собака царюет, Он хлябями управляет, Он водами повелевает. Увидал царь Собака скоморохов, Заиграл во гудок Собака, Загремел во громоносные гусли, Заволынил царь Собака на волынке. И поднял он море на воздух. Накатил Собака хляби на землю. Напустил на скоморохов воды. Хочет царь Собака скоморохов, Хочет он накрыть волнами весёлых. Хочет хлябями морскими потешных Затопить-умертвить водою. Заиграл Вавило во гудочек —— Он во звончатый во переладец! А Кузьма подыграл на гуслях. А Демьян-то им припособил! И затихло волнистое море. И отхлынули вспять тут хляби. Отбежали зелёные воды! Разыгралися скоморохи: Все гудят, да поют, да играют. И звенят, и гремят, и зазывают. От огнистого такого веселья Загорелось Иное царство, И сгорело оно с краю и до краю, Сгинул в пеклище царь Собака, Ещё сын его да Перегуда, Ещё дочь его да Перепева, Ещё зять его да Перепляса! Вот какой был учитель у Добрыни! Услыхал про Добрыню гость торговый, Гость торговый Степан из Волыни. Отыскал он Добрыню-скомороха. Упросил-умолил молодого, Соблазнил неиспытанным соблазном: На торговых кораблях поездить. Не влекла-то Добрыню торговля, Увлекло Добрыню погляденье. И пошёл он, скоморох, ко Вавиле, Отпроситься у деда на свободу, Полетать по миру вольной птицей, Походить по водам во походах. Говорил скоморох Вавило: «Ты куда от нас, Добрынюшка, уходишь? Ты куда от нас, соколик, улетаешь? Али мало было тебе ласки? Али не было от нас тебе привета? Аль тебя на обеде обделили? Аль тебя на веселье потеснили?» «Ты прости меня, дедушка Вавило! За моё прости такое упрошенье. Ты меня-то ведь, дедушка Вавило, Воскресил да высоко возвысил. Дал мне гуслями новую душу И соколика сделал крылатым. Только соколу, дедушка Вавило, На одной-то нельзя сидеть ветке — Эта ветка станет хуже клетки! Ты дозволь мне, дедушка Вавило, В небо синее возлетети, Весь мир с высотины оглядети, По-за облакам ходячим побывати, Поширять выше гор вершинных. Воспарить у самого солнца!» Отпустил Вавило Добрыню. По морской глубине, по высокой волне, Выплывают корабли белопарусные. Корабли идут, корабли плывут, Красным золотом на солнышке поблескивают. Корабли-то ведёт богатый гость Степан, С ним — гусляр-скоморох млад Добрынюшка. У Степана, у гостя торгового, У богатого да именитого, У него был перстень — дорогой перстенёк: Дорожил он им, пуще глазу берёг. А блистал этот перстень жарче золота, А сверкал он сверкальнее и яхонта, Был светлее он скатна жемчуга, Горячее весеннего солнышка. Кто ни взглянет на перстень—глаз не может отвесть: Будет сниться во снах перстенек лихостной. А носил его Степанушко по тайности — Он на правой руке да под закрывинкой. Выговаривал ему Добрынюшка: «Сколько езды мы с тобою ни выездили, Сколь ни выходили мы путей да дорог, А ни разику, Степанушко-батюшка, Не открыл ты мне перстень заветный свой!» «Показать покажу тебе, Добрынюшка! Покажу перстенёчек, Никитьевич! Покажу я тебе, другу младшему! Покажу его тебе, сыну названому! Показать покажу, да только клятву возьму. Дай ты слово, Добрыня, слово клятвенное, Дай обет-зарок, заклятье мне, Что забудешь ты этот перстень мой, Что из дум его ты повыкинешь. А иначе из нас кто-нибудь из двоих Из-за перстня погибнет во жестокой борьбе!» И поклялся Добрыня, не задумывался. Открывал ему тайну про перстень Степан: «Было дело давно, млад Добрынюшка! Был тогда молодым я охотником. Был тогда молодым я ловитником. Был тогда молодым я пловцом-рыбаком. Был тогда простым я работником. Не владел кораблями, ни землями. Не владел теремами, ни палатами. Не владел я рабами подневольными. А владел я руками рабочими, Да владел я плечами богатырскими. Вот пошёл я на ловитву, на промыслы Да во те ли во страны во Поморские, На холодное море, море северное. Да поймалася мне там поимина: То ли зверь морской, то ли рыбина. Не видал, не едал, не слыхал я такой. Мне бы невидаль ту кинуть в море-волну. А вот я поглядеть разохотился, Распластать ту диковину надумался. Полоснул я ножом по чудовине, Поразрезал нутро у невидали. Отыскал-нашёл в ней находочку: Перстенёчек вот этот да с судьбой роковой! А не брать бы мне, не владеть бы им! Он душу мне своим сверканьем прожёг! Он разум мне совсем огнем помутил! Он сердце мне сияньем выхолостил! Не тянись, не рвись, млад Добрынюшка, Поглядеть на такой перстенёк проклятой. Во прожжённой-то душе, в мутном разуме Разожглась нужда посамохвалиться: Я коварного того найдёныша Показал друзьям всем товарищам. А и други мои той же негодью, Увидавши тот перстень, возгорелися. Погубил я, похвалыга, и себя и других, Ох, перстень злой, огневой-змеевой: Души он друзьям, как и мне, прожёг; Он и разум, как и мне, помутил огнём; Он им сердце, как и мне, сияньем выхолостил! Пораспалося братство дружное! Началась из-за перстня ссора дикая, Злоба лютая, ненависть великая, Драка-битва-борьба озверелая. Пролилась тогда кровь невинная! Я взял-отстоял; да не разумом: Победил-побил озверелиной. Вот я с тех пор на душе ношу Грех великий в себе, млад Добрынюшка! От долгих от лет, от скитаний, от бед Прояснилось моё разумение. Растуманился ум да разум мой. А душе-то моей успокоеньица Как не было, так и нет его! Знаю: всё из-за него, из-за перстня того! Мне бы выкинуть его, утопить-пожечь! Да увы, сделать это — выше сил всех моих! Тайну я тебе поведаю, Добрынюшка: Перстенёк ненавистный все богатства мне дал! К нему золото льнёт, к нему жемчуг летит, К нему рвутся каменья драгоценные! И пока володею этим перстнем я — Вся богатина мировая моя! Мне ведь только приехать, мне только прийти: Во дворцы к королям, во палаты к царям; В терема ко князьям, во торжища к купцам; Углядеть всё узреть жадным поглядом — И богатства-сокровища царские, Все каменья-владенья королевские, Все скопленья-наживы купеческие, Обретенья-украшенья все княжеские, Всё притянет мой перстень своей силой себе! Всё отнимет-возьмёт, всё мне передаст! Такова в перстеньке этом силушка! Да ведь страшный тот перстень, Добрынюшка, Сердцу счастья не дал, ни покою душе! Что ношусь я по миру? Что же гонит меня? За какою нуждой окружен я враждой? Ах, не перстень мне служит, а я перстню служу: Раб слугатый безвольный у богатств у своих! А расстаться с ним у меня нет сил! Не тревожь ты, Добрыня, душу чистую! Не желай, не гляди на перстень страшный мой!» А и тут любознайство Добрынино Взяло верх над Добрыниным разумом: Посмотрел-поглядел на Степанов он На волшебный, на страшный перстенёк роковой... А и диво сдивилось тут дивное, А и чудо расчудесилося чудное; Чудо чудное да плачевное: Потушил перстенюга во Добрыне добро! Разжёг перстенюга во Добрыне зло! Злобным проблеском у Добрынюшки Разгорелися на этот перстень глаза. Поднялась волна неутолённая. Народилася задума потаённая: «А Степан-то стар! А Степан-то хил! Мне Степана взять — что пылинку снять! Я Степана возьму да за горло схвачу. Дух вон из него, а труп — на волну! Завладею волшебным этим перстнем я. Пусть мир тогда узнает — раб я или нет!» А Степанушко-то, он догадлив был. Прочитал на лице у Добрынюшки Он задумья такие злодейные... Он ведь знал, он ведь ждал: ведь нахлынут они — Он и встретить их приготовился. Приберег он гусли Добрынины, Тронул струны на гуслях, сам их в руки вложил Гусли эти Добрыне Никитьевичу. На живые на струны возложил сам персты, Гусляровы персты звукотворные. А и гусли зазвенели, заиграли они. Чудным-сильным тем рокотаньем своим Потушили гусёлышки в Добрыне зло. Возожгли гусёлышки в Добрыне добро. И очнулся Добрыня и на перстень взглянул, Но другим своим, чистым поглядом! И сиянье от перстня злоботворное Победил тут Добрыня просветленной душой... Закружилися гости торговые По всему-то по миру да по всем морям. Поднималась на морях непогодушка Волновая-грозовая-непогодливая. Вот волна волнит, вот гроза грозит! Вот ветер ветрит — потопить норовит! Ты бери, ты бери, млад Добрынюшка, Ты бери свои гусли яровчатые! Ты сыграй, ты спой свою песню-игру! Может, песню последнюю-прощальную Ты сыграй перед грозою погибельной! Бушевало-рокотало море грозное. Валовало валами девятыми. В этом рокоте, в этом клёкоте Зазвенели-загремели гусли звончатые. Полилась тут песня Добрынина Она рвётся и льётся-возвышается, Над волнами-гребнями разлетается. И гремят грома, И Грохочут валы, А Добрынины гусли громливее, А Добрынины гусли грохотливее, Всю грохочущую непогодицу Заглушают громы-грохоты гуслярные. Жгут-сверкают молнии свистучие, Оглушают громы трескучие, А звучнее у Добрыни песня звонкая‚ А сильнее у Добрыни струны гусельные! Заглушил гусляр Добрыня шум — морскую грозу! Заглушил гусляр Добрыня море бурное! Порассеялись тучи тёмные! Прояснилося небо синее. Подходил ко Добрыне купец Степан, Говорил гусляру он таковы слова. «Ай‚ спасибо тебе, Добрынюшка, За твою игру победительную! Ты две песни сыграл, две спасительные. Победил ты первой песней страшный перстень мой, В нём всю силу враждебную-алчную! Ты второю своею песнею Победил зло морское, Добрынюшка: Утишил-укротил непогодицу, Смертоносную погубительницу. Ты спас опять от погибели Корабельную дружину торговую. А и спеть тебе, Добрыня, третью песенку! Для меня, может, песню последнюю! Для тебя — дай бог — ещё начальную! Ты сыграй, ты спой песнь для силы моей! Ободри мою душу да возвысь её! Окрыли ты меня, вознеси ты меня, Чтоб хватило мне духу расстаться с моим Заколдованным этим спутником: Роковым да лжеродным, коварным кольцом! Этой третьей твоей песней-победою В руки силу вложи, в сердце волю мне дай... Ты играй, загусельщик на гусельках — Я снимаю кольцо своё поганое!» На такие на речи на Степановы У Добрыни душа повозрадовалась: Поднялась-полетела на высокий полёт — Заиграл Добрыня песню дивную! И на подвиг, и на жизнь, и на смерть заиграл. И возвысился Степанушко песней той: Он снял кольцо, перстенёк стащил, В средиземные волны закинул его. Просияло лицо у Степана-купца, Да упал он без силы на палубу. А победная песня Добрынина Обратилася в песню печальную. Говорил Степан слова последние: «Ах, не знал я, не ведал, не догадывался, Что во мне так мало человечества: Кольцо своей злою силою Во мне душу людскую повыдушило. Оттого-то я и бездушным был! Оттого-то никогда меня не трогали Ни мольбы, ни стоны материнские, И ни слёзы голодные сиротские, Когда деньги мои, моё золото Отнимало у бедных последний кусок, Обрекало несчастных на голодную смерть!» По широкому, по седому Днепру Корабли бегут белопарусные. Из далёких дорог, из далёких путей, Из чуждых стран они вертаются — Без Степана кораблики Степановы. На крутом берегу, да на жёлтом песку, Тут сходил с корабля молодой гусляр: Удалой сходил Добрынюшка Никитьевич.Добрыня в Киеве
Ох, и наболело Добрыне Вечным изгнанником скитаться, Вечным скитальником бродяжить. Тут ещё тоска одолела: «Где теперь матушка родная? Как-то живёт она да может? Где-то сестрица Малка, Милая голубка Малуша?» Вздумалось Добрыне заявиться В славный престольный город Киев. Думает сам себе Добрыня: «Верно, всё старое забыто —_ Кто теперь меня тут узнает? Кто догадается нынче, Что я боярёнышей когда-то Наглых побил да спесивых? Верно, уж и судьи давненько Вымерли-гниют во могилах! Кто теперь судить меня станет? Кто теперь о старом воспомянет?» Взял загусельщик гусли, Прибыл гусляр в стольный Киев Ранним весенним утром: «Буду-де по городу гуслярить Я по торгам, по базарам! Буду наведываться тайно К матери своей одинокой!» Гусли гусляр настроил: Хочет киевлян он потешить. В Киеве — видит он — праздник: Толпы, народ нарядный. Что во столице за праздник? Князь вокняжается новый: Красное Солнышко Владимир Нынче венец получает! Вот гусляру-то удача, Вот гусляру-то случай! Есть где ему поразвернуться Да и показать своё уменье. Вышел Добрыня на площадь. Встал не на виду, а в затишке. Тронул Добрыня струны, Грянул он громкую славу Князю Владимиру-Солнцу. Песня полилась на площадь; Вот уже по улицам льётся, По переулкам дальним Переливается, витает. В рокоте гуслярном-перезвонном Тонут колокольные трезвоны. Перед таким играньем Замер весь праздничный Киев. Перед Добрыниным пеньем Стихли все праздничные звуки. Князь молодой Володимир Песню Добрынину услышал, Гуслям многозвонным внял он. «Кто? И откуда? Найдите! Мне гусляра приведите!» Быстро посыльные встали. С позывом глашатаи вышли. Скоро Добрыню отыскали, К князю привели во палату. «Кто ты, гусляр-песнопевец? Из каких родов-городов ты?» «Я каких родов? И не знаю. Я городов не помню. Я человек безродный. Я — одинокий скиталец. Я ведь отверженец давний. Может быть, под Киевом где-то Мать моя мается, роба, В тяжкой кабале из-за долгу. Может, и в живых её нету!» Выслушал Владимир признанье: «Песельник ты славный да дивный. Гусли твои волшебны! Песня твоя — удивленье! Ты за твои за песни, Ты за твои за гусли Больше отверженцем не станешь! Будь ты песнивцем славным И во пирах, во походах Песни слагай в нашу славу. Русь восславляй святую. Матерь твою отыщем, От кабалы избавим!» Встретился и с матерью Добрыня. Радости было много. Плакала от счастья старушка. Плакала и рыдала, Сыну своему говорила: «Княжья-то любовь да ласка — Нам она, сынок, бедоносна! Нам, горемыкам, горемычна! А из палат-те княженецких Лучше бы тебе удалиться! Ох, терема да палаты — Больно от них много горя: Милую твою сестру Малушу, Дочь мою Малку загубили. Где она, сердечная, ныне? Нет её нигде и в помине! Нет моей Малуши-дорогуши! Нынче, сынок мой Добрыня, Нынче я плачу-рыдаю. Нынче и радуюсь я вместе. Радуюсь радостью великой: Радуюсь — вот ты вернулся! Радуюсь я и за Малку! Только не знаю, эту радость Видит ли она, моя кровинка? Может, и в живых её нету... Где-то лежит в чистом поле... Вымыли дожди её кости... Поросли в глазницах ковылины... Так и не знает Малка: Ейный-то сердечный сыночек, Мой-то невиданный внучек... Ах, я внучонка не видала! Ах, я его не годовала! Ах, я его и не знавала: Малого не пеленала, В люлечке не качала, В глазоньки его не целовала... Малка, и сама-то сыночка Видела ты недолго: Мало ты его миловала, Мало ты грудью кормила, Мало теплом материнским Ты его своим согревала! Ты, моя Малуша-горюша, Ты ведь была только роба, Роба-холопка-рабыня! Ох ты была бы, Малуша, Всё ещё жива бы да здорова, Ты бы ведь радостью хоть поздней, Инно потешила бы душу. Вот я, старуха-бабка, В первый раз сегодня внука Взрослого да сильного видала: Грозного-могучего владыку! Ведай про тайну, Добрыня: Сын твоей родной сестры Малёнки, Твой единокровный племянник — Нынче он стал на княженье Киевским князем великим! Ты за него, Добрыня, Сварогу молись и ратуй, Пусть ему небо здоровья Многие лета дарует; Пусть да он князем справедливым Княжит на киевском престоле, Да и за народ стоит горою: Супроть бояр да за холопов Да ещё богов наших русских Не променял бы на грецких -— Так теперь меняют их бояре! Как это сталось, Добрыня? Так, видно, богиня Судьбина Малке судьбу насудьбила. Малка по этой судьбине Робою стала у Ольги. Властная владычица Ольга. Ольга — могутна могучанка, Робкая роба Малка — Преданна-честна-покорна -— Строгую княгиню покорила: Ключницей Ольга Малку Сделала доверенной своею И до палат допустила. Ольгин-то сын, юный княжич, Сын Святослав суровый С Малкою тайно и слюбился. Только от Ольги тайна В тайне держалась недолго. Тут-то княгиня рассердилась, Тут-то княгиня возъярилась: Выгнала Малку с позором: Выгнала из княжеского дому. Сыну Святославу запретила С Малкою больше встречаться: Княжеской-де крови да с холопской Не посмешать-ста от любленья. Ай же могутная княгиня — Времечко она проглядела, Сроки-то она пропустила: Малка родила сына И нарекла его: Владимир По уговору с Святославом. Силы у юного князя С матерью бороться не хватило: Не отстоял он Малку, Не оградил от напасти. Силы у князя Святослава, Силышки доброй достало Право отстоять своё на сына: Ольгину властную силу Князь Святослав тут пересилил, Твёрдой попрал он ногою Нечеловеческий свычай: Роб-де от робы и родится, Будто бы холоп — от холопки. Князь приневолил мать Ольгу Взять на воспитанье внучонка: Княжичем признать его заставил. Вырос Владимир, и сына Князем его отец поставил В Новгороде Великом. В Киеве нынче Владимир! Сел на престол первопрестольный. Пусть полухолоп он по крови! Только холопская кровь та Силы-то княжеской, видно, В нём не убавила нисколько! Видно, с холопскою той кровью Стал он других князей княжистей: Нынче он над ними-то и княжит! Ты ему служи, Добрыня, Преданностью-верой-правдой!»Тугарин Змеевич
У того ли Абескунского моря, У широкого Хвалынского просторья, У Ифильского устья-развилья, — Там в саду при дворце в беседке Под алмазной-золотой под крышей Прохлаждался царь тугарский Воська. Он восточному писал властелину Ярлыки скорописны и хвастливы: «А я царь-володарь над Тугарьей, Над Тугарьей да над всею Козарьей, У меня под рукой полмира, А тебе, Властелин Восточный, Остается другая половина: На две по́лы подлунное царство Мы с тобою нынче поделили, Над вселенной мы с тобой — два владавца. Моя власть — от бога Саббаота, А мой царский род от Ятета; Да от сына его Тугара, Да от внука его Козара. А я ныне, единый царь тугарский, Володычествую над Козарьей, А тебе я, повелитель восточный, И защита твоя и оборона. Без меня бы белые русы Завладели бы давно всем Востоком, И твоё покорили бы царство. А живут эти белые русы На полночь от Абескунского моря, Да на запад от реки Ифиля. То строптивый народ и опасный. По морям ходить русы горазды, А я их до́ моря не пускаю, А я их на войне истребляю. Мы с тобой, Властелин Восточный, Против русов должны съединиться: Нам, тугарам, они — угроза, И тебе — превеликая опасность. Ты пришли мне своих батыров». Не прислал царь восточный батыров, А прислал он Тугарину-Воське Мудрована-чародея Тарисея. Вместе с ним — таково посланье: «Присылаю тебе на помощь Силу сильную — сильнее батыров: Тарисей — Чернобогу слугатай‚ Восприял он от Мо́рока моро́ку, Светлый мир чёрной хмарой морочит, Чёрной чарой Тарисей чародеит. Он — ведун и червонец-чернокнижник, Он владеет нездешней силой, Он тебе — дар великий, Тугарин!» Поучал чернокнижник Воську: «Ты, великий Тугарин-повелитель, Изучил я по чёрным книгам: Народилась звезда-угроза, Воссияла она над Русью, Супротив тебя, Тугарина-Воси, Супротив всего тугарского роду, Супротив всего козарского царства. И нет воина иного в мире: Только сам ты, царь козарский Тугарин, Победить звездину эту в силе!» Испугался Тугаретин, струсовался, Затряслись у Тугарюги поджилки, Дробной дрожью застучали зубы, Вся тут царская спесь позаткнулась, Позапала под страхом дрожливым: «Я не трус, да боюсь кровавой сечи: Кровь рудая одна меня пугает, Ни копья, ни меча не поднять мне, На коне усидеть не смогу я, Перед воином вражьим с оружьем Пробирает трусца меня до пяток. У меня же есть вои-воеводы, Мне они всегда победу приносили, И храбры и буйны в ратных сечах, На войне заменять мне их неча, Не пойду себе на беду я, Пусть они крушат звезду молодую!» Отвечал Тарисей трусовиту: «В чёрных книгах прочитал я писанье: Супротив той звезды нарождённой Воеводы, твои хваты слабоваты, Все бессильные батыры-задиры. Ты готовься в поход, Тугарин-Вося, Пораженья в бою не бойся: Я вражо́ю моею ворожбою Из предбудущего выведал все сведы, И тебе всё уготовил для победы, По знатьбе колдовской знаменитым Станешь ты неодолимым силовитом. Ты ведь родом сын от змея Офиллы, Наберись по-змеёвски силы: По моим по заклятьям-зарокам Стань кикиморой-змеем-смоком, И на Русь тебя Морок забросит По ночам на спящих людях кровососить. Ты от русской крови будешь пьяным, Но вернешься силачом-великаном. Страх исчезнет твой от чары волшебной, Будешь полон ты силы сокрушебной. Для тебя в подземельях запрятан От отца конь огненно-крылатый. Ты на нём — говорю, не боюсь я: Одним махом разделаешься с Русью. А звезда та — твоя врагиня, От твоей могуты она загинет: То Алёшка Попович, русский витязь, Вы один на один с ним боритесь. По моим чернобожьим книгам Ты сразишь его единым мигом, Да к тому он ещё недоросток‚ Обессилить его мне просто: Он — трехлеток, ему на горе Я с отцом его ещё поссорю, И прогонит его папаня, А в изгнанье-то Алёшка завянет, В битве будет не годен через годы».Алёша Попович и сестра
Из—за лесу, из-за гор, из-за да́лечья, Из-за города Волынца, из-за Галичья, Ясный сокол в чисто поле повылётывал, Белый кречет во раздолье повыпархивал, Выезжал-вылетал удача-мо́лодец, Добрый мо́лодец Алёшенька Попович сын, Юн сам на коне — славен сиз орел, Борзый конь под ним — лютый лёва-зверь. А и до́роги доспехи на могучих плечах: А куяк-чешуя[12] из чиста́ серебра, А кольчуга-та из красна золота, А шелом на голове да с забралами На булата откован из оцельного, И не мнётся, и не гнётся, и не ржавеет, Изукрашен он златом-жемчугом. А копьё у Алёши долгомерное, Днём на солнышке оно огнём горит, Ночью свечкою ярой светится. А на левом бедре — сабля острая, Широка, длинна, харалужная[13], Лук тугой у Алёши разрывчатый — По излучине полосы булатные Ради крепости да поврезаны, Тетива у лука — жилы сохатные[14]‚ И не рвутся, и не мнутся, и не трескаются, А рога-концы из красна золота. Добрый конь под Алёшей поскакивает, Он броду за реки не спрашивает, Скачет с берегу да на берег конь, Он от моря до моря за полдня пролетит. Наезжал богатырь на кряко́вист дуб, На дубу, на суку чёрный ворон сидит, Он пограивает, да пока́ркивает, С но́ги на́ ногу ворон пересту́пывает, Перья чёрные понапра́вливает, А и ноги, а и нос — они огнём горят, А из круглых очей искры сыплются. Чёрный ворон на Алёшу поглядывает, А не лиха ли ему он награивает? А и это Алёше за беду пришло, За великую досаду показалося. Вынимает из налучня свой лук тугой, Из колчана Алёша — калену стрелу, Калену стрелу на лук понакладывает, Да тугую тетиву понатягивает, В чёрна ворона понапра́вливает. Позавыли рога у туга́ лука́, Заскрипели полосы булатные... Вот застру́неет она, тетива-струна, Вот с неё возлетит калена стрела. Чёрный ворон тут испрове́щился Языком он русским, человеческим: «Гой еси ты, удача добрый молодец! Не стреляй ты меня, чёрна во́рона, Не рони пера по полю чистому, Не окрапливай кровью у дуба листа, — Моей гибелью сердце не возрадовать, Моей крови, ворониной, не пить тебе, Моим мясом тебе не сытиться, Надо мной душой не утешиться. А скажу я тебе дело богатырское: Возъезжай ты на гору на высокую, Посмотри ты на раздолья на широкие, Угляди-усмотри три черна́ шатра, Перед чёрными шатрами — беседина, На беседине сидят три тугарина, Три собаки, три пса, три козарина, Лиховастые три наездника, Перед ними во путах — красна де́вица, То ведь русская полоняночка!» И за те слова Алёша спохватается, Не просвистнула стрела там перёная, Не простру́нела тетива-струна, Не довыли рога у туга́ лука́, Опустилася богатырская рука, Не повыстрелил Алёша в птицу вещую. «А спасибо тебе, чёрну во́рону, — Указал мне на дело богатырское!» Разретивилось сердце молодецкое, Он и бил коня по крутым бедрам, — Из боков ала кровь источается, Белый конь под Алёшей возвивается, Возлетает он на гору на высокую, На вершину, на синюю, на каменную. Увидал Алёша: три шатра стоят, Три врага сидят, три тугарина, — Перед ними-то — красна девица, Полонёна, унесёна, повыкрадена, Вся в опутьях белая лебёдушка. Ниспускался Алёша, устремлялся к шатрам, Не доехавши да стал выслушивать: Проливала девица слёзы горькие, По трубчатой косе да слёзы скатывались. А девица косе да приговаривала: «Ты коса ли моя руса косонька! Ах, бывало то мне, молодёшенькой, В парной баеньке мыла маменька, Она мыла-чесала буйну голову, Заплетала мне косу русую, А сама-то косе приговаривала: «Ты коса ли, коса девья русая, Ты кому, коса, подостанешься — А ты князю ли, ты боярину ли, Ты крестьянину ли, землепахарю, Ты купцу ли, гостю торговому ли?» Доставалась коса моя русая, Не боярину, не князю, не крестьянину, Доставалась ты, руса косонька, Трём поганым, трём тугарам, трём козаринам» Сам большой тугарин утешал-речевал: «Ты не плачь, не плачь, красна девица, Не рыдай, наша белая лебёдушка, В дележе ты, лебёдка, мне достанешься, Я возьму тебя за сына старшего, Станешь ты у меня да мне невестушкой, Станешь ключницей и замочницей Хоронить-беречь моё богатство-добро», Этих слов красна девица не слушает, Пуще плачет, а слёзы в три ручья бежат. А тут средний тугарин утешал-речевал: «Ты не плачь, не рыдай, красна девица, Я возьму тебя за сына меньшего, А ты будешь моя младшая невестушка. Изнасыплю я кучу золота, Чиста серебра, скатна жемчуга...» И того-то девица не дослушивает. Ещё пуще возрыдает, горше слёзы льёт. А тут деву тугарин утешал меньшой: «Ай не плачь, ты не плачь, красна девица, Не рыдай, наша белая лебёдушка, А я замуж тебя да возьму за себя, Будешь ты моя молодая жена. У меня есть сабля не обно́влена, Обновлю я саблю да о шею твою!» Эти речи Алёша не дослушивал, Он три чёрные шатра да повыкрушивал, Он первого тугарина конём стоптал, Он второго тугарина копьём заколол, Он третьего ссаблил саблею. Он и брал девицу младокрасную, Брал за правую руку да за белую, Возгорался обнять и женой назвать. Поразжалобилась красна девица: «А не честь твоя молодецкая, А не удаль твоя богатырская, Не спросить ни имени, ни о́тчины...» Спохватается Алёша, сомущается: «Ты отколь, девица, отколь, красная, Ты с каких родов, ты с каких городов, От какого отца, которой матери?» Отвечала Алёше красна девица: «Я от батюшки попа от Ростовского, Я вечор гуляла во зелёном саду, А из чистого поля из далёкого Набегали-налетали три тугарина, Три козарина-собаки, три наездника, Полонили меня, красну девицу, На дуван[15] увозили в поле чистое». Вспохватился Алёша, добрый молодец: «Гой ты, де́вица, душа красная, А ведь ты мне, девица, — да родная сестра. Было дело-то былью давнею. На роду порчуны меня испортили, Отец-матушка возненавидели, Трёх лет в чисто поле поотправили, Оставляли одного-одинёшенького Сиротинкой-былинкой-неокрепинкой. Одолели меня ры́ды плакучие, Обессилили слёзы текучие. А по полюшку да тому чистому Пролагал борозду пахарь-сеятель, Он сошкой пахал да кленовенькой, На ступистой на кобылке на соловенькой. В белом Белый Полянин да меня услыхал, Он сиротство-печаль ту мою увидал, Подходил, говорил таковы слова: «Отвалитесь вы, ры́ды плакучие, Да обсохните, слёзы горючие, Воссияй на небе, солнце красное, Улыбнись ты, младенец, свету белому. На роду твоем, вижу я, написано: Удальцом-борцом быть удатным тебе, Богатырствовать во славу светлой Руси. А тебе подарю я жеребчика От кобылки моей от соловенькой, Коня белого неезжалого, Необъезженного трехлеточка. Будет он слугой да и верным тебе. Ты не плачь, не журись, ты возрадуйся: Я сажаю тебя на бела коня, И проснутся в тебе силы богатырские, И трехлеточком и на трехлетнем коне, А ты витязем станешь, воителем. Поезжай теперь на горы на Сиверные, Там брат мой, кузнец, — он откует тебе Богатырские доспехи все воинские. А и верно: на горах тех на Сиверных Осбрунился там я, оборужился, И с тех пор на Руси и богатырствую». Свой рассказ Алёша дорассказывал, Вороных коней козарских поотвязывал, Красно золото, жемчуг-се́ребро Из шатров на них приторачивал, А родную сестру он к себе сажал, Привозил её к Ростову-городу‚ У ворот городских останавливался, Целовал девицу на прощаньице, Говорил сестре таковы слова: «Меня род-племя не в любви держал, Отец-матушка возненавидели, Я сниму тебя, сестра, с коня белого, Я даю тебе трёх вороных коней. На конях-то поклажа дорогой цены: Скатен жемчуг да злато-се́ребро — То законная добыча богатырская, Отнята у нахвальщиков, лихих козар, У собак-тугар псов-наездников. Ослезили они очи девичьи, Исстрадили-измучили тебя, сестру, Пусть да будет всё тебе во приданое, Плата малая за горе за великое, За все муки, за все пережитки твои. Ты бери, сестрена, трёх вороных коней, Со поклажею, со богачеством, Ты явись-объявись на отецкий двор!» Возрыдала девица пуще прежнего, И просила она, больше плакала: «А не надобно трёх вороных коней, Ненавистно мне козарское богачество, А надобен мне ты, брательник мой, Воротись-примирись к отцу-матери!» «Не поеду я с тобой, сестра родимая, — Отец-мать меня однажды отстудили, А другой-то отстуды мне не ждать-принимать!» Отбывала сестра одна без брателка. Отцу-матери дома рассказалася: «А на горе мне, не в минучий час, Набегали на нас три набежника, Три тугарина, три козарина, Уносили-унесли меня в далёкую даль, За меня дуван задуванили: А кому во владу подостанусь я?» А на ту пору́ наезжал богатырь, Под ним белый конь, он белее дня, На нём латы-оружье солнцем светятся, Меч-копьё воссияют ясным месяцем. Витязь первого козарина конём стоптал, А второго козарина копьём сколол, А третьего — саблей ссаблил он. Снял опутья с меня, от плену вызволил, А то был богатырь — мне родимый брат, Удалой-молодой да Алёшенька. Я звала-звала, долго плакала, А домой со мной он не поехал ведь, Воротился опять в поле чистое».Алёша Попович и Тугарин Змеевич
Ах, победа-победа Алёшина, Отчего не веселишь ты, не радуешь Удалецкого сердца молодецкого? Ах, грусть-тоска да знакомая Огрустила снова сердце молодецкое, Ах былая кручина окручинила, Опечалила печаль раны старые. И куда уйти добру молодцу От былой от неправды отца-матери? Снова витязю забыться в богатырском бою! В чистом поле Алёша думу думает: «А поеду я во стольный Киев-град. Попрошу я у князя у Владимира Богатырской службы да по смелости, Всё по смелости моей да по доблести. Разверну плечо молодецкое, Разгоню печаль я тоску свою, Или голову сложу во честном бою. Выбирай, добрый конь, путь-дорогу сам Ты ко стольному граду Киеву». Коник сметлив, догадлив, на побежку скор, Прямоезжих путей ему не спрашивать, По окольным путям не пытать, не плутать, Он прыг, он скок, он в короткий срок Доносил богатыря без путей, без дорог, опускался перед городом Киевом. Повстречался Алёше стар-матёр скоморох, Старичище седат-бородат Зная́й: «Ты куда спешишь, добрый молодец?» Отвечал Зная́ю Алёшенька: «Я спешу-тороплюсь в стольный Киев-град, Я — на службу ко князю Володимиру!» «Опоздал ты, удача добрый молодец, Ныне Киев-град сдан без бою врагу. Налетел Змей Тугарин на святую Русь, Он грозой грозил стольну Киеву: «А я Киев-град, я взятьём возьму, Терема-дворцы я на дым спущу, Я княгиню Гореславу Королевичну В полюбовницы я себе обольщу, Володимира-князя я слугой обращу, Будет князь мне верным слугатаем. На пирах с Гореславой мне служить-подносить!» Испугался угрозы Володимир-князь, Не скликал богатырей славных витязей, Сам сдавался без бою, без се́ченья. Ныне Змей Тугарин во дворцах-теремах За хозяина хозяинует там, Обольстил-прельстил Гореславу Змей, За столом сидит, с ней целуется, Сам Владимир-князь им прислуживает!» Было бедко Алёше от сведки такой, Распалился на бой богатырь молодой: «Мне тугар-те бить не учиться стать! Я конём стопчу, я мечом ссеку, Я стрелой разорву, я во прах сотру, Я развею прах, я — по всем ветрам, По всем ветрам, по всем ви́хорям, От тугарина, от козарина Ни следа, ни наследка не останется!› Скоморох Зная́й Алёшу выслушивал, Головою с упреком покачивал: «Гой еси, удалой ты, Алёшенька, Смельства-удали очень много в тебе, Много храбрости, много доблести, Ты не силой возьмешь — ин напуском, Лих Тугарина Змея тебе тем не взять: Не берет его калена стрела, И не колют акинаки[16] харалужные, Не секут его ни мечи-кладенцы, И ни сабли не рубят булатные, И ни копья не пронзают долгомерные, Ни копыта не сминают Змея конские, Змей Тугарин Змеевич ничем не сразим, А ведь сам зато на летучем коне, На летучем, на крылатом, все жжёт и палит: У коня-то ли того у Змеёвичева Грива пламенная, крылья огненные!» Раззадорился Алёша пуще прежнего, А в задоре Алёша — он хвастливым был, Порасхвастался уда́лой похвастью: «Не пугай ты меня, скоморошище. Моя воинская доблесть не уступчива, Богатырская смелость не упадчива, Боевая отвага не украдчива, А свалю-погублю я козарина, Либо я сложу буйную головушку, Да и пусть мои очи молодецкие Не увидят позорища над Русью святой!» Отвечал Алёше скоморох Зная́й: «Много буести, Алёша, в тебе, Носят храбрые мысли твой ум и тебя На великое на дело витязенское, Да сдержи ты безумную смелость свою, А возьмися за разум да во́йми мне: У Тугарина-то Змея козарского Есть одно у него да место слабое — В лоб-то Змея Тугарина убить нельзя, Да слаба козарская поты́лица. И не честь тебе хвала молодецкая Погибать-согорать во змеёвом огне, Будет честь-хвала молодецкая Изловчиться, ударить по затылку ему, Не мечом, не булатом, хоть бы палкою, Хоть бы посохом, хоть подорожной клюкой, От удара такого богатырского Змей козарин Тугарин испустит дух!» Молодой да смелый Алёшенька, А на тот на миг он догадлив был: Утишил своё сердце богатырское, Усмирил свою буесть воинскую, Уж не хочет красоваться он доспехами, И сказал Алёша скоморошине: «Ты снимай своё платье скоморошное, Одевай ты моё богатырское, Ты бери и коня, и всё оружье моё, А оденусь я по-скоморошески, Да возьму твой посох, скоморошью клюку!» Так сказано, да так и сделано: Скоморох с богатырём переоделися, Они одёжею переменялися. Скоморох Зная́й — он сел на коня, Сам Алёша пошел с подорожной клюкой. А клюка-то она и не проста была, А в клюке-то вес девяносто пудов. Говорил на прощанье Алёше Зная́й: «Ты возьми ещё гусли скоморошные, На честном на пиру у Володимира Пригодятся тебе мои гусельки!» «Я бы взял твои гусли, скоморох Зная́й, Да владеть-играть не умеючись: Отродясь не бывал я загу́сельщиком!» «А беда невелика в том, Алёшенька, Мои гу́сельцы-те самогудные: Они сами рокочут, они сами поют. Ты умей только мыслию смыслити, — Мои гусли сами подпоют тебе; Ты умей только чувством счувствовати, — Подыграют-подгудят гусли чувствам твоим. А от гуслей моих — мысли смы́сленнее, От яровчатых — все чувства счу́вственнее!» Тут с Алёшей Зная́й расставалися. Приходил Алёша в славен Киев-град. Попадал богатырь на почестен пир, На почестен — не честен, на посра́мищен: Пир во гриднице у Владимира, Да хозяин на нем — не Владимир-князь. Видит видище витязь невиданное, Слышит слышище Алёша неслыханное: За почётным за княжьим золотым столом Восседает не сам Володимир-князь — Там Тугарин Змей величается, Над боярами-князьями изгаляется, Со княгиней Гореславой Королевичной Змей милуется да целуется, Обнимает Гореслава Тугарина На глазах да у мужа Володимира. А Владимир Тугарину прислуживает, Яства, мед, вина Змею поднашивает. Заявился скоморох на этот пир на срамной. Он Тугарину Змеёвичу не кланяется, Поклоняется поясно Владимиру. «Ты скажи, государь Володимир-князь, Есть ли место скомороху на таком на пиру?» Володимир-князь заикается, От испугу словами подавляется. Змей Тугарин на Алёшу рассержается: «Ты откудова, невежа деревенщина, Ты слугу привечаешь, места спрашиваешь, А меня, государя, не желаешь признать?» Скоморох тут Змею выговаривал: «Змей Тугарин, ты собака, а не князь-государь, А собака-та лает — ветер носит тот лай, Не с тобой, пёс, беседа — со Владимиром!» Змей Тугарин Змеёвич возъяряется, За кинжал харалужный хватавается, В скомороха с хрюком-рёхом кидавается. Млад Алёшенька увертлив да ухватлив был: Увернулся, ухватил то кинжалище — Тяжело, велико, востро лезвие Серебром чистым к черню припаяно, Серебра на припой пошло двенадцать пудов. Удивился Змей, бельма вытаращил. «У тебя, скоморох, и холопий вид, Зато сила, видать, богатырская, А тебя я за это пожалую, Я слугой тебя верным сделаю, Будешь ты мне служить верой-правдою. И даю тебе место почётное: Ты поди, ты садись хоть и подле меня, А другое место — супротив меня, Третье место — садись, куда захочется!» Отвечал скоморох Тугаретину: «Рядом с князем сидеть Володимиром Раньше было место почётное, А сидеть да со Змеем Тугарином Нынче стало место позорное. А не сяду‚ Тугарин, я ни рядом с тобой, А не сяду, Тугарин, супротив тебя, А я сяду за печкой за мура́вленкой. Раньше место было само низкое тут, Нынче стало оно самое почётное». Сел Алёша за печку за мура́вленку. Приносили повара на блюде лебедя, Принимал-подавал его Владимир сам, И хватал-глотал, с костьём заглатывал Одного за другим лебедей-те Змей — Успевай, повара, да нажаривать, Торопись, Володимир, ко столу подносить. А Алёшенька-скоморошинка Во своём углу приговаривает, Подпевают ему гусли самогудные: «Гой вы, косточки вы лебяжие, Позаткните собой глотку вражью вы, Подавись-поперхнись ты, Тугарин Змей, Задохнись-растянись, за столом околей, — По-собачьему да по-волчьему; Никому бы псу и не помочь ему!» Лебедь жарена у Тугарина Позаткнула Змеине всю гортанину. Змей-то давится, пастью хамкает. Принимались отливать аж лоханкою. Не одна лохань залита́ в гортань. Вота будто тут Змей отутовел. Избранился Змей не по-хорошему, Он сказнить велит скоморошину. Тут Алёшенька и не скрывается, Своим именем и прозывается: «Я‚ Алёша Попович, это я, богатырь, Истреблю тебя, Змея, во честном бою!» Рассмеялся Тугарин, распотешился: «Много лет я искал да выспрашивал, Где Алёшка Попович, богатырь на Руси? Говорилося: он будто смел да силён; Вышло: кроха из крох, скоморох, худ и плох. И меня, да такой, вызывает на бой! А ведь я тебя, Алёшка, глотком сглону, А ведь я тебя, Алёшка, огнем спалю, А ведь я тебя, Алёшка, в песок сотру! Да с пировли мне уходить не пора. Эй, Владимир-слуга, выставляй борца, А я выставлю супротивника. Буде мой поборет — ты отдашь мне в заклад, В отсеченье Алёшкину голову, Буде твой поборет — ты Алёшку бери, Посади его во глубок подвал!» Совершился торг, согласился князь, Поязался Владимир Тугарину Услужать и головой, хоть Алёшиной. Да взыграла душа богатырская, Да восстала гневая Алёшина: «А не надо, Владимир, утруждать себя — Выбирать борца-поединщика, Это сам я пойду на потешный бой, Сам я выберу себе и козарина, Я тебя выбираю, Тугарин Змей, Хочешь — здесь и начнём битву-се́ченье, Хочешь — выйдем на бой в поле чистое, Уж потешиться — так смертной схваткою!» Не замедливал Алёша, нож выхватывал, Тот козарский-тугарский булат-кинжал. Испугался Тугарин, стал упрашивать: «Мы давай с тобой, Алёша, побратуемся: Будешь ты на Руси моим наместником!» «Ах, свиное ты рыло, ах, поганый козар, — Неподкупно богатырство русское, Непродажны русские витязи, Хочешь — бой принимай здесь во гриднице, Хочешь, пёс, — выходи в поле чистое. Будем биться с тобой мы один на один!»Бой Алёшин со Змеем Тугарином
Выезжал Змей Тугарин в поле чистое — Латы, шлем, броня, кольчуга колдовские на нём: Не пронзает броню калена стрела, Не сечет шелома булатный меч, Не прокалывает лат копьё тяжёлое, Не берет кольчуги сабля острая, Ни кинжал, ни акинаки харалужные. Сам Тугарин-козарин — великан на коне, А под ним — конь крылатый, крылья огненные. Впереди — два серых волка, да два вы́жлока[17], Позади-то летят два чёрных ворона. Выходил на бой Алёша без кольчуги, без лат, В скоморошной одеже да с гу́слями, Да за поясом кинжал, да скоморошья клюка. На Алёшу Тугарин надвигается, Волки-вы́жлоки ощеряются, Конь крылатый огнём разгорается, Чёрны вороны нависаются. Распинал волков Алёша, выжлоков, Раскидал Алёша чёрных воронов, в руки брал Алёша гусли самогудные‚ Возвышал к небесам богатырский глас: «Небеса, моё небо синее! Я иду под тобой на неравный бой. Собери ты, небо, тучи грозные, Громы-молнии‚ ветры-ви́хори, Ты пролей из туч частый-крупный дождь, Ты пролей, пролей ливень ливистый, Ты залей-затуши гриву пламенную, У тугарского коня крылья огненные, Ты сорви-отнеси их ветром-ви́хорем!» Рокотали-звенели под Алёшин зов Самогудные гусли звончатые. От великого слова-рокота Пробуждалося небо синее; Собирали небеса тучи грозные, Надвигали со громами да со молниями, Опрокидывались частым-крупным дождём, Потухали огни под ливнем-проливнем. Стал не жарок жар у огнистых крыл. А и тут он, Алёша, изворотлив был, Подбегал — не замедливал к Тугарину, Закричал сквозь небесные грохоты, Заглушал все громы, ветры-ви́хори: «Ты, Тугарин Змей, ты Змеёвич сын, Почему уговора не выдерживаешь? — Сговорились мы биться один на один А ты вывел за собой рать великую!» ‚ Обернулся Тугарин, поглядел назад Тут Алёшенька да очень скорым был, Поворотливым да догадливым, Ухватил он клюку подорожную, Размахнулся, ударил по заты́лице Повалился на землю Тугарин Змей. И на грудь ему Алёшенька заскакивал, Вынимал-заносил тот тугарский кинжал. А Тугарин Змей да и очувствовался, Стал Алёшеньку он неправдой корить: «Не по правде ты вёл, Алёша, бой, Непочестно богатырству русскому да губить врага коварством-хитростью!» Отвечал тут Алёша Тугарину: «У врага не искать мне правды-истины, Не тебе корить да коварством меня. А не ты ли, козарин, в безоружного Да разил меня этим кинжалищем — Этот нож я теперь и обращу на тебя. И не я тебе, псу, отрезаю башку, Отсекает её твой кинжал, ты сам!» Обезглавил Алёша Тугарина. . Поднимал башку у чудища огромнейшую, Подходил ко крылатому Змеёву коню, К торокам её приторачивал[18], Отправлялся в Киев на тугарском коне. А из терема златоверхого Гореслава глядит Королевична, Все глядит-поглядает в поле чистое, Все ждёт-поджидает друга милого, Полюбовника Змея Тугарина. И кричит-зычи́т она с радостью: «Едет, едет Тугарин, мои сердечный друг, С поля чистого, с битвы-се́ченья Он везет за седлом приторочену Поотсе́ченную голову Алёшкину!» Поглядел из окошечка косявчатого Робким взглядом Володимир-князь И не знает сам: что поделать ему — То ли радоваться, то ль кручиниться? Не то с грустью князь, не то с радостью Говорит Гориславе Королевичне: «Не Тугарин это едет с боя-се́ченья, То Алёша Попович на тугарском коне Едет к нам с головою Тугариновой!» Гореслава без стыда запричитывала, Широкими рукавами заразмахивала: «Деревенщина, Алёшка, ты засельщина, С милым другом-то да разлучил меня, С молодым моим Тугарином Змеевичем!» Эти речи Гореславины бесстыдные За досаду показались Володимиру, Приказал он Алёшу поче́стно встречать, Сам сказал Гореславе Королевичне: «И тебя я, потаскуха заморская, Не оставлю без награды моей княжеской Я навек соединю тебя с Тугарином...»Алёша Попович и Илья Муромец
Проговаривал Алёшенька дружинушке своей: «Гой вы, витязи удальцы-молодцы, А кипит в нас сила богатырская, А горит в нас удаль молодецкая, А поищем мы дела себе по плечу!» Друг друга вопрошали младовитязи: «Не поехать ли нам во Смоленск славен град? Не поехать ли да во Чернигов нам? Не поехать ли в стольный Киев-град?» И на то ответствовал Алёшенька: «А нельзя нам поехать во славный Смоленск — Там калашницы хороши-пригожи, А пекут они калачики расчудные: По калачику съедим — ещё захочется, По другому съедим — так и по третьему Затоскует-заболит молодая душа. Не расстаться, не уехать из Смоленска тогда. И пройдёт про нас‚ молодцев, слава худа! А нельзя нам поехать и в Чернигов-град, Хороши там девушки-черниговки: Заглядимся на них да загуляемся, Позабудем про дела про богатырские — И пройдет о нас слава ещё хуже той, От востока пройдёт и до запада. Не поедем и в Киев — у Владимира там На пировле-то позапируемся, Потеряем от вина разум-головы — И пройдет про нас слава самохудшая По вселенной всей, по исцелине. А поедем мы во дозорный поход, Буде встретим нахвальщика-ворога — Вступим в славный с ним богатырский бой; А не встретим — постреляем гусей-лебедей!» Было сказано так, да так и сделано. Миновала дружина славен город Смоленск, И Чернигов, и Киев стороной прошла. А и тут на пути да на поприще Повстречалася рать половецкая. И страшна, и грозна надвигалася, Красен Киев полонить похвалялася. Сказовал тут Алёша Попович млад: «Уж ты гой еси, дружинушка хоробрая, То приспело нам дело, и немалое: Понапустимся мы на вражью рать, На хвастливую, на половецкую‚ Упасём от беды стольный Киев-град — Наша выслуга не забудется. А пройдёт про нас славушка великая, И дойдёт до Ильи она до Муромца. Не дошедши старик нам поклонится». Развернулся Алёша со дружиною. Завязалася битва долгая. И не выдержала сила половецкая, Разбежалася рать великая, И по полю, и за поле, за пески, за кусты. Дело славное свершили добры молодцы: Поочистили дорогу прямоезжую. И сказал Алёшенька соратникам: «А не стыдно нам теперь и на людей поглядеть, А поче́стно появиться в стольном Киеве —— Послужили верой-правдой мы Владимиру!» В чистом поле на дороге — там не дым дымит, Не туман по земле расстилается, И не гром гремит, и не ветер гудит, То гремят, то гудят кони добрые, Из-под ног от копыт пыль столбом пылит — Это едет дружинушка Алёшина. Впереди-то дружины не огонь горит, Не заря-свет, не солнце занимается, Впереди летит слава богатырская, От востока проходит и до запада. Долетела до Смоленска, до Чернигова, Прошла славушка повсюдно и до Киева. До горы она дошла и до Черниговки, До того ли до холма до окатистого, До тоя ли до березоньки кудрявыя, До того ли до шатра белополотняного, До стар казака Ильи Муромца. В один час дошла, в один миг пришла До Владимира и до Ильи она, Эта слава одна, и одним светла, Да по-разному славушка встречена. Илья Муромец сын Иванович Сам с собой говорит да дивуется, Он заглазно дружинушке кланяется: «Добры молодцы, храбрые витязи, Вы-тко ездили дорогами далёкими, Поочистили пути прямоезжие, Поразбили силу-рать половецкую, До меня-то вы с Алёшей не доехали, От меня слова доброго не слушали, Видно, ехать мне самому в Киев-град!» В эту пору да в это времечко Говорил князь Владимир таковы слова: «Не по мысли мне Алёшка поповский сын. Эта выслуга да не по думе мне, Эта слава да не по сердцу идет. У меня на то спросу не спрошено, Не моею думой дело сделано... Запереть ворота, стены-крепости, Заложить все заставы городо́вые, Не пускать Алешку со дружиною!» У закрытой заставы, затворённых ворот Со стены одно дружинушка услышала: «Тебе в Киев, Алёша, не приказано, К Володимиру будет отказано!» Повернулася дружина опечаленная. От ворот поворот такой не радостен. А куда теперь ещё путь держать? В поле травушки поприклонилися, Алы цветики испоблекли все, Затуманилось солнце красное, Кони-лошади да понурилися — Нога за ногу запинается, Голова к земле опускается. Ах, дороженька, ты под врагом была, А свободна теперь да поочистилась От того ли от Алёшеньки Поповича. А по ней-то навстречу богатырь спешит, Он спешит-поспешает-торопится, Илья Муромец сын Иванович. А и тут богатыри повстречалися. Говорил стар казак таковы слова: «А спасибо вам, удалые витязи, За победушку за вашу за ратную. А вы чем, богатыри, опечалованы? Али радость вам ваша не радостна?» «А спасибо за привет твой, атаман Илья, И победа нам — радость радостна, Да у князя мы во немилости: Нам к Владимиру явиться изотказано!» «Гой вы, добрая дружинушка хоробрая, Вы вертайтеся со мной в Киев-град, Честью встретит вас Володимир-князь!» «Ай мы были уж у Киева употчеваны: От ворот поворот нам указан был. Не проси, не поедем мы назад, Илья!» В миг един атаман был у Киева. Он застав-крепостей открывать не просил, У ворот приворотников не спрашивал, Через каменные стены перемахивал, Доезжал до двора до Владимирова, Ко тому ко столбу ко точёному, Ко тому ли колечку золочёному, Ко тому терему княженецкому. Забегает Илья на резное крыльцо, В сени новые, гридню светлую, Бьет челом стар казак ниже пояса: «Уж ты здравствуй, князь стольнокиевский, Поздравляем с победою немалою, Залетали ли сюда ясны соколы, Добры молодцы с Алёшенькой Поповичем?» Отвечал Илье Володимир-князь: «Да бывал тут Алёшка поповский сын, А до дому я не допускал его!» Атаманов сказ спокойнёхонек был: «Собери-тко-ся‚ князь, ты почестен пир, Позови на пир Алёшу со дружиною, Посади-тко-ся Алёшу повыше всех, Одари всю дружину щедрее всех —— Ведь пошла о ней славушка немалая По всей земле, по всей исцелине... Ты пошли послом Добрынюшку Никитьевича, Он Алёше, Добрыня, — крестовый брат, Он, Алёша, Добрыни не ослушается». И поехал Добрыня по Алёшу послом. Не дошедши, Добрыня низко кланялся: «Уж ты гой еси, Алёшенька Попович млад, А поедем-ко-ся в красен Киев-град — Ведь зовет тебя на пир Володимир-князь Хлеба-соли есть, пива с медом пить!» А тут витязи изотказывались: «Не поедем мы к собаке Володимиру — Не умел встречать при приезде нас, При отъезде звать не к лицу идет!» Неотступен Добрынюшка Никитьевич: «Ай, поедем мы, Алёша, со дружиною, — Отказали вы князю Володимиру, Не отказывайтесь на богатырский зов: Ведь зовёт атаман Илья Муромец, Да зовёт и Дунаюшка Иванович, Да зовёт и Василий Игнатьевич, Да все витязи зовут святорусские!» Откликался-соглашался Алёшенька: «Отказал я псу Володимиру, Да важнее князя богатырский зов. Вороти, дружина моя верная, Лошадей-коней в стольный Киев-град!» Прилетали соколики ясные. Привечал-говорил Володимир-князь: «Многолетно здравствуй, ясный сокол наш, Богатырь Алёша со дружиною! Победили вы много супостатов-врагов, Не пустили полонить стольна Киева. А пожалуем мы села вам с приселками, Города с пригородками-посадами, И казна не закрыта теперь будет для вас. Вы пожалуйте, гости, во застолицу, Будет место вам самое почетное.» Отвечал Алёша Володимиру: «Поздно, князь, откупаться, задабривать нас. И не надо нам сёл с приселками, И не надо городов с пригородками, И не надо ни золотой казны, Захочу — тебя, Владимир, я и так прощу, Захочу — и коней поверну я прочь... Расходилося сердце богатырское. Не во гриднице, не во княжеской Созову я богатырство святорусское. Будет воля твоя — и отпустишь нам Пива пьяного, меду стоялого, А не будет воли — мы и так уйдём!» Закручинился Владимир, опечалился, да Богатырского слова изломить нельзя. Отпускал Владимир все просимое. Уезжали дружины богатырские В чисто поле на свой, на богатырский пир. Оставался Владимир со боярами.Данило Ловчанин
В небесах — солнце красное, На земле — Володимир молодой, Ясен сокол Святославович: Он для всей святорусской земли — Князь — Ласковое Солнышко. После ратных походов и сеч Ныне мир и покой на Руси: Поутишены крикливые, Позамолкли строптивые, Покорёны непокорные. Призапали печенеги во степях, Замирилися ятваги при морях; Землям западным — гроза, сам Оттон Оробел перед Владимиром: Не пойдет войной на светлую Русь. И на той ли да на радости Володимир Красно Солнышко Созывал гостей со всех волостей: От холопа мужика-вахлака[19] До боярина вельможного Сокликал на весёлый, славный пир. Пировляне разгулялися, Языки поразвязалися, Распахнулись души хмельные, Под задор порасхвасталися, Пуще прочих боярская спесь У бояр распузырилася. Лихо каждый один над другим Похвальбищей возвышается. Этот пузом да несметной казной, Этот грузом корабельным да женой, Тот владеньями окольными, Тот заморскими диковинами. Ай тих один детина, молчалив, Не спесив, не криклив, не говорлив. В летний полдень во зелёной во траве — Не без жухлой былиночки; На веселом, на разгульном на пиру Не без мо́лодца кручинного. Да и что попристрело с тобой, Буй Данило свет Денисьевич?! — На ловитвах добычлив ты: В синем небе на гусей-лебедей, В чистом поле, в тёмном лесе на зверей — Ты ловец, ты стрелец-удалец, Батьку старому — гордость-сын, Разудачливый охотник Ловчанин. Ах, что с добрым молодцем: На пиру один печален-молчалив, И ничем не выхваляется?! Пало на душу унынье-тьма, Сердце чуем започувствовало Неминучую-лихучую беду. Что ты ноешь, сердце, ноем-тоской? Ты скажи-поведай разуму: Ты какою скорбью скорбной скорбишь? Да молчит бессловесное, Да кручиною безвестною томит! Володимир Святославович — Очи зорки соколиные, Повороты-речи скорые, А по роду — от мужички сын: Очи видят широко-далеко, А душа-та разволнованная, Ей печаль-тоска чужая больна, А мужичкиному сыну спесь чужда — Он вставал, подходил, говорил: «Гой, Данилушка Денисьевич, Не твои ли мысли храбрые Носят разум твой на важные дела, Не твои ли стрелы с лету бьют В небе птицу, зверя — в тёмном лесу, Не твои ли плечи буйные мечом Рассекают врага на две полы — Почему ты наш весёлый пир Скорбью скорбной опечаливаешь? Аль тебе у нас невесело? Аль ты беден, нет казны у тебя? Али нет молодой жены? Аль твой добрый конь да клячей стал? Аль вносилось платье цветное? Всё я дам тебе — встань возвеселись! Выпей чару из моих княжьих рук!» «Выпью чару княженецкую Из твоих рук, Красно Солнышко, Не найду на дне радости! Не обижен богом-господом я, Не обойден твоей милостью. Дом мой — чаша полная, Есть хозяйка, молодая жена! Есть она и золотая казна, Конь мой не изъездился, Цветно платье не сносилося! Да душа моя тоской удручена, Скорбью чёрною она омрачена — Отпусти меня с миром, князь!» Уходил с веселенья Данил. Шум-гром-смех-спор-разговор. На пировле веселяги веселы. Позагружены яствами столы. Круговые чаши пенятся. В шумен час восподнялся князь — Тишина повисла в гриднице, Слово молвит Красно Солнышко: «Гой вы, гости вы, братья-князья, Все бояре именитые! Вы все переженены, Я один только холост — не женат! Поищите вы сужёную мне, Расхорошую-пригожую — Где она есть, невестонька моя? И лицом и очами ясна, Лебединою статью статна, Смыслом-разумом-умом сверстна‚ Знает грамоту русскую — Вам такую будет радостно назвать Государыней-матушкой, Мне — женой милой-ласковой». Пировляне посмутилися, Онемела застольщина, Языки поотнималися, Мысли в тупь поиступилися, Приутихли застольники. Тут Мишук Пересмякин сын, — Шебала-та[20] умом-разумом пуста, А душонка злобой лихою полна, Он, малявка, и повскочи, Слово-гнусь да и повыскажи: «Свет ты, батюшка Владимир-князь, Див-чуд я повидывал, По белу свету поезживал, Многотою раскрасавиц повстречал: И княжён, и королевичен, И царевен из разных стран. Есть которая красива и статна, Слово выронит — на ум глупа. Есть которая умом сверстна, Статью-ростом — глянь на поступь: не статна. Ай да, Солнце ты Красное Володимир Святославович, Не за морьями морянскими, Не за горьями горянскими, Есть рядом, под Киевом, Красота несказанная — В мире не было и нет нигде такой, И не будет до скончанья веков! Вот была бы княгиня тебе, Вот бы нам её звать-величать Государыней-матушкой: Умом-разумом она сверстна, Красотою несказанною дивна, Статью женскою степенна и статна, и горазда на всякие дела Василиса Микулична — Молода жена Данилина, Ловчанина-охотничка, На пирах твоих молчальничка!» Воскипел Володимир-князь, Возъярилася неистово душа На речуги на бесстыдные, На мыслюхи на Мишуковы: «Подлый пёс ты, Мишутище! Низким словом испоганенным Как посмел ты мне, князю, ветать: У жива мужа жену отнять? За неслыхань за невиданную, За скабрезные измыслы твои Я велю тебя судить-казнить, В землю-матушку живьем зарыть!» А Мишака — изворотлив он: Злым родился, сам во узах со злом — Чернобогу злотворному Возносил заклятье Мороку. По заклятище-молитве таковой Сердце, думы Володимиру Заморочил чёрный Морок Чернобог. Распалил мечтану княжескую: В полупьяне да в тумане колдовском Дивно-дивная возгрезилася В марной маре-обаяне ему Ин во всей женской прелести — Василиса Микулична. Взволновался дух и разум померк, Слово гневное застыло в устах: Непотребству Мишакиному Ни укора, ни покора больше нет. Пересмякин сын в ураз пересмекал — Он на гнусть ту провор-лиховор, Снова начал подлый свой разговор: «Ну ин, батюшко Владимир—князь, Не во зло слово молвлено: О тебе озабочено! Погоди меня судить-казнить, Прикажи слово вымолвить... Не о том я хочу тебе сказать — Не жену у живого мужа взять. Ино я о том хочу речевать, Нам Данильчишку надо испытать — Не задумал ли худого чего Против князя Володимира, тебя? Что за думу он в себе затаил? Что за умыслы хмурые унес? Мы пошлём-ка во‚ поле на луга, Мы его — на Леванидовы, Там — ко ключику Гремячему, Ко колодезю Холодному. Повелим отловить-поймать Белогорлицу-пташицу‚ Да орла сизокамского, Да убить зверя лютого льва. Белогорлицу — в горницу: На обед твоей милости! А орла обучить-посадить На высокий терем княжеский! Повелим там Денисьевичу Шкуру снять со льва убитого, Принести к тебе во гридницу Да постлать на кирпичен пол! Для сторожи вышлем в полюшко Богатырскую дружинушку. Ты доверь это дело, князь, мне!» А вот это Володимиру Словцо показалося, Безрассудно полюбилося. И возрадовался князь, приказал Наливать чашу хмельную, Подносить её Мишаточке: «Будь, Мишаточка, по-твоему!» Догадался Илья Муромец: Ведь худое затевается; И вставал он скоро-наскоро, Говорил смело-насмело: «Уж ты, батюшка Владимир-князь, Изведешь ясна сокола, Не поймаешь белой лебеди!» Рассердился князь, разгневался: «Знай сверчок свой шесток, атаман! А за эти за крамольные слова, За слова неумильные, Посадить его, собаку Илью, В погреба во глубокие, В подземелья подкаменные, Во застенья безоконные!» Князь садился на стул за стол. Брал перо золочёное, Сам писал да выписывал Ярлыки скорописчатые, Посылал их с Мишаточкой С Пересмякиным к Даниле во дом. Подъезжал-подлетал посол Ко двору ко Данилиному. Зашумел-загремел-застучал; Прорывался Пересмякин сын Прямо в спальную-горенку К Василисе Микуличне. Говорит жена Данилина: «Что, невежа, не отецкий сын, Ты во двор безопасышно, Во палату безослышишно Воезжаешь-ворываешься?» Отвечает Мишак Пересмяк: «Не своею вольной волею, Волей княжеской великою! Прислал меня батюшка-князь С ярлыками скорописчатыми!» Положил он, Мишак Пересмяк, Ярлыки на стол смелёшенько, Повернулся скорёшенько. Принималась Василисонька Перечитывать-обдумывать. Догадалася-додумалася: Для чего и к чему все они?! На лица переменилася. Залилась слезами горькими! Скидавала платье женское, Надевала молодецкое. В чисто полюшко повыехала, Друга милого отыскивала: «Ты надеженька, надежа моя! Ты надежа, сердечный друг! Свет Данилушка Денисьевич, Вот тебе от князя-солнышка Ярлыки скорописчатые! Нам с тобою свиданьице Остается теперь одно! „ Мы поедем на широкий на двор, Проведём наш последний день!» Вопрошает Данилушка: «Почему наш последний день, Дней у бога-то много впереди!» «Дней у бога-то много, да у нас Остается один только день, Наш последний остатний денёк!» «Не последний, Василисонька, денёк! Я задачу княженецкую, Я поеду и выполню! Ино дело для меня таково — Не опасный, не тяжелый это труд: То утеха для молодца, Удалая для доброго!» «Ты, падежа, мой сердечный друг! Лих иное позадумано: Извести тебя измышлено!» «А напрасны тревоги твои, Василиса Микулична!‚ Ин измыслить и найдется кому, Извести меня некому. Кроме брата родимого, Ин Никиты Денисьевича, Кроме брата крестового, Ин Добрынюшки Никитьевича, Кроме славного казака, Ин Ильюшеньки Муромца — Одолеть меня нет богатыря! Эти трое — сильнее меня. Да они ли пойдут на меня?! Мы пойдём на свой широкий двор, Мы захватим там малый колчан, Мал колчанец калёных стрел; Погуляем в чистом полюшке, Постреляем серых утушек, Да половим гусей-лебедей, Да пернатых перепёлочек! Уж ты любка-голубка моя, Ненаглядная любонька, Мы пойдем, моя любушка‚ На луга Леванидовы, Ко ключу тому Гремячему, Ко колодезю Холодному. Мы поймаем белогорлицу Ко столу княженецкому. Мы изловим того сизого орла, Орла сизокамского, Да посадим его в Киеве На высокий конёк-верхушек, Там на терем белокаменный. Мы найдём, мы убьём зверя-льва, Привезём шкуру львиную, Разостелем во тереме На кирпичен пол во гриднице, Во подарок Красну Солнышку. А потом мы вернемся домой —— Из чего тут кручиниться? Да о чем тут печалиться?» Подъезжал Данил Денисьевич С Василисой Микуличной К своему двору широкому. Говорил да приказывал: «Ты неси, моя верная жена, Мал колчанец калёных стрел!» Приносила Василисушка И не мал, а велик колчан. Рассержался Данилушка: «Чего ради, не отецкая дочь, Ты меня ослуша́ешься? Али большину хочешь взять?» Молода жена прогневалася: «Знаю место я бабское И не думаю о большине. Ан и меньшина семейная Тоже молвит ино слово в лад: Тебе стрелочка лишняя Пригодится во честном во бою!» И приехал Данилушка На луга Леванидовы, Ко ключу тому Гремячему, Ко колодезю Студеному, Он поставил-развернул-укрепил Там шатёр белобархатный, Оставлял Василисушку, На охоту отправился! Отправлялся-уезжал Ловчанин, Да назад-то он млад и погляди Во стороночку во Киевскую. Увидал-то: от Киева-то Не белы снежки белешеньки Залегли-забелелися. Догадался и Денисьевич: «На меня, на Данилушку‚ Сила-рать идет великая! Знать, я князю стал ненадобен! Почему я ненадобен?» Пролилась у Денисьевича Из очей горевая слеза. Вынимал тут Денисьевич Из ножон острый меч-кладенец. Разъярил коня борзого, Полетел он на силушку. Он готов порубить-погубить Все полки князя Киевского. «А спасибо тебе, женушка: Ты не зря велик колчан принесла — Верно: стрелочка лишняя Пригодится мне в честном бою!» Ещё видит Денисьевич: Там из города из Киева, Там не два слона слонятся, Не два дуба шатаются. Это слонятся-шатаются Два могучих витязя. Пригляделся Данилушко, Присмотрелся Денисьевич — Видит: брат его Никитушка На него идет боем-войной! А ещё поглядел-посмотрел — Инда там и крестный брат, Сам Добрынюшка — и тот в бой идёт; В бой идет да неправедный! И повесил добрый молодец Удалой буйну голову: «Знать‚ и правда, господь на меня За грехи мои прогневался, Володимир-князь осердился: Братья вышли супротив меня! Лихо. Где это видано, Уж и где это слыхано, Чтобы брат на брата боем пошел?» И Данилушко вспешился. Отпустил боевого коня. Сам воскликнул громко-нагромко: «Да не быть междоусобице» и берёт добрый молодец Ин копьё в руки острое. И размахом богатырским он В землю матушку всаживает Половину копья тупым концом. А на острый конец, на копьё, Добрый молодец сам валится. Распорол груди белые, Позакрыл очи ясные. Подъезжали тут два богатыря. Увидели — прослезилися. Постояли — наплакались. В Киев-град воротилися И сказали Володимиру: «Закатилася ясная, Не взойдёт звезда восточная, Не воскреснет Данилушка!» Володимир не печалится, Стольнокиевский радуется, С места борзо он вскакивает, Ходко-быстро побегивает. Живо поезд он пособрал, Да послов-поезжан послал. Не замедлил и сам прикатил К Василисе во коляске золотой. Целовал-миловал вдову. Говорила молодая вдова: «Не целуй меня, Владимир-князь: У тебя уста кровавые! У меня‚ душа печальная Без друга, без милого, Без Данилы без Денисьевича!» Уговаривал Владимир-князь, Успокаивал печальницу: «Гой еси, Василисушка! Попройдет туча тёмная, Воссияет красно солнышко! Ты пойди-нарядись-уберись В подвенечное платьице, С жемчугами платье белое!» Уходила Василисушка. Наряжалась в платье белое С жемчугами подвенечное. Воротилась ко Владимиру, Говорила таковы слова: «Уж ты, батюшка, Владимир-князь, Ты пусти-отпусти меня Распроститься со милым дружком, Со Данилою Денисьевичем!» Отпускал её Владимир-князь. Посылал в провожатые . Двух могучих-сильных витязей. Подходила Василисушка Ко милому-дорогому дружку, Поклонилась Данилушке До земли она Денисьевичу. Не рыдала, не плакала, Таково слово молвила Удалым-славным витязям: «Гой еси вы, добры молодцы, Святорусские богатыри! Вы пойдите ко Владимиру, Вы скажите князю-батюшке: Не пройдёт туча темная, Не взойдёт красно солнышко!» Вынимала Василисонька Из потайника булатный нож. Молодую грудь колола себе Против сердца ретивого. На милого друга падала. Воротились посланники, Сказывали Владимиру: «Извели мы ясна сокола! Не поймали белой лебеди!»Дунай Иванович и женитьба Владимирова
Князь молодой Владимир, Душу ли совесть угрызает? Буйную голову повесил; Что ему саднит сердце? От какого княжья невеселья Звончатые гусли замолкли, Громкие песни затихли. Оголосился Пермята, Старый-престарый, а мудрый, Телом-то слабый, а хитрый. Вызвался слово молвить: «Князь, государь Володимир! Что ты от вина не пьянеешь? С песен почему не веселеешь, Гусельного звона не слышишь, Речи говоришь без задора? Старое мы, князь, позабудем! Мы поглядим вперед с тобою! Надо ж тебе, Володимир, Князь молодой, жениться! Знаю тебе я невесту, Ведаю жену молодую. Телом-то она красовита, Делом-то она деловита, Домом-то будет домовита! Кровь с молоком бела-румяна, Очи яснее соколиных‚ Брови — чернее соболиных, Легкой походкой — легче лани. Жить тебе — радоваться с нею! Будет нам кому поклониться На твоем почестном на пире! Это во царстве Поморском У короля Седослава Младшая дочь Опракса. Ты бы послал за нею свата, Высватать младшую дочку, Высватать прежде старшей, Прежде Днестры-королевны. Эта Днестра-королевна — Ездит она поляницей Во богатырских доспехах, Ездит в чистом поле, полякует. Сильная она, удалая. Витязя ещё не находилось Эту Днестру-королевну Да в бою открытом одолеть бы. Всех-то она поборает, Всех-то она одолевает, Всех предает скорой смерти. Витязь, который одолеет В битве Днестру-королевну, Станет ей другом и мужем. Выбери ты умного свата, Чтобы он младшую дочку Высватал прежде старшей!» Пир от этих слов развеселился, Громче да звонче взыграли Звончатые гусли-перегуды. Солнышко Владимир оживился. Старые печали позабыл он. «Вот вы, князья мои, бояре! Все поляницы удалые! Кто из вас выберется сватом Ехать в Поморское царство К славному Седославу Свататься дочку Опраксу?» Тут и веселье вспоткнулось. Нету ответу князю. Снова Пермята седатый — Мудрый, он с места поднимался, На оробелых усмехался. Стал он похаживать, старый, Бороду поглаживать, славный, Слово обдуманное молвить: «Князь-государь, благослови-ка Слово своё домолвить. Много у тебя в дружине сильных, Нету Ильи Муромца сильнее. Сломит он Днестру-королевну, Высватает и Опраксу. Только на Днестрице жениться Сам-то Илейко не захочет. Нам бы Алёшу послать бы Сватом для княжеской свадьбы. Силой не возьмёт где Алёша, Хитростью выхитрит да сметкой. Только Алёшина хитрость Супротив девичьей маловата: Перехитрит его Днестрица, Зря там погибнет славный витязь! Тихого Дуная послать бы Сватом для княжеской свадьбы. Тихий Дуняшко бывалый, Он и видалый, и знавалый. Тихий Дунай умеет Правильно слово к месту молвить. Где не возьмет Дунайко силой, Там он добудет лаской. Вот ему, Дунаю, и поехать В дальнее Поморское царство Сватом к королю Седославу Высватать дочку Опраксу Да и победить ещё Днестрицу!» Солнышко князь Володимир Круто на ножках повернулся, Шёл он по горенке столовой К винам-медам стоялым, Брал-наливал он чару, Тихому Дунаю подносил он. Тихий Дунаюшко не медлит, С места Иванович вставает, Резвые ноги разминает, Чарочку с поклоном принимает, Пьет её единым духом‚ Кланяется князю низенько: «Князь стольнокиевский Владимир! Еду я в Поморское царство Сватать Опраксу-королевну, У короля Седослава Сватать за тебя, князь Владимир. Только во товарищи Добрыню Дай мне Никитича в поездку!» Солнышко князь Владимир Снова да по горенке идет он, Чару вином наливает, Мёдом стоялым разводит, Сам её Добрыне подносит. Молодой Добрынюшка Никитич, Чарочку брал во белы ручки, Кланялся князю низенько: «Еду я, Владимир-Солнце, Еду в Поморское царство Вместе со Тихим Дунаем Сватать Опраксу-королевну. Только во товарищи ещё нам Дай ты крестового брата Парубка Заморского Васю!» Новую чару наполняет, Васеньке князь подносит. Васенька слово молвит: «Ты, Володимир Красно Солнце! Еду я в Поморское царство, Еду я с Дунаем и Добрыней Славную Опраксу-королевну Сватать за тебя, князь Владимир!» Сваты все трое — молодые, Витязи они удалые, С князем-гостями распрощались, Княжьи палаты оставляли. Добрых коней богатырских Витязи нуздали-седлали, В чистое поле выезжали, В дальнее Поморское царство. Вот они приехали в столицу, В это далёкое Поморье, К пышным королевским палатам. Храбрая поморская дружина Белые палаты охраняет. Парубок Василий Заморский Вместе с конями остается. Тихий Дунаюшко Иваныч, Славный Добрынюшка Никитич В терема-палаты заходили, Дверь на пяту поразмахнули, Господу богу помолились, Всем они князьям да вельможам, Чин они по чину поклонились, А королю Седославу Кланялись витязи особо. Храбрый король Поморский Ласково послов принимает, Рядом с собою их сажает, Яствами сахарными кормит, Питьями медвяными их поит. Тихому Дунаю подносит Зелена вина хмельную чашу. Тихий Дунаюшко Иваныч Чару принимал, поднимался, Выждал-постоял-подумал Да и посватался за чарой У короля Седослава К дочери его Опраксе За своего за князя, За Володимира-Солнца. Вспыхнул король Поморский; Хохотом-смехом обидным Над сватовьями засмеялся: «Что ещё задумал ваш князишка, Ваш Володимирко безродный, Слабый правитель, худородный. Родом он сын рабынин, Вздумал рабынич породниться С кровью благородной — королевской. Выскочка, раб смердячный, Мне, королю Седославу, Зятем хочет стать королевским! Выбрали посла из холопов, Неуча во сваты отправил. Видно, у вашего князишки Не было боярина знатнее, Не было великого князя... Эй, вы, мои верные слуги! Коней у холопов отнимите, В шею гоните смердов, Борзыми псами травите, Самого Дунайку схватите, В погреб холодный отведите!» Только Седослав разъяренный Вымолвил речи таковые, Разом тут всё перевернулось, Всё ходуном заходило. Видит Добрыня в окошко: Храбрая поморская дружина Всем своим грозным навалом С грохотом и шумом навалилась На удалого на Василья. Ладит у Заморского Васи Коней отнять-отобрати, Ладит она парубка подмяти, Цепи-канаты готовит. Парубок Заморский Василий В бой с супротивником вступает. Не позамедлил Добрыня: Выскочил парубку на помощь. Тихий Дунай был тихим, Стал он теперь ино буйным. Грозным он стал и ярым. Буести да ярости набрался, Прыгнул-скочил Дунайко Прямо через стол золочёный, Из-под гостей вельможных Выхватил он лавку-скамейку. Круто Дунай повернулся, Крепко да лавищей дубовой Сшиб богатырским сшибом Всё королевское застолье; Витязи, вельможи, воеводы — Бьёт их Дунай, — вот так молотит Хлеб на току Микула. Ай да не кошка от мышки, Сам Седослав по застолью Бегает от Дуная. Куньей укрывается шубой, Плачет-рыдает-взывает: «Тихий Дунаюшко, могучий! Жизни не лишай меня, витязь! Сядь ты, Дунаюшко, со мною! Ешь из одной со мною мисы, Пей из одной со мною чары! Сделаем с тобой сватовство мы. Выдам я любимую дочерь За стольнокиевского князя, Славного Владимира-Солнца!» Тихий Дунай отвечает: «Ай же, король Поморский! Не умел ужаловать послов ты... Дочь твою Опраксу-королевну Не хочу я сватать за князя! В честь её возьму за Василья! А не в честь — я выдам за холопа!» Повернулся Тихий Дунайко, К золотым верхам поднялся в терем. В петлях замочки отщёлкнул, Выставил дубовые двери. В том ли во тереме высоком, В том ли верху золоченом Ходит Опракса-королевна. В тонкой, без пояса, рубашке; В тонких одних чулочках; Косы по плечам распустились, Слезы на глазах навернулись. Тихий Дунай красной девке Ласковое слово промолвил: «Здравствуй, Опракса-королевна! Я к тебе сватом приехал Из стольна Киева-града. А пойдешь ли замуж за князя Нашего Владимира-Солнца?» Вспыхнула Опракса-королевна, Личико улыбка озарила, Тихо, стыдливо говорила: «Славный богатырь святорусский! Господу три года я молилась, Чтобы да выйти замуж Мне за Владимира-князя!» Тихий Дунаюшко Опраксу Брал он за белые руки, За золочёные перстни. Говорил умильные речи, На широкий двор проводил он Сверху из терема Опраксу. Посадил Опраксу Дунайко На коня и сам сел вместе. Выехали молодцы в поле, В чистое раздолье с невестой. На путях-дорогах на далёких Темная их ноченька застала. Путники шатёр развернули Под большим ветвистым под дубом. Тут королевна-невеста Таковы слова говорила: «Тихий ты, Дунаюшко, послушай! Есть у меня сестра родная, Славная Днестрица-сестрица. Сильная она поляница, В чистых полях полякует. Как на шатёр наш наедет — Нам и не бывать живыми!» «Полно, Опракса, страшиться! Сильная Днестрица-поляница Нашего шатра не увидит: Скрыт он под развесистым дубом. Ано и увидит Днестрица — В битву вступать побоится С нами, тремя богатырями. Вступит — победим Днестрицу!» Славная Днестра-королевна, Все она проведала-узнала: Младшую сестрицу Опраксу Ин увели её уводом, Ой умыкнули умыком, Взяли её после бою Богатыри удалые, — Вспыхнула Днестра-королевна. Сердце у неё разгорелось, Пылкая душа разволновалась, Жаркая кровь расходилась. Тут на коня вороного Прыгнула Днестрица не седлавши, Шлема да лат не надевавши — Без меча-копья, без стрел и лука, Буйная, она полетела Лихо с одним ножом булатным, В спешную погоню устремилась. Скачет по чистому полю Прыткая наездница лихая. Ветер белым платьем полощет, Конскою гривой играет. Нетерпеливая погоня Длится с утра до ночи. Молодая-буйная Днестрица Душенькой кипит-горячится. Гонит коня вороного. Ноздри конь тугие напрягает, Пламень из ноздрей вылетает; Уши он к шее пригибает, Дым из ушей клубится. Шаг у коня — на версту; Прыг у коня — на десять. Ископыть размашистым шагом За три за выстрела отбросит. Едет удалая Днестрица, Едет не путем, не дорогой. Рыщет полями и лугами, Ищет сестрицу Опраксу, Ярью неистовой ярится, Лютостью себя ослепляет. Битой-угрозой грозится — Не туда угроза упадает. Тихий Дунай спокойный — К бою давно готов он; Видит: Днестрица проскакала, Белого шатра не углядела. Скачет Дунай на резвы ноги. Будит Добрыню и Васю: «Други мои, пробуждайтесь! Мечется кругом нас опасность! Я ей поеду навстречу. Вы в стольный град отправляйтесь Вместе с Опраксой-королевной!» Добрые молодцы встали, Быстро коней седлали, В путь они с Опраксой отправлялись. Ускорью скорой мчатся, Спехом спешат-поспешают Сваты с невестой-королевной. Славный Добрыня Никитич С парубком Васильем Заморским В стольный Киев-град приезжают. Радостно Владимир их встречает. Тихий Дунай на месте Ждет и от шатра не отходит. Он костёр огнистый разводит. Углядела дым да пламень Бурная Днестрица-удалица. Завернула вспять вороного. У храбрицы силы неизбывны, Гневные досады неизносны: Доброго коня на перегоне Загнала до смерти поляница. Стала Днестрица бесконной, Пуще ещё и разъярилась: Лихо на Дуная налетела. Щит не дала ему подняти, Палицу схватить помешала, Лук да копьё, да стрелы — Всё она по полю раскидала. За руку да за ногу Дуная Дева Днестрица ухватила, Кинула в чистое поле — Вот тебе, Дунай, такая встреча. Молнией сверкучей за Дунаем Прыснула дева молодая. Не успел Дунаюшка подняться — Села на грудь ему, Дунаю. Острый кинжал выхватала Да и над Дунаем заносила. Хочет она Тихому Дунаю Грудь располастати, сердце вынуть, Да и чёрным воронам кинуть, Слово посрамительное молвить: «Ай ты, Дунай, ты, Дунайко! Пёс ты паршивый, ворюга: Можешь уводить невест уводом, Можешь умыкать их умыком! Тать-похититель, а не витязь! К бою богатырскому не годен, Силой ты слаб-бессилен, Ловкостью увалень, не ловок: В латах ты был при оружье, Девку в одном встретил платье. Девка безоружная, Дунайко, Девка тебя победила И к сырой земле придавила... Ой ты, бесстыжая ты рожа, Ты на одно только гожа: Всем бы над рожей этой Всюду бы смеяться на свете. Вот уж насмею я насмешку, Вот припасу я потешку: Я прикую тебя, Дунайко, На цепь посажу золотую. Буду я водить тебя, Дунайко‚ Людям напоказ по базарам, По площадям торговым. Нет, так трусливое сердчишко Выну у тебя, богатыришко!» Тут от обиды у Дуная Сила разбудилась-расходилась. Взял он, Дунай, изловчился: Вывернулся из-под Днестрицы. Вспрыгнул на резвые ноги. Одолел в борьбе королевну, Смял богатырицу на землю, Сел ей на белые груди. Тут и взмолилась Днестрица: «Тихий Дунаюшка — ты сильный! Ты богатырь не слабый! Ты не пори мне груди белой: Я тебе вину твою прощаю! Я теперь сама поеду в Киев, Выдам сама свою сестрицу За стольнокиевского князя!» Тихий Дунай — он отходчив, На слово Дунаюшка отзывчив, Говорил слова таковые: «Слушай, Днестрица-королевна! Я достал-отбил твою сестрицу, Я достал-отбил твою родиму Замуж за Владимира-князя. Ты, Днестра, пойдёшь ли замуж За меня, за Тихого Дуная?» Молвила Днестра-королевна: «Тихий Дунаюшка Иваныч, Славный богатырь святорусский! Если ты зла не помнишь, Если ты молвишь правду, Я иду замуж, королевна, За тебя, за Тихого Дуная!» Брал тут Дунай свою невесту, На коня вдвоём они садились, Ехали лицом к лицу вместе. В Киев приехали во стольный. Долго не думая, явились Для венчанья в божью церковь. Там уж и князь Володимир С той ли Опраксой повенчался. Тихий Дунай со Днестрою Золоты венцы принимали, Заповедь велику покладали: Жить семьёю в мире да дружбе, В тишине, в любви да в совете, Во полюбовном согласье. После венчанья молодые Приходили в горницу ко князю, К славному Владимиру Солнцу. Шумная свадьба загремела. Время свои сроки прогнало Ходким-скоролетным прогоном. Вон и на сносях уже Днестрица. Был со Днестрицей Дунайко На пированье у князя. Да перехватил излишку. Да и захмелел, стал пьяным. Пьяный-то Дунаюшко — не тихий. Вышел из застолья Дунайко. Ходит он вдоль по палате, Хмель-то Дунайку разбирает. «Нет меня, молодца, лучше; Нет меня, молодца, сильнее! В Киеве-граде стольном Свата такого не сыскалось Солнышку Владимиру-князю Высватать достойную невесту. Чем бы вы стали без Дуная? Только один я, Дунайко, Князю воспособствовал невесту! Вот молодец я удалый, Смелый-умелый—храбрый. Я и стрелять горазд из лука Лучше всех витязей на свете!» Ано и Днестрица удалая С пьяным-то мужем Дунаем В спор ин задорный и вступила: «Свет ты, державушка любимый, Тихий ты, Дунаюшка Иваныч! Я тебя ничем не буду хуже: Силой-то ещё и сильнее, Удалью-ухваткой удалее. Выстрелить из лука сумею Я твоего и погораздей!» Пьяного Дуная эти речи Женины поуязвили: Эха срамота-де от бабы! Экий позор да перед князем! Выкрикнул громко Дунайко; «Слушай ты, жена молодая! Ты вставай на резвые ноги, Выходи во чистое поле. Там мы узнаем-испытаем, Кто из нас быстрее-острее, Силой кто сильнее-удалее, Кто стреляет лучше из лука?» Вышел Дунай в чисто поле, Положил серебряно колечко На свою на голову на буйну. Острый нож Дунай перед колечком Перед серебряным наставил, Говорил Днестрице-молодице: «Выходи, Днестра, удалая! Ты бери лук тугой в руки, От меня во чистое поле За пятьсот шагов удалися, Положи на тетиву шелкову Стрелочку каленую-перёну, Натяни-спусти её из лука. Попади в серебряно колечко! Пропусти по острию ножову, Чтоб стрела прошла-прокатилась, Ан за колечком и распалась На две на равных половинки!» Слушалась Днестрица-молодица. В поле удалялась-уходила, Стрелочку из лука выпускала: Прокатилась стрелочка калена Вдоль да по острию ножову, Прямо во серебряно колечко. Стрелка по ножу прокатилась, Стрелка на остром разрезалась, Стрелка пролетела за колечко, На две половины распадалась. Три раза Днестрица стреляла, Три раза в колечко попадала, Три раза стрелу разрезала, Все на голове у Дуная. Говорит Дунай сын Иваныч: «Становись теперь ты, Днестрица, Супротив меня на то же место. Положу тебе я колечко На головушку твою на буйну. Нож возьми тоже булатный. Буду теперь стрелять я! Пропущу стрелу во колечко Трижды я по три раза!» Хочет сделать так Дунай Иваныч, Да не хочет этого Днестрица: «Ты прости меня, моя держава, Что я по глупости по женской Супротив тебя наговорила! Ты же меня, глупую бабу, Накажи за глупости за эти, Закопай по пояс в сыру землю, Бей меня, Дунай, по нагу телу, Только не стреляй теперь из лука В это серебряно колечко. Ты теперь пьянёшенек, держава; Ты теперь хмелёшенек больно; Ты убьёшь меня. промахнешься! Сгубишь две головки неповинных! У меня с тобой-то во чреве Чадо посеяно в утробе: Ножки у милого чада В чистом серебре по колено; Ручки — по локоточки В золоте червонном у чада. Позади у чада светел месяц, По косицам — ясные звезды, Очи — два светлых солнца!» Пьяный Дунай не внимает, Он-то, хмельной, не понимает, Ничего Дунай не разбирает, Ставит Дунай Днестрицу На голове со колечком. Лук он тугой поднимает, Стрелочку калёну накладает, Тетиву шелкову натягает, Стрелочку перёную пускает. Хмельные очи — они кривы, Пьяные руки дрожливы: Полетела стрелочка калёна Да и не по острию ножову, Да и не во серебряно колечко, Полетела стрелка к молодице, В белые груди ко Днестрице. Погубила стрелочка калёна Жену молодую у Дуная. Пала молодица на землю. Алой кровью рана задымилась. Тут-то Дунай и протрезвился. Тут-то Дунай и очнулся. Будит Днестрицу — не разбудит. Голову над мёртвой склоняет, Частые слезы роняет. Тихий Дунай слёзно плачет. Острую сабельку берет он, Остриём вверх кладет он, Слово последнее молвит: «Кровью тут река протекала От молодицы Днестрицы. Протеки река теперь другая, Протеки от Тихого Дуная!» Падал Дунаюшко на саблю. Падал головой молодецкой. От богатырского тела Буйная голова откатилась. Хлынула кровь рекою. Потекли по чистому полю Рядом два кровавых потока. Первый поток от Днестрицы. А второй поток от Дуная. Два потока в реки обратились. Первый Днестром стал рекою, А второй — тихим Дунаем. В Русском слились они море. Вечным упокоились покоем. Мудрый Пермята в чисто поле Выходил неспешный да старый. Плакал над четою молодою: Над Тихим Дунаем, над Днестрицей. Видит вдруг чудо Пермята, Видит он, в потоке от Днестрицы Плавает юно чадо, Юное-младое-живое. Брал это чадо Пермята, Брал из кровавого потока, Приносил младенца во Киев, Называл его он Потоком. Поп окрестил Михаилом. Вырос Поток и возмужал он. Стал богатырем святорусским.Дюк Степанович
Славен город Галич на земле Волынской, Славен и богат он несметным богатством. Золотятся-блещут терема-палаты, Высокие башни, звёздные чертоги. Город разукрасил Степан — гость торговый — Изумрудным светом, яхонтовым блеском. Завещал он сыну — Дюку молодому — Не богатством-златом, не куплёй-продажей, Не боярским званьем род свой прославить. Делом богатырским, силой молодецкой! Молод Дюк, задорен и везде проворен. Нет ему, Дюку, никаких заказин! Ни препон досадных, ни оград высоких — Везде силы хватит, смелости достанет: Схватить звезду с неба, достать месяц ясный, Остановить солнце, оседлать тучу! Молодцу под руку, молодцу под силу Гром поймать гремучий да грозой умыться, Молнией сверкучей себя опоя́сать! Бурлит душа в теле волновым прибоем! Сила бьёт о разум — разум затемняет! Где найти забаву, утолить бы душу, Сердце охладить бы, огонь поумерить? Триста стрел перёных Дюк выбирает. Три стрелы особые к ним добавляет, Во чистое поле выезжает. Стаи лебединые, серые утки И кружат, и вьются вокруг Дюка: Спереди-сзади-справа-слева Пестрые пестрины пестрят пред глазами. Дюку птиц ли надо — крылатых летанок? Лебедей не бьёт он, уток не губит. Так только тешится в зелёном раздолье! Дюк пускает стрелы наудалую: Ин без пристрелки, куда ни попало. Расстрелял все стрелы — триста стрел калёных Три стрелы последние выпустил в небо... Не убил ни гуся, ни белой лебёдки, Ни серой-пернатой-малой утки! Дюк и не кручинится, о том не жалеет. Едет в чисто поле, стрелы собирает. Ах, да и собрать-то не мудрое дело: У него те стрелы все золотые! Днём они сверкают, ночью играют! Триста стрел нашел он, трёх найти не может, Трёх ‚та заветных, трёх да особых! Триста потерял бы — о том не жалел бы! Но о трёх потерях Дюк жалеет: Стрелочки простые, не золотые — А и золотых они стрел дороже! Дороги были те простые стрелы: Ведь привез Степан их батюшка на память. А пером орлиным они оперёны. Тот орел особен: не над полем чистым, Не над дубравами ширяет-летает, А над синим морем, над океаном. А детей-орляток выводит на волнах В буре-непогоде на латыре-камне. Ищет-поищет, потерь не находит — Дюк опечален, Дюк расстроен! Шли три калики, нашли эти стрелы. Приносили Дюку, отдали в даровья. «Гой еси, калики, кто вы и откуда, Чтобы знать, кого мне наградить по-царски За ваши находки, за эти за стрелки?» «Дюк ты Степанович, молодой боярин! Нам-то наград твоих, Дюк, и не надо! Идём мы, калики, из Киева-града. Идём мы, калики, в славный город Галич!» «Вот вы, калики, это ваше слово Пришлось по душе мне, сказано на радость. Думушку ношу я да мечту лелею: Побывать мне в городе Киеве надо! Вы мне поведайте, скажите, калики: Далека ли дальность до Киева-града?» «Дюк ты Степанович, богатый боярин! Пешим до Киева дойдёшь за три года. За три месяца на коне доедешь. Только ведь дороженьки прямоезжей нету — На прямой дороге стоят три заставы. Первая застава на горе Горыни — Там стоит Горыниха, лютая Змеиха. Злая пещериха закрыла дороги, Злющими змеёнышами все заполонила. На второй заставе пути заграждают Чёрные вороны — железные клювы. На третьей заставе путников губят Серые волки — булатные зубы! Три заставы эти миновать неможно! А коли минуешь, тогда ты наедешь Ин на препону полютее тех трех. Царь Кандал кандальный с войском несметным — Вышел с походом он на стольный Киев, Кандалы куёт да опутья готовит; Хочет окандалить всю Русь Святую! Ни тебе пройти там, ни тебе проехать! А того Кандала буде минуешь, Там ты увидишь шатёр белый. Там стал заставой богатырь могучий... Трудно до Киева, Дюк, добраться!» «Вам за всё, калики, доброе спасибо, Счастливо прибыть бы вам в город Галич! Не забыть зайти и к Дюку во дворину, Хоть на постой бы, хоть на угощенье!» Славный Дюк Степанович матушку просит: «Матушка-голубушка‚ ты моя радельница! В Киев-град поехать дай благословенье! Ты ль меня, матушка, родила удачливым: Силою во силу во Святогорову! Доблестью родила в Илью Муромца! Смелостью — в Алёшу, красотой — в Чурилу! Славою-богачеством — в батюшку Степана! Мне ль с таланом-удалью, с молодецкой силой Не быть у Владимира в Киеве стольном! Дай ты мне, матушка, в путь благословенье!» Мать родная Дюку отвечала: «Я бы тебя, дитятко, в поход отпустила! Я не побоялась бы за судьбу счастливую: Знаю, растопчешь на пути змеёнышей! И волков, и воронов всех ты пересилишь! Доблестью да силою сомнёшь рать Кандалову| Одного страшусь я, об одном горюю... С этого страха, с этого горя Не пущу тебя я до Киева-града. Не пущу, не дам я благословенья! Потому не дам я, не пущу в дорогу, — Ты, моё дитятко, хвастливым родился! Ты хвастлив-занослив, во спорах задорлив. В Киеве похвастаешь мною и не к месту! Вознесёшься золотом, всем своим богатством! Перед людом киевским, паче пред боярством! А бояре в Киеве — ох, завистны: Изожгутся завистью, злобною изжигой; Изведут, дитя моё, тебя не за денежку, Не за грош-подушечку погубят завистники! Нет, не дам, дите моё, я благословеньица Ехать тебе в Киев-град ко князю Владимиру!» «Свет-государыня‚ мать моя родимая! Ты меня, молодца, дома не удерживай! Дашь благословенье — я с ним поеду! И не дашь — поеду в Киев, город славен!» Выбрал Дюк Степанович коня на конюшне, Выбрал по душе он коня Вороного: Грива ниспадает до сырой землицы. А хвостом широким землю покрывает, Путь заметает: славен конь у Дюка. Вот конь снаряжен, ездок — наготове: В латах, при кольчуге, при всем оружье. Блещет убранством золотым-жемчужным, В дорогих каменьях, яхонтах сверкальных, В дивных изумрудах конь и всадник. Прянул конь, помчался по чистому полю. Солнце в поле светит днём сиянным. Тёмною ночью звезды мерцают, Месяц изливается светлым сияньем. Нет, это не солнце! Нет, это не месяц! Нет, это не звёзды светят и сверкают! Блещет-сверкает богатырь удалый: Дюк Степанович мчится в чистом поле! Вот она, вот она, первая застава: Страшная Горыниха на пути-дороге. Расползлись змеёныши, ладят изжалить, Молодого витязя Дюка погубити! «Конь Вороной мой, соколом взвейся! Отряхни змеёнышей, обойди Змеиху!» Заскакал-запрядал добрый конь по змеям: Этих подавил он, от тех отряхнулся; Лютую Змеину облетел по небу! Змея шипанула, Змея рыканула — Только и осталась при своей злобе: Молодец умчался молнией сверкучей! Удалому молодцу грозная застава И ещё дорогу всю позаставляла: Чёрные вороны — железные клювы — Небо позакрыли, солнце заслонили. Ладят они молодца насмерть заклевати... Славный Дюк Степанович — не будь же он промах: Щитом приукрылся, палицей отбился! Заставу проехал — цел-невредим он! Третья застава — серые волки: Страшные пасти, булатные клычищи. Скачут-нападают-воют-окружают. Быстр конь, прыгуч он, а волки — быстрее! Да и тут же витязь Дюк не потерялся: Меч-кладенец он вытащил из ножен. Дюк сечёт их справа, Дюк их слева рубит! Спереди давит, сзади топчет! Вот и миновал он волчью заставу! Вот и поотбился от зверей клыкастых! Теперь Дюк Степанович — на большой дороге. Да а всё проезду, нет по ней проходу: Царь Кандал с могучим войском отборным Дюку на пути стал грозною стоянкой. Он оружье точит, кандалы готовит; Хочет окандалить Кандал Русь святую. Дюк недолго думал, выскочил на гору. Триста стрел повынул, подготовил к бою. Три стрелы оставил и для запасу. Звучною трубою протрубил он трублю. На бой богатырский вызвал рать чужую. Все кандалаки вспрянули-повстали, Двинулись с боем, грохотом-громом. Молвит Дюк Степанович таковое слово: «Дело тут — не шутки: не гуси, не утки! Зря мне стрел не тратить, а бить без промашки!» Дюк — он и молод да меток и ловок. Лук вынимает, стрелу налагает. Стрелочку пускает со напутным словом: «Стрелка золотая, моя громовая! Ты лети-ка, стрелка, не в синее небо. Не в чистое поле, не в океан-море! Ты лети-ка, стрелка, в первую сотню: Положи ты, стрелочка, сто кандалаков! Сто — для начала: только для пристрелки! Стрелочка вторая, порази ты двести!» С высоты-высотки, с небольшой горёнки Мечет Дюк Степанович смертельные стрелы. Тает и редеет кандальная сила. Вот уж из противников царь один остался. Тут-то у Дюка и кончились стрелы. Только три орлиных остались в запасе. Царь Кандал могучий — он идёт на Дюка. Дюк стрелой из лука в правый глаз метит: Царю попадает, глаз выбивает. И с лицом кровавым царь не уступает. Дюк стрелой второю царя ослепляет. Но могуч и крепок царь иноземный: И слепой идет он с рыком звериным, Лезет-напирает страшный-разъярённый. А из стрел у Дюка там одна осталась. Вот её, последнюю, Дюк вынимает, В сердце Кандалу её направляет. Замертво падает царь Кандал, сражённый! Вот путь-дорога Дюку пооткрылась! А при дороге — белая палата, Медная крыша, золотые окна! Дюк, тебе тоже это — застава. Только калики о ней не сказали. Дюк в палату входит. Там девица — чудо. Чёрные очи, чёрные кудри По плечам по белым вьются-ниспадают. Не гляди ты, витязь, не обольщайся: Красота у девы колдовская! Дюк глядит на деву. Разум меркнет! Сердце холодеет, воля вянет! Вот он безвольный, вот он вялый: Побеждён без битвы, сражён без оружья. Очи вы очи! Чёрные кудри! Что за яд вы льёте в душу молодую? Вы какой отравою травите сердце? Ох, красота, лих бесовская сила, Тяжкою тревогой на сердце ложится! Душу молодую душит-ослепляет Дочь царя Кандала злобная Маринка. Разум победителю, пыл охолаждает: «Пленником у пленницы я не буду!» — Про себя сказал он, подошёл к девице. Взял её в любовницы, не взял в жёны! Думала-гадала Маринка, мечтала: «Сделаюсь любовницей — буду и женою! Сделаюсь женою — возьму власть над мужем! Возьму власть над мужем — отомщу я Дюку За отца Кандала и за все обиды! Будет он кровавыми, Дюк, слезами плакать!» День прошел ли, два ли — Дюк отрезвился. Да и спозаранку от Маринки скрылся. Проснулась Маринка, спохватилась Дюка... Ищи ветра в поле, слови своё слово. Собери на улице снег прошлогодний! Ну уж тут Маринка и возлиховалась: Злоба разгорелась, душа раскипелась — Посыпались искры, выскочило пламя! На горе горынской лютиха Змеиха Увидела искры, углядела пламя. Лихая горыниха лихотой пещерной Взвизгнула-взыграла, к пламю полетела: «Слушай‚ Маринка! Слушай, царевна! Беду твою, горе, я поразгадала! Я тебе, Кандаловна, допомочь сумею: Будешь чародеить, зелья готовить! Выучишься — станешь людей обращать ты Во зверей рыскучих и во птиц летучих. И сама сумеешь кстати обернуться, Улететь от лиха пёстрою сорокой! Зельем смертельным, волхованьем чёрным Погуби ты Дюка, околдуй Добрыню! Я тебя царицей поставлю над Русью!» Дюк в это время в чистом поле На шатёр наехал, зычным криком крикнул; «Что за невежа во шатре-то спит тут? Выходи, невежа, побороться с Дюком!» Вдруг шатёр раскройся, богатырь и выйди И скажи он Дюку таковое слово: «Давно поджидаю с Дюком побороться — Дюковой изведать храбрости да силы!» Тут и догадался, Дюк смекнул да понял: Сам Илья Муромец вышел перед Дюком! Дюк атаману низко поклонился: «Солнышко на небе одно над Русью! На святой Руси-то богатырь один есть: Славный Илья Муромец — доблестный витязь!» Воротился Добрыня Никитьевич Из посольства с Алёшенькой Поповичем. Привозили на Русь они мир, не войну! Тут Владимир-князь пообрадовался. Приказал-созвал он почестный пир. На пиру-то пированы порасхвастались. Всяк хвастает, кто во что горазд. А один богатырь Илья Муромец — Он сидит, он ничем не похвастывает. Говорит ему Владимир-солнышко: «Ты что, атаман Илья Муромец, Ты сидишь-молчишь, не разговариваешь? Али пир тебе нынче наш не в пир? Али радости наши не радостны? Али нечем тебе нас порадовать?» «Гой еси ты, Владимир Красно Солнышко! А пир-то мне нынче в полный пир! А радости наши радостны! А есть чего рассказать мне вам! А есть чем мне и похвастаться! Был в походе я, был в дозоре я; Против недруга я заставой стоял. Я слыхал, я видал, там царь Кандал На святую Русь кандалы ковал. А теперь ему да не ковать ему! На Руси ему да не бывать ему!» Говорит тут Владимир Красно Солнышко: «А спасибо тебе, Илья Иванович. Вот ещё одну победу богатырскую Ты принес на Русь — её себе на честь; А мне, Владимиру, на славушку! А налью-ка я чашу заздравную...» «Нет, постой-кася ты, Володимир-князь! Дивно было мне на заставе стоять И глядеть на рать на Кандалову. Не на то дивиться: сила-то велика; Не о том говорить: моя зудела рука — Выйти рать воевать да врага побивать! Дивно то было мне: ведь у нас на Руси Народился ещё молодой богатырь. Он могуч, он красив, он удал, он богат! Он смел, он умел, он весь в золоте! Прилетел-налетел на Кандалову рать! Он разбил-разгромил молодец-удалец! Мне и делать уж там было нечего! Вот я перед вами и похвастаюсь Юным витязем Дюком Степановичем! На помин-то он скор: сам вон въехал на двор! И встречать-привечать мы пойдёмте его!» — Славно Дюка Степановича встретили, Усадили на место на почётное. И пошел разговор-столованьице, Пированье-гулянье, застольный шум. Захмелел на пиру Дюк Степанович. Позабыл все наказы материнские. Позабыл опасенья все матушкины. Позабыл упрежденья родительские. Позахвастался-погордился он, Повозвысился Галичем над Киевом: «У тебя-де, солнышко Владимир-князь, В стольном Киеве всё не по-нашему! Ведь у нас-то во городе во Галиче, У вдовицы у Матрёны Тимофеевны, У моей у государыни-матушки Мостовые мостовинками повымощены. Все калиновыми они повыровнены. Для укрепы вбиты гвоздики головчатые. Для красы, для басы, чистоты-красоты Поразостланы сукна багрецовые! Что у вас тут во городе Киеве? Горбылём мостовые повымощены, Сосняком-лежняком мощены-скрещены. Ой, худы ваши мостишки корневатые, Суковатые-виловатые! Вместо гвоздиков — колья деревянные! А коню моему что вы задали? Пустозёрного овсишечка зяблого! А у нас-то во городе Галиче, А у матушки моей у государыни, Не хотят кони есть и не только овса, Не хотят и пшена белоярового!» Ой, хвастонюшка, что ты порасхвастался? Аль детинушка во хмелинушке? Погляди ты: бояре косопузые — Они все на тебя поуставились; В них зависть-злость гложет каждую кость! Приготовят ещё приготовинку, Дюк, тебе от неё не поздоровится! А не видит ухмылок боярских Дюк! Он не слышит издевок насмешливых. Он завод свой ведет да на весь на народ: «Ты, Владимир-князь стольнокиевский, Велика про тебя идет славушка! Только Киеву против Галича Все равно что звезде против солнышка! У вас пиво-то без проветрия — Во подвалах оно в бочках затхнулося. А у нас-то пивцо — оно свежим-свежо! У вас в Киеве печки кирпичные. А поды-то в них да все глиняные. Помелёшки у вас все мочальные. Оттого-то у калачиков у киевских Все корочки с пеплом, с угольями. Ваш калачик в рот не взять, не жевать, На зубах песок-угодья запохрустывают! А пекут калачи люди чёрные, Люди чёрные-подневольные. Я на ваши калачи и глядеть не могу! А у нас-то во городе во Галиче, А у матушки моей у государыни, Все печки — они все мура́вленки. А поды-то в печах все серебряные. Помела-то у нас все шелковые. А калачики — они крупчатые: Один как съешь — другого хочется! Съешь другой — по третьим душа заболит! А печёт-то ведь те калачики, Их сама печёт моя матушка, Государыня Матрёна Тимофеевна. И затворит, замесит, и посадит в печь! Не прислуга, а сама — печея́-смотрея́!» Эти речи Владимиру-Солнышку За беду пришлись, не показалися: Ретиво́е у него взволновалося, По лицу ала кровь расходилася. И вставал из-за стола белодубова Щап[21] боярин Чурило сын Пленкович. Говорит Чурило таковы слова: «Ты не слушай, Владимир Красно Солнышко, Хвастуна-болтуна пустомельного! Не боярин Дюк к нам наехал-то, Налетела ворона погуменная. Он сам-то у холопа в холуях живет! Он сам-то у халупника[22] клячонку угнал; Он сам у беданюхи животишки накрал. А тем-то Дюк и похваляется!» Отвечал Чуриле Дюк Степанович: «Ты‚ Чурило, ты — чурка горбоногая! Ты — чурбан с глазами, ты — болван с усом! Я своим-то именьем-богачеством Да весь Киев-град ваш повыкуплю! И повыкуплю, да в залог возьму! Княженецкие палаты с молотка пущу!» Пуще прежнего разгневался Владимир-князь. А бояре повскакали, расшумелися: «В погреб взять-посадить бахвальщину! Пусть хмель из башки там повыветрится!» А и тут вставал Илья Муромец. Говорил Илья таковы слова: «А не надо нам садить во подвал молодца: В нём ухватка, в нём смелость богатырская! Хоть и спесь в нём есть, она боярская!» Ещё пуще бояре расшумелися: «А и кто ещё за Дюка за хвастливого Головою своею поручится, Что все слова — не враница его?» Отвечал атаман Илья Муромец: ‘Я за Дюка поручусь — головой за него! Мы пошлём посла в славный Галич-град Ко честной вдове Матрёне Тимофеевне. Мы пошлем считарей да описывателей! Пусть сочтут, пусть опишут все богатства они. Все считанья-списанья привезут в Киев-град, Считачём мы назначим Чурилушку! А послом пошлём мы Добрынюшку! И бояре пускай отправляются!» Говорил тут Добрынюшка Никитьевич: «А знавал я Степана Ивановича! Купца-отца того Дюкова! По морям, по ордам, по всем землям с ним Много я со Степанушкой повыездил! А про Дюка скажу — он не хвастает: Он всю говорит правду-истину! А коли князь Владимир Красно Солнышко От нас того нынче требует — Я готов: я поеду в славный Галич послом! Инно опись ведёт пусть Чурилушка. А я буду там во свидетелях!» Выходило посольство на широкий двор. Выходило оно, снаряжалося. Во далекую дорогу отправлялося. А был на дворе Дюк Степанович. Он писал-составлял письма скорые. Он завёртывал-запечатывал‚ В перемётные сумочки закладывал, На коня Вороного приторачивал. Отпускал коня Дюк Степанович На всю на свободушку на полную. Побежал-поскакал конь один на Волынь, Прибежал Вороной в славный Галич-град, Прилетел ко Матрёне Тимофеевне. То не белая берёза всколыхнулася, Не под ветром вихревым покачнулася. Всколыхнулася-покачнулася Родна матушка, мати Дюкова: «Видно, вживе нет Дюка Степановича! Знать, сложил где-то он буйну голову!» Горько плакала Матрёна Тимофеевна. Подходила к Вороному, рассёдлывала. Находила сыновние весточки. Как читала она, перечитывала. Воссияла Матрёна, возрадовалась: Просит сын снарядить Вороного коня. С ним прислать ему одежду самолучшую — Не праздничную, подорожную. Просит Дюк ждать к себе ещё послов-считарей — Повстречать их всех со роскошеством. Поглядела Матрёна Тимофеевна На восточную на сторонушку: Там пыль пылит да столбом столбит — Видно, едут киевляне-посольники. Тут хозяйка скоренько слуг сокликнула, Дело двинула, приготовилась. Понаехали посольники под Галич-град. На гориночке на высоконькой Все повыстали да повыстроились. И глядит-говорит Чурило Плёнкович: «Оробел-перетрусил Дюк Степанович: Он вперёд послал весть на родину, Чтоб зажгли-подожгли город Галич его! Ведь горит вся Волынь огнём-пламенем, Затемняет пожаром солнце красное... Нам тут делать теперь будет нечего!» А подъехали послы, так увидели: Не пожар горит, не огонь огнит — Это крыши на палатах блещут золотом, Это стены у дворцов во драгоценностях; Терема жемчугами-изумрудами И сверкают, и блестят, и высвечивают. Подъезжали послы к дворцу серебряному. Выходила старуха матера-стара: Под правую руку пять девиц ведут! И под левую руку пять девиц ведут. «Кто бы это?» — размышляет Добрынюшка. А Чурила-то уж забегает вперёд; Он бежит-спешит да здоровается: «Здравствуй, Дюкова мать-государыня!» «Я не Дюкова мать-государыня! Я при матери у Дюка — портомойница!» Подходили послы к золотому дворцу. Выходила из дворца матера-стара, Выходила старуха старая. А ведут-то старуху эту двадцать девиц. «Кто бы это?» — смекает Добрынюшка. А Чурилушка вновь забегает вперёд. Он бежит-спешит да здоровается: «Здравствуй, Дюкова мать-государыня!» «Я не Дюкова мать-государыня! Я у матери у Дюка — мукосейница!» Подошли послы к дворцу алмазному Тут и третья старуха матера-стара Выходила навстречу послам киевским. А ведут её все тридцать девиц. А несут над ней зонт-подсолнечник, Им от солнца закрыть лицо белое. Впереди стелют сукна багрецовые. А надето на ней платье дивное. По нему — вся краса поднебесная! Тут Чурилушко давай раздумывать: «Как опять бы мне во просак не попасть?» А Добрынюшка — глянь и догадайся тогда: «Вот это она: матерь Дюкова!» Низко кланялся он да здоровался: «Здравствуй, Дюкова мать-государыня, Ты честна вдова Матрёна Тимофеевна!» «Здравствуй ты, удалой добрый молодец! Ты из коей орды, ты из коей земли? Как тебя, молодец, ещё звать-величать?» «Я из Киева в город Галич — посол. А по имени — Добрыня Никитьевич. Я знавал, я бывал вместе с славным купцом, С тем удачливым Степаном Ивановичем. А теперь я от князя от Владимира. Там приехал к нам твой любезный сын, Славный витязь-богатырь Дюк Степанович. На пиру-то он, Дюк, порасхвастался. Он похвастал тобой, своей матушкой. Да несчетной похвастал золотой казной. Да поспорил Дюк со боярами. Отрядили они в Галич писчиков Описать ваши богатства все животы. Самым главным считарем-переписчиком Будет — вот он: наш Чурило сын Плёнкович!» Три дня писаря всё выглядывали. Три дня писарчуки всё высматривали. Все владенья разглядел Чурило Плёнкович. На четвертый день он сел за стол, Написал Чурило в Киев написаньице: «Ты Владимир-князь Красно Солнышко! Чтобы Дюковы владенья-животы описать, Сосчитать всю его золоту казну, Стольный Киев придётся на бумагу продать, На чернила добавить Чернигов-град!» Воротилося посольство в стольный Киев-град. А Чурилушку того Плёнковича — Разбирает его зависть разбиручая, Разъедает разъеда разъедучая. Хочет Дюка он унизить, осрамить-осмеять: «Мы побьёмся, Дюк, о велик заклад: У кого будет лучше платье цветное?» Отвечает Чуриле Дюк Степанович: «Ой, Чурило ты сухоногое! Кривоногое-горбоногое, Ты басись-хорошись перед бабами! Ты выхаживайся перед девками! А ты с нами, молодцами, и в кон не идёшь! Платье цветное да богатое Надевай ты завтра, Чурка, самолучшее; На обувочки — сапожки зелён сафьян. Я надену своё платье подорожное, А на ноги обую только лапотки!» Надевал Чурило платье цветное, Изукрашенное-позолоченное. А сапожки на ножки — узорчатые: Щегольские-гогольские-щапливские! Ну и хлыст, ну и хват — сапоги скрипят: Носки — узки, каблуки — высоки, Высоки-остры, голенища — пестры! А кафтан-то, кафтан: он шит, он бран! А во пуговках вплетено у него Там по доброму да по молодцу! А во петельках вплетено у него По девице да по красавице. Как застёгнутся — так обнимутся! А расстёгнутся — поцелуются! Вдоль по улицам да по киевским Вот идёт щёголь-щап, вот купав[23] молодец: Кудри жёлтые рассыпаются, Жемчугом по плечам раскатаются. А лицо у красавца будто маков цвет! А шея-то, будто белый снег! Ан да очи-то ясна сокола, А ведь брови-то чёрна соболя. Заглядаются люди на Чурилушку. Разневестились все невестушки: «Ах, вот бы нам да такого в мужья! Хоть бы в щёку бил да щёголь был!» И глядят, так глядят, аж ломают глаз! Там, где девушки глядят, — там заборы трещат. Где моло́дицы глядят —там оконницы трещат. Где старухи глядят — костыли грызут! Загляделся на Чурилу весь женский пол. Нарядился теперь Дюк Степанович. Одевал он одежду подорожную. Подорожную‚ а надёжную. Надевал Дюк на ноги себе лапотки. Лапоточки у Дюка из семи шелков. А во каждой во клетке-плетениночке Вплетено ещё по камню по яхонту. А кафтан-то у Дюка — он простой, не золотой. Для дороги кафтан был шит и ткан. В нём во пуговках — звери-тигры-львы. А во петельках — змеи лютые! На правом рукаве — леса дремучие. А на левом — небеса да со тучами. На головке у Дюка шапка простенькая. Только пташками вся изукрашена: Соловейками, жаворонками. Вот и Дюк пошёл вдоль по улице. От лаптей, от камней, ярких яхонтов В тёмных улочках-закоулочках Стало вдруг светло да светлёхонько. И принялся Дюк да забавить людей: Проведёт правой ручкой по пуговкам — Зарычат-зазычат звери-тигры-львы. Проведёт левой рукой по петелькам — Зашипят-засвистят змеи лютые. А тряхнёт рукавом Дюк Степанович — Зашумят-загомонят леса тёмные. А другим рукавом он тряхнёт-махнёт — Загремят-засверкают грозы-молнии. А головушкой потрясёт молодец — Запоют-заиграют пташки певчие: Позащёлкают вдруг соловушки, Да зальются жаворонки переливистые. Позабыл про Чурилу инда женский пол. Прозакладывал Чурило свой велик заклад! А неймётся Чуриле, не покоится: Разрывают завидки сердце с печенью. Думал-думал Чурило и надумался; Он ещё хвастовством одним похвастался: «Мы давай, Дюк, поспорим о конской езде! Я как сяду, Чурила-молодец, на коня — В один скок скакну через Днепр-реку! А другим-то я скоком и назад вернусь! А тебе-то, Дюк, да не скакивать! Через Днепр на коне так не прядывать!» Отвечает Чуриле Дюк Степанович: «Ой‚ Чурило, ты дурило глуповатое. Ты горбатое, дураковатое. Ты басись-красись перед бабами! Не тебе, Чурило, с нами в кон идти!» Выезжали добры молодцы на Днепр на реку. Под Чурилой конь — улетунник он: А улётывать и ускакивать Может он под хорошим седоком далеко. Разогнался Чурило, махнул-скаканул: Через Днепр-реку в один скок скакнул. Распалился щап, раскипятился он: Не дал конику ни мигу для отдыха. Поспешил-насмешил людей Чурилушко. Он погнал коня поскорее назад — Не допрянул конь и до полуреки: Так на пол-Днепре в волны грохнулся... Плавай-плавай по волнам, щап Чурилушко! Разогнал коня Дюк Степанович, За один прыжок через Днепр махнул. «Ты‚ мой добрый конь, ты мой верный слуга! На другой на скачок много ль сил у тебя?» Отвечал Воронко: «Я пройдусь-отдышусь, Возрождусь, погоди, и на второй на прыжок!» Понабрался Вороной да и новых сил. Разогнался он, да разбежался он: Перепрыгнул через Днепр за один проскок, Прямо с берега на берег в одночасье смог. На коне Вороном млад не промах был, Дюк Степанович да не олухом слыл: На скаку ухватил Дюк Чурилушку, Ухватил из Днепра за кудри жёлтые, Перебросил Чурилку на крутой бережок! Проиграл он, Чурилушко, и этот заклад, Перед всем честным народом опозорился! Слава и богатство, сила и здоровье. И во всём удача молодому Дюку. Говорят о Дюке города и села, И леса, и горы, и моря, и реки! Жизнь — одна утеха: без горя-печали; Там хвала, тут — славля, честь да победа... Как тут молодцу не повозвышаться? На пирах-гуляньях — почёт-уваженье. На битвах-сраженьях — нет неудачи! Как тут Дюку не заноситься? Ай, высоко ты, соколик, занёсся! Ой, да не подсёк бы кто тебе крыльев! А ведь есть на свете тебе подсекуша: Копит злую силу, копит злую волю Там, на Горыни, у Змеи-Змеихи Колдовству Маринка учится, поганка. Колдовству-злодейству-чародейству Выучится скоро, явится в Киев. На пиру-гулянье в гриднице высокой Вот она — Маринка, вот появилась! Как и откуда и какою силой? — Кто её знает! Кто об этом скажет! И никто колдунью с пира не гонит; Никто чародейку, злиху не попросит. А пришла Маринка не с простой задумкой: Извести Маринка замыслила Дюка; Колдовством Добрыню околдовать страшным, Этим то Горынихе, той бы Змеихе, Путь на Русь открыть бы для дел злодейных; А самой Маринке стать бы над Русью Властною царицей с силою кандальной. На пиру-веселье говорит Маринка Молодому Люку наглое слово: «Здравствуй‚ Дюк Степанович, мой муж любимый!» Дюку это слово не легло на душу, А легло на сердце плетью язвистой. «Ты моя пленница! Ты — не жена мне! Была мне любовницей, а женой не будешь!» Ай на это слово вспыхнула Маринка, Вся-то злобой налилася синей. «Дюк Степанович, богатырь могучий! Принесу тебе я золотую чару! А налью ту чару я вином шипучим! Ну ин за Владимира киевского князя Тебе эту чару не поднять, не выпить!» Молодцу вызов шуткой показался. Ему ль, молодому, ему ль, удалому, Соколу высокому, да кладут пределы! Нет, ему пределов никто не поставит! Он любую силу, Дюк, пересилит. «Неси свою чару! Подниму и выпью Я за Владимира, киевского князя!» Спустилась Маринка в погреб винный. Налила-наполнила чашу золотую. Словом нашептала, зельем отравила! Вынесла во гридницу морную отраву. Глянул Дюк, увидел — страшное дело: Кипежом кипучим снадобье вскипает; Синим полыханьем пламя полыхает; Огненные мечутся языки из чары; По бокам-то чары сыплются искры; Сыплются искры с лопаньем трескучим! Дюк Степанович! Не бери ты чару! Ведьминской готовли не принимай же! Не вкушай, не пей же змеиного яда! Злобиха злобесной злобой истекает. Чару вручает витязю Дюку. Замерло честное всё пированье Перед бедою, бедой роковою! Вставал-поднимался, говорил Алёша: «Дюк ты наш Степанович, богатырь отважный! Не губи ты зельем этим душу! Выплесни ты, выкинь колдовское зелье!» Смелому Алёше Дюк ответил: «Мать меня родила смелостью в Алёшу! Я своё рожденье не опозорю! Во мне силы хватит пересилить силу, Силу чародейскую в этой чаше!» А в руках у Дюка чаша змеевая Мечет пламя, синее сверканье. По бокам-то чары сыплются искры, С лопаньем трескучим падают на землю. Злобиха с злобесной злобою хохочет. Сам атаман тут встань да поднимися. Славный Илья Муромец молвит Дюку: «Брось, добрый молодец, не пей этой чаши, Выплесни зелье на чародейку!» Дюк атаману так опять ответил: «Доблестью-отвагой мать меня родила В славного-могучего Илью-атамана! Я ль своё рожденье здесь опозорю! Выпью, Илья Муромец, я эту чашу, Силу чародейскую в ней пересилю!» А в руках у Дюка чаша полыхает: Мечет пламя, страшное сверканье! По бокам-то чары сыплются искры, Падают на землю с лопаньем сверкучим. «Выпью эту чару, чару роковую, За князя Владимира, да за Русь святую! За святорусское всё богатырство!» Выпил смертное Дюк подношенье, Выпил-покачнулся, с ног свалился... Тут-то и не выдержал Добрыня Никитич, Прянул Добрыня через столы-лавки Ловить чародейку, колдунью Маринку. В руки колдовка — ан и не далася; Прыгнула к окошку, оперлась на раму, Захохотала хохотом бесовским: «Нынче извела я молодого Дюка! Завтра изведу я и тебя, Добрыня!» Стукнулась Маринка головой об стену. Сделалась сорокой, в окно улетела. Дюк перед кончиной ещё слово молвил: «Славный Илья Муромец, атаман могучий! Ты возьми на память от меня одежду: Платье подорожное то, дорогое — За меня помощником оно тебе будет!»Добрыня и Маринка
Матушка Добрынюшке говаривала: «Свет мой сыночек, Добрынюшка! Скоро мне, Добрынюшка, восемьдесят лет! У меня на рученьках внучонка нет! Ты ещё, Добрынюшка, холост-неженат. А тебе, Добрынюшка, за сорок пошло! Я тебя, Добрынюшка, сын мой, оженю: Я тебе, Добрынюшка, невесту найду! Ты теперь во славе молодец, в чести! Ай да ты, Добрынюшка, послушай меня: Ты обходи подальше улицу, Ты объезжай ту Чёрную! Там живёт Маринка Кандаловна, Там зла колдунья-волшебница. Там эта Маринка тебя завлечёт; Там эта Маринка тебя изведёт, Со свету белого она сживёт!» Вышел тут славный Добрыня на двор. Думушку задумал он крепкую, Крепкую думу неотвязную: «Эта Маринка погубительница — Дюка погубила-отравила она... Мне обегать её, волшебницу, —- Это идет не к лицу молодцу! Еду я на улицу Чёрную! Там её, волшебницу, боем убью! Там её, змеевку, с земли сотру!» Матушки Добрынюшка ослушался. Скоро Никитьевич коня седлал. Быстро удалый со двора скакал. Выехал на улицу на Чёрную. Все терема, все дома оглядел — Видит в окошечке Маринку он! Тут со коня Добрыня спешился. Вынул Никитьевич свой лук тугой. Выстрелил в Маринку-чародейницу. Выломал оконницу стекольчатую. Вышиб причалины серебряные. Только Маринку стрела не взяла. Только бесовку не тронула. Вышла Маринка, чертыхается; Лихо на Добрынюшку ругается: «Что за невежа на двор наезжал? Что за невежа в окно стрелял? Выломал оконницу стекольную; Вышиб причалины серебряные; Выбил глядельце зеркальное!» Глянула Маринка на Добрынюшку Чёрным взором своим колдовским... Кудри у Маринки чёрные. Плечи у Маринки белые. Кудри по плечам рассыпаются, Очи прямо в сердце вонзаются... Думал Добрыня лук поднять. Загадал Добрыня стрелу достать — Выстрелить во чародейницу. Только исчезала сила в руках! Только застоялась мысль в голове! Только расслабели ноги резвые! Вдруг против воли он сел на коня, С улицы Чёрной прочь повернул! Тут-то Маринка повыскочила, Быстро из терема повыбежала. Понахватала беремя дров, Дровец сухих-белодубовых. Кинулась ведьмуха на следы: Ох, на следы на Добрынины. Вырезала горячие... Клеткой поленья складывала, Поразожгла огнём палящим их; Бросила в пламень Добрынины следы; Их она бросала, заговаривала: «Сколько тут жарко дрова горят, Столько бы горел и Добрыня по мне! Столь бы по Маринке Никитич сгорал! Сколько тут сохнут следы в огне, Столько бы сох и Добрыня по мне!» Взяло Добрынюшку лихое взятьё — Сердце зарезало пуще ножа, Днём-то Добрыня ни хлеб не ест! Ночью-то Добрыня ни сном не спит! Тянет Добрынюшку на улицу, Тянет его всё на Чёрную. Взял тут Добрынюшка коня седлал. Стрел себе во колчан запасал. Меч да копьё — все оружье собрал. Едет он на улицу на Чёрную! Глянула Маринка, увидела; Лихо злоехидина хихикнула; Высунулась в окошечко вся — Ну в одной рубашке и без пояса. Манит Добрынюшку заманивает. Молодца себе заговаривает. А про себя думу думает: «Вот теперь Добрыня в моих руках! Вот я теперь его не выпущу: Клячей оберну водовозною — Буду на молодце воду возить! Сделаю вороной пустопёрою — Будет Добрынюшка падаль клевать! Оберну Никитьевича туром гнедым — Пусть его, Добрыню, охотник убьёт!» Витязь Добрыня околдованный, Он, обезволенный, к ведунье шел. Вспыхнула Маринка от радости, Чёрные заклятья выкрикнула, Выголосила чародейница, Туром гнедым она Добрынюшку, Доброго молодца обёртывала. Обернула-выгнала в полюшко; Выгнала в леса дремучие, Выгнала в болота топучие! Ходит там тур — золотые рога. Радуется ведьма-волшебница! Радость в ней злая кипежом кипит. Радость в ней злая паром парит. Радость в ней злая огнем горит! Слышит кипеж тот Горыниха. Чует пар тот Змеиха-Змея. Видит огонь тот Змеюжина. Быстро смекнула-догадалася; Нет его на свете, Добрынюшки! Тут-то Змеиха Горыниха Снова из пещер своих вылётывала. Снова принималась на Русь летать, Снова для змеёнышей людей таскать! Думает думу Илья Муромец, Всё атаман себе раздумывает: «Где это Добрыня пропадьём пропал? Что с Добрынею случилося? Снова Змея стала в Киев летать — Надобно мне тут на бой выходить!» Вот снарядился в поход Илья. Выехал во поле чистое. Пестрая сорока впереди его Скоками, глянь, запоскакивала, Лётами заперелётывала — Обогнала ведь сорока Илью, Пёстрая, далёко оставила! Выгнала сорока из чащи лесной В полюшко тура златорогого. Села сорока туру на рог. Стала сорока нашёптывать: «Ты меня, Добрынюшка, замуж возьмёшь! Ты на мне, Добрынюшка, женишься! Буду тебя оборачивать На ночь я во доброго молодца! Буде не выполнишь волю мою — Я на охотника тебя загоню, Я под стрелу тебя подгоню!» Тур головой золотой тряхнул, Пёструю сороку с рог смахнул. Тут его сорока гонять принялась, Пёстрая, на гибель заганивать: Хочет тура на Илью нагнать; Пусть его, тура, подстрелит Илья; Пусть его Илюшенька, Добрыню, убьёт! Только Илюшенька догадливый —— Он, осторожливый, не стал стрелять. Золоторогого не стал губить. Выстрелил в сороку — подшиб на лету! Тут-то с сороки и спади колдовство: Перед Ильёй не сорока лежит! Кровь-то из раны не сорочьей бежит: Это — Маринка Кандаловна! Тур златорогий вокруг Ильи Прыгает-вьётся-увивается. Разум у Ильи озаряется: «Это не тур, а человек перед ним». Стал Илья Муромец требовать: «Ты расколдуй, Маринка, витязя». Злится Маринка, противится. Силится слово-проклятье сказать: Заколдовать Добрынюшку, Туром оставить его навек. Сила у Маринки перед смертью слаба. Сила у живого Ильи велика. Не дал Маринке Илья сказать Слово-заклятье последнее. Вынудил Маринку Илья Муромец Расколдовать Добрынюшку! Выполнила волю богатырскую Злая Маринка во беспамятстве... Вот и совершилось совершение: Тут был тур — золотые рога, Стал Добрыня добрый молодец! Это Маринка и увидела, Злянка заизвивалася, Злобство в ней огнем загоралося, Жгучим-горючим пламенем. В жгучей-горючей озлобине В пепел сгорела Маринка вся. Тут ей, Маринке, и конец пришёл!Последний бой со Змеихой
Говорит Владимир Красно Солнышко: «Хорош у нас нынче, счастливый день — С нами все богатыри святорусские, И Добрыня Никитьевич вернулся к нам! Только мне-то, Владимиру, невесело: Одна у меня была племянница, Что любимая Купава дочь Путятична, Да и ту унесла Змеина лютая Во свою во пещерную змеинницу. Кто из вас, богатыри святорусские, Из беды мою племянницу повыручит, Из полона народ весь повысвободит, От Змеихи Русь святую навек оградит?» И восстал Добрынюшка Никитьевич: «Ты Владимир — князь стольнокиевский! У меня с атаманом Ильей Муромцем Ин великая заповедь положена: Мне поехать в бой со пещерной Змеёй, Победить её, Змеиху Горыниху, Чтоб не стала она Русь бедой бедить! Я поеду сейчас на Горынь на реку. Я поеду на бой со Змеёй лихостной. Я поеду, все полоны повысвобожу. Я поеду-привезу твою племянницу, Что любимую твою Купавушку!» Дома матушка Добрынюшке говаривала, Дома матушка Добрынюшке наказывала: «Ах, ты душенька, Добрыня сын Никитьевич! А не езди ты на гору Сорочинскую! Не топчи ты малых змеёнышей! Не тебе выручать полону русского! Ещё после той да беды лихой На тебя я, сын, не нагляделася! А и ты опять ведь на смерть идёшь!» Не послушался Добрыня родительницы. Он Сивка своего да осёдлывал. Собирался на гору Сорочинскую — Выручать от Змеи полону русского. Подавала мать Афимья Александровна, Подавала Добрынюшке плёточку: «Как придёт тебе, Добрыня, неминуча беда, Этой плёткой, Добрыня, ты коня стегай: Меж ушей Сивку, меж ног, не жалей! Он тогда от беды тебя повынесет!» Вот Добрыня-богатырь на Горынь-реке. С поля на поле он перескакивает, С горки на гору перемахивает. Давит-топчет Добрыня злых змеёнышей. А змеёныши-младёныши укусливые. Все зубастые да подточливые. Подточили у Сивки они щёточки, Понависли на ноги коню доброму. Больше Сивка не может ни подскакивать, Ни с ног змеёнков стряхивать. Добрый молодец на Сивку осержается И за плётку материнскую хватается. Он и бьёт Сивку промежду ушей. Он и бьёт Сивку промеж передних ног. Он и бьёт Сивку промеж задних ног. Тут Сивка-конь стал подскакивать. Тут Сивка борзый стал попрядывать. Тут Сивка стал с ног отряхивать, Давить-топтать лютых тех змеят: Потоптал-придавил до единого! Налетела на Добрынюшку Горыниха. «Ай, Добрыня ты сын Никитьевич! Ты зачем это нарушил свою заповедь? Ты зачем это забыл да про наш уговор? Ты зачем потоптал моих змеёнышей?» Рассержался-кричал Змее Добрынюшка: «Не сама ли ты, Змеиха злющая, Не сама ли ты, Змея окаянная, Не сама ли ты нарушила первая, Не сама ль переступила ты заповедь: Не летать чтобы на святую Русь, Не красть, не таскать люду русского! Начала ты летать, ты красть, ты таскать! А теперь я, Добрыня, тебе смерть принёс!» Ну лих взмолится Змеиха Горыниха: «Уж ты славный богатырь, ты Добрынюшка! Я отдам да повыпущу весь русский полон! Я отдам тебе Купаву Путятичну! А положим мы с тобой ещё новый завет: Не вступать ни в худой, ни в хороший бой! Инно миром поладим, Добрыня, с тобой!» «Ты послушай, Змеина злорадная, Мне теперь, Добрыне, не пятнадцать лет! Я теперь воробей ин ведь стреляный! Ты словами меня не умасливай! Если хочешь, вступай в битву честную! А не хочешь, подставляй свои хоботы: Разом я и порублю их булатным мечом!» Зачинался-загорался великий бой: Борьба со Змеёй — драка-се́ченье. По три дня подряд да по три ноченьки, И без роздыху трое суточек. Стрелы травленые да калёные Не сразили Добрыню Змеихины. Не пронзили Добрыню копья острые, Не посекли его мечи булатные. Добрый молодец в битве выстоял. Вот уж снёс-отсёк он, Добрынюшка, У Змеихи последнюю голову! Отрубил-разрубил последний хобот ей. А и тут из Змеины кровь рекой полилась. Вот час лилась, вот два лилась — Не уйти от ливня Добрынюшке! Вот день, вот другой все льётся-течёт, Заливает поток кровавый, страшный всё: Утонуть в том потоке Добрынюшке! А Добрынюшка свет Никитьевич Догадался догадкой богатырскою: «Нет, не выдаст меня земля русская!» Он и брал копьё Мурзамецкое. Он бил копьём о сыру землю. Он бил-ударял-приговаривал: «Расступися ты, мать сыра земля! На четыре расступись ты на четверти: Пожри-поглоти кровь змеиную!» Расступилась тут мать сыра земля: Пожрала-поглотила кровь Змеихину! Пробирался-опускался Добрынюшка Во пещерные во норы во глубокие. Находил-выводил он весь русский полон. А последней — Купаву Путятичну. Говорила Купава Добрынюшке: «За твою за услугу за великую Назвать бы тебя, Добрыня, батюшкой. Назвать тебя не хочу я так. Назвать бы тебя разве братцем мне. А и братцем называть не желаю тебя! А хочу, а желаю, Добрынюшка, Я назвать тебя другом — мужем своим! Ах, ведь ты в меня, Добрынюшка, не влюбишься! Ты на мне, богатырь, не женишься!» «Молодая Купава дочь Путятична! Ты, Купавушка, роду княжнецкого, Я — крестьянского роду, холопского: Мне, Купава, тебя полюбить нельзя! Мне, Купава, на тебе пожениться нельзя!»Илья Муромец и Идолище поганое
Из-под ельничку, из-под березничку, Из-под частого из-под орешничку, Выходила калика перехожая. У калики костыль — девяносто пудов, На калике шапка — сорок пять пудов! О костыль калика подпирается, Под ним мать сыра земля прогибается. На моленье калика идёт-бредёт. Ой, ты старое-матёрое Иванище. Отмолилося-отпостилося И домой оно воротилося. Проходило матёрое Иванище Мимо славного Царь-города. А с Царём-городом велика беда Случилася-приключилася: Одолело его войско поганое. Подходило тут могучее Иванище. Видит: турченко-богатырченко. Не задумалось могучее Иванище: Посхватило оно за кудри чёрные, Оттащило турку́ в поле чистое! Принялось басурманина выпытывать: «А скажи ты, басурманин, без утаечки: Кто над войском поганым тут началует? Кто начальничает, воеводничает?» Отвечал басурманин Иванищу: «Тут начальничает-воеводничает Превеликое могучее Идолище... Наше Идолище росту рослого: Ровно на три сажени на печатные! Во плечах-то он на косу сажень, Между глаз телёнок уляжется. А глазищи-то как лоханищи! Головища-то как пивной котёл! А носище-то как корчажище!» Как схватило тут могучее Иванище Басурманина оно за руку, Кидавало его в поле чистое. Разлетелись басурманские косточки. А поганую-то рать басурманскую Обошла тайком калика перехожая. Выходила калика в чисто полюшко, Повстречала калика Илью Муромца. «Здравствуй, здравствуй, калика перехожая! Уж и где это, калика, я тебя видал? Уж и где это, калика, я тебя слыхал?» «Коротка твоя память, Илья Муромец! Сорок лет назад да со пяточком Ещё ты видал меня, ты слыхал меня, Что во том ли во славном во Муроме: Обучал я тебя играть на гусельках, Как мальчишкой ты сидуном сидел. А забывчив ты, Илья Муромец!» «Ты прости меня, могучее Иванище, Позабыл тебя, ведь позапамятовал. И тогда ты был ведь седат старик. Ан гляди: жив-здоров, и могуч, и силён! Сколько лет тебе, могучее Иванище?» «А лета мои не усчитаны; На усчёте, Илья, перепутаны!» «Ах ты сильное-могучее Иванище! Ты отколь идёшь, ты куда бредёшь?» «Я иду-бреду со молитвы-поста! Проходил ещё мимо Царь-города!» «А скажи мне, могучее Иванище, Все ли там в Царь-городе по-старому? Все ли в нём теперь да по-прежнему? Как живёт православный цареградский парь?» «А живёт-то, я думаю, невесело: Одолели басурманы поганые — Столько силушки там понагнано; Не объехать ту силу и на борзом коне, Ясну соколу не облететь её. В божьих храмах там кони кормятся!» «Ой, ты сильное-могучее Иванище! Басурманов ты, чай, побил клюкой?» «Не побил клюкой басурманов я: Там засело поганое Идолище. Где там с Идолищем мне расправиться!» Рассердился на калику Илья Муромец: «Ах ты, старая собака ты трусливая! У тебя, старый хрыч, силы с три меня! Только смелости и на четверть нет! Ты давай-ка мне, трусливое Иванище, Своё платье ка́личье-подорожное, Надевай моё богатырское. Ты бери моего коня доброго. Хоть ты езди на нём, хоть ты водом води!» Разувалось-раздевалось Иванище; Поменялося одёжей с Ильёй Муромцем. Стал Илья сам ка́ликой перехожею. В руки взял ту клюку на девяносто пудов. В Царь-город заявился скорёхонько. Вот идёт по царьгородским улицам, Престарая калика предревняя, Со клюкой бредёт насугорбленная; Голосит-кричит зычным позывом: «Ах ты, царь Константин Боголюбович! Дай мне милостыню ты спасённую. Полно мне, калике, по дворам ходить — У окошечек подаянья просить! Мне пора, калике, и душу спасти!» Возгремел-воззычал тот ка́личий крик, Тот ка́личий крик, богатырский зык. Терема-дворцы пошатилися; Хрустали во оконницах потрескалися; На сырую на землю посыпалися. Ин от этого покрику ка́личьего, От того от громогласья от зычного У поганища того Издолища Вся поганая душа трепыхнулася: Проняла-взяла страхота-лихота. Во царёвом-то золотом дворце Сидит Идолище да рычит-мычит: «А скажи, Константин Боголюбович, Из какой страны, из какой орды Ты зазвал, не спросил богатыря сюда?» «Я не звал, не просил богатыря сюда! И зашёл-то не витязь, не боец-удалец, Ан калика зашла перехожая: Она старая, она утлая; Ходит-бродит, по домам перебирается!» «Ай же ты, Константин Боголюбович! Принимай ты калику перехожую, Накорми ты калику наусыт-сытно, Напои ты калику наупой-пьяно!» Царьгородский Константин Боголюбович Зазывал к себе калику перехожую. Принимал-разглядал да и радовался: «Мне не красное солнце пораспёкло теплом! Мне не млад светел месяц осветил светлом Тёмну ноченьку, ночь холодную, Обогрел-осветил мне Илья Муромец: От беды меня он повыручит, От напрасной смерти повызволит!» Зазывало поганое Идолище Во дворец златой калику перехожую. «Ты скажи мне, калика стародревняя, Староветхая да горбатая: Из какой ты земли, из какой ты орды?» «Я из той земли, я из той стороны, Я из матушки из святой Руси!» «Ах ты, русская калика перехожая, Кто таков у вас Илья Муромец? Чем он славен стал на святой Руси? Как он ростом велик? Как он толстом толст?» «Ростом наш Илья — он ровным с меня! Толстом наш Илья — он таков, как я! Чем он славен на Руси — ты узнаешь ещё!» «А помногу ли Илья разом хлеба ест? А помногу ли он зелена вина пьёт?» «Хлеба ест Илья по три калачика! Зелена вина пьёт он на три пятачка! На три пятачка да все медные!» «А какой ему чёрт эку славу кладёт? Я б такого Илью на ладонь посадил, А другой-то Илью враз прихлопнул бы — Тут со вашего Ильи только блин бы стал! А вот я, скажу, — богатырище! А вот я, скажу, — велико Идолище, Хлеба ем зараз по три печи я! Пью вина зараз по три бочки я! Щей хлебаю зараз из целой яловицы[24]! Погляди, каков я богатырище!» Отвечал Илья на такую речь: «Как у нашего попа у ростовского, Как была-то корова обжориста; И обжориста и опивиста: Много ела она, сильно много пила — Опилась да объелась, ажно треснула. И тебе ни поганому да треснуть так!» Эти речи не слюбилися Идолищу. Ухватил он ножище-кинжалище И бросал во Илью да во Муромца. А Илья-то на ножку повёртлив был: Он увёртливый-поворотливый — От того ножа Илья отскакивал, От кинжалища он отпрядывал, Во стороночку увернулся Илья. С воем-свистом кинжал пролетел-прогудел. Попадал он во стену во каменную. Во стене он проломину проламывал. Дверь железную с ободвериной Из простенка-стены выворачивал. Убивал наповал своих двенадцать князей. А тогда богатырь Илья Муромец Говорил поганому Идолищу: «Ты узнай теперь, поганое Идолище: Чем славен на Руси Илья Муромец — Он славен тем, что врагов он бьёт, Супостатов убивает, как я тебя!» И к поганому Илья подскакивал. И клюкой по башке его охаживал. Замотало головой поганище, Заморгало глазищами, захамкало. А и тут Илья не замедливал: Ухватил-подхватил за ноги Идолища, Уволок его на широкий двор; Уволок его он на ратный простор; Там стояла, бывала басурманская рать. Стал поганым Илюшенька помахивать, Басурманов бить да приговаривать: «Вот, ребята, оружье по плечу пришло! А и крепок поганый на жилочках! Жиловат басурманный на прожилочках. Он не рвётся, гляди, и не тянется, На костях, на хрящах, не ломается!» В три часа перебил всех поганых Илья. Воротился к Константину Боголюбовичу. Царьгородский Константин казака привечал: «Славный ты казак, Илья Муромец! Ты живи у нас во Царь-городе! Ты стань у нас воеводою!» «А спасибо, Константин Боголюбович! На привете, на добром на слове твоём! Только я уж вернусь на святую Русь!» Тут Илюшенька и поклон держал. Распрощался с Константином Боголюбовичем. И пошёл он встречаться с Иванищем, А Иванища там и след простыл! Не хватило у калики терпежу подождать: Отправлялася она во стольный Киев-град. В город шла она, калика, не воротами: Прямиком через стену перешагивала! Становилась калика середь городу, Закричала калика во всю голову. С теремов верха порассыпались. На столах питья все повыплескались. Выходил тут Алёша, поповский сын. Брал он палицу в руки булатную. Бил калику Алёша по головушке. А каликушка стоит ин не встря́хнется. Его жёлтые кудри не своро́хнутся. Выходил ещё Добрынюшка Никитьевич. Брал Добрынюшка да червлёный вяз, Бил калику Добрыня по головушке. А калика стоит и не встря́хнется, Его жёлтые кудри не своро́хнутся! Тут все богатыри перепугалися, От Иванища разбегалися. Заходило Иванище в царев кабак. Заказало вина на последний пятак. Не упьянилося, не упилося! С пятака оно только раззадорилося‚ Заложила тут калика перехожая Коня доброго Ильи Муромцева. А и тут калика не пьяна была. Больше прежнего раззадорилася. Заложило Иванище доспехи все Богатырские Ильи Муромцевы. А и тут ещё не упилось оно, Не упьянилось, не удоволилось, Пуще прежнего раззадорилось! Выходила калика на широкий двор, Подходила ко глубокому ко погребу. Со крюков замки посрывала все, Двери кованые вон повыставила, По двору пошвыряла-пораскидывала Бочки с пивом-вином повыкатывала. А и тут выпивоха напивалася, Окарач приползла на кабацкий порог. Захрапела калика перепойным сном! Целовальнички поразахались. О пропитом вине порасплакались, Побежали ко Владимиру, разжаловались: «Уж ты, батюшка, ты Владимир-князь! К нам неведомый богатырь пришёл. Попросил вина старина на пятак, Выпивал его на многие тысячи! Пропивал богатырь снаряженье своё, Пропивал он коня богатырского. А на том богатырь не успокоился! Подходил к погребам он, ко винницам, Замки-двери он все повыставил, Бочки с пивом-вином на двор повыкатил. Перепился-приполз окарач в кабак. На пороге уснул непробудным сном!» Отвечал целовальникам Владимир-князь: «Разбудите, приведите вы ко мне его!» Воротились целовальники во свой кабак. Принимались будить калику спящую. Кулаком ему по горбу стучат — Спит калика, храпит, не откликается! И поленом его бьют-стучат по хребту — Спит калика, храпит, не отзывается! Кирпичами-каменьями-кременьями Бьют калику нежалухой целовальнички. Просыпается калика, поднимается. От великого гнева разъяряется. Почала по кабаку она похаживать Да дубовой столешницей помахивать: Всех прибила калика целовальничков. Выходила калика на улицу. Разгулялася, и сильна, и пьяна: Тут и встречного, и поперечного Покалечила народу немало она. А на ту пору, на то времечко Воротился во Киев Илья Муромец. Он калику перехожую отыскивал, Зычным голосом Иванище окликивал. Испугалося Ильи Иванище: Стало тише воды, стало ниже травы! Говорил Илья таковы слова: «Ах ты, старая собака ты трусливая! Богомольная, лихпрокудливая! От поганых-те ты, собака, сбежал! А калечишь, собака, своих же людей! По святым местам, собака, шляешься, Сам, как скот, собака, напиваешься!» Тут Иванище припонурилось: «Ты прости, Илья, поразошёлся я! Разгулялся я! Не сдержался я! С кем греха, Илья, не случается? Если было бы не грешить, не пить — Так и не было бы грехи замаливать! Заскудели бы соборы богомольные! Забеднели бы попы соборные!»Добрынина женитьба
Ты светись, небо ясное! Золотись, солнце, на небе! Добрый молодец идёт во поход — Кровь играет, а душа в нём поёт! Ох, поле ты чистое; Ох, ветры вы буйные! Что ты, поле, принесёшь нынче мне? Вон там, вон летит удалой На меня богатырь молодой. Ну что ж, мы и встретимся! Ну что ж, побогатыримся! Только мал для Добрынюшки Богатырь мне — не ро́внюшка: Супротив меня он крошечка; Крошка маленькая-крошечная! Мне не драться, не биться с таким — Только шуткой пошутиться с ним! Наезжал на Добрынюшку Богатырь-богатырёночко. Ох, мало богатырёночко! Всё лицо позакрыто у него. Лишь одни блестят глазёночки. Ну блестят, ну поблескивают! Из-под шлема посверкивают: Знать, Добрыню подзадоривают. «Это что ж, молодец, ты меня — Для чего подзадориваешь? Вот сшибу-ка я тебя со коня, Вот сшибу на сыру землю!» Тут берёт Добрыня палицу — Он палицу нелёгкую! Он — палицу на триста пудов. Метит палицей легонечко Подшибить он мальчоночку: Потревожить маленько паренька — Повалить со коня озорника! Ударяет Добрынюшка, Ударяет во полсилушки — Не убойной силой, маленькою, Поляничку удаленькую. Поляничка невеличка, да она Из седла не выскакивает, Со коня не упадывает! На Добрынюшку поглядывает! Всё глазенками посверкивает, Озорными поблескивает. «Это что ещё за притчина? — Удивляется Добрынюшка. — Али мало силы стало у меня: Я мальчонка не сшиб со коня! Неужели я изъездился? Неужели я истратился? Неужели я избился со Змеёй? Неужели я простился со своей Богатырскою силушкой?» Позадумался Добрынюшка. Видит, дуб стоит кряковистый, В два обхвата этот дуб вековой. Подъезжает богатырь удалой, Бьёт по дубу он палицей. Богатырским ударом одним Расшиб дуб по ластаньям[25]‚ Разбил весь по щепочкам! «Вижу: сила у меня, как была! Значит — смелость не по-прежнему! Наберусь-ка я смелости, Напущусь на мальчишечку!» Вот повыехал Добрынюшка Вновь навстречу мальчоночку. А мальчонка озорует перед ним: На коне-то он вертится, Под удар он сам просится, Всё глазёнками поблескивает, Удалыми подзадоривает. Рассердился Добрынюшка, Рассердился во полусердца, Бьёт мальчонку во полусилы, Бьёт его со всею смелостью Богатырскою палицей! Ан опять недоросточек Со коня не упадывает. Из седла не выпрядывает, На Добрынюшку поглядывает, Всё глазёнками поигрывает, Озорными поблескивает. «Это что ещё за притчина? Али доблести мало у меня? Я мальчонку не сшиб со коня! Аль в полях я поизъездился? Аль в боях поизбился я? Аль повыдохся я с этой со Змеёй?» А и тут Добрынюшка Ко сыру дубу подъезживает — В три обхвата дуб кряковистый. Богатырскою палицей По сырому дубу бьёт по тому. Расшиб дуб по ластаньям, Разбил весь по щепочкам. «Ну ин сила-то есть во мне! А я крепок, богатырь, на коне! И душа горит смелостью, Полыхает она доблестью!» А мальчонка озорной, продувной — Всё Добрынюшку поддразнивает, На коне всё тут вертится, Под удар сам просится. А и тут он, Добрынюшка, Не на шутку рассержается. И со всей своей силою, И со всей своей смелостью Бьёт с размаху богатырь озорника! Лих победа опять не велика: Поляничка невеличка, да она Из седла не выскакивает, Со коня не упадывает, На Добрынюшку поглядывает, Всё глазёнками поигрывает, Озорными поблескивает. Ай, Добрыня удалой, что с тобой? Не годишься ты, Добрынюшка, на бой! А мальчонка-то вертится, Он вокруг да всё кружится, Со Добрынею заигрывает, Он Добрынюшку поддразнивает. Тут Добрыня и решается, Достает храпы[26] длинные: «А поймаю-ка на храпы я мальца, Поопутаю в опутья наглеца!» Ну мальчонка догадливый — Ускакал в поле чистое! Не Добрыне отступать в борьбе —- На коне он как припустится... Ан и всадник тот мал, да удал: Ой, да и ускоклив он! Ой, да и увёртлив он! Легче ветра в чистом полюшке поймать. Наконец-то богатырь матерой, Удалой ли Добрынюшка, На того вертуна-скакуна Храпы длинные накидывает Да к себе его притягивает: Ах и тут плох Добрынюшка: Не хватает в нём силушки — Ведь у этого мальца-резвеца Сила как у Добрынюшки! Ой, нет, да ещё и сильней! Ой, нет, да ещё и живей! Двое рвутся, двое тянутся: Богатырь матерой с молодым... Вдруг как дёрнет юнец за конец И срывает Добрынюшку — Да на землю молодца с жеребца! Инно вышло молодой паренёк — На груди он у Добрынюшки! Вынимает кинжалище Да заносит над Никитьевичем, Сам глазами всё поблескивает, Озорными поигрывает: «Ты скажи мне, добрый молодец, Удалой богатырище! Из каких ты родов-городов, Как тебя ещё звать-величать? Надо знать мне, кого я победил, Чтобы мне на пиру во хмелю Было чем и похвастаться!» Взбунтовалась у Добрыни душа, Раскипелась богатырская кровь — У него у лежачего Силы вдвое поприбавилося. Вот Добрыня изловчается, За кинжалище хватается, Да за то богатыренково‚ И ломает у кинжалища клинок, А руки не порезывает: Ведь Добрынюшку Никитьевича Ни железо, ни булат не берёт! Воспрядает во Добрынюшке Боевой богатырский дух: Он мальчоночку и скидывает, Сам на ноженьки воспрядывает. Началась богатырская борьба; Борьба-рукопашечка. А во схватке-рукопашице У младого супротивничка И посбейся шлем серебряный. Выпадали из-под шлема волоса — Выпадала девичья коса! Русы волосы ветер разметал, Все Добрынюшке лицо закидал. Тут и бросил Добрыня борьбу: Перед ним краса девица, Молодая пересмешница. «Здравствуй, здравствуй, Добрынюшка! Здравствуй, здравствуй, Никитьевич! Я давно тебя поискивала, За тобой давно поезживала! Я — Настасья Микулична, Молодая дочь Микулина. Мне назвать тебя батюшкой? А я батюшкой тебя не назову! Мне назвать бы да братцем тебя? А я братцем тебя не назову! Мне назвать бы да мужем тебя? А я мужем тебя назову: Ты в меня, Добрыня, влюбишься! Ты на мне, Добрыня, женишься!..» На пиру, да на свадебке, На честном на пированьице, Уж и так да было весело, Уж и так да было радостно! Был в отцах сам Владимир-князь! Ещё дружкой на свадебке Был весёлый Алёшенька, Сам Алёшенька Леонтьевич! Уж да дружка тот дружил да дружил! Дружка душу свою положил: На Настасью Микуличну Наглядеться ох, не мог! Ох, не мог! Дружка страшною хворобой занемог — Без Настасьи Алёше не жить! Как теперь он с братом будет дружить? И случилось во Киеве горе, Ох большое великое несчастье; Не приехал из поездки богатырской Молодой Поток, не вернулся. Ждали долго, изождали все жданки. Надо ехать, искать Потока. Собирался на поиски Добрыня, Собирался Никитьевич скоро. Он с семеюшкой своей прощался, На прощанье с Настасьей целовался, Говорил ей слова таковые: «Как пробуду я в походе три года, Ты жди меня три года, Настасья. Не вернусь и ещё три года — И ещё ты жди, дожидайся! А за эти шесть лет не дождёшься. Ты, Настасьюшка, душа моя, свободна! Хочешь, так ты живи одна вдовицей; Хочешь, замуж выходи по любови, Только ты не выходи за Алёшу. Ведь Алёшенька Попович смелый — Он приходится мне братцем крестовым. А крестовый братец пуще родного!» Он уехал, богатырь, в чисто поле. Он уехал во поход надолго. Он уехал не на пир, не на забаву; Он — на страдное витязенство. Едет, едет богатырь под синим небом. А навстречу ему — пошехонец; Пешеходный старик старый странник. У Добрыни он милостыню просит. У Добрыни ничего с собою нету: Есть один для обеда припасец. Поделился Добрыня с пошехонцем. «Ты куда, добрый молодец, едешь?» «Еду я во далёкие страны, Еду я в незнакомые царства, Еду я в чужие королевства. Потерялся Поток — богатырь наш... То ли голову сложил во бою он... То ли бьётся он один со врагами... Еду я на поиск за Потоком. А не знаешь ли ты, старый странник, Не видал ли ты где Потока?» «Не видал я нигде Потока: Ино знаю одно: заколдован. Заколдован злой Лиходеей. Где сыскать — не скажу тебе, Добрыня! Да узнать-то про то и неможно... Разве только в Заколдованном царстве?» «Ты скажи мне, дедушка, поведай: Как попасть в Заколдованное царство? Я, Добрыня-богатырь, туда поеду! Я, Добрыня-богатырь, про всё узнаю!» «Далеко тебе, Добрыня, добираться! Доберёшься — трудно увидеть! А увидишь — понять-думать долго! Буде ты доберёшься, увидишь И поймёшь и всё уразумеешь — Как назад тебе, Добрыня, вернуться? Широки туда пути-дороги, Да назад-то узки очень двери!» «Доберусь, и пройду, и увижу! И пойму‚ и всё уразумею! И вернусь из Заколдованного царства! Всё закрытое открыть я должен, Одолеть все трудное обязан! Как пройти мне в Заколдованное царство.» Рассказал пошехонец Добрыне Про дорогу в Заколдованное царство. Распрощался богатырь со старцем И путём своим трудным поехал. Побывал он в 3аколдованном царстве. До всего он добирался, всё увидел. Всё он разумом своим размыслил И на белый свет обратно вернулся. Знает всё теперь Добрыня о Потоке, Знает: как колдовство с него сняти. В чистом поле, в стороне далёкой Одинокий стоит горючий камень. Сиротеет камень сиротою, Он слезится светлою слезою. Он слезится в дожди-непогоды. Он слезится и под жарким солнцем. А проходят возле камня люди — Эти слезы за росу принимают. Плачет-плачет горючий камень. А не камень это слёзно плачет: Это плачет Поток злополучный. Находил его Добрыня Никитич На далёком каменном безлюдье. Он разведал в Заколдованном царстве: Возродить из камня можно Потока, Надо камень тот через плечи, Через голову, назад себя, бросить. Станет камень опять человеком. Добрый молодец Добрыня Никитич Поспешал-подходил-принимался За своё богатырское дело. Он до пояса камень поднял — По колен увяз сам Добрыня В каменистое-кремнистое ложе. Не хватает у Добрыни силы Камень тот через себя перебросить. Илью Муромца Добрыня призывает. Из далёкого чистого поля Илья Муромец спешит-поспешает. Вот берется Илья за каменище. Он до плеч его только поднимает, Перебросить за себя его не может. Сам по пояс Илья угрязает В каменистое-кремнёвое ложе. Кто-то может этот камень осилить? Высоки небеса над Русью. Зелены поля-луга-долины. И богаты города и просторы. Ограждают терема и палаты Белокаменные с башнями стены. Выходил на русское раздолье, Выходил на поля и пашни, Выходил на зеленые нивы Славный пахарь-богатырь Микула Со своей невеликой сумкой, Со своею тягой земною. И услышал он голос тревожный, И услышал он призыв беспокойный: Илья Муромец звал Микулу‚ Призывал он вызволить Потока Из колдуньиного каменного плена. Внял призыву пахарь Микула, Поспешил Селянинович на помощь. Приходил он к заколдованному месту. Брал Микула чарованный камень. Приподнял-положил его на плечи. Собрал всю свою пахареву силу. Вызнял[27] камень Микула высоконько, Через голову его перебросил. Он кидал-приговаривал, Микула: «Впереди ты меня ещё — камень! Позади меня стань человеком, Человеком стань Михаилом, Славным витязем Потоком могучим!» Падал камень за спиной у Микулы. И слетели чародейкины чары: Обратился камень в Потока. Тут и радости было много! В чистом поле, по зеленому раздолью На коне едет Добрыня Никитич. Добрый конь под Добрыней вспоткнулся. А Добрыня на коне встрепенулся: «Ты чего это на ровном-то месте, Перед чем это ты вспоткнулся? Аль учуял беду надо мною?» «Чую, чую беду над тобою, Над твоей, Добрыня, головою: В этот час в славном Киеве стольном Совершается, Добрынюшка, свадьба! Ведь твоя-то жена, Добрыня, Ведь твоя-то Настасья, Никитич, За Алёшу Поповича выходит!» «Неужели моя Настасья Позабыла меня, моя люба? Ведь прошло поры-времени немного: Ведь всего — десять дней и два года!» «Нет, не десять дней и два года, А двенадцать лет пролетело!» «Что ты, конь мой, несешь враницу! Десять дней — в Заколдованном царстве, Да два года поисков-поездок По Руси, по окрайнам, по странам! Вот и все наши, конь мои, сроки!» «В Заколдованном царстве, Добрыня, Протекает за сутки по году! Если пробыл ты там десять суток, Значит, здесь десять лет миновалось. Десять лет чародейных да два года Всех других наших поездок с тобою — И двенадцать лет прошло с отъезда! У меня ещё есть, Добрыня, силы! Если силы последние отдам я — Доскачу ещё до Киева ко сроку!» И отдал тут конь свои силы. И принёс он ко времени Добрыню. Добрый конь у ворот, у дома, У Добрыниного пал бездыханным! Видит матушку Добрынюшка Никитьевич: Слёзно плачет Афимья Александровна, Слёзы горькие роняет на земелюшку Да всё смотрит на дальнюю сторонку. Воскричал тут Добрыня громким гласом: «Государыня свет моя матушка! Отложи ты ворота решётчатые, Ты встречай-привечай сына милого, Ты — Добрыню своего из поля чистого!» Поглядела Афимья Александровна, Разрыдалася пуще прежнего: «Отходи от окна ты, голь кабацкая! Не шути надо мной, над старухою! Уж и так меня горе замаяло, Задавило, горюху, злосчастное. Кабы дома был мой Добрынюшка, Не дал он надо мной бы надсмехаться тебе!» А Добрыня стоит да своё твердит: «Уж ты, свет моя матушка родимая! Отложи ты ворота решетчатые, Ты Добрыню встречай, сына милого!» Пригляделась к оборванному путнику, Утвердилась во своем Афимьюшка: «Отойди ты с добра, оборванщина! Ты не смейся над старухой горемычною. А то выйду на широкую улицу, Я нечестно тебя от окна провожу!» «Государыня матушка родимая! Почему ты не хочешь признавать меня, Своего ин Добрыню Никитьевича?» «А какой ты Добрыня, бродяжина? У Добрыни на ноженьках чёботы: Расписные со скрипом — зелён сафьян! У тебя они — рваные-заплатанные! У Добрынюшки у Никитьевича Было личико белое-румяное! У тебя-то, бродяга чумазая, Вроде яблока печёного посморщилось; Посерело от пыли‚ как в печной золе. У Добрынюшки были глазоньки: Очи ясные-соколиные! У тебя — провалились-затуманилися! У Добрынюшки кудри желтые: Кольцо в кольцо завивалися! У тебя, гляди, голь кабацкая: Волосищи-то они седатые, По плечам порассыпались лохмотьями! У Добрынюшки походка молодецкая! У тебя, горбун, — стариковская!» «Ох, ты, матушка, мать любимая! За двенадцать-то походных лет Прирвались мои сафьяновые чёботы! Заморщинилось лицо белое! В бурях-грозах да ветрах-вихорях Помутилися очи ясные; Поседели-развились кудри жёлтые! Постарел-посерел, весь повылинял, Похудел твой сын Добрынюшка Никитьевич! Поистёрлося платье цветёное! Износилося тело молодецкое!» «Подойди ко мне, ты бродяжинка! Покажи ты плечо свое правое!» Подходил Добрыня к окошечку, Открывал своё плечо правое. На плече у него была зна́тебка — Там родимое было пятнышко. И признала его родна матушка. Тут старуха-то стародряхлая Своей старости не услышала: Побежала-заспешила на улицу; Добрынюшку брала за руки, Целовала-миловала-провожала его, Дорогого сыночка в чисту горницу. «Уж ты, матушка, мать родимая! Почему я не вижу да любимой семьи — Дорогой жены Настасьи Микуличны?» «Ох‚ Добрынюшка, ты мой милый сын! Ты радельник мой, ты страдальник мой! Нет у нас её, Настасьи Микуличны! Нет у нас её да горюшицы! Нет у нас её да твоей жены! Нет у нас её да моей дочери! Как прошло тогда три года времени — Не явился ты из чиста поля... И ещё прошло три года времени — Не вернулся ты опять, сыночек, к нам... И пришёл тогда Алёшка свататься! Принимался он баями забаивать, Подговорами Попович подговаривать: «Ты пойди ты, Настасья, во замужество: За меня ты, за Алёшу, Микулична! Ведь прошло поры-времени уж все шесть лет — Не вернётся Добрыня, не приедет он!» Отвечала Настасья Микулична: «Ай. ты смелый, Алёша Леонтьевич! Ты пойди с добра с моего двора! Прождала я Добрынюшку из поля шесть лет — Прожила я всю заповедь мужнину. А теперь я кладу ещё женину. Буду ждать я Добрыню и ещё шесть лет! Не придёт, не вернётся Добрынюшка — А тогда моя воля вольная: Порешу — захочу, то и вдовой живу! По-иному задумаю — замуж пойду!» Тут Алёшенька — он невесел стал, На прощанье сердитое слово сказал: «Хоть туляешься, Настасья, ты виляешься, За иного-то замуж не достанешься! Будешь ты за мной, за Алёшею». Как прошло поры-времени двенадцать лет, Тут Алёшка опять приходил-твердил: «Я вернулся, говорит, из поля чистого. Находил я там Добрыню Никитьевича: Там лежит Добрыня в поле поизрублен весь! Он лежит-то, Никитич, поиссечен весь! Не дождать тебе его, Настасьюшка! Выходи за меня во замужество!» Отвечала Настасья Микулична: «Не пойду за тебя во замужество!» Не пошла она своею волею, Увели её насильно силою! Ведь сам тут был сватом Владимир-князь. Говорил он ей таковы слова: «Молодая Настасья Микулична! Не пойдёшь ты добром, своею волею, Приневолим тебя и неволею За Алешёньку замуж за Поповича... Буде станешь упираться, я власть покажу: Не позволю тебе жить во Киеве — Я отдам тебя за татарченку, За лихого выдам за татаровича!» «А пойду я хоть и за татарченку! Не пойду за Алёшку Поповича!» Да не вышло, Добрынюшка, по-ейному! Прямо брали её за руки белые: Уволили во церковь соборную — Повенчали с Алёшей Поповичем. Повенчали-то, может, час назад! А теперь там пировля развеселая... Отказалась я туда и на пир идти!» Говорит Добрынюшка Никитьевич: «Мы с Алёшенькой в чистом полюшке Ведь крестами менялись-браталися. Ано младший брат да у большего Взял уводом-насильем жену увёл! Уж ты свет, государыня матушка, Ты неси моё платье скоморошное. Ты найди мои гусельки яровчатые, На которых я на свадьбе Настасье играл!» Отправился Добрыня на свадьбу ту. А в палаты не пускают скомороха на пир. От ворот оттолкнул он приворотничков. От дверей отпихнул он придверничков. Все железные крючки повыломал. Он все цепи-затворы на порыв порвал. Заявился скоморох на почестный пир. И поклоны ведёт там по-писаному; Разговор ведёт по-очестливому: «Укажите мне, люди добрые, Где тут место моё скоморошное?› Шептуны тут Владимиру нашёптывают, Всё наушники князю наушничают, Наговорники наговаривают: «Как он шёл, скоморох, Владимир Солнышко? Он шёл-заходил, не докладывал! Он сторо́жу всё поотпихивал! Он замки, все запоры повыламывал!» А гусляр тронул струны золочёные, Звонко струночки на гусельках заструнели — Услыхал-позабыл князь нашёптыванья: Усадил он матерого скоморошину На почётное место скоморошное. Говорил этот пришлый скоморошина: «Гой еси, князь Владимир стольнокиевский! Ты дозволь мне сыграть игру первую, Песню звонкую про святую Русь!› Заиграл Добрынюшка Никитьевич — Ой, да все на пиру приуслушались, Молодые скоморохи приудумались: «Ай, игры такой мы не слыхивали. Ай, пенью такому не воймовали[28]! Ай, такого гусляра мы не видывали!» А Настасья сидит свет Микулична, Про себя такову думу думает: «Ох, игра-то мне знакомым-знакома! Ох, голос у певца — мне родным-родной!» Доиграла-вопросила скоморошина: «Володимир — князь стольнокиевский! Ты дозволь мне сыграть и вторую игру‚ Чтоб потешить мне князя Алёшеньку!» Заиграл Добрыня развесёлую: Удалую-боевую-пересмешливую. А гости все запосмеивались, Дружным хохотом расхохоталися. Лишь один только жених сам Алёшенька Песню слушает да сам хмурится! Хмуро хмурится, сильно сердится! А игра-то была ну игровиста: Сами ноги под неё в перепляс идут! Под ту игру скоморохову Сам Владимир-князь да пустился в пляс! А Настасья-то свет Микулична Всё глядит на скомороха, думу думает: «А похож скоморох на Добрынюшку — Он игрой, он ухваткой, он и пеньем своим!» Позакончил весёлую игрец-веселец. «Ты дозволь, князь Владимир, и ещёжды сыграть — Мне потешить княгинюшку Настьюшку!» Заиграл скоморох песню долгую. Невесёлым заиграл, грустным наигрышем. Он пел, он звенел: струны плакали! У весёлых гостей слёзы капали! Пел Добрыня — скоморох на пиру в тишине. Пел о верности он, о братской дружбе пел. О жене, о разлуке, о далёких путях... И рыдали-горевали струны звончатые... Струны звончатые с говорочиком... Слёзы льются из очей ручеёчиком... Позабыла Настасья Микулична Про Алёшу, про свадьбу, про Владимира. Устремилася очами в скоморошину. Эта песня-душа — вся Добрынюшкина! Только сам-то скоморох — не Добрынюшка он! Кончил песню Добрыня печальную. Говорил тогда Володимир-князь: «Уж ты гой еси, удалой скоморох! Мы ведь песен таких ещё не слыхивали, Кроме как от Добрыни Никитьевича! Да сложил наш Добрыня буйну голову, В чистом поле пал наш Никитьевич! Хоть печальная песня, скоморох, твоя Пропевалася не ко времени: Не ко свадьбе-веселью, не к гулянью она, Да испей, скоморох, чару полную От меня во здоровье князей молодых!» Тут встал-наливал сам Владимир-князь Чару полную зелена вина. Разводил он медами стоялыми Да с поклоном подносил скоморошине. Чару брал скоморох, только пить не стал. «Ты, Владимир—князь стольнокиевский! Принимаю от тебя подношеньице За награду, за дар великий княжеский! А хотел бы и сам сделать нынче я дар Обручённой княгине Настасьюшке. Только нечем дарить скоморошине: Ни именья, ни гроша — только гусли да душа! А дарил бы душу — ей душа не нужна! А дарил бы я гусли — не гуслярка она! У меня нет другого подарочка, Чем моя дорогая эта чарочка! Ты дозволь, Володимир Красно Солнышко, Подарю я Настасье этот дар дорогой!» Золотой перстенёк, да по тайности, Опустил в чару пенную Добрынюшка. Подавал-говорил он Настасьюшке: «Ты, княгинюшка обрученная! Ты прими от скомороха забродящего Дорогой мой такой вот подарочек: Эту чару прими зелена вина! Если хочешь добра — так пей до дна! А не хочешь добра — так не пей до дна!» Молодая Настасья чару пенную Принимала-выпивала до донышка. Прикатился к устам золотой перстенёк: Обручальный-венчальный перстенёчек тот! Им с Добрыней она поменялася! Им с Добрыней она обручалася! Им Настасья-то обещалася Одному быть верной Добрынюшке! Тут да стукнет Настасья Микулична Золотою чарой о столешницу; Тут да прыгнет она ко скоморошине Через яства-питья, через стол золотой; Тут да схватится за плечи за Добрынины‚ И сказует она Володимиру: «Гой еси ты, Владимир стольнокиевский. А не тот мой муж, что со мной сидел А тот мой муж, что напротив стоит — Долгожданный мой Добрынюшка Никитьевич!» Припадала головушкой к Добрынюшке, Говорила Настасья Микулична: «Ты прости меня, любимая державушка, Что пошла я за Алёшу за Поповича! Пересилили меня сильные, Приневолили люди могучие! А насилье творил сам Владимир-князь. Он насилье творил, он угрозой грозил, Что повыгонит меня вон с родины, Что мне места не даст в нашем Киеве!» Отвечал ей Добрынюшка Никитьевич: «Дорогая Настасья Микулична! Я прощу тебя по женской глупости, Не по глупости, так по слабости: Ведь насильным уводом увели тебя. Да Алёшу Поповича простить не могу! Ведь, Алёша, ты — мне крестовый брат; А крестовый брат — пуще кровного. Не прощу я и князя Володимира: Взялся он тут за дело не княжеское!» Подходил Добрынюшка Никитьевич Ко тому столу пировальному, Он хватал тут Алёшеньку Поповича, Он хватал его за кудри жёлтые, Он хватал, через стол его вытаскивал. Распахнул он одежду скоморошную, Вынимал он шалыгу подорожную. Начал он шалыгою ухаживать, Да словами Алёше приговаривать: «Инда лих ты, Алёша сын Леонтьевич, Ты зачем свою смелость богатырскую Да пустил её на дело на подлое? Ты зачем про меня обманну весть привёз? Ты зачем слезил мою матушку, Ты зачем скорбил Настасью Микуличну?» А Владимир-то князь стольнокиевский — Он Добрынюшки опасается, Он по горнице в круги бегает, Куньей шубонькой укрывается, Из-под шубки он робко выкрикивает: «Удалой Добрынюшка Никитьевич, На пиру драться — дело нехорошее!» А и в этот час да в ту минуточку Появилися тут во гриднице Ещё три богатыря, три могучие: Илья Муромец, Михаил Поток Да и сам Микула Селянинович. Поглядел Илья, вразумлять начинал: «Богатырь удалой ты, Добрынюшка, Утиши свое сердце молодецкое, Не убей ты, Добрыня, из-за женщины, Не убей богатыря святорусского! Он хоть силой не силён, так напуском смел, Он напуском смел, да он в битве умел. Ты бросай свою шалыгу подорожную, Ты бери свои гусли звончатые, Ты сыграй, ты спой, богатырь удалой, Про свои про великие подвиги, Про святую Русь богатырскую! Позабудем про горести старые, У нас есть теперь радости новые: Вместе с нами и Добрыня Никитьевич, И Поток Михаил сын Дунаевич. Пусть на радости такой пойдёт пир горой, Всему русскому люду веселеньице, Нам, витязям, примиреньице!»Василий Игнатьевич и Скурла-царь
Что случилося с князем Владимиром? Опоили его зельем-бесивом: Возбесился-лишился князь великий ума. А кто опоил-обесноватил его? А не люди его зельем-поилом, Не бесовка-колдунья, не волшебница, Опоила его власть великая, Довела до беснованья беспредельная: Княжья власть его порчей испортила, На дурное самодурство ум истратила. Разогнал бесноватик всех витязей, Удалил от двора дружину русскую. Кто куда богатыри поразъехались. Славен был святорусский богатырь на Руси — Храбрый витязь Василий Игнатьевич. Славен силой был, славен мужеством, Славен смелостью и отвагою, Славен сметкою, военной хитростью. Слабоват был Василий Игнатьевич Ох ко чарочке да с зелёным вином. А пошли богатыри от Владимира — Не остался при князе и Васильюшка: Покидал он службу богатырскую, Покидал он самоправца Володимира. Закатился Василий во царёв кабак. Пропил там своего коня доброго. Пропил он там своё платье цветное. Пропил он всё оружье богатырское. Всё пропил-спустил с себя до ниточки. Был Василий Игнатьевич — гроза богатырь. Стал пропойца: Васька пьяница. Да и сам-то Владимир Красно Солнышко — Он и так, он и сяк выпивать не дурак: Он пьёт, он льёт, он посуду бьёт; Дескать, пить на Руси-то веселье еси! Едет стар казак Илья Муромец. Собирает он из розни дружинушку. Наезжает на шатёр белобархатный. Во шатре — шесть удалых-славных витязей. И сидят-то они, прохлаждаются, В шашки-шахматы развлекаются, А оружье ржою рыжей изъедается. Говорит богатырям Илья Муромец: «Добры молодцы, русские витязи! Не довольно ли нам бездельничать? Не довольно ли нам своё оружье пылить — Отдавать его на съедение рже? Не пора ли нам на заставу встать, Не пора ли собраться всей дружиною? Зануздаемте, славны витязи, Оседлаемте своих добрых коней! Положим себе мы залог большой: Чтоб по русской земле никогда-нигде Чуженин-богатырь не проезживал бы; Чтоб неверная рать не прохаживала; Чтобы под нашим под стольным славным городом Встала грозная застава богатырская; Чтоб ни конному врагу и ни пешему — Ни проезду, ни проходу на святую Русь! Постоим мы за веру, за отечество! А без вас, богатыри, осиротеет Русь. Налетят враги, разорят враги! Мужиков они всех повырубят! А поля да нивы все повытопчут! Церкви божие попалят-пожгут!» Отвечали поляницы Илье Муромцу; «Уж ты славный казак, атаман-богатырь! Ты оставь эти речи, Илья Муромец! А не будем мы ни коней седлать, Ни садиться, ни ехать в поле чистое! Мы не будем стоять за отечество! Мы не будем стоять за стольный Киев—град! Мы не будем стоять за церкви божие! Мы не будем беречь Володимира! У тебя, атаман, копьё длинное — Достаёт оно далеко врага! У тебя, атаман, память короткая: Покороче носу воробьиного! Позабыл ты, Илья, позапамятовал, Как князь Володимир нас не миловал; Как он удалых русских витязей Изгонял-казнил, ни во грош ставил нас! Позабыл ты, как Володимир-князь Погубил ни за чтохоньки Сухмана! Позабыл ты, как Володимир-князь Погубил Ловчанина Данилушку, Погубил его жену Василисушку! Позабыл ты, как Володимир-князь На погибель тебя самого, Илья, Во глубок подвал да засаживал И песком тебя замуровывал! А чего теперь нам ждать ещё? Чем пожалует нас Володимир-князь? Много есть у него и князей и бояр, Он их кормит, поит, он их жалует! Они любы ему, кособрюхие! А мы не любы, богатыри, ему! Не поедем мы больше богатырствовать!» Приходила пора, худое времечко: Поле чистое затуманилося, Небо ясное позатучилося, Солнце красное попритенилося. Из-под той ли берёзки кудреватыя, Из-под кустика Леванидова, Выбегали три тура одинаковые. По лесам бежали туры одногнёдые, По полям перебегали одношёрстные, По горам они скакали златорогие. Добегали они до моря синего. В море синее туры бросалися. Доплывали до Буяна до острова. А навстречу нм турица однорогая. А тем турам она — родная матушка, «Ой вы, туры мои одногнёдые! Где вы, туры мои, были, что видели?» Отвечали ей туры златорогие: «Мы шли, мы бежали через чисты поля! По лесам, по горам перебегивали. А мы были во городе во Шахове; Побывали мы, туры, во Ляхове. Сорочинское поле поперёк прошли, Куликовское — с угла на угол. А мы чудушка нигде не видывали. А мы вышли да там повыбежали На поля, на луга на подкиевские, Мимо Киева о полночь прошли — Тут увидели мы диво дивное, Тут услышали чудо чудное. На Днепр на реку под стольным Киевом Выходила девица младокрасная. Выносила она книгу велику-толсту, Заходила она с книгой по колен в реку... А ещё того поглубже — выше пояса... А ещё того поглубже — по белую грудь. Становилася к камню серому. Книгу клала на него, приклонялася. И стояла перед книгой от зари до зари, И читала её от доски до доски. Она сколько читала — вдвое плакала!» Отвечала турица однорогая: «Ой вы, глупые туры, дети малые! Несмышлёные-неразумные! Не девица выходила младокрасная; Не она читала, слёзно плакала. Это плакала стена городо́вая — Над собой она чует невзгодушку, Да над Киевом, ох, великую. Ох, великую беду, зло погибельное! Поднимаются ветры буйные. Надвигаются тучи чёрные!» То идет Скурла-царь под стольный Киев-град. Выезжает собака в поле чистое, Выбирает он место высокое. Строит-ставит собака Скурла-царь шатры. Хорошо он, пёс, шатры повыстроил; Красным золотом верхи повыкрасил. Он берёт перо скорописчатое. Он берёт бумажку хрущатую Пишет Скурла ярлык, скору грамоту. Выбирает-призывает татарина. «Поезжай-ка поди ты, татарин мой, В стольный Киев ко князю Владимиру. Станови коня середи двора, Заходи бесспросно во гридницу. Ты по полу пройди, как гром прогреми. Ко Владимиру, как грозу пронеси. Повернись-развернись — все скамейки свали. Растолкай все столы белодубовые, Постащи с них скатерти браные, Посвали с них яства все сахарные, Положи ярлык перед Владимиром, Повернись без слов, скоро вон пойди!» Басурман-посол — он коня седлал, Он скакал через заграды подорожные, Через те ли валы надземельные, Через те ли стены городо́вые. Прискакал-прилетел да проламывался, Кидавал ярлык перед Владимиром, Учинял разгром по-приказанному. Нашумел-нагремел, сам вон пошёл. Увидал ярлык Володимир-князь — Задрожали тут руки у солнышка, Заморгали глаза у князя грозного, Затряслась борода поседелая. В ярлыке супротивник домогается: «Я иду, Скурла-царь, на святую Русь! Приказую добром стольный Киев сдать! Если я добром этот город возьму, Самого тебя, Владимира, помилую! Не отдашь подобру ты Киева — А я боем его, я взятьём возьму! Самого тебя, князя, под меч пошлю; Отсекут тебе голову буйную!» Потерял слова Володимир-князь — Приутихли бояре кособрюхие. Нет хороброй-могучей дружинушки; Нет защитников теперь у Киева. Ты куда идёшь, Владимир, собираешься? Для чего вдоль по Киеву слоняешься? Повстречайся ему большая подсушина. Подсушила-то ту подсушину Жизнь холодная, жизнь голодная. И от ветра подсушина качается. Гордый-грозный князь уж и этой рад. «Здравствуй, здравствуй, большая подсушина!» «Уж ты здравствуешь, солнышко Владимир-князь! Что ты нынче идёшь не по-старому? Что повесил ты буйну голову, Что потупил свои очи ясные?» «Ты послушай меня, большая подсушина: Понависла над Киевом невзгодушка‚ Понадвинулась на Русь да великая. Ты не знаешь ли, большая подсушина, Где защитника богатыря найти?» «Ах, солнышко, Володимир-князь! Ты не с нами думу думаешь — с боярами. Пусть они тебе и поспособствуют!» Ещё больше пригорюнился Владимир-князь. Он пошёл-побрёл вдоль по Киеву. Попадал в глухую закоулину. Повстречал там среднюю подсушину. Ох худа, худа ты, подсушина! А Владимир-князь её спрашивает: «Будь здорова ты, средняя подсушина!» «До здоровья ли подсушине, Владимир-князь? Что ты сам-то, батюшко, идёшь не так: Не по-прежнему, не по-старому — Плечи княжеские поопущены, Твоя буйная головушка повешена?» «Ох, беда пришла бедущая, подсушина! Скурла-царь грозится город Киев взять. Меня, князя Володимира, под меч послать. Ты скажи, не утай, подсушина, Где найти мне могучего богатыря?» «А ведь ты, Владимир-князь Красно Солнышко, Ты не с нами думу думаешь — с боярами. Пусть они тебе и поспособствуют!» И опять побрел Владимир-солнышко. Он забрёл-зашёл во смрадную трущобину. Повстречал там малую подсушину, Доконала-добила горемыку нужда: На подсушине и рубашонки нет — Волоса торчком, борода клочком. Повстречал-попривечал князь подсушину. Рассказал ей про своё горе-бедствие. Попросил и ещё совета-помощи. А подсушина не отказалася. Подавала она князю такой совет: «Ты иди-тко-ся, Володимир-князь, Во князёвы зайди во свои кабаки, Во кружала те государевы. Отыщи ты там место запойное. На запойном-пропойном месте печь стоит, Бела печь стоит, на ней камень лежит, А на камне — пропивоха пропивущая. Спит питух-питок без рубахи-порток — Он тебя из беды, князь, повыручит!» Приходил Володимир во питейный дом. Он на белой на печке на муравлянке, Он на сером на голом на камени, Увидал пропивалу-пропойщика: Под одною спит дерюгою-рогожею. За столами сидят голи кабацкие. Они бражничают-забавляются, Над пропойной головой насмехаются: «Васька-пьяница — горькая пропоица — Всё спустил-заложил на зелёном вине: Коня доброго, сбрую конскую, Всё оружье, и шлем, и шапку бархатную, И сапожки козловые-сафьянные!» На пьянчужку глядит Володимир-князь — Узнает в нем Василия Игнатьевича, Да того ль богатыря святорусского. «Гой еси, ты удалый добрый молодец. Молодой ты, Василий сын Игнатьевич! Тебе полно спать, а пора вставать, От великого хмелю очувствоваться!» Не внимает Василий речи княжеской. Повернулся Василий на правый бок. Подложил под ушко он левый кулак. Захрапел Василий пуще прежнего. Князь будит его, не добудится. За головушку Владимир хватается, Над пропоицей убивается. Помогли ему голи кабацкие — Растолкали-разбудили подтычинами. Пробуждался-просыпался пропойничек. Призывал-умолял его Владимир-князь: «Ты проснись-отоспись, ты восчувствуйся, Добрый молодец Васильюшко Игнатьевич! Послужи ты мне верой-правдою: Ты избавь стольный Киев от лихой беды!» «Уж и рад я служить, хоть и жизнь положить! Не могу ино встать, головы поднять! Ох, буйная моя головушка — Ох, болит-шумит-разрывается! Ох, трещит-гудит разлетается!» Догадайся тут Володимир-князь — Он возьми и поднеси чару полную Для поправки Василию зелена вина; Для запивки — турий рог меду сладкого; Для заедки — калачик бел-крупищатый. Васька чарку пьёт, приговаривает: «Не омылось моё сердце ретивое! Не проя́снилась буйная головушка!» Повторял-подносил на опохмельице Володимир-князь ещё два раза. После третьего подношеньица Васька чарку пьёт-приговаривает: «Вот омылось моё сердце ретивое! Прояснилася-возвеселилася Удалая моя, буйная головушка. А теперь я могу и за Киев стать. Только встать-то пойти Ваське не с чего: Ни креста у меня нет, ни пояса, Ни рубашечки бел-полотняной! Ни коня у меня, ни конюшеньки! Ни тугого лука, ни стрел-колчана! Богатырской нет у Васьки палицы, Ни копья у меня бурзамецкого! Ни кольчуги, ни шлема, ни медных лат: На зелёном вине всё было пропито, В государевом кружале позаложено!» Красно Солнышко Володимир-князь — Он воззвал-приказал услужателям, Тем кабацким своим целовальникам: «Вы сидельцы мои, целовальники! Вы отдайте всё Васеньке безденежно! Воротите ему всё безвыкупно!» Не заря на востоке занимается -— В бой Василий удалой собирается. Он седлал-уздал коня доброго, Он скакал-летел в поле чистое, На высокую гориночку заскакивал, В поле ворога он угадывал, Не раздумывал, не разгадывал, Вынимал лук-стрелу, приговаривал: «Ты возвейся-возлети, калена стрела, Залети, стрела, в поле чистое, В золочёный шатёр да ко Скурле-царю. Ты убей-прострели три головушки У поганого у Скурлы самолучшенькие!» Возвилась-возлетела калена стрела, Пролетела выше дерева жарового, Пронеслась пониже облака ходового. Угодила ко Скурле в золочён шатёр. Прострелила-убила три головушки, А у Скурлы-царя самолучшенькие: Сына, зятя да дьячка того выдумщичка. Он Скурле, дьяк, не родняк, не свояк — Он не родственник, он не свойственник. Да на выдумки дьяк был хитёр-быстёр. Оттого Скурле дьяк был дороже всех! Испугался Скурла-царь, задрожал-закипел. Он кричит-зычит, разузнать велит, Трем искателям-узнавателям Привести к нему виноватого. Васька-пьяница с поля чистого Воротился опять во царёв кабак. Бросил лук-колчан, снаряженье всё; Сам сел за стол, пировать пошёл. Пьет-пирует он сутки первые, И вторые сутки не насытится. Ещё пьёт богатырь и на третий день. А бояре о том и поразведали. Доносили они Володимиру: «Уж ты гой еси, наш батюшка-князь! Васька-пьяница — он пирует-пьёт, Ратным делом он не заботится, Хочет Скурле продать стольный Киев-град!» Володимир находит Ваську-пьяницу. «Гой еси ты, Васильюшко Игнатьевич! Ты пропойством пьёшь-пропиваешься‚ Ратным делом ты не заботишься! Изменить, видать, ты замыслил мне!» Тут Васильюшко рассержается, Говорит он в сердцах Володимиру: «А не жаль мне вора князя Володимира! И не жаль князей-бояр всех брюшинннков. А мне жаль по Киеву бедных вдов. Да кому о них заботушка положена, Тем и слажено будет дело всё!» Отправлялся Василий Игнатьевич В поле чистое, на зелены луга. Захватил три бочки-сороковочки: Зелена вина, пива пьяного, А во третий-то меду хожалого. Осмотрел-оглядел поле чистое: Не выводит ли Скурла свою рать воевать? Тишина была в поле, спокойствие. Принимается Васильюшко бражничать. И до крепкого сна упивается. И пускает он громкий-богатырский храп, И сыскатели-узнаватели На спящего и натыкалися. Подползли к шатру ночью тёмною, Приносили опутья шелковые Да наручники железные-кованые. Оковали-связали-опутали Ваську пьяного с головы до ног. Доставляли Василия Игнатьевича Ещё сонного да опутанного Ко тому ли ко Скурле в золочён шатёр. Скурла радуется да приплясывает, Ваську сонного он разбуживает: «Нынче, Васенька, ты у нас в руках! Нынче Васеньке не уйти от нас Из цепей-кандалов, из наручников!» Похвальба эта, похвастушечка Добру молодцу за беду пришлась. Принимался Васильюшко потягиваться, Распрямляться да поворачиваться. Тут опутины все и полопались. Тут наручники все и потрескались. Встал Васильюшко на ноги резвые. Скурла-царь стоит, сам дрожмя дрожит. Васька-пьяница ухмыляется. «Уж ты, Скурла-царь, ты прости меня По великой моей по большой вине. Я убил-погубил-застрелил у тебя Твоего сынка, твоего зятька‚ Да ещё дьячка того выдумщика! Ах, болит моя буйная головушка. И трещит жильё подколенное. И трясутся мои руки белые. Ты, Скурла-царь, опохмель меня — Перейду к тебе и на службу я!» Горька пьяница речи выговаривает. Скурла-царь эти речи выслушивает, На хмельные на речи полагается, Великой радостью возвышается. Наливает Василью зелена вина... Думал Скурла, наготовил питья на три дня. Васька выхлебнул за единый вздох. «Ай, Скурла, ты басурманский царь! Дай мне силу твою сорок тысячей! Я пойду-подступлю с этой силою! Я возьму-полоню стольный Киев-град!» Эх, возрадовался басурман Скурла-царь. Он дает Ваське силы сорок тысячей. Подступает пропойца под Киев-град С тою силою басурманскою, Говорит он им таковы слова: «Вы идите, татары, в стольный Киев-град. Вы берите-казните всех князей да бояр: Бейте-вешайте-выгребайте у них Красно золото, чисто серебро. Да не сметь вам трогать Володимира, Да не трогать вам Любаву Володимировну! Ещё чернедь-мужиков вам не сметь рубить! Ещё вдов да сирот вам не сметь губить! Коли вы, басурманы, ослушаетесь — Не сносить вам, басурманы, своих бритых голов!» И вошли татары в стольный Киев-град. Они били-рубили-вешали, Всех князей да бояр повывели; Понаграбили злата-серебра. А и вдов-сирот принялись убивать. А и чёрных мужиков подряд вырубливать. Увидал Василий Игнатьевич. Из шатра спешил, он выскакивал. С ходу-бегу на коня он запрыгивал. На дыбы добрый конь поднимается Сива грива у коня расстилается, Хвост трубой у него завивается. Изо рта у него пламя мечется, Из ноздрей у коня искры сыплются, Из ушей у коня дым столбом валит. Налетел да Васильюшко Игнатьевич На татарскую силушку несметную — Он конём топтал, он копьём колол, Он мечом её всю повырубил, Самого царя Скурлу пополам рассёк. Забирал понаграбленное золото, Закричал-заорал на весь Киев-град; «Эй вы, чёрная голь, мужичья киевская! Уж вы, большие, уж вы средние, Уж вы малые все подсушины! Вы идите-берите золоту казну, Жемчуга-серебро, всё богачество. Ешьте-пейте, которые голодны! Одевайтеся, которые холодны!» Пораздал казну Василий Игнатьевич. Поспешил ко Владимиру в горницу. А Владимир-то — он сидит-дрожит, С белым светом князь уже прощается: Ждёт меча над головой басурманского. Говорит ему Василий Игнатьевич: «Гой еси ты, Владимир Красно Солнышко! Не сиди, не дрожи, не прощайся ты С белым светом, князь, прежде времени; Вся беда прошла-миновалася: Злы вороги все повыкрошены. Все повырублены, все повытоптаны, Сам Скурла мечом рассечён пополам. А бояре-князья все повырезаны! Будет славно теперь на белом свете жить!› Не успел досказать Васька-пьяница, Не успел домолвить слова последнего, А из всех дверей — по семи зверей — Поползли тут бояре толстопузые. Самозлейшие бояре и целы-здоровы: От татар, от беды лих попрятались, Красным золотом да повыкупились! Все на белый свет показалися, На свои места посадилися. Володимир-князь стольнокиевский Хочет Васеньку дарить-миловать: «Удалой ты, Василий Игнатьевич! А спасибо тебе за службу верную: Ты от злых ворогов нас повыручил! От лихой беды поизбавил Русь! Уж и чем теперь наградить тебя?» Зашипели бояре косопузые: «Прогони ты, Владимир Красно Солнышко, Из палат своих Ваську-пьяницу. А нам более Васеньки не надобно! Пусть теперь будет Васеньке отказано!» Говорит на то Василий Игнатьевич: «Уж ты, солнышко Володимир-князь, Вам я, Васенька, ещё понадоблюсь!» Не на падали поразграялося, На пировле непотребной табуньё-вороньё, Расшумелися бояре, разгуделися: «А нам более Васеньки не надобно. Пусть теперь будет Васеньке отказано!» И не вытерпел Василий Игнатьевич, И вскочил он на ноженьки на резвые, Похватал он столешники дубовые Толстобрюхих бояр всех побил-погубил!Мамаево побоище
Наезжало царище Мамаище, Выходило, голосило-вопило оно: «Эй вы, мурзы мои, слуги борзые, Кто умеет разговаривать по-русскому?» Мурза-бурза один подвыскакивал — Он стар, горбат, наперед покляп, А носище крючком, а лицище сморчком, Бородёнка клочком, а губищи трубой, Волосьё на башке редковатое, А глазищи те вороватые. Голосище-то хриповатое: «Уж ты гой еси, царище Мамаище, И по-русскому, и по-немецкому, По-всяковскому умею подъязычивать, Растулмачивать, перетолковывать!» «Поезжай, мурза мой сын татарович, Приказуй от меня Илье Муромцу: Пусть платит мне дани-выходы И сдается без бою-кроволитья в полон!» Вестник злобный-чумовой на коня скакал, На Илью налетал, на богатырский стан, Прорывался, на стол ярлыки кидал. Брал Илья, читал, их прочитывал, Перечитывал да причитывал: «Охти мне, охти мне, охти мнеченьки! Ай, не вёшна вода пообтопила нас, Ай, не зимняя вьюга снегов нанесла, Обложил нас царище Мамаище Без числа да без сметы силой воинской. Ох, платить-не платить дань выходы, Откупаться ли от бою кроволитного? Ты, Алёшенька, свет Попович млад, Ты немилостивого позадари посла!..» Выходил стар казак из бела шатра. Видит: небо в облаках всё заоблачено, Оно тучами все затучено. Высока гора, да вершинушка Вся туманами затуманена. Велика судьба, да ино грудь-душа Вся заботами иззабочена. «Налетайте вы, ветры буйные, Восповейте вы, вихри грозные! Поразвейте все тучи чёрные, Засияй над Русью красно солнышко, Только мне не сиять больше, старому! Ах ты, старость, ты, старость, невесёлая, Невесёлая старость, ты, глубокая, Старость грузная да на триста лет, Что на триста лет да пятьдесят годов! Ты застала меня, старость старая, В чистом полюшке, во ковыльной степи, Настигала меня хищным коршуном, Налетала ты чёрным вороном, Да и села на мою буйну голову! Где ты, молодость молодецкая? Воспокинула ты старинушку, Улетела ты, моя молодость, За леса, за моря ясным соколом!» Илья Муромец Добрынюшке наказывал: «Ай, Добрыня ты свет Никитьевич, Ты садись за бумагу, поспеши-напиши Тридцать позывов русским витязям! Ты, Михайлушко свет Данилович, Ты призывы по Руси развези-разнеси, Созови всю дружину на почестный пир, На последнее побоище с татарами!» Принимал Михаил по́звы скорые, Легкой белкою на коня скакал, Серым зайчиком по полям бежал, Белым кречетом Ловчанинович Облетал богатырей да со по́званью. А Добрыня по наказу атаманову На усчёт вражью силу усчитывал. Воротился-привез весть нерадостную: «Ай, же ты, стар казак Илья Муромец, Я привез — не привез тебе сметицу: Чтоб ордынскую силу описать-сосчитать, Надо тридцать три скорых счи́таря, Надо тридцать три быстрых пи́саря, Надо времени три года, три дня!» Собралась-солетелась Русь дружинная. Говорил Илья Муромец речь такову: «А не медлить нам, дружина святорусская, Не давать нам царищу Мамаищу К битве прежде нас изготовиться. Мы вперёд пойдём, мы ему привезём Дани-выходы боем-се́ченьем! Сам первым я еду в силу-орду. Засвистит когда Святогоров меч, Зазвенит моя кольчуга серебряная, Загудит быстра калена стрела, Заревут рёвом татарове. Вы садитесь тут на борзых коней, Вы скачите на силу на неверную, Вы падите, налетите со всего рывья, Вы секите-рубите со всего плеча, Вырубайте-досекайте до едина врага!» Ходко-быстро возлетал стар казак на коня. От земли добрый конь отделяется, Над равнинными над степнинами, Над долинами-горами надстилается, В становище ко Мамаю прорывается. А Мамаище на девяти скамьях Измещается при девяти столах, Бородища из трех волосин-ветлин, А глазищи-то из двух чернущих котли́н, Он толстущими губищами шлепает: «Аль потолще мне Русь не припасла посла? Как поправились вы там, как покаялись? Все ль дороги, все ль постои поустроили?» Безо спеши сказовал Илья, без торопи: «Мы управились, мы покаялись, Повстречать орду с почетом изготовились, Есть конюшни для коней, терема для гостей!» Ухмыльнулося царище Мамаище: «А не глуп ваш, всё во опонял, Илья Муромец, А каков он на толст, а высок ли на рост?» «Ты глянь на меня, царь Мамаище: Он у нас Илья всем весь, как я: Он и ростом, и толстом, и величеством!» «Это что ещё за богатырь за такой? Я с такой мелкотой и не пошел бы на бой: Я такого Илью — тьфу: верёвкой совью, В три дуги согну, во песок сотру!» Эти речи Илье не показалися. Молодецкое сердце раскипелося, Раззадорился Илейко, разретивился, Вынимал он свой Святогоров меч, И сносил ему, Мамаищу, голову. Зачинал Илья богатырский бой. Засвистел тогда Святогоров меч, Зазвенела кольчуга серебряная, Загудели стрелочки каленые, Загремела палица булатная. Заревели ревом татарове. Позаслышала дружина, поднималася, На поганых басурманов припускалася. Начиналось великое побоище На Дону, на Непрядве, — Куликовское. Первым в битве головушку буйную Положил за Русь Пересвет-богатырь. Восклицал-воззычал Илья Муромец: «Мы ли, братцы, будем горевать-бедовать? На миру богатырю и смерть красна — И красна эта смерть Пересветова! Кто падёт вот такою смертью красною, Тот навеки бессмертным становится!» Возмахнул стар казак Илья Муромец — Он рукой своей богатырскою. Засвистал-заблистал мечом-молнией. Засверкали мечи у всей дружинушки, Зазвенели кольчуги серебряные, Запосвечивали шлемы золочёные, Засияли щиты богатырские, Заповзвизгивали тетивы на луках, Запосвистывали стрелочки калёные, Загремели палицы булатные, Заревели басурманы поганые: Сила русская ломит татарскую! А татарове гнутся и ломятся, Да назад — лих стоят, а не пятятся. Тут Добрыня-провор строй рвёт да — вперёд: Сколько рубит мечом, вдвое топчет конём, Не берёт, не сечёт его ни меч, ни копьё. Вдруг конь под Добрыней вспотыкается, А Добрыня на коня осержается, Он и бьёт коня до мяса чёрного, В стременах над ним приподнимается. В этот миг перед Добрыней богатырствующим Смерть грозная проявляется, Голозубая, лихобойная: «Стой, Добрыня, ты понаездился, На свой на век набогатырился!» Духом падает Добрыня, ин спрашивает: «Кто ты есть такой? Богатырь ли ты? Царь-царевич ли? Королевич ли? Из какой ты земли? Из какой орды? Прочь с пути, дай творить дело правое!» Отвечает страхолюдница Добрынюшке: «Я не царь, не король, не царевич я, Лихо всех богатырей, королей, царей Во Вселенной всей я всех сильней! Я — смерть твоя и за тобой пришла, По́лно ратиться тебе, молодечествовать!» «Ай, же, смерть моя, смерть престрашная! Как возьму я себе саблю острую, Отсеку тебе пустую голову!» Тут смерть в ответ расхохоталася, Мать сыра земля восколебалася, — «Не гордиться бы, богатырь, тебе, Перед смертищей не похваляться бы: В мире силы грознее грозной смерти нет. Кайся! К гибели уготовь себя! Вынимаю вот пилья невидимые, Достаю ножи наострённые, Подсеку тебе жилочки становые, Выну душу из тела богатырского!» Возмолился Добрыня к душегубице: «Пощади меня, смертья всесильная, Дай сроку мне на один хоть год! Сокрушим-ста мы силушку татаровичью. А тогда до тебя я и сам приду, Буйну голову я и сам сложу Под пилья-ножи твои невидимые!» Умолить-то смертину не умолишься, Сроку-воли у неё не упросишься. «Я не дам тебе жизни и на день на один!» «Дай мне времени, смертья, хоть на два часа!» «Я не дам тебе ни мига единого!» Доставала тут пилья зубчатые, Вынимала ножи наострённые, Подсекала смерть Добрыню, приговаривала: «Мой сегодня день, пированьище: Я Добрынюшку-то да в этот миг подсеку, Погублю в другой Илью Муромца!» Позасекла смерть Добрынюшку Никитьевича. Повалился Добрыня со добра коня. Усмотрел-углядел Илья Муромец Это бедствие всепечальное, Позвал-приказал молодцу Ермаку: «Ты послушай, Ермак Тимофеевич! Пал Добрынюшка во честном бою, И татаровичи одолевают там. Ты иди, Ермак, ты встань головой, Замени ты Добрынюшку Никитьевича, Окрыли осиротелую дружинушку!» Удалой-молодой буря-витязь Ермак Прилетал-ставал за Добрынюшку, Окрылял-возрождал у дружины дух. А в ту пору на Алёшу на Поповича Понадвинулася силища да страшная, И не гнётся та сила и не ломится, И назад-то она ведь не пятится. И погиб тут Алёшенька в неравном бою. Углядел-узрел Илья Муромец: Хлыном хлынула татарская несметица. Призывал Илья Васюту Игнатьевича: «Ты иди-тко, Васюта, укроти-утиши, Что-то больно там татары расшумелися!» Не ослушался Василий Игнатьевич: Укротил-утишил басурманщину. А тут-то все цари поганые Позамыслили, позадумали. Сговорились погубить главный корень Руси: Навалилась орда на самого Илью. И смертиха-страшилиха повысунулась, На пути перед Ильей повызнялась: «По́лно ездить, старик, — понаездился!» Твёрдым духом не падал, громко зыкнул Илья: «А кто ты есть и откудова? Ты — силач-богатырь? Ты владыка ли? Для чего мне указы указываешь?» Рокотала-громыхала в ответ карга: «Я не царь, не король, не силач-богатырь! Я — последний твой миг, я — смерть твоя!» Илья Муромец про себя твердит: «На бою мне смерть ведь не писана! Мне бы смерти в лицо поглядеть — не сробеть, Смелым по́глядом и победить её! Открывайся, смерть, ты курносиха, Рокотуша-старуха, пустоглазиха, Посмотрю на тебя: какова ты есть? Не замедливай! Нету времени мне — Одолели басурманы, злые недруги!» Громыхнула вражина смехом-рокотом: «Старичище мне заприказывал! Лих не знает стар да не ведает: На моё лицо не взглянуть никому, Ино взглянешь — обомлеешь стыдной о́бомленью!» Осерчал-зазычал Илья неистово: «Ах, безносиха! Лихоглазиха! Я взгляну и пересилю твою смертную Неудольную образинищу!» И сохватывал Илья рукою мужественной Покрывалину с лиходеихи. И воззрилась на него смертина лютая, И разит, и мертвит зраком-ужасом. А не будь же он плох, неустрашимый Илья, Он глядит на смертищу и не смаргивает, Страхом-трепетом не сокрушается. И взыграла-вскипела молодецкая кровь, Возросла-возвеличилась в Илье душа, От бесстрашья удалого — гордость смелая. И немеет смертиха перед буйным бойцом, Опускаются ручищи костлявые, Обвисают во старухе кости сохлые, А в зубастом рту застревают слова. Пальцы цепкие да погремучие Пильев-зубьев-ножей не захватывают, Наточённых-наострённых не удерживают. А Илья-то — он отвагою всё полнится, Он во все глаза смотрит смерти в лицо: «Ты, иссохлая ведьма стародряхлая, Плохо знаешь, мало ведаешь про русский люд! Не туда пришла, не того нашла, Сторонись, каргуха, изомну-растопчу, Уноси ты костищи свои ветхие — На бою мне, Илье, смерть не писана!» И окреп Илья сильным духом своим. И ударил по коню, и размял-растоптал Душегубную свою супостатицу. И почуял он вдруг легкоту на душе, Ликованье-отвагу безудержную. Засвистел Ильин пуще прежнего меч, Зазвенела кольчуга звонче старого, Загремела громче палица булатная, Заревели с перепугу татаровичи. Задрожали-побежали короли-цари. Впереди других борзый царь Кучум От Ильи спешит, сам криком кричит: «А не дай нам бог воевать на Руси, На бою, на войне с русским встретиться. Заречёмся мы и на Русь ходить, А и детям закажем, а и внукам своим, Нашим правнукам и праправнукам!» А на ту пору к Илье Муромцу Подлетал-подскакал удалой Ермак. «Ты дозволь, атаман, за Урал пойти, За Уралом, за Камнем добить-сокрушить Все остаточки там татарские. Пусть плодиться им будет не от кого, И да пусть же Русь и на все времена Воевать-разорять будет некому!» И повыпросил дозволенья Ермак. За Уралом, за Камнем, татаровичи И не ждали они, и не чаяли Гостя славного, гостя буйного, Удалого Ермака Тимофеевича. Но пришел он, Ермак, неотвратной грозой, Понадвинулся за горы каменные, На Тобол, на Иртыш, на Сибирку-реку, Разражался он, и проливался он Ветром-вихрем, громом-молнией, Тучей огненной над татарами. И погибли, сгорели, в прах развеялись Вековечные супостаты-враги, Приневольники-притеснители, Разорители те святой Руси. Слава славному, непобедимому Богатырству русскому извечному, Добру молодцу Илье Муромцу, Удалому Ермаку Тимофеевичу!Примечания
1
Н. А. Заболоцкий. Стихотворения и поэмы М. - Л., «Советский писатель», 1965, с. 468-469.
(обратно)2
Поэты XVIII века. Т. 2. Л., «Советский писатель», 1972, с. 226-231.
(обратно)3
Жряховать — приносить жертву.
(обратно)4
Сварог — небо и бог небосвода
(обратно)5
Матерсва-Перуница — вестница Перуна
(обратно)6
Оцел — сталь
(обратно)7
Ристанье — скачка с оружием на коне.
(обратно)8
Швырки - поленья.
(обратно)9
Уповод — время в несколько часов.
(обратно)10
Шалыга — посох, кнут.
(обратно)11
Насыка́ться — покушаться, посягать, порываться.
(обратно)12
Куяк-чешуя — наборные латы из кованых пластинок по сукну.
(обратно)13
Харалужный — стальной.
(обратно)14
Сохатый — лось.
(обратно)15
Дуван — у казаков сходка для дележа добычи.
(обратно)16
Акинаки — короткие кинжалы.
(обратно)17
Выжлок — ищейка, гончая собака.
(обратно)18
Тороки — ремешки позади седла для пристежки.
(обратно)19
Вахлак — дождевой пузырь, здесь неуклюжий, грубый.
(обратно)20
Шебала (шабала, шабалда) — бестолковый пустомеля, болтун; шабалдить — болтать, молоть вздор.
(обратно)21
Щапить — щеголять, франтить; щапливый — щегольской.
(обратно)22
Халупник — бедолага, бедняк, живущий в халупе.
(обратно)23
Купав — бел, красив.
(обратно)24
Яловец — большой горшок, до случая стоящий без дела.
(обратно)25
Ластанья — щепки, лучина, дрань, лоскутья.
(обратно)26
Храпы — железные крючья на веревках.
(обратно)27
Вызнял — поднял.
(обратно)28
Воймовать— внимать, внять.
(обратно)



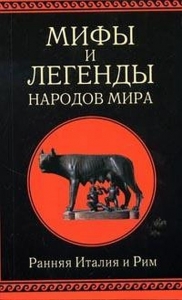

Комментарии к книге «Русь Богатырская: былинные сказания», Василий Адрианович Старостин
Всего 0 комментариев