Карел Яромир Эрбен
Перевод с чешского
ОГИЗ
Государственное издательство художественной литературы
1948
Общая редакция проф. П. Г. Богатырева
Редакция стихотворных текстов М. Зенкевича и М. Голодного
Обложка, титул, заставки и буквицы художника В. И. Таубера
ПРЕДИСЛОВИЕ
Чешская литература XIX века чрезвычайно тесно связана с народным творчеством. Интерес к фольклору, вообще характерный для эпохи романтизма, имел в Чехии свое особое значение. Как известно, насильственное онемечивание чешского населения и гонения на чешскую культуру едва не привели в XVIII веке к полному исчезновению чешской письменности. Высшие слои общества были онемечены, национальные традиции и богатства языка сохранялись низшими слоями общества в провинции и, главным образом, в деревне. На эти традиции, на самобытную и глубоко национальную культуру и опиралась в своем развитии новая чешская литература, выросшая вместе с подъемом национального движения. Крупнейшие чешские писатели и поэты первой половины XIX века, как правило, были одновременно выдающимися собирателями и издателями фольклора. Франтишек Челяковский составил антологию песен славянских народов и собрание славянских пословиц. Ян Коллар — собрание словацких песен. Много сказок собрано Боженой Немцовой.
Параллельно с освоением чешского фольклора развертывается широкое изучение фольклора и культуры других славянских народов. Для чехов, как и для всех западных и южных славян, осознание своей принадлежности к большому и сильному «славянскому племени» было поддержкой в национально-освободительном движении и в создании национальной культуры.
Одним из ярчайших представителей так называемой «народной школы», все творчество которой уходит своими корнями в фольклор, является и великий чешский поэт Карел Яромир Эрбен (1811—1870). Он родился в небольшом провинциальном городке Милетине, в семье сапожника. Уже в гимназии Эрбен столкнулся с угнетением чехов немцами. В то время преподавание в Чехии велось почти исключительно на немецком языке. Учебники также были немецкими. Эрбену приходилось переносить большие материальные трудности, и он вынужден был зарабатывать на хлеб частными уроками. «В течение шести лет, — писал он впоследствии, — приходилось бороться не только с неметчиной и школьными книгами, но еще больше с потребностями жизни». Сильное влияние оказали на Эрбена патриотически настроенные учителя. Уже первое его стихотворение «Звичинский сонет» носит антинемецкий характер{1}. Формой сонета Эрбен засвидетельствовал здесь свои симпатии певцу «славянской взаимности» — Яну Коллару (сонет был излюбленной строфой Яна Коллара).
В университете Эрбен увлекается чешской историей. В течение нескольких лет он работает над чешскими историческими рукописями. На каникулах с товарищами-студентами Эрбен совершает экскурсии к историческим местам, к развалинам старых чешских замков — памятникам былой независимости Чехии.
Ранние вещи Эрбена испытали на себе влияние одного из крупнейших чешских романтиков, современника Эрбена—Карела Гинека Махи. Певец мировой скорби, бунтарь, восстававший против всего современного ему общества и его уклада, Карел Гинек Маха обладал необыкновенно сильным лирическим талантом. Однако с самого начала Эрбена отличает от Махи его ориентация на фольклор. Влияние Махи сказалось в основном только на формальной стороне произведений Эрбена и постепенно убывает в его творчестве.
Это влияние можно проследить на ряде стихотворений Эрбена, а также в наброске «Загоржа», где материал народной легенды облекается Эрбеном в форму романтической поэмы о таинственном злодее. Но уже здесь Эрбена сближает с фольклором конкретность в обрисовке образа героя и повествовательный характер произведения.
Эрбен проявляет большой интерес также к польским романтикам. Известность последних в Чехии особенно возросла после польского восстания 1830 года. Так же как и идеи Июльской революции 30-го года во Франции, идеи национально-освободительного восстания были созвучны настроениям передового чешского общества того времени.
Популярным литературным жанром 30-х годов в Чехии была песня. Песня, положенная на музыку, легче, чем книга, проникала в народ, укрепляя любовь к родному языку среди городского населения. Ранние стихотворения Эрбена также носят песенный характер: «Доброй ночи», «Единство», «Вечер», «Горец-чех», «Призыв к радости» и др. Почти все они были положены на музыку.
Основным содержанием ранней лирики Эрбена является тема порабощенной родины. От романтики тайн и кладбищенских мотивов Эрбен постепенно отходит. Тема же родины, прозвучавшая уже в первом стихотворении, занимает центральное место во всем его творчестве. Несмотря на умеренность своих политических взглядов, Эрбен на протяжении всей своей жизни остро ощущал тяжесть немецкого гнета. В его письмах часто встречаются слова горькой обиды и протеста против засилия немцев. Стремлением усилить патриотическое сознание чешского народа, способствовать, в противовес онемечиванию, развитию богатой национальной культуры, определяется весь творческий путь Эрбена. Отсюда и его исключительный интерес к фольклору. Эрбен прекрасно понимал значение фольклора в деле создания национальной культуры. В письме словенскому поэту Станко Вразу он пишет: «Только изучение простого народа, его души и особенностей его характера может быть источником расцвета подлинно национального искусства». Эрбен указывал, что и идеи, и слог, и стих уже даны в народном творчестве. Нужно уметь их понять и освоить.
Из фольклорных жанров Эрбена особенно привлекает баллада. На материале народных легенд и преданий он создает свои баллады. В 1834 году им написаны «Полудница» и «Незваный гость», в 1837 году создана баллада «Клад». Опубликование ее в 1838 году принесло Эрбену крупный успех.
По окончании университета Эрбен работает в пражском суде, принимая одновременно активное участие в общественной жизни: участвует в организации студенческой читальни и в устройстве чешских балов — больших патриотических вечеров, позднее ведет большую работу в Чешской Матице{2} и Чешском музее — национальных центрах культурной и научной жизни.
Патриотически настроенные литераторы и ученые часто собирались по вечерам. Среди гостей бывали и русские ученые: П. И. Прейс, И. М. Бодянский, И. И. Срезневский.
Чешско-русские культурные связи завязываются еще в конце XVIII и начале XIX веков. Выражением растущих симпатий чехов к братскому русскому народу, самому большому и самому сильному из славянских народов, был, в частности, повышенный интерес к русской культуре. С самого начала XIX века чешские писатели обращаются к русской поэзии. В 10-х годах XIX века русские народные песни послужили источником для целого ряда песен Вацлава Ганки. В 20-е годы Ян Коллар выступает со своей знаменитой идеей «славянской взаимности» и воспевает славянство в поэме «Дочь Славы». В 29-м году Франтишек Челяковский издает прославившее его «Эхо русских песен». Учащаются поездки в Чехию русских ученых.
Встречи чешских патриотов с русскими учеными превращались в настоящие праздники славянской дружбы. В записную книжку Срезневскому Эрбен написал стихотворение:
Будь Москва то, будь то Прага,
наша родина — одна.
Если жизни цель — она,
значит вместе быть нам—благо.
Колларовская идея единения всех славян прочно живет в сознании Эрбена.
Знакомство Эрбена со Срезневским переросло в настоящую большую дружбу. В течение всей своей жизни они активно переписывались. С Бодянским в 1842 году Эрбен путешествует по Ходску (область, населенная ходами, лучше других сохранила старый чешский быт, народные обычаи и фольклор). В эту поездку Эрбену удалось записать много песен и сказок. Среди последних находился и материал, использованный Эрбеном при создании баллады «Свадебные рубашки».
Собирать фольклор Эрбен начал еще в школьные годы. Теперь вокруг него образовался уже целый коллектив корреспондентов. Завязывается переписка с рядом славянских ученых и литераторов, интересующихся фольклором. В 1841 году Эрбен издает первый том «Чешских народных песен». В 43-м и 45-м годах вышли еще два тома. «Чешские народные песни» Эрбена были самым полным и лучшим из существовавших в то время собраний чешских песен. В большом количестве были представлены в сборнике народные баллады. Эрбен снабдил издание комментариями и статьей о славянских народных песнях.
Интерес Эрбена к народному творчеству не ограничивался чешским фольклором. Он делает переводы польских баллад, переводит ряд сербских песен из цикла Кралевича Марка, а также хорватскую «Песнь Иллиров» Деметра. Эрбен мечтает вслед за Челяковским составить антологию славянских песен.
Уже в начале 40-х годов Эрбен задумывает также издать собрание чешских сказок. Одновременно и сам он пробует свои силы в этом жанре. Первые его сказки носят характер сказочных новелл с элементами сатиры на чиновничий бюрократизм («Святой Степан», «Глупый Куба» и др.). В ранних сказках Эрбена нет еще простоты и лаконичности народной сказки. В 1844 году выходят «Три пряхи» и «Хорошо, что есть смерть на свете». Работа над сказками сказалась в одной из лучших баллад Эрбена «Золотой прялке».
В 40-х годах Эрбен много путешествует по Чехии в целях изучения архивов и собирания чешских исторических памятников. Во время этих поездок, наряду с историческими изысканиями Эрбен ведет этнографические наблюдения и записывает песни, легенды, сказки. Глубокое впечатление произвело на Эрбена посещение Табора и Собеслава — исторических центров гуситского движения. Огромная безлюдная площадь, двойные крепостные стены, пустая крепость напоминали кладбище.
К концу 40-х годов Эрбен — признанный крупный ученый. Ему принадлежит уже целый ряд исследований в области чешской истории и фольклора. Он участвовал в издании первого тома «Избранных произведений старой чешской литературы» (1845). Выход в свет «Чешских народных песен» поставил Эрбена во главе чешской этнографической науки.
В 1845 году Эрбена приглашают войти в языковедческую комиссию Чешской Матицы. В 1848 году его выбирают заместителем Юнгманна в комитете Матицы и экстраординарным членом Чешского научного общества. С 1849 года Эрбен — действительный член Чешского научного общества.
В событиях 48-го года Эрбен участвовал на стороне национально-либеральной партии, которая, как известно, выступая против засилия немцев, стояла за федерализацию Австрии без существенных социальных преобразований. Много было сделано им по подготовке Славянского съезда. Эрбену было поручено приглашение на съезд представителей южных славян.
После поражения пражского восстания 1848 года Эрбен соглашается редактировать правительственную «Пражскую газету». Однако газета не смогла сохранить либерального характера. Очутившись в ложном положении, Эрбен находился в постоянной борьбе с самим собой. С усилением реакции он уходит из газеты. Оппозицию Эрбена к правительству отражает сатирическое стихотворение этого времени «Фердачек наш», написанное по поводу отречения Фердинанда V. В стихотворении выражается твердая вера в освобождение чешского народа:
На своем стой, народ!
Час свободы придет!
В течение года Эрбен живет в Вене и участвует в работе терминологической комиссии[1]. В 1851 году его выбирают архивариусом Праги.
Наступает период баховской[2] реакции. Закрываются газеты. Отменяется завоеванное в 48-м году равноправие чешского языка с немецким. Политические деятели подвергаются репрессиям. Замирает общественная жизнь. И вот среди гробового молчания раздается голос Эрбена — в 1853 выходит в свет «Букет».
«Букет» является вершиной поэтической деятельности Эрбена. Сборник содержит двенадцать баллад, составляющих единое художественное целое. Замысел поэта образно раскрывается первым стихотворением сборника, которое вместе с заключительным стихотворением является как бы ключом к пониманию целого. Используя народную сказку о цветке «душа матери», вырастающем на могиле матери в утешение осиротевшим детям, Эрбен преподносит читателю свой сборник как букет полевых цветов, сорванных на «древней могиле родины милой», — то есть как собрание стихотворений в духе народной поэзии, отражающих душу народа, его национальную самобытность и художественную одаренность.
В основу баллад сборника легли поэтические славянские поверья, легенды и сказки. На основании глубокого изучения самых разнообразных жанров не только чешского, но и вообще славянского фольклора Эрбену удалось создать серию баллад, отражающих ряд характерных мотивов славянского народного творчества. Но вместе с тем необходимо отметить склонность Эрбена выбирать из фольклора мотивы народных суеверий, мотивы борьбы человека с потусторонними силами. Последние нередко побеждают человека или же тяготеют над ним. Эти мотивы отражают трагизм положения самого Эрбена. Веря в будущее Чехии, Эрбен все же не видел конкретного выхода, в частности он не понимал роли рабочего класса в освободительном движении чехов. Отсюда —идеализация патриархального крестьянского быта, и, вместе с тем, неуверенность, тревога; беспокойство, отсюда, наконец, и самый жанр баллады – сжатой трагедии.
Высокого художественного совершенства достигла в «Букете» стихотворная форма. Сказалось превосходное знание народной песни. Именно к чешской народной балладе восходит эрбеновский драматический диалог и напряженность действия. Ритмическая и звуковая выразительность стиха, простота и афористичность слога также являются следствием глубокого проникновения в народную песенную стихию. Высоким мастерством отличается рельефный эрбеновский пейзаж.
Ряд баллад «Букета» носит сказочный характер. Сказками в стихах являются «Золотая прялка» и «Ложе Загоржа». Во второй из них чувствуются еще следы влияния Махи (романтический пейзаж, элегические мотивы). Однако образ таинственного злодея, выведенный в наброске «Загоржа», превратился теперь в образ сказочного великана.
Заключительное стихотворение «Букета» — политическая аллегория. В уста легендарной прорицательницы, приносящей в годину бедствий «ветвь надежды» своему народу, автор вкладывает слова горячей веры в будущее Чехии. Приклони ухо к земле — и ты услышишь звон колокола свободы... Стихотворение призывает чехов, мораван и словаков сплотиться и «ходить в храм через одни двери». Отдельные строки (например, конец первой части) почти совпадают с цитированными выше словами, произнесенными Эрбеном в сатирическом стихотворении 49-го года «Фердачек наш», где открыто выражалась надежда на возвращение 48-го года.
Ко всему сказанному следует добавить, что «Букет» должен был выйти к Новому году, благодаря чему сборник приобретал смысл новогоднего пожелания. На обложке книги было изображено варито[3] скрещенное с мечом.
«Букет» является одним из лучших произведений чешской литературы. Наряду с «Маем» Махи и «Бабушкой» Божены Немцовой, это любимая книга читателей всех возрастов. С момента выхода «Букета» прогрессивные чешские писатели всех поколений обращались к Эрбену, как к своему предшественнику.
В 50-е годы Эрбен ведет большую научную и издательскую работу. Под его редакцией вышел 2-й том «Избранных произведений старой чешской литературы». Многие литературные памятники были подготовлены им к отдельному изданию. Среди них «Александриада», «Легенда о св. Екатерине), «Хроника Бартоша», «Лабиринт света и рай сердца» Яна Коменского, сочинения Яна Гуса и др. Эрбену же принадлежит громадный труд — «Свод дипломатических документов и исторических грамот Богемии и Моравии», а также целый ряд исследований в области чешской истории и славянского фольклора.
В то же время Эрбен не оставляет работы над сказками. Сказки Эрбена, как и его баллады, явились плодом серьезного и внимательного изучения народной поэзии. Эрбен превосходно знал сказки всех славянских народов. В частности, он высоко ценил русскую и украинскую сказку.
Красной нитью через все сказки Эрбена проходит идея торжества добра и правды над злом и насилием. В этой идее, характерной и для народной сказки, Эрбен видел отражение нравственной чистоты и силы народа.
Большой поэтичностью отличаются в сказках Эрбена образы, олицетворяющие явления и силы природы. Изображение самой природы отнюдь не служит у Эрбена целям орнаментировки. Его пейзажи органически вплетаются в ткань произведения и тесно связаны с развитием действия сказки.
В сказках Эрбена отсутствует какая бы то ни было сентиментальность и литературная романтика. По форме они очень близки к народным сказкам. Читатель и воспринимает их как настоящие народные сказки. Вместе с тем они не являются простой стилизацией. Как и баллады, сказки Эрбена представляют собой синтетическое претворение мотивов славянской народной поэзии в оригинальные художественные произведения.
Целый ряд сказок Эрбена, в том числе «Три золотые волоса Деда-Всеведа», «Царевна-Золотоволоска» и др., заслуженно считаются шедеврами сказочного жанра.
Лаконичный и образный язык Эрбена, восходящий к языку народных сказок, признан образцом чешской прозы. О нем с восторгом отзываются не только лучшие писатели прошлого века, но и такие передовые писатели современной Чехословакии, как М. Майерова.
В 1861 году вышло новое издание «Букета». Объем сборника был значительно расширен за счет отдела «Песен», куда вошли многие произведения первого периода. Из новых стихотворений следует отметить балладу сказочного характера «Лилия» и кантату «Первая майская ночь», отличающуюся высокой музыкальностью стиха.
В 1861 году Эрбену предложили выставить свою кандидатуру в чешский сейм. Эрбен отказался, сославшись на состояние здоровья. Фактической причиной было засилье в сейме немецкого большинства. К этому времени относятся его патриотические стихотворения «На выборы», «Торжество в честь освящения знамени», а также «Песнь о победе у Домажлиц лета 1431». В последнем (снабженном по цензурным соображениям пометкой «Из старой рукописи») Эрбен в духе народной песни воспевает одну из славных побед чехов.
В 60-е годы Эрбен возвращается к систематической работе по изданию народных песен и сказок. В 1864 году вышли его «Простонародные чешские песни и пословицы», включавшие более 2200 текстов. Новое собрание отличалось от первого и расположением материала: песни были классифицированы тематически и по жанрам. Отдельно вышли ноты ко всем песенным текстам. «Простонародные чешские песни и пословицы» до сих пор остаются одним из лучших, подлинно научных изданий чешских песен. В сборнике строго соблюдается правильность текстов: песни напечатаны в том виде, в каком они были записаны. Наличие нот позволяет вести изучение песен, не отрывая их искусственно от напева.
В 1865 году Эрбен издает «Сто простонародных славянских сказок в оригиналах», или «Славянскую хрестоматию». Планы издания возникли у Эрбена еще в 53-м году, но в годы «баховского абсолютизма» выступить с книгой, «больше половины которой составляли русские сказки»[4] было невозможно. В 1869 году выходят «Избранные народные мифы и предания славянских народов» (без чешских). Сам Эрбен придавал сборнику политическое значение и видел в родстве славянского фольклора доказательство того, что, «несмотря на все стены, рвы и другие политические преграды, мы были и останемся детьми одной великой славянской семьи».
В 60-е годы усиливаются связи Эрбена с Россией. Эрбен всю жизнь был горячим другом русского народа и вел большую переписку с русскими учеными. Теперь же он становится как бы посредником в культурных связях между Чехией и Россией. После смерти Шафарика[5] непосредственно к Эрбену обращаются приезжающие в Чехию русские ученые: А. Н. Пынин, А. Ф. Гильфердинг, А. А. Потебня, Н. И. Костомаров и др.
В 1867 году К. Я. Эрбен, в качестве гостя вместе с великим чешским художником И. Манесом и другими посещает Московскую этнографическую выставку.
«Поездка эта, — писал Эрбен, — останется для нас, участников ее, незабываемой во всех отношениях, потому что мы очень многое изучили и наши представления о русских значительно обогатились в их пользу. Что касается меня, то я должен признаться каждому: это самый искренний и самый сердечный народ».
Конец жизни Эрбен посвящает работе над русскими историческими и литературными памятниками. В 1867 году выходит его перевод Несторовской летописи, в 1869 году — перевод «Слова о полку Игореве» и «Задонщины». Переводы отличаются высокими художественными достоинствами. За эти труды многие русские ученые общества избирают Эрбена своим членом. Членом ряда русских ученых обществ, в том числе членом-корреспондентом русской Академии наук, Эрбен был избран еще в 50-е годы.
Творчество Эрбена занимает почетное место в сокровищнице чешской литературы. Значительное влияние оказало оно и на дальнейшее развитие чешской поэзии. В той или иной степени у Эрбена учились и испытали его влияние Ян Неруда, Витезслав Галек, словак Само Халупка, автор либретто знаменитой «Русалки» Дворжака — Ярослав Квапил, а также зачинатель чешской пролетарской поэзии Иржи Волькер. Позднее баллада становится одним из излюбленных жанров чешской поэзии. Но в то время как основной проблемой творчества Эрбена была проблема национальная, поэты следующих поколений наполняют балладу новым, социальным, содержанием. Иржи Волькер явился создателем нового жанра — жанра социальной баллады.
Советскому читателю особенно близка в произведениях Эрбена проходящая через все его творчество идея национальной независимости и братства славянских народов — идея, полностью воплотившаяся в жизнь только в наши дни, благодаря героическим победам Советской Армии. Выход в свет избранных произведений Эрбена на русском языке несомненно будет встречен с большим удовлетворением советскими читателями.
С. Никольский
Букет из народных преданий{3}
БУКЕТ
БУКЕТ{4}
Как мать скончалась и ее схоронили, сироты детки остались; каждое утро на ее могиле встречи с ней дожидались. И загрустила мать по своим детям; душа ее возвратилась, и на могиле мелколистым цветом выросла, расстелилась. Почуяли детки родимой дыханье, запрыгали, заиграли; утешное травки этой благоуханье мятой-душицей назвали. Родина-мать, о твоей дивной силе повествуют наши преданья! Собрал я их на древней могиле кому в назиданье? Свяжу я их единым букетом, лентой обовью широкой, пошлю их по белому свету дорогой далекой. Может быть, почуяв свежее дыханье, дочь твоя найдется, может сын твой, слыша то благоуханье, сердцем встрепенется!КЛАД
К Л А Д{5}
I На пригорке среди буков церковушка с малой вышкой; с вышки льются волны звуков через лес к деревне близкой. То не колокол взывает, отдаваясь за холмами: било в доску ударяет, люд сбирая в божьем храме. И спешат на эти клики богомольною толпою люди горною тропою — к службе Пятницы великой... В храме тихо, сумрак тмится; в траурной алтарь оправе, вышит крест на плащанице; хор Христовы страсти славит.[6] Чье это мелькает платье, там у леса на опушке? Женщина с какой-то кладью, жительница деревушки. Из-за речки темным бором в чистом праздничном наряде поспешает шагом скорым со своим родным дитятей. Вниз торопится, стремится, в храм поспеть она скорее: он уж близко перед нею — опоздать она боится. Подойдя к речному лону, вверх сильней спешит по склону; так как ветра дуновенье, пролетая по дубраве, издали доносит пенье: хор Христовы, страсти славит. Вот спешит она, но — скалы вдруг пред ней встают стеною: «Боже! Что со мною стало? Что подеялось со мною?» Смотрит изумленным взглядом, размышляет, оглянулась, вновь назад она вернулась. «Вот он лес, а вот — подлесье, тут идет дорога рядом, помню проходила здесь я — Боже, что со мной случилось? Был здесь камень у дороги, ныне ж скал стоят отроги!» Стала, снова в путь пустилась, продвигаясь постепенно, шаг тревожный замедляет, глаз ладонью протирает: «Боже, что за перемена!» Здесь, в трехстах шагах от храма, на краю глухого бора, камень был обычный самый, как теперь предстал он взору? Смотрит женщина в тревоге и глазам своим не верит, — вырос камень на дороге, вход открылся в нем к пещере: вздыбилась скала и стала, словно вечно здесь стояла. Смотрит женщина в тревоге — видит вход открытый в камень, словно в пышные чертоги; в глубине ж, вдали от входа, неземной какой-то пламень озаряет сумрак свода. Он горит, переливаясь то луны сияньем бледным, то, внезапно разгораясь, отблеском заката медным. Изумленная взирает женщина на это пламя и глаза свои руками, как от солнца, прикрывает. «Боже, что же это блещет? Что за дивный блеск трепещет?» Вглубь ступить она боится, У порога став, дивится. Все глядит — не наглядится, устремив глаза на пламя, — страх помалу исчезает, любопытство ж подгоняет, и она между камнями шаг за шагом дале, дале, точно тянет ее что-то; от шагов в пустынном зале только эхо из-под свода. И чем дальше шаг свой движет, тем сильнее бьет сиянье; вот еще подходит ближе, все короче расстоянье — блеск такой ей в очи брызжет — нету сил стерпеть сиянья. Смотрит — что же ей предстало? Кто б такое видел раньше? О красе такой, убранстве и в раю бы не мечтала! Перед нею настежь двери изумительного зала; стены золотом повиты, в потолок рубины влиты и хрустальные колонны. А у двери золоченой два светильника сияют; пола мраморные плиты свет нездешний отражают. И под тем, что слева блещет, серебра сплошная лава; груды золота трепещут под огнем, что светит справа. Блеск мерцает и дробится — слева лунный, справа красный; и пока здесь клад хранится, им вовеки не погаснуть, свет не сможет их затмиться. Женщина стоит, боится, ослепленная виденьем, взор поднять она страшится, овладеть не может зреньем. На одной руке младенец, по глазам другой проводит, и когда от изумленья вновь в себя опять приходит, глубоко она вздыхает и такую речь заводит: «Боже! Весь-то век с нуждою мне приходится тягаться, спину гнуть перед бедою, а — такое здесь богатство! Столько серебра и злата укрывает это диво! Горсть одну б из той громады и была бы я богата, и была бы я счастлива со своим родным дитятей!» И пока так рассуждает, все сильней в душе желанье: и, крестясь, она шагает к свету лунного сиянья и, серебряные слитки взяв, кладет на место то же, вновь, любуясь, поднимает, и в руках перебирает, но обратно ли положит? Нет, уж фартуком прикрыты. Осмелела от удачи: «Значит, промысел то божий, клад господь мне предназначил, счастье послано мне свыше: пренебречь грешно б такою указующей рукою!» Тихо так проговоривши, сына на пол опускает, сняв передник, на коленях полон набирает денег, и сама с собой бормочет: «Бог нам счастье посылает, он нас осчастливить хочет!» И берет — нет сил расстаться, фартук полон, еле встала, сняв платок, еще набрала, так влечет ее богатство! Поднялась итти обратно: ах, а что ж с ребенком малым, с малышом двухгодовалым, что ей сделать? Непонятно! Часть сокровищ кинуть милых? А всего поднять не в силах! Мать идет с тяжелой ношей, а ребенок — в страхе, в дрожи: «Мама, — плачет, — мама, мама!» Ручки тянет к ней упрямо. «Тсс... Не плачь, мой цветик крошка, здесь побудь один немножко, возвратится скоро мама!» Сыну так она сказала, и скорей бегом из зала, через речку, прямо к лесу, серебра не чуя весу. Кладь сложила и в весельи в путь обратный полетела, задыхается, вспотела, вот она уж близко к цели. Тихо ветра дуновенье лист колышет по дубраве, из костела слышно пенье: хор Христовы страсти славит. Вновь под свод она вбегает, слышит смех родного крошки; и дитя ее встречает, плещет радостно в ладошки. Мать не видит и не слышит, страстью алчною объята: ей в глаза сверканье пышет, ей всего дороже злато. Вновь передник расстилает, груды золота сгребает из сокровищницы клада. Фартук полон, еле встала, сняв платок, еще набрала! О, как бурно сердце скачет, как она удаче рада! Ношу подняла с размаха, а дитя дрожит от страха, неумолчно, горько плачет: «Мама, — кличет, — мама! мама!» Ручки тянет к ней упрямо. «Тсс... сыночек, полно, крошка, здесь побудь еще немножко». И с лицом к сынку склоненным руку в фартук опускает, две монетки вынимает и дитя забавит звоном: «Глянь-ка, что у мамки в ручке! Дзинь-дзинь! Слышишь, что за штучки?» Но дитя не смотрит, плачет, а у ней-то сердце скачет. В фартук руку опускает, горсть червонцев вынимает, на подол кладет сыночку. «Глянь-ка, как звенят звоночки! Тсс... мой мальчик, тсс... мой крошка, Дзинь-дзинь! Вот звенят занятно! Подожди еще немножко, мамка вновь придет обратно, поиграй здесь, мой сыночек, я вернусь через часочек». Сыну так она сказала И скорей бегом из зала, прочь от каменного входа, по мосточку через воду, по пригорку, прямо к лесу, золота не чуя весу, в хижину свою вбежала. «Эх, ты, бедное жилище, скоро я тебя покину! Что за радость в жизни нищей гнуть с зари бессменно спину! Из глуши лесной дремучей я уйду теперь на волю, попытаю жизни лучшей, обновлю былую долю; жить начну теперь иначе: мне теперь дорога всюду, улыбнулась мне удача, — в городе теперь жить буду; дом куплю себе, землицы, стану госпожой богатой, здесь я больше не жилица, прощевай навеки, хата! Я с житьем покончу вдовьим, не трудясь из сил последних: вот богатство»,—с этим словом опускает взор в передник. Ах, уж лучше б не глядела! Вся от страха помертвела, вся от страха задрожала, чуть без памяти не пала. Смотрит, — смотрит — что же видит, собственным глазам не веря! Распахнула настежь двери, Крышку с сундука сорвала, — Что же с серебром-то стало? Люди добрые, поймите, посочувствуйте обиде! Видит, скованная страхом: вместо серебра каменья, а в передника холстине, о, пустое наважденье, вместо злата — комья глины! все ее надежды — прахом! Не нашла ты счастья в кладе, недостойна благодати. II Страшная беда такая сердце ей сжимает тяжко, сына снова вспоминая, плачет и кричит бедняжка». Крик тот стены потрясает: «Ох, дитя, ох, сын мой милый!» «Сын мой, милый, милый, милый!» — эхо гулко повторяет. И в предчувствии ужасном мчится и летит, как птица, по пригоркам и по склонам, лесом, ельником зеленым, к взгорью, к скалам, тем опасным, там где церковка таится. Тихо ветра дуновенье пролетает по дубраве; почему ж не слышно пенья? — Хор Христа уже не славит. А когда к скале примчалась, Что ж пред нею оказалось? Здесь, в трехстах шагах от храма, в гущине сплетенных веток камень высится тот самый, входа ж и в помине нету, свод исчез, скалы не стало, словно вовсе не бывало. В смертном женщина испуге! Как зовет она, как ищет! по кустам безплодно[7] рыщет, по холмам, по всей округе. Взор ее как у безумной, губы страшно посинели, ломится в кустарник шумный, продираясь в цепком хмеле: «Горе мне! Ребенка нету!» Ветви тело ей терзают, иглы ноги изъязвляют. — Не найти ей ту примету, хоть весь век искать по свету! И опять тоски волною мать охвачена до дрожи: «Где ты, дитятко родное! Где ты, мальчик мой пригожий?!» «Здесь я, под землей глубоко! — голосок в ответ ей глухо: — ничьему невидим оку, ничьему неслышен уху. Здесь сокровища сокрыты, мне еды, питья не надо, гладки мраморные плиты, золотой мне звон — отрада! Хорошо мне здесь, уютно, здесь ни дня, ни ночи нету, здесь без сна пробыть не трудно; слышишь, как звенят монеты?» Мать, с отчаяньем во взоре, ищет в муке безысходной, наземь падает, рыдает, волосы рвет, причитает, вся в крови, с несчастьем споря: «Горе, ох какое горе! Где ты, мой сыночек родный, где ты, мой малютка милый?» «Мой малютка милый, милый!» — эха гул звучит бесплодный. III Дни за днями хороводят, превращаются в недели, быстро месяцы, проходят, вот и листья пожелтели. На пригорке, там где буки, церковушка с малой вышкой: благовеста слышны звуки через лес к деревне близкой. Поутру, когда к обедне колокол народ сзывает, пред иконой пахарь бедный низко голову склоняет. Но кому известна эта женщина, что на коленях? Хор замолк, и нету света, а она еще в моленьях. Бледностью лицо покрыто, щеки залиты слезами, неподвижная на плитах, кто она? Узнайте сами. Лишь окончится служенье и закроют двери в храме, мы ее скользящей тенью видим между деревами. Вниз идет она помалу, по тропинке меж кустами, где покрыты мохом скалы, где торчит дорожный камень. Здесь она вздыхает тяжко, скрыв лицо свое в ладонях: «Ах, сынок!» и взор бедняжки вновь в слезах горючих тонет. Нам та женщина знакома, вся полна печали, смуты: сердца горькая истома, от утра до самой ночи, тучей ей туманит очи, сна не шлет ей ни минуты. Плачет на заре, встав с ложа: «Ах, дитя мое родное! ах, ты, горе мое злое! Смилуйся, великий боже!» Промелькнуло лето вскоре, осень, а за ней морозы, но не стихло в сердце горе, на очах не сохнут слезы. Вот и солнце выше стало, снег весенний растопило, только губ ей не разжало, глаз от слез не осушило. IV Слышишь? С горки, там где буки, с колокольни-башни низкой, колокола льются звуки через лес к деревне близкой. И спешат на эти клики богомольною толпою люди, горною тропою, к службе пятницы великой. Снова ветра дуновенье, пролетая по дубраве, издали доносит пенье: хор Христовы страсти славит. В чаще от речного лона платье женское мелькает. Вот она остановилась. Что же ей итти мешает? То—что год назад случилось! Вновь бредет она со склона, где скалы была препона. Что ж опять предстало взору? Здесь, в трехстах шагах от храма, камень, ход открывши в гору, стал среди дороги прямо: вновь манит открытым входом, вход блестит волшебным сводом. Вздыбилась скала и стала, словно вечно здесь стояла. В страшной женщина тревоге, ей дитя всего дороже, — волосы ей ужас ежит, страшно ей воспоминанье, как свинцом налиты ноги, но, осилив испытанье, замирая вся от дрожи, вглубь спешит знакомым входом под скалы тяжелым сводом. Видит: двери вновь раскрыты изумительного зала, стены золотом повиты, в потолок рубины влиты и хрустальные колонны. А у двери золоченой два светильника сияют, свет нездешний отражают. И под тем, что слева блещет, серебра сияют лавы; груды золота трепещут под огнем, что светит справа. Женщина спешит, как прежде, и глядит вокруг в надежде: к слиткам тянется сторожко, но ни серебра, ни злата ей теперь совсем не надо! — «Мама», —слышит:—«Здесь я, мама!» Вот где он, сыночек, крошка, ей дороже жизни самой, бьет ручонками в ладошки! Ей дыханье захватило, от волненья вся трясется, на руки его схватила и обратно — повернула — птицей к выходу несется. Дрогнула земля от гула, затряслось скалы подножье, ветром грозовым подуло, в стенах зала грохот грома отозвался зыбкой дрожью! «Мать господня, мне на помощь!» молит женщина смиренно, видя рухнувшие стены. Вдруг о, что за перемена! Стихло все, и нет тревоги; тяжкий камень у дороги, все полно покоя, мира, нет и тени злой напасти: а из церкви голос клира петь кончает божьи страсти. У нее ж дыханья нету: вся, как лист, она трясется, прижимая ношу эту, птицей вниз она несется: вдаль от этих мест стремится: потерять дитя боится. Вот бежит она опушкой, за рекой уже мелькает и шаги лишь замедляет перед бедною избушкой. О, как радостно вздыхает, к небу обратив моленья, как лицо ее сияет, как дитя она ласкает и целует в исступленьи. Жилка каждая трепещет от счастливого волненья! Но смотрите! Что там блещет у ребенка на коленях? Золото, что положила, чтоб дитя им поиграло, — в фартучке малютки было. Ей оно не мило стало: столько горя испытала от него ночами плача! И, хоть богу благодарна за нежданную удачу. ей дитя всего дороже и не денег блеск коварный, мил ей лишь сынок пригожий! V Нет следа той церкви малой, смолкли колокол и пенье, буков тех — как не бывало, сгнили даже их коренья. Старики хранят преданье и хоть многое забыто, но живет о том сказанье, чем то место знаменито. И когда в морозный вечер молодежь вкруг деда сядет, он расскажет, горбя плечи, о вдовице и о кладе.СВАДЕБНЫЕ РУБАШКИ
С В А Д Е Б Н Ы Е Р У Б А Ш К И{6}
Пробил одиннадцатый час, а свет лампады все не гас, и теплилась лампада у бедного оклада[8]. На стенке низкой горницы был образ богородицы, с младенцем предреченным, как розы цвет с бутоном. Пред образом, что светится, колени клонит девица: вздыхает грудь встревоженно, на персях[9] руки сложены; из глаз слезинки катятся, бегут на бело платьице; одна еще не высохла, глядишь — другая вытекла. «О, боже! Где родитель мой? Могильный холм порос травой! О, господи! Где матушка? В могиле рядом с батюшкой! Сестрица года не жила, а братца пуля подсекла». «Любимый мой меня любил, дороже жизни мне он был — уехал на чужбину, навек меня покинул». Как в край далекий уезжал — меня ласкал да утешал: «Засей, любимая, ленок, да помни каждый наш денек; ты пряжу в первый год пряди, а во второй холсты бели, на третий год рубашки шей: рубашек свадебных нашьешь, венок из руты[10] нам совьешь». Рубашки я готовые в сундук сложила новые, уже веночек мой завял, а милый где-то запропал, пропал он в стороне чужой, как камень в глубине морской. Давно и слух о нем заглох, здоров ли, жив ли — знает бог! «Мария непорочная, будь мне защитой прочною: верни с чужбины милого, любимого, единого; с чужбины милого верни — а нет, так жизнь мою возьми; с ним жизнь моя весенний цвет, а без него не мил мне свет, Мария милосердная, утешь мне сердце бедное!» Икона с места сдвинулась — девица в страхе вскинулась: лампады огонек мигнул, погас и в мраке потонул. То ветер ли по пламени, зловещее ли знаменье! Послышались шаги—и вдруг в стекло оконца: стук, стук, стук! «Ты спишь ли, милая, иль нет? То я забрел к тебе на свет! Что делаешь ты полночью? Меня ты крепко помнишь ли? С другим любви не водишь ли?» «Ах, милый мой! Господь с тобой! Все годы я томлюсь тоской, с тобой все годы мысль моя, сейчас молилась за тебя!» «Молиться — зря! Вставай, пойдем, пойдем со мной моим путем; дорогой мне известною — пришел я за невестою». «О боже! Странен голос твой! Куда ж итти ночной порой? Бушует ветер, долог путь, тебе не лучше ль отдохнуть?» «Мне день, что ночь и ночь, как день, при свете застит очи тень; скорей чем крикнуть петухам с тобой венчаться надо нам. Не медли, встань, идем со мной, ты нынче станешь мне женой». Был час глухой, полночный час, чуть месяца светился глаз, в деревне спал и стар и мал, лишь ветер глухо бушевал. А он пред нею скок да скок, она за ним, не чуя ног. Собаки, взвыв, залаяли, лишь этих двух почуяли: и выли, выли без конца, как будто чуя мертвеца. «Полночный час уже пробил, выходят тени из могил; коль их заметишь пред собой — не побоишься, светик мой?» «Чего ж бояться? Ты — живой и очи божьи надо мной. Поведай лучше мне в ответ, отец здоров ли твой, иль нет? Скажи, твои отец и мать готовы ль в дом меня принять?» «Ты слишком много хочешь знать! Спеши и — сможешь увидать. Скорей, скорее, час не ждет, а путь далекий нас ведет. — Что ж правой держишь ты рукой?» «Несу молитвенник святой». «Оставь его! Молитвы те — как тяжесть камня на хребте. Забрось его! Ведь нам итти без ноши легче на пути». Он требник бросил под откос, и стал их шаг по десять верст. И путь пошел их по камням, по диким скалам и лесам; в теснинах тех меж скалами шакалы зубы скалили; и филин дико хохотал, как бы несчастье предвещал. А он пред ней все скок да скок, она ж за ним, не чуя ног. По гребням скал, по терниям ступают ноги белые; и острия в багряный цвет кровавят ног девичьих след. «Полночный час уже пробил, выходят тени из могил; коль их заметишь пред собой — не побоишься, светик мой?» «Чего ж бояться? Ты — живой и власть господня надо мной. Ты лучше расскажи о том, где ты живешь, каков твой дом? Чиста ль светлица, весела? И церковь близко ль от села?» «Ты слишком много хочешь знать! Самой придется увидать. Спеши скорей: ведь час не ждет, а путь далекий нас ведет. Что у тебя за пояском?» «Взяла я четки в новый дом». «О, этих четок черный ряд, тебя обвил он точно гад! Они начнут тебя душить: сорви их — надо нам спешить!» Он бросил четки под откос, и стал их шаг по двадцать верст. Была дорога их долга — через болота и луга; а по болотам у реки блуждающие огоньки:{7} по девять в ряд и там и тут, как будто с телом гроб несут; а жабий хор среди болот как по покойнику поет. Он все пред нею скок; да скок, она ж за ним, не чуя ног: осока хлещет по ногам, подобно бритвенным ножам, и папоротник зеленый стал кровью обагренный. «Полночный час уже пробил, спешат виденья в тьму могил; как взор ни крой, их страшен рой — ты не боишься, светик мой?» «Ах не боюсь, ведь ты живой и воля божья надо мной! Но не спеши ты так итти, позволь мне дух перевести, слабеют ноги, колет грудь, дай мне минутку отдохнуть!» «Нет, мы скорей должны итти! Уж близится конец пути. Пир начат, гости у стола, летят мгновенья, как стрела. Что это у тебя, гляди, на шнур надето на груди?» «То матушки покойной крест». Креста мне ненавистен блеск! Краями в золотом огне он колет грудь тебе и мне, брось! Станешь птицей в вышине!» И он забросил крест в овраг, стал в тридцать верст их каждый шаг. И вот пред ними дол открыт, на нем строение стоит; высоких узких окон ряд и колокольни острый скат. «Ну, вот, дружочек, мы и здесь, теперь увидишь все как есть». «Не церковь ли на месте том?» «Нет, то не церковь, то — мой дом!» «А это не крестов ли ряд?» «Нет, не кресты то, а — мой сад! Теперь—ты на меня взгляни и частокол перемахни!» «Постой? размыслить дай самой! Мне странен, страшен облик твой; Твое дыхание — беда, а сердце, вижу, тверже льда!» «Не бойся, милая моя, богато, сытно у меня, мясного много в погребах, сегодня ж пир начнем не так! Что у тебя за узелок?» «Рубашки — свадебный залог». «Не нужно больше их чем две! одна тебе, другая мне». С рубашками он узел сгреб и за ограду их — на гроб. «Теперь ты на меня взгляни и изгородь перемахни». «Ты ж был все время впереди, на нашем свадебном пути, Ты шел все время впереди, так первый ты и перейди!» Он хитрости не разгадал, перескочил вдруг через вал; подпрыгнул вверх на пять сажен, вдали мелькнула девы тень, и тотчас след ее простыл, так изо всех помчалась сил... И ей убежище нашлось; того не ждал коварный гость! И вот часовня перед ней с засовом прочным у дверей; она дрожа в нее вошла и двери крепко заперла. Узка в часовне щель окна, лишь месяцем освещена; теснее клетки камни плит, и мертвый посреди лежит. Вдруг шум поднялся за стеной; теней могильных хрип и вой! Скребутся, шаркают вокруг и песню начинают вдруг: «Могиле плоть предать спеши, погиб, кто не сберег души!» И в двери гром и в стены стук; неистовствует страшный друг: «Вставай, мертвец, вставай скорей, засовы отодвинь с дверей!» И мертвый веки подымал, и мертвый очи протирал, и, словно в чувство приходя, взглянул, поднявшись, вкруг себя. «О, святый боже, мне во власть не дай к нечистому попасть! Ты, мертвый, не тревожь покой, да будет вечный мир с тобой!» И мертвый голову склонил и очи мутные закрыл. Но снова грохот, снова стук! Еще сильней бушует друг: «Вставай, мертвец, вставай с одра, открыть часовню нам пора!» И вновь на страшный тот призыв мертвец поднялся полужив, к засовам прочной двери той холодной тянется рукой. «Исусе Спасе, помоги, не дай, чтоб вторгнулись враги! Мертвец, лежи и тих и строг; да будет милостив к нам бог!» И снова мертвый лег, как был в гроб без движения, без сил, И вновь поднялся грохот, стук! У девы меркнет взор и слух! «Го, го, мертвец! Го, го, вставай! и нам живую подавай!» Беда бедняжке в этот час! Поднялся мертвый в третий раз и свой пустой, потухший взор на полумертвую простер. «Мать богородица! Спаси, у сына милости проси! В своих молитвах я грешна: но ты простить меня должна! Мать всех покинутых детей, спаси меня из злых сетей!» И тут, как бы в ответ ей, вдруг запел вдали в селе петух, по всей деревне повторен петуший крик со всех сторон. Тогда мертвец, который встал, как бы подкошенный упал, снаружи — смолк последний звук: исчез с тенями страшный друг. А утром люди, идя в храм, остановились в страхе там: раскрытый гроб в могиле пуст, в часовне девушка без чувств, и на могильные кресты рубашек вздеты лоскуты. Права ты, девушка, была, — что мысли богу предала — от злого отступила, иначе б худо было! И не рубашек клочья, а тело было бы твое растерзано на клочья!ПОЛУДНИЦА
П О Л У Д Н И Ц А{8}
«У скамьи стояла крошка, в крике гнулась, корчилась. «Помолчи ты, хоть немножко, цыганенок порченый!» «Жду: придет с работы батя,— печь еще не топлена, не даешь ты мне, проклятый, жить своими воплями!» «Вот гусарик, вот петрушка, петушок хорошенький! На! Играй!» — Но все игрушки бац! и в угол брошены. И опять надрывным криком несмышленыш нудится; «Погоди ж, чертенок! Мигом вызову Полудницу!» «Эй, Полудница, приди-ка, век мне с ним, что ль, маяться!» Глядь — пред кем-то двери тихо сами открываются. Появилась на пороге с темным ликом карлица; кривы руки, кривы ноги, голос громом катится! «Подавай дитя!» «Всевышний! пусть того не сбудется!» Мать от страха еле дышит, — к ней идет Полудница! Подбирается бесшумно дымной тенью стелется; мать уже полубезумна: глянуть не осмелится; сжав дитя, его колышет, темен взор безрадостный, а Полудница все ближе, вот совсем уж рядом с ней. Простирает клешни-руки. — Мать без сил, без памяти: «О, Христа святые муки!» и — на землю замертво. Раз, два, три... Часы бьют полдень, звон их чуть кончается, — двери дрогнула щеколда: муж домой является. Женщина, ребенка стиснув, пала, как обрушена; мать еще вернули к жизни, а дитя — задушено.ЗОЛОТАЯ ПРЯЛКА
З О Л О Т А Я П Р Я Л К А{9}
I Около леса поля клин, едет там пан без слуги, один, едет, бодрит вороного коня, конь горячится, подковой звеня, едет один. Перед избушкой поводья из рук! В дверцы избушки: стук, стук, стук! «Эй, отворяйте двери скорей, я заблудился на ловле зверей, дайте напиться!» Вышла девица — весенний цвет, краше такой и не видел свет; вынесла воду студеную, села у прялки, смущенною, стала прясть лен. Пан уж не помнит, о чем и просил, всю свою прежнюю жажду забыл; тянется пряжа, нитка блестит, глаз не может он отвести от пряхи прекрасной. «Люб ли, ответствуй тебе кто иной? Хочешь ли стать моею женой?»— девушку обнял он сильной рукой. — «Ах, воли нет у меня никакой, лишь матушки воля». «А где же матушка, скажи, твоя? здесь никого нет, кроме тебя». — «Пан, я у матери неродной, с дочкой придет она завтра домой, в городе нынче». II Около леса поля клин, едет там, едет пан один, едет, бодрит вороного коня, конь горячится, подковой звеня, прямо к избушке. Возле избушки — поводья из рук, в двери избушки: стук, стук, стук! «Добрые люди, впустите скорей! пусть мои очи увидят скорей радость мою». Вышла старуха, кожа да кость: «О, с чем к нам прибыл почтенный гость?» «Явился я в дом как на праздник большой— дочь твою сделать хочу я женой, ту, неродную». «Ой же, паночку, дивно слыхать! кто б в то поверил, если сказать? Низко вам кланяюсь, гость дорогой, все ж я не знаю, кто вы такой? Как пан попал к нам?» «Князь-господин я этой земли, случай и жажда меня привели, дам тебе много казны золотой, дочку свою ты мне выдай за то, пряху красотку». «Князь-господин, что пришлось услыхать, кто б в то поверил, если сказать? Нету у нас никаких заслуг, чтоб к нам склонились взоры и слух милости вашей. Все же обычай должно блюсти: раньше родную к венцу вести; кстати и схожи они во всем, словно два глаза во лбу одном, нити шелковы!» «Плох же обычай, старуха, твой! Выслушав, помни приказ прямой: завтра, лишь неба засветится край, дочь неродную свою провожай в княжеский замок». III «Вставай, дочурка! Проснулся мир, князь ожидает, готовят пир: все бы могла я предполагать, только не то, чтоб тебе пановать в самой столице!» «Одевай, дорогая сестрица, наряд, княжеский замок велик, богат: ох, высоко ты стала летать, меня оставила здесь прозябать, ну, будь счастлива!» «Идем, Дорничка, поспешим, не провиниться б пред князем твоим, ты лишь опушку леса пройдешь, про дом не вспомнишь и не вздохнешь, идем скорее, идем!» «Матушка, мама, дозвольте спросить, зачем вам нож этот в лес уносить?» «Нож этот вострый— в чаще как раз, гадюке злобной выколем глаз — идем, скорей идем!» «Сестра, сестрица, позволь спросить, зачем топор вам в лес уносить?» «Топор тот острый — в темном лесу, лютому зверю башку снесу — идем, скорее идем!» Когда ж зашли они в чащу, в кусты: «Гад этот — ты и зверь этот — ты!» Горы и долы туманились, видя как обе расправились с бедной сироткой! «Мы очи ей выкололи, мать, куда ее ноги и руки девать?» «Не зарывай их в лесной тени, как бы опять не срослись они — возьмем их с собою». Вот уж за ними лесов стена: «Бояться ты, дочь, ничего не должна! вы ведь схожи с нею во всем, как око с оком во лбу одном — не опасайся!» Вот уж столица стала видна, князь поджидает их у окна, вышел с придворными на крыльцо, целует невесту, глядит ей в лицо, обмана не чуя. И была свадьба — великий грех, с губ у невесты не сходит смех; сплошь заварились балы да пиры, пляски да игры до поздней поры все семидневье. Только восьмой день занялся, с войском князь в поход собрался: «Слушай ты слово мое, госпожа, — еду я с войском моим поражать недруга злого. Когда закончится славой поход, опять любовь наша расцветет! Ты же, пока я буду в пути, добрую прялку приобрети, — дома сидя, пряди!» IV В глухой и темной чаще лесной что же там сделалось с сиротой? Шесть животворных ручьев текло, чистых, прозрачных, словно стекло, на мху зеленом. Блеснул ей счастья внезапный луч, но скрыла смерть его тьмою туч. Не стало дыханья, жизни следа, беда настигла ее, беда! князь бы то видел! Но вдруг из окрестных, лесистых скал старец чудесный поднялся, встал: сед он и сив — до земли борода, на руки взял он ее и тогда скрылся в пещере. «Дитятко, слушай: спеши, молодой, стан прядильный возьми золотой, его в столицу ты отнеси, иной цены за него не проси, только ноги две!» Мальчик у башни сидит в воротах, стан золотой держит в руках. Княгине в окно случилось глядеть: «Ах если б тот стан золотой мне иметь! жаркого золота!» «Маменька, выйдите разузнать, сколько за это сокровище дать?» «Эй, госпожа! Я его продаю: отец назначил цену свою: за две ноги лишь». «За ноги? Это неслыханно ведь! все ж я желаю стан тот иметь; маменька, отмыкайте запоры, выньте там ноги погубленной Доры, дайте ему их!» Мальчик в уплату те ноги взял, с ними обратно в лес убежал. «Мальчик, подай мне живой воды[11], чтоб от рубцов не остались следы, — как не бывало!» Вот рану к ране он плотно прижал, по жилам живой огонь пробежал, и затянулись рубцы на теле, как будто ноги не омертвели, без поврежденья. «Возьми, мой мальчик, в углу на лавке, там колесо золотое от прялки, в столичный город его неси, иной цены за него не проси, как две руки лишь!» Мальчик у башни сидит в воротах, жар-колесо держит в руках. В окне мелькнуло княгини лицо: «Ах, как бы кстати мне то колесо к золотой прялке!» «Выйдите, маменька, на крыльцо, сколько он хочет за колесо?» «Эй, покупайте дешевой ценой! Платы отец не назначил иной, как — две руки лишь». «За руки? Это неслыханно ведь! Все ж колесо я желаю иметь! Маменька, отмыкайте запоры, выньте там руки загубленной Доры, дайте ему их!» Мальчик те руки в уплату взял, с ними поспешно в лес убежал. «Дитятко, дай мне живой воды, чтобы от ран затянулись следы, как не бывало». Он рану к ране тесно прижал, по жилам живой огонь пробежал, в одно мгновенье срослося тело, как будто вовсе не омертвело, без поранений. «Сбирайся, мальчик, пора давно, вот золотое веретено, его в столицу ты отнеси, цены иной за него не проси, только два глаза». Мальчик у замка сидит в воротах, — веретено золотое в руках. Стала княгиня в окно глядеть: «О, как хочется мне иметь то веретенце!» «Спросите, маменька, — какой ценой Ценит он это веретено?» «Отца оценка веретена — пара очей вся его цена, всего два глаза». «Пара очей? То неслыханно ведь! А кто отец твой, дитя, ответь?» «Нельзя увидеть отца моего, кто б ни искал — не отыщет его, пока сам не явится». «Матушка милая! Как же мне быть, веретено мне нужно купить! Идите откройте скорей затворы, лежат там очи убитой Доры: ему отдайте». Мальчик очи бережно взял, с ними обратно в лес убежал. «Подай мне, мальчик, живой воды, пускай исчезнут от ран следы, как не бывало». Очи в глазницы он положил, огонь погасший в зрачках ожил. Девушка молча взглянула, встала и никого близ не увидала, кроме себя лишь. V Вот трехнедельный срок истекает, князь из похода домой приезжает: «Как поживаешь, моя княгиня, держишь ли слово мое в помине, прощальное?» «Ах, я на сердце его хранила, вот поглядите-ка, что я купила: золото прялки блестит на солнце — стан, колесо и веретенце, все из любви к вам». «Будь же любезна, княгиня,—присядь, нить золотую в прялке приладь, княгиня за колесо присела, только крутнула, вся побледнела — ужасный напев! «Вррр — из зла ты свиваешь нить! Князю сумела ты навредить: сестрицу сводную ты загубила, ноги и руки ей отрубила — Вррр— зла та нить!» «Что это прялка гулко поет? о чем колеса шумит оборот? Ну-ка, княгиня, крутни опять, чтоб эту песню нам разгадать, пряди, княгиня, пряди!» «Вррр — из зла ты свиваешь нить! Ты разум князя хотела затмить: сгубила подлинную невесту, чтобы самой сесть на ее место — Вррр—зла та нить!» «Ох, эта песня нехороша! Неужто ж то правда, моя душа? Крутни, госпожа моя, в третий раз, чтоб знать мне правду всю без прикрас, пряди, княгиня, пряди!» «Вррр — из зла ты свиваешь нить! Обманом хочешь счастье добыть! Сестра твоя в чаще, в пещере скал, Любимый ее тебе мужем стал. Вррр — зла та нить!» Как только слова те князь услыхал, вскочил на коня и в лес поскакал; искал и кричал по лесу мчась; «Ответь, моя Дорничка, где ты сейчас? Где ты любимая». VI От леса к городу ширь полян, едут там, едут с пани пан, едут, бодрят вороного коня, конь горячится, подковой звеня, едут в столицу. И начиналась свадьба опять, время невесте цветком расцветать: и были празднества да пиры, утехи и пляски до поздней поры все три недели. А что ж с той матерью, со старухой? А что ж с той дочерью, со гадюкой? Ой, воют четверо волков в лесу, у каждого в пасти нога на весу от двух женских тел. Очи застлала им черная ночь, руки и ноги отрублены прочь: как над сироткой они надругались — того над собой и сами дождались в лесу дремучем. А что ж с той прялочкой золотой? Дальнейших песен напев какой? Как в третий раз напев проиграл, так прялки с тех пор никто не слыхал и не увидел!СОЧЕЛЬНИК
С О Ч Е Л Ь Н И К{10}
I Окна окованы тьмой и морозом, в хате теплынь и уют; бабка клюет перед печкою носом, девушки пряжу прядут. «Прялка, быстрей! Веселее жужжанье! близок рождественский пост к окончанью, скоро и святки придут!»{11} Любо работать девице красной в зимние хмурые вечера; знает – старанья ее не напрасны, верит придет и ее пора. Явится молодец за прилежной, молвит: «Красавица, выйдь за меня! будешь супругой моею ты нежной, верным супругом твоим буду я. Я тебе мужем; ты мне женою, брачный венец нас с тобою ждет!» Та, что над пряжи клонилась волною, — глядь — уж для свадьбы рубашки шьет. «Прялка, быстрей! Веселее жужжанье! близок рождественский пост к окончанью, скоро сочельник придет!» II Ой, ты, щедрый вечер святочных гаданий, кому исполненье принесешь желаний? Хозяину — хлеба, коровам — кормежку, петух — чеснок любит, курам — горсть горошку. Плодовым деревьям — со стола остатки; детям — золотые во сне поросятки.[12] А моя девичья душа молодая чего-то иного желает, гадая. У темного леса над старой плотиной столетние вербы склонились с повинной. Одна верба круто над землей склонилась, где синее озеро подо льдом укрылось. Тут, говорят, в полночь, при лунном сияньи, в проруби девице суженый предстанет. Не страшна мне полночь, к ведьмам нету страху; прорублю я прорубь топором с размаху. Погляжу я в прорубь ровно к полуночи, суженому тихо загляну я в очи. III Мария с Ганной — двое подружек, обе как розы весенней цвет: какая краше, какая лучше, сразу на это не дашь ответ. Эта ли к молодцу обернется — ради нее хоть в огонь готов! Только вторая ему улыбнется, нету у него для сравненья слов. Полночь настала. В глуби небесной вспыхнули звезды. Полночь тиха, звезды вкруг месяца скучились тесно, словно овечки вокруг пастуха. Ночь наступила — мать над ночами, ночь рождества, путеводной звезды; снег вкруг деревни искрится лучами, по снегу — к озеру видны следы. Над полыньею одна в душегрее, встала другая подле нее: «Ганнушка, Ганна, скажи мне скорее, что ты там видишь, сердце мое!?» «Ах, там в тумане, — с открытою дверью мнится мне Вацлава домика вид — вот прояснело, вижу теперь я, там на пороге парень стоит. В темнозеленом кафтане он, молод, шапка надвинута набекрень, к ней мной дареный букетик приколот, Господи! Это ж — Вацлава тень!» Быстро вскочила в жарком порыве, стала над низко склоненной другой: «Ну, мое золотко, что там, Мария! Что тебе видится под водой?» «Ах, вижу я: вижу скрытые мглою, в дымной завесе, мерцая в ряд, словно бы свечи вокруг аналоя, красные огонечки горят. Черное что-то туман прикрывает, вот уж из мглы проясняется той: — боже! ведь это ж — подружки рыдают, а между ними — покров гробовой!» IV Веет ветер ласковый по полям, яругам,[13] цвет весенний стелется полем, садом, лугом. Загудела музыка от костела звоном, а за ней, осыпана цветом благовонным, едет свадьба цугом. Молодой жених, красив и лицом и станом, шапку лихо заломил, зелен цвет кафтана, как предстал ей ночью той, так ведет к себе домой красавицу Ганну. Пришла осень. На ветвях ветер листья косит, похоронный слышен звон, — мертвую выносят; в трауре подружки, свечи потухают, клич и причитанья трубы возглашают, заунывно воют: вечному покою! Чье венок обвил чело, кто в гробу почиет? белой лилиею чья надломилась выя? Отцвела, как бы затоплена росою, умерла как бы подкошена косою, — бедная Мария! V Окна окованы тьмой и морозом, в хате теплынь и уют; бабка клюет перед печкою носом, девушки пряжу прядут. «Прялка, живей! Веселее жужжанье! близок рождественский пост к окончанью, скоро и святки придут! Ах, сочельник темный, и звезда святая, как тебя я вспомню, — за сердце хватает! Так же мы сидели вкруг за челноками: год промчался еле — нет двоих меж нами! Одна косу расплела, волосы густые, распашонки шьет она, а другой — земля тесна, бедная Мария! Вот сидим мы, как вчера, дружной стайкой тесной, что же с каждой через год станет? Неизвестно! Громче жужжанье! Быстрее вращенье! В мире все кружится, все в измененьи, жизнь человеческая, как сон! Лучше, коль завтрашний день им неведом,— людям непрочной надеждою жить, чем — обреченное бурям и бедам — страшное будущее открыть!»{12}ГОЛУБОК
Г О Л У Б О К[14]
Около погоста дорога глухая, шла по ней, рыдая, вдова молодая. О своем супруге плакала, рыдала: она его навек туда провожала. От панского дома по травам, долинам едет панич в шапке с пером соколиным. «Не плачь, не печалься, вдовствуя, горюя; не тумань ты очи, слушай, что скажу я. Ты свежа, как роза, забудь сердца рану! если муж твой умер, — хочешь я им стану». День один рыдала, на другой смолкала, а на третий горе забываться стало. С тех пор об умершем она позабыла: едва минул месяц к свадьбе платье шила. Около погоста с горы путь уклонный: едут по нем, едут жених с нареченной. Веселая свадьба была среди луга: невеста в объятьях нового супруга. Шумна была свадьба, музыка гремела: она к нему льнула на него глядела. «Веселись, невеста, вскинь голову выше: покойник в могиле не видит, не слышит. Обнимай другого, нечего бояться: тесна домовина[15] — мужу не подняться. Милуйся, красуйся ликом набеленным: кого отравила не встанет влюбленным!» Бежит, бежит время, все собой меняет: что не было раньше, теперь наступает. Бежит время мимо, год проходит тенью; одно неизменно: тяжесть преступленья. Три года промчалось, как того не стало, и его могила травой зарастала. Трава над могилой, в головах дубочек, на дубовой ветке белый голубочек.[16] Голубок на ветке воркует, рыдает, каждому, кто слышит, сердце надрывает. Не так другим людям слышны его стоны, как той, что рвет косы, вопит исступленно: «Не воркуй, не гукай, не терзай мне уши: так тосклив твой голос, что пронзил мне душу! Не тоскуй, не гукай, мутится мой разум, или так уж гукни, чтоб пропасть мне разом!» Течет вода, льется, волна волну гонит, меж волнами что-то забелело, тонет. То нога взметнется, то плечо заблещет: женщины несчастной душа смерти ищет! Вынесли на берег, тайно схоронили там, где две дороги накрест проходили. Никакого гроба ей не стали делать, лишь тяжелым камнем придавили тело. Не так тяжко камню лежать над ней кладью, как на ее имени вечному проклятью!ЗАГОРЖЕВО ЛОЖЕ
З А Г О Р Ж Е В О Л О Ж Е{13}
I Реют туманы над полем пустынным, будто бы призраки сумрачным рядом, клич журавлей, улетающих клином, — осень проходит и лесом и садом. С запада ветер сырой налетает, песню в увядшей листве запевает. Песня знакомая, каждую осень листья поют ее снова и снова, только никто не поймет в ней ни слова — слишком напев ее темен и грозен. Путник безвестный в монашеском платье, перебирает рука твоя четки, посох с крестом помогает походке, кто ты такой и куда собрался ты? Шаг твой поспешен, ступни твои босы, осень же сумрачна, холодны росы: с нами останься, мы добрые люди, мы не откажем гостю в приюте. Путник любезный, твои ланиты волосом жестким еще не покрыты. Лик твой девически нежен и скромен, но твои щеки бледны от печали, очи в глазницы глубоко запали! Горя ли в сердце след похоронен? Словно несчастье в путь тебя гонит, раньше, чем старость, к земле тебя клонит! С нами останься, путник пригожий! Может, тебе мы в горе поможем, а не поможем — хотя бы утешим. Сядь, отдохни с нами, труден путь пешим. Нету на свете беды такой тяжкой, — чтоб не смягчить человеческой лаской. Нет, он не слышит, не обернется, от своих помыслов не оторвется! Вдаль он уходит грустный и строгий: боже, пошли ему счастья в дороге! II Поле бескрайное, поле пустое; вьется дорога, вдаль убегает, а на пригорке ствол свой вздымает древняя пихта, лишенная хвои: нету ветвей на ней — лишь на вершине, чьей-то рукой на доске укрепленный облик распятого божьего сына, к небу как будто бы вознесенный. Лоб под терновым венцом окровавлен, рук пригвожденных раскинуты плети, словно их жест указуя направлен в две стороны, разделенных на свете: правая — к солнечному восходу, левая к западу, к ночи глубокой. Там, на восходе, — солнца ворота, райское радостное сиянье; всех, кто творил добро для народа, ждет и награда и воздаянье. На темном западе — адовы врата, море смоляное серы кипящей, полчища дьяволов ждут для расплаты грешников с мукою, им предстоящей. Боже! Избавь нас от вечного гнева, оборони от пути нас налево! Здесь, на пригорке, склонивши колени, путник наш юный во тьме предрассветной остановился в безмолвном моленьи, жарко обнявши ствол безответный, что-то он шепчет, слезы роняет и безнадежно, тяжко вздыхает. Так отрывается от любимой юноша, надолго уезжая в даль неизвестную, в край нелюдимый, вновь возвратиться надежд не питая; пыл свой сердечный в объятья влагая — вот поцелуй еще, жадный, последний: будь же здорова, моя дорогая, вдаль я судьбою гоним беспросветной! С бледным лицом и со взглядом туманным, с сердцем, тревоги огнем опаленным, юноша сильный со стройным станом шагом на запад идет непреклонным. Вот он скрывается в сумрачной чаще: труден, тяжел его путь предстоящий! III Встала скала среди чащи дремучей, сплетшейся грабов ветвями густыми, дуб — на скале той — поднялся могучий, словно король той безлюдной пустыни: к небу подъята безлистая крона, ветви, как руки, простерты в бореньи, панцырь расщеплен ударами грома, тело открытое предано тленью: темной дупло на нем щерится щелью, — хищнику служит удобной постелью. Видишь — на мшистом расщепленном ложе туши какой-то вздымаются плечи: то ль человек на медведя похожий? Вряд ли в нем признак найдешь человечий! Тело его, словно глыба на глыбе, члены его, точно корни у дуба, брови и волосы, вставшие дыбом, с шерстью сплелись, покрывающей грубо; а под бровями сумрачно скрытый взгляд проницательный и ядовитый, взгляд вредоносней змеиного зуба; кто человек тот? Какою угрюмой лоб омрачен его черною думой? Кто существо это в чаще пустынной? Лучше не спрашивай! Взглядом окинув рядом лежащие белые кости, их ты спроси, что травой зарастают; воронов, густо слетевшихся в гости, лучше спроси ты угрюмую стаю: те больше видели — больше и знают! Вот ото сна великан пробудился, яростный взгляд обратил на тропинку, и в два прыжка на пути очутился, над головою крутит дубинку. Кто на дороге? Юноша кроткий, посох с крестом, и у пояса четки! О, не ходи, возвращайся обратно, к смерти ведет тебя эта дорога! Прочность судьбы человечьей превратна, жизни тебе остается немного! Оборотись и беги что есть силы, чтобы дубина тебя не убила, череп тебе раскроив, изувечив! Нет, он не слышит, — в раздумьи глубоком, вкруг не глядит он рассеянным оком, смерти своей подвигаясь навстречу. «Кто ты, червяк? И куда устремился?» Путник бестрепетно остановился: «Я — обреченный, — шепнул тише ветра,— в ад я иду, в сатанинские недра!» «В ад? О, го-го! Сорок лет в этом месте оберегаю я эту дорогу, а никогда не слыхал такой песни, хоть распевали их мне очень много! В ад? Уж об этом ты не заботься, в этом тебе помогу я сегодня! А как туда мне явиться придется, — вместе позавтракаем в преисподней!» «Не издевайся над милостью бога! Аду я предан еще до рожденья, кровью расписку в виде залога выдал отец мой, впав в заблужденье. Но бесконечна милость господня! Крест сокрушит темноту преисподней, и сатаны посрамится коварство! Волею божией руководимый, странник вернется назад невредимый, вырвав залог тот из адского царства». «Что ты плетешь мне? За сорокалетье многих отправил я в адские врата, но ничьего не видал я возврата! Слушай, червяк! Ты ведь в полном расцвете, тело твое понежней, чем у зверя, — было б мне впору тобой повечерять, но так и быть уж — тебя отпущу я, хоть из идущих никто по тропинке не миновал моей тяжкой дубинки, двигайся дальше. Но — вот что хочу я: ты поклянись, что расскажешь, как выйдешь,— все, что услышишь в аду и увидишь!» Путник свой посох с крестом поднимает, выполнить клятву свою обещает: «Этой клянусь я священной оградой, что принесу тебе вести из ада!» IV Снег по весне на пригорках растаял, реки очистило половодье; снова летят журавлиные стаи, но странник обратно все не приходит. Вот и деревья зазеленели, благоухают фиалки в подлесьи, громко звучат соловьиные трели, — нету из ада обещанной вести. Вот за весною промчалось и лето, дни сократились, листва опадает, нету известий из адского края; странник наш явится ли с того света? Может, в дороге растерзан он зверем? Скрыли ль навек его адские двери? Злой великан на скале перед дубом смотрит на запад взглядом угрюмым; смотрит, ворча: «Сколько их на тропинке не миновало тяжелой дубинки! Только один он и не был захвачен, только одним я и был одурачен! «Не одурачен ты!»—голос спокойный; путник пред ним объявляется стройный; взгляд его ясен, прям и бесстрашен, лик его светлым сияньем украшен, словно бы солнце своими лучами стало сиять у него за плечами. «Нет, не обманут ты! Клятвой святою был я обязан предстать пред тобою; ныне клянусь тебе снова и снова, что приношу для тебя я сегодня верные вести из преисподней». Вздрогнул разбойник, услышав то слово, в руки дубину схвативши, поднялся, но как грозою сраженный остался, взгляда не вынесши огневого. «Сядь тут и слушай рассказ мой неспешный о путешествии в сумрак кромешный, о божьем гневе рассказ мой правдивый, о божьей милости справедливой» Странник рассказ начинает, — как черти грешные души в аду опекают; жизнь там слилась воедино со смертью — в муках воскресши там вновь умирают. Мрачно сидит великан над скалою, слова не молвя, глядит пред собою. Странник рассказ продолжает, как тени тщетно о помощи к небу взывают, но не приходит никто на их пени, отклик ничей там не утешает вечных проклятий их, вечных хулений! Мрачно сидит великан над скалою, слова не молвя, глядит пред собою. Странник рассказывает, как — великой силой креста — он принудил владыку ада отдать приказанье, чтоб сразу дали ему документ злополучный; как не послушался дьявол подручный этой расписки отдать по приказу. Страшно разгневался ада властитель. «В адской купели его окуните!» Дьяволы выполнили угрозу, сделав купель из огня и мороза: справа плоть уголь пылающий гложет, лед примерзает слева на коже, а когда муки предел достигают — лед и огонь в ней местами меняют. Дьявол ревет, извиваясь змеею, никнет от муки без чувств головою. По сатанинскому повеленью — прервано адской купелью мученье. Дьявол, вздохнувши, опять оживает, но запродажной отдать не желает. Вновь сатана свирепеет от гнева: «Пусть его стиснет адская дева!»[17] Дева была отлита из металла, руки раскинувши в яростной страсти, дьявола так она к сердцу прижала, что затрещал весь костяк в ее власти. Дьявол ревет, извиваясь змеею, никнет от муки без чувств головою. По сатанинскому повеленью кончилось адскою девой мученье. Дьявол, очнувшись, вновь оживает, но запродажной отдать не желает. Тут сатана разъярился до дрожи: «Кинуть его на Загоржево ложе!» «Как ты сказал? На Загоржево ложе?— вскрикнул лесной великан, поднимаясь, весь, как осиновый лист, сотрясаясь, пот заструился ручьями по коже. — Ложе Загоржево? Загорж — мне кличка, Мать меня кликала так по привычке, мальчиком плесть обучая рогожи, теми рогожами мох устилая, волчьею шкурой меня укрывая. Ныне ж — в аду то Загоржево ложе? Ну же, рассказывай, праведник божий, что ждет Загоржа на адском том ложе?» «Божья рука справедлива, карая, смертным неведомы неба решенья: мук твоих меру не видел, не знаю, но, знать, бессчетны твои прегрешенья, ибо, услышав про ложе Загоржа, дьявол согнулся в трепещущей дрожи, — отдал расписку без сопротивленья». Ель долголетняя на горном склоне гордую к небу вершину подъемлет, под топором задрожит и застонет и, распростершись, рухнет на землю. Чащею тур разъяренный несется, все на пути своем сокрушая, но под ударом копья пошатнется, ревом окрестности оглашая. Так и разбойник, сраженный той вестью, в ужасе диком, в смертельной тревоге стонет и корчится, павши на месте, и обнимает страннику ноги. «О, посоветуй, избранник божий, как избежать мне адского ложа!» «Ты не меня умоляй! Я — такой же червь, как и ты, перед богом ничтожный, также б погиб я без милости божьей, богу покайся, пока не поздно». «Как же мне каяться? Глянь на дубину, видишь без счета на ней зарубок, ими отмечены все мои вины, — столько их, сколько ран было на трупах. Странник склонился к дубине Загоржа,— ствол, что из яблони,—камня был тверже-— В скалу с размаху вогнал он дубину, как тонкий прутик ивовый в тину. «Здесь ты скорей опустись на колени, перед свидетельством злых преступлений, здесь без питья, и без сна, и без пищи стой, созерцая злодейств твоих тысячи, кайся в них богу средь слез и молений. Тяжесть вины твоей беспримерна, смыть ее карой нельзя наивысшей, но милосердие божье — безмерно! Стой здесь, склонивши колени до срока, как возвращусь я по милости бога». Странник, промолвивши так, удалился. И на колени Загорж опустился, и позабывши про жажду и голод, небо о милости он умоляет. Осень проходит, зима наступает, а Загорж все на коленях в смиреньи, каясь, ждет странника возвращенья. Тот не идет ни зимою, ни летом. Боже, воззри на раскаянье это! V Уж девяносто годин пролетели: многое в мире они изменили: дети дней прежних уже постарели, стали седыми, приблизясь к могиле, но и седых-то осталось не много: кончилась их на погосте дорога. Все изменило протекшее время — новые лица и новое племя. Только лишь солнышко в небе высоком, как на минувшие поколенья, и на тебя оно — без измененья — тем же глядит нетускнеющим оком. Снова над миром светлое лето, ветер над травами пролетает, песнь соловьиная снова запета, снова фиалка благоухает. Дремой лесною, грабовой чащей, два человека идут, продираясь, старец, епископский посох держащий, дряхлостью долу склоненный, дрожащий, на руку юноши опираясь. «Сын мой, помедли! Слаба моя выя, отдыха жаждет душа и покоя, к предкам усопшим стремлюсь отойти я,— воля ж господня диктует другое. Милость господня бессчетна, безгранна, ею из ада дана мне дорога, ею я взыскан был непрестанно, — славит душа моя господа бога. Твердо я верил в тебя, мой спаситель, Будь же земля — твоей славы обитель! Сын мой, я стражду! Взгляни на соседний холм: там источник прозрачный струится. Ты принеси мне воды, дай напиться, чтобы исполнить долг мой последний». Юноша в глубь удаляется чащи, вряд ли он сыщет источник журчащий, дальше идет он лесной гущиною, — встала скала обомшелой стеною. Он останавливается перед нею, и на лице его — светом и тенью — вспыхивает светлячком удивленье; дивным он благоуханьем овеян, невыразимым объят ароматом, точно стоит перед райским он садом. И когда юноша, выйдя из чащи, стал подыматься вверх по ступеням, странным он был озадачен виденьем; с яркой весенней листвою шумящей, яблоня машет навстречу ветвями, — ветви полны золотыми плодами, и от плодов тех льется по чаще райского воздуха запах манящий. Юноши сердце взыграло при этом, взор засиял его радостным светом: «Чудо я вижу! Господь справедливый старцу в награду создал это диво: вместо воды он, ему в подкрепленье, эти плоды возрастил, без сомненья». К яблоне руку он простирает, но, не достигши плодов, опускает. «Не прикасайся, ее не садивший!»— голоса ропот раздался глухого, как бы из-под земли выходивший. Не было вкруг никого здесь живого. Пень только рядом торчал одинокий, мох с ежевикой густой обвивался, да в стороне у заросшей дороги дуб полусгнивший с дуплом возвышался. Юноша пень обошел в изумленьи, глянул в дупло, обреченное тленью, взглядом окрестность он зорко обводит, но ни души, ни следа не находит, всюду безлюдье и запустенье. «Верно, обманут я звуком случайным, дикого зверя далеким рычаньем; может, источник то в камне забивший?» Так отнесясь к непонятному звуку, к яблоне вновь поднимает он руку. «Не прикасайся, ее не садивший!»— снова грозит ему голос упорный. Юноша обернулся проворно, — глядь—это пень тот седой, превеликий зашевелился под ежевикой; руки — два корня — к нему простирает, юношу к яблоне не подпускает; мохом топорщатся древние брови, очи краснеют, как бы от крови. Юноша смертно перепугался, трижды крестом он себя осеняет; словно птенец из гнезда выпадает, — не разбирая дороги — помчался вниз со скалы, по отрогам и кручам, ноги кровавя терном колючим, к старца ногам, прибежав, припадает. «Ах, мой отец! Злая сила пред нами: там, на скале одиноко стоящей, яблонь растет с золотыми плодами, пень сторожит ее говорящий: если кто к яблони близко подходит, корни он тянет, очи наводит, дьявольской силы взор их горящий!» «Сын мой! Ошибся ты! Милость господня то чудо являет: хвала в вышних богу! Видно, окончу я нынче дорогу, в этой земле успокоюсь сегодня! Друг! Отслужи мне последнее ныне: вверх проведи меня к этой вершине». Юноша старца приказ исполняет, — под руки взявши, вверх поднимает. А когда яблоня к ним уже близко, — пень перед старцем склоняется низко, руки простерши, радостно просит: «Долго, учитель мой, не приходил ты: саженец твой уже плодоносит, рви эти яблоки! Сам их садил ты». «О, успокойся, Загорж мой бедный, мир я несу тебе в час мой последний! Знай — бесконечна милость господня: оба спаслись мы от преисподней. Ты мне прости, как тебе я прощаю; прах свой мы рядом сложим сегодня, ангелам души свои завещая!» «Истинно!» — молвит Загорж. И в мгновенье столбиком пыли перегорает: лишь ежевичных веток сплетенье, о том, что был он, напоминает. Вместе с ним, старец, рядом стоящий, падает мертв, подломивши колени; отрок один остается средь чащи, мудрого старца исполнить веленье. Над головой его тотчас же в гору две голубицы белых вспорхнули[18] И, приобщася к ангелов хору, в глуби небесной они потонули.ВОДЯНОЙ
В О Д Я Н О Й[19]
I Над затоном, на тополе водяной шил-приштопывал «Месяц, свет лей, моя нить, шей. Я сошью себе ботинки И для суши и для тины: Месяц, свет лей, моя нить, шей. С четверга да на пяток сошью себе кожушок: Месяц, свет лей, моя нить, шей. Кожух зелен, боты ярки, завтра к свадьбе мне подарки: Месяц, свет лей, моя нить, шей». II Рано девица утром встала, в узелок белье завязала: «Пойду, матушка, на запруду, я платки себе стирать буду». «Не ходи, ты дочь, на запруду, нынче сны мои были к худу! Не ходи ты лучше к плотине, оставайся-ка дома ныне. Жемчуга я во сне сбирала, в белый плат тебя обряжала, пенной кипени был исподник,— не ходи ты к воде сегодня. Бело платье сулит несчастье, жемчуга — беду в одночасье, день негожий — пятница ныне, Не ходи ты, дочка, к плотине». Только дочери не сидится, на запруду она стремится, точно чьей-то рукой влекома не желает остаться дома. Намочила первый платочек, подломился под ней мосточек. Над девицею молодою закрутило круги водою. Захлестнулись над нею волны, и простор затянулся водный; а на тополе, на затоне водяной заплескал в ладони. III Невеселый, неприютный край подводный, зыбкий, где меж стеблями кувшинок лишь мелькают рыбки. Здесь ни теплый луч не греет, ветерок не веет, словно в сердце безнадежном сумрак холодеет. Невеселый край подводный, призрачные струи: в полутьме и в полусвете день за днем минует. Водяного двор просторен, в нем богатства вдосталь, но туда лишь поневоле заезжают гости. Кто в хрустальные ворота раз войдет единый, никогда тому не встретить больше взор родимый. Водяной сидит в воротах, сети починяет, а жена его, молодка, дитятко качает. «Баю-баю, мой малютка, сын мой бесталанный,[20] ты смеешься беззаботно, я ж — от горя вяну. Ты за материнской лаской тянешь ручки обе; мне же лучше б оставаться на земле во гробе. Там у церкви за оградой, под крестом дубовым, я была бы по соседству с материнским кровом. Баю-баю, мой родимый, водяной малютка! Мать приводит мне на память каждая минутка. Как она меня мечтала выдать замуж честно, но безвестно я пропала, сгинула, исчезла! Вот и вышла дочка замуж, без венчанья в храме: были сваты—черны раки, рыбы — шаферами! Муж мой ходит — спаси боже! мокрый и по суше,[21] под водою прячет в крынки человечьи души.{14} Баю-баю, мой сыночек зеленоволосый, матери любви с тем мужем знать не довелося. Обманута, опутана в коварные сети, только мне и утешенья — ты один на свете». «Ты что поешь, жена моя? Хуже нет напева! Ты меня проклятой песней доведешь до гнева. Не пой этак, жена моя! Кипит во мне ярость: превращу тебя я в рыбу, как с другими сталось!» «Не спеши, супруг подводный, расточать угрозы! Не ругай ты загубленной, растоптанной розы. Ты сгубил меня в расцвете молодости ранней: ни с одним ты не считался из моих желаний. Я сто раз тебя молила, ласково просила отпустить хоть на часочек к матушке родимой. Я сто раз тебя просила, — слез не стало литься, — мне позволить в раз последний с матерью проститься! Я сто раз тебя молила, павши на колени, но в твоем обросшем сердце нету сожаленья! Не сердись и не ярись ты, господин подводный, или рассердись и сделай, чем грозил сегодня. Но угрозу ту свершая, преврати — не в рыбу, а, чтоб памяти лишилась, — в каменную глыбу. Преврати меня ты в скалы подводные эти, чтобы я не тосковала о солнечом свете». «Рад бы я, жена, послушать жалобное слово, только — пустишь рыбку в море, — как поймаешь снова? Из подводного тебя я отпустил бы царства, да боюсь уловок хитрых, женского коварства! Так и быть уж, отпущу я тебя на сушу: только будь и ты верна и послушна мужу. Никого не обнимай, даже матки родной,[22] а, как смеркнется, опять будь в стране подводной. От утрени до вечерни срок тебе дается; а для верности — дитя здесь пусть остается». IV Как бы стать поре весенней без солнышка яркого? Что бы было за свиданье без объятья жаркого? И когда родной при встрече вскинет руки дочь на плечи, чье же сердце черствое ласке не потворствует? День-денской с родимой плачет водяница рядышком: «Ах мне больно расставанье, страшен вечер, матушка!» «Ты не бойся, дорогая, отпугну того врага я, и не дам ему в обиду я родное чадушко!» Свечерело. Муж зеленый по двору слоняется; в клеть с засовом мать и дочка крепко запираются. «Дорогое мое чадо, ты не бойся злого гада: над тобой его на суше власть не простирается». Лишь к вечерне отзвонили, — грохот в дверь наружную: «Эй, жена! Домой сбирайся я еще не ужинал!» «Уходи, злодей, с порога, скатертью тебе дорога, убирайся, душ губитель, в свой затон запруженный!» В полночь — снова грохот в двери, снова им повелено: «Эй, жена! Домой сбирайся! Время стлать постелю мне». «Прочь, нечистый, от порога, скатертью тебе дорога: привыкай, как раньше спал, спать на тине-зелени!» На рассвете — снова грохот, уж заря поля росит: «Эй, жена! Пора до дому: малый плачет, груди просит!» «Ах, родимая! Мне жутко, там остался мой малютка, жалко мне сыночка бросить!» «Не ходи, моя родная! Вражья речь изменчива: ты печешься о дитяти — о тебе не меньше я». «Уходи, злодей несытый, если плачет, — принеси ты, положи дитя к порогу, — поручи нам, женщинам». Над затоном воет буря, в буре крик вздымается: детский плач, пронзивши душу, сразу обрывается. «Ах, родная! Страшно, жутко, это плачет мой малютка, это — мщенье водяного надо мной сбывается!» Что-то падает. Под дверью струйка крови алая: дверь в испуге открывая, мать бледнеет старая! Сердце ей сжимает ужас: перед ней средь алых лужиц — безголового ребенка стынет тельце малое![23]ВЕРБА
В Е Р Б А{15}
Утром, сев за завтрак ранний, муж спросил у юной пани: «Друг мой нежный, друг мой милый мы с тобой так дружно жили. Мы с тобой так дружно жили, — тайн сердечных не таили. Третий год уж вместе прожит, лишь одно меня тревожит. Друг мой нежный, друг мой милый! сон твой скован странной силой. С вечера свежа, румяна, ночью млеешь, бездыханна. Ни дыханья, ни движенья — смертной тени выраженье. Холодеет твое тело, словно въяве омертвело. Даже детский плач не может пробудить тебя, встревожить. Друг мой милый, свет мой ясный, может, недуг то опасный? Если грозный недуг это, спросим мудрого совета. В поле много трав полезных, помогающих в болезнях. Если средства те не споры, — есть заклятья, заговоры. В сильном слове, в заговоре — кораблям защита в море. Силой слов пожары тушат, свары гасят, горы рушат. Слово звезды сдвинуть может, и тебе оно поможет». «Друг мой милый, муж любезный, все слова здесь бесполезны! Что случилось от рожденья, — нету средств для исцеленья. Что назначено судьбою, — не сменить ценой любою.{16} Без сознания на ложе отдаюсь я воле божьей. Волей неба я незримо в мертвых снах своих хранима. Ночью мертвой я бываю, утром снова оживаю. Вновь сильна встаю со светом, доверяясь небу в этом». Зря так пани говорила; мужу мысли отравила! Сидит бабка, дышит тяжко, воду льет из чашки в чашку[24]. Перед бабкой в тусклом свете муж у бабки на совете. «Вещая! Открой попробуй, — как бороться с той хворобой? Что тот недуг порождает, где душа жены блуждает? Разгадай мне, сделай милость, что с супругой приключилось? С вечера бодра, румяна, ночью ж вовсе бездыханна. Ни дыханья, ни движенья, — смертной тени выраженье! Словно мрамор ее тело, будто вовсе омертвело». «Если в снах она мертвеет, — знать душа далеко реет! Днем с тебя очей не сводит, ночью ж в дерево уходит. Знай, — над речкой под горою верба с белою корою. Ветки желтые упруги — в них душа твоей супруги!» «Не такой жена мне мнилась, чтобы с вербою слюбилась, Пусть жена живет со мною, верба ж тлеет под землею». Взял на плечи топорище, Вербу ссек под корневище. Тяжко над струей речною зашумела та листвою. Зашумела, застонала, словно мать дитя теряло. Словно мать дитя теряло, руки-ветви простирала. Что у дома за собранье? Не над мертвым ли рыданье? «Смерть стряслась с супругой милой: как коса ее скосила. Все ходила, хлопотала, вдруг, как гром убил, упала. Пошатнулась, застонала, руки к люльке простирала!» «Ох, беда, беда ты злая! Сам жену убил, не зная. И дитя порою тою сам я сделал сиротою! Ой, ты верба белоствольна, ревновать тебя довольно. Отняла полжизни целой: что с тобой теперь нам делать?» «Подними меня из глуби, желты ветви мне отрубишь. Прикажи из прутьев тонких колыбель сплести ребенку. Уложи дитя в корзинку, пусть не плачет, сиротинка! Станет в ней оно качаться, — тела матери касаться. У ручья посадишь прутья, не сломать чтоб, не погнуть их. Подойдет дитя к посаде, выросши, свирельку сладит. Зазвучит свирель, задышит — голос матери услышит».ЛИЛИЯ
Л И Л И Я{17}
Умерла девица во цвете лет, словно бы розы увянул цвет; словно бы розы цвет нераскрытый; — тяжко лежать ей, в земле зарытой! «Не погребайте меня на кладбище, там вдов и сирот плачи и кличи, горькие слезы вечно струятся: станут на сердце мне проливаться. Похороните меня среди леса, там надо мною зеленой завесой вырастет вереск, петь будут птицы: станет душа моя веселиться». Году единого не миновало, могила вереском зарастала; третьего года не проходило, редкостный цвет расцветал на могиле. Белая лилия — видевшим взорам сердце тревожит странным укором; всем, кто вдыхал ее благоуханье, — жаркое в сердце вселялось желанье. «Гей, моя челядь! Седло вороному! Хочется в лес мне, в зеленую дрему,{18} время охоты, — под шумные ели, мнится мне знатная дичь на прицеле!» Ух, как залаяли гончие звонко! Ров ли, ограда ль, гоп, гоп! — вперегонку: пан наготове — ружье только грянь, вдруг промелькнула белая лань. «Эге-ге-ге, моя милая, стой, не защитит тебя ельник густой!» Мушка на цели, взведен курок — глядь пред ним — лилии белой цветок. Смотрит на лилию пан в изумленьи, ружье опускает, сердце в смущеньи; страсти ль волна ему дух занимает, благоухание ль, — кто разгадает? «Верный мой егерь[25], услуг не забуду: выкопай лилию эту отсюда, чтобы в саду под окошком цвела; жизнь мне теперь без нее не мила! Верный мой егерь, ближний из свиты, лилию ту береги и храни ты, ночью и днем не смыкая очей; дивною силой прикован я к ней!» Ходит слуга за ней день и другой; пан зачарован ее белизной. Третья луна над усадьбой стоит, егерь будить господина спешит. «Встань, господин мой! Сомнения нет: по саду движется лилии цвет; дивное дело, не медли скорей лилии голос услышать твоей!» «Цвесть мне недолго печальной красой, - со мглой над рекой, с росой полевой солнечный вспыхнет над миром багрец,— вместе со мглой и росой мне — конец!» «Нет, не конец, я клянусь тебе в том; с солнечным ты не исчезнешь лучом: я огражу тебя крепкой стеной, стань только милой моею женой». Вышла она за него; и была счастлива, даже сынка родила. Пиршеством пан отмечает тот час; вдруг королевский приходит приказ. «Верный мой подданный! — пишет король, завтра на службу явиться изволь; каждый, кто верен мне, должен здесь быть, все остальные дела отложить». Грустно прощался пан с милой женой, смутно томимый нависшей бедой. «Если тебя не могу я хранить, матушку буду усердно просить». Плохо ту просьбу исполнила мать и не хотела жену охранять; крышу раскрыла — там солнце и синь: «Сгинь, полуночница, сгинь, ведьма, сгинь!» Выполнив службу, пан едет назад; вести лихие навстречу летят: «Бедный младенец твой умер, зачах, белая лилия сникла в лучах!» «Матушка, матушка, злая змея! В чем провинилась супруга моя? Все ты сгубила, чем жил я любя, дай бог, чтоб свет помрачнел для тебя!»ДОЧЕРНЕЕ ПРОКЛЯТЬЕ
Д О Ч Е Р Н Е Е П Р О К Л Я Т Ь Е[26]
«Отчего мрачна ты стала, дочь моя? Отчего мрачна ты стала — радостной всегда бывала, а теперь замолк твой смех!» «Я сгубила голубенка, мать моя! Я сгубила голубенка, беззащитного дитенка — белым был он словно снег!» «Это был не просто птенчик, дочь моя! Это был не просто птенчик — слишком лик твой стал изменчив и потуплен долу взор!» «Я дитя свое убила, мать моя! Я дитя свое убила, плоть родную загубила — горе гнет меня с тех пор!» «Что ж теперь ты делать станешь, дочь моя! Что ж теперь ты делать станешь — чем беду свою поправишь, чтобы гнев небес смягчить?» «Я пойду теперь скитаться, мать моя! Я пойду теперь скитаться, — поищу травы-лекарства, чтобы душу облегчить!» «Где ж растет такое зелье, дочь моя! Где ж растет такое зелье, — чтоб вернуть душе веселье? За оградою какой?» «Там в воротах со столбами, мать моя! Там в воротах со столбами, с прочно вбитыми гвоздями с конопляною петлей!» «Что ж сказать мне молодому, дочь моя! Что ж сказать мне молодому, что ходил так часто к дому и с тобою счастлив был?» «Передай благословенье, мать моя! Передай благословенье за обман, за обольщенье и за то, что изменил!» «А с любовью материнской, дочь моя! Что с любовью материнской, самой нежной, самой близкой, что, как воск, мягка была?» «Над тобой мое проклятье, мать моя! Над тобой мое проклятье, — что изменнику в объятья волю кинуться дала!»НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ
Н Е З В А Н Ы Й Г О С Т Ь[27]
(баллада не в составе сборника, взята из стихотворений 2-го издания "Букета")
Раскраснелись в пляске лица, шумно, тесно за столом, и невеста веселится — лихо пляшет с женихом. Пьян от счастья, в шуме, громе крикнул он: «Гей, веселей! Всем, что в погребе, что в доме, всем я потчую гостей!» За столом поднялся с места гость незваный и чужой: «Жизнь отдал бы, чтоб невеста круга три прошлась со мной!» Первый круг протанцевали, — замер у невесты смех; круг второй еще в начале, — а она бела, как снег. «Что, любимая, бледнеешь? Загрустила отчего? Иль на свадьбу звать не смеешь в гости Зденка своего?» Так шепнул он, с нею вместе завершая третий круг. На руки без чувств невеста к жениху упала вдруг. Все — в смятеньи, — случай странный! Все спешат, чтоб ей помочь. Кто он? Где он, гость незваный?.. Сгинул, словно призрак, в ночь. Скрылся незнакомец мрачный, снова танцы, пир горой, но веселье новобрачной гость унес навек с собой.ПРОРОЧИЦА
П Р О Р О Ч И Ц А (Отрывки){19}
Если слеза отуманит вам вежды, если пробьет для вас тяжкий час,{20} я протяну вам ветку надежды, мой прозвучит для вас вещий глас. Не пропустите вы речи эти, небом пророчеству сила дана: есть непреложный закон на свете, каждому выполнить долг сполна. Путь свой у моря река кончает, к небу поднявшись, огонь падет; все, что землей рождено, погибает, но без следа ничто не пройдет. Прочны и стойки судеб веленья, что неизбежно, — придет в свой час; то, что сегодня прошло без значенья, завтра значительным станет для вас. * * * Виден был муж мне на бреге Белины{21}, праотец славных наших вождей, он урожай подымал наш старинный, плуг свой ведя средь родимых полей. И приходили послы от собранья, и нарекали его королем, в пышные облачив одеянья, и не допахан был чернозем. Выпряг из плуга волов он на волю: «Туда, где я взял вас, вернитесь опять!» Бич с кнутовищем закинул он в поле дикими травами зарастать. Скрылись волы за горою неспешно— в следы их поднесь вода налита; от кнутовища же буйный орешник выпустил три молодых куста. Они зацвели и плоды давали, только созрел из них — лишь один; два же увяли, с веток опали, не проросли из земных глубин. Слушайте вещее, верное слово! пусть прорицанье запомнит народ: век благодатный вернется снова, когда и мертвая ветвь[28] зацветет. Снова раскинутся ветви эти облагороженней, шире, пышней, на удивление всем на свете плод понесут от своих корней. Явится в золото вождь облаченный, словно бы долг возвращая вдруг, выйдет из праха им извлеченный Пршемыслов старый заржавленный плуг. Из-за горы те волы вернутся, мерно опять пойдут под ярмом, и — недопаханные — проснутся пашни под золотым зерном. Ветер задышит, всходы всколышет, вскинется буйных колосьев гладь, и счастье родины солнцем запышет, древнюю славу вернув опять. * * * Вижу скалу над рекою кипучей{22}, на той скале город Кроков злат;[29] а подле града в долине цветущей Либуши княжий привольный сад. Долу — построечки малой, надводной, княжей купальни тесины блестят; вижу княгини я лик благородный, серебротканный ее наряд. Став на пороге речной светлицы, вглубь устремила она свой взор; страшные стали слова ей светиться; родине милой судеб приговор. «Вижу я зарево, сечу сражений, острый клинок твою грудь пробьет, узнаешь ты беды и мрак запустений, но духом не падай, мой чешский народ!» Здесь же две няни, стоявшие сбоку, к ней подошли с колыбелью златой; поцеловала и в бездну потока, кинув ее, погребла под скалой. Слушайте ж Либуши мудрое слово — я ее слышала вещий глас: «Пусть здесь лежит колыбель[30], пока снова ей не приспеет урочный час! С темного дна из глубокого моря новый поднимется юный мир; лип благовонных в отцовом подворьи снова раскинутся ветви вширь. Всходы пробудит весенний ливень, свет засияет, что тьмою рожден: новою славой народ осчастливлен, встанет, как старою был озарен. В час этот из глубины быстротечной вновь колыбель золотая всплывет, и земля, чье спасенье предвечно, словно как в зыбке дитя, отдохнет». * * * Помню тебя, колыбель святая, верю в тебя — путевую звезду! Матери верой думы питая, снова тебя я увидеть жду. Год за годами проносится мимо, весен и зим кружит хоровод; все ж моя вера неколебима, с каждым мгновеньем она растет. Если кто в глубине под скалою в омуте летом ко дну пойдет, если у буйной ватаги зимою вдруг под санями подломится лед, то я вздыхаю, к Либуши войску новых немало прибыло сил! Близко ли время, когда успокоюсь? все еще час тот не наступил! Так ведь начертано в книгах судьбою, слушайтесь голоса моего: утро поднимется голубое, мертвые встанут в честь его. Либуша княгиня с мощными полками выступит из глубоких вод и материнскими руками к славе поднимет родной народ! * * * Видела костел я над Орлицей речкой, слышала его колокола, прежде чем честность старой воли чешской, разорвали когти зла. В те дни, когда святость в Чехии исчезла с верой и надеждой золотой, костел тот земная поглотила бездна, и покрылась местность та водой. Все ж не навеки скрыт он под землею: воды эти схлынут вспять, и костел восстанет с силою былою благовестом к славе звать. Помните ж и знайте слов предначертанье, неумолимый судьбы закон: «Зримо вам станет жарких зорь сиянье, если тот раздастся звон. И с другого берега Орлицы снова ветер посеет новый лес, и молодняк народится сосновый встанет бор могучий до небес. И когда сосна на краю того бора век свой многолетний доживет и в Орлицу реку рухнет без опоры, а сосновый корень догниет, тогда придут сюда дикие свиньи вырыть остатки корней, и заблещет золотом под ними дивный колокол в глубине. Ибо ему суждено от рожденья путь под землею пройти такой и в предназначенное мгновенье цели достигнуть своей за рекой». Знайте ж: у края зеленого бора дерево сохнет, век отслужа, ветви теряют зелень убора, только вершина еще свежа. Может, и колокол путь свой кончает и к предназначенной цели спешит? Кто прорицания те разгадает, а в сердце надежду нам укрепит? Видела я, как пахал крестьянин в поле поблизости Быстрины, песнью простор оглашая ранний: «Боже, святые Троицы!» Дивной он был остановлен помехой, вывернув, стал он обломок бранить: «Какого дьявола я переехал? чтоб ему в бездну опять угодить!» Так проклинал он, и жалобным стоном отозвался уходящий глас колокола погребенного звоном: «Нет, не настал, не настал мой час!»{23} Ах, это время еще не с нами! Все ж преклоните к земле свой слух, там под сосны величавой корнями колокол дивный услышите вдруг. * * * Не обвиняйте в несчастьях судьбины, камни и кремни, жестокость ее, лучше признайте скорей свои вины — собственное безрассудство свое! Вижу я гору под облаками — всем та вершина знакома вам — окружена она пышно садами, а на верху ее божий храм. В храм этот входят тремя вратами, также тремя выходят на свет;[31] писано в книгах то, но и сердцами запоминайте вещий завет: «Все вы напрасно мечту бережете, вы не избудете бед и забот, если потоком в одни ворота весь не вольется чешский народ!»[32] Тот, кто имеет уши, да слышит, что ж ты их пальцем заткнул, дорогой? ты, кому разум присвоен свыше, что же ты топчешь его ногой? Тысячу минуло лет, как к согласью звал сыновей своих Святополк, но, не достигнув нашего часа, зов золотого завета умолк! * * * Вы кто отцов своих славных делами любите чваниться в похвальбе, в Праге у моста стоит перед вами полугерой на гранитном столбе.{24} Голову снес ему времени ветер, плечи разбиты шведской войной, ноги и торс еще — на постаменте, в глупой гордыне своей стариной. Не говорите, что «давней порою полуразрушена мощь столба!» Знайте, то нынешних ваших героев ознаменована здесь судьба! Вслушайтесь вдумчиво в мое слово: бросьте на статую эту расчет, пока в ней сердце не дрогнет снова и голова к ней не прирастет!Примечания
1
После признания (в 48-м году) равноправия славянских языков с немецким была создана так называемая терминологическая комиссия, задачей которой было составить административную и правоведческую терминологию для австрийских славян.
(обратно)2
Имеется в виду реакционный режим министерства Баха.
(обратно)3
Варито — старинный чешский музыкальный инструмент.
(обратно)4
Слова Эрбена.
(обратно)5
Павел Йозеф Шафарик — словацкий и чешский славист, поэт, деятель национального возрождения. Хранитель (1841) и директор (1848) библиотеки Пражского университета. (прим. верстальщика)
(обратно)6
Рассказывают, что на страстную неделю в то время, когда в костеле поют страсти Христовы, открываются все земные клады: на этом поверье основано это предание. (прим. автора)
(обратно)7
Орфография как в оригинале - (прим. верстальщика)
(обратно)8
Оклад - тонкое металлическое покрытие, украшающее икону; риза. (прим. верстальщика)
(обратно)9
Перси - то же, что грудь. (прим. верстальщика)
(обратно)10
Рута - южное полукустарниковое растение с желтыми цветками. По поверьям древних славян, цветок руты только на Ивана Купала на несколько минут становился красным. В фольклоре такой цветок известен как червона рута, выступая в народных поверьях подобно цветку папоротника. Считается что девушка, сорвавшая цветок червоной руты в ночь Ивана Купала будет счастлива в любви. (прим. верстальщика)
(обратно)11
По народным поверьям, живая вода означает собственно летнюю воду, текучую, а мертвая — зимнюю воду, лед. В народных славянских преданиях живой воде приписывается сила, способная оживить всякое истлевшее тело, которое будет погружено в нее. В русских преданиях между живой и мертвой водой приводится такое различие: мертвая вода сращивает рассеченное тело, а живая вода его снова оживляет. Так народное воображение объясняло общие свойства воды: подкрепляющие и оживляющие. (прим. автора)
(обратно)12
По народным поверьям, хозяину дарят в сочельник булку или пышку, чтобы в будущем году в хозяйстве было всего вдоволь и особенно чтобы уродился хлеб. Коровам дают остатки от ужина, чтобы они хорошо доились. Петуху хозяйка дает головку чесноку, чтобы был бойчее, а курицам бросает горсть гороху, чтобы несли много яиц. Рыбьи кости, которые останутся от ужина, закапывают под плодовые деревья, чтобы в будущем году был хороший урожай. А так как в этот день до самого вечера соблюдают строгий пост, детям, которые постятся, обещают, что они во сне увидят золотых поросяток. (прим. автора)
(обратно)13
Яруга - глубокий овраг с обрывистыми берегами, буерак. (прим. верстальщика)
(обратно)14
Стихотворение "Голубок" опубликовано впервые в «Люмире», 1851г., февраль, стр. 49—50.
(обратно)15
Домовина - гроб.
(обратно)16
В славянских народных песнях и преданьях часто рассказывается о том, что душа праведника или прощенного грешника после смерти принимает подобие белой голубицы. И чем более грешен был человек, тем темнее его душа-голубица. Иногда же душа грешника принимает подобие другой птицы. Душа злодея, по народному поверью, превращается в черного ворона. (прим. автора)
(обратно)17
Чешские летописцы упоминают о действительно существовавшей казнящей машине, которая называлась «zelezna раnnа» (железная дева). На ней казнили шляхтичей, которых суд не хотел отдавать в руки палачей. Такая же железная дева стояла когда-то также в зала Белой башни в Праге. (прим. автора)
(обратно)18
см. примечания к предшествующей балладе «Голубок»
(обратно)19
Баллада "Водяной" относится к 1853 г. Впервые напечатана в «Букете». Источником стихотворения послужил целый ряд народных рассказов о водяном, записанных Эрбеном.
(обратно)20
Бесталанный - несчастный (фольк.) - бесталанная головушка. (прим. верстальщика)
(обратно)21
Как гласит легенда, водяного можно отличить от обыкновенных людей, кроме иных признаков, еще и тем, что у него всегда с левой полы платья капает вода. (прим. автора)
(обратно)22
У чехов существует поверье, что будто возвращающимся с того света дают напутствие не обнимать и не целовать никого на этом свете, иначе земная любовь окажется сильней неземной и можно забыть и утратить все, что было дорогим на том свете. (прим. автора)
(обратно)23
Существует немало народных преданий, рассказывающих о том, что сказочные водяные существа, будучи не в силах отомстить человеку, вымещают злобу на своем потомстве. В одном из таких преданий говорится о том, как лесной великан, похитив себе в жены простую смертную девушку, продержал ее у себя семь лет, а потом, когда она убежала от него, он из мести к ней растерзал своих детей, прижитых с нею. Такое же предание известно у лужичан. (прим. автора)
(обратно)24
Гадание на воде широко распространено у славянских народов. (прим. автора)
(обратно)25
Егерь - слуга при королевском дворе, занимавшийся подготовкой охоты. (прим. верстальщика)
(обратно)26
Стихотворение "Дочернее проклятье" напечатано впервые в «Пражской газете» за 1852 г., № 292, 9/XII.
(обратно)27
Баллада "Незваный гость" создана около 1834 г., напечатана впервые во 2-м издании «Букета».
(обратно)28
Говоря о «сухой ветви», Эрбен, по всей видимости, имел в виду Словакию, за сближение которой с Чехией он стоял.
(обратно)29
Крок — легендарный чешский князь - отец Либуши. (прим. верстальщика)
(обратно)30
Под колыбелью Либуши, по свидетельству чешских писателей Неруды и Галека, ссылающихся на слова самого Эрбена, Эрбен понимал «золотой чешский язык» и «историческое самосознание чешского народа», призванное спасти родину.
(обратно)31
Предание рассказывается во многих местах Чехии и, смотря по обстоятельствам и остроумию рассказчиков, передается по-разному. Под храмом можно понимать наш литературный язык, а под тремя дверьми: Чехию, Моравию и Словакию. (прим. автора)
(обратно)32
Призыв ходить в храм «через одни врата»—призыв к единению чехов, мораван и словаков в борьбе за национальное освобождение Чехии.
(обратно)Комментарии
1
ЗВИЧИНСКИЙ СОНЕТ (Стихотворение написано на каникулах, летом 1830 г.)
От скрытых облаками темных гор, что Чехия, как щит, поднять могла бы, оттуда, где светло струится Лаба, к нам немцы устремили свой напор. Куда ни кинешь зорко взор с утра, они повсюду — не увидишь чеха. На их пути стоит одна помеха — высокая Звичинская гора. О, если б недоступной целью вечной гора бы та была для немцев, как и встарь, то я бы с благодарностью сердечной ее венком украсил, как алтарь, как славянин, как патриот примерный, за мой народ, всегда свободе верный. (обратно)2
Матица - название национальных культурно-просветительных обществ, созданных рядом славянских народов в эпоху их национально-культурного возрождения в XIX веке.
Матица чешская (чеш. Matice ceska) — чешское национальное культурно-просветительное общество. Основано в 1831 году Франтишеком Палацким при Национальном музее в Праге. Вплоть до 1880-х годов это общество оказывало большое влияние на научную и культурную жизнь в чешских и моравских землях Австрийской империи. Существовало на членские взносы и пожертвования. Занималось изданием произведений литературы на чешском языке и переводов произведений мировой литературы на чешский. (прим. верстальщика)
(обратно)3
«Букет из народных преданий» должен был выйти к 1 января 1853 года, то есть к Новому году, чем усиливалось символически-пророческое значение сборника и его политическая направленность (см. предисловие и примечания ниже). По вине издателя выход книги задержался до февраля 1853 г. Из 12 стихотворений, вошедших в сборник, многие в различное время и в различных изданиях были опубликованы раньше.
Второе издание «Букета» состоялось в 1861 г. Книга была дополнена отделом «Песен», а также балладой «Лилия» и вышла на этот раз под названием «Букет из стихотворений Эрбена».
Третьим изданием сборник вышел в 1871 г., вскоре после смерти Эрбена.
(обратно)4
БУКЕТ
Предание о происхождении materi dousky (богородичной травки, или тимьяна) в том виде, как оно приводится здесь, бытует в бывшем Клатовском округе в Чехии и возникло, по-видимому, из простого толкования самого слова materi douska (душа матери). В этом нас убеждает и польское название растения: macievza-duszka (материнская душа), или попросту macievzanka. У югославов его называют «материна душица». В старославянском языке его называли просто «душица». Этим словом пользуются иногда и русские. (прим. автора)
Это вступительное стихотворение, образно характеризующее народное творчество как выражение души народа, создано Эрбеном в конце 1851– начале 1852 г. Отправным моментом в работе над стихотворением явилась народная сказка «О Матери-Дружке и Вратиче», запись которой сохранилась в бумагах Эрбена. Сказка повествует о королеве и ее дочери, отличавшихся необыкновенной добротой к подданным. После смерти королевы ее дочь в память о матери стали звать «Матери-Дружкой». В сказке рассказывается о любви «Матери-Дружки» к Вратичу и кознях злого колдуна. Когда «Матери-Дружка» умерла, ее похоронили в поле, на меже, где она в последний раз встречалась со своим возлюбленным. На могиле выросли маленькие благоуханные цветы. Эрбен заимствовал из сказки только мотив цветов, вырастающих на могиле, придав ему общественный смысл. Имя Матери-Дружки он переделал на «Душа матери» (подлинное название одного вида полевых цветов).
(обратно)5
КЛАД
Предание, легшее в основу этой баллады, в различных вариантах известно и в других местах Европы. В древней чешской литературе мы встречаем его в легенде о св. Клименте. Троян, римский император, приказал св. Климента утопить в море, предварительно привязав к горлу морской якорь. Как рассказывает эта легенда, каждый год, начиная со дня его смерти, на целую неделю море в том месте на три мили расступалось, люди шли туда посуху и находили там чудесный мраморный храм, а в нем тело св. Климента в прекрасной гробнице. Однажды в этот храм, уже на седьмой день, как расступилось море, пришла женщина с ребенком. И в то время, как дитя уснуло, море вдруг заревело, возвращаясь снова. Тут женщина вместе с другими людьми в страхе бросилась к берегу, забыв о ребенке. Придя в себя уже на берегу, она вспомнила о малютке, стала звать его и, плача, долго смотрела на море в надежде, что волны выбросят к ней на берег хоть труп младенца. Потеряв надежду дождаться ребенка, она вернулась домой и весь год провела в печали. На следующий год, как только море расступилось снова, она самая первая побежала к гробнице св. Климента. Там, в храме, она нашла свое дитя спящим на том же самом месте. Она разбудила ребенка и, радостно прижимая к себе, спросила, что он делал весь этот год? Ребенок же ответил: «Не знаю, я спал только одну ночь». (прим. автора)
Баллада написана в 1837 г., напечатана в 1838 г. в альманахе «Весна», рочник 21, стр. 129—151. Источником, кроме легенды о св. Клименте, указанной Эрбеном в примечаниях к «Букету», послужило народное предание «Клад», опубликованное И. К. Льготой в «Смеси» Пражской газеты (1833 г., № 19, 17/III). Стихотворение ближе к этому преданию, чем к указанной Эрбеном легенде. Эрбен помнил также рассказы о зарытых кладах, слышанные им в детстве.
(обратно)6
СВАДЕБНЫЕ РУБАШКИ
Это предание рассказывают в Чехии в двух различных вариантах. На эту тему сохранились и остатки народных песен. В одной из них говорится, как покойник зовет девушку с собой следующими словами:
Vstan se ma mi la! vstan se snerovat cas muj uchazi, nemam kdy cekat; muj kun je rychly jak strelna rana, ujede s nami sto mil do rana Вставай, моя милая! Вставай, собирайся, Время мое уходит, некогда ждать, Мой конь, быстрый, как стрела, Унесет нас до утра на сто миль.Предания и народные песни, в которых рассказывается о том, как покойник, встав из гроба, пришел за девушкой, любимой им при жизни, известны почти у всех славян и у других народов. Сербы поют песнь о том, как умерший Иован приехал на коне за своей сестрой Елицей. В словацкой легенде рассказывается, как девушка призвала к себе своего мертвого милого, варя в каше мертвую голову, которая при этом говорит человеческим голосом: «Приди, иди, иди, иди!» У украинцев поется песня, похожая на сербскую. На русской легенде создано стихотворение Жуковского, а Мицкевич воспроизвел в своем стихотворении польскую или литовскую легенду. Немецкая Ленора Бюргера так же широко известна. В народной шотландской песне поется о том, как умерший Вильгельм пришел за своей милой Маргаритой; а в старинной английской песне говорится о том, как юноша, погибший в бою, отвез свою любимую сестру, по имени Гвенноляйк, с собою на тот свет. Это удивительно широкое распространение одного и того же предания среди народов, разобщенных между собою расстоянием и языками, указывает на глубокую его древность. (прим.автора)
Баллада впервые появилась в литературном приложении к «Венку» за 1843 г., стр. 114—123. В подзаголовке было указано: «Народная сказка». Непосредственным источником при создании стихотворения послужила легенда, записанная Эрбеном у себя на родине, в Милетине. Кроме того, Эрбен хорошо знал целый ряд народных баллад вампирического содержания, включенных им в сборник «Чешские народные песни». У нас тот же сюжет дважды использован Жуковским, у поляков — Мицкевичем. От аналогичной баллады Бюргера стихотворение Эрбена отличается благополучной развязкой. В благополучных концовках ряда чешских народных преданий на эту тему Эрбен видел пример того, как даже в поверьях и преданиях о мертвецах сказывается нравственная сила и «здоровый дух» народа.
(обратно)7
Блуждающие огни - (лат. ignis fatum, от ignis — «огонь» и fatum — «судьба») — редкие природные явления, наблюдаемые по ночам на болотах, полях и кладбищах.
О блуждающих (бесовских или болотных) огнях сложена масса легенд, их наблюдали в разное время на разных континентах. Чаще всего огни горят на высоте приподнятой руки человека, имеют шарообразную форму или напоминают пламя свечи, за что они и получили другое свое прозвание — «свеча покойника». Цвет этого огня может быть различным, начиная от призрачного белого, голубоватого или зеленоватого и заканчивая живым пламенем, без образования дыма.
Существует несколько гипотез возникновения загадочных огней. Это самовозгорание газообразного фосфористого водорода, образующегося при гниении отмерших растительных и животных организмов, либо биолюминесценция, например опят или светлячков.
Славяне верили, что это души умерших людей, появляющиеся над своими могилами. Иногда блуждающие огни связывают и с кладами. Говорят, что это духи клада зажигают огоньки над спрятанным сокровищем, чтобы указать к нему дорогу. Однако такие сокровища прокляты нечистой силой и не приносят добра своему владельцу. (прим. верстальщика)
(обратно)8
ПОЛУДНИЦА
Первая редакция стихотворения "Полудница"возникла еще в 1834 г. Стихотворение было опубликовано впервые в 1840 г. в «Деннице», т. 1, вып. 4, стр. 236.
В славянской мифологии дух жаркого полудня, настигающий тех, кто работает в поле в полдень (по народному обычаю в полдень следовало отдыхать). Оставленного в поле без присмотра ребёнка похищает или же может заменить своим собственным. Представления о Полуднице известны во всех западнославянских традициях. Представлялись в виде девушек в белом прозрачном платье или косматой старухи. Чаще всего появляются на ржаных полях во время жатвы, отсюда второе название — «ржаницы», «ржицы». Могут завлечь путешественника, уморить его крепким сном, после которого тот может и не проснуться. (прим. верстальщика)
(обратно)9
ЗОЛОТАЯ ПРЯЛКА
Легенда о золотой прялке обработана и в сборнике сказок Божены Немцовой в первом выпуске. Кроме того, она известна и среди южнорусских сказок. (прим. автора) Стихотворение создано около 1844 г., опубликовано впервые в «Букете». Источником стихотворения явилась народная сказка, переданная Эрбену чешской писательницей Боженой Немцовой (сказка опубликована в «Собрании сочинений» Б. Немцовой, т. XIV, Прага, Квасничка и Гампль, 1930, стр.10—18). Божена Немцова обработала эту сказку в прозе (там же, т. VI, стр. 7—20).
(обратно)10
СОЧЕЛЬНИК
Стихотворение написано в 1848 г., опубликовано в «Цветах и плодах» в том же году (19 августа), стр. 161—163.
Сочельник (сочевник) — канун церк. праздников Рождества Христова и Крещения. В сочельник принято особенно строго соблюдать пост. Существовал обычай употреблять в пищу в эти дни сочиво — зерна злаков, замоченные в воде. (прим. верстальщика)
(обратно)11
Святки — святые дни или святые вечера, 12 дней от праздника Рождества Христова до праздника Богоявления (Крещения) с 25 дек. (7 янв.) по 6 (19) янв.
Святки особенно насыщены магическими обрядами, гаданиями, прогностическими приметами, обычаями и запретами, регламентирующими поведение людей, что выделяет святки из всего календарного года. Мифологическое значение святок определяется их «пограничным» характером — в это время солнце поворачивается с зимы на лето; световой день сдвигается от тьмы к свету; заканчивается старый и начинается новый год; рождается Спаситель и мир хаоса сменяется божественной упорядоченностью. С «пограничностью» периода между старым и новым хозяйственным годом связаны представления о приходе на землю с того света душ умерших, о разгуле нечистой силы в середине зимы. По народным верованиям, невидимое присутствие духов среди живых людей обеспечивало возможность заглянуть в свое будущее, чем и объясняются многочисленные формы святочных гаданий. (прим. верстальщика)
(обратно)12
«Злые Веды» – Древнечешское слово Veda (сравните с русским «ведьма» и «ведунья» и с польским widma, «видма»), означает вещунью, чародейку и происходит от слов videti или vedeti (видеть, ведать). У сербов сохранилась память о нем в слове ведогонjа; иначе теперь сербы называют ее вообще «вештица» (вещунья). В старославянском языке есть слово «ведец», то есть тот, кто что-нибудь ведает, знает; в современном чешском языке это понятие выражает слово znalec, но в женском роде по-прежнему бытует слово veda. (прим. автора)
(обратно)13
ЛОЖЕ ЗАГОРЖА
Это предание известно у чехов, поляков и лужицких сербов. Чешское имя Загорж в польской легенде заменяется польским именем Мадей (Madej), а в лужицкой именем Липскулиян. Содержание и направление этой легенды указывает на то, что она существует со времен раннего христианства. (прим. автора)
Еще от 1836, 1837 и 1843 гг. остались наброски поэмы «Загорж». «Ложе Загоржа» было написано Эрбеном в 1851—1852 гг. и впервые опубликовано в «Букете». Работая над «Загоржем» и «Ложем Загоржа», Эрбен шел от легенды, которая рассказывала о бедняке, продавшем дьяволу душу своего сына, о путешествии юноши в ад за заемным письмом, о встрече его с разбойником Загоржем, который не трогает юношу с тем, чтобы тот по возвращении рассказал об адских муках; затем повествуется о возвращении юноши и искуплении разбойником своих страшных преступлений.
Судя по наброскам «Загоржа», вещь замышлялась сначала как стихотворная романтическая новелла о таинственном и страшном злодее. Несомненно, в этом факте сказалось влияние другого чешского поэта-романтика К. Г. Махи (см. предисловие). Работа над произведением шла в основном по линии преодоления романтики тайн и ужасов.
(обратно)14
под водою прячет в крынки
человечьи души
Пузырьки, которые иногда поднимаются со дна глубоких прудов и озер так, как будто бы кто-нибудь внизу в глубине поворачивает опрокинутый горшок и выпускает из него воздух, послужили поводом к поверью о том, что водяной на дне собирает души утопленников под опрокинутые горшочки. (прим. автора)
Это поверье описано и в сказке Эрбена "Водяной":
В Праге, в Подскальи, видели его, говорят, часто под вечер на плотах. Днем он развешивал над водой красивые красные ленты: только какой ребенок до них дотронется, так сейчас же упадет в воду и утонет. Перевозчики знали это и говорили дома:
— Опять показались ленты. Пусть дети не подходят к воде!
Ходил Водяной и на ярмарки, и там его хорошо знали. На нем был всегда зеленый сюртук, с левой полы его капало, на левой руке у него не хватало одного пальца, и он гнусавил. Торговцы на ярмарке были очень довольны, когда видели его, — особенно сапожники, — и зазывали его сделать почин. Ему первому они охотней всего продавали, потому что после этого торговля шла бойко. Вечером водяной шел в трактир — пить пиво, и тут все шинкарки радовались:
— Идет зеленый барин, теперь будет пропасть народу.
Куда он приходил, там всегда собиралось очень много народу, но всегда в полночь затевалась драка и кого-нибудь убивали.
Как-то раз, говорят, связали его накрепко лыками, так что он не мог пошевелиться. Он жалобно взмолился:
– Ах, отпустите меня, отпустите, отпустите только на этот раз! Больше ни к кому не подойду.
А когда его отпустили, он громко засмеялся и — бултых в воду!
Жена Водяного тоже часто выходила из воды. Звали ее Сара. Одна хозяйка познакомилась с ней и подружилась. Жена Водяного часто ее навещала. Когда этой женщине хотелось с ней поговорить, она подходила к реке и звала:
— Сара!
И жена Водяного тотчас отзывалась и выходила из воды.
Эта женщина родила и позвала жену Водяного в крестные матери. Когда ребенок подрос, жена Водяного как-то раз взяла его к себе в дом. Подошли они к реке. Жена Водяного кинула в реку прутик и сделалась лестница вниз, будто в погреб. Водяного не было дома. Ребенок увидел у него на столе целый ряд крышек и спросил, что это такое.
— Не трогай их: под ними души утопленников,— ответила жена Водяного.
Но когда она вышла, ребенок из любопытства все-таки приподнял одну крышку, и оттуда вылетела душа. Когда жена Водяного вернулась, она сразу поняла, что случилось, и поскорей вывела ребенка из реки, пока не пришел Водяной и не утопил его за это.
* * *
Служила, говорят, у Водяного одна девушка в работницах. Все хозяйство у нее на руках было. Но когда Водяной уходил из дому, он всякий раз приказывал, чтобы она ни с одного горшка крышки не снимала. А было там много горшков, закрытых крышками.
Девушка была любопытная; проходя мимо, она постучала по последнему горшку, там что-то отозвалось и запищало. Она открыла крышку. Оттуда вылетела душа и стала благодарить ее за то, что она выпустила ее из темницы.
— Я тебе это отслужу, — ты будешь счастлива.
Когда Водяной вернулся, он тотчас узнал, что случилось, и говорит:
— Ты открыла крышку!
Девушка стала просить, чтобы он не сердился, но, хотя он ее и простил, ей пришлось сейчас же уйти с этого места.
(обратно)15
ВЕРБА
Это предание мне кажется наиболее важным потому, что я не нахожу ему подобных ни у славянских народов, ни в другом месте. Конечно, существуют легенды, где говорится о том, как человек превращается в дерево или в какой-нибудь иной предмет и наоборот. Есть и такие легенды, в которых рассказывается о том, что человеческая душа ночью, пока тело лежит во сне, как мертвое, переселяется в мышь, птицу или змею. Но другого предания, где бы человек делился своею жизнью с деревом или с каким-нибудь другим предметом так, что ни человек без этого предмета, ни предмет без человека не могли бы существовать, мне более неизвестно. Единственный пример такого предания происходит из бывшего Быджовского округа. (прим. автора)
Баллада создана в 1853 г., напечатана впервые в «Букете».
(обратно)16
Что назначено судьбою,
не сменить ценой любою.
Народное поверье гласит: когда рождается ребенок, ночью к нему приходят три Судицы (Sudice), которые решают его судьбу. Одна говорит: «Из него будет то-то и то-то». Вторая ей возражает: «Не то-то, а то-то». А третья после них решает окончательно. Хорваты называют этих волшебниц Rojenice, вместо Rodenice. (прим. автора)
Судицы. В мировоззрении древних славян Эрбен значительное место отводил вере в судьбу. В Судицах, или Ведах (от «ведать»), он попытался гипотетически воссоздать славянских богинь судьбы. Этому вопросу посвящена целая работа Эрбена «Веды или Судицы». При всей своей ненаучности (с нашей точки зрения) теоретические построения Эрбена отличаются большой поэтичностью, о чем свидетельствуют, между прочим, и его сказки, среди персонажей которых также находим Судии.
(обратно)17
ЛИЛИЯ
Стихотворение создано в конце 50-х гг., напечатано впервые во 2-м издании «Букета», в 1861 г. Основной мотив стихотворения заимствован Эрбеном из одной сказки, оказавшей некоторое влияние на балладу «Свадебные рубашки». В сказке повествуется о том, как умерший возлюбленный является к девушке и увозит ее на кладбище. Убежав от мертвеца, девушка умирает. Ее хоронят в поле. На могиле вырастает лилия. Один дворянин срывает эту лилию и, возвратись домой, втыкает ее за икону. Ночью цвет превращается в девушку. Владелец дома женится на ней. Однако через 7 лет жена его, зайдя в запретное место, умирает.
(обратно)18
Дрема (смолевка) - травянистое растение семейства гвоздичных с поникшими, как бы дремлющими, белыми цветками. Целый день цветки ее закрыты и начинают приоткрываться только перед вечерней зарей, чтобы на утренней заре закрыться. Люди еще в древности заметили свойство дрёмы усыплять, поэтому древние славяне пили настой из дрёмы при бессоннице. (прим. верстальщика)
(обратно)19
ПРОРОЧИЦА
С незапамятных времен у чехов излюбленными преданиями были пророчества о судьбах родной земли. Мать династии Пршемысловичей, Либуша, описывается в хронике Козьмы Пражского как прорицательница судьбы своего народа, а в XVI столетии в Чехии вышло уже несколько пророческих книжек о судьбах чешской земли. Две из них—пророчество Сибиллино (Sibillino) и пророчество одного неизвестного слепого юноши — сохранились в народной памяти до сего времени. Кроме этого, существует также множество мелких местных преданий такого же характера. Много лет назад я собрал несколько из таких пророческих местных легенд и задумал соединить их в одну поэму с упомянутым выше названием, но все никак не мог это осуществить. Только шесть из них я привожу здесь в качестве отрывков будущей поэмы, но каждая легенда составляет единое целое. (прим. автора)
Стихотворение впервые опубликовано в «Букете» и является ключом к пониманию сборника. Создавалось оно по частям, часть четвертая (о Либушином полку) включена в стихотворение лишь в 1861 г., часть 2-я и 3-я написаны в 1849 г., часть 1-я, 5-я, 6-я, 7-я — в конце 1852 г.
Стилизация под прорицание и использование общеизвестных в Чехии легенд позволили Эрбену создать политическую аллегорию (сборник вышел в годы жесточайшей «баховской реакции», наступившей после 1848 г.). Легенды, использованные Эрбеном, сами по себе носили ярко выраженный национальный характер, возвращали читателя ко времени независимости и расцвета Чехии, — в стихотворении же они приобретают политический смысл. Стихотворение в целом является призывом верить в освобождение Чехии.
Легенды, на которые опирался Эрбен, создавая стихотворение, изложены им в примечаниях к «Букету». Подробнее с ними можно ознакомиться по книге чешского писателя Алоиса Ирасека «Старинные сказания чешского народа». Книга дважды была издана на русском языке: в 1899 г. (перевод М.Л. Лялиной) и в 1943 г. (сокращенное издание под ред. проф. Зд. Неедлы).
Самая форма стихотворения-прорицания связана в какой-то степени с преданием о легендарной чешской княжне и прорицательнице Либуше. В предании, дошедшем до нас через чешские хроники, рассказывается о мудрости Либуши, о ее пророчествах, а также о призвании на чешский престол Пршемысла «рыцаря от плуга» — «от железного стола» (см. примечание Эрбена).
(обратно)20
Тяжелые времена — имеются в виду годы жестокой «баховской реакции».
После подавления революций 1848—1849 годов в Австрийской империи установилась реакция. Империя, сохранявшая до 1848 года федеративный характер, была преобразована в унитарное государство с абсолютной и ничем не ограниченной (Конституция 1849 года была отменена в 1851 году) центральной властью. Режим, установленный в империи, характеризовался повышенной степенью бюрократизации и администрированием непосредственно из Вены. Сложилась так называемая «баховская система» (по имени министра внутренних дел Александра Баха), ликвидировавшая региональную специфику и внутреннюю автономию областей. (прим. верстальщика)
(обратно)21
Виден был муж мне на бреге Белины. - Эта легенда, берущая свое начало в бывшем Быджовском округе, основана на упоминании Космака по рассказу Гайка. Как рассказывает Гайек, послы, придя от Либуши к Пршемыслу Стадицкому, нашли его на поле погоняющим своих волов палкой. Он пахал и спешил скорее закончить работу. Когда послы передали ему поручение сейма, Пршемысл остановился, воткнул свой посох в землю и, отвязав волов, сказал им: «Ступайте туда, откуда пришли». Волы поднялись в воздух, точно взлетели, и упали около села Стадице на скалу, которая их поглотила. Ореховая же палка, которую Пршемысл воткнул в землю, пустила три больших отростка с зелеными листьями и продолговатыми орехами. Пока послы, усевшись с Пршемыслом, как за железный стол, за перевернутый плуг, ели хлеб и пили воду, два из этих отростков завяли, а третий рос дальше вверх. Видя, как удивились этому послы, Пршемысл сказал им: «Не удивляйтесь и знайте, что многие из моего рода будут тут княжить, но только один будет царем в нашей земле. А если бы пани ваша с этим делом не поспешила, я бы допахал это поле и в стране бы всегда было много хлеба. Но теперь будет в стране голод!» Неудивительно, что эти последние слова должны были пробудить в сердце простого народа тайную мечту: «Ах, если бы Пршемысл допахал свое поле!» Со временем из этого могла возникнуть легенда о том, что придет снова князь, который завершит это дело, чтобы земля была счастлива. С этим удивительно перекликается моравское предание о короле Ечминке, которого ожидают как воплощение Святополка, надеясь, что с ним наступит для Моравии золотой век. Обе эти легенды имеют один и тот же смысл, а именно: что страна счастливо расцветет тогда, когда она прославится плодородием. (прим. автора)
(обратно)22
Вижу скалу над рекою кипучей. —Это предание является как бы устным придатком к предсказаниям Либуши об основании Праги и о пришествии св. Вацлава и св. Войтеха. В нем рассказывается о том, что около Вышеграда были чудесные воздушные сады Либуши, подобно сказочным садам королевы Семирамиды, а внизу, под скалой Вышеградской, там, где теперь самое глубокое место Влтавы, была любимая купальня Либуши. Однажды Либуша стояла на пороге своей купальни и, глядя на течение воды, предсказывала несчастья, которые должны были обрушиться на Чешскую землю. Не в силах предотвратить их, она утопила в воде золотую колыбель своего первородного сына и решила так, что эта колыбель выплывет снова, когда родится тот, кто сделает Чешскую землю снова счастливой. В той колыбельке будет почивать этот вершитель судьбы. Так говорит предание. Все древние чешские летописцы начиная с XV ст. называют таким спасителем и отцом отечества императора Карла IV, в царствование которого, говорят, была Чешская земля счастлива и славна, как никогда раньше.
Эта легенда была создана еще до XV в. В народных преданиях об императоре Карле IV мы встречаемся с той же самой колыбелькой, которая с его годами превращается в ложе, как будто вырастая вместе с ним. В одном из преданий говорится о том, что после смерти императора Карла IV это чудесное ложе осталось в его замке, Карлове Тыне, и что оно никого не выдерживало на себе, а всех, кто пытался лечь на него, сбрасывало наземь. Наконец описываемая выше легенда о золотой колыбели под Вышеградом была известна Гормайеру, который напечатал ее тридцать лет назад. (прим. автора)
(обратно)23
5-я часть стихотворения — об утонувшем монастыре и блуждающем колоколе—восходит к народному преданию, записанному Эрбеном в 1840—1842 гг. В этом предании рассказывается о монастыре, погрузившемся в озеро, когда для страны настали тяжелые времена. Монастырский колокол был обречен блуждать под землей, пока не наступит свободный «золотой век». На берегу озера, где раньше стоял костел, выросла ель. Когда эта ель состарится и сгниет, на месте пня будет виден колокол.
(обратно)24
полугерой на гранитном столбе
Половина богатыря на колонне Пражского моста—это остаток статуи. Она изображала усатого рыцаря в полном вооружении, с открытым забралом. Его кривые руки опирались о длинный обнаженный железный меч, доходивший ему до бороды. В левой руке он держал щит со староместским знаком (Старе Место —часть Праги), у ног его лежал лев. Лев и щит эти сохранились до сих пор. Знак на щите, о котором говорилось выше, был сделан лета 1475 и помечен императором Фридрихом III, и потому можно считать, что статуя эта более позднего времени, чем эта дата. Это собственно был знак мостового права, которое даровал Старому Месту император Карл IV. Народ называл эту статую просто Брунцвиком, помня, наверное, о переведенной с немецкого языка хронике о Брунцвике, где этот легендарный герой изображался с мечом и львом. При осаде Праги шведами в 1648 г. неприятельское ядро снесло половину статуи вместе с мечом. Остались лишь ноги, часть торса и лев. Так ее можно видеть и в наши дни. Эта нижняя часть статуи вошла в предание как наглядный символ эгоизма и напыщенной самовлюбленности, которая царит в наше время повсюду, и в знак того, что не может быть хорошо людям, пока чуткое сердце и здравый разум не займут своего места. (прим. автора)
(обратно)

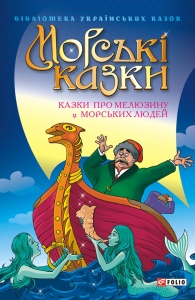
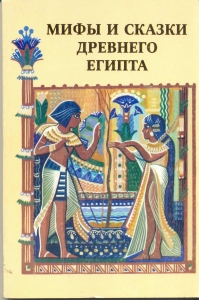

Комментарии к книге «Букет из народных преданий», Карел Яромир Эрбен
Всего 0 комментариев