Народные русские легенды А. Н. Афанасьева
ПРЕДИСЛОВИЕ
Александр Николаевич Афанасьев (1826—1871) — один из крупнейших фольклористов XIX века, известный исследователь славянской мифологии. Основной его труд — фундаментальная трехтомная монография «Поэтические воззрения славян на природу. Опыт сравнительного изучения славянских преданий и верований в связи с мифическими сказаниями других родственных пародов» (1865—1869). По богатству материала, познавательной ценности его ставят в один ряд с такими классическими, широко известными работами мировой науки о фольклоре, как «Золотая ветвь» Дж. Фрэзера и «Первобытная культура» Э. Тайлора. К сожалению, в полном виде исследование Афанасьева до сих пор не переиздавалось [1].
Историк культуры, исследователь русской литературы, правовед, этнограф, журналист А. П. Афанасьев широкому кругу читателей известен прежде всего как составитель и издатель сборника «Народных русских сказок» (1855—1863), положившего начало научному собиранию и изучению восточнославянской сказки. В этом особая заслуга ученого перед отечественной культурой. До сегодняшнего дня вышло семь полных изданий афанасьевского сборника [2]; многократно публиковались популярные сборники избранных его сказок; в числе наиболее полных зарубежных изданий сказок собрания Афанасьева — нью-йоркское издание 1945 года на английском языке с послесловием и комментариями Р. Якобсона [3].
Менее счастливо сложилась судьба другого фольклорного издания А. Н. Афанасьева — сборника «Народных русских легенд».
В один год — 1859 — он был опубликован в Москве в издании К. Солдатенкова и Н. Щепкина тиражом 1200 экземпляров, раскупленных в три недели, и в Лондоне Вольной русской типографией А. Герцена [4]. Сборник составили тексты 33 народных легенд из тех же русских, украинских, белорусских губерний России, что и тексты сборника сказок. Вместе с записями самого Афанасьева в него вошли тексты из собраний В. И. Даля, П. И. Якушкина, П. В. Киреевского, записи учителей М. Дмитриева, Е. Сабурова, грамотного крестьянина Александра Зырянова, напечатанные Афанасьевым в том виде, как были получены от разных собирателей. Наряду с собственно легендами — устными прозаическими рассказами религиозного, духовно-нравственного, учительного содержания, в сборнике можно найти духовные стихи («Егорий Храбрый»), тексты, взятые из старинных рукописных сборников («Повесть о бражнике», «Повесть о царе Аггее и како пострада гордостию»). Публикуемые рассказы сопровождались составленными А. Н. Афанасьевым примечаниями с богатым пояснительным и сравнительным материалом.
Издание легенд Афанасьева, имеющее, как и его издание сказок, «заслугу достоверности» (А. Н. Пыпин), отразило миропонимание народа сквозь призму народного христианства, в котором смешались начала языческие с представлениями христианскими. На это указывал сам А. Н. Афанасьев в предисловии к сборнику: «С водворением новых, христианских начал народная фантазия не позабыла и не отринула тех прежних образов, в которых представлялись ей взаимные отношения человека и природы… и касаясь событий, описанных в Ветхом и Новом Заветах, свободно допустила их в свои легендарные сказания» [5].
Возникновение в сознании народа такого смешения христианских представлений с языческими ученый справедливо связывал с теми давними временами, когда «летописец, пораженный действительным смешением в жизни христианских идей и обрядов с языческими, назвал наш народ двоеверным» [6].
Афанасьев попытался описать и объяснить суть процесса, в результате которого возникали подобные явления в народном творчестве: «Народная песня и сказка… не раз обращалась к священному писанию и житиям святых, и отсюда почерпали материал для своих повествований: такое заимствование событий и лиц из библейской истории, самый взгляд на все житейское, выработавшийся под влиянием священных книг и отчасти отразившийся в народных произведениях, придали этим последним интерес более значительный духовный; … как в стихах (духовных. — В. К.), так и в легендах заимствованный материал передается не в совершенной чистоте; напротив, он более или менее подчиняется произволу народной фантазии, видоизменяется сообразно ее требованиям и даже связывается с теми преданиями и повериями, которые уцелели от эпохи доисторической и которые, по-видимому, так противуположны началам христианского учения. История совершает свой путь последовательно… старое не только надолго уживается с новым, но и взаимно проникаются друг другом… Так возникли многие средневековые апокрифические сочинения, так возникли и народные легенды, повествующие о создании мира, потопе, страшном суде…» [7].
Научные объяснения автора-составителя сборника не смогли уберечь книги от запрещения цензурой, сложности отношения с которой беспокоили ученого еще при подготовке публикации. Так, в письме к Е. И. Якушкину в ноябре 1859 года Афанасьев писал: «В настоящее время я сижу за легендами; половина уж в цензуре (у Наумова) и пропущена весьма хорошо; на-днях отдам и остальную, а там и за печать. Должно пользоваться обстоятельствами и ковать железо, пока горячо, а то с Николою, Ильей-пророком и другими святыми чего доброго и застрянешь где-нибудь» [8]. Нетрадиционность представлений народного «двоеверного» христианства, прозвучавших в опубликованных легендах, вызвала протесты духовенства, издание было запрещено.
Новое издание сборника легенд, сразу ставшего библиографической редкостью, оказалось возможным лишь спустя полвека. В конце 1913 года эти легенды были напечатаны в Москве в книгоиздательстве «Современные проблемы» под редакцией С. К. Шамбинаго (повторно — в 1916); в 1914 году — в Казани в издательстве «Молодые силы» под редакцией И. П. Кочергина. Переиздания не избежали некоторых досадных недочетов: так, в московском издании 1913 года оказались выпущенными примечания к текстам, начиная с № 22. Прочно вошедшее в научный оборот казанское издание — лучшее, хотя и ему не удалось уберечься от некоторых опечаток в текстах легенд. Кроме легенд, в этом издании, посвященном памяти А. Н. Афанасьева, были напечатаны его автобиографические воспоминания, перечень трудов Афанасьева, им самим составленный, глава из «Истории русской этнографии» А. Н. Пыпина, посвященная рассмотрению научных воззрений А. Н. Афанасьева и оценке его трудов по изучению русской народности и старины, а также другая работа А. Н. Пыпина — отклик на выход в свет первого издания «Народных русских легенд» собрания А. Н. Афанасьева — статья о легенде, которая и сегодня не утратила научного интереса. Все эти издания давно стали библиографической редкостью.
Тексты сборника А. Н. Афанасьева «Народные русские легенды» печатаются нами по первому московскому изданию 1859 года, но принят предложенный в казанском издании 1914 года способ расположения материала внутри сборника: примечания к каждому номеру, которые в первом издании у Афанасьева помещены отдельно в конце книги, здесь печатаются сразу за текстом самой легенды. Так как примечания в большинстве своем содержат тексты легенд, являющихся вариантами, параллелями к основной публикуемой, и пояснения к ним, то такое расположение более удобно при пользовании книгой. Примечания к текстам дополнены «Указателем сюжетных типов легенд настоящего издания сборника А. Н. Афанасьева» по «Сравнительному указателю сюжетов. Восточнославянская сказка» (Сост. Л. Г. Бараг, И. П. Березовский, К. П. Кабашников, Н. В. Новиков. Л., Наука, 1979).
Кроме того, в предлагаемой публикации перепечатывается статья А. Н. Пыпина «Народные русские легенды (По поводу издания г-на Афанасьева в Москве 1860 г.)» об истории и общем направлении в развитии народной легенды, ее связях с легендой литературной — древнерусской и западноевропейской и воспоминания А. Н. Афанасьева о детстве и годах обучения в Московском университете.
При подготовке к печати нефольклорных текстов орфография и пунктуация их были приближены к современным нормам языка. Тексты опубликованных Афанасьевым легенд были подвергнуты графической адаптации: ъ на конце слова опущен, буква «ять» заменена е, і — и; в белорусских текстах «Быў пан и пани…» (в примечаниях к № 27 и 28) и «Превращение» (№ 6) введено обозначение неслогового у — ў. Пунктуация текстов приближена к современной. Написание предлогов, приставок (частично) и частиц приведено в соответствие с нормами современной орфографии. Других изменений в фольклорные записи и цитаты не вносилось. Сохранены ударения, присутствовавшие в источниках, если они необходимы.
Подстрочные пояснения А. Н. Афанасьева к отдельным словам воспроизводятся полностью; дополнительные пояснения и редакционный перевод иностранных текстов обозначаются — Ред.
Встречающиеся в текстах даты приводятся по старому стилю, географические названия соответствуют административному делению России в XIX веке.
В работе над «Народными русскими легендами» А. Н. Афанасьев пользовался многими источниками и делал на них ссылки в тексте и в подстрочных примечаниях. Так как при переиздании мы сохраняем подстрочные примечания самого Афанасьева в том виде, как он их давал (часто с сокращениями и без выходных данных), приводим ниже библиографическое описание основных изданий, на которые есть ссылки:
1. Абевега русских суеверий. М., 1786.
2. Афанасьев А. Н. Зооморфические божества у славян: птица, конь, бык, корова, змея, волк // Отечественные записки, 1852, № 1—3.
3. Афанасьев А. Н. Мифическая связь понятий света, зрения, огня, металла, оружия и желчи // Архив историко-юридических сведений, относящихся до России, 1854. — Кн. 2, полов. 2.
4. Афанасьев А. Н. Народные русские сказки/Изд. К. Солдатенкова и Н. Щепкина. — М., 1855. — Вып. 1; 1856. — Вып. 2; 1857. — Вып. 3; 1858. — Вып. 1—4.
5. Боричевский И. Повести и предания славянского племени. Спб., 1840.
6. Боричевский И. Народные славянские рассказы, изданные И. Боричевским. Спб., 1844.
7. Иллюстрация. Еженедельное издание всего полезного и изящного/Редактор-издатель Н. В. Кукольник. Спб., год 1 — 1845, год 2 — 1846.
8. Киреевский П. В. Духовные стихи // Чтения Общества истории и древностей российских при Московском университете. — М., 1848. — Год III, № 9.
9. Костормаров Н. Об историческом значении русской народной поэзии. Харьков, 1843.
10. Кулиш П. Записки о Южной Руси. Спб., 1856. — Т. I.
11. Макаров М. Н. Русские предания. Спб., 1838—1840. — Ч. 1—3.
12. Опыт областного великорусского словаря. Изданный Вторым отделением Академии наук [Под ред. А. X. Востокова]. Спб., 1852.
13. Пыпин А. Н. Очерк литературной истории старинных повестей и сказок русских // Ученые записки Второго отделения Академии наук. Спб., 1858. — Т. IV.
14. Сахаров И. П. Сказания русского народа, собранные И. Сахаровым. Спб., 1841. — Т. I; 1849. — Т. II.
15. Сементовский А. Малороссийские и галицкие загадки. Киев, 1851.
16. Словарь малорусского наречия/Сост. А. Афанасьевым-Чужбинским. Спб.: Второе отделение Академии наук. Спб., 1855.
17. Снегирев И. М. Русские в своих пословицах. М., 1831—1834. — Кн. 1-4.
18. Снегирев И. М. Русские простонародные праздники и суеверные обряды. М., 1837—1839. — Вып. 1—4.
19. Терещенко А. В. Быт русского народа. Спб., 1848. — Ч. 1—7.
20. Труды Общества любителей российской словесности при Московском университете. М., 1816. — Кн. VII.
21. Этнографический сборник, издаваемый Русским географическим обществом. Спб., 1854. — Вып. 2.
22. Српске народне пjесме, скупио их и на свиjет издао Вук Караджич. Беч, 1841. — Кн. 1.
23. Српске народне приповиjетке, скупио их и на свиjет издао Вук Караджич. Беч, 1853.
24. Grimm J. Deutsche Mythologie. Göttingen, 1835.
25. Kinder- und Hausmärchen, gesammelt dunch die Brüder Grimm. Gross Ausgabe. Göttingen, 1850.
26. Deutsche Volksmärchen aus dem Sachsenlande in Siebenbürgen, gesammelt von Joseph Haltrich. Berlin, 1856.
27. Litauische Märchen, Sprichwörter, Rätsel und Lieder von August Schleicher. Weimar, 1857.
28. Norwegisch Volksmärchen, gesammelt von P. Asbjörnsen und Jörgen Мое. Deutsch von Friedrich Bresemann. Berlin, 1847.
29. Walachische Märchen, Herausgegeben von Arthur und Albert Schott. Stuttgart und Tübingen, 1845.
30. Westslawischer Märchenschotz. Ein Charakterbild der Böhmen, Mährer und Slowaken in ihren Märchen, Sagen, Geschichten volksgesängen und sprüchovörtern. Deutsch bearbeitet von Joseph Wenzig. Leipzig, 1857.
31. Zeitschrift für Deutsche Mythologie und Sittenkunde herausgegeben von J. W. Wolf. Göttingen, 1853—1856.
B. C. Кузнецова
ПРЕДИСЛОВИЕ А. Н. АФАНАСЬЕВА К ЕГО СОБРАНИЮ НАРОДНЫХ ЛЕГЕНД
Наряду с другими эпическими сказаниями, живущими в устах народа, существует еще целый отдел небольших повестей, запечатленных тем особенным, отличительным характером, вследствие которого получили они название легенд. Для своих эпических произведений народ, как известно, берет содержание из преданий своего прошлого, вносит в них свои собственные верования и нравственные убеждения, присущие ему в ту или другую эпоху его развития: и потому если языческая старина служила обильным материалом для народной поэзии, то в свою очередь и христианские представления, воспринятые юными новообращенными племенами, должны были найти в ней свой живой отголосок. Народная песня и сказка в самом деле не раз обращались к священному писанию и житиям святых, и отсюда почерпали материал для своих повествований: такое заимствование событий и лиц из библейской истории, самый взгляд на все житейское, выработавшийся под влиянием священных книг и отчасти отразившийся в народных произведениях, придали этим последним интерес более значительный, духовный; песня обратилась в стих, сказка в легенду. Само собой разумеется, как в стихах, так и в легендах заимствованный материал передается далеко не в совершенной чистоте: напротив, он более или менее подчиняется произволу народной фантазии, видоизменяется сообразно ее требованиям и даже связывается с теми преданиями и поверьями, которые уцелели от эпохи доисторической и которые, по-видимому, так противоположны началам христианского учения. История совершает свой путь последовательно, и в малоразвитых массах населения старое не только надолго уживается с новым, но и взаимно проникаются друг другом, перепутываются, пока истинное просвещение не укажет несостоятельности подобной связи. Так возникли многие средневековые апокрифические сочинения, так возникли и народные легенды, повествующие о создании мира, потопе и страшном суде с примесью древнейших суеверий и окружающие некоторых угодников атрибутами чисто сказочного эпоса. Поэтому хотя простолюдин смотрит на легенду как на что-то священное, хоть в самом рассказе слышится иногда библейский оборот, тем не менее странно было бы в этих поэтических произведениях искать религиозно-догматического откровения народа, в его современном состоянии. Нет, это все памятники глубокой старины, того давно прошедшего времени, когда благочестивый летописец, пораженный действительным смешением в жизни христианских идей и обрядов с языческими, назвал народ наш двоеверным.
Если они и уцелели в устах народа до нашего времени, если и подвергались в течение многих и многих лет различным изменениям, если наконец и заметны в них некоторые яркие следы позднейших влияний, то все-таки главным образом они любопытны для нас как плод поэтического творчества народа в древнейший период его истории.
Старинный эпос, согласно с воззрением первобытного человека на природу и с значением самых мифов язычества, дал в своих повествованиях довольно видное место различным животным. Конь, бык, собака, волк, ворон и другие звери и птицы одарены вещим характером и принимают в деяниях и судьбах людей живое и непосредственное участие.
С водворением новых, христианских начал народная фантазия не позабыла и не отринула тех прежних образов, в которых представлялись ей взаимные отношения человека и природы; она по-старому любила обращаться к миру животных, любила наделять их умом и волею и, касаясь событий, описанных в Ветхом и Новом заветах, свободно допустила их в свои легендарные сказания.
Приводим из этих любопытных сказаний те, которые нам известны:
a) Собака первоначально была создана голою; но черт, желая ее соблазнить, дал ей шубу, т. е. шерсть. Мышь прогрызает Ноев ковчег; уж затыкает эту дыру своею головою. (Смотри легенду о Ное праведном.)
b) В старину незапамятную рожь была не такая, как теперь; снизу солома, а на макушке колосок; тогда от корня до самого верху все был колос. Раз показалось бабам тяжело жать, и давай они бранить божий хлеб. Одна говорит: «Чтоб ты пропала, окаянная рожь!» Другая: «Чтоб тебе ни всходу, ни умолоту!» Третья: «Чтоб тебя, проклятую, сдернуло снизу доверху!» Господь, разгневанный их неразумным ропотом, забрал колосья и начал истреблять один за другим. Бабы стоят да смотрят. Когда осталось богу выдернуть последний колос — сухощавый и тщедушный, тогда собаки стали молить, чтобы господь оставил на их долю сколько-нибудь колоса. Милосердный господь сжалился над ними и оставил им колос, какой теперь видим [9]. Другое предание говорит, что самое зерно было необыкновенной величины:
«Был-жил какой-то царь, ездил-гулял по полям с князьями и боярами, нашел житное зерно величиной с воробьиное яйцо. Удивился царь, собрал князей и бояр, стал спрашивать: давно ли это жито сеяно? Никто не ведал, не знал. И придумали взыскать такого человека из старых людей, который мог бы про то сказать. Искали-искали и нашли старика — едва ходит о двух костылях, привели его к царю и стали спрашивать: „Кем сеяно это жито и кто пожинал?“ — „Не памятую, — отвечал старик, — такого жита я не севал и не знаю; может, отец мой помнит“. Послали за отцом, привели к царю об одном костыле. Спросили о зерне; он тоже говорит: „Я не севал и не пожинал: а есть у меня батюшка, у которого видел такое зерно в житнице“. Послали за третьим стариком; будет ему от роду сто семьдесят годов, а пришел к царю легко, без костыля, без вожатых. Начал его царь спрашивать: „Кем это жито сеяно?“ — „Я его сеял, я и пожинал, — сказал в ответ старец, — и теперь у меня есть в житнице: держу для памяти! Когда был я молод — жито было большое да крупное, а после стало родиться все мельче да мельче“. Спросил еще царь: „Скажи мне, старик! отчего ты ходишь легче и сына и внука?“ — „Оттого, — сказал старец, — что жил по-божьему: своим владел, чужим не корыстовался“». (Записано в Архангельской губернии.)
c) Ивановский светящийся жук керсница (kersnica) пользуется у словенцев особенною любовью за то, что летал по дому родителей Иоанна Предтечи и освещал колыбель святого младенца. [10]
d) Когда архангел Гавриил возвестил Пресвятой Деве, что от нее родится божественный Искупитель, — она сказала, что готова поверить истине его слов, если рыба, одна сторона которой была уже съедена, снова оживет. И в ту же минуту рыба ожила и была пущена в воду; это однобокая камбала. Такое сказание живет между русскими поселянами [11]; между тем народы литовский и самогитский уверяют, будто камбала потому с одним глазом и наружностью своею походит на отрезанную половину рыбы, что царица Балтийского моря Юрата отгрызла у ней одну сторону, а другую пустила в воду [12]: знак, что древнеязыческое предание получило у нас под влиянием христианства и другой смысл и другую обстановку.
e) Когда родился Христос и начались гонения Ирода, Богоматерь положила божественного младенца в ясли и прикрыла его сеном. Прожорливая лошадь всю ночь ела корм и беспрерывно открывала убежище Спасителя; а вол не только перестал есть, но еще собирал разбросанное сено рогами и набрасывал его на младенца. Бог проклял лошадь за ее жадность, а вола благословил; оттого-то лошадь постоянно жрет и никогда не насыщается; оттого-то вол употребляется человеком в пищу, а лошадь нет [13].
f) У моряков есть поверье, будто два черные пятна, видимые на жабрах трески, произошли от того, что апостол Петр взял ее двумя пальцами, когда вынимал из рта рыбы монету для уплаты подати [14].
g) Во время земной своей жизни зашел однажды Спаситель в дом еврея. Толпа окружила его. Неверующий хозяин вздумал посмеяться и сказал Спасителю: «Если ты бог, скажи нам, что под этим корытом?» — «Свинья с тремя поросятами», — отвечал господь. Какой ужас оковал предстоящих, когда вместо спрятавшихся хозяйки и детей выползла из-под корыта большая свинья с тремя, поросятами. Вот почему евреи не едят свинины [15].
h) Медведь, говорят поселяне, был прежде человеком; он и теперь пьет водку, ест хлеб, ходит на задних лапах, пляшет и не имеет хвоста.
Когда-то в старину странствовали по земле св. Петр и св. Павел. Случилось им проходить через деревню около моста. Злая жена и муж согласились испугать святых путников, надели на себя вывороченные шубы, притаились в укромном месте, и только апостолы стали сходить с моста — они выскочили им навстречу и заревели по-медвежьи. Тогда св. Петр и св. Павел сказали: «Щоб же вы ривили отныни и до вика!» С той самой поры и стали они медведями.
Такой рассказ можно услышать от поселян Харьковской губернии; в Херсонском уезде он передается несколько иначе:
Мужик с женою вздумали испугать Спасителя, стали под греблею и принялись кричать: мужик заревел медведем, а баба закуковала кукушкою (зозулею). Господь проклял их, и с того времени они навсегда превратились в медведя и кукушку.
i) В Норвегии существует рассказ о превращении одной женщины в дятла (Norweg. Volksmärchen, № 2).
Христос, странствуя по земле вместе с апостолом Петром, увидел женщину, которая приготовляла хлебы. Ее звали Гертруда. Спаситель попросил у нее хлеба. Гертруда отделила для странников небольшой кусок теста, и только стала месить его — как он тотчас вырос и сделался огромным хлебом. Скупая хозяйка пожалела отдать его странникам; снова отделила для них небольшой кусок теста, но и с этим, и со всеми другими кусками случилось то же; тогда решилась она лучше вовсе им отказать, нежели дать так много. За такое жестокосердие господь обратил ее в птицу, которая осуждена искать себе пищу между древесною корою и пить только дождевую воду. Птица эта всегда чувствует мучительную жажду и называется Gertrudsvogel [16].
Русские поселяне также рассказывают о птице, которая в сухое время летает всюду и жалко чирикает: пипи-пить! «Когда бог создал землю и вздумал наполнить ее морями, озерами и реками, тогда он повелел идти сильному дождю; после дождя собрал всех птиц и приказал им помогать себе в трудах, чтобы они носили воду в назначенные ей места. Все птицы повиновались, а эта несчастная — нет; она сказала богу: „Мне не нужны ни озера, ни реки; я и на камушке напьюсь“. Господь разгневался на нее и запретил ей и ее потомству даже приближаться к озеру, реке, ручейку, а позволил утолять жажду только той водою, которая после дождя остается на неровных местах и между камнями. С тех пор бедная птичка, надоедая людям, жалобно просит: пить, пить!» [17]
k) Когда жиды преследовали Спасителя, чтобы предать его на распятие, то все птицы, особенно ласточка, старались отвести их от того места, где укрывался Христос. Но воробей указал им это место своим пискливым чириканьем; жиды увидали Спасителя и повели его на мучение. Потому Господь проклял воробья, и мясо его запретил употреблять в пищу. — Этот рассказ записан в Харьковской губернии; в других местностях уверяют, что в то время, как предали Христа на распятие, воробьи беспрерывно кричали: жив-жив! жив-жив! — вызывая через то врагов Спасителя на новые муки. Ласточки напротив чирикали: умер, умер! Они старались похищать приготовленные мучителями гвозди, но воробьи снова находили их и приносили назад. Оттого гнездо ласточки предвещает дому счастье, убить ее считается за великий грех; а если воробей влетит в избу — это предвестие большой беды. О воробье рассказывают, что он один не знает праздника Благовещенья и вьет в этот день гнездо, что у него ноги связаны за его предательство невидимыми путами и потому он может только прыгать, а не переступать [18].
l) В Галиции ходит в народе такое предание: когда, воскрес Христос, его увидала жидовская девочка и сказала о том своему отцу. Но старый еврей не поверил и сказал: «Тогда он воскреснет, когда этот жареный каплун полетит и запоет!» И в ту же минуту жареный петух сорвался с вертела, полетел и закричал: кукуреку! [19]
Легенды, хотя и касаются некоторых действительных событий и лиц, тем не менее, подобно всем другим народным произведениям, не знают и не преследуют исторической верности. Они даже раскрывают перед нами целый ряд происшествий, связанных с именем Спасителя, о которых не упоминается в источниках, но которые справедливо обращают на себя пытливое внимание ученых. В этих рассказах не столько важна историческая правда передаваемого события, сколько правда гуманного христианского одушевления, проникающая собой все поэтическое создание. Чувство сострадания к чужому несчастию, вложенное в человека уже самою природою, под влиянием возвышенных идей христианства, получило новое торжественное освещение. Вся земная жизнь Спасителя была непрерывной проповедью о любви к ближнему и милосердии к нищей братии: убогим, больным, пораженным язвами, заточенным и страждущим; по вознесении на небо им оставил он в наследие свое святое имя:
Как вознесся Христос на небеса, Расплакалась нищая братия, Расплакались бедные, убогие, слепые и хромые: «Уж ты истинный Христос, царь небесный! Чем мы будем бедные питаться? Чем мы будем бедные одеваться, обуваться?» — Не плачьте вы, бедные, убогие! Дам я вам гору да золотую, Дам я вам реку да медвяную… Тут возговорит Иван да Богословец: «Ведь ты, истинный Христос да царь небесный! Не давай ты им горы золотыя, Не давай ты им реки медвяныя; Сильные-богатые отнимут: Много тут будет убийства, Тут много будет кровопролитья. Ты дай им свое святое имя; Тебя будут поминати, Тебя будут величати: Будут они сыты да и пьяны [20]. Будут и обуты, и одеты». Тут возговорил Христос да царь небесный: «Ты Иван да Богословец, Ты Иван да Злотоустой! Ты умел слово сказати, Умел слово рассудити»… [21]По народным сказаниям Спаситель вместе с апостолами и теперь, как некогда — во время земной своей жизни, ходит по земле, принимая на себя страннический вид убогого; испытуя людское милосердие, он наказует жестокосердых, жадных и скупых и награждает сострадательных и добрых [22]. Это убеждение, проникнутое чистейшим нравственным характером, основано на том, что Спаситель о делах любви и милосердия к нищей братии проповедал, как о делах любви и милосердия к нему самому: «Речет Царь сущим одесную его: приидите благословеннии Отца моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира. Взалкахся бо — и дасте ми ясти, возжадахся — и напоисте мя, странен бех — и введосте мене, наг — и одеясте мя, болен — и посетисте мене, в темнице бех — и приидосте ко мне». Тогда отвещают ему праведницы, глаголюще: «Господи, когда тя видехом алчуща — и напитахом, или жаждуща — и напоихом, когда же тя видехом странна — и введохом, или нага — и одеяхом, когда же тя видехом боляща или в темнице — и приидохом к тебе?» И отвещав Царь речет им: «Аминь, глаголю вам, понеже сотвористе единому сих братий моих меньших — мне сотвористе» (Евангелие от Матфея, гл. XXV, ст. 34—40).
В настоящем сборнике довольно приведено народных рассказов, в которых Христос является испытующим людские сердца странником и поэтическое достоинство которых так же истинно и цельно, как и нравственное. Подобные рассказы живут и между другими славянскими и германскими племенами. Представляем здесь некоторые, наиболее интересные, в переводе.
1. КТО МЕНЬШЕ ЖЕЛАЕТ, ТОМУ БОЛЬШЕ ДАЕТСЯ
Было три брата; ничего больше не имели они на белом свете, кроме одного грушевого дерева, и стерегли то дерево по очереди; один оставался подле груши, а двое других уходили на поденщину. Однажды Бог послал ангела посмотреть, как живут братья, и если плохо — то наделить их лучшим пропитанием. Ангел Божий сошел на землю, обратился в нищего и, подойдя к тому, который оберегал дерево, попросил у него одну грушу. Этот сорвал из своей доли, подал ему и говорит: «Вот тебе из моей доли; из братниных не могу тебе дать». Ангел поблагодарил его и удалился. На следующий день остался другой брат стеречь дерево; опять пришел ангел и попросил одну грушу. И этот сорвал ему из своей доли, подал и говорит: «Вот тебе из моей доли; из братниных не могу тебе дать». Ангел поблагодарил и ушел. Когда настал черед третьему брату оберегать дерево, опять подошел ангел и попросил уделить ему одну грушу. И третий брат сорвал из своей доли, подал ему и говорит: «Вот тебе из моей доли; из братниных не могу тебе дать». Когда настал четвертый день, ангел сделался монахом, пришел рано поутру и застал всех троих братьев подле избы. «Идите за мною, сказал им ангел; я наделю вас лучшим пропитанием». Они пошли за ним, не говоря ни слова. Приходят к большому бурливому потоку: «Чего бы ты желал?» — спросил ангел старшего брата. А он в ответ: «Чтобы из этой воды сделалось вино и досталось бы мне». Ангел перекрестил посохом ручей — и вместо воды потекло вино: тут приготовляют бочки, тут вино наливают… «Вот тебе по твоему желанию!» — сказал ангел старшему брату и оставил его на том месте, а с двумя другими пошел дальше. Вышли они на поляну — всю поляну голуби прикрыли. Тогда спросил ангел среднего брата: «Чего ты желаешь?» — «Чтобы все это были овцы, и принадлежали бы мне». — Ангел Божий перекрестил поле своим посохом — и наместо голубей явились овцы: откуда взялись овчарни, одни бабы доят, другие молоко разливают, третьи снимают сливки, иные сыр делают, иные масло топят… «Вот тебе по твоему желанию!» — сказал ангел. Взял с собой младшего брата, пошел с ним по полю и спросил: «А тебе чего б хотелось?» — «Мне ничего другого не надо, только бы дал мне Господь жену от праведной христианской крови». Тогда сказал ангел: «О, это нелегко достать; во всем свете только и есть три такие: две замужем, а одна девица, и за ту двое сватаются». Идучи долго, пришли они в один город, в котором был царь, а у него дочь от праведной христианской крови. Как пришли в город — сейчас к царю просить у него невесту, а там уже сватаются за нее два царя. Стали и они свататься. Когда увидел их царь, сказал своим приближенным: «Как же быть теперь: эти — цари, а эти — словно нищие перед ними?» — «А знаете ли что? — сказал ангел, — сделаем-ка так: пускай невеста возьмет три лозы и посадит их в саду, назначив каждому из женихов какую хочет; на чьей лозе будет поутру гроздье, за того пускай и выйдет замуж». Все на то согласились; царевна посадила в саду три лозы и каждому назначила свою. Глянули поутру, а на лозе бедняка гроздье. Тогда царь, нечего делать, отдал дочь свою младшему брату, и обвенчали их в церкви. После венца отвел их ангел в лес и оставил там; здесь жили они целый год. А когда исполнился год, сказал Господь ангелу опять: «Пойди, посмотри, как живут те сироты; если в нужде, надели их больше». Ангел спустился на землю, обратился опять в нищего; пришел к тому брату, у которого поток лился вином, и попросил у него чащу вина. Но тот отказал ему, говоря: «Если всякому давать по чаше, так и вина не достанет!» Когда услышал это ангел, тотчас перекрестил посохом — и полился поток, как прежде, водою. «Нет же тебе ничего, — сказал он старшему брату, — ступай под свою грушу, стереги ее!» Затем удалился оттуда ангел; пришел к другому брату, у которого все поле овцы прикрыли, и попросил у него кусок сыра. Но тот отказал ему, говоря: «Если всякому давать по куску, так и сыра не достанет!» Когда услышал это ангел, тотчас перекрестил посохом поле — и наместо овец вспорхнули голуби. «Нет же тебе ничего, — сказал он среднему брату, — ступай под свою грушу, стереги ее!» После того пошел ангел к младшему брату посмотреть, как он живет; приходит — а он с своей женою живут в лесу бедно, в хижине. Ангел попросился к ним переночевать; они охотно, от всего сердца, его приняли, и стали упрашивать не поставить им того в вину, что не могут угостить его так, как бы желали: «Мы люди бедные!» — говорили они. «Ничего, — отвечал ангел, — я доволен и тем, что есть». Что будешь делать? муки у них не было, чтобы замесить настоящий хлеб; так они толкли древесную кору и из той приготовляли хлеб. Такой-то хлеб замесила теперь хозяйка для своего гостя и посадила в печь. Стали они разговаривать; после глядь — готово ли? а перед ними настоящий хлеб, и такой славный, так поднялся высоко… Увидя то, муж с женой возблагодарили Бога: «Слава тебе, Господи, что можем угостить странника!» Подали хлеб гостю, принесли кувшин с водою, и только стали пить — а в кувшине вино. В то время ангел перекрестил своим посохом хижину, и на том самом месте стал царский дворец, а в нем всего много. Ангел благословил их и оставил там, и прожили они счастливо весь свой век [23].
2. ХРИСТОС-СТРАННИК
a) Однажды Христос и апостол Петр пришли поздно вечером в деревню. Господь хотел искать ночлега в бедной избушке, но св. Петр настаивал, что они могут пойти в один из богатых домов, где во всем достаток. Господь не удерживал его; позволил ему идти, а сам присел подле бедной избушки. Петр отправился в самый что ни на есть богатый дом. «Здесь во всем изобилие, здесь дадут нам добрый ужин и хороший ночлег!» — думал он; но ошибся. Грубо отказала ему хозяйка: «Нет у меня для бродяг ни ужина, ни ночлега!» Рассердился Петр, однако не потерял надежды и пошел в другой дом. И здесь, и в третьем доме получил он точно такой же отказ. С досадою вернулся он наконец к Спасителю. «Пойдем, поищем в этой избушке», — сказал Господь, и оба вошли в хижину. Они застали хозяйку с детьми за столом. Повсюду заметна была нищета. «Ну, хорошо мы будем приняты, — подумал Петр, — у бабы у самой нет ничего!» Но он ошибся. Когда Господь попросил ужина и ночлега, хозяйка-вдова отвечала: «Если вы не побрезгаете тем, что есть у меня, — я очень рада вас угостить». Господь был всем доволен. Вдова тотчас встала и вышла; немного погодя воротилась и принесла чашку супу. Она извинялась, что суп не довольно жирен; она охотно бы приготовила его жирнее, да масла нет. «Петр, — сказал Спаситель, — считай глазки́ [24], что в супе плавают!» Апостол сосчитал глазки; их было более шестидесяти, и то считая непристально. Когда они поели и стали собираться на чердак, где приготовила вдова им постели, Спаситель отсчитал столько же золотых монет, сколько плавало в супе глазков, и подарил их вдове. Бедная женщина не знала, что делать от радости.
Рано утром пошла она в соседний богатый дом за молоком, чтобы изготовить странникам хороший завтрак, и рассказала тамошней хозяйке, как щедро наградили ее странники за плохой суп: они дали столько же золотых монет, сколько плавало в супе глазков. Богатая крестьянка была жадна на деньги. Она сказала вдове, чтобы та ничего не варила для странников, что она сама желает их пригласить, что у ней всего много, и суп может быть изготовлен лучше. Когда передала о том вдова св. Петру и Спасителю, Господь сказал: «Пойдем, Петр!» Они пошли в дом той крестьянки, сопровождаемые благословениями вдовы. Богатая крестьянка приготовила им жирный-жирный суп. «Если они так щедро заплатили за худой суп, — думала она, — то как же заплатят за хороший!» — «Петр, — сказал Господь, — считай глазки, что в супе плавают». — «О Господи! — воскликнул Петр, которому суп показался очень вкусным, — суп так хорош, что весь жир на нем слился в один глаз. Хозяйка заслуживает, чтоб ты вознаградил ее вдвое больше». Уходя, Господь подарил крестьянке только один золотой. Она была недовольна этим, однако Господь не дал ей ничего более: «Сколько глазков, столько и золотых!»
Дорогою осуждал Петр Господа, но Господь сказал: «Петр, не в величине достоинство дара, а в той внутренней цели, с какою он дается. Истинно говорю тебе, что худой суп бедной вдовы в шестьдесят раз более стоит, чем вкусный суп богатой крестьянки».
b) Раз пришел Спаситель в деревню и увидел убогого старика, который со слезами вышел из богатого дома. «О чем ты плачешь, старик?» — спросил Господь. — «О, Господи! — жаловался нищий, — я голоден и не могу выпросить ни кусочка хлеба. Везде бабы трудятся над коноплею; все мне отказывают, говорят: некогда, и ни одна не хочет уделить на столько времени, чтобы отрезать мне ломоть хлеба!»
Господь велел ему обождать и пошел в тот дом, из которого нищий был прогнан. Хозяйка и работницы были заняты делом: они вязали коноплю, чтобы потом ее намочить. Спаситель попросил кусочек хлеба. «Ишь таскаются толпами, один за другим! — заворчала на него крестьянка. — Проваливай! Мне некогда вам прислуживать!» И когда Господь все-таки продолжал просить, говоря, что Бог заплатит ей за то, что сделает она для бедного, раздраженная крестьянка закричала: «Мне не нужно твоей болтовни, и ты ничего не получишь; для твоего удовольствия я не кину работы!» Господь удалился и пошел в другой дом, где не лучше ему посчастливилось. Везде ему отказывали. Тогда Господь сказал крестьянке, к которой обратился с просьбою после всех: «Попомни меня — на будущее время вас ожидает двойная работа за коноплей!» С этими словами он удалился и взял с собой нищего. С того времени приходится бабам дважды дергать коноплю: сначала по́сконь (der männliche Hanf), а после ту, что семена приносит (saathant) [25].
3. НАГРАДА И НАКАЗАНИЕ
В одной деревне жили два соседа; у одного было сто овец, у другого только три. Бедный сказал богатому: «Позволь моим овцам пастись вместе с твоими, тебе ведь это все равно!» Сам же он не имел никакого пастбища. Богатый не хотел было, но после позволил; мальчик бедняка погнал свои три овцы на поле, к соседскому стаду, и остался там заместо пастуха.
Спустя некоторое время случилось, что король прислал к богатому мужику и потребовал от него одной жирной овцы. Мужик не мог отказать королю, но ему тяжело показалось потерять хоть одну из сотни собственных своих овец; поэтому он приказал своим работникам поймать одну из трех овец бедняка и отдать ее королевским слугам. Работники так и сделали. Сын бедняка горько плакал, когда взяли у него и потащили овцу.
Вскоре после того потребовал король у богатого мужика другой овцы; этот опять приказал своим работникам отдать одну из тех, что принадлежали бедному. Так и было, и мальчик еще более плакал, когда увели у него другую овцу. «Король, — подумал он про себя, — скоро потребует еще одну овцу, а работники богатого соседа возьмут у меня и эту последнюю; лучше убраться мне, пока есть время!» Он так и сделал и ушел далеко-далеко на высокую гору; там нашлось довольно корму и свежей воды, и овце его было привольно.
Спустя несколько дней сказал бедный сам себе: «Пойду посмотрю, что делают мои овцы и мальчик!» Когда пришел он к стаду и спросил работников о своем ребенке, они отвечали: «Две из твоих овец отданы нами, по приказанию хозяина, королю; а с последнею ушел куда-то твой мальчик». Бедный стал жаловаться: «Где я теперь его найду?» — говорил он; но тотчас же отправился и пошел искать. Долго не было приметно никакого следа. Он спрашивал у Солнца, не может ли оно указать ему путь-дорогу. К сожалению, Солнце не знало дороги. Наконец он пришел к буйному и свирепому Ветру, и спросил его: не знает ли он, где находится его сын? «Да, я знаю, я отправляюсь туда и охотно возьму тебя с собой!» Тут подхватил его буйный Ветер и в одно мгновение перенес на гору к сыну; мальчик находился в долине, которую никогда не озаряло солнце. Бедный мужик обрадовался, увидя сына и услышав, как он сберег последнюю овцу. «Мы теперь оба останемся здесь, — сказал он, — и будем заботливо за нею смотреть, потому что эта овца составляет все наше богатство!»
Через несколько времени после этого случилось двум странникам взойти на́ горы; они пристали к бедному мужику и расположились на отдых. Это были Христос и св. Петр. «Мы издалека пришли, — сказал Христос, — и так утомлены, так голодны, что, конечно, должны умереть, если не достанем вскоре хотя немного мяса». Бедный почувствовал сострадание и тотчас отвечал: «Я могу вам пособить!» Он быстро отправился, взял свою овцу, убил ее, разложил огонь и приготовил для своих гостей добрый кусок жареного, которое показалось им очень вкусным. После угощения сказал Христос мальчику, чтобы он собрал все кости и положил их в овечью шкуру. Мальчик исполнил, и потом все они вместе легли спать. Ранним утром поднялся Христос с св. Петром, благословили бедняка и его сына и тихо удалились. Когда пробудился мужик с своим мальчиком, он увидел перед собою большое стадо овец; впереди стояла та самая овца, которую он вчера зарезал, совершенно здоровая и бодрая; она держала на лбу запись, в которой было сказано: «Все принадлежит бедному и его сыну!» Три собаки прыгали около них и ласкались. Бедный не мог скрыть своей радости и отправился со стадом домой. Когда он воротился, собралась целая деревня посмотреть на его многочисленных и красивых овец; бедному то и дело приходилось рассказывать, как через двух убогих странников досталось ему такое счастие. Зависть не давала покоя богатому его соседу: «Если так, — думал он, — то я вскоре должен получить еще более!» Он пошел, созвал отовсюду бедных странников и нищих, перебил всех своих овец, нажарил мяса и предложил убогим. Потом старательно собрал все кости: в шкуру каждой овцы положил именно те, которые ей принадлежали, и улегся спать. Он однако не мог заснуть; в мыслях своих он не переставая до самого утра высчитывал, во сколько больше должно быть у него овец, нежели у соседа, потому что он убил целую сотню, а тот только одну. Когда рассвело, он тотчас вскочил, чтобы взглянуть на свое огромное стадо; но перед ним лежали только кости в овечьих шкурах, и ни одна не двигалась и не шевелилась. «А! — подумал богатый, — так я знаю же, отчего эта помеха: надобно, чтобы удалились странники и нищие!» — «Эй, вы бродяги, убирайтесь-ка отсюда!» Солнце уже стояло высоко, но кости все не шевелились, и стадо его не только не умножилось стократ, оно совсем пропало! Жалуясь на потерю всего своего добра, он пошел с проклятиями и утопился.
А бедный сосед стал богат и счастлив; рассказывают, что впоследствии сын его женился на одной королевне [26].
В «Народных русских сказках» (вып. 1, с. 61—70; вып. 2, с. 121—128) напечатана нами легенда о Марке Богатом. Сообщаем еще один вариант:
4. МАРКО БОГАТОЙ
В некоем царстве, в некоем государстве жил-был купец Марко Богатой; казны и всякаго имения было у него столько, что и счесть нельзя! Жил он, веселился, а нищих к себе и на двор не пускал: таков был немилостив.
В одно время приснился ему сон: приготовься-де, Марко Богатой, и ожидай — сам Господь будет к тебе в гости! Поутру встал Марко, призвал жену и велел готовить большой пир; весь двор свой выслал алым бархатом за золотыми парчами и по всем закоулкам расставил батраков и прикащиков, чтобы не пускали никого из нищей братии, а гнали бы взашеи. Вот собрался совсем Марко Богатой и сел поджидать Господа: час ждет, другой ждет — не видать гостя. А нищие как услыхали, что у Марка Богатаго приготовлен большой пир, так и повалили к нему со всех сторон за святым подаянием; только батраки и прикащики никого не пропускают, всех так и гонят взашеи. Вот один убогой старичок, древний-древний, одет весь в рубище, и зашел как-то на Маркин двор. Как увидел его из окна Марко Богатой, закричал он своим громким голосом: «Эй, вы слуги мои — неслухи! али глаз у вас нету? Вишь, какой-то невежа по двору расхаживает; чтоб сейчас его не было!» В ту ж минуту подскочили слуги, подхватили убогаго под руки и вытолкали через задний двор. Увидала убогаго одна добрая старушка и говорит ему: «Пойдем-ко мне, нищенькой! я тебя накормлю, я тебя упокою». Привела его к себе, накормила, напоила, и спать уложила; а Марко Богатой так и не дождался Господа! В самую полночь проснулась хозяйка и слышит — кто-то постучал под окном и спросил: «Праведный старче! ты здесь ночуешь?» — «Здесь», — сказал убогой. — «В такой-то деревне у беднаго мужика родился сын; каким наградишь его счастием?» Отвечал убогой: «Владеть ему всею казною и всем имением Марка Богатаго!» На другой день убогой простился с хозяйкою и пошел странствовать, а старушка сейчас на двор к Марку Богатому и про все ему рассказала [27].
Марко поехал к бедному мужику и выпросил у него мальчика: «Отдай, — говорит, — я возьму его в приёмыши, выростет — добру научу, а как стану умирать — все богатство за ним запишу». Говорит эти речи, а в голове иныя думки. Взял мальчика, поехал домой, и на дороге бросил его в сугроб: пускай-де замерзнет, тогда и увидит, каково влада́ть Маркиной казною! На ту самую пору выехали в поле охотники, гоняли-гоняли за зайцами и наехали на ребенка; взяли его с собою, выростили и уму-разуму наставили. Прошло много лет, много воды утекло; случилось Марку Богатому заехать к тем охотникам; увидал молодаго приёмыша, слово за́ слово, разговорился об нем и узнал, что это тот самой мальчик, котораго он бросил в поле. Стал просить его Марко Богатой: «Сходи, — говорит, — ко мне на́ дом, отнеси к жене письмо». А в письме написал, чтобы его тотчас затравить собаками. Бедный приемыш отправился в путь; идет дорогою, а навстречу ему убогой старик в рубище, а то был не простой нищий — то был сам Христос. Он остановил путника, взял у него письмо и только подержал в руках [28] — как в ту же минуту все сказанное в письме переменилось: жена Марка Богатаго должна принять посланнаго с честию и тотчас женить его на своей дочери. Как написано, так и сделано. Воротился домой Марко Богатой, еще пуще осерчал на зятя, и говорит ему: «Вечером де попозднее сходи на винокурню да посмотри за работою»; а сам приказал работникам: «Как прийдет молодец — сейчас его, не говоря ни слова, бросить в горячий котел». Стал было зять собираться на винокурню, и вдруг ему попритчилось, напала на него такая хворь, что поневоле пришлось дома остаться. А Марко Богатой, выждав время, пошел посмотреть, что сталось с его зятем, и таки прямо попал винокурам в лапы и угодил в горячий котел. (Из собрания В. И. Даля).
Подобный же рассказ находим в издании: Ungarische Volksmärchen» (Nach der aus Georg Gaals Nachlass herausgegeben Urschrift übersetzt von G. Stier, Pesth), № 17, c. 188—193 [29].
Присоединяю еще три легенды о странствовании Спасителя по земле: две — известные между славянских племен и одну — принадлежащую немцам:
5. ПЕВЦЫ
Случилось как-то — Христос и святой Петр странствовали по свету. Пришли они в деревню; здесь в одном доме так хорошо пели, что Господь остановился и заслушался, святой же Петр отправился далее. Пройдя несколько шагов, он оглянулся назад: Христос стоял на прежнем месте. Св. Петр снова пошел дальше; сделав еще несколько шагов, он оглянулся в другой раз: Христос стоял все там же. Снова дальше и дальше пошел св. Петр; пройдя опять несколько, он оглянулся в третий раз, и увидел, что Христос все еще стоял и слушал. Тогда поворотил он назад, и подошел к дому, из которого неслась прекрасная народная песня. Послушали они некоторое время, и двинулись оба в путь; вот подошли к другому дому, где также раздавалось пение. Святой Петр остановился было послушать, но Господь направил свои стопы дальше. Пошел и св. Петр; он был сильно изумлен. «Что так сильно тебя изумило?» — спросил Христос. — «Меня то поразило, — отвечал св. Петр, — что ты остановился там, где пелась народная песня, и проходишь мимо здесь, где поются духовные стихи». Тогда сказал ему Христос: «О мой любимый св. Петр! Там пели народную песню, но сохраняя всевозможное благоговение; здесь же поют духовные стихи, но без малейшего чувства благоговения» [30].
6. АПОСТОЛ ПЕТР
Однажды рядом с Спасителем шел апостол Петр, весь погруженный в думы, вдруг он сказал: «Как хорошо, думаю, быть Богом! Хоть бы мне на полдня сделаться Богом, после я опять готов быть Петром». Господь усмехнулся и сказал: «Пусть будет по твоему желанию, будь Богом до вечера!» Между тем приблизились они к деревне, из которой крестьянка гнала стадо гусей. Она выгнала их на луг, оставила там и поспешила назад в деревню. «Как, ты хочешь оставить гусей одних?» — спросил ее Петр. — «А что, неужли стеречь их и сегодня? У нас нынче храмовый праздник», — возразила крестьянка. — «Но кто же должен беречь твоих гусей?» — спросил Петр. — «Пусть Господь Бог бережет их сегодня!» — сказала крестьянка и удалилась. — «Петр! ты слышал, — сказал Спаситель. — Я бы охотно пошел с тобою в деревню на храмовый праздник; но ведь гусям может приключиться что и худое: ты сегодня Бог до вечера, ты и должен и беречь их». Что оставалось Петру? Хоть ему и досадно было, тем не менее он должен был сторожить гусей; но дал зарок, что никогда более не пожелает быть Богом [31].
7. ГОСПОДЬ И ЦЕРКОВНЫЙ СТАРОСТА
Один церковный староста в набожной заботливости о своей церкви пожертвовал в нее великолепный подсвешник с большою восковою свечею. Тогда явился ему Господь в образе старца и в воздаяние за этот дар обещал, что он трижды возвестит ему о смерти — прежде, нежели отзовет от сего мира. Обрадованный этим староста зажил в роскоши и в весельи, ел и пил, пользовался церковным погребом и вовсе не думал о смерти. Прошло несколько лет, и тело его стало отказываться выносить далее такую жизнь: колени его согнулись, спина сгорбилась, и он был вынужден взяться за костыль; немного погодя он потерял зрение, а потом я слух. Сгорбленный, слепой и глухой он продолжал жить все так же безумно и пышно, как и прежде. Наконец предстал Господь, чтоб взять его от сего мира. Церковный староста был встревожен и смущен; он обратился к Господу с упреками, зачем он трижды не возвестил ему, как сам обещал? Тогда сказал ему Господь в праведном гневе: «Как? я не возвестил тебе? А разве я не ударял тебя сначала по плечу и коленам, так что ты должен был согнуться? Разве я не наложил потом мой перст на твои глаза, так что ты ослеп? Разве напоследок не коснулся я твоих ушей, так что ты потерял слух? Так исполнено все, что я тебе обещал; теперь следуй за мною!» Староста смиренно стал молить о прощении: ему, право, непонятны были эти напоминания, и он не приготовился еще к смертному часу. Кротко взглянул Господь на кающегося грешника и сказал: «Пойдем, пойдем; я не хочу для тебя быть справедливым более, нежели сколько милостивым!» [32].
Легенды
1. Чудесная молотьба
Раз как-то принял на себя Христос вид старичка-нищаго и шел через деревню с двумя апостолами. Время было позднее, к ночи; стал он проситься у богатаго мужика: «Пусти, мужичок, нас переночевать». А мужик-ат богатой говорит: «Много вас попрошаек здесь таскается! Что слоняетесь-та по чужим дворам? Только, чай, и умеете, а небось не работа́ете…» и отказал наотрез. — «Мы и то идем на работу, — говорят странники, — да вот застала нас в дороге ночь тёмная. Пусти, пожалуста! Мы ночуем хоть под лавкою». — «Ну так и быть! Ступайте в избу». Впустили странников; ничем-то их не покормили, ничем-то их не напоили (сам хозяин-та поужинал вместе со своими домашними, а им ничего не́ дал), да и ночевать им довелось под лавкою.
Поутру рано стали хозяйские сыновья собираться хлеб молотить. Вот Спаситель и говорит: «Пустите, мы вам поможем за нос(ч)лег, помолотим за вас». — «Ладно, — сказал мужик, — и давно бы так! Лучше чем попусту без дела слоняться-та!» Вот и пошли молотить. Приходят, Христос и гутарит [33] хозяйским сыновьям: «Ну, вы разметывайте адонье [34], а мы приготовим ток». И стал он с апостолами готовить ток по-своему: не кладут они по одному снопу в ряд, а снопов по пяти, по шести, один на другой, и наклали почитай целое поладонье. «Да вы такие-сякие совсем дела не знаете! — заругались на них хозяева, — зачем наложили такие вороха?» — «Так кладут в нашей стороне; работа, знашь, от того спорее идёт», — сказал Спаситель и зажог покладенные на току снопы. Хозяева ну кричать да браниться, дискать, весь хлеб погубили. Ан погорела одна солома, зерно осталось цело и заблистало в большущих кучах крупное, чистое да такое золотистое!
Воротим(в)шись в избу, сыновья-та и говорят отцу: так и так, батюшка, смолотили, дискать, поладонья. Куда! и не верит! Рассказали ему все, как было; он еще пуще дивится: «Быть не может! от огня зерно пропадёт!» Пошел сам поглядеть: зерно лежало большими кучами да такое крупное, чистое, золотистое — на диво! Вот покормили странников, и остались они еще на одну ночь у мужика.
Наутро Спаситель с апостолами собирается в путь-дорогу, а мужик им гутарит: «Пособите нам еще денек-та!» — «Нет, хозяин, не проси; не́коли, на́дыть идти на работу». А старшо́й хозяйской сын потихоньку и говорит отцу; «Не трожь их, бачка; незамай идут. Мы тапереча и сами знаем, как надыть молотить». Странники попрощались и ушли. Вот мужик-то с детьми своими пошел на гумно; взяли наклали снопов, да и зажгли: думают — сгорит солома, а зерно останется. Ан вышло не так: весь хлеб поняло огнем, да от снопов бросилось по́ломя на разны постройки; начался пожар, да такой страшной, что все до гола́ и погорело!
Примечание к № 1. В издании Вольфа «Zeitschrift für Deutsche Mythologie und Sittenkunde» (т. I, вып. 1, с. 41—42) напечатана совершенно сходная с записанною мною легенда «Wie Petrus dreschen sollte», но с следующим характеристическим дополнением в начале.
Однажды Христос с апостолом Петром, странствуя по земле, пришли поздно вечером к крестьянину и попросились у него переночевать. Мужик пустил их, но с условием, чтобы утром следующего дня пособили ему молотить. Рано проснулся он и велел будить странников и звать на работу. «Petrus wollte hinabsteigen, aber der Herr hiess ihn ruhig liegen bleiben. Da währte dem Bauern die Sache zu lang, er stieg mit einem Stock dit Leiter hinauf und schlug herzhaft auf den Petrus los, welcher vorn lag. Doch als er wieder unten war, hatte er gut warten und rufen, die Fremden kamen nicht. Petrus dachte indessen: «wenn er wieder kommt, soll er mich nicht mehr vorn finden» und verkroch sich hinter den Herrn; der Bauer aber kam zum zweitenmale mit dem Stock, sprach: «der vorn liegt, hat sein Theil, er muss hartschlägig sein, nun gehts an den andern» — und gab dem armen Petrus ein zweites Frühstück, noch kräftiger als das erste» [35].
Следует чудесная молотьба огнем, как и в русской легенде. Когда таинственные странники распростились с хозяином и отправились в свой путь, апостол Петр стал жаловаться на жестокосердие крестьянина; «Оборотись!» — сказал ему Господь. В то время они взошли на холм; апостол взглянул назад: весь двор и изба крестьянина стояли в пламени (см. еще Zeitschrift für Deutsche Mythologie, т. I, вып. 4, с. 471—472; т. II, вып. 1, с. 13—16; т. IV, вып. 1, с. 50—54). Подобный рассказ можно слышать и у нас в некоторых местностях. Приводим здесь вариант, записанный П. И. Якушкиным в Орловском уезде:
В одну зимнюю ненастную ночь шел по дороге Иван Милостивой с двенадцатью апостолами. В поле ночевать было холодно; они и постучались к одному мужику: «Пусти обогреться!» Мужик сначала не хотел пускать их, да потом согласился и пустил с условием, чтобы завтра чуть свет обмолотили ему три копны ржи. Наутро хозяин толкнул Ивана Милостиваго, а он вместе с апостолами лежал на полу: «Пора молотить, собирайтеся!» Толкнул и пошел на двор. Вот апостолы поднялись было и хотели идти на гумно; да Иван Милостивой уговорил их еще немного поспать. Мужик ждал-ждал, нет помощников! Взял кнут, пошел в избу и давай стегать крайняго, а крайний-то был Иван Милостивой. «Полно! — закричал Иван Милостивой, — вслед за тобой иду». Мужик ушел. Апостолы опять было поднялись, но Иван Милостивой снова уговорил их остаться и еще хоть немного отдохнуть. «Будет с него! — молвил он, — отстегал кнутом, теперь больше не прийдет». А у самого на уме: «Как прийдет мужик, опять примется за крайняго!» и залез на самой зад. Мужик ждал-ждал, воротился в избу с кнутом и думает сам с собою: «За что ж я буду бить одного крайняго? Сем-ка примусь за задняго!» — и принялся за Ивана Милостиваго. Только ушел мужик, Иван Милостивой и в третий раз уговорил апостолов не вставать на работу, а сам залез в середину. Вот хозяин ждал-ждал, не дождался, и снова пошел в избу с кнутом; пришел и думает: «Крайнему уже досталось, заднему тоже, примусь-ка теперь за середняго!» И опять-таки досталось Ивану Милостивому. Нечего делать, поднялся он, и сам начал просить апостолов, чтоб шли помогать мужику.
2. Чудо на мельнице
Када-то пришел Христос в худой нищенской одёже на мельницу и стал просить у мельника святую милостыньку. Мельник осерчал: «Ступай, ступай отселева с Богом! Много вас таскается, всех не накормишь!» Так-таки ничего и не́ дал. На ту пору случись — мужичок привез на мельницу смолоть небольшой мешок ржи, увидал нищаго и сжалился: «Подь сюды, я тебе дам». И стал отсыпать ему из мешка хлеб-ат; отсыпал почитай с целую мерку, а нищий все свою кису подставляет. «Что, али еще отсыпать?» — «Да, коли будет ваша милость!» — «Ну, пожалуй!» Отсыпал еще с мерку, а нищий все-таки подставляет свою кису. Отсыпал ему мужичок и в третий раз, и осталось у него у самого зерна так самая малость. «Вот дурак! сколько отдал, — думает мельник, — да я еще за помол возьму; что ж ему-то останется?» Ну, хорошо. Взял он у мужика рожь, засыпал и стал молоть; смотрит: уж много прошло времени, а мука все сыпится, да сыпится! Что за диво! Всего зерна-то было с четверть, а муки намололось четвертей двадцать, да и еще осталось, что молоть: мука себе все сыпится, да сыпится… Мужик не знал, куды и собирать-то!
3. Бедная вдова
a. Давно было — странствовал по земле Христос с двенадцатью апостолами. Шли они раз как бы простые люди, и признать нельзя было, что это Христос и апостолы. Вот пришли они в одну деревню и попросились на нос(ч)лег к богатому мужику [36]. Богатой мужик их не пустил: «Вон там живет вдова, она нищих пускает; ступайте к ней». Попросились они ночевать у вдовы, а вдова была бедная, пребеднеющая! Ничего-то у ней не было; только была махонькая краюшечка хлебца, да с горсточку мучицы; была у ней еще коровка, да и та без молока — не отелилась к тому сроку. «У меня, батюшки, — говорит вдова, — избенка малая, и лечь-то вам негде!» — «Ничего, как-нибудь упокоимся». Приняла вдова странников и не знает, чем напитать их. «Чем же мне покормить вас, родимых, — говорит вдова, — всего-навсего есть у меня одна махонькая краюшечка хлебца да с горсточку мучицы, а корова не привела еще теленочка, и молока нетуть: все жду — вот отелится… Не взыщите на хлебе — на соли!» — «И, бабушка! — сказал Спаситель, — не кручинься, все будем сыты. Давай что есть, мы и хлебушка поедим: все, бабушка, от Бога…» Вот сели они за стол, стали ужинать, одной краюшечкой хлебца все напитались, еще ломтей эва сколько осталось! «Вот, бабушка, ты говорила, что нечем будет накормить, — сказал Спаситель, — гляди-ка, мы все сыты, да и ломти еще остались. Все, бабушка, от Бога…» Переночевали Христос и апостолы у бедной вдовы. Наутро говорит вдова своей невестке: «Подь, поскреби мучицы в закроме; авось наберешь с горсточку на блины, покормить странников». Невестка сходила и несет муки таки порядочную махотку (глиняный горшок). Старуха не надивится, откуда взялось столько; было чуть-чуть, а таперьча и на блины хватило, да еще невестка говорит: «Там в закроме и на другой раз осталось». Напекла вдова блинков и подчует Спасителя и апостолов: «Кушайте, родимые, чем Бог послал…» — «Спасибо, бабушка, спасибо!» [37]
Поели они, попрощались с бедною вдовою и пошли себе в путь. Идут эдак по дороге, а в стороне от них сидит на пригорке серый волк; поклонился он Христу и стал просить себе еды: «Господи, — завыл, — я есть хочу! Господи, я есть хочу!» — «Пойди, — сказал ему Спаситель, — к бедной вдове, съешь у нее корову с теленком». Апостолы усумнились и сказали: «Господи, за что же велел ты зарезать у бедной вдовы корову? Она так ласково приняла и накормила нас; она так радовалась, ожидаючи от своей коровы теленочка: было бы у ней молочко — пропитание на всю семью». — «Так тому быть должно»! — отвечал Спаситель, и пошли они дальше. Волк побежал и зарезал у бедной вдовы корову; как узнала о том старушка, она со смиреньем промолвила: «Бог дал, Бог и взял; его святая воля!»
Вот идут Христос и апостолы, а навстречу им катится по дороге бочка с деньгами [38]. Спаситель и говорит: «Катись, бочка, к богатому мужику [39] во двор!» Апостолы опять усумнилися: «Господи! лучше бы велел ты этой бочке катиться во двор к бедной вдове; у богатаго и так всего много!» — «Так тому быть должно!» — отвечал им Спаситель, и пошли они дальше. А бочка с деньгами прикатилась прямо к богатому мужику во двор; мужик взял, припрятал эти деньги, а сам все недоволен: «Хоть бы еще столько же послал Господь!» — думает про себя. Христос и апостолы идут себе да идут. Вот в полдень стала большая жара, и захотелось апостолам испить. «Иисусе! мы пить хочем», — говорят они Спасителю. — «Ступайте, — сказал Спаситель, — вот по этой дорожке, найдете колодезь и напейтеся».
Апостолы пошли; шли-шли, и видят колодезь. Заглянули в него: там-то срамота́, там-то сквернота́ — жабы, змеи, лягва (лягушки), там-то нехорошо! Апостолы, не напившись, скоро воротились назад к Спасителю. «Что ж испили водицы?» — спросил их Христос. — «Нет, Господи!» — «Отчего?» — «Да ты, Господи, указал нам такой колодезь, что и посмотреть-то в него страшно». Ничего не отвечал им Христос, и пошли они вперед своею дорогою. Шли-шли; апостолы опять говорят Спасителю: «Иисусе! мы пить хочем». Послал их Спаситель в другую сторону: «Вон видете колодезь, ступайте и напейтесь». Апостолы пришли к другому колодезю: там-то хорошо! там-то прекрасно! растут деревья чудесныя, поют птицы райския, так бы и не ушел оттудова! Напились апостолы, — а вода такая чистая, студеная да сладкая! — и воротились назад. «Что так долго не приходили?» — спрашивает их Спаситель. — «Мы только напились, — отвечают апостолы, — да по́были там всего три минуточки». — «Не три минуточки вы там побыли, а целых три года, — сказал Господь. — Каково в первом колодезе — таково худо будет на том свете богатому мужику, а каково у другаго колодезя — таково хорошо будет на том свете бедной вдове!» [40]
(Все три легенды записаны А. Н. Афанасьевым в Воронежской губернии, Бобровском уезде).
b. В давнии времена ходыв по земли Бог и з святым Мыколаем и святым Петром, и уже святый Петро совсим обдерся [41], так, що й не стало на jому ныякого шматя [42]. А Господь каже ему: «Пиды, Петре, та украды соби шматя де-ныбудь на тыну, тай прислухайся — чы буде за те лаяты тебе хозяйка, чы ни?» От св. Петро пишов и покрав повишане на тынови людьскее шматя, и убрався пишов до Бога, тай каже: «Я вже украв шматя, алы ж хозяйка мене за тее не лаяла, а тильки оглядывшысь сказала: нехай jому Бог звыдыть и избачить!» А Бог, выслухав цее, тай каже: «Ну добре, колы так!» От Бог, св. Петро и св. Мыколай вси зашлы в обидранную хату до одной найбиднищой вдовы-мужычки, упросылысь в ней на ничь и сталы спрошуваты: «Чы ныма чого у тебе поисты?» А хозяйка одвичае: «Ныма в мене ничого. Я бидная, хлиб соби заробляю, и тильки маю хлиба — що одын окрайчык на полыци». А Бог до неи каже: «Дай же нам хоть борщу». Вона знов одвичае: «Та ныма у мене ни якой стравы [43] и ничогисынько не варыла». От Бог знов сказав: «Погляды лыш, молодыце, добре в пичи, може чы не найдешь там чого-ныбудь». Вона все-таки не хоче того слухаты, а дали Бог як причыпывся добре до неи: «Таки погляды в пичь, та погляды». От вона, абы витчыпытьця, иде до печи; колы заглянула туда в пичь, аж там богацько всякой всячыны — понава́рывано разной хорошой стравы и варынухи, тай каже вона: «Що це такее на свити значыть, я не топыла, аж богацько есть понаварывано всякой всячыны?» От вона повыньмала все с печи, и вси воны понаjидались, тай полягалы спаты; а хозяйка все не знала, що то Бог прийшов до неи. На другый день вранци Бог, св. Петро и св. Мыколай повставалы, подяковалы гарно [44] хозяйци, тай пишлы дальше, и почулы воны высильне гранье [45]; аж надходять воны туда, колы дывятця, а там высилья у одного богатаго мужыка. От св. Мыколай каже: «Господы мылостывый! ходим же и мы на те высилья, чы не дадут и нам по чарци горилки та чого поjисты?» А Бог каже: «Добре, ходым». От воны пишлы туда замисть старцив, буцим [46] просыты мылостыни, а богатый хозяин теи хаты оглянувшысь до ных, тай знов став частуваты за столом своих высильных гостей, богатых хозяинив, а дали став гукаты на свою жинку: «а дай лыш там старцям мылостыни». А жинка jого — така в убраньи, щой куды! — закрычала сердыто: «Ты гляды своих людей, що частуешь [47], и не оглядайся до старцив; бо як ты принадыш сых дидив [48], то й не будуть через ных двери зачынятьця!» [49] Дали погодывши, той хозяин як оглянувшись побачыв, що довго старци стоят в хати, та нагумонив [50] добре на свою жинку, — аж тоди вона дала тым старцям по маленький чароци горилки и по шматочку хлиба, тай выпроводыла их за двери. От Бог з св. Петром и Мыколаем идучи звиттыля [51], тай каже Бог: «Ну тай богатый же цей чоловик, що мы булы в нёго на высильи, алы ж и крепко вин скупый, a jого жинка ище гирше (пуще) скупища и дуже велыка злоедныця, та и обое воны не вмиют в счастьи шануватысь [52]и не хотят помогаты другым бидным людям». От Бог з св. Петром и Мыколаем пишлы шляхом [53] и на поли полягалы спочываты, аж прибиг до ных вовк, тай просыть Бога: «Дай мини, Господы, що поjисты; бо я цилые сутки нычого не jив, и дуже охляв [54] з голоду». Бог выслухав цее, тай говорыть: «Пиды, вовче, в село; там есть найбиднища вдова-мужычка, що мы в неи ночувалы; у неи есть одна тильки ряба корова, то визьмы ту корову тай изъjиж». А св. Мыколай начав просыть Бога: «Господы милостивый! нащо ж обиждаты бидную вдову, нехай вовк не бере в неи послиднёй коровы, бо вона буде гирько плакать и мучытьця; а лучше нехай вовк возме яку-ныбудь скотыну у того богатыря [55], де мы булы на высильи, бо вин богатый чоловик та ще й дуже скупый». А Бог каже: «Не можно так! нехай возме корову у самой теи бидной вдовы; нехай вона до время плаче та гирько бидуе [56], бо вона на сим свити талану не мае». От вовк побиг до неи, а воны полягалы спаты. Св. Мыколай и став жаловаты бидной вдовы, тай начав вин придумуваты, як бы ухытрытьця и помогты для неи, а дали надумав и подывывся, що Бог уже спыть (а Бог все знае, та навмысне буцим [57] спыть), от св. Мыколай взяв та мерщий [58] побиг на впереймы [59] вовка другою стороною, щоб вмазаты вдовыну корову болотом [60], щоб та корова була чорна, а не ряба, щоб не зъjив jіи вовк. И як прибиг туды св. Мыколай, от скорийще болотом и обмазав ту корову, так що вона зробылась чорна, тай зараз вернувся назад до Бога. А Бог скоро встав буцим ничого не знае, и каже до св. Петра и Мыколая: «А що вставайте уже, та ходым». И тильки що хотилы воны идты дальше, аж знов прибиг до ных той самый вовк и каже: «Ныма, Господы, у теи бидной вдовы рябой коровы, а тильки есть у неи одна чорна». От Бог все уже знае, тай каже: «Ну так изъjиж ту чорну корову». А св. Мыколай бачить, що ничого не вдие [61], тай замовчав. От вовк побиг до чорной коровы, а Бог з Петром и Мыколаем началы идты шляхом. От идуть воны та идуть, аж катытьця против ных бочка, а св. Мыколай пытае: «Що це таке, Господы, катытьця и куды?» Господь одвичае: «Це катытьця бочка с сребром и златом до того богатыря, що мы булы у нёго на высильи, бо такий jого талан и така jого доля; алы все jого счастя буде на сим свити!» А св. Мыколай давай просить, каже: «Господы мылостывый, удилы ж с цей бочки або з макитерку [62] для теи бидной вдовы, де мы ночувалы; в неи ж вовк и послиднюю корову зъjив». А Бог одвичае: «Ни, того не можно! бо цей талан дан одному тильки тому богатырови». От св. Мыколай вже замовчав, и началы идты дальше; ишли та ишли, аж св. Мыколай захотив дуже пыты воды тай каже: «Ах, як мыни хочетця пыть!» А Бог говорыть jому: «Колысь я проходыв чрез оцей яр, що недалеко вид нас выдно, там я бачыв крыныцю [63]. Иды туда, тай напьешся воды». Колы пишов св. Мыколай туда в яр, аж там коло крыныци побачыв такого богацько темнаго та сираго страшеннаго гаду, такого сердытаго, що аж кышыть; от вин злякався [64] дуже тай насылу зваттыля утик [65]. А Бог пытае: «Чого ты, Мыколаю, так ныначе злякався, аж поблиднив с переполоху [66], и мабудь [67] не пыв воды?» А св. Мыколай одвичае: «Не мог я напытьця, та ще й як побачыв, що там есть такого богацько страшеннаго гаду, то насылу я звиттыля утик». От Бог выслухав цее тай сказав: «Ну, ходым же дали!». И прошли воны дальше з пятыро гин [68], або бильше, тай Бог знов каже до св. Мыколая: «Иды у цей другый ярок, там повная буде крыныця; го вже там напьесся воды». От св. Мыколай пишов туда; колы надходыть в той яр, яж там побачыв такий ще гиршый гад, та такого ж jого превелыкая сыла и дуже богацько, та ще й далеко злищий, як попереду бачыв, так що ныначе горыть трава. И св. Мыколай завсим перелякався та побилив, и насилу велыку звиттыль утик, так ныначе на jому волосья и одежа загорилася! И прийшов до Бога тай с переляху [69] насылу рассказав, що не можно там напытысь воды, бо ще й гиршей там есть гад и далеко злищий от першого гаду, що вин бачыв попереду. А Бог каже: «Ну колы так, то ходым же дальше». От воны пошлы дальше и довго ишлы, аж побачылы вдали третий ярок ныначе с садком; тай Бог каже: «Ну иды ж, Мыколаю, в той ярок, де бачыш — садок выдно, а вже там певне [70]напьесся воды». Колы св. Мыколай пишов туда, аж там такая прихорошая крыныця з пригожою водою, а над тею крыныцею и скризь там такии разнии, прихорошии, пахнючии цвиткы та ягоды, яблуки, хвыги, мындалы, розынкы [71] и всякая овощь, а птыци так хороше спивают та щебечуть разными голосами, и таке все там занымательне, що й сказаты и пропысаты не можно. От св. Мыколай не знав, що й робыты, чы воду пыты, чы любоватыся та приглядуватысь; напьетця трохы пахнючой воды, тай оставыть пыты, та все разглядае. И вин трычи так потро́хы пыт тую воду, та все разглядував, и не щувся [72] — що вин не в примиту пробув там цилых тры рокы [73], як ныначе одну мынуту там був. Аж приходыть туды Господь Бог тай каже jому: «Що це ты, Мыколаю, так довго тут сыдыш, що прошло тому тры рокы, як ты пишов сюды пыть воды?» И каже Бог: «А я тебе не дождався тай покынув, и далеко уже я выходыв с пивсвита, покы знов до тебе вернувся». От св. Мыколай выслухавши цее, тай одвичае: «Господы мылостывый! що це таке значыть, що коло переднищых двох крыныць, куды я попереду ходыв пыть воды, есть там богацько страшеннаго гаду, що й прыступыть страшно; а тутынька в третим яру так дуже прихорошая крыныця з водою и все тутынька росте дуже гарная пахнючая всякая всячина, що й не можно налюбоватысь и наслухатьця птычаго щебетаня, що й любуйся, прислухайся тай ще того хочитця?» А Бог одвичае jому: «Оце ж знай, що переднищый яр, де ты бачыв богацько злого страшнаго гаду, то тее мисто называитця пеклом и воно опредиляно для того богатыря, що мы булы у нёго на высильи, а другий яр, де есть еще гирший пристрашенный гад, то также притотовано пекло для жинки того же богача, бо jого жинка ище гирша вид свого чоловика [74]; а як воны не вмилы в счастии жыты, добре шановатысь, и не хотилы помогаты бидным людям, то за тее по смерти будуть вично мучытьця в тых пеклах. А оце третий яр, де ты, Мыколаю, пыв воду, тай довго так тут забарывся [75] через тее, що тутынька дуже хороше называетця рай, опредиляный для теи бидной вдовы, що мы в неи ночувалы, бо вона на сим свити цилый вик гирько бидовала, терпила та плакала, но буда добрая жинка и честна́я, — то за тее по смерти буде маты в сим раю вичное прибогатое счастье. От бачь, як то робытця; будь добрый чоловиче, не вповай на земнее счастье, та любы бидных и старайся, небоже, — то, як кажуть, Бог в сим и будущим вику поможе!».
(Записана в Васильковском уезде Киевской губернии; из собрания В. И. Даля).
Примечание к № 3. В этой легенде замечательно представление о будущей жизни, предназначенной для добродетельных и злых. (См. также легенду «Пустынник» под № 21). Первых ожидает такое полное блаженство, что время для них как бы перестанет существовать; год пролетит, как единая минута. То же представление встречаем и в других народных сказаниях (см. варианты к легенде «Христов братец»). Валахская легенда (Walachische Märchen, № 2) рассказывает о девочке, которую взяла с собою Св. Дева. «Где ты была?» — спрашивает ее однажды Св. Дева. — «Я пробыла один день в раю», — отвечает девочка. — «Не один день, а целый год пробыла ты!» В другой раз повторяет свой вопрос Св. Дева: «Где ты была?» — «Я пробыла один час в раю». — «Не час, а три человеческих жизни». В третий раз спрашивает Св. Дева, и на ответ девочки: «Я на мгновение побывала на небе» — замечает: «Ошибаешься, дитя! не мгновенье, а полвечности пробыла ты в жилище блаженных». (Сличи с рассказом, напечатанным в Српск. народ. приповиjетк., № 17, с. 113—114.) На одной лубочной картине изображено сказание о старце, который молил Бога, чтобы даровал ему изведать сладость блаженства праведных; Бог услышал его молитву: раз старец заслушался пения райской птички; слушал, слушал, и триста лет пронеслись для него как три часа. У народов романских есть такое же предание о пустыннике, который заслушался в лесу соловья, впал в сладкое забытье на целые сто лет, и когда очнулся — все для него было ново и незнакомо.
В легенде о «Бедной вдове» рассказывается чудо, как Господь одною малою краюшкою хлеба накормил двенадцать апостолов, и еще ломти остались. Для сравнения с этим сказанием приводим следующее любопытное место из легенды Christus in der Bauershütte, записанной в Буковине: Христос посетил хижину крестьянина. Здесь встретила его совершенная нищета. Маленькие дети с плачем просили у матери хлеба, но у бедной женщины не было ни крошки. В горе она развела на очаге огонь, принесла со двора кусок коровьего навозу (Kuhmist) и посадила его в печь, чтобы хоть этим утолить детский голод. Через полчаса вынула она стряпню; но как изумилась, когда увидела, что коровий навоз превратился в прекрасный питательный хлеб! Стала крестьянка оделять своих детей, — и совершилось другое чудо: как много ни отламывала она от хлеба, всякий раз столько же вновь его вырастало. Не оставалось более сомнения, что гостем ее был сам Господь; она пала к стопам Спасителя и пролила благодарные слезы (Zeitschrift für Deutsche Mythologie…, Т. I, вып. 4, с. 472).
4. Исцеление
Вот видишь ли, скажу тваёй миласти, был адин священник бяднеющий, пребяднеющий. Приход ли у нево был больна (очень) малый, али как тебе сказать, правду молвить: што иное, толька, слыш, все малился Богу, кабы в достатке-та быть пасправнее. Вот он все малился, ды малился, день и ночь малился, и Николу миласливава прасил всё, кабы справица. Ан нет — лих! не дает Бог ему счастья. Вот он пашол и́з дому, куды глаза глядят: шол-шол, всё шол, и увидал он: возля дароги сидят двоя с сумками, как и он пешие — ну, знаш, присели атдахнуть. Адин-ат малодинькай с бароткай, а другой-ят сединькай старичок. Адин-ат, знаш, был сам Христос, а другой-ят Никола миласливай. Вот он абрадавался, патшол к ним и гаварит: «Ну, братцы! вы, как и я же, пешком идете? кто вы дискать таковы?». Ани ему сказали: «Мы ворожецы, знахари, и варажить умеем и лечим». — «Ну слыш, нельзя ли вам взять и меня с сабою». — «Пайдем, — гаварят ему, — толька матряй (смотри) всё поравну делить». — «Знама дела, што поравну». Вот эвтим делам-та и пашли ани все троя вмести. Шли ани, шли, устали и зашли начавать в избушку. Поп-ат все у себя с вечеру съел, што, знаш, была у нево съеснова. А у Христа с Николай миласливым была адна лиш прасвирачка, и ту палажили ани на полачку у абразов да другова дни. Наутро поп встал; захателась ему есть, он взял украт(д)кай ту прасвирачку и съел. Христос-ат схватился прасвирачки, ан-лих нет ее! «Хто, слыш, маю прасвирачку съел?» — гаварит папу. Он запёрся, сказал: «Знать не знаю, я не ел». Вот так таму делу и быть. Встали, вышли из избушки и пашли апять; шли ани, шли, и пришли в адин го́рат. Вот малодинькай с бароткай знахарь, знаш — Христос-ат и гаварит: «В эвтам гараду у багатава де барина есть бальная дочь; нихто не смох её излечить, айда́те-ка [76] мы к нему». Пришли ани к таму барину, стали стучатца у нево пад акном: «Пусти-ка нас; мы, слыш, вылечим тваю дочь». Вот пустили их. Дал им тот барин лечить сваю дочь; ани взяли её и павели в баню. Привели в баню, и Христос-ат всеё её разрезал на части: ана и не слыхала, и не плакала, и не кричала. Разрезал на части её, взял и перемыл всеё на́ всеё в трёх вадах. Перемыл в трёх вадах и слажил её всеё вмести па-прежняму, как была. Слажил вмести, и спрыснул раз — ана сраслась; спрыснул в другой — она пашевелилась; спрыснул в третий — ана встала. Привели ее к атцу; ана, знаш, и гаварит: «Я ва всём здарова па-прежняму». Вот барин тот их вдоваль сыто на́ сыто всем накармил и напаил. Поп ел, ел, насилу с места встал, а те, знаш, Христос-ат ды Никола миласливай, немношка закусили, и сыты. Вот пасля́ барин-ат аткрыл им сундук с деньгами: «Ну, слыш, берите, сколька душе вашей угодна». Вот Христос взял горсточку, ды Никола миласливай другую; а поп начал савать везде себе, и в карманы, и за пазуху, и в суму, и в сапоги — и́льно [77] везде была по́лна.
Вот эвтим делам-та пашли ани апять в дорогу; шли, шли, и пришли к речке. Христос с Наколай миласливым разом перешли легоханька, а поп-ат с деньгами шол-шол по ваде-та и начал была тануть. С другова-та берегу Христос с Николай миласливым кричат ему: «Брось, брось деньги! брось, слыш, деньги! а то утонишь». — «Нет, — гаварит, — хоть утану, а их не брошу». — «Брось, брось деньги! а то захлебнёшься, помрёшь». — «Нет, умру — не брошу!» — гаварит поп, и каё-как перебрёл он с деньгами-та через речку. И сели все троя на бережок. Христос-ат и гаварит папу: «Давай деньги-та делить». А поп не дает: «Эвта маи деньги! Вы што не брали себе больше? Я чуть бы́ла не утанул с ними, а вы гаварили: брось их». — «А угавор-ат, — сказал Христос, — вить лутча дених». Вот поп стал выкладывать сваи деньги в кучу, и Христос с Николай миласливым слажили сваи́ туды жа. Вот эвтим делам-та стал Христос делить деньги и класть на четыре кучки, на четыре доли. Поп-ат гаварит: «Нас де троя; каму кладешь ты ищо четвертую долю?» — «Четвертая доля таму, — гаварит Христос, — хто маю прасвирачку съел». — «Я, слыш, ее съел!» — патхватил поп. Вот Христос-ат с Николай миласливым усмехнулись. «Ну, кали ты маю прасвирачку съел, так вот тебе эвти две кучки дених. Да вот и маю вазьми себе же», — гаварит Христос. — «И маю, слыш, кучку возьми себе», — гаварит Никола миласливай. — «Ну, таперь у тебя многа дених! Ступай дамой, а мы пайдём адни».
Поп-ат взял все деньги и пашол адин. Пашол, знаш, и думает: чем, дискать, мне дамой идти, лутча пойду я адин лечить; я теперь сумею — видел, как лечут. Вот он шол-шол, пришол в го́рат и проситца к аднаму багатаму купцу: узнал, знаш, што у нево есть дочь бальная, и нихто её не мох излечить. Проситца к багатаму купцу: «Пустите меня, я вашу бальную дочь вылечу». Пустили ево. Он, знаш, уверил их, што вылечит. Ну харашо, так таму делу и быть: вылечит, так вылечит! Вот выпрасил он бальшой нош(ж) вострай; и павёл бальную в баню, и начал её резать на части: знаш, видел — как Христос-ат резал. Только ну-ка кричать эвта бальная; кричала, кричала, што ни есть мочи! «Не кричи, слыш, не кричи, будишь здорова!» Вот изрезал её за́мертво на части и начал её перемывать в трёх вадах. Перемыл и начал складывать апять, как была́ па-прежняму; ан-лих не складывается ана па-прежняму. Вот он мучился, мучился над нею, каё-как слажил. Слажил и спрыснул раз — ан, слыш, ана не срастаетца; спрыснул в другой — нет толку; спрыснул в третий — всё, знаш, бе́з толку. «Ну, беда моя! прапал я таперь! угажу на висилицу, либа матряй в Сибирь и на каторгу!» Начал плакать и мали́тца Богу и Николе миласливаму, штоп(б) паслали ему апять тех знахарей. И видит в акошка, што идут к нему в баню те знахари: малодинькай с бароткой и сединькай старичок. Вот как абрадавался им! Бух им в ноги: «Батюшки маи! будьте атцы радные! взялся я лечить па-вашему, да не выходит…» И эвти знахари апять, знаш, были Христос и Никола миласливай. Взашли, усмехнулись и гаварят: «Ты больна скора выучился лечить-та!» Вот Христос-ат взял мертваю всеё по частям перемыл, ды и слажил. Слажил, знаш, па-прежняму, как была, и спрыснул раз — ана сраслась, спрыснул в другой — ана пашевелилась, спрыснул в третий — ана встала. Вот поп-ат перекрестился: «Ну, слава тебе, Господи! уш(ж) вот как рат(д) — сказать нельзя!» — «Вазьми, — сказал Христос, — атведи её таперь к отцу; ды матряй, больше не лечи! — крепко-накрепко наказал ему, — а не то прападёшь!» Вот знахари те: Христос и Никола миласливай пашли са двара, а поп-ат привёл её к атцу: «Я её, слыш, излечил». Дочь сказала атцу, што ана таперь здарова па-прежняму. Купец ну-ка ево паить, кармить, угаваривать, штоп астался он у нево-та. «Нет, не астанусь!» Вот купец ему дених дал вдоваль, лошать с павоскай, и поп уш пряма паехал дамой и палажил зарок, што лечить таперь не станет.
(Записана в Чистопольском уезде Казанской губернии).
5. Поп — завидущие глаза
В приходе святаго Николы жил один поп. У этого попа глаза были самые поповские. Служил он Николе несколько лет, до того дослужил, что не осталось у него ни кола, ни двора, ни хлеба, ни приюта. Собрал наш поп все ключи церковные, увидел икону Николы, с горя ударил его по плеши ключами и пошел из своего прихода, куда глаза глядят. Шел он путем-дорогой. Вдруг па́лся (попался) ему на стрету (навстречу) незна́мой человек. «Здраствуй, доброй человек! — сказал он попу. — Куда идешь и откуда? Возьми меня к себе в товарищи». Вот и пошли они вместя́х. Шли, шли они несколько верст, приустали; пора отдохнуть. У попа было в рясе немного сухариков, а у принятаго товарища две просвирки. Поп говорит ему: «Давай съедим прежде твои просвирки, а там примемся и за сухари». — «Ладно, — говорит ему незнамый, — съедим просвирки мои, а твои сухари оставим на-после». Вот они ели-ели просвирки; оба наелись досыта, а просвирки не убывали. Попу стало завидно. «Сем-ка, — думает он, — я у него украду их». Старичек после обеда лег одохнуть, а поп все смекает, как бы украсть у него просвирки. Заснул старичек. Поп стянул у него из кармана просвирки; сидит да ест втихомолку. Проснулся старичек, хватился просвирок своих — нету их! «Где мои просвирки? — вскричал он, — кто съел их? ты, поп?» — «Нет, право не я, — сказал ему поп. — Ну ладно!»
Вот встряхнулись они, пошли опять путем-дорогой. Идут, идут; вдруг дорога рассекается на две ро́сстани [78]. Вот они пошли оба в одну сторону. Дошли до какого-то царства. В этом царстве у царя была дочь при смерти, и царь объявил, что кто вылечит его дочь, тому полжитья́-полбытья́-полцарства, а не вылечит — голова с плеч, на тычинку повесят. Вот они пришли; против царскаго дворца палируютсе, до́хтурами называются. Выходили из царскаго дворца слуги и спрашивали их: «Что вы за́ люди? из каких родов, из каких городов? что вам на́доть?» — «Мы, — говорят они, — дохтуры; можем царевну вылечить». — «Ну, коли дохтуры, заходите в палату». Вот они вошли в палату, поглядели царевну, попросили у царя особой избы, обре́за воды, вострой сабли, большаго стола. Царь всё это дал им. Заперлись они в особую избу, клали царевну на большой, стол, рассекали её вострой саблей на мелкия части, кидали в обрез с водой, мыли, полоскали; потом стали складывать штука к штуке; как старичек дунет, так штука с штукой и склеиваются. Склал он все штуки как надоть, в последний раз дунул — царевна встрепенулась и встала жива и здрава. Приходит сам царь к избе и́хной и говорит: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!» — «Аминь!» — отвечают ему. — «Вылечили-ль царевну?» — спрашивает царь. — «Вылечили, — говорят дохтуры, — вот она!» Царевна вышла к царю жива и здрава. Царь говорит дохтурам: «Что хотите вы от добра́? злата ли, серебра ли? берите». Вот они начали брать злато и серебро; старичек берё пя́сточкой [79], а поп горсточкой и все кладёт в сумку свою; покладёт, покладёт, да поприздыма́ёт [80]: заберёт ли его могута́ [81]. Потом они распростились с царем и пошли. Старичек говорит попу: «Эти деньги мы в землю складём, а сами опять лечить пойдём». Вот они шли, шли; дошли опять до другаго царства. В этом царстве у царя была тоже при смерти дочь, и царь объявил, что кто вылечит его дочь, тому полжитья-полбытья-полцарства, а не вылечит — голова с плеч, на тычинку повесят. Вот они пришли; против царскаго дворца палируютсе, дохтурами называются… (Повторяется слово в слово тот же рассказ об излечении царевны).
Приходят они опять в третие царство, в котором тоже царевна при смерти, и царь обещал тому, кто ее вылечит, полжитья-полбытья-полцарства, не вылечит — голова с плеч, на тычинку повесят. Завиднаго попа мучит лукавый: как бы не сказать старичку, а вылечить одному, серебро и злато захватить одному бы? Против царских ворот ходит поп, палируется, дохтуром называется. Таким же образом просит у царя особой избы, обреза воды, большаго стола, вострой сабли. Заперся он в особую избу, клал царевну на стол, рубил вострой саблей, и как царевна ни крычала, как ни визжала, поп не глядя ни на крык, ни на визг, знай рубит да рубит, словно говядину. Разрубил он ее на мелкия части, скидал в обрез, мыл, полоскал, склал штука к штуке, также как делал старичек; глядит, как будут склеиваться все штуки. Как дунет — так нет ничего! опять дунет — хуже того! Вот поп ну опять складывать штуки в воду; мыл-мыл, полоскал-полоскал, и опять приложил штука к штуке; дунет — всё нет ничего! «Ахти мнециньки! — думает поп, — беда!» Поутру приходит царь и видит: никаких нет успехов у дохтура; всё тело смешал с дрянью. Царь велел дохтура в петлю. Взмолился наш поп: «Царь, вольной человек! оставь меня на мало время: я сбегаю за старичком, он вылечит царевну». Побег поп старичка искать; нашел старичка, и говорит: «Старичек! виноват я окаянный; попутал меня бес: хотел я один вылечить у царя дочь, да не мог; хотят меня вешать. Помоги мне!» Пошел старичек с попом. Повели попа в петлю. Старичек говорит попу: «Поп, а кто съел мои просвирки?» — «Право не я, ей-Богу, не я!» Взвели его на другую ступеньку. Старичек говорит попу: «Поп, а кто съел мои просвирки?» — «Право, не я, ей-Богу! не я!» Взвели на третью, опять: «Не я!» Сейчас голову в петлю, и всё: «Не я!» Ну, нечего делать! Старичек говорит царю: «Царь, вольной человек! позволь мне царевну вылечить; а если не вылечу, вели вешать другую петлю: мне петля и попу петля!». Вот старичек склал куски тела царевнина штука к штуке, дунул — и царевна встала жива и здрава. Царь наградил их обоих серебром и златом. «Пойдем же, поп, деньги делить», — сказал старик. Пошли. Склали все деньги на три кучки. Поп глядит: «Как же! нас двое, кому же третья-то часть?» — «А это тому, — сказал старичек, — кто съел у меня просвирки». — «Я съел, старичек!» — вскрычал поп; право я, ей-Богу я!» — «Ну, на́ тебе и деньги, да возьми и мои. Служи верно в своем приходе, не жадничай, да не бей ключами Николу по плеши», — сказал старичек и вдруг стал невидим [82].
(Записана в Шенкурском уезде Архангельской губернии, г-ном Н. Борисовым).
Примечание к № 4 и 5. В собрании народных сказок В. И. Даля находится еще следующий список этой интересной легенды:
Жил-был поп; приход был у него большой и богатой, набрал он много денег и понес прятать в церковь; пришел туда, поднял половицу и спрятал. Только пономарь и подсмотри это; вынул потихоньку поповския деньги и забрал себе все до единой копейки. Прошло с неделю; захотелось попу посмотреть на свое добро; пошел в церковь приподнял половицу, глядь — а денег-то нету! Ударился поп в большую печаль; с горя и домой не воротился, а пустился странствовать по белу свету — куды глаза глядят.
Вот шел он, шел, и повстречал Николу-угодника; в то время еще святые отцы по земле ходили и всякия болезни исцеляли. «Здра(в)ствуй, старче!» — говорит поп. — «Здраствуй! куда Бог несет?» — «Иду, куды глаза глядят!» — «Пойдем вместе». — «А ты кто таков?» — «Я Божий странник». — «Ну, пойдем». Пошли вместе по одной дороге; идут день, идут и другой; все приели, что у них было. Оставалась у Николы-угодника одна просвирка; поп утащил ее ночью и съел [83]. «Не́ взял ли ты мою просвирку?» — спрашивает поутру Никола-угодник у попа. — «Нет, говорит; я ее и в глаза не видал!» — «Ой взял! признайся, брат». Поп заклялся-забожился, что не брал просвиры.
«Пойдем теперь в эту сторону, — сказал Никола-угодник, — там есть барин, три года беснуется, и никто не может его вылечить; возьмемся-ка мы лечить». — «Что я за лекарь! — отвечает поп, — я этого дела не знаю». — «Ничего, я знаю; ты ступай за мной; что я буду говорить — то и ты говори». Вот пришли они к барину. «Что вы за́ люди?» — спрашивают их. — «Мы знахари», — отвечает Никола-угодник. — «Мы знахари», — повторяет за ним поп. — «Умеете лечить?» — «Умеем», — говорит Никола-угодник. — «Умеем», — повторяет поп. — «Ну, лечите барина». Никола-угодник приказал истопить баню, и привести туда больнаго. Говорит Никола-угодник попу: «Руби ему правую руку». — «На что рубить?» — «Не твое дело! руби прочь». Поп отрубил барину правую руку. «Руби теперь левую ногу». Поп отрубил и левую ногу. «Клади в котел и мешай». Поп положил в котел и давай мешать. Тем временем посылает барыня своего слугу: «Поди, посмотри, что там над барином деется?». Слуга сбегал в баню, посмотрел и докладывает, что знахари разрубили барина на части и варят в котле. Тут барыня крепко осерчала, приказала поставить виселицу и долго не мешкая повесить обоих знахарей. Поставили виселицу и повели их вешать. Испугался поп, божится, что он никогда не бывал знахарем и за леченье не брался, а виноват во всем один его товарищ. «Кто вас разберет! вы вместе лечили». — «Послушай, — говорит попу Никола-угодник, — последний час твой приходит, скажи перед смертью: ведь ты украл у меня просвиру?» — «Нет, — уверяет поп, — я ее не брал». — «Так-таки не брал?» — «Ей-Богу не брал!» — «Пусть будет по-твоему». — «Постойте, — говорит слугам, — вон идет ваш барин». Слуги оглянулись, и видят: точно идет барин, и совершенно здоровой [84]. Барыня тому обрадовалась, наградила лекарей деньгами и отпустила на все четыре стороны.
Вот они шли-шли и очутились в другом государстве; видят — по всей стране печаль великая, и узнают, что у тамошняго царя дочь беснуется. «Пойдем царевну лечить», — говорит поп. — «Нет, брат, царевны не вылечишь». — «Ничего, я стану лечить, а ты ступай за мной; что я буду говорить — то и ты говори». Пришли во дворец. «Что вы за люди?» — спрашивает стража. — «Мы знахари, — говорит поп, — хотим царевну лечить». Доложили царю; царь по́звал их перед себя и спрашивает: «Точно ли вы знахари?» — «Точно знахари», — отвечает поп. — «Знахари», — повторяет за ним Никола-угодник. — «И берётесь царевну вылечить?» — «Берёмся», — отвечает поп. — «Берёмся», — повторяет Никола-угодник. — «Ну, лечите». Заставил поп истопить баню и привесть туда царевну. Как сказал он, так и сделали: привели царевну в баню. «Руби, старик, ей правую руку», — говорит поп. Никола-угодник отрубил царевне правую руку. «Руби теперь левую ногу». Отрубил и левую ногу. «Клади в котел и мешай». Положил в котел и принялся мешать. Посылает царь узнать, что сталося с царевною. Как доложили ему, что сталося с царевною — гневен и страшен сделался царь, в ту ж минуту приказал поставить виселицу и повесить обоих знахарей. Повели их на виселицу. «Смотри же, — говорит попу Никола-угодник, — теперь ты был лекарем, ты один и отвечай». — «Какой я лекарь!» — и стал сваливать свою вину на старика, божится и клянется, что старик всему злу затейщик, а он не причастен. «Что их разбирать! — сказал царь, — вешайте обоих». Взялись за попа за перваго; вот уж петлю готовят. «Послушай, — говорит Никола-угодник, — скажи перед смертию: ведь ты украл просвиру?» — «Нет, ей-Богу не брал!» — «Признайся, — упрашивает, — коли признаешься — сейчас царевна встанет здоровою, и тебе ничего не будет». — «Ну, право же, не брал!» Уж надели на попа петлю и хотят подымать. «Постойте, — говорит Никола-угодник, — вон ваша царевна». Смотрят — идет она совсем здоровая, как ни в чем не бывала. Царь велел наградить знахарей из своей казны и отпустить с миром. Стали оделять их казною; поп набил себе полные карманы, а Никола-угодник взял одну горсточку.
Вот пошли они в путь-дорогу; шли-шли, и остановились отдыхать. «Вынимай свои деньги, — говорит Никола-угодник, — посмотрим, у кого больше». Сказал и высыпал свою горсть; за́чал высыпать и поп свои деньги. Только у Николы-угодника куча все ростет да ростет, все ростет да ростет; а попова куча нимало не прибавляется. Видит поп, что у него меньше денег, и говорит: «Давай делиться». — «Давай!» — отвечает Никола-угодник, и разделил деньги на три части: «Эта часть пусть будет моя, эта твоя, а третья тому, кто просвиру украл». — «Да ведь просвиру-то я украл», — говорит поп. — «Эка какой ты жадной! два раза вешать хотели — и то не покаялся, а теперь за деньги признался! Не хочу с тобой странствовать, возьми свое добро и ступай один, куда знаешь».
В некоторых деревнях эта самая легенда рассказывается с тою отменою, что вместо Николы-угодника странствует с попом сам Господь в образе старца.
В издании немецких сказок братьев Гримм (ч. I, № 81: «Bruder Lustig», ч. III, с. 129—131) подобная же легенда рассказывает о странствовании апостола Петра вместе с солдатом. Св. Петр исцеляет больных и воскрешает королевну: когда привели его к одру усопшей, он приказал принесть котел воды и выслал из комнаты всех домашних. Тогда рознял он все члены умершей на составные части, побросал их в воду, развел под котлом огонь, и стал варить, пока все мясо не отделилось от костей. Затем белые кости были вынуты на стол; апостол сложил их вместе в том порядке, какой назначен самою природою, и трижды сказал: «Восстань во имя всемогущей Троицы!». Королевна восстала живою, здравою и прекрасною.
Как в русской легенде поп не признается, что съел просвиру, так в немецкой — солдат, что съел сердце жареного ягненка.
Смотри примечание к легенде под № 30 и сличи с легендой, напечатанной в сборнике: «Westslawischer Märchenschatz», с. 88—89.
6. Превращение
Жиў адзин багаты чалавек, други бедны; багаты — банкет [85], бедны ниц (ничего) не меў. Прыходзиць да багатаго дзед и просицца на́ нач, дый каже: «Гаспадарок (хозяин), мой галубок! ци пусьциў бы ты мене на нач?» Iон ниц не даў яму́, да й гордо атказаў: «У мене, — каже, — никали не начавали ни убогие, ни бедные, ни падарожные; дак и ты не будзеш начавац. Идзи ў тую хату, што небам пакрыта; там заўсіоды начуюць бедные, убогие и падарожные, то и ты там будзешь начаваць. Цебе там пусьцяць!». Старик каже: «Гаспадарок, мой галубок! пакажы, гдзе тая хата, што небам пакрыта?». Гаспадар вышоў паказываць: «Да вон дзе тая хата небам пакрыта, гдзе начуюць бедные, убогие и падарожные; там и цебе пусьцяць». Дак дзед пагладзиў (погладил) гаспадара па галаве, и той гаспадар стаў каніом.
Просицца дзед у беднаго на нач и каже: «Гаспадарок, мой галубок! пусьци мене на нач». — «Можно, дзедку! у мене начуюць убогие, бедные и падарожные». — «Кали, гаспадарок, я з'каніом». Дак іон каже: «Дзедку! у мене поставиць нима гдзе, и сена нима, чаго даць яму́ есць». Дзед каже: «Я б на дваре паставиў, кастрыцы [86] падкинуў, дак и будзе есць!». Дак бедны повіоў каня и паставиў на дваре, а дзед пашоў сам ў хату. Назаўтра, яд дзед адхадзиў, каже: «Дарую я табе гэтаго каня на твае сирацтво» [87]. Гаспадар зачау яму́ дзякаваць [88], и каже да жонки: «Жонко! возьміом и вывазим хату». И вывазили хату [89].
Апяць прышоў дзед на́ нач, дак той гаспадар не пусьциў. «Я той самы стары, а ты мене не пазнаў!» И узяў изноў погладзиў таго каня па галаве, и стаў іон человеком; а бедны без каня зноў зробиўся бедным.
(Записана в Новогрудском уезде Гродненской губернии, старшим учителем Новогрудского дворянского училища М. Дмитриевым).
7. Пиво и хлеб
В некотором царстве, в некотором государство жил-был богатой крестьянин; много у него было и денег и хлеба. И давал он по всей деревне бедным мужичкам взаймы: деньги давал из процентов, а коли даст хлеба, то весь сполна возврати на лето, да сверх того за каждый четверик два дня ему проработай на́ поле. Вот раз случилось: подходит храмовой праздник и стали мужички варить к празднику пиво; только в этой самой деревне был один мужик да такой бедной, что скудней его во всем околодке не было. Сидит он вечером, накануне праздника, в своей избёнке с женою и думает: «Что делать? люди добрые станут гулять, веселиться; а у нас в доме нет ни куска хлеба! Пошел бы к богачу попросить в долг, да ведь не поверит; да и что с меня, горемычнаго, взять после?» Подумал-подумал, приподнялся с лавки, стал перед образом и вздохнул тяжелёхонько. «Господи! — говорит, — прости меня грешнаго; и масла-та купить не на что, чтоб лампадку перед иконую затеплить к празднику!» Вот немного погодя приходит к нему в избушку старец: «Здравствуй, хозяин!» — «Здорово, старичек!» — «Нельзя ль у тебя переночевать?» — «Для́ чего нельзя! ночуй, коли угодно; только у меня, родимой, нет ни куска в доме, и покормить тебя нечем». — «Ничего, хозяин! у меня есть с собой три кусочка хлебушка, и ты дай ковшик водицы: вот я хлебцем-то закушу, а водицей прихлебну — тем сыт и буду». Сел старик на лавку и говорит: «Что хозяин, так приуныл? о чем запечалился?» — «Эх, старина! — отвечает хозяин, — как не тужить мне? Вот дал Бог — дождались мы праздника, люди добрые станут радоваться и веселиться, а у нас с женою хоть шаром покати, — кругом пусто!» — «Ну, что ж, — говорит старик, пойди к богатому мужику, да попроси у него в долг что надо». — «Нет, не пойду; все равно не даст!» — «Ступай, — пристает старик, — иди смело и проси у него четверик солоду; мы с тобой пива наварим». — «Э, старичек! теперича поздно; когда тут пиво варить? вить праздник-то завтра». — «Уж я тебе сказываю: ступай к богатому мужику и проси четверик солоду; он тебе сразу даст! небось, не откажет! А завтра к обеду такое пиво у нас будет, какого во всей деревне никогда не бывало!» Нечего делать, собрался бедняк, взял мешок под мышку и пошел к богатому. Приходит к нему в избу, кланяется, величает по имени и отчеству, и просит взаём четверик солоду: хочу-де к празднику пива сварить. «Что ж ты прежде-та думал! — говорит ему богатой. — Когда теперича варить? вить до праздника всего-навсего одна ночь осталась». — «Ничего, родимой! — отвечает бедной, — коли милость твоя будет, мы как-нибудь сварим себе с женою, будем вдвоем пить да величать праздник». Богатой на́брал ему четверик солоду и насыпал в мешок; бедной поднял мешок на плечи и понёс домой. Воротился и рассказал, как и что было. «Ну хозяин! — молвил старик, — будет и у тебя праздник. А что, есть ли на твоем дворе колодезь?» — «Есть», — говорит мужик. — «Ну, вот мы в твоем колодезе и наварим пива; бери мешок да ступай за мною». Вышли они на двор, и прямо к колодезю. «Высыпай-ка сюда!» — говорит старик. — «Как можно такое добро в колодезь сыпать! — отвечает хозяин, — только один четверик и есть, да и тот задаром должо́н пропасть! Хорошаго ничего мы не сделаем, только воду смутим». — «Слушай меня, все хорошо будет!» Что делать, вывалил хозяин в колодезь весь свой солод. «Ну, — сказал старец, — была вода в колодезе, сделайся за ночь пивом!.. Теперь, хозяин, пойдем в избу да ляжем спать, — утро мудренее вечера; а завтра к обеду поспеет такое пиво, что с одного стакана пьян будешь». Вот дождались утра; подходит время к обеду, старик и говорит: «Ну, хозяин! теперича доставай ты побольше ушатов, станови кругом колодезя и наливай пивом полнёхоньки, да и зови всех, кого ни завидишь, пить пиво похмельное». Бросился мужик по соседям. «На что тебе ушаты понадобились?» — спрашивают его. — «Оченно, — говорит, — нужно; не во что пива сливать». Вздивовались соседи: что такое значит! не с ума ли он спятил? куска хлеба нет в доме, а еще о пиве хлопочет! Вот хорошо, набрал мужик ушатов двадцать, поставил кругом колодезя и стал наливать — и такое сделалось пиво, что ни вздумать, ни взгадать, только в сказке сказать! Налил все ушаты полным-полнёхоньки, а в колодезе словно ничего не убыло. И стал он кричать, гостей на двор зазывать: «Эй, православные! пожалуйте ко мне пить пиво похмельное; вот пиво — так пиво!». Смотрит народ, что за диво такое? вишь налил из колодезя воды, а зовет на пиво; да(й)-ка зайдем, посмотрим, на каку́ это хитрость он поднялся? Вот повалили мужики к ушатам, стали черпать ковшиком, пиво пробовать; оченно показалось им это пиво: «Отродясь-де такого не пивали!». И нашло народу полон двор. А хозяин не жалеет, знай себе черпает из колодезя да всех сплошь и угощает. Услыхал про то богатый мужик, пришел к бедному на двор, попробовал пива, и зачал просить беднаго: «Научи-де меня, какой хитростью сотворил ты эдакое пиво?» — «Да тут нет никакой хитрости, — отвечал бедной, — дело самое простое, — как принёс я от тебя четверик солоду, так прямо и высыпал его в колодезь: была-де вода сделайся за ночь пивом!» — «Ну, хорошо же! — думает богатой, — только ворочусь домой, так и сделаю». Вот приходит он домой и приказывает своим работникам таскать из анбара самой что ни есть лучший солод и сыпать в колодезь. Как взялись работники таскать из анбара, и впёрли в колодезь кулей десять солоду. «Ну, — думает богатой, — пиво-то у меня будет получше, чем у беднаго!» Вот на другое утро вышел богатой на двор и поскорей к колодезю, почерпнул и смотрит: как была вода — так и есть вода! только мутнее стала. «Что такое! должно быть мало солоду положили; надо прибавить», — думает богатой и велел своим работникам еще кулей пять ввалить в колодезь. Высыпали они и в другой раз; не тут-то было, ничего не помогает, весь солод задаром пропал. Да как прошел праздник, и у беднаго осталась в колодезе только сущая вода; пива все равно как не бывало.
Опять приходит старец к бедному мужику и спрашивает: «Послушай, хозяин! сеял ли ты хлеб-ат нынешним годом?» — «Нет, дедушка, ни зерна не сеял!» — «Ну ступай же теперича опять к богатому мужику и проси у него по четверику всякаго хлеба; мы с тобой поедем на поле да и посеем». — «Как теперича сеять? — отвечает бедной, — ведь на дворе зима трескучая!» — «Не твоя забота! делай, что приказываю. Наварил тебе пива, насею и хлеба!» Собрался бедной, пошел опять к богатому и выпросил у него в долг по четверику всякаго зерна. Воротился и говорит старику: «Все готово, дедушка!» Вот вышли они на поле, разыскали по приметам мужикову полосу — и давай разбрасывать зерно по белому снегу. Все разбросали. «Теперича, — сказал старик бедному, — ступай домой и дожидай лета: будешь и ты с хлебом!» Только пришел бедной мужик в свою деревню, как проведали про него все крестьяне, что он сере́дь зимы хлеб сеял; смеются с него — да и только: «Эка он, сердечной, хватился когда сеять! осенью небось не догадался!» Ну, хорошо; дождалися весны, сделалась теплынь, снега растаяли, и пошли зеленые всходы. «Да(й)-ка, — вздумал бедной, — пойду — посмотрю, что на моей земле делается». Приходит на свою полосу, смотрит, а там такие всходы, что душа не нарадуется! На чужих десятинах и вполовину не так хороши. «Слава тебе, Господи! — говорит мужик, — теперича и я поправлюсь». Вот пришло время жатвы; начали добрые люди убирать с поля хлеб. Собрался и бедной, хлопочет с своею женою, и никак не сможет управиться; принужден созывать к себе на жнитво рабочий народ и отдавать свой хлеб из половины. Дивуются все мужики бедному: земли он не пахал, сеял середь зимы, а хлеб у него вырос такой славной. Управился бедной мужик и зажил себе без нужды; коли что надо по хозяйству — поедет он в город, продаст хлеба четверть, другую, и купит что знает; а долг свой богатому мужику сполна заплатил. Вот богатой и думает: «Да(й)-ка и я зимой посею; авось и на моей полосе уродится такой же славный хлеб». Дождался того самаго дня, в которой сеял бедной мужик прошлым годом, навалил в сани несколько четвертей разнаго хлеба, выехал в поле и давай сеять по́ снегу. Засеял все поле; только поднялась к ночи погода, подули сильные ветры и свеяли с его земли все зерно на чужия полосы. Во и весна красна; пошел богатый на поле и видит: пусто и голо на его земле, ни одного всхода не видать, а возле, на чужих полосах, где ни пахано, ни сеяно, поднялись такие зеленя́, что любо-дорого! И раздумался богатой: «Господи, много издержал я на семена — всё нет толку; а вот у моих должников ни пахано, ни сеяно — а хлеб сам собой растет! Должно быть, я — великой грешник!»
(Из собрания В. И. Даля).
8. Христов братец
Один старик, умирая, завещал своему сыну, чтобы он не забывал нищих. Вот на Светлый день собрался он в церковь и взял с собой красных яиц христосоваться с нищией братией, хоть и крепко забранилась на него мать, — а была она злая, к бедным немилостивая. В церкви не достало ему одного яйца: оставался еще один сра́мной нищий, и позвал его парень на́ дом к себе разговеться. Как увидала мать нищаго, больно осерчала: «Лучше, — говорит, — со псом разговеться, нежели с таким срамным стариком!» — и не стала разговляться. Вот сын со стариком разговелись и пошли отдохнуть. И видит сын: на старике одёжонка плохинькая, а крест как жар горит. «Давай, — говорит старец, — крестами меняться; будь ты мне брат крестовый!» — «Нет, брат! — отвечает парень, — коли я захочу — так куплю себе эдакой крест, а тебе негде взять». Однако старик уговорил парня поменяться и позвал его к себе в гости во вторник на Святой. «А дорога, — говорит, — вон ступай по той дорожке; скажи только: благослови, Господи! — так и дойдешь до меня».
Вот в самый вторник вышел парень на тропинку, сказал: «Благослови, Господи!» — и пустился в путь-дорогу. Прошел немного — и слышит детские голоса: «Христов братец, скажи об нас Христу — долго ли нам мучиться?» Прошел еще немного — и видит: девицы из колодца в колодец воду переливают. «Христов братец, — говорят оне ему, — скажи об нас Христу — долго ли нам мучиться?» Идёт он дальше — и видит тын, а под тем тыном виднеются старики; всех илом занесло! И говорят они: «Христов братец, скажи об нас Христу — долго ли нам мучиться?» Идёт все дальше и дальше — и вот усмотрел того самаго старца, с которым вместе он разговлялся. Старец у него спрашивает: «Не видал ли чего по дороге?» Парень рассказал ему все, как было. «Ну, узнал ли ты меня?» — говорит старец, — и только тут узнал мужик, что это был сам Господь Иисус Христос. «За что ж, Господи, младенцы мучатся?» — «Их мать во чреве прокляла, им в рай и пройти нельзя!» — «А девицы?» — «Оне молоком торговали, в молоко воду мешали; теперь весь век будут оне переливать воду!» — «А старики?» — «Как жили они на белом свете, так говорили: только бы на этом свете хорошо пожить, а на том всё равно — хоть тын нами подпирай! Вот они весь век и будут стоять под тыном». Потом повёл Христос мужика по раю и сказал, что тут и ему место уготовано (мужику и выйдти оттудова не хотелось!). А после повёл его к аду, и сидит в аду мать мужика; он и стал просить Христа: «Помилуй ее, Господи!» Повелел ему Христос свить наперёд веревку из кострики. Мужик свил веревку из кострики: видно уж Господь так дал! Приносит ко Христу. «Ну, — говорит он, — ты вил эту веревку тридцать лет, довольно потрудился за свою мать — вытащи ее из ада». Сын кинул веревку к матери, а та сидит в смоле кипучей. Веревка не горит — так Бог дал! Сын совсем было вытащил свою мать, уж за голову ее схватил, да она как крикнет на него: «Ах ты, борзой кобель, совсем было удавил!» — веревка оборвалась, и полетела грешница опять в смолу кипучую. «Не хотела она, — сказал Христос, — и тут воздержать своего сердца: пусть же сидит в аду веки вечные!»
(Доставлена от П. В. Киреевского).
Примечание к № 8. Варианты из собрания В. И. Даля:
a) Был-жил некий царь, ко всем ласковый, к нищим милостивый. Раз на праздник Светлаго Воскресения послал он своего слугу на перекресток: «Кто ни пройдет — всякаго проси со мной разговеться». Долго стоял слуга на перекрестке, не проходило ни одного странника; подождал еще немного, и видит: тащится нищий — весь в гнойных ранах. Взял его с собою и привел во дворец. Нищий поздравил царя и царицу с праздником, похристосовался с ними и подошел было к царской матери, да она не захотела с ним христосоваться, отвернулась и давай корить царя: «Чтоб тебе с ним подавиться! нашел с кем разгавливаться… и еда-то на ум не пойдет!» — «Кушай одна, матушка! коли с нами не хочешь», — сказал царь, — и усадил нищаго за стол; и сам сел с царицею, и все слуги сели, и разговелись вместе. После обеда уложил царь нищаго на своей постеле отдохнуть немножко. А там пришло время, стал нищий прощаться и зовет царя к себе в гости: «Я-де за тобой коня пришлю». Царь дал ему свое царское слово.
На другой день откуда ни возьмись славной конь, прибежал к самому дворцу, ударил в ворота копытами — ворота растворилися, подошел к крыльцу и стал, как вкопанный. Царь сел на него и поехал, куда конь повёз. Вот едет он путем-дорогою незнаемою и видит: бегает человек за пичужкою и никак не может поймать ее. «Царь, — говорит ему тот человек, — ты едешь до Господа Бога; спроси про меня грешнаго, дольго ль мне мучиться?» Едет царь все дальше и дальше; вот стоит в поле изба, а в избе бегает человек из угла в угол и кричит: «Ох, тесно! ох, тесно!» — «Сядь на лавку, — говорит ему царь, — и не будет тесно». — «Не могу, целый век так бегаю. Ты едешь до Господа Бога; спроси про меня грешнаго, долго ль мне мучиться?». Подъезжает царь к синему морю; стоит в воде человек по самыя уста и кричит: «Ох, пить хочу! ох, пить хочу!» — «Что кричишь? — спрашивает царь, — раскрой уста — вода сама побежит в рот». — «Нет, — отвечает, — вода мне не дастся, она прочь побежит. Ты вот едешь до Господа Бога; помяни ему про меня грешнаго» [90].
Переехал царь море — и встречает его тот самый нищий, что с ним разгавливался: «Милости просим в родительский дом!» — говорит царю, и повел его в золотой дворец, из золотаго дворца в сады райские. Привел в один сад: «Вот здесь, — говорит, — тебе место уготовано — за то, что странных принимаешь, алчущих питаешь и жаждущих напояешь». Привел в другой сад: «Вот здесь твоей царице уготовано место — за то, что тебя на истинный путь наставляет и нищию братью не покидает». Привел к третьему месту, где смола кипит, и червь шипит; «А здесь, — говорит, — уготовано место твоей матери немилостивой. Вложи туда свой палец». Царь всунул палец в кипучую смолу — и он в тож мгновенье отпал от руки. «Вот твой палец, возьми его с собою, и ступай с миром домой». Тут царь припомнил и рассказал все, что видел по дороге. Отвечал ему Господь: «Видел ты, как гоняет человек за пичужкою, — то гоняет он за своим грехом; другой бегает из угла в угол — за то, что не обогревал и не покоил странников, и чрез него многие зимой померзали; третий стоит в воде по самыя уста, а напиться не может — за то, что сам не поил жаждущих» [91].
Воротился царь домой, и показалось ему, что был он в раю всего три часа, а пробыл там не три часа, а три года. Рассказал он обо всем царице и матери, вынул свой отвалившийся палец, и только приставил к прежнему месту — как он тотчас прирос, будто век не отпадал. Тут мать покаялась: «Сын мой возлюбленный! прости меня грешную; твое похождение дороже моего рождения».
(Записана в Саратовской губернии).
b) Был-жил купец с купчихою — оба скупы и к нищим немилостивы. Был у них сын, и задумали они его женить. Сосватали невесту и сыграли свадьбу. «Послушай, друг! — говорит молодая мужу, — от свадьбы нашей осталось много напеченаго и наваренаго; прикажи все это скласть на́ воз и развезти по бедным: пусть кушают за наше здоровье». Купеческой сын сейчас позвал прикащика, и все, что от пира осталось, велел раздать нищим. Как узнали про то отец и мать, больно осерчали они на сына и сноху. «Эдак, пожалуй, раздадут все имение!» — и прогнали их и́з дому. Пошел сын со своей женою, куда глаза глядят. Шли, шли, и приходят в густой темной лес. Набрели на хижину — стоит пустая — и остались в ней жить.
Прошло время немалое, наступил великой пост; вот уже и пост подходит к концу. «Жена! — говорит купеческой сын, — я пойду в лес, не удастся ли застрелить какой птицы, чтоб было чем на праздник разговеться». — «Ступай!» — говорит жена. Долго ходил он по́ лесу, не видал ни одной птицы; стал ворочаться домой и увидал — лежит человеческая голова, вся в червях. Взял он эту голову, положил в сумку и принес к жене. Она тотчас обмыла ее, очистила и положила в угол под образа. Ночью под самый праздник засветили они перед иконами восковую свечу и зачали Богу молиться, а как настало время быть заутрене, подошел купеческой сын к жене и говорит: «Христос воскресе!» Жена отвечает: «Воистинну воскресе!» И голова отвечает: «Воистинну воскресе!» Говорит он и в другой, и в третий раз: «Христос воскресе!» — и отвечает ему голова: «Воистинну воскресе!» Смотрит он со страхом и трепетом: оборотилась голова седым старцем. И говорит ему старец: «Будь ты моим меньшим братом; приезжай ко мне завтра, я пришлю за тобой крылатаго коня». Сказал и исчез.
На другой день стоит перед хижиной крылатый конь. «Это брат за мной прислал», — говорит купеческой сын, сел на коня и пустился в дорогу. Приехал, и встречает его старец. «Гуляй у меня по всем садам, — сказал он, — ходи по всем горницам; только не ходи в эту, что печатью запечатана». Вот купеческой сын ходил-гулял по всем садам, по всем горницам; подошел наконец к той, что печатью запечатана, и не вытерпел: «Дай посмотрю, что там такое!» Отворил дверь и вошел; смотрит — стоят два котла кипучие; заглянул в один, а в котле сидит отец его и бьется оттуда выпрыгнуть; схватил его сын за бороду и стал вытаскивать, но сколько ни силился, не мог вытащить; только борода в руках осталась. Заглянул в другой котел, а там мать его мучится. Жалко ему стало, схватил ее за косу и давай тащить; но опять сколько ни силился, ничего не сделал; только коса в руках осталась. И узнал он тогда, что это не старец, а сам Господь назвал его меньшим братом. Воротился он к нему, пал к стопам и молил о прощении, что нарушил заповедь и побывал в запретной комнате. Господь простил его и отпустил назад, на крылатом коне. Воротился домой купеческой сын, а жена и говорит ему: «Что так долго гостил у брата?» — «Как долго! всего одни сутки пробыл». — «Не одни сутки, а целых три года!» С тех пор они еще милосерднее стали к нищей братии.
c) В одном селе жил мужик, у него был сын — доброй да набожной. Раз отпросился он у отца и отправился на богомолье. Шел-шел и пришел к избушке, а в той избушке стоит старичек на коленях и Богу молится. Усмотрел его старец и спрашивает: «Кто ты таков и куда путь держишь?» — «Крестьянской сын, иду на богомолье». — «Иди сюда, давай вместе молиться». Стали они рядом перед святою иконою и долго-долго молились Богу. Окончили молитву; старец и говорит: «Давай теперь побратаемся». Побратались они; распрощались и пошли всякой своею дорогою.
Только воротился крестьянской сын домой, отец вздумал женить его; сосватал невесту и велит под венец идти. «Батюшка, — говорит крестьянской сын, позволь мне весь век свой Богу служить; я жениться не хочу». Отец и слышать того не хочет: ступай, да и ступай под венец. Вот он подумал-подумал и ушел из родительскаго дому. Идет путем-дорогою, а навстречу ему тот самой старец, с которым он побратался. Взял его за руку и привел к себе в сад. И показалось крестьянскому сыну, что побыл он здесь только три минуточки; а был он в саду не три минуточки, а триста годов. Как воротился в свое село, смотрит — и церковь уже не та, и люди другие. Стал спрашивать у священника: где же прежняя церковь и где такие-то люди? «Этого я не запомню», — говорит священник. — «Где же та невеста, от которой жених из-под венца ушел?» Справился священник по книгам и сказывает: «Это уж давным давно было, назад тому триста лет». Потом расспросил он крестьянскаго сына, кто он таков и откуда явился; а как узнал обо всем, велел причетникам обедню служить: «Это, — говорит, — меньшой брат Христов!» Стала обедня отходить, начал крестьянский сын умаляться; окончилась обедня — и его не стало.
(Записана в Зубцовском уезде Тверской губернии).
В приведенных нами легендах особенно любопытны указания на те мучения, которые ожидают грешников за гробом. Эти народные поверья запечатлены отчасти тем же вещественным характером, который так ярко отразился в лубочных картинах, изображающих страшный суд и смерть грешника. Неразвитый ум и огрубелое чувство простолюдина не в силах представить себе, чтобы муки душевные могли быть нестерпимее телесных, и он убежден, что за тяжкие грехи посадят его в котел с кипящей смолой, повесят за язык, ребро или за́ ногу, станут мучить на огненном ложе (см. № 27 «Кумова кровать»), бить раскаленными железными прутьями; верит, что клеветник и лгун будут по смерти лизать горячую сковороду, что на опойцах черти станут возить дрова и воду (см. № 29 «Горькой пьяница»), что любодейницу будут сосать лютые змеи (см. стих о грешной матери — в собрании Киреевского, в Чтен. Общ. Ист. и Др. Росс, год 3-й, № 9, стр. 212—213). Поселяне рассказывают, что во время обмирания (летаргического сна) душа человека, руководимая Николаем-угодником, странствует на том свете по аду и раю, видит там своих родных и знакомых, обреченных на муку и страдание или блаженствующих в райских садах. Обмиравшая душа может передавать повесть своего странствия в назидание живущим; запрещается ей сказывать только три какие-то таинственные слова. Г-н Кулиш собрал в одно целое несколько таких рассказов о хождении души по тому свету, — рассказов, исполненных поэтических образов и некоторыми своими подробностями приближающихся к напечатанным нами легендам (Записки о Южной Руси, т. I, с. 306—308):
«Идемо́, повествует обмиравшая старушка, коли́-ж гризу́тця два собаки над шля́хом, так гризутця, так гризутця! А дід и ка́же: се не собаки, се два брати́, що погри́злись та й поби́лись, идучи́ сте́пом; то Бог и сказав: коли́ вже й рідні брати́ бъю́тця, то де ж бу́де те добро́ між людьми́? Нехай же, каже, ста́нуть вони́ собаками и грызутця.
Идемо, аж хо́дять воли́ в тако́му спашу́, що й рiг невидно с трави́, а самі худі, худі, як до́шка. А біля́ іх ходят воли по самій землі ні трави́нки під ногами нема́, да жир аж по землі тиліпа́етця. От дід и каже: оце́, що худи́і воли, то то бога́ті лю́де, що жили́ самі в ро́скоші, а бідним не помага́ли; а си́тіи воли, то то бідні люде, що од свого́ ро́та одийма́ли та старця́м из посліднёго дава́ли. От же вони тепе́р и си́ті й напо́ені, а ти́і по ро́ги в спашу́, та худі, як дошка [92].
Идемо, аж між двома́ дуба́ми горить у по́ломъі чоловік и кричить: ой, про́бі! укри́йте мене́, бо заме́рзну! ой укрийте мене, бо замерзну! Дід и каже: оце́ той чоловік, що проси́вся до ёго́ зімою в ха́ту подоро́жній, а на дворі була́ мете́лиця та хуртови́на, а він не пусти́в, дак той и зме́рз під ти́ном. Оце́ ж тепер він гори́ть у поломъі, а ёму́ ще здае́тця, що хо́лодно, и терпи́ть він таку́ му́ку, як той подорожній терпів од моро́зу.
Идемо дальш, коли лежи́т чоловік коло крини́ці; тече ёму рівча́к через рот, а він кричить: пробі! дайте напи́тьця! пробі! дайте напитьця! Дід и каже: сей не дав чоловікові в жнива́ води́ напитьця, жав він на ни́ві, аж иде́ ста́рчик доро́гою, а жара́ вели́ка, Спа́сівська. Ой, каже, чоловіче до́брий! дай ради Христа, води напитьця! А він ёму: оце́ ж для те́бе вивіз! Ви́ллю на ниву, а не дам такому дармоіду, як ти! То от, тепер ёму рівчак через горло біжить, вин ще пить просить, и до віку вичного бу́де ёму́ так жарко да тя́жко, як тому старцеві, що йшов дорогою [93].
Идемо, аж кипить у смоли жінка, а перед не́ю цибу́лька лежить. Дід и каже: се му́читця так ма́ти ва́шого старо́го ти́таря Они́сима, що було́ все старців году́е та бідним помога́е, а ніко́ли жо́дноі душі не обідив и ні в одному сло́ві не збреха́в. Була́ вона́ богата та скна́ра, що од неі ніхто й хліба куска́ не ба́чив. Ото раз полола вона цибулю, аж иде поуз воръе́ дід-старец. Подари, каже, пані-ма́тко, ради Христа! Вона ви́рвала стрілку: прийми́, каже, старче Божий. Тілько ж од неі й ба́чили. От, як уме́рла… взяли́ іí небо́гу та й потягли́ в пе́кло. А Онисим и побачив з неба, що вона велику му́ку прийма́е, та й каже: Боже мій милий, Спасе мій Христе! за всю мою щи́рость, за всю мою правду, зроби́ мині таку́ ла́ску — неха́й и моя ма́ти бу́де в раю зо мною. А Христос и рече ёму́: Нi Онисиме! ве́льми грішна твоя мати. Візьми́ хи́ба оту́ цибульку, що лежит перед нею, та коли ви́тягнеш іí с тиі бездни, то нехай и вона буде в раю с тобою. Узяв він тую стрілочку та й пода́в матері. Схопи́лась вона за не́і… от, от витягне, от, от витягне, с пе́кла! бо що-то Божому святому? Аж ні: як поначіплювались ій и в пла́хту, и в намитку гришниі души, що б и собі с того пекла ви́братьця, то й не зде́ржала тая цибулька: перерва́лась, а вона так и бо́втнула в гаря́чу смо́лу!»
У сербов существует следующий рассказ о загробном странствовании:
«Расскажи мне, что видел?» — спрашивает старик. — «Видел я, — отвечает странник, — серебряный мост; под ним огромный котел, в том котле кипят людские головы, а поверх носятся орлы и терзают их своими клювами». — «Такова вечная мука на том свете! Что еще видел?» — «После того проходил я селом, и со всех сторон слышались мне радостные песни и веселье. Спросил я: отчего у вас так весело? От того, сказали, что у нас урожай и во всем изобилие». — «То люди — Божии, всякого готовы были напитать и угостить, и ни один бедняк не отходил от их избы без милостыни». — «Дальше видел я: на дороге две суки грызутся, хотел их разнять, и никак не мог». — «Это две снохи. Что потом было?» — «Проходил я другим селом, и везде видел печаль и слезы. Отчего у вас так жалостно?» — спросил я. — «От того, — мне отвечали, — что град побил наши нивы, и нет теперь ничего». — «То живут люди, незнавшие правды». — «Видел я потом: два борова бьются; всячески хотел их развести и не мог». — «Это несогласные братья. Что еще тебе виделось?» — «Был я на чудном лугу; три дни простоял бы там, да все глядел бы на его красу». — «Таков рай на том свете, но трудно до него дойти».
(См. Српске народив приповиjетке, с. 111—114).
9. Егорий Храбрый
Как во граде, во Ерусалиме, При царе было, при Федоре, При царице было, при Софее, Породила она Федору три дочери, Еще четвертаго Егория Харабраго. Выходит из той земли, из жидовския, Жидовския, босурманския, Ца́рища Мартемьянища. Полонил он у Федора три дочери, Еще четвертаго Егория Харабраго. Злодей-ца́рища Мартемьянища Святому Егорию глаголует: «Ох ты гой еси, Егорий Харабрый свет! Ты не веруй самому Христу, Самому Христу, царю небесному; А ты веруй сатане-врагу со диаволом». Святой Егорий глаголует: Я не верую сатане-врагу, Сатане-врагу со диаволом; А я верую самому Христу, Самому Христу, царю небесному!» Злодей-ца́рища Мартемьянища На святаго Егория осержается, На святое тело опаляется, На святое тело на Егорьево: Повелел Егория в топоры рубить, Не добре Егория топоры берут, У топоров лезвея посломалися От святаго тела Егорьева. Злодей-ца́рища Мартемьянища Святому Егорию глаголует: «Ох ты гой еси, Егорий Харабрый свет! Ты не веруй самому Христу, Самому Христу, царю небесному; А ты веруй сатане-врагу, Сатане-врагу со диаволом», Святой Егорий глаголует: «Я не верую сатане-врагу, Сатане-врагу со диаволом; А я верую самому Христу, Самому Христу, царю небесному!» Злодей-ца́рища Мартемьянища На святаго Егория осержается. На святое тело опаляется, На святое тело на Егорьево: Повелел Егория во смоле варить. Не добре Егория смола берет, И поверх смолы Егорий плавает, Сам стихи поет херувимские, Он гласы гласит все евангельские, Злодей-ца́рища Мартемьянища На святаго Егория осержается, На святое тело опаляется, На святое тело на Егорьево: Повелел Егория во пилы пилить. Не добре Егория пилы берут, У пил зубья поломалися От святаго тела от Егорьева. Злодей-ца́рища Мартемьянища На святаго Егория осержается, На святое тело опаляется, На святое тело на Егорьево: Повелел Егорию сапоги ковать железные, Становить на плиты на чугунныя, на каленыя, Не добре Егория сапоги берут, В сапогах стоит — Сам стихи поет херувимские, А гласы гласит все евангельские. Злодей-ца́рища Мартемьянища Святому Егорию глаголует: «Ох ты гой еси, Егорий Харабрый свет! Ты не веруй самому Христу, Самому Христу, царю небесному; А ты веруй сатане-врагу, Сатане-врагу со диаволом». Святой Егорий глаголует: «Я не верую сатане-врагу со диаволом, А я верую самому Христу, Самому Христу, царю небесному!» Злодей-ца́рища Мартемьянища На святаго Егория осержается, На святое тело опаляется, На святое тело на Егорьево: Повелел Егорию погреба копать, Погреба копать ему глубокие — Длины погреб сорок сажень, Ширины погреб тридцать сажень, Глубины погреб двадцать сажень; Сади́л Егория во глубокий погреб, А сам, собака, приговаривает: «Не бывать Егорию па святой Руси, Не видать Егорию солнца краснаго, Не слыхать Егорию будет звону колокольнаго, Не слыхать Егорию будет четья, петья [94] церковнаго!» Защитил он щитом дубовым, Задвига́л он досками чугунными, Засыпа́л он песками рудожолтыми. Как по Божиему повелению, по Егорьеву умолению Подымалися ветры буйные со святой Руси, Со святой Руси — погода и со вихорем; Разносили пески рудожолтые, Раздвигали доски чугунныя, Разметали щиты все дубовые. Выходит Егорий на святую Русь, Идет во свой во Ерусалим-град. Ерусалим-град — он пуст стоит; Одне церкви!.. и стоит одна Церковь Божия соборная, богомольная: Во той во церкви его матушка, Святая Софея премудрая, На святыя иконы Богу молится; Молитва ея к Богу доносится. Увидела она Егория Харабраго, Называла милым чадом, А сама говорит таково слово: «Ох ты гой еси, Егорий Харабрый свет! Ты бери себе коня сиваго Со двенадцати цепей железныих, Поезжай ты во чисто поле». Святой Егорий поезжаючи, Святую веру утвержаючи, Еще Егорий наезжаючи, На те леса, на дремучие, — Древо с древом совивалося, К сырой земли(е) приклонялося, Не добре Егорию льзя проехати, Святой Егорий глаголует: «Ох вы гой еси, леса темные, Леса темные и дремучие! Разойдитеся леса по всей земли, Вы не веруйте сатане-врагу, Сатане-врагу со диаволом; А вы веруйте самому Христу, Самому Христу, царю небесному». Разошлися леса по всей земли. И еще Егорий поезжаючи, Святую веру утвержаючи, И еще Егорий наезжаючи На те горы на высокий, на толкучий, — Гора с горою со́йдется, не разойдется. Святой Егорий глаголует: «Ох вы гой еси, горы толкучия! Разойдитеся горы по всей земли, Вы не веруйте сатане-врагу, Сатане-врагу со диаволом; Уж вы веруйте самому Христу, Самому Христу, царю небесному». Разошлися горы по всей земли. И еще Егорий поезжаючи, Святую веру утвержаючи, И еще Егорий наезжаючи На то стадо на звериное, на змеиное; Не добре Егорию льзя проехати, Святой Егорий глаголует: «Ох вы гой еси, звери свирепые! Разойдитеся звери по всей земли, Вы не веруйте сатане-врагу, Сатане-врагу со диаволом; А вы веруйте самому Христу, Самому Христу, царю небесному». Разошлися звери по всей земли. И еще Егорий поезжаючи, Святую веру утвержаючи, И еще Егорий наезжаючи На то стадо на змеиное, На змеиное, на звериное, — Пасут то стадо три пастыря, Три милые сёстры. Не добре Егорию льзя проехати; Святой Егорий Харабрый свет — Срезает он со бера осла (коня?), Берет он свое (с)кипетро вострое [95], И побил он все стадо змеиное, Все змеиное, все звериное. А сам говорит такое слово: «Ох вы гой еси, три пастыря, Три милыя сёстры! Вы подите во свой во Ерусалим-град И купайтесь во Иордане-реке; Набралися все вы духа нечистаго, Духа нечистаго, босурманскаго». И еще Егорий поезжаючи, Святую веру утвержаючи, И еще Егорий наезжаючи На те ворота кесарийския, иерусалимския, — На воротах сидит Острафил-птица, Во когтях держит осетра-рыбу. Не добре Егорию льзя проехати, Святой Егорий глаголует: «Ох ты гой еси, матушка Острафил-птица! Ты не веруй сатане-врагу, Сатане-врагу со диаволом; А ты веруй самому Христу, Самому Христу, царю небесному. Полети ж ты, птица, на сини моря, Пей и ешь повеленное, Повеленное, благословенное, И детей води на синём море». И еще Егорий поезжаючи, Святую веру утвержаючи, И еще Егорий наезжаючи На того злодея-ца́рища Мартемьянища, Увидел он собака Егория Харабраго, Закричал он собака по звериному, Засвистал он собака по змеиному. Святой Егорий Харабрый свет — Слезает он со бела осла, Берет он свою палицу железную, Поразил он тута ца́рища Мартемьянища. Потопила Егория кровь жидовская, Кровь жидовская, босурманская: По колена во крове(и) стоит — Святой Егорий глаголует: «Ох ты гой еси, матушка сыра земля! Приими в себя кровь жидовскую, Кровь жидовскую, босурманскую». Расступилася матушка сыра земля На две стороны, на четыре четверти, Пожрала в себя кровь жидовскую, Кровь жидовскую, босурманскую. Живучи Егорий мучился на вольном свете, От грехов своих очистился. Богу нашему слава ныне и присно и во веки веков. Аминь.(Из собрания В. И. Даля; записана в Сорокинской пристани Екатеринбургского уезда Пермской губернии).
Примечание к № 9. Сличи со стихом, напечатанным у Киреевского (Чтения Общ. истории и древностей российских, год 3-й, № 9, с. 148—254).
Варианты (из собрания В. И. Даля):
a) Не в чуждом царстве, а в нашем государстве было, родимый, времячко — ох-ох-ох! В то время у нас много царей, много князей, и Бог весть кого слушаться, ссорились они промеж себя, дрались и кровь христианскую даром проливали. А тут набежал злой татарин, заполонил всю землю мещерскую, выстроил себе город Касимов и начал он брать вьюниц (молодых женщин. — Опыт Обл. великор. словаря) и красных девиц себе в прислугу, обращал их в свою веру поганую, и заставлял их есть пищу нечистую маха́нину (лошадиное мясо. — Там же). Горе да и только; слез-то, слез-то что было пролито! все православные по лесам разбежались, поделали там себе землянки и жили с волками; храмы Божии все были разорены, негде было и Богу помолиться.
И вот жил да был в нашей мещерской стороне добрый мужичок Антип, а жена его Марья была такая красавица, что́ ни пером написать, только в сказке сказать. Были Антип с Марьею люди благочестивые, часто молились Богу, и дал им Господь сына красоты невиданной. Назвали они сына Егорием; рос он не по дням, а по часам; разум-то у Егорья был не младенческой: бывало услышит какую молитву — и пропоет ее, да таким голосом, что ангелы на небеси радуются. Вот услыхал схимник Ермоген об уме-разуме младенца Егория, выпросил его у родителей учить слову Божьему. Поплакали, погоревали отец с матерью, помолились и отпустили Егорья в науку.
А был в то время в Касимове хан какой-то Брагим, и прозвал его народ Змием Горюнычем: так он был зол и хитер! просто православным житья от него не было. Бывало выедет на охоту — дикого зверя травить, никто не попадайся, сейчас заколет; а молодиц да красных девиц тащит в свой город Касимов. Встретил раз он Антипа да Марью, и больно полюбилась она ему; сейчас велел ее схватить и тащить в город Касимов, а Антипа тут же предал злой смерти. Как узнал Егорий о несчастной доле родителей, горько заплакал и стал усердно Богу молиться за мать родную, — и Господь услышал его молитву. Вот как подрос Егорий, вздумал он пойти в Касимов-град, чтоб избавить мать свою от злой неволи; взял благословенье от схимника и пустился в путь-дорожку. Долго ли, коротко ли шел он, только приходит в палаты Брагимовы и видит: стоят злые нехристи и нещадно бьют мать его бедную. Повалился Егорий самому хану в ноги и стал просить за мать за родную; Брагим грозный хан закипел на него гневом, велел схватить и предать различным мучениям. Егорий не устрашился и стал воссылать мольбы свои к Богу. Вот повелел хан пилить его пилами, рубить топорами; у пил зубья посшибались, у топоров лезвия выбивались. Повелел хан варить его в смоле кипучей, а святой Егорий поверх смолы плавает. Повелел хан посадить его в глубокой погреб; тридцать лет сидел там Егорий — все Богу молился; и вот поднялась буря страшная, разнесли ветры все доски дубовыя, все пески желтые, и вышел святой Егорий на вольный свет. Увидал в поле — стои́т оседланный конь, а возле лежит меч-кладенец, копье острое. Вскочил Егорий на коня, приуправился и поехал в лес; повстречал здесь много волков и напустил их на Брагима хана грознаго. Волки с ним не сладили, и наскочил на него сам Егорий и заколол его острым копьем, а мать свою от злой неволи освободил.
А после того выстроил святой Егорий соборную церковь, завел монастырь, и сам захотел потрудиться Богу. И много пошло в тот монастырь православных, и создались вокруг него келии и посад, который и поныне слывет Егорьевском.
b) Егорий святой Богу молился За мать за родную! Великую он скорбь перенёс За мать за родную: Его во пилы пилили, В топоры рубили; У пил зубья посшибались, У топоров лезья (лезвия) до обух выбивались, И Егорью ничего не деялось! Его во смоле варили, В воде студено́й топили. Егорий в воде не утопает, Поверх смолы плавает! Вырыли погреб глубокой, Сажали в него Егория; Досками дубовыми закрывали, Гвоздями полужо̀ными забивали, Желтыми песками засыпали За мать за родную! Сидел тут Егорий Тридцать два года; Поднималась бурна погода Разнесли ветры желтые пески, Разнесли ветры до единой доски! И собирал Егорий дружину отборну; И ехал Егорий в церковь соборну; Тут мать его Богу молилась, Слеза горюча потоком катилась. «Поди, поди, Егорий! сядь на коня, приуправься! Лютаго змия копьем порази, Материнскую кровь отомсти». — Сто́ит ли, мать, мое рождение Всего моего похождения?» «Вдвое сто́ит твое рождение За меня претерпенна мучения!» Сел Егорий на борза коня, приуправился! И наехал Егорий на леса валющи: «Леса, леса, вы привстаньте! Срублю я из вас церковь соборну, Поставлю я в ней икону святую За мать за родную». Въехал Егорий могучий В великой город толкучий, И наехал на девок мудрёных: «Дѐвицы, девицы, к вам речь я веду — Идите на Ердан реку, Воспримитесь, перекреститесь!» Въехал Егорий в леса дремучи, Встретились Егорию волки прискучи, Где волк, где два: «Собиритесь вы, волки! Будьте вы мои собаки, Готовьтесь для страшныя драки». Наехал Егорий на стадо птиц: «Птицы, синицы! Летите вы на море, На пир на кровавой». Наехал Егорий на змия-горюна… [96] Но Егорий не ужахался, Егорий не устрахался, Острым копьем змия заколол; Стаи птиц прилетали, Змия-горюна клевали, Сине море волной натекло, Змия-горюна с собой унесло.(Оба варианта записаны в Егорьевском уезде Рязанской губернии).
Народное предание о битве Георгия Храброго с драконом распространено во множестве сказаний почти у всех европейских народов; подвиг этот приписывается Георгию наравне со многими другими сказочными героями и нередко с одинаковой обстановкой и с совершенно тождественными подробностями (сличи: стих о Елизавете Прекрасной — в Чтениях Общества ист. и древн. росс., год 3-й, № 9, с. 154—158; Volkslieder der Wenden in der Ober- und Nieder-Lausitz, изд. Гаупта и Смолера, ч. 1, с. 278; ч. 2, с. 147; Летоп. русск. литературы и древности 1859 г., кн. 1, отд. 1, с. 18—19; Народн. русск. сказки, вып. 2-й, с. 153— 159).
10. Илья-пророк и Никола
Давно было; жил-был мужик. Николин день завсегда почитал, а в Ильин нет-нет, да и работа́ть станет; Николе-угоднику и молебен отслужит, и свечку поставит, а про Илью-пророка и думать забыл.
Вот раз как-то идет Илья-пророк с Николой полем этого самаго мужика; идут они да смотрят — на ниве зеленя́ стоят такия славныя, что душа ни нарадуется. «Вот будет урожай, так урожай! — говорит Никола. — Да и мужик-то, право, хороший, доброй, набожной; Бога помнит и святых знает! К рукам добро достанется…» — «А вот посмотрим, — отвечал Илья, — еще много ли достанется! Как спалю я молнией, как выбью градом все поле, так будет мужик твой правду знать, да Ильин день почитать». Поспорили-поспорили и разошлись в разныя стороны. Никола-угодник сейчас к мужику: «Продай, — говорит, — поскорее ильинскому батьке весь свой хлеб на корню; не то ничего не останется, всё градом повыбьет». Бросился мужик к попу: «Не купишь ли, батюшка, хлеба на корню? Все поле продам; такая нужда в деньгах прилучилась, что вынь да положь! Купи, отец! задёшево отдам». Торговаться-торговаться, и сторговались. Мужик забрал деньги и пошел домой.
Прошло ни много, ни мало времени: собралась, понадвинулась грозная туча, страшным ливнем и градом разразилась над нивою мужика, весь хлеб как ножем срезала — не оставила ни единой былинки. На другой день идет мимо Илья-пророк с Николою; и говорит Илья: «Посмотри, каково разорил я мужиково поле!» — «Мужиково? Нет, брат! Разорил ты хорошо, только это поле ильинскаго попа, а не мужиково». — «Как попа?» — «Да так; мужик — с неделю будет — как продал его ильинскому батьке и деньги все сполна получил. То-то, чай, поп по деньгам плачет!» — «Постой же, — сказал Илья-пророк, — я опять поправлю ниву, будет она вдвое лучше прежняго». Поговорили, пошли всякой своей дорогою. Никола-угодник опять к мужику: «Ступай, — говорит, — к попу, выкупай поле — в убытке не будешь». Пошел мужик к попу, кланяется и говорит: «Вижу, батюшка, наслал Господь Бог несчастие на тебя — все поле градом выбито, хоть шар покати! Так уж и быть, давай пополам грех; я беру назад свое поле, а тебе на бедность вот половина твоих денег». Поп обрадовался, и тотчас они по рукам ударили.
Меж тем — откуда что взялось — стало мужиково поле поправляться; от старых корней пошли новые свежие побеги. Дождевыя тучи то и дело носятся над нивою и поят землю; чудный уродился хлеб — высокой да частой; сорной травы совсем не видать; а колос налился полной-полной, так и гнётся к земле. Пригрело солнышко, и созрела рожь — словно золотая стоит в поле. Много нажал мужик снопов, много наклал копен; уж собрался возить да в скирды складывать. На ту пору идет опять мимо Илья-пророк с Николою. Весело огляну́л он все поле и говорит: «Посмотри, Никола, какая благодать! Вот так наградил я попа, по век свой не забудет…» — «Попа?! Нет, брат! благодать-то велика, да ведь поле это — мужиково; поп тут ни при чем останется». — «Что ты!» — «Пра́вое слово! Как выбило градом всю ниву, мужик пошел к ильинскому батьке и выкупил ее назад за половинную цену». — «Постой же! — сказал Илья-пророк, — я отниму у хлеба всю спорынью! сколько бы ни наклал мужик снопов, больше четверика зараз не вымолотит». — «Плохо дело!» — думает Никола-угодник; сейчас отправился к мужику: «Смотри, — говорит, — как станешь хлеб молотить, больше одного снопа зараз не клади на ток».
Стал мужик молотить: что ни сноп, то и четверик зерна. Все закрома, все клети набил рожью, а все еще остается много; поставил он новые анбары и насыпал полнёхоньки. Вот идет как-то Илья-пророк с Николою мимо его двора, посмотрел туда-сюда и говорит: «Ишь какие анбары вывел! что-то насыпать в них станет?» — «Они уж полнёхоньки», — отвечает Никола-угодник. — «Да откуда же взял мужик столько хлеба?» — «Эва! у него всякой сноп дал по четверику зерна; как за́чал молотить, он все по одному снопу клал на ток». — «Э, брат Никола! — догадался Илья-пророк; это все ты мужику пересказываешь». — «Ну, вот выдумал; стану я пересказывать…» — «Как там хочешь, а уж это твое дело! Ну будет же меня мужик помнить!» — «Что ж ты ему сделаешь?» — «А что сделаю, того тебе не скажу». — «Вот когда беда, так беда приходит!» — думает Никола-угодник, и опять к мужику: «Купи, говорит, две свечи, большую да малую, и сделай то-то и то-то».
Вот на другой день идут вместе Илья-пророк и Никола-угодник в виде странников, и попадается им навстречу мужик: несет две восковыя свечи — одну рублевую, а другую копеечную. «Куда, мужичек, путь держишь?» — спрашивает его Никола-угодник. — «Да вот иду свечку рублевую поставить Илье-пророку, уж такой был милостивой ко мне! Градом поле выбило, так он батюшка постарался, да вдвое лучше прежняго дал урожай». — «А копеечная-то свеча на что?» — «Ну, эта Николе!» — сказал мужик и пошел дальше. — «Вот ты, Илья, говоришь, что я все мужику пересказываю; чай, теперь сам видишь, какая это правда!»
На том дело и покончилось; смиловался Илья-пророк, перестал мужику бедою грозить; а мужик зажил припеваючи, и стал с той поры одинаково почитать и Ильин день и Николин день.
(Записана со слов крестьянина Ярославской губернии).
Примечание к № 10. Разрушительная сила молнии и грома и плодотворная сила дождя, питающего земную растительность, в мире языческом приписывались у славян Перуну [97]. Известно, что с принятием христианства многие из старинных представлений, согласно младенческой неразвитости народа, были перенесены им на некоторые лица ветхо- и новозаветных святых. Так на Илью-пророка были перенесены все атрибуты и все значение древнего божества молнии и грома, которое представлялось разъезжающим по небу в колеснице, на крылатых конях, и разбивающим тучи своими огненными стрелами. Поселяне наши до сих пор представляют Илью-пророка разъезжающим по небу в огненной колеснице; стук от его езды производит слышимый нами гром [98]. На лубочной картине Илья-пророк изображается на колеснице, которая окружена со всех сторон пламенем и облаками и запряжена четырьмя крылатыми конями; колеса огненные. Лошадьми управляет ангел; Илья-пророк держит в руке меч. Под влиянием таких верований создалась народная загадка, означающая «гром»: «Видано-невидано, якого не кидано! то святый кидав, щоб було хороше ему проихати» [99]. В одном заговоре читаем: «На море на окиане, на острове на Буяне гонит Илья-пророк в колеснице гром с великим дождем. Над тучею туча взойдет, молния осияет, дождь пойдет» [100]. Молнию народ считает за стрелу, кидаемую Ильею-пророком в дьявола, который старается укрыться в животных и гадах; но и здесь находит его и поражает небесная стрела. От св. Ильи, по народному верованию, зависят росы, дожди, град и засуха; 20 июля, в день этого святого, ожидают грозы и дождя, который непременно должен пролиться в это число. Белорусская поговорка «Ильля надзелив гнильля» означает, что с Ильина дня идут обыкновенно дожди, от которых гниет хлеб и сено в поле [101]. На этот праздник не косят и не убирают сена, потому что в противном случае св. Илья убьет громом или сожжет накошенное сено молнией [102]. Если град выбивает хлеб местами, то поселяне говорят: «Это Бог карает; он повелел Илье-пророку: когда ездишь в колеснице, щади нивы тех, которые раздают хлеб бедным полною мерою; а которые жадны и не знают милосердия — у тех губи!» Илье-пророку приписывают урожаи, что видно из следующей припевки:
Ходить Илья, Носить пугу (т. е. плеть) Житяную; Де замахне — Жито росте.20-го июля приготовляют хлеб из новой ржи и приносят в церковь [103].
Сербские песни также наделяют Илью-пророка молнией и громом; при разделе мира ему достались «мунье и стриjеле» (молния и стрелы), почему сербы и называют его громовником; он запирает облака и посылает за людские грехи засуху на землю. Те же верования связывают с Ильей-пророком и другие народы. Осетины даже приносят ему жертвы; об убитом молнией они говорят: «Илья взял его к себе, и чествуют его труп». В некоторых местностях Илью-пророка представляют в мантии огненного цвета, с мечом, на острие которого горит пламя, и в красной шапке на голове [104].
Такое присвоение грома, молнии и дождей Илье-пророку имеет в основании те аналогические обстоятельства, которые окружают этого святого в ветхозаветных сказаниях. По свидетельству этих сказаний он был живой взят на небо в огненной колеснице, на огненных лошадях; во время своей земной жизни он чудесным образом произвел однажды засуху и пролил дождь. Церковная песнь молит его об отверстии неба и ниспослании дождя; иногда поселяне ставят на воротах чашку ржи и овса, и просят священника провеличать Илью на плодородие хлеба [105]. В Новгороде в старину были две церкви: Ильи Мокрого и Ильи Сухого; в засуху совершался крестный ход к первой церкви с мольбами о дожде, а с просьбою о сухой и ясной погоде совершался крестный ход к церкви Ильи Сухого [106].
Эти народные верования послужили источником, из которого создались некоторые сказания, живущие в устах простолюдинов, а между ними и напечатанная нами легенда об Илье-пророке и Николае-угоднике.
11. Касьян и Никола
Раз в осеннюю пору увязил мужик воз на дороге. Знамо, какия у нас дороги; а тут еще случилось осенью — так и говорить нечего! Мимо идет Касьян-угодник. Мужик не узнал его и давай просить: «Помоги, родимой, воз вытащить!» — «Поди ты! — сказал ему Касьян-угодник, — есть мне когда с вами валя́ндаться!» Да и пошел своею дорогою. Немного спустя идет тут же Никола-угодник. «Батюшка, — завопил опять мужик, — батюшка! помоги воз вытащить». Никола-угодник и помог ему.
Вот пришли Касьян-угодник и Никола-угодник к Богу в рай. «Где ты был, Касьян-угодник?» — спросил Бог. — «Я был на земле, — отвечал тот. — Прилучилось мне идти мимо мужика, у котораго воз завяз; он просил меня: помоги, говорит, воз вытащить; да я не стал марать райского платья». — «Ну, а ты где так выпачкался?» — спросил Бог у Николы-угодника. — «Я был на земле; шел по той же дороге и помог мужику вытащить воз», — отвечал Никола-угодник. — «Слушай, Касьян! — сказал тогда Бог, — не помог ты мужику — за то будут тебе через три года служить молебны. А тебе, Никола-угодник, за то, что помог мужику воз вытащить — будут служить молебны два раза в год». С тех пор так и сделалось: Касьяну в високосный только год служат молебны, а Николе два раза в год.
(Записана в Орловском уезде П. И. Якушкиным).
Примечание к № 11. Это вторая легенда, в которой действующим лицом является св. Никола; в собрании В. И. Даля есть еще одно народное сказание об этом же угоднике. Вот оно:
В некоем царстве жил-был богатой мужик; жадность и скупость совсем одолели его: если кому и давал он взаймы деньги, то всегда под заклад и за большие проценты. В том же царстве жил-был бедной мужичек; кроме жены да семерых детей ничего у него не было. Долго перебивался он коё-как и добывал себе и ребятишкам дневное пропитание; а там пришло такое время — хоть зубы на полку клади; три дня без еды сидел. Как быть? чем семью прокормить? Думал он, думал и решился пойдти к богатому мужику и попросить взаймы денег. «Ах, ты дурачина! — закричал на него богатой. — Ну, с какими глазами пришел ты занимать деньги? Ну, можно ль тебе поверить? Что с тебя после взять!..» — «Будь милостив, выручи из беды; не дай помереть голодною смертию, по век не забуду… Заработаю с лихвою отдам». — «Отдам!.. знаю, как вы отдаете». — «Право слово, отдам; вот тебе Никола порукою!» — отвечал бедной и показал на образ Николы-угодника. Смиловался богатой, отсчитал ему двадцать рублев: «Смотри же, — говорит, — непременно в срок заплати».
Бедняк взял деньги, пошел на базар, накупил хлеба и стал кормиться со всею семьею. Пришло время платить, а у него по-старому нет ни копейки [107]. «Что делать? — думает он. — Пойду, попрошу отсрочки». Приходит к богатому и ну кланяться ему в землю: «Обожди родимой; дай еще вздохнуть хоть малое время». — «Чего ждать-то? Пришел срок, и подавай денежки; небось умел брать!» — «Рад бы, отец родной, хоть сейчас заплатить, да верь совести — нечем!» — «Видно с тобою, мошенником, хорошо не сделаешься! — сказал богатой мужик, — а надо будет за поруку приниматься». Пришел домой, стал перед образом Николы-угодника и говорит: «Что ж ты не отдашь за беднаго денег? ведь ты за него поручился». Икона ничего не отвечает. «Что же ты молчишь? У меня не отмолчишься: не отстану до тех пор, пока не заплатишь все до единой копейки». Снял образ со стены, положил на повозку и выехал со двора; лошадь пустил вперед, а сам идет за повозкой сзади; и все по образу кнутом стегает да приговаривает: «Отдай мои деньги! отдай мои деньги!» [108]. Только он едет мимо гостинаго двора; увидал его купеческой сын и стал спрашивать: «Что ты, безбожный, делаешь?» — «А то, что давал я взаймы одному мужику двадцать рублев, и этот образ был по нем порукою; пришел срок отдавать деньги — у мужика нет ни полушки; вот и принялся я за поруку!» — «На, возьми свои двадцать рублев, только отдай мне образ». — «Изволь, брат, мне еще лучше без хлопот!»
Взял купеческой сын образ, поставил в лавке и засветил перед ним лампадку. Наутро явился к нему седой старик и стал наниматься заместо прикащика; купеческой сын подумал-подумал и взял его в лавку. С той самой поры пошла у него такая торговля, что никак товаров не напасется: покупщики так и валят в лавку со всех сторон. Разбогател купеческой сын; построил два корабля, нагрузил их разными товарами и поехал с стариком в другое государство торг вести. А в том государстве на ту пору беда приключилася: злая ведьма испортила царевну — днем она лежит словно мертвая, а по ночам встает и людей поедает! Что тут делать? Положили ее в гроб, набили сверху крышку и вынесли в церковь. Царь повелел кликать клич по всему государству: не найдется ли кто такой, чтоб мог отчитать царевну? а кто ее отчитает, тот будет царским зятем и получит в приданое половину царства. Кликнули клич; только никто не выискался, никто не берется за это дело хитрое. И говорит старик купеческому сыну: «Ступай к царю и скажи, что ты можешь отчитать царевну». — «А как не сумею?» — «Не бойся! Бог поможет и я научу». Отправился купеческой сын к царю, объявил о себе; царь обрадовался и велел ему отчитывать. В тот же самый день вечером пошел старик вместе с купеческим сыном в церковь, поставил около гроба налой и очертил круг; после того дал купеческому сыну книгу и приказывает: «Становись в этот круг, и что бы ни было, что бы тебе ни казалось — не переходи за черту, молись и читай книгу». Сказал и ушел; остался в церкви один купеческой сын, стал в кругу перед налоем и принялся читать. Ровно в полночь сорвалась с гроба крышка; царевна встает и бросается прямо на купеческаго сына; вот уже близко… но сколько ни силится — никак не может переступить проведенной черты. Бешено рвется она вперед, напущает разные страхи и грозит бедою; но купеческой сын не ужасается, стоит в кругу и все читает да читает. Стало светать, запели петухи — в ту ж минуту грохнулась царевна на́земь и сделалась совсем мертвою. Поутру рано посылает царь узнать: все ли благополучно? Приходят посланные; видят, что купеческой сын жив, и не могут надивиться, как он уцелел. Подняли они царевну, положили опять в гроб, заколотили крышку, воротились к царю и рассказали обо всем. На другую ночь было то же; а на третью купеческой сын отчитал царевну: вышла из нее вся нечисть; тут только переступила она черту и подошла к купеческому сыну, взяла его за руку, поцеловала в уста и сказала: «Будь ты моим мужем, а я твоей женою». На том они и поладили, стали рядом перед местными иконами и начали молиться Богу тихо и любовно. Как донесли об этом посланные царю, он сейчас же приказал обвенчать купеческаго сына на царевне и дал ему в приданое половину своего государства.
В другом списке старик приходит наниматься к купеческому сыну уже в то время, когда он отправляется за́ море. «Куда тебе, старому, работа́ть? ведь ты ничего не осилишь», — говорит купеческой сын. — «А вот увидишь, я хоть стар, да работящ: за десятерых молодых сойду». — «А что возьмешь?» — «Что заработаем, то пополам». — «Хорошо!» Приезжают они в другое государство: купеческой сын берется отчитывать царевну, а старик дает ему три полена, чашку воды и научает, как и что делать. В полночь поднялась царевна из гроба; купеческой сын бросил ей одно полено; она его проглотила. Бросил другое — и другое проглотила; бросил последнее — и с этим то же. «Ну, — говорит царевна, — теперь я тебя съем!» — «Погоди, — отвечает купеческой сын, — дай прежде воды испить». Набрал в рот воды, брызнул в нее — царевна вздрогнула и в ту же минуту исцелилась; порчу как рукой сняло. Купеческой сын женился на царевне, и воротился домой с большими богатствами. «Давай делиться», — говорит старик. Купеческой сын вытащил все деньги и стал делить попалам. «Что ты с деньгами-то возишься? Мы с тобой привезли еще царевну. Давай и ее делить!» Взял старик острый меч и разрубил ее надвое. Опечалился купеческой сын и говорит: «Бог с тобой! за что ты ее убил?» — «Разве тебе жалко?» — спрашивает старик; взял обе разрубленные части, сложил вместе, дунул — и царевна тотчас встала живою и сделалась вдвое лучше прежняго. «Вот твоя жена! живи с нею по-Божьему», — сказал старик и исчез. И то был не простой старик; то был сам Никола, угодник Божий.
12. Золотое стремя
В некотором царстве, в некотором государстве жил-был один цыган, была у него жена и семеро детей [109], и дожил он до того, что ни есть, ни пить нечего — нет ни куска хлеба! Работать-то он ленится, а воровать боится; что делать? Вот вышел цыган на дорогу и стоит в раздумьи. На ту пору едет Егорий Храбрый [110]. «Здорово! — говорит цыган, — куды едешь?» — «К Богу». — «Зачем?» — «За приказом: чем кому жить, чем промышлять». — «Доложи и про меня Господу, — говорит цыган, — чем велит мне питаться?» — «Хорошо, доложу!» — отвечал Егорий и поехал своей дорогой. Вот цыган ждал его, ждал и только завидел, что Егорий едет назад, сейчас и спрашивает: «Что ж, доложил про меня?» — «Нет», — говорит Егорий. — «Что ж так?» — «Забыл!» Вот и в другой раз вышел цыган на дорогу, и опять повстречал Егория: едет он к Богу за приказом. Цыган и просит: «Доложи-де про меня!» — «Хорошо», — сказал Егорий — и опять позабыл. Вышел цыган и в третий раз на дорогу, увидал Егория и снова просит: скажи-де про меня Богу! — «Хорошо, скажу». — «Да ты, пожалуй, забудешь?» — «Нет, не забуду». Только цыган не верит: «Дай, — говорит, — мне твое золотое стремено́ (стремя) я подержу, пока ты назад вернешься; а без того ты опять позабудешь». Егорий отвязал золотое стремено, отдал цыгану, а сам об одном стремене поехал дальше. Приехал к Богу и стал спрашивать: чем кому жить, чем промышлять? Получил приказ и хотел было назад ехать; только стал на лошадь садиться, глянул на стремено и вспомнил про цыгана. Воротился к Богу и говорит: «Попался мне еще на дороге цыган и наказал спросить, чем ему питаться?» — «А цыгану, — говорит Господь, — то и промысел, коли у кого что возьмет да утаит; его дело обмануть да выбожить!» Сел Егорий на коня и приехал к цыгану: «Ну, вправду, ты, цыган, сказывал! коли б не́ взял ты стремено, совсем бы забыл про тебя». — «То-то и есть! — сказал цыган, — теперь по век меня не забудешь, как только глянешь на стремено — сейчас меня помянешь. Ну, что Господь-то сказал?» — «А то и сказал: коли у кого что́ возьмешь — утаишь да забожишь, твое и будет!» — «Спасибо», — молвил цыган, поклонился и повернул домой. — «Куда ж ты? — сказал Егорий, — отдай мое золотое стремено». — «Какое стремено?» — «Да ты же у меня взял?» — «Когда я у тебя брал? Я тебя вперво́й вижу, и никакого стремена не брал, ей-Богу, не брал!» — забожился цыган.
Что делать — бился с ним, бился Егорий, так и уехал ни с чем! «Ну правду сказывал цыган: коли б не давал ему стремена́ — и не знал бы его, а теперь по век помнить буду!»
Цыган взял золотое стремено и пошел продавать. Идет дорогою, а навстречу ему едет барин. «Что, цыган, продаешь стремено?» — «Продаю». — «Что возьмешь?» — «Полторы тысячи рублев». — «Зачем так дорого?» — «Затем, что оно золотое». — «Ну, ладно!» — сказал барин; хватился в карман — нет больше тысячи. «Вот тебе, цыган, тысяча — отдавай стремено; а остальные деньги напоследях получишь». — «Нет, барин; тысячу-то рублев, пожалуй, я возьму, а стремена не отдам; как дошлешь, что следует по уговору, тогда и товар получишь». Барин отдал ему тысячу и поехал домой. И только приехал — сейчас же вынул пятьсот рублев и послал к цыгану с своим человеком: «Отдай, — говорит, — эти деньги цыгану, да возьми у него золотое стремено». Вот приходит барской человек в избу к цыгану. «Здорово, цыган!» — «Здорово, доброй человек!» — «Я привез тебе деньги от барина». — «Ну давай, коли привез». Взял цыган пятьсот рублев и давай поить его вином: напоил до́сыта, стал барской человек собираться домой и говорит цыгану: «Давай же золотое стремено». — «Какое?» — «Да то, что барину продал!» — «Когда продал? у меня никакого стремена не было». — «Ну, подавай назад деньги!» — «Какие деньги?» — «Да я сейчас отдал тебе пятьсот рублев». — «Никаких денег я не видал, ей-Богу, не видал! Еще самого тебя Христа ради поил, не то что брать с тебя деньги!» Так и отперся цыган. Только услыхал про то барин, сейчас поскакал к цыгану: «Что ж ты, вор эдакой, деньги забрал, а золотаго стремена не отдаешь?» — «Да какое стремено? Ну, ты сам, барин, рассуди, как можно, чтоб у эдакаго мужика-серяка да было золотое стремено!» Вот барин с ним возился-возился, ничего не берет. «Поедем, — говорит, — судиться». — «Пожалуй, — отвечает цыган, — только подумай, как мне с тобой ехать-то? ты как есть барии, а я мужик вахлак! Наряди-ка наперед меня в хорошую одёжу, да и поедем вместе».
Барин нарядил его в свою одёжу, и поехали они в город судиться. Вот приехали в суд; барин говорит: «Купил я у этого цыгана золотое стремено; а он деньги-то забрал, а стремена не отдает». А цыган говорит: «Господа судьи! сами подумайте, откудова во́зьмется у мужика-серяка золотое стремено? У меня дома и хлеба-то нету! Не ведаю, чего этому барину надо от меня? Он, пожалуй, скажет, что на мне и одёжа-то его!» — «Да таки моя!» — закричал барин. — «Вот видите, господа судьи!». Тем дело и кончено; поехал барин домой ни с чем, а цыган стал себе жить да поживать, да добра наживать [111].
(Из собрания В. И. Даля).
13. Пятница
Када-та адна баба ни пачла [112] матушку Пятницу и учла (начала) прядиво мыкать да вертеть. Прапряла она да абеда, и вдруг сон на неё нашол — такой магучай сон! Уснула ана, вдруг атварилась дверь и входит, вишь, матушка Пятница в — очью всем, в белом шушуне [113], да сердитая такая! и шмых(г) пряма к бабе, ще пряла-та. Набрала в горсть кастрики с пола, какая атлятала — та ат мочек [114], и ну пасыпать ей глаза, и ну пасыпать! Пасыпала да и была такава: паминай как звали! Ничаго и ня молвила, сярдешная. Та баба как праснулась, так и взвыла благим ма́там ат глаз, и ни ведая, ат чаго ани забалели. Другия (бабы) сидя(т) в ужасьи и учали вапить: «Ух ты, акаянная! заслужила казнь лютую ат матушки Пятницы» — и сказали ей всё, ще было. Та баба слушала-слушала и ну прасить: «Матушка Пятница! взмилуйся мне, памилуй меня грешную; наставлю те (тебе) свечку, и другу-недругу закажу абижать те (тебя), матушка!» И ще ж ты думаешь? Ночью, вишь, апять прихадила ана и выбила из глаз у той бабы кастру-та, и ана апять встала. Грех великай абижать матушку Пятницу — прядиво мыкать да прясть!
(Записана в Липецком уезде Тамбовской губернии сельским учителем Елисеем Сабуровым).
Примечание к № 13. Суеверное уважение к пятнице, питаемое русским простолюдином, заслуживает особенного внимания археологов. Во многих местностях России по пятницам бабы не прядут, не стирают белья, не выносят из печи золы, а мужики не пашут и не боронят, почитая эти работы в означенный день за большой грех. В народном стихе душа, прощаясь с телом, обращается к нему с таким напоминанием былых грехов:
Мы по середам, по пятницам платье зо́ловали,
Платье зо́ловали, мы льны прядовали [115].
Особенно же уважаются в народе издревле двенадцать пятниц, которые бывают перед большими праздниками: a) перед Благовещеньем, b) первая и c) десятая после Воскресения Христова, d) перед Троицею, e) Успением, f) Ильиным днем, g) праздником Усекновения главы Иоанна Предтечи, h) Воздвижением, і) Покровом, k) Введением во храм пресв. Богородицы, l) Рождеством и m) Крещением. До сих пор сохраняется старинное сказание о 12 пятницах, почитаемое раскольниками наравне со свящ. писанием [116]. На Ваге в прежнее время ежегодно праздновали пяток первой недели поста у часовни, куда совершался для этого крестный ход. Во время неурожаев, засухи или сильных дождей, по случаю скотского падежа и появления червей были празднуемы «обетные» пятницы; в XVI веке писались в таких случаях целым миром заповедные записи. Так крестьяне Тавренской волости (в 1590—1598 гг.) обговоривались промеж себя и учинили заповедь на три года, чтобы «в пятницу ни толчи, ни молоти, ни камения не жечи», а кто заповедь нарушит, на том доправить 8 алтын и 2 деньги. Константинопольский патриарх окружною грамотою 1589 года к литовско-русским епископам запрещал праздновать день пятницы наравне с воскресеньем [117].
Стоглав (в 40-й главе) свидетельствует, что в его время ходили «по погостам и по селам и в волостях лживые пророки, мужики и жонки, и девки и старыя бабы, наги и босы, и волосы отростив, роспустя, трясутся и убиваются, а сказывают, что им является св. Пятница и св. Анастасия, и велят им заповедывати канун засвечивати; оне же заповедывают христианам в среду и пятницу ручнаго дела не делати, и женам не прясти, и платья не мыти, и каменья не разжигати, и иныя заповедуют богомерзкия дела творити». По народному объяснению по пятницам не прядут и не пашут, чтобы не запылить матушку Пятницу и не засорить ей кострикою и пылью глаз. Если же бабы вздумают прясть и шить в этот день, то св. Пятница накажет их ногтоедом, заусеницею, или болезнею глаз: поверье это послужило основанием напечатанной нами легенды. По словам духовного регламента, суеверы уверяли, что «Пятница гневается на непразднующих (ее дня) и с великим на оных угрожением наступает». В некоторых деревнях в пятницу не засиживаются долго при свечах, потому что в этот день ходит по домам «св. Пятинка» и карает всех, кого застанет неспящим. В Малороссии поселяне уверяют, что они сами видели, как Пятница ходит по селам вся исколотая иглами и изверченная веретенами, потому что многие женщины и шьют, и прядут в такие дни, которые следует праздновать в честь этой святой [118]. Таким образом, особенное уважение к пятнице объясняется тем, что этот день считается в народе посвященным св. Пятнице: именем Пятницы в простонародьи называется мученица Параскева. В четьях-минеях повествуется, что родители ее всегда чтили пятницу как день страданий и смерти Спасителя, за что и даровал им Господь в этот день дочь, которую они назвали «Παρασκεβη», т. е. пятницей. В прежних наших месяцесловах при имени св. Параскевы упоминалось и название Пятницы; церкви, ей посвященные, до сих пор называются пятницкими [119]. 28 октября, когда чтится память св. Параскевы, поселяне кладут под ее икону зеленые плоды и хранят их до следующего года. В обетные пятницы, собираясь праздновать в одно назначенное место, они выносят образ Параскевы-мученицы, обвешанный платками и лентами. На дорогах, при распутьях и перекрестках издревле ставились на столбиках небольшие часовни с иконой св. Параскевы; часовни эти также назывались «пятницами» [120]. В других местностях все особенности, приписываемые Пятнице, относят к Пречистой Деве; так, бабы не прядут по пятницам, чтобы не запылить Богородицы, которая ходит тогда по избам; еще накануне поэтому подметают в избах полы; шерсть, от которой нет пыли, позволяют прясть [121].
Припоминая, что пятница у других европейских народов в языческую эпоху была посвящена богине Венере или Фрее (dies Veneris, Vendredi, Frejtag), справедливо будет предположить, что в приведенных нами поверьях скрывается темное воспоминание о древней языческой богине. Под влиянием христианских идей оно естественным образом слилось со священными представлениями новой религии, подобно тому как атрибуты Перуна перенесены суеверным народом на Илью-пророка, а древнее поклонение Волосу перешло на св. Власия.
Пятнице приписывают влияние на здоровье, урожай хлеба и плодородие скота, почему во время падежей, моровой язвы и других бедствий прибегают к ней с мольбами, совершают общественное богослужение и приносят очистительные жертвы; в пароде ходят даже молитвы, сочиненные в честь св. Пятницы: они носят на шее от различных недугов или привязываются к больной голове. Во время церковных обрядов прежде выносили икону св. Параскевы, увешанную лентами, монистами, цветами и душистыми травами: эти цветы и травы оставались в церкви, и отвар их давали пить отчаянно больным как вернейшее средство к исцелению. По народному поверью, кто соблюдает пятницу, у того не будет лихорадки. В Калужской губернии при начале жатвы одна из старух, известная по легкости своей руки, отправляется ночью в поле, нажинает один сноп, связывает его и до трех раз то кладет, то ставит на землю, произнося следующие слова: «Пятница-Параскева, матушка, помоги рабам Божиим (следуют имена) без скорби и болезни окончить жатву; будь им заступница от колдуна и колдуницы, еретика и еретицы!» Затем, взявши сноп, она старается пройти до двора, не будучи никем замеченною. На праздник Покрова девицы, желающие выйти замуж, обращаются с просьбою о том к Пятнице: «Матушка Пятница-Параскева! покрой меня поскорее» [122]. Духовный регламент Петра Великого упоминает о совершавшемся в народе символическом обряде, указывающем на обожание Пятницы. «Слышится (читаем в этом законодательном памятнике), что в Малой России, в полку стародубском, в день уреченный праздничный водят жонку простовласую, по именем Пятницы, а водят в ходе церковном, и при церкви честь оной отдает народ с дары и со упованием некия пользы».
14. О Ное Праведном
Заставил Гасподь слипова ды бизрукыва караулить сад. Бизрукый яблыка ни дастанить, слепой ни на́йдить. Паспели яблыки, пашли духи́ сладкии. «Малый, как жа нам яблычка покушать?» — «Садись верхом на мине, а я пыдвизу к яблынки». Слипой нарвал пазуху яблык. Бизрукый у́зрил Бога, драгнул от яблынки бежать. Слипой ат плеч (он за́ пличи диржалси — вирхом на бизрукым) атарвалси, ударилси аб земь, ды-й абмёр. Гасподь приходить: «Бизрукый, иде слипой?» — «Омырык яво́ ашиб». — Гасподь приходить к слипому: «Слипой, с чаво ж ты абмёр? абманываишь ты мине, слипой? ни омырык тибе ушиб, ты с пличей убилси с бизрукыва!» — «Абманул я тибе, Госпыди! прасти мине». Прастил слипова, ды-й пашол.
Сыбрались караульщики на варата́х стаять. Идёт дьявыл: «Здрастуйти, рибята! што ж вы яблык ни jидитя?» — «Как жа нам их есть? у мине рук нету, у ниво глаз. Я ни дастану!» — «А я ни найду!» — «Плохи ж вы, рибята, кады в саду яблык не jидитя». — «Мы ни ухитримся, как их есть!» — «Эка, как? Бизрукый пади ударьси аб яблыню, а слипой падбери!» Яблынки были насажины друг ат друга на сажню. Бизрукый как ударился аб яблыню — увесь тот сад абтрёс. Слипой лёг на пуза, прикатал усю траву — всё яблыки искал. Ну, Гасподь приходить: «Караульщики, хто ж у вас сад абтрёс?» — «Ветир паднялси, увесь сад абтрёс!» — «Ат чаво жа яблыни пазавяли?» — «Ат яснава со(л)нца!» — «Ат чаво жа нижнии бака́ папрели?» — «Ат сильныва дожжа́!» — «А хто жа у вас в саду траву примял?» — Слипой гаварить: «У мине живот балел, все́ каталси!» — «Врёшь ты слипой! всё абманываишь мине!» Сабрал Гасподь караульщикав, узял огнинныи прутьи, выбил их огнинными прутьими: «Выдитя, праклятыи калеки, вон из маиво саду, пабирайтиси по́ миру атныни да веку!»
Гасподь сказал: «Дай жа я сделаю Ноя Правидныва, штоб у маём у свети была правда». Приставил сабаку голую караулить Ноя Правидныва: «Сматри ж ты, сабака, никаво ни пущай сматреть маиво Ноя Правидныва!» Приходить дьявыл к сабаки: «Пусти мине, сабака, Ноя Правидныва пысматреть!» — «Мне Гасподь ни вилел никаво пущать». — «Хатя ты ни пущаишь мине Ноя Правидныва пысматреть, а я тибе дам шубу и на руки и на́ ныги: придеть зима, придуть марозы — ни на́дыть тибе избы». Дал дьявыл сабаки шубу; сабака пустила дьявыла пысматреть Ноя Правидныва. Дьявыл ахаркыл, апливал Ноя Правидныва; стал Ной синий, зиленый, дурной… странно на Ноя глидеть стало! «Што ж ты, сабака, да Ноя дьявыла дапустила? што ж я тибе гаварил!» — «А што ж ты мине без шубы приставил?» — «Штоб ты цирковныва звону ни слыхала, у Божий храм ни хадила!» Взял Гасподь, апасли́ той сабаки, Ноя вывырезал (sic.): аплёвыныя, ахо́ркыныя в сирёдку… Из Ноевыва рибра сделал Гасподь жину Евгу. «Ну, Ной с Евгаю Правидныи! усе плады ештя; аднаво плада не трогайтя, вот с той-та яблынки». Евга гаварить: «Ной Правидный! ат чаво ж эта Бог гаварить: усе плады ештя, а с аднаво ни трогайтя? Давай пакушаим!» Съели па яблычку, па разу укусили… друг друга зыстыдились: Евга пыд лопух, а Ной пыд другой — друг ат друга схаранилиси. Приходить Гасподь: «Ной Правидный! игде ты?» — «Я во́тын!» — «Иди ка мне». — «Я наг!» Ной гаварить: «Госпыди! сатвари нам адёжду». Вышли ани к ниму; выбил их Гасподь огнинными прутьими, выгнал из саду вон!
Выслымши из саду Ноя Правидныва, умилилси Гасподь. «Ной Правидный, — гаварить, — у нас будить чириз три года патопа; штобы ты в три года кавшег выстраил. Ной Правидный! кавшег строй, да жине ни сказывай, што строишь!» Пашол Ной Правидный у рощу строить кавшег; строить год, строить два. Дьявыл приходить: «Ной Правидный, што делаишь?» — «Разве ты слипой? ты видишь, што я делаю!» — «Я вижу, што ты строишь, ды ни знаю!» — «И ни ве́ляна тибе знать!» Дьявыл ударилси из рощи к Ноивый жине, к Евги: «Евга, успраси ты у мужа, што он делаить?» А Ной Правидный жине отказываить: «Я так на рощи хажу, на древья сматрю, сам сибе забавляю!» — «Ён ни па рощи гуляить, ён што-й-та рубить!» — «Я ни знаю». — «Сделай жа ты квасу, наклади хмелю!» — Усхвалил сам сибе Ной: «Слава тибе, Госпыди! састроил сибе судно за полгода патопы». Приходить, стал кушать: «Евга, нет ли чаво пакушамши напитца?» Напилси квасу, лёг атдыхать. «Ной Правидный! два года ходишь, да мне правды ни скажишь, што-й-та такоя ты рабата́ишь?» — «Экая ты! Вот асталась палгода да первыва мая; у маи-месицы, у первым числе, будить патопа!» — Атдахнумши, приходить Ной к кавшегу; увесь кавшег дьявыл разметал. «Экая!.. пригряшил я дли(я) тибе!» Шесть месицев ён jиво сыбирал ни пимши, ни емши, и дамой на хадил. Приходить жа Гасподь: «Ной Правидный, сабирай жа всяких звирьёв у кавшег па паре, и дичи, пладов всяких». Сабрал-жа ён звирьёв всяких, и ужов, и пладов всяких. «Будить, — гаварить Гасподь, — патопа: затопить и леса, и луга, и болота, и дама! Будить патопа на двинатцать сутык». Ной забрал всё.
Дьявыл гаварить: «Евга, как жа мне с табою у кавшег залесть?» — «Я ни знаю!» — «Разуй леваю ногу, да глянь скрозь ноги на мине; а патыль (до тех пор) ты ни лезь у кавшег, пакыль страшная патопа ни настанить, пакыль вада ни разальётси увизде; ён на тибе закричить: лезь ка мне, акаянная, а то утопнишь! Как ён тибе акаяннай назавёт — и я с табой улезу. А датыль не лазий». Евга глянула скрозь ноги; Ной закричал: «Лезь жа ты ка мне! лезь жа скарея, акаянная!» Как сказал Ной, дьявыл как сигнеть (прыгнет) у кавшег и паплыл; скинулси (обратился) мышью — кавшег пратачил. Уж узял эту дыру галавой и заткнул, игде мышь пратачила. Плавыли ани адинатцать сутык па вазморью, па этай пы патопи. Паслал Ной Правидный ворана: «Палити жа ты, чорнай воран, узнай есть ваде панижения, али нет?» Воран литал, литал, нашол па́дла и стал кливать на острави. «Иде ж ты был, воран?» — «Я, — гаварить, — аташол да падла кливал!» — «Как жа ты ни паслушил? мы тибе пасылали пысматреть вады; ведь всякая душа да хвалить Госпыда! Будь жа ты, воран, как пень гарелый; будь жа у тибе дети гадавыи: как дитей даждешьси — сам акалей!» Ведь как воран даждетца дитей, выходить, выкормить, — сам акалеить; ведь ани все калеють! «Лети ж ты, голубь; пысматри ж ты патопы; спадаить ли, прибавляить ли?» Литал, литал, голубь: патопа сбавила на три аршина; и нашол ён такоя места, сухоя, игде можна кавшегу вылести на край. Приплыли х(к) пристыни.
Приходить Гасподь: «Што вы живы ли усе?» — «Слава ти, Госпыди! усе живы!» — «Выходитя ж вон!» Усе вышли; напаследак дьявыл сиг! «Вот, Госпыди, хотел мине утапить; ведь я во́тан! я тибе бальшой враг!» — «Кали ж ты мне бальшой враг, вазьми ж ты мине за руку». Вазьмёть дьявыл Госпыда папирёх руки, да ни паймаить — руку апустить. «Дай жа я тибе вазьму за руку!» Как вазьмёть Гасподь дьявыла за руку — «Ой, ой, ой! я буду тибе хоть меньшой брат!» — все, вишь, у братья лезить. «Лезь жа ты, меньшой брат, у моря, дастань зимли горсть: давай зимлю́ засивать». Ани прибились х(к) кургану, а кругом все мо́ря стояла. Полез дьявыл в моря, схватил зимли горсть, да ни вытащил — всиё размыла! Раз слез, другой, третий слез… у читвёртай полез. «Брат, — гаварить Гасподь, — скажи: Госпыди Иисус Христос!» Сказал дьявыл: «Госпыди Иисус Христос!» — нырнул в моря и вытащил зимли у горсти с макавых два зирна. «Лезь жа ищо, этай зимли ма́ла!» — «Пастой жа, — гаварить сам сибе дьявыл, — я запхаю сибе за́ щику зимли: што Гасподь будить делать, я сибе тожа сделаю». Взял Гасподь перехрястилси, кинул зимлю́ на три стораны: сделались па взморью луга, леса, рощи… ро́вна! «Госпыди, а што я? за маи труды, какоя будить угожения?» — «Пасажали мы белый свет; может, тибе будуть хвалити, мине поминати; я и тем буду даволин».
«Ну, Ной, живи на зимли́, радися, пладися!» — «Госпыди, скора ж ат мине ат аднаво белый свет нарадитца?» Гасподь гаварить: «Ты мужика сваляй из глины, а гаспод из пшенишныва из теста». Барзой кабель стаял сзади, схватил пшенишный ком да бижать: ат Варонижа да нашива сила́ всё аднадворцев и <…> «Госпыди, я пасили́л народу ат Варонижа ды Куракина на двести на восемдесят вёрст. Госпыди, у чом жа нам жить будить? народу я распладил многа!» Гасподь дал им тапоры, срубил им избы: «Живитя, вот вам избы!» — «Госпыди, на чом жа нам работать?» Дал Гасподь лошадь. «Да чем жа jиё абратать?» Гасподь свизал о́брыть [123], свизал хамут. Вот спирва сыбралось чилавек сорык народу абгарнуть (окружить — см. Опыт обл. словаря, с. 131) лошадь ды загнать в хамут, а там обрыть вздернуть; стали впириди, растапырили хамут да обрыть! Гасподь паймал лошадь, запрёг: «Вот вам, — гаварить, — изба, лошадь, упряжь; живитя да мине хвалитя!» Вот мы таперича живём да и хвалим jиво́: «Слава тибе, Госпыди! што усё паказал».
(Доставлена П. В. Киреевским).
Примечание к № 14. Начало этой любопытной легенды заимствовано из «Притчи о теле человеческом, и о душе, и о воскресении мертвых». Притча эта встречается во многих рукописных прологах XIII, XIV, XV и XVI столетий и между сочинениями Кирилла Туровского, который передает ее в более распространенном изложении (см. Рукописи графа А. С. Уварова, т. 2, с. XLVI—LI, 137—141). Конечно, отсюда она перешла в народные сказания, и это служит новым свидетельством того влияния, какое оказывала книжная литература на устную. Для сличения приводим здесь саму притчу:
«Человек некто добра рода насади виноград, и оплотом огради, и отходя в дом отча своего: „Кого, — рече, — створю стража дому моему и притяжанию? Аще бо поставлю сде от предстатель моих, то потеряют мой труд. Но сиче створю: поставлю стража хромча и слепча, да аще кто хоще украсти от враг моих в винограде, слепец чюеть, а хромець видить; аще кто от сего всхощеть, хромець убо не имать ногу дойти, слепець же аще поидет — в пропастех убьется“. И посадив я, отъиде. На долзе бо седящим им, и рече слепече ко хромчю: „Что убо благоухание полетаеть изнутрь врат?“ Отвеща хромець; „Многа блага господина наю внутрь есть, иже неизреченьная вкушения: но понеже премудр есть господин наю, мене посади хромаго, а тебе слепаго, и не можеве того дойти и насытитися“. Отвеща слепече хромчю: „Почто еси сих не возвестил да быхове не жадала? Аще бо слеп есть, но ногы имам и силен есмь носити тя: ныне бо возми кошь, и всади на мои плещи, и аз тя несу, а ты мне путь поведай; и вся благая господина наю обоемлеве. Да егда приде господин наю, укрыется дело наю от него; аще мене воспросить, и реку: ты веси, господине мой, яко слеп аз есмь; аще ли тебе вопросить, ты же речи: аз хром есмь, и тако премудруеве господина наю“. Всед же хромець на слепеца, и шед окрадоста овощь господина своего. По времени же пришед господин винограда, и види его окрадена, повеле привести слепца, и глагола: „Не добра ли тя поставих стража винограду моему, почто еси окрал его?“ Отвеща слепече: „Господи, ты веси, яко слеп есмь; аще бых хотел дойти, не вижю дойти; но крал есмь хромець, а не аз“. И повеле господин блюсти слепеца, дондеже приведуть хромца. Призвану же хромчю, начастася спирати. Хромець глаголаше слепчю: „Аще не бы ти носил мене, николи же могл бых там дойти, понеже хром есть“. Слепець же глаголаше: „Аще бы не ты мне путь поведал, то не бы аз там дошел“. Тогда господин, сед на судищи, нача судити, и рече господин: „Яко же еста рекла (крала), тако ка всяде хромець на слепца“. Вседшю бо хромьчю на слепца, повеле бити немилостивено».
В народной легенде вместо хромца выведен безрукий. Далее легенда воспользовалась библейскими сказаниями об Адаме и Ное, но передает их в искаженном виде, смешивая события и перепутывая их баснословными народными преданиями. Сюда вошли и некоторые рассказы из старинного животного эпоса. Так народное суеверие представляет, что собака первоначально была сотворена голою, без шерсти; Бог заставил ее стеречь от демонских козней тело первосозданного человека; нечистый грозит собаке зимними морозами и, соблазняя, дает ей мягкую шубу. Любопытны роли, которые играют в ковчеге мышь и уж. Нечистый ухитряется, влезает в ковчег и в виде мыши прогрызает в нем дыру; уж затыкает ее своей головой. После потопа следует вновь создание земли и людей; очевидно устный рассказ относит здесь в конец то, что должно было стоять в начале. Предание о создании земли записано г-ном Терещенко (Быт русского народа, ч. V, с. 44—45) с некоторыми подробностями, которых не достает в нашей легенде:
«В начале света благоволил Бог выдвинуть землю. Он позвал чорта, велел ему нырнуть в бездну водяную, чтобы достать оттуда горсть земли и принесть ему. „Ладно, — думает сатана, — я сам сделаю такую же землю!“ Он нырнул, достал в руку земли и набил ею свой рот. Принес Богу и отдает, а сам не произносит ни слова… Господь куда ни бросит землю, то она вдруг появляется такая ровная, ровная, что на одном конце станешь — то на другом все видно, что делается на земле. Сатана смотрит… хотел что-то сказать и поперхнулся. Бог спросил его: чего он хочет? Чорт закашлялся и побежал от испугу. Тогда гром и молния поражали бегущаго сатану, и он где приляжет — там выдвинутся пригорки и горки; где кашлянет — там вырастет гора; где привскачет — там высунется поднебесная гора. И так бегая по всей земле, он изрыл ее; наделал пригорков, горок, гор и превысоких гор».
В карпатской колядке поется, что при начале света два голубя спустились на дно моря, достали оттуда песку и камня, из которых и были созданы земля и небесные светила.
Доисторические предания, уцелевшие почти у всех индоевропейских народов, рассказывают, что само божество научило первоначально человека строить жилища, ковать металлы и возделывать землю [124]. На Украине есть поверье, что сам Господь дал Адаму плуг, а Еве прялку — в то время, как они нарушили заповедь и были высланы из рая [125]. Согласно с этим напечатанная нами легенда повествует о том, как Господь выучил людей строить избу и запрягать лошадь. Между русскими крестьянами ходит еще другое предание о постройке избы: долго люди не умели придумать, как бы охранить себя от непогоды и стужи; наконец черт ухитрился и выстроил избу: всем бы хороша — и тепло, и уютно, да темно, хоть глаз выколи! Уж ангел Господень научил прорубить окно, и с тех пор стали люди строить избы с окнами. Предание это носит на себе печать весьма древнего происхождения. Злой дух, как представитель темной силы, мрака, по народным поверьям, боится света и исчезает с первыми лучами солнца [126], все, что имеет связь с светом, исходит не от него, а даруется божеством добра и правды…
15. Соломон Премудрой
Иисус Христос после распятия сошел во ад и всех оттуда вывел, окромя одного Соломона Премудраго. «Ты, — сказал ему Христос, — сам вы(й)ди своими мудростями!» И остался Соломон один в аду: как ему выдти из аду? Думал-думал да и стал вить завёртку. Подходит к нему маленький чертенок, да и спрашивает, на что вьет он веревку без конца? «Много будешь знать, — отвечал Соломон, — будешь старше деда своего сатаны! увидишь на что!» Свил Соломон завёртку, да и стал размерять ею в аду. Чертенок опять стал у него спрашивать, на что он ад размеряет? «Вот тут монастырь поставлю, — говорит Соломон Премудрой, — вот тут церковь соборную». Чертенок испугался, бегом побежал и рассказал все деду своему, сатане, а сатана взял да и выгнал из аду Соломона Премудраго.
(Записана в Орловском уезде П. И. Якушкиным).
Примечание к № 15. Сличи с следующей легендой — о «Солдате и Смерти» (№ 16а). О премудром царе Соломоне известен целый ряд старинных повестей, о которых смотри в сочинении г-на Пыпина «Очерк литературной истории старинных повестей и сказок русских» (с. 102— 123). С этими повестями, занесенными во многие рукописные сборники, имеют связь и те народные сказания о Соломоне, которые вошли в «Српске народне приповиjетке» Караджича.
16. Солдат и Смерть
a. Один солдат прослужил двадцать пять лет, а отставки ему нет — как нет! Стал он думать да гадать: «Что такое значит? прослужил я Богу и великому государю двадцать пять лет, в штрафах не бывал, а в отставку не пущают; дай пойду, куды глаза глядят!» Думал-думал и убежал. Вот ходил он день, и другой, и третий, и повстречался с Господом. Господь его спрашивает: «Куда идешь, служба?» — «Господи, прослужил я двадцать пять лет верою и правдою, вижу: отставки не дают — вот я и убежал; иду теперь, куды глаза глядят!» — «Ну, коли ты прослужил двадцать пять лет верою и правдою, так ступай в рай — в царство небесное». Приходит солдат в рай, видит благодать неизреченную, и думает себе: вот когда поживу-то! Ну только ходил он, ходил по райским местам, подошел к святым отцам и спрашивает: не продаст ли кто табаку? — «Какой, служба, табак! тут рай, царство небесное!» Солдат замолчал. Опять ходил он, ходил по райским местам, подошел в другой раз к святым отцам и спрашивает: не продают ли где близко вина? — «Ах ты, служба-служба! какое тут вино! здесь рай, царство небесное!» <…> — «Какой тут рай: ни табаку, ни вина!» — сказал солдат и ушел вон из раю.
Идет себе да идет, и попался опять навстречу Господу. «В какой, — говорит, — рай послал ты меня, Господи? ни табаку, ни вина нет!» — «Ну, ступай по левую руку, — отвечает Господь, — там все есть!» Солдат повернулся налево и пустился в дорогу. Бежит нечистая сила: «Что угодно, господин служба?» — «Погоди спрашивать; дай прежде место, тогда и разговаривай». Вот привели солдата в пекло [127]. «А что, табак есть?» — спрашивает он у нечистой силы. — «Есть, служивой!» — «А вино есть?» — «И вино есть!» — «Подавай всего!» Подали ему нечистые трубку с табаком и полуштоф перцовки. Солдат пьет-гуляет, трубку покуривает, радехонек стал: вот взаправду рай — так рай! Да недолго нагулял солдат, стали его черти со всех сторон прижимать, тошно ему пришлося! Что делать? пустился на выдумки, сделал сажень, настрогал колышков и давай мерить: отмерит сажень и вобьет колышок [128]. Подскочил к нему чорт: «Что ты, служба, делаешь?» — «Разве ты ослеп! Не видишь что ли? хочу монастырь построить» [129]. Как бросился чорт к своему дедушке: «Погляди-тка, дедушка, солдат хочет у нас монастырь строить!» Дед вскочил и сам побежал к солдату: «Что, — говорит, — ты делаешь?» — «Разве не видишь, хочу монастырь строить». Дед испугался и побежал прямо к Богу: «Господи! какого солдата прислал ты в пекло: хочет монастырь у нас построить!» — «А мне что за дело! зачем таких к себе при(ни)маете?» — «Господи! возьми его отте́дова». — «А как его взять-то! сам пожелал». — «Ахти! — завопил дед, — что же нам бедным с ним делать?» — «Ступай, сдери с чертенка кожу и натяни на барабан, да после выйди из пекла и бей тревогу: он сам уйдет!» Воротился дед, поймал чертенка, содрал с него кожу, натянул барабан. «Смотрите же, — наказывает чертям, — как выскочит солдат из пекла, сейчас запирайте ворота крепко-накрепко, а то как бы опять суда ни ворвался!» Вышел дед за ворота и забил тревогу; солдат как услыхал барабанный бон — пустился бежать из ада, сломя голову, словно бешеной; всех чертей распугал, и выскочил за ворота. Только выскочил, — ворота хлоп и заперлися крепко-накрепко. Солдат осмотрелся кругом: никого не видать и тревоги не слыхать; пошел назад и давай стучаться в пекло: «Отворяйте скорее! — кричит во все горло, не то ворота сломаю!» — «Нет, брат, не сломаешь! — говорят черти. — Ступай себе, куда, хочешь, а мы тебя не пустим; мы и так насилу тебя выжили!»
Повесил солдат голову и побрел куда глаза глядят. Шел-шел и повстречал Господа. «Куда идешь, служба?» — «И сам не знаю!» — «Ну, куда я тебя дену? послал в рай — не хорошо! послал в ад — и там не ужился!» — «Господи, поставь меня у своих дверей на часах». — «Ну, становись». Стал солдат на часы. Вот пришла Смерть. «Куда идешь?» — спрашивает часовой [130]. Смерть отвечает: «Иду к Господу за повелением, кого морить мне прикажет». — «Погоди, я пойду спрошу». Пошел и спрашивает: «Господи! Смерть пришла; кого морить укажешь?» — «Скажи ей, чтоб три года морила самой старой люд». Солдат думает себе: «Эдак, пожалуй, она отца моего и мать уморит: ведь они старики». Вышел и говорит Смерти: «Ступай по лесам и три года точи самые старые дубы» [131]. Заплакала Смерть: «За что Господь на меня прогневался, посылает дубы точить!» И побрела по лесам, три года точила самые старые дубы; а как изошло время — воротилась опять к Богу за повелением. «Зачем притащилась?» — спрашивает солдат. — «За повелением, кого морить Господь прикажет». — «Погоди, я пойду спрошу». Опять пошел и спрашивает: «Господи! Смерть пришла; кого морить укажешь?» — «Скажи ей, чтоб три года морила молодой народ» [132]. Солдат думает себе: «Эдак, пожалуй, она братьев моих уморит!» Вышел и говорит Смерти: «Ступай опять по тем же лесам и целых три года точи молодые дубы [133]; так Господь приказал!» — «За что это Господь на меня прогневался!» Заплакала Смерть и пошла по лесам. Три года точила всё молодые дубы, а как изошло время — идет к Богу; едва ноги тащит. «Куда?» — спрашивает солдат. — «К Господу за повелением, кого морить прикажет». — «Погоди, я пойду спрошу». Опять пошел и спрашивает: «Господи! Смерть пришла; кого морить укажешь?» — «Скажи ей, чтоб три года младенцев морила». Солдат думает себе: «У моих братьев есть ребятки; эдак, пожалуй, она их уморит!» Вышел и говорит Смерти: «Ступай опять по тем же лесам и целых три года гложи самые малые дубки». — «За что Господь меня мучает!» — заплакала Смерть и пошла по лесам. Три года глодала самые что́ ни есть малые дубки; а как изошло время — идет опять к Богу, едва ноги передвигает [134]. «Ну теперь хоть подерусь с солдатом, а сама дойду до Господа! за что так девять лет он меня наказует?» Солдат увидал Смерть и окликает: «Куда идешь?» Смерть молчит, лезет на крыльцо. Солдат ухватил ее за шиворот, не пускает. И подняли они такой шум, что Господь услыхал и вышел: «Что такое?» Смерть упала в ноги: «Господи, за что на меня прогневался? мучалась я целых девять лет: все по лесам таскалась, три года точила старые дубы, три года точила молодые дубы, а три года глодала самые малые дубки… еле ноги таскаю!» — «Это всё ты!» — сказал Господь солдату. — «Виноват, Господи!» — «Ну, ступай же за это, носи девять лет Смерть на зако́ртышках! (на плечах. — см. Словарь Рос. Акад.).
Засела Смерть на солдата верхом. Солдат — делать нечего — повёз ее на себе, вёз-вёз и уморился; вытащил рог с табаком и стал нюхать. Смерть увидала, что солдат нюхает и говорит ему: «Служивой, дай и мне понюхать табачку». — «Вот те на! полезай в рожок да и нюхай, сколько душе угодно». — «Ну, открой-ка свой рожок!» Солдат открыл, и только Смерть туда влезла — он в ту ж минуту закрыл рожок и заткнул его за голенище [135]. Пришел опять на старое место и стал на часы. Увидал его Господь и спрашивает: «А Смерть где?» — «Со мною». — «Где с тобою?» — «Вот здесь за голенищем». — «А ну, покажи!» — «Нет, Господи, не покажу, пока девять лет ни выйдет: шутки ли ее носить на закортышках! ведь она не легка!» — «Покаж, я тебя прощаю!» Солдат вытащил рожок и только открыл его — Смерть тотчас и села ему на плеча. «Слезай, коли не сумела ездить!» — сказал Господь. Смерть слезла. «Умори же теперь солдата!» — приказал ей Господь и пошел — куда знал.
«Ну, солдат! — говорит Смерть, — слышал — тебя Господь велел уморить!» — «Что ж? надо когда-нибудь умирать! дай только мне исправиться». — «Ну, исправься!» Солдат надел чистое белье и притащил гроб. «Готов?» — спрашивает Смерть. — «Совсем готов!» — «Ну, ложись в гроб!» Солдат лег спиной кверху. «Не так!» — говорит Смерть. — «А как же?» — спрашивает солдат и улегся на́ бок. «Да всё не так!» — «На тебя умереть-то не угодишь!» — и улегся на другой бок. «Ах, какой ты, право! разве не видал, как умирают?» — «То-то и есть, что не видал!» — «Пусти, я тебе покажу». Солдат выскочил из гроба, а смерть легла на его место. Тут солдат ухватил крышку, накрыл поскорее гроб и наколотил на него железные обручи; как наколотил обручи — сейчас же поднял гроб на плечи и стащил в реку. Стащил в реку, воротился на прежнее место и стал на часы. Господь увидал его и спрашивает: «Где же Смерть?» — «Я пустил ее в реку». Господь глянул — а она далеко плывет по воде. Выпустил ее Господь на волю. «Что ж ты солдата не уморила?» — «Вишь, он какой хитрой! с ним ничего не сделаешь». — «Да ты с ним долго не разговаривай; пойди и умори его!» Смерть пошла и уморила солдата.
b. Жил да был один солдат, и зажился он долго на свете, попросту сказать — чужой век стал заедать. Сверстники его понемногу отправляются на тот свет, а солдат себе и ухом не ведет, знай себе таскается из города в город, из места в место. А по правде сказать — не солгать: Смерть давно на него зубы точила. Вот приходит Смерть к Богу и просит у него позволения взять солдата; долго-де зажился на свете, пора-де ему и честь знать, пора и умирать! Позволил Бог Смерти взять солдата.
Смерть слетела с небес с такою радостью, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Остановилась у избушки солдата и стучится. «Кто тут?» — «Я». — «Кто ты?» — «Смерть». — «А! зачем пожаловала? я умирать-то не хочу». Смерть рассказала солдату все, как следует. «А, если уж Бог велел, так другое дело! против воли Божией нельзя идти. Тащи гроб! Солдат на казенный счет всегда умирает. Ну, поворачивайся, беззубая!» Смерть притащила гроб и поставила посреди избы. «Ну, служивый, ложись; когда-нибудь надо же умирать». — «Не растабарывай! знаю я вашего брата, не надуешь. Ложись-ка прежде сама». — «Как сама?» — «Да так. Я без артикула ничего не привык делать; что начальство покажет: фрунт — что ли там, аль другое что, — то и делаешь. Уж так привык, сударка моя! не переучиваться же мне: старенек стал!» Смерть поморщилась и полезла в гроб. Только что расположилась она в гробу, как следует, — солдат возьми да и нахлопни гроб-то крышкой, завязал веревкой и бросил в море. И долго, долго носилась Смерть по волнам, пока не разбило бурей гроба, в котором она лежала.
Первым делом Смерти, как только она получила свободу, опять была просьба к Богу, чтобы позволил ей взять солдата. Бог дал позволение. Снова пришла Смерть к солдатской избушке и стучится в двери. Солдат узнал свою прежнюю гостью и спрашивает: «Что нужно?» — «Да я за тобой, дружище! теперь не вывернешься». — «А врешь, старая чертовка! не верю я тебе. Пойдем вместе к Богу». — «Пойдем». — «Подожди, мундир натяну». Отправились в путь. Дошли до Бога; Смерть хотела было идти вперед, да солдат не пустил: «Ну куда ты лезешь? как смеешь ты без мундира… идти? Я пойду вперед, а ты жди!» Вот воротился солдат от Бога. «Что, служивый, правду я сказала?» — спрашивает Смерть. — «Врешь, солгала немного. Бог велел тебе прежде леса подстригать да горы ровнять; а потом и за меня приниматься». И солдат отправился на зимния квартиры вольным шагом, а Смерть осталась в страшном горе. Шутка ли! разве мала́ работа — леса постригать да горы ровнять? И много, много лет трудилась Смерть за этой работой, а солдат жил себе да жил.
Наконец и в третий раз пришла за солдатом Смерть, и нечем ему было отговориться: пошел солдат в ад. Пришел и видит, что народу многое множество. Он то толчком, то бочком, а где ружье на перевес, и добрался до самого сатаны. Посмотрел на сатану и побрёл искать в аду уголка, где бы ему расположиться. Вот и нашел; тотчас наколотил в стену гвоздей, развесил амуницию и закурил трубку. Не стало в аду прохода от солдатика; не пускает никого мимо своего добра: «Не ходить! вишь, казенныя вещи лежат; а ты может, на руку нечист. Здесь всякого народу много!» Велят ему черти воду носить, а солдат говорит: «Я двадцать пять лет Богу и великому государю служил, да воды не носил; а вы с чего это вздумали… Убирайтесь-ка к своему дедушке!» Не стало чертям житья от солдата; хоть бы выжить его из ада, так не йдет: «Мне, — говорит, — и здесь хорошо!» Вот черти и придумали штуку: натянули свинячную кожу, и только улегся солдат спать — как забили тревогу. Солдат вскочил да бежать; а черти сейчас за ним двери и притворили, да так себе обрадовались, что надули солдата!.. И с той поры таскался солдат из города в город, и долго еще жил на белом свете, — да вот как-то на прошлой неделе только помер.
(Записана в Нижнем Новгороде).
c. Служил солдат Богу и великому государю целых двадцать пять лет, выслужил три сухаря и пошел домой на родину. Шел-шел и крепко задумался: «Господи Боже ты мой! служил я царю двадцать пять лет, был сыт и одет; а теперь до чего дожил? и голоден, и холоден; только и есть что́ три сухаря». А навстречу ему убогой нищий и просит милостинку. Солдат отдал нищему один сухарь, а себе оставил два. Пошел дальше; немного погодя попадается ему другой нищий, кланяется и просит милостинку. Солдат подал и этому сухарь, и остался у него один. Опять пошел дальше своей дорогою и повстречал третьяго нищаго: кланяется ему старец и просит милостинку. Вынул солдат последний сухарь и думает: «Целой дать — самому не останется, половину дать — пожалуй, сойдется этот старец с прежними нищими, увидит у них по целому сухарю и обидится: лучше отдам ему весь, а сам обойдусь коё-как!» Отдал последний сухарь и остался ни при чем. Вот старец и спрашивает его: «Скажи, доброй человек, чего желаешь, в чем нуждаешься? я те́ помогу». — «Бог с тобой! — отвечает солдат, — с тебя, старичек, взять нечего: ты сам человек убогой». — «Да ты не смотри на мое убожество; только скажи, чего желаешь, — а я уж награжу тебя за твою добродетель». — «Мне ничего не надо; а коли есть у тебя карты, так подари на память». Старец вынул из-за пазухи карты и дает солдату: «Возьми, — говорит, — с кем ни станешь играть в эти карты — всякаго обыграешь: да вот на́ тебе и торбу: что ни встретишь на дороге, зверя ли, птицу ли, и захочешь поймать, — только распахни торбу и скажи: «Полезай сюда, зверь али птица!» — и все сделается по-твоему» [136]. — «Спасибо», — сказал солдат, взял карты и торбу и поплёлся в путь-дорогу.
Шел близко ли, далеко ли, долго ли, коротко ли, и пришел к озеру, а на том озере плавают три диких гуся. Вот солдат и вздумал: «Дай-ка я торбу свою попробую!» Вынул ее, распахнул и говорит: «Эй вы, дикие гуси! полетайте в мою торбу». И только выговорил эти слова — как снялись гуси с озера, и прилетели прямо в торбу. Солдат завязал торбу, поднял на плеча и пустился в дорогу. Шел-шел, и пришел в город. Забрался в трактир и говорит хозяину: «Возьми этого гуся и зажарь мне к ужину, а другаго гуся отдаю тебе за хлопоты, а третьяго променяй мне на водку». Вот солдат сидит себе в трактире да угощается: выпьет винца да гусем и закусит. И вздумалось ему посмотреть в окошко: стоит на другой стороне большой дворец, только во всем дворце нет ни одного стекла целаго. «Послушай, — спрашивает он хозяина, — что это за дворец и отчего пустой стоит?» — «Да вишь, — говорит хозяин, — царь наш выстроил себе этот дворец, только жить-то в нем нельзя; вот уже семь лет пустеет! всех нечистая сила выгоняет! Кажную ночь собирается там чертовское сонмище, шумит, пляшет, в карты играет и всякия скверны творит». Вот солдат пошел к царю. «Ваше царское величество! позволь, — говорит, — мне в твоем порожнем дворце одну ночь переночевать». — «Что ты, служба! — говорит ему царь, — Бог с тобою! уж были такие смельчаки, брались переночевать в энтом дворце, да ни один живой не вороча́лся!» — «Небось, русской солдат ни в воде не тонет, ни в огне не горит. Служил я Богу и великому государю двадцать пять лет, да не умер; а то за одну ночь у тебя помру!» — «Я ж тебе говорю: пойдет туда с вечера живой человек, а утром одне косточки найдут». Солдат стоит на своем: пусти да пусти его во дворец. «Ну, — говорит царь, — ступай с Богом, ночуй, коли хочешь; я с тебя воли не снимаю».
Пришел солдат во дворец и расположился в самой большой комнате; снял с себя ранец и саблю, ранец поставил в уголок, а саблю на гвоздик повесил; сел за стол, вынул кисет с табаком, набил трубку — и покуривает себе. Вот ровно в двенадцать часов — откуда что взялось — набежало во дворец чертей видимо-невидимо; поднялся гам, крик, пляс, музыка. «А и ты, служивой, здесь! — закричали черти. — Зачем пожаловал? Не хочешь ли поиграть с нами в карты?» — «Отчего не хотеть! только, чур, играть моими картами». Сейчас вынул свои карты и ну сдавать. Стали играть; раз сыграли — солдат выиграл, в другой — опять солдат выиграл; сколько ни ухитрялись черти, а все деньги спустили солдату: он знай себе загребает! «Постой, служивой, — говорят черти, — есть у нас еще шестьдесят четвериков серебра да сорок золота, давай-ка играть с тобой на это серебро и золото!» — и посылают они малаго чертёнка таскать серебро. Стали снова играть, солдат все обыгрывает: уж чертёнок таскал-таскал, все серебро перетаскал, и говорит старому дьяволу: «Дедушка, больше нету!» — «Таскай, пострел, золото!» Вот он таскал-таскал золото, целой угол завалил, а толку все нету, все солдат обыгрывает. Жалко стало чертям своих денег; вот они и давай приступать к солдату, да как заревут: «Разорвем его, братцы! съедим его!» — «Еще посмотрим, кто кого съест!» — говорит солдат, схватил торбу, распахнул и спрашивает: «А это что?» — «Торба», — говорят черти. — «А ну, по Божьему слову, полезайте в торбу!» Только сказал — и полезли черти в торбу; да много ж набралось их, чуть ни давят друг дружку! Солдат завязал торбу покрепче и повесил на стенку на гвоздь; а сам улегся спать.
Поутру посылает царь своих людей: «Ступайте, проведайте — что с солдатом деется? Коли пропал от нечистой силы, так приберите его косточки!» Вот и пошли; приходят во дворец — а солдат весело по горницам похаживает да трубочку покуривает. «Здорово, служивой! не чаяли увидать тебя живаго! Ну, как ночевал, как с чертями поладил?» — «Что черти! вы посмотрите-ка, сколько я серебра да золота у них выиграл, вишь какия кучи!» Посмотрели царские люди и вздивовались, а солдат им наказывает: «Приведите, братцы, да поживее двух кузнецов, да чтоб захватили с собой железную плиту и молоты». Те бего́м бросились в кузницу, и живо справили дело. Пришли кузнецы с железной плитою, с тяжелыми молотами. «Ну-ка, — говорит солдат, — снимите эту торбу да приударьте её по-кузнешному». Стали кузнецы снимать торбу и говорят промеж собою: «Ишь какая тяжелая! черти — что ли в ней напханы!» А черти откликаются: «Мы, батюшки! мы, родимые!» Сейчас положили кузнецы торбу на железную плиту и давай молотами постукивать, словно железо куют. Жутко пришлось чертям, невмоготу стало терпеть: «Смилуйся! — заорали, — выпусти, служивой, на вольной свет, по век тебя не забудем; а уж в этот дворец ни один чорт ни ногой… всем закажем, за сто верст от него будем бегать!» Солдат остановил кузнецов, и только развязал торбу — черти так и прыснули, и пустились без оглядки в тартарары — в преисподнюю. А солдат не промах, ухватил одного стараго чорта, разрезал ему лапу до крови: «Подавай, — говорит, — росписку, что будешь мне верно служить!» Нечистой написал ему в том росписку своею кровию, отдал и навострил лыжи. Прибежали черти в пекло, переполошили всю нечистую силу — и старых, и малых; сейчас расставили кругом пекла часовых и крепко-накрепко приказали караулить, чтоб как-нибудь не пробрался туда солдат с торбою.
Пришел солдат к царю. Так и так, говорит, очистил дворец от дьявольскаго наваждения. «Спасибо, — говорит ему царь, — оставайся жить у меня, стану тебя заместо брата почитать». Остался солдат при царе жить [137]; всего у него вдоволь, денег куры не клюют, и задумал он жениться. Оженился, а через год после того дал ему Бог сына. Вот и приключилась этому мальчику хворь, да такая — не может никто вылечить; уж сколько лекарей перебывало, толку нет ни на грош. И задумал солдат про того стараго черта, что дал ему росписку, а в росписке написал: вечно-де буду тебе верным слугою; вздумал и говорит: «Куда-то мой старой чорт девался?» Вдруг явился перед ним тот самой чорт и спрашивает: «Что твоей милости угодно?» — «А вот что: захворал у меня сынишка, не знаешь ли — как бы его вылечить?» Чорт вытащил из кармана стакан, налил его холодной водою, поставил хворому в головах и говорит солдату; «Поди-ка, посмотри на́ воду». Солдат смотрит на воду, а чорт его спрашивает: «Ну, что видишь?» — «Я вижу: в ногах у моего сына стоит Смерть». — «Ну, коли в ногах стоит, то будет здоров; а если бы Смерть в головах стояла — то непременно бы помер». Потом берёт чорт стакан с водою и брызнул на солдатскаго сына, и в ту же минуту он здоров сделался. Подари мне этот стакан, — говорит солдат, — и больше ничего от тебя не надо». Чорт подарил ему стакан, а солдат воротил назад росписку. Сделался солдат знахарем, стал лечить бояр и генералов; только посмотрит в стакан — и сейчас скажет: кому помереть, кому выздороветь.
Случилось самому царю захворать; призвали солдата. Вот он налил в стакан холодной воды, поставил царю а головах, поглядел — и видит, что Смерть тут же в головах стоит. И говорит солдат: «Ваше царское величество! никто тебя не сможет вылечить. Смерть в головах уж стоит; всего-навсего только три часа и осталось тебе жить!» Царь услыхал эти речи и сильно на солдата озлобился: «Как так? — закричал на него, — ты многих бояр и генералов вылечивал, а меня не хочешь? Сейчас прикажу казнить тебя смертию!» Вот солдат думал-думал: что ему делать? и начал просить Смерть: «Отдай, — говорит, — царю мой век, а меня умори; все равно придется мне помереть — так уж лучше помереть своею смертию, чем лютую казнь претерпеть!» Посмотрел в стакан, и видит, что Смерть стоит у царя в ногах. Тут солдат взял воду и сбрызнул царя: стал он совершенно здоров. «Ну, Смерть! — говорит солдат, — дай мне сроку хоть на три часа, только домой сходить да с женой и сыном проститься». — «Ступай!» — отвечает Смерть. Пришел солдат домой, лег на кровать и крепко разболелся. А Смерть уж около него стоит: «Ну, служивой! прощайся скорее, всего три минуты осталось тебе жить на свете». Солдат потянулся, достал из-под голов свою торбу, распахнул и спрашивает: «Что это?» — Смерть отвечает: «Торба». — «Ну, коли торба, так полезай в нее!» Смерть прямо в торбу и шурхнула. Солдат — куда и хворь девалась — вскочил с постели, завязал торбу крепко-накрепко, взвалил ее на плеча и пошел в леса Брянские, дремучие. Пришел и повесил этую торбу на горькой осине, на самой вершине, а сам воротился домой.
С той поры не стал народ помирать: рожаться — рожается, а не помирает! Вот прошло много лет, солдат все торбы не снимает. И случилось ему идти по городу. Идет, а навстречу ему эдакая древняя старушка: в которую сторону подует ветер, в ту сторону и валится. «Вишь какая старуха! — сказал солдат, — чай, давно уж помирать пора!» — «Да, батюшка! — отвечает старушка, — мне давно помереть пора, — еще в тоё время, как посадил ты Смерть в торбу, оставалось всего житья моего на белом свете один только час. Я бы и рада на покой, да без Смерти земля не примает, и тебе, служивой, за это от Бога непрощоный грех! ведь не одна душа на свете так же, как я, мучится!» Вот солдат и стал думать: «Видно, надобно выпустить Смерть-та; уж пускай уморит меня… И без того на мне грехов много; так лучше теперь, пока еще силён, отмучуюсь на том свете; а как сделаюсь крепко стар, тогда хуже будет мучиться». Собрался и пошел в Брянские леса. Подходит к осине и видит: висит торба высоко-высоко и качает ее ветром в разны стороны. «А что, Смерть, жива?» — спрашивает солдат. Она из торбы едва голос подает: «Жива, батюшка!» Снял солдат торбу, развязал и выпустил Смерть, и сам лег на кровать, прощается с женою и сыном, и просит Смерть, чтоб уморила его. А она бегом за двери, давай Бог ноги: «Пущай, — кричит, — тебя черти уморят, а я тебя морить не стану!»
Остался солдат жив и здоров, и вздумал: «Пойду-ка я прямо в пекло: пущай меня черти бросят в кипучую смолу и варят до тех пор, покудова на мне грехов не будет». Простился со всеми, и пошел с торбою в руках прямо в пекло. Шел он близко ли — далеко, низко ли — высоко, мелко ли — глубоко, и пришел-таки в преисподнюю. Смотрит, а кругом пекла стоят часовые. Только он к воротам, а чорт спрашивает: «Кто идет?» — «Грешная душа к вам на мучение». — «А это что у тебя?» — «Торба». Заорал чорт во все горло, ударили тревогу, сбежалась вся нечистая сила, давай запирать все двери и окна крепкими запорами. Ходит солдат вокруг пекла и кричит князю пекельному: «Пусти, пожалуста, меня в пекло; я пришел к вам за свои грехи мучиться». — «Нет не пущу! ступай, куда знаешь; здесь тебе места нету». — «Ну, коли не пущаешь меня мучиться, то дай мне двести грешных душ; я поведу их к Богу, может — Господь и простит меня за это!» Князь пекельный отвечает: «Я тебе еще от себя прибавлю душ пятьдесят, только уходи отсюдова!» Сейчас велел отсчитать двести пятьдесят душ и вывесть в задние ворота, так чтобы солдат не увидел. Сказано, сделано. Забрал солдат грешныя души и повел к самому раю. Апостолы увидали и доложили Господу: «Такой-то солдат двести пятьдесят душ из пекла привел». — «Примите их в рай, а солдата не пущайте». Только солдат отдал одной грешной душе свою торбу и приказал: «Смотри, как войдешь в райские двери — сейчас скажи; полезай, солдат в торбу!» Вот райские двери отворились, стали входить туда души, вошла и грешная душа с торбою, да о солдате от радости и забыла. Так солдат и остался, ни в одно место не угодил. И долго после того он жил-жил на белом свете, да вот только на днях помер.
(Все заимствованы из собрания В. И. Даля).
Примечание к № 16. Смерть является здесь не отвлеченным понятием, а согласно древнейшему представлению — живою, олицетворенною; такою видим ее и в другой легенде («Пустынник» — № 21), и в немецких сказках, о чем подробнее будет сказано ниже, и в известной «Повести о бодрости человеческой» (начало: «Человек некий ездяше по полю чистому, по раздолью широкому, конь под собою имея крапостию обложен, зверовиден…»). Повесть эта попадается во многих рукописях XVII и XVIII столетий; составляя любимое чтение грамотного люда, она перешла в устные сказания и на лубочную картину. Приводим здесь народный рассказ об Анике-воине, в том виде, в каком записан он в нашем собрании:
Жил-был Аника-воин; жил он двадцать лет с годом, пил-ел, силой похвалялся, разорял торги и базары, побивал купцов и бояр и всяких людей. И задумал Аника-воин ехать в Ерусалим-град церкви Божии разорять; взял меч и копье, и выехал в чистое поле на большую дорогу. А навстречу ему Смерть с острою косою [138]. «Что это за чудище! — говорит Аника-воин, — царь ли ты царевич; король ли королевич?» — «Я не царь-царевич, не король-королевич, я твоя Смерть — за тобою пришла!» — «Не больно страшна: я мизинным пальцем поведу — тебя раздавлю!» — «Не хвались, прежде Богу помолись! Сколько ни было на белом свете храбрых могучих богатырей — я всех одолела. Сколько побил ты народу на своем веку! — и то не твоя была сила, то я тебе помогала». Рассердился Аника-воин, напускает на Смерть своего бо́рзаго коня, хочет поднять ее на копье булатное; но рука не двигнется. Напал на него великий страх, и говорит Аника-воин: «Смерть моя — Смерточка! дай мне сроку на один год». Отвечает Смерть: «Нет тебе сроку и на полгода». — «Смерть моя — Смерточка! дай мне сроку хоть на три месяца». — «Нет тебе сроку и на три недели». — «Смерть моя — Смерточка! дай сроку хоть на три дни». — «Нет тебе сроку и на три часа». И говорит Аника-воин: «Много есть у меня и сребра, и золота, и каменья драгоценнаго: дай сроку хоть на один час — я бы ро́здал нищим все свое имение». Отвечает Смерть: «Как жил ты на вольном свете, для чего тогда не раздавал своего имения нищим? Нет тебе сроку и на единую минуту!» Замахнулась Смерть острой косою и подкосила Анику-воина: свалился он с коня и упал мертвой [139].
Народные русские поверья представляют Смерть вечноголодною, пожирающею все живое; в первом списке напечатанной нами легенды — когда солдат заставил ее несколько лет глодать одни лесные деревья, Смерть так отощала, что едва ноги двигала.
В аду солдат до того надоел чертям, что они долго не знали, как его выжить, и наконец уже вызвали его из этого теплого места, ударив в барабан тревогу.
Подобный рассказ есть о матросе Проньке:
Был матрос Пронька; всю службу свою слыл горькой пьяницей: чарка для него была полглотка, а ендову осушал в два приема без отдыха. Что там ему ни говори, только и услышишь: «Пей да дело разумей! пьян да умен — два угодья в нем! пьяница проспится, дурак никогда!» И впрямь, дело он разумел, от работы не отказывался, говорил всегда правду, и все его любили и берегли. Раз как-то Великим постом стал ему говорить священник: «Пронька, Бога ты не боишься! Неравён час — во хмелю умрешь; ведь смерть ходит не за горами! Ну, что тогда скажешь ты, как пьяной предстанешь пред Господа?» А он в ответ: «Батюшка! что у трезваго на уме, то у пьянаго на языке: всю правду, значит, скажу перед Богом». Как сказал священник, так и случилось. С каких — уж не знаю — радостей сильно подпил Пронька, да видно слишком на себя понадеялся, полез на мачту и свалился оттуда прямо в воду. Вот по сказанному, как по писанному, явился он на тот свет пьянёшенек, и не знает, куда идти? а там, дело известное, и для трезваго потемки; так пьяному-то просто беда! Вот пошла ранжировка да перекличка, кого куда; матросов-горемык — известно, всех в рай назначают, и Проньку вскричали туда ж. А он бурлит себе, замешался в толпу, и попал в ад; шумит там пуще всех, только другим мешает… Много было хлопот, чтобы вывесть его из ада; долго не могли с ним справиться; да уж Никола Морской догадался, взял боцманскую дудку, стал у райских дверей и засвистал к вину. Как услыхал Пронька, сейчас бросился из ада вон и в ту ж минуту явился куда следует.
(Из собрания В. И. Даля).
Особенно интересны подробности в третьем списке легенды о «Солдате и Смерти». Подробности эти совершенно сходны с теми, какие встречаем в немецкой сказке «Bruder hustig» (см. Kinder- und Hausmärchen, ч. 1, № 81); и здесь, и там одинаков рассказ о том, как получает солдат чудесную торбу (ранец), как заключает в нее чертей и освобождает от нечистой силы покинутый дворец. Только нет в немецкой сказке той проделки со Смертью, вследствие которой попадает она в торбу и несколько лет висит в лесу на осине; да сверх того в окончании находим следующее изменение: приходит солдат к небесным вратам и стучится. На страже стоял тогда св. Петр. «Ты хочешь в рай?» — спрашивает апостол. — «В аду меня не приняли, — говорит солдат, — пусти в рай». — «Нет, ты сюда не войдешь!» — «Ну, если не хочешь меня впустить, то возьми назад ранец; я ничего не хочу от тебя иметь». И вместе с этими словами просунул свой ранец сквозь райскую решетку, св. Петр взял ранец и повесил возле своего кресла. Тогда сказал солдат: «Теперь я желаю сам быть в моем ранце». И вмиг он очутился там, и св. Петр принужден был оставить его в раю.
Далее, в русской легенде встречаем эпизодический рассказ о том, как черт научил солдата лечить: он дал ему чародейный стакан, в котором — если нальешь туда холодной воды и поставишь его возле больного — непременно увидишь, где стоит Смерть, у изголовья или в ногах хворающего: в последнем случае стоит только взбрызнуть его водой из стакана — и в ту же минуту он встанет здрав и невредим. Этот любопытный эпизод развит у немцев в особенной сказке «Der Gevatter Tod» (в собрании сказок братьев Гримм, ч. 1, № 44):
Жил-был бедняк, у него было двенадцать детей; и день и ночь работал он, чтобы пропитать свою семью. Когда родился у него тринадцатый ребенок, он уже не знал, чем пособить себе в нужде; вышел на большую дорогу и решился первого, кого встретит, взять в кумовья. Первый встречный ему был сам Господь; зная, что у него на душе, он сказал: «Мне тебя жаль, и я хочу окрестить твоего ребенка, буду заботиться о нем и сделаю его счастливым». — «Но кто ты?» — «Я Господь». — «Нет, не возьму тебя в кумовья; ты наделяешь богатых, и оставляешь голодать бедных». Так сказал бедняк, потому что не ведал он, как премудро распределяет Бог и богатства и нищету. Повернулся он и пошел дальше. Навстречу ему дьявол и говорит: «Возьми меня в крестные отцы твоему ребенку; я наделю его грудами золота и всеми наслаждениями жизни». — «А ты кто?» — «Я дьявол». — «Нет, ты искушаешь и обманываешь человека». Пустился в путь дальше; идет костлявая Смерть и говорит: «Возьми меня кумом». — «Кто ты?» — спрашивает бедняк. — «Я Смерть, которая всех уравнивает». — «Да ты справедлива; ты не различаешь ни богатых, ни бедных, и ты будешь моим кумом». В назначенный день пришла Смерть, и крещение было совершено. Когда мальчик подрос, он пошел однажды навестить своего крестного. Смерть повела его в лес, указала на одну траву, которая там росла, и сказала: «Вот тебе дар от твоего крестного. Я сделаю тебя славным лекарем. Всякий раз, как позовут тебя к больному, ты меня увидишь: если буду я стоять в головах больного, то смело говори, что можешь его вылечить; дай ему этой травы, и он выздоровеет. Но если стану я у ног больного — он мой [140]. Тогда должен ты сказать, что всякая помощь будет напрасна, и что никакое лекарство в мире не в силах его спасти». В короткое время повсюду разнеслась молва о новом славном лекаре, которому сто́ит только взглянуть на больного, чтобы наверно узнать, будет ли он снова здоров или умрет. Со всех сторон звали его к больным, много давали ему золота, и вскоре он сделался богатым. Между тем случилось заболеть королю. Призвали лекаря и спросили, возможно ли выздоровление? Когда явился он у постели больного, Смерть стояла в ногах и никакое снадобье не могло ему пособить. «Нельзя ли мне хоть однажды перехитрить Смерть? — подумал лекарь. — Конечно, ей не понравится; но ведь я недаром ей крестник, и она верно посмотрит на это сквозь пальцы; дай, попробую». Он приподнял короля и уложил так, что Смерть очутилась в головах больного; тотчас дал ему травы, и король восстал совершенно исцеленный. Смерть подошла к лекарю, лицо ее было мрачно и гневно; она погрозила пальцем и сказала: «Ты обманул меня; на этот раз я тебя прощаю, потому что ты мой крестник; но берегись! Если попробуешь в другой раз сделать то же — возьму тебя самого!»
Вскоре после того заболела тяжким недугом дочь короля: это было его единственное дитя, день и ночь он плакал и повсюду приказал объявить: кто спасет королевну от смерти, тот будет ее мужем и наследует все царство. Лекарь явился к постели больной, взглянул — Смерть стояла в ногах королевны. Ему припомнилось было, как предостерегал его крестный отец; но изумительная красота королевны и счастье быть ее мужем рассеяли все опасения. Он не видел, что Смерть бросала на него гневные взгляды и грозила пальцем, приподнял больную и положил ногами к изголовью, дал ей травы — в ту ж минуту на щеках ее показался румянец, и жизнь воротилась к ней снова.
Обманутая вторично Смерть приблизилась к лекарю и сказала: «Теперь твоя очередь настала»; ухватила его своей ледяной рукой так крепко, что он не мог противиться, и повела в подземную пещеру. Там увидел он в необозримых рядах тысячи и тысячи возженных свеч: и большие, и наполовину сгоревшие, и малые. В каждое мгновение одни из них погасали, а другие вновь зажигались, так что огоньки при этих беспрестанных изменениях казалось перелетали с места на место. «Взгляни, — сказала Смерть, — это горят человеческие жизни. Большие свечи принадлежат детям, наполовину — сгоревшие людям средних лет, малые старикам. Но часто бывает, что и дети и юноши наделяются небольшой свечой». Лекарь просил показать, где горит его собственная жизнь. Смерть указала ему на маленький огарок, который грозил скоро погаснуть; «Вот смотри!» — «Ах, милый крестный! — сказал устрашенный лекарь, — зажги мне новую свечу, позволь мне насладиться жизнью, быть королем и мужем прекрасной королевны». — «Это невозможно, — отвечала Смерть, — прежде нежели зажечь новую, должно погасить прежнюю». — «А ты поставь этот догорающий остаток на новую свечу — так, чтобы она тотчас же зажглася, как скоро он потухать станет». Смерть притворилась, что хочет исполнить желание своего крестника, взяла новую большую свечу, но приставляя к ней старый огарок, нарочно, из мщения, его уронила; пламя погасло, и в ту же минуту лекарь упал наземь и сделался добычей смерти. (См. также Deutsche Hausmärchen, von I. W. Wolf, c. 365: «Das Schloss des Todes»).
Подобный же рассказ известен и у венгров (см. Ungarische Volksmärchen. Nach der aus Georg Gaals Nachlacc herausgegebenen Urschrift übersetzt von g. stier, с. 30—33); только конец другой. Смерть крестит у одного бедняка новорожденного младенца; подпивши на крестинах и развеселясь, она наделяет своего кума чудесной силой исцелять больных, хотя бы они были при самом последнем издыхании: стоит только ему коснуться постели умирающего или стать перед его кроватью — и больной тотчас выздоровеет; сам же он должен умереть тогда, когда скажет аминь. Прежний бедняк делается лекарем и скоро богатеет. Прошло несколько лет, и вздумал он навестить Смерть. Только что поехал в путь, как встретил плачущего ребенка; он взял его к себе и спросил: «О чем ты плачешь?» — «Ах, — сказало дитя, — как мне не плакать? отец прибил меня — за то, что я не знаю в молитве одного слова». — «Какое ж это слово? Отче наш?» — «Нет, не то!» Лекарь проговорил всю молитву до самого конца, но ответ был один: «Нет, не то!» — «Так верно: аминь?» — сказал он наконец. — «Да, — сказала Смерть (это она явилась в виде плачущего ребенка), — да, аминь!.., и тебе, кум, аминь!» И он тут же умер; сыновья его разделили между собой все богатство, и если не померли, то до сих пор здравствуют на белом свете.
Г-н Максимович записал русский народный рассказ о мужике и Смерти, в котором то же самое содержание, но обстановка и подробности другие (см. Три сказки и одна побасенка. Киев, в типогр. Ф. Гликсберга, 1845, с. 45—48):
Мужик косил сено. Вдруг коса обо что-то зацепилась и зазвенела. «Нашла коса на камень!» — сказал мужик. — «Да, похоже на то!» — проговорила кочка. Мужик смотрит: кочка подымается, закурилась — и стала из нее Смерть. С испугу он замахнулся на нее косою. «Постой! — говорит Смерть, — не шали, я тебе пригожусь; я тебя сделаю лекарем; только смотри, берись лечить тех, у кого буду стоять в ногах; станешь вылечивать непременно; если ж увидишь меня в головах у кого, отказывайся». Сказав это, Смерть пропала. Пошел мужик в Москву, и принялся лечить; за кого ни возьмется, как рукой болезнь снимет! Пронеслась об нем слава, от больных отбою нет; разбогател он и зажил в каменном доме. Один раз зовут его к богатому купцу. Приходит он; видит, что Смерть в головах, и не берется лечить. «Сделай милость полечи! что хочешь возьми…» — «Право не могу!» — «Вот тебе сейчас пятьсот рублей, а вылечишь дадим пять тысяч — вот и вексель!…» — «Пять тысяч — деньги! — думает мужик, — дай попытаюсь!..» Дал своего снадобья и ушел до завтра. Только что принял больной лекарство, как тут же дух вон. На другой день приходит мужик к купцу лечить; только уж его самого там попользовали, да так ловко, что к вечеру он слег в постелю. Оглянется — а Смерть у него в головах. «Плохо дело! — думает мужик, — как быть?» — и говорит своим: «Неловко что-то лежать мне; положите-ка меня к изголовью ногами». Переложили его; глядит он: Смерть все в головах. «Ох, все неловко! — говорит он, — придвиньте-ка плотнее кровать к стене, да положите меня поперек». Повернули его и так; глядит, а Смерть все в головах, и шепчет ему на ухо: «Полно, брат! не отвертишься…» Через день после похорон купца, и мужика снесли на кладбище.
См. еще в Народн[ых] славян[ских] рассказах И. Боричевского (с. 82—87) повесть об одном скряге.
17. Видение
a. Шел прохожий и выпросился ночевать к одному дворнику. Накормили его ужином, и улегся он спать на лавочку. У этого дворника было три сына, все женатые. Вот после ужина разошлись они с женами спать в особые клети, а старик-хозяин взобрался на печку. Прохожий проснулся ночью и увидал на столе разной гад; не стерпел такой срамоты, вышел из избы вон и зашел в ту клеть, где спал большой хозяйской сын; здесь увидел, что дубинка бьется о́т полу до самаго потолка. Ужаснулся и перешел в другую клеть, где спал середний сын; посмотрел, а меж ним и женой лежит змий и дышет на них. «Дай еще испытаю третьяго сына», — подумал прохожий и пошел в иную клеть; тут увидал кунку (куницу): перескакивает с мужа на жену, с жены на мужа. Дал им спокой и отправился в поле; лег под зоро́д (большая куча, стог. — Опыт обл. великор. словаря) сена, и послышалось ему — будто какой человек в сене стонет и говорит: «Тошно животу (скотине) моему! ах, тошно животу моему!» Прохожий испугался и лег было под суслон [141] ржаной; и тут послышался голос, кричит: «Постой, возьми меня с собой!» Не поспалось прохожему, воротился к старику-хозяину в избу, и за́чал его старик спрашивать: «Где был, прохожий?» Он пересказал старику все виденное да слышанное: «На столе, — говорит, — нашел я разной гад, — от того, что после ужина невестки твои ничего благословясь не со́брали и не покрыли; у большаго сына бьется в клети дубинка, — это от того, что хочется ему большаком (старшим, главным в доме, хозяином) быть, да малые братья не слушаются: бьется-то не дубинка, а ум-разум его; промеж середняго сына и жены его видел змия, — это потому, что друг на друга вражду имеют; у меньшаго сына видел кунку — значит, у него с женой благодать Божия, живут в добром согласии; в сене слышал стон, — это потому: коли кто польстится на чужое сено, скосит да сметет в одно место с своим, тады чужое-то давит свое, а свое стонет, да и животу тяжело; а что колосье кричало: постой, возьми меня с собой! — это которое с полосы не собрано оно-де говорит: пропаду, соберите меня!» А после сказал прохожий старику: «Наблюдай, хозяин, за своей семьею: большому сыну отдай большину и во всем ему помогай; середняго сына с женою разговаривай, чтобы жили советнее; чужаго сена не коси, а колосье с полос собирай дочиста». Распростился с стариком и пошел в путь-дорогу.
b. Ходил по́ миру старинькой старичек и попросился ночевать к одному мужику. «Пожалуй, — говорит мужик, — я тебя пущу; только станешь ли всю ночь сказывать мне сказки?» — «Хорошо, буду сказывать; дай только отдохнуть». — «Ну, ступай!» Вошел старичек в избу и лег на полати. Хозяин говорит: «Поди-ка, почтенной, поужинай». Старичек слез и поужинал. «Ну, старичек, сказывай сказку». — «Погоди, лучше я поутру расскажу». — «Ладно!» Улеглись спать. Вот старик проснулся в ночи и видит: теплятся перед образами две свечки и порхают по избе две птички. Захотелось ему напиться; слез он с полатей, а по́ полу так и бегают ящерицы; подошел к столу, а там лягушки прыгают да крякают. Посмотрел на старшого хозяйскаго сына, а промеж им и женою змея лежит; посмотрел на втораго сына — на его жене кошка сидит, на мужа рот разинула; глянул на меньшаго сына, а промеж им и женою младенец лежит. Страшно показалось старичку, пошел он и лег на гувне (овин. — Опыт обл. великор. словаря), а тут кричат: «Сестра! сестра! прибери меня». Лег под изгородой, и тут кричат: «Выдерни, да вторни (воткни. — Там же) меня!» Лег под чугун, здесь кричат: «На бобре вешу́, на бобёр упаду!» Пошел старичек в избу. Просыпается хозяин и говорит: «Ну, сказывай сказку!» А старичек ему: «Я не сказки буду тебе сказывать, а правду. Знаешь ли, что я в твоем доме видел? Проснулся я и вижу: теплятся пред образами две свечки, а по избе две птички перепархивают». — «Это мои два ангела перепархивали!» — говорит хозяин. — «Да еще видел я: промеж старшим твоим сыном и его женою змея лежала». — «Это от того, что они в ссоре». — «Глянул я ночью и на другаго сына, а на его жене кошка сидит, на мужа рот разинула». — «Это значит, что они недружно живут, хочет жена мужа известь». — «А как посмотрел на меньшаго сына, так меж им и женою младенец лежал». — «Это не младенец, ангел лежал, оттого что живут они дружно, согласно». — «Отчего же, хозяин, как слез я с полатей, так по́ полу ящерицы бегали; а как подошел к столу и хотел испить, так по нем лягушки прыгали да крякали?» — «Оттого, — сказал хозяин, — что снохи мои никогда угарочка (лучины. — Опыт. обл. великор. словаря) не подметут, а квас, как нацедят в кружку, так не благословясь и поставят на стол». — «Пошел было я спать на гувно, а там кричат: сестра! сестра! прибери меня». — «А это вот что значит: мои сыновья никогда мётел благословясь на место не поставят!» — «Потом лег я под изгороду, а там кричит: выдерни, да вторни!» — «Это значит, что изгорода вверх низом поставлена». — «Потом лег я под чугун, а там кричит: на бобре вешу, на бобёр упаду». — Хозяин говорит: «А это вот что — коли я помру, то и весь дом мой опустится!»
(Из собрания В. И. Даля: первая записана в Архангельской губернии, а вторая в Зубцовском уезде Тверской губернии).
Примечание к № 17. Поэтическому взгляду поселянина все в природе представляется живым, одушевленным: это отразилось в тысяче различных примет, сказалось в заговорах и песнях, запечатлелось в самом языке и преданиях. Не собранные с нивы колосья просят его: «Возьми и нас с собою!» Свое сено, скошенное с собственного луга, стонет под гнетом чужого, захваченного с соседского участка. Изгородь, поставленная в землю верхними концами, упрашивает выдернуть ее и вбить в землю нижними концами; по народному поверью, колья в заборе должны стоять точно так, как стояли они, будучи живыми деревьями, т. е. корнем книзу.
Соединяя с крестным знамением великую силу, прогоняющую нечистых духов, простолюдин убежден, что ни одно дело не следует начинать «не благословясь»; в противном случае не жди удачи (см. № 21, «Пустынник»), Если где стряпуха готовит обед или ужин не благословясь, если где питье и ествы ставятся на стол без крестного знамения; то в этот дом приходят черти, пьют и едят вместе с хозяевами, пляшут и поют срамные песни; к благословенному же столу ни один бес не может приблизиться (см. № 20, «Пустынник и дьявол»). Лубочная картина представляет две трапезы: «трапезу благочестивых людей, ядущих со благодарением: ангел Господень предстоит им, благословляет, а бесы прогоняет, Христовою силою помрачает» и «трапезу неблагодарных людей, празднословцев, кощунов, скверноглаголющих, ядущих без благословения: ангел Господень отврати лице свое от них, отъиде — стоя плачет яко видит: бесы веселящеся с ними» [142]. Сосудов и кринок с разными кушаньями и напитками не советуют оставлять непокрытыми, боясь, чтобы вражая сила не осквернила их; если нечем покрыть, то должно перекрестить, или по крайней мере положить сверху две лучины накрест. В легенде, напечатанной под № 18, черт Потанька влезает в опару, приготовленную без благословения; в другой легенде (№ 19) нечистый садится в кувшин с водой, оставленный непокрытым. Между поселянами нашими ходит рассказ об одном мужике, который подпил на свадьбе и был уведен чертом. Целых три года пропадал он без вести, да раз как-то под праздник сошлось в торговой бане бесовское сборище и мужика с собой привело; давай пировать, плясать, песни распевать! до того загулялись, что петухи запели — и в ту ж минуту сгинули все черти. Остался один мужик в бане, начал он стучать в двери и насилу достучался, чтоб отперли. Сторожа́ выпустили его из бани, смотрят — мужик весь в лохмотьях, чуть не голый вышел: так обносился! И дивуются все, как попал он в баню; стали его расспрашивать. Мужик рассказал, что целые три года таскался с чертями по разным местам: «Где свадьба, или какой праздник, там и нечистые завсегда: придут и засядут на печке, а как станут хозяева подавать на стол неблагословенное кушанье, они тотчас подхватят то блюдо к себе, все изготовленное съедят, а вместо еды накладут на блюдо всякой погани. То же самое и с питьем: вино ли, мед ли подадут не благословясь — они дочиста опорожнят посудину, да и нальют туда чего хуже не выдумаешь!»
18. Потанька
Одна баба не благословесь замешала опару. Прибежал бес Потанька, да и сял. А баба и вспомнила, што не благословесь замешала опару, пришла да и перекрестила: Потаньке выскочить-то нельзя. Баба процедила опару и вывалила опарины на улицу, а Потанька всё тут. Свиньи перепехивают ево с места на место, а вырватца не мо́жот; да чрез трои суд(т)ки коё-как выбился и без оглядки убежал. Прибежал к товарищам; те спрашивают: «Где был, Потанька?» — «Да будь она про́клятая баба! опару, — говорит, — замесила ли, завела ли не благословесь; я пришол да и сял. Она взяла да меня и перекрестила, дак насилу вырвался чрез трои судки: свиньи перепехивают меня с опариной, а я выбитца не могу; теперь в жиз(н)ь мою никогда не сяду к бабе в опару!»
(Записана в Пермской губернии Шадринского округа, в заштатном городе Долматове государственным крестьянином Александром Зыряновым).
19. Поездка в Иерусалим
Какой-то архимандрит (в)стал к заутрине; пришол умыватца, видит в рукомой(ни)ке нечистой дух, взял ево да и заградил (крестом). Вот дьявол и взмолился: «Выпусти, отче! каку хошь налош(ж)ь службу — сослужу!» Архимандрит говорит: «Свозишь ли меня между обеднёй и заутринёй в Ерусалим?» — «Свожу, отче, свожу!» Архимандрит ево выпустил и после заутрины до обедни успел съездить в Ерусалим, к обедне поспел обратно. После забрали как-то справки, — все удивились, как он скоро мок(г) съездить в Ерусалим, спросили ево, и он рассказал это.
(Записана там же государственным крестьянином А. Зыряновым).
Примечание к № 19. Сличи с рассказом, напечатанным под № 20 («Пустынник и дьявол»). Источником этой легенды послужило известное сказание «О великом святители, о Иванне, архиепископе Великаго Новаграда, како был единой нощи из Новаграда в Иерусалиме-граде и паки възвратися», занесенное в Четьи-Минеи и во многие старинные сборники житий [143].
Перейдя в область народной литературы, сказание это, без сомнения, должно было подчиниться различным переделкам и изменениям; в устах народа появилось оно во множестве вариантов, далеко отступающих от своего первоначального источника, но тем не менее любопытных своими характеристическими подробностями. Вот один из этих вариантов (из собрания сказок В. И. Даля):
В старые годы, когда и черти не прочь были учиться по-солдатски: маршировать и ружьем выкидывать, был-жил в Питере солдат, смелой да бойкой! Служил он ни хорошо, ни худо; на дело не напрашивался, от безделья не отказывался. Вот досталось ему однажды стоять на часах в Галерном порте и как нарочно в самую полночь. Пошел он с Богом, перекрестясь, и сменил товарища; стоит себе, да от нечего делать выкидывает ружьем на краул. Глядь, идет к нему нечистой; солдат не сробел, а хотя б и струсил, так что ж делать? от чорта не в воду! «Здорово, служба!» — говорит чорт. — «Здравия желаю!» — «Поучи, пожалуйста, меня на краул выкидывать; долго приглядываюсь, а никак понять не смогу». — «Прямой ты чорт! — сказал солдат, — да где же тебе понять-то? Я вот десять лет служу, и нашивку имею, — а все еще учуся [144]; уж и колотушек перенес не одну тысячу! А ты хочешь одной наглядкою взять. Нет брат, уж это больно скоро да и дешево!» — «Поучи, служивой!» — «Пожалуй; только за что сам купил, за то и тебе продам». Поставил солдат чорта во фронт, и для почину как свиснет его во всю мочь прикладом по затылку, ажно пошатнулся нечистой. «А! так ты еще нагибаешься во фронте!» — и давай его лупить по чем попало; отсчитал ударов десять, и видит, что чорт только ножками подергивает, а кричать совсем перестал… «Ну, — говорит, — ступай теперь! на первой раз довольно будет. Хоть мне и жаль тебя, да что делать? без того нельзя. Сам ведаешь, служба всего выше, а во фронте, брат, нету родни!» Тошнёхонек пришелся чорту первой урок; но солдат говорит, что без му́ки не бывает науки; стало быть — так надо: ему лучше знать! Поблагодарил чорт за ученье, дал солдату десять золотых и ушел. «Эка! — думает солдат, — жалко, что мало бил! то ли дело, кабы разов двадцать ударил: глядишь, он бы двадцать золотых дал!»
Ровно через неделю досталось солдату опять стоять на часах и на том же самом месте. Стоит он, выкидывает ружьем разные приемы, а на уме держит: «Ну, коли теперь явится нечистой, уж я свое наверстаю!» В полночь откуда ни взялся — приходит нечистой. «Здравствуй, служба!» — «Здорово, брат! зачем пришел?» — «Как зачем? Учиться». — «То-то и есть! а то хотел сразу все захватить! Нет, дружище, скоро делают, так слепые родятся… Становись во фронт! — командует солдат, — грудь вперед, брюхо подбери, глаза в начальство уставь!» Долго возился он с чортом, много надавал ему тузанов и колотушек, и таки выучил нечистого делать ружьем: и на плечо, и к ноге, и на краул. «Ну, — говорит, — теперь ты хоть к самому сатане на ординарцы, так и то не ударишь лицом в грязь! только разве в том маленькая фальшь будет, что хвост у тебя назади велик. Ну-ка, повернись налево кругом!» Нечистой повернулся, а солдат вынул из кармана шейной крестик, да потихоньку и нацепил на чорта. Как запрыгает чорт, как закричит благим матом! «А что, разве это вам чертям не по нутру?» — спрашивает солдат. Чорт видит, что впросак попался, давай сулить солдату и серебра, и золота, и всякого богатства. Солдат не прочь от денег, и велел притащить ни мало, ни много — целый воз. В минуту все было готово: чорт притащил целой ворох денег, солдат спрятал их в овраге и закрестил; «А то, — говорит, — вы, бесовская сволочь! нашего брата православнаго только обманываете, вместо золота уголье насыпаете!» [145]— «Что ж, служивой! — молит бес, — отпусти меня, сними свой крестик». — «Нет, брат, погоди! Деньги деньгами, а ты сослужи мне и другую службу. Вот уж десять лет, как не был я дома, а там у меня жена и детки остались; смерть хочется побывать на родине да и на своих посмотреть. Свози-ка меня домой: я брат, не из дальних — из Иркутской губернии. Как свозишь, тогда и крест сниму!» Чорт поморщился-поморщился и согласился. На другой день пошел солдат к начальству, отпросился на два дня погулять (а были тогда праздники), и сейчас же к нечистому; уселся на него верхом и крепко-крепко ухватился за рога. Чорт как свиснет, как понесется — словно молния! Солдат только посматривает, как мелькают перед ним города и села: «Ай да молодец! люблю за прыть!» И не успел еще проговорить всего, глядь — уж и приехал. Слез солдат с чорта: «Спасибо, говорит; вот удружил, так удружил! Ступай теперь, куда знаешь, а завтра на́ ночь приходи: назад поедем». Прогостил, пропировал солдат целых два дни, а к ночи попрощался с родными, и воротился на чорте в Питер как раз в срок. И вить как измучил нечистаго! чуть-чуть рог ему не обломал! Снял он с него крест и не успел еще в карман спрятать, глядь — а уж чорта нет! и след простыл! С той самой поры и не видал солдат чорта; забрал он бесовския деньги и зажил себе припеваючи.
Есть еще другая сказка о том, как черт выучился маршировать и выделывать ружьем всякие штуки, и пошел наниматься в солдаты. Один бедный мужик пошел заложил ему свою душу и поставил его заместо себя в рекруты. Плохо пришлось дьяволу, одних палок сколько обломали об его спину, а тут еще белые ремни носи на́крест: просто хоть удавиться! Крепился-крепился, не выдержал и бежал со службы; не польстился и на́ душу.
В приведенном нами рассказе, равно как и легенде «Солдат и Смерть», в ярких чертах выступает народный юмор, что, по нашему мнению, придает им особенно живой интерес. Вообще следует заметить, что в большей части народных русских сказок, в которых выводится на сцену нечистый дух, преобладает шутливо-сатирический тон. Черт здесь не столько страшный губитель христианских душ, сколько жалкая жертва обманов и лукавства сказочных героев: то больно достается ему от злой жены, то бьет его солдат прикладом; то попадает он под кузнечные молоты, то обмеривает его мужик на целые груды золота.
20. Пустынник и дьявол
a. Один пустынник молился тридцеть три года, и видит к какому-та царю ходят дьявола́ на обед, и́вкают, гайкают (кричат, кличут), пляшут, скачут и песни поют. Один раз Потанька хромой отстал от дьяволо́в; пустынник вышол да и спрашивает ево: «Куда вы так ходите?» — «Да ходим вот к такому-то царю на обед; у нево все стряпухи делают всё не благословесь, нам и ладно!» Старик и думает, как бы об этом известить царя; а от цоря носили ему обедать кажной день. Он принял ества да на тарелках взял и надписал, што дьявола к нему ходят на обед кажной день. Царь уви́дял эту надпись, тотчас всех людей переменил и поставил к стряпне людей набожных; за чево они ни во́змутца — всё говорят: «Господи, благослови!» Видит пустынник дьяволов — вперед шли весёлы и радостны, а назад идут заунывны и печальны, и спрашиват опеть Потаньку, што они не весёлы? Тот только и сказал: «Молчи жо! ужо́ мы тебе отплатим!» Не стал вида́ть после тово пустынник дьяволов. Один раз приходит к нему женщина набожна. Он её распросил, кака́, откуда? те — други́ разговоры, стали винцо попивать и напились, сговорились венчатца; пошли, видят — всё готово, как и есть. Пришло время венцы надевать; уж начали — только надеть. Пустынник и перекрестился; дьявола отступились, и он увидял петлю; да после тово опеть тридцеть три года молился, грехи замаливал!
(Записана там же государственным крестьянином А. Зыряновым).
b. Был пустынник, молился тридцать лет Богу: мимо его часто пробегали беси. Один из них хромой отставал далеко от своих товарищей. Пустынник остановил хромаго и спросил: «Куды вы, беси, бегаете?» Хромой сказал: «Мы бегаем к царю на обед». — «Когда побежишь назад, принеси мне солонку от царя; тогда я поверю, что вы там обедаете». Он принес соло́ницу. Пустынник сказал: «Когда побежишь опять к царю обедать, забеги ко мне взять назад солоницу». Между тем на солонке написал: «Ты, царь, не благословясь кушаешь; с тобой беси едять!» Государь велел, чтобы на стол становили все благословясь. После того бесёнки прибежали на обед и не могут подойти к благословенному столу, жжет их, и убежали назад. Начали спрашивать хромаго: «Ты оставался с пустынником; верно, говорил с ним, что на обед ходим?» Он сказал: «Я только одну солоницу приносил ему от царя». Начали беси хромаго за то драть, для чего сказывал пустыннику. Вот хромой в отмщение построил против кельи пустынника кузницу, и стал стариков переделывать в горне на молодых. Пустынник увидал это, захотел и сам переделаться: «Дака, говорит, и я переделаюсь!» Пришел в кузницу к бесёнку, говорит: «Нельзя ли и меня переделать на молодаго?» — «Изволь», — отвечает хромой и бросил пустынника в горно; там его варил-варил и выдернул молодцом; поставил его перед зеркало: «Поглядись-ка теперь — каков ты?» Пустынник сам себе налюбоваться не может. Потом понравилось (захотелось) ему жениться. Хромой предоставил ему невесту; оба они глядят — не наглядятся друг на друга, любуются — не налюбуются. Вот надобно ехать к венцу; бесёнок и говорит пустыннику: «Смотри, когда венцы станут накладывать, ты не крестись!» Пустынник думает: как же не креститься, когда венцы накладывают? Не послушался его и перекрестился, а когда перекрестился, — то увидел, что над ним нагнута осина, а на ней петля. Если б не перекрестился, так бы тут и повис на дереве; но Бог отвел его от конечной погибели.
(Из собрания В. И. Даля).
c. Жил-был святой пустынник, и вычитал он в писании: всё, чего ни пожелаешь, и всё, чего ни попросишь у Бога с верою, — то Господь тебе и дарует. Захотелось ему испытать: правда ли это? «Ну, можно ли тому статься, — думал он, — коли я пожелаю взять за себя царевну, то ужли ж царь и выдаст ее за такого старца!» Думал-думал и пошел к царю. Так и так, говорит, хочу взять за себя царевну замуж. А царь говорит: «Коли ты достанешь мне такой дорогой камень, какого еще никто не видывал, так царевна будет твоею женою». Воротился пустынник в келью; а чорту давно уж досадно смотреть на его святое житие, пришел он соблазнять пустынника и стал сказывать ему про свое могучество. «А сможешь ли ты, нечистой, влезть в этот кувшин с водою?» — «Э! да я, пожалуй, в пустой орех влезу, не только в кувшин!» — «Одначе попробуй сюда влезть!» Чорт сдуру влез в кувшин, а пустынник и начал его крестить. «Пусти меня; сделай милость, пусти! — заорал чорт во все горло, — крест меня жжет, страшно жжет!» — «Нет, не пущу! разве возьмешься достать мне такой дорогой камень, какого еще никто на свете не видывал — ну, тогда другое дело!» — «Достану; право слово; достану; только пусти!» Пустынник открестил кувшин; чорт выскочил оттудова и улетел. Через малое время воротился он с таким дорогим камнем, что всякому на диво! Взял пустынник камень и понес к царю. Тот — делать нечего — велел царевне готовиться замуж за старца; а пустынник и говорит: «Не надо! вишь, начитал я в писании: что ни попрошу у Бога — то мне и сделает, вот мне и захотелось попытать, а взаправду-то жениться я не хочу». А нечистой уж как было радовался, что смутил пустынника: «Вот де женится на царевне, какое тут спасенье!»
В другой раз заспорил пустынник с чортом: «Не влезишь-де ты, окаянный, в орех-свистун (свищ)!» Чорт расхвастался и влез. Вот пустынник давай его крестить. «Пусти! — закричал нечистой, — пожалуста, пусти! меня огнем жжет!» — «Выпущу, коли пропоешь ангельские гласы!» — «Не смею, — говорит нечистой, — меня разорвут за это наши!» — «Одначе пропой!» Что делать? согласился чорт; вот выпустил его пустынник на волю, сам пал на колени и зачал Богу молиться, а нечистой запел ангельские гласы: то-то хорошо! то-то чудесно! Вишь, черти-то прежде были ангели, от того они и знают ангельские гласы. Как запел он — так и поднялся на небо: Бог, значит, простил его за это пение.
(Записана А. Н. Афанасьевым в Воронежской губернии, Бобровском уезде).
Примечание к № 20. См. в Kinder- und Hausmärchen ч. II, с. 85. Передаем еще один рассказ о труженике и демоне соблазнителе:
Жил в лесу труженик, тридцать лет трудился он Богу, и сколько ни старалась нечистая сила — никак не могла его смутить. Стали черти промеж себя думать, что бы такое ему сделать; думали-думали, и вот как ухитрились. Оборотился один нечистой странником и пошел мимо кельи труженика, а другой ему навстречу, напал на него словно разбойник и давай душить. Труженик услыхал шум и крики, схватил топор и бросился на помощь; только глядь: пустился разбойник бежать от него в сторону, а другой чорт, что был странником, лежит да охает, едва дух переводит. «Помоги, — умоляет, — доброй человек! возьми в свою келью, пока с силами соберуся. Совсем было задушил окаянной!» Взял его труженик в свою келью; пожил нечистой день и два, и говорит старцу: «Спасённое твое дело! много в нем благодати! Хочется и мне потрудиться; оставлю жену и детей и пойду к тебе под начало». Вот стали они вместе трудиться, дни и ночи стоят на коленах и кладут поклоны. Еще старец иной раз устанет и вздремнет, а новой труженик совсем не знает у́стали. Прошло сколько-то времени, и стал нечистой говорить старцу: «Не добро нам вместе трудиться, пожалуй, лишнее слово скажешь или друг дружку осудишь. Давай перегородим келью на́двое и станем жить всякой в своей половине». Так и сделали. Раз как-то захотелось старику посмотреть, что делается у соседа; крепился он, крепился и не выдержал. Влез на перегородку и просунул голову; смотрит: стоят на столе бутыли с вином и разныя скоромныя ествы, а за столом сидит чудная-чудная красавица. «А, так ты за мной подсматривать!» — сказал нечистой, — схватил его за бороду и перетащил на свою сторону. «Выбирай теперь любое за свою провинность: хочешь — вина выпей, или мяса съешь; хочешь — блуд сотвори. А не то, брат, прощайся с белым светом; у меня коротка расправа!» — «Как быть? — думает старец, — что мне сделать? Если мяса съем — теперь пост, будет большой грех; если блуд сотворю — грешнее того будет; выпью лучше я вина». Выпил один стакан, и сам не знает, от чего вдруг повеселел; а чорт уж другой ему подставляет. Выпил и другой, и третий, и забыл про свое спасение: наелся скоромнаго и блуд сотворил. «Пойдем теперь воровать! — говорит нечистой. — Заодно уж грешить; семь бед — один ответ!» Пошли ночью в деревню, залезли в кладовую, и ну забирать что по́д руку попало. Чорт нарочно как застучит: такого грохоту наделал, что хозяева проснулись, тотчас схватили старика и посадили его в тюрьму. А чорт в ту ж минуту неведомо куда пропал. Наутро собрался народ и присудил повесить вора: «Этих старцев жалеть нечего; они не Богу молятся, а только норовят в клеть забраться!» Привели вора на базарную площадь, встащили на виселицу и накинули петлю на шею; вдруг откуда ни взялся нечистой, стал к нему под ноги и начал его поддерживать. «Что, — спрашивает, — небось испугался?» — «Как не испугаться! — говорит старец, — смерть моя приходит». — «А ну, посмотри: не увидишь ли чего?» — «Вижу: обоз идет». — «А велик?» — «Да так велик, что один конец уж давно проехал, а другаго еще и не видать!» — «С чем обоз?» — «Со старыми, дырявыми лаптями». — «Это, брат, те самые лапти, что мы оттоптали в трудах и хлопотах, чтобы как-нибудь тебя смутить. Не видишь ли еще чего?» — «Вижу: болото огнем горит, а в огне котлы кипят». — «Так и мы с тобой будем жить!» — сказал дьявол и столкнул старца с своих плеч. Так и погиб он на виселице смертию грешника.
(Из собрания В. И. Даля).
21. Пустынник
Было-жило три мужика. Один мужик был богатой; только жил он, жил на белом свете, лет двести прожил, всё не умирает; и старуха его была жива, и дети, и внуки, и правнуки все были живы — никто не умирает; да что? из скотины даже ни одна не тратилась (не издыхала)! А другой мужик слыл бессчастным, ни в чем не было ему удачи, потому что за всякое дело принимался без молитвы; ну, и бродил себе то туда, то сюда, бе́з толку. А третий-то мужик был горькой-горькой пьяница; все до́чиста с себя пропил и стал таскаться по миру.
Вот однова сошлись они вместе, и отправились все трое к одному пустыннику. Старику захотелось выведать, скоро ли Смерть за ним прийдёт, а бессчастному да пьянице — долго ли им горе мыкать? Пришли и рассказали всё, что с ними сталося. Пустынник вывел их в лес, на то место, где сходились три дорожки, и велел древнему старику идти по одной тропинке, бессчастному по другой, пьянице по третьей: там, дискать, всяк свое увидит. Вот пошел старик по своей тропинке, шел-шел, шел-шел, и увидал хоромы, да такие славные, а в хоромах два попа; только подступился к попам, они ему и гуторят: «Ступай, старичек, домой! как вернёшься — так и умрешь». Бессчастный увидал на своей тропинке избу, вошел в нее, а в избе стоит стол, на столе краюшка хлеба. Проголодался бессчастный, обрадовался краюшке, уж и руку протянул, да позабыл лоб-то перекрестить — и краюшка тотчас исчезла! А пьяница шел-шел по своей дорожке и дошел до колодца, заглянул туда, а в нем гады, лягва и всякая срамота! Воротился бессчастный с пьяницей к пустыннику и рассказали ему, что видели. «Ну, — сказал пустынник бессчастному, — тебе николи́ и ни в чем не будет удачи, пока ни станешь ты за дело приниматься, благословясь и с молитвою; а тебе, — молвил пьянице, — уготована на том свете му́ка вечная — за то, что упиваешься ты вином, не ведая ни постов, ни праздников!» А старик-то древний пошел домой и только в избу, а Смерть уж пришла за душою. Он и за̀чал просить: «Позволь еще пожить на белом свете, я бы роздал свое богачество нищим; дай сроку хоть на три года!» — «Нет тебе сроку ни на три недели, ни на три часа, ни на три минуты! — говорит Смерть, — чего прежде думал — не раздавал?» Так и умер старик. Долго жил на земле, долго ждал Господь, а только как Смерть пришла — вспомнил о нищих.
(Записана А. Афанасьевым в Воронежской губернии, Бобровском уезде).
22. Повесть о бражнике
Во дни неки посла Господь ангелов взяти душу бражникову, и поставити ю у врат пречистаго рая повеле. Бражник же нача талк(ит)ися во врата пречистаго рая. И прииде ко вратам рая Петр апостол и рече: «Кто талкийся во врата пречистаго рая?» И отвеща ему: «Аз ес(м)ь бражник, в желаю с вами в раю жити». И рече Петр апостол: «Отыде отсюда, человече; здесь бражники не водворяютца, ибо им изготована мука вечная со блудниками вместе». И отвеща ему бражник: «Господине, глас твой слышу, а лица не вижу, и имени твоего не вем». — «Аз ес(м)ь Петр апостол, который имею(ет) ключи сего царствия славы». «Помнишь ли ты, господине Петре, когда Господа нашего И(и)суса Христа иудеи на судилище к Каиафе поведоша и тебя вопрошали: ученик есть сего И(и)суса назарянина? — а ты трикраты от него отрекся. Аще бы не слезы твои и покаяние, и тебе не быть в раю; а я хоша и бражник — по вся дни Божие пил и за всяким корцом имя Господне прославлял, а не отрекался от него». Слыша Петр ответ бражников, отыде от врат пречистаго рая и сумнился о сем человеце бражнике.
Вторицею нача бражник талкитися у врат пречистаго рая, и прииде ко вратам царь и пророк Давыд и рече: «Кто талкийся у врат пречистаго рая?» И бысть глас к нему: «Аз есмь бражник, и желаю с вами в раю жити». И рече к нему царь Давыд: «Отыде, человече, отсюда; здесь бражники не водворяютца, ибо им уготовано место в муку вечную со блудниками вместе». И отвеща бражник: «Господине, глас твой слышу, а лица твоего не вижу, и имени твоего не вем». И рече к нему царь Давыд: «Аз есмь царь и пророк, который седяй со Авраамом и Иссааком на лоне царствия сего и состави псалтырь и песни троичныя». И бысь ответ бражников: «Помнише ли ты, царю Давыде, когда бысть брань на Голиафы(?), тогда ты слугу своего Урию на войну услал, и тамо его смерти предати повелел, а жену его к себе в прелюбодеяние приял? Аще бы не были твои слезы и покаяние, и тебе не быть бы в раю». Слыша сие, царь Давыд отыде и сумнися о сем человеце.
Бражник же нача третицею талкитися у врат пречистаго рая. И прииде ко вратам Иоанн Богослов и рече: «Кто талкийся у врат пречистаго рая?» И отвеща ему: «Аз есмь бражник, и желаю с вами вместе в раю жити». И рече Иоанн Богослов: «Отыде отсюда человече; здесь бражники не водворяютца, ибо им уготовано место во огнь кромечный с прелюбодеями вместе». Отвеща бражник: «Господине, глас твой слышу, а лица твоего не вижу, и имени твоего не вем». — «Аз есмь Иоанн Богослов, друг Христов, наперсник, возлюбленник и девственник». — «О господине Иоанне Богослове! не сам ли ты написал во евангелие(и), что любите друг друга, а ты ныне меня ненавидишь и в раю жити не водворяешь; или отрекися от письма руки своея, или вырви из книги лист тот, который написал ты сам!» Отыде Иоанн Богослов и сумнися о сем человеце, и повеле апостолу Петру впустити его во царствие небесное.
(Заимствована из рукописи XVIII столетия).
Примечание к № 22. В собрании рукописей Царского, в сборнике начала XVIII века, находится между прочим: «Слово речемо о бражнике, како вниде в рай Божий» (начало: «Бе некий — человек бражник, пьющ в праздники Господня до обеда, а за всяким ковшем Господа Бога прославляя» [146]). Легенда эта живет в устах народа. Один рассказчик так передавал нам прение бражника с апостолом Петром: пришел бражник к райским вратам, у которых стоял с ключами апостол Петр. «Пусти меня в рай!» — «Нельзя, — говорит апостол, — ты пьяница». — «Не стыдно ль тебе говорить это? Ты сам отрекался от Господа, а вот теперь по милости его держишь ключи от рая». См. также «Русскую беседу», 1859, № 6.
23. Царевич Евстафий
В некотором государстве жил-был царь. У него был младой сын царевич Евстафий; не любил он ни пиров, ни плясок, ни гульбищ, а любил ходить по улицам, да водиться с нищими, людьми простыми и убогими, и дарил их деньгами. Крепко рассердился на него царь, повелел вести к виселице и предать лютой смерти. Привели царевича и хотят уже вешать. Вот царевич пал перед отцем на колени и стал просить сроку хоть на три часа. Царь согласился, дал ему сроку на три часа. Царевич Евстафий пошел тем временем к слесарям и заказал сделать в скорости три сундука: один золотой, другой серебреной, а третий — просто расколоть кряж надвое, выдолбить корытом, и прицепить замо́к. Сделали слесаря́ три сундука и принесли к виселице. Царь с боярами смотрят, что такое будет; а царевич открыл сундуки и показывает: в золотом насыпано полно золота, в серебреном насыпано полно серебра, а в деревянном накладена всякая мерзость. Показал и опять затворил сундуки и запер их накрепко. Царь еще пуще разгневался, и спрашивает у царевича Евстафия: «Что это за насмешку ты делаешь?» — «Государь батюшка! — говорит царевич, — ты здесь с боярами, вели оценить сундуки-то, чего они стоят?» Вот бояре серебреной сундук оценили дорого, золотой того дороже, а деревянной и смотреть не хотят. Евстафий-царевич говорит: «Отомкните-ка теперь сундуки, и посмотрите что́ в них!» Вот отомкнули золотой сундук, а там змеи, лягушки и всякая срамота; посмотрели серебреной — и здесь тоже; открыли деревянной, а в нем ростут древа с плодами и листвием, испускают от себя духи́ сладкие, а посреди стоит церковь с оградою. Изумился царь и не велел казнить царевича Евстафия.
(Записана в Саратовской губернии. Из собрания В. И. Даля).
24. Повесть о царе Аггее и како пострада гордостию
Бысть во граде Филуяне царь, именем Аггей, славен зело. И по времени приключишася стояти ему в церкви у божественныя литургии и чтущу иерею святое евангелие, егда иерей прочтя строки евангельския, внемлет писано: «Богати обнищают, а нищии обогатеют!» Слышав же то царь и возъярися, и рече царь: «Писано ложно есть сие писание: евангельское слово, а неправда!» И глаголет царь: «Аз есмь богат зело и славен; како мне обнищати, а нищему обогатети против меня?» Егда ж оттольи (?) ужасти наполнися, и повеле царь иерея посадити в темницу, а лист повеле из евангелия выдрать. И поиде царь в дом свой и нача пити и ясти и веселитися.
Видевша же царь в поле оленя, поеха [147] и взя с собою юношов, и погна вслед и хоте оленя уловити. Бе же олень прекрасен зело. Царь же рече отроком своим: «Стойте вы зде, аз пойду, уловлю един оленя». И погна вслед; олень поплы за реку. Царь привяза коня своего к дубу, и совлече одежду с себя и поплы наг за реку. Егда реку переплы, и абие олень невидим бысть. Ангел Господень всед на коня царева во образе царя Аггея, сказа юношам своим: «Уплы елень за реку» — и поеде [148]с юношами во град свой ко царице. Царь же Аггей обратился взад на коня, и ни коня и ни платия не обретает, и ста наг и весьма задумался.
И поиде Аггей ко граду своему, и виде пастухов пасуща волов и вопроша́ у них: «Братия меньшая пастухи, где есть видели коня и платие мое?» Пастухи вопроша его: «Кто еси ты?» Он же рече им: «Аз есмь царь ваш Аггей». Пастухи же реша: «Окаянный человек! как ты смееши называтися царем? мы же видели царя Аггея, ныне проехал во град свой с пяти(ью) юношами». И нача его бранити, бити кнутами и трубами(?); царь же нача плакати и рыдати. Пастухи отбиша его прочь, и пошед ко граду своему наг. И сретоша его торговые люди града того и вопрошаша его: «Человече, что еси наг?» И он рече: «Одежду мою пограбили разбойники». Они же даша ему одежду худую и раздраную. Он же взял и поклонишася им, и поиде ко граду своему; и пришедши ко граду своему, попросися к некоей вдове ночевать и нача ее вопрошати: «Скажи, госпоже моя, кто есть у вас царь?» Она же отвещаша ему: «Или ты не нашей земли человек?» И сказа ему: «Царь есть у нас Аггей». Он вопроси: «Сколько лет царствует?» Она же сказала ему: «35 лет». Он же написав своею рукою письмо к царице, что у него были с нею тайныя дела и мысли, и повеле некоей жене снести письмо к царице. Царица взяла письмо и повеле чести пред собою. Он же написася мужем ея царем Аггеем. И нападе на ню страх велик; во страсе том начала говорити: «Како сей убогий [149] человек нарицает своею ми [150] женою? аще сие поведает царь, повелит казнити». И повеле бити его кнутом нещадно без царскаго ведома. Биша его без милости и отпустиша едва жива; он же поиде из града, плача и рыдая, и воспоминая евангельское слово, что богатии обнищают, а нищии обогатеют, и каяся о том попу, како похули святое евангелие, и како иерея в темницу посадил, и поидоша незнаемым путем. Царица рече являющемуся во образе царя ангелу: «Ты, государь мой милый, год со мною не спиши и постели не твориши; како мне пребывати мимо тебя?» Царь же рече ей: «Обещание дано Богу, что три года с тобою не спать и постели не творить» — отыде от нее в царскую свою палату.
Аггей царь прииде в незнаемый град, нанялся у крестьянина работати в лето; и работати крестьянскаго дела не умеет, и крестьянин ему отказа. Он же нача плакати и рыдати, и пойдоша путем от города того, и сретоша его на пути нищии. Он же рече им: «Возьмите убо, братия, и меня с собою; ныне человек убог, работать не умею, а просить не смею и стыжуся. Что ми велите, я у вас стану труждатися». Они же поимше его с собою и даша ему суму носити. Они же приидоша к ночлегу ночевати и повеле ему баню топити, и воду носити, и постелю стлати. Царь же Аггей возплакася горько: «Увы мне! что сотворил себе. Владыку прогневал; сам же царства своего лишился и погибель себе сотворил, а вся пострадал за слово евангельское!..» [151] Заутра же возста нищие и поидоша ко граду своему Филуану, и пришедши на царский двор и нача милостыни просити. И бысть в то время у царя пир велик; и повеле царь взяти нищих в палату, кормити [152] довольно, и повеле взять у нищих мехоношу в царския палаты и посадити в особую палату. И как пир у царя разшелся, и бояра и гости все розыдошася, ангел [153] в образе Аггея царя прииде к нему в палату, где Аггей царь с нищими обедает. «Ведаеши ли ты царя гордаго и великаго, како похули слово евангельское?» И нача его учити и наказывати впредь евангельское слово не хулить и священников почитать, а себя не превозносить, кротку и смиренну быть [154].
(Из собрания В. И. Даля, которому легенда эта, заимствованная из старой рукописи, доставлена из Шенкурского уезда Архангельской губернии).
Примечание к № 24. Повесть о царе Аггее встречается в рукописных сборниках XVII и XVIII столетий. Она представляет весьма близкий вариант «Приклада о гордом цесаре Евиняне (в русском переводе «Римских Деяний») [155]. В народе повесть рассказывается в таком виде:
Гордый богач
Не ведаю где, жил-был себе пан, такой богатой, что карбованцы мерял коробами, золото четвериками, а в медных деньгах и счету не знал. Сколько у него было крестьян, земли, лесов, покосов — нечего и говорить! все равно не пересчитаешь. Охох! да какая ж беда с ним случилась! Из богача сделался он беднее нас грешных: а за что? За то, что Бога позабыл и работал одной нечистой силе. Бывало, добрые люди заутреню слушают в церкви Божией, а у него музыка гудит, да в присядку отжаривают. В церковь он никогда не ходил, и не ведал, зачем туда люди ходят. Да раз как-то вздумалось ему посмотреть, что такое там деется, и вот на праздник Господень пошел пан вместе с панею к обедне. Все православные Богу молятся, а они стоят себе, поглядывают по сторонам да хохочут. Стал дьякон читать: «Богатые обнищают и взалкают…» — как бежит к нему пан, вырвал из рук книгу и хвать дьякона по лысине: «Как смеешь ты, дурень, такия слова при мне сказывать? Разве я могу обнищать и взалкать? Ах ты, кутейник! погоди ж, я тебе покажу, как надо мной смеяться! Если хоть раз еще осмелишься выговорить такия речи, то я так поподчую тебя на конюшне, что до новых веников не забудешь! Подай чернильницу». Дьякон ни жив, ни мертв со всех ног пустился доставать чернильницу и перо; а поп в олтаре спрятался и тресется бедненькой, словно в лихорадке. Принес дьякон чернильницу и перо. «Смотри, неуч! — говорит пан, — что замараю я, того никогда не читать ни при моей жизни, ни после!» Вдруг поднялась буря, молния поминутно блещет, гром все сильней и сильнее, а потом как ударит — Господи, твоя воля! — все, кто только был в церкви, так и повалились на́ пол. Только пан с панею стоят да хохочут. Прибежал староста: «Беда! — говорит, — господской дом горит!» Принялись тушить; да нет, с Богом нельзя спорить. Все на́чисто сгорело, будто и не было панскаго двора. Ну, это богачу как плюнуть: явились новые хоромы еще лучше прежних. Только с того самаго времени, как станет дьяков читать в церкви и только дойдет до того места, где написано, что богатые обнищают и взалкают, — всякой раз, откуда что возьмется, загремит да и загремит на́ небе.
Вот захотелось пану ехать на охоту. Собрали народу — человек с двести будет, да и собак столько же. Сели на коней, затрубили в рога и поскакали в лес; травили там и зайцев, и лисиц, и волков, и медведей, как вдруг бежит олень да такой красивой, что не нагляделся б на него! Пан ударил вслед за оленем: птицей летит на коне, а зверь еще быстрее [156].
Вот близко, вот нагонит, не тут-то было! Уже и полдень прошел, уже и солнышко низко, вот и темнеть стало — а он все гонится за красным зверем. Настала чорная ночь, в лесу хоть глаз выколи — ничего не видно! Тогда только остановил пан своего коня. Что делать? он затрубил в рог, не откликнутся ль его охотники? Прислушался — ничего не слышно, только бор шумит. Затрубил в другой и в третий раз, никто не отзывается; один далекой лес повторяет: тру-тру-тру! Едет пан дальше: уже сдается ему, что село близко, что кони ржут и собаки лают; а все не видать жилья, только небо да земля, да сосны кудрявыя шумят верхушками. Уже и конь пристал, чуть-чуть ноги двигает, а сам он едва на коне сидит. Вдруг блеснул огонёк. Пан снова заиграл в трубу, чтобы вышли к нему навстречу, коли есть тут люди. Чего хотел, то и сделалось. Выскочили из-за деревьев человек двенадцать и встретили его, только не по-пански: один так хватил его по затылку, что пан как сноп повалился на землю. Очнулся — совсем голой, как мать породила! Хотел было повернуться — куда! руки веревкою скручены. Осмотрелся: вокруг огня сидят разбойники и с ними атаман в красном кафтане. «Что ж вы, сволочь, барина не прикроете!» — закричал он на своих молодцов. Тотчас с десяток хлопцев бросилось к пану и давай подчивать его батогами. «Полно! — снова заревел атаман, — отведите его в Волчью долину и привяжите там к дереву; нам он больше не нужен, а волкам пригодится: лакомой будет кусок на завтрак!» Подхватили пана за́ ноги, приволокли в Волчью долину и плотно прикрутили веревкой к сосне. Стоит пан сутки, стоит и другие — нет мочи терпеть: внутри огнем палит, во рту пересохло, вот-вот душа с телом расстанется. А он и не думает покаяться; на уме одно держит: как ворочусь домой, сейчас же соберу крестьян и пойду душить этих проклятых лесовиков!
Недалеко от Волчьей долины, на полянке паслось стадо. Жарко стало в полдень; вот пастухи и погнали сюда своих овец и коров, чтобы усесться самим под сосною и плесть в холодку лапти. Как же они удивились! стоит у сосны голой человек, по рукам и по ногам связанный. «Ах, Грицько! — говорит один пастух, — посмотри-ка: человек привязан в чем мать породила, и весь-то избитой, весь-то в крови! Пойдем, отвяжем его; может еще жив!» — «Что ж? отвяжем», — говорит другой. С этим словом они подошли к сосне и распутали веревки. Пан то молчал, а как сняли с него веревки, сейчас закричал: «Эй, ты, молодец! сними-ка свою сермягу да подай сюда. Хоть твой наряд и плох, а все лучше, чем голым быть. Да проводи меня в барский дом. Знайте, негодяи, с кем вы дело имеете: я ваш барин!..» — «Ого! видишь ли, Грицько, что это за птица! Наш барин!.. Ха-ха-ха! Похож, нечего сказать: похож на барина: кафтан на тебе такой славной, весь расписанной! Нет, человече, Бог тебя знает, кто ты такой; я тебе скажу, что пан наш в высоких хоромах в золотой одёже». — «Ах ты, хамское отродье! смеешь ли ты грубить своему господину?.. Вот я вас! дайте до́ дому добраться». Расходился пан и ну тащить с пастуха свитку (верхняя долгополая одежда). «Так вот оно что! — сказал пастух, — тебя с привязи спустили, а ты и кусаться лезишь! Вот же тебе, бродяга! вот тебе, разбойник!» — и начал отжаривать пана пугою (кнутом). Пан от него, а пастух за ним: шлёп да шлёп, шлёп да шлёп. Как припустит пан в сторону, откуда ноги взялись. Долго бежал он, пока из сил не выбился; выбился из сил и растянулся на дороге. На его счастье идут старцы (нищие, странники). Сжалился один старец, дал ему свою свитку; пан оделся и пошел вместе с ними, питаясь милостиной. Дорогою он рассказал обо всем, что ему приключилось; говорил, как отплатит своим обидчикам и как наградит старцев — за то, что его прикрыли и с собой взяли. Старцы уже новыя торбы (мешки) стали готовить, чтоб было куда положить панские гроши. Вот пришли в село и прямо в барские хоромы лезут. «Куда вы!» — закричали на них слуги. — «Прочь! — сказал пан, — разве не видите, хамы! что ваш господин идет?» — «Какой господин? Был у нас пан, да пропал!» — «Врёте, скоты! я — ваш пан!» — «Ну, брат, погоди маленько!» Пан полез было драться, да куда! схватили его за́ руки и повели к пани. Как услыхала она, что такой срамной, обдерганной волочуга называется ея мужем, разгневалась и приказала высечь его плетьми и зарыть живаго в землю. Что ни делал пан, как ни отбивался, а схоронили его заживо. В церкви опять стали читать вымаранныя слова: «богатые обнищают и взалкают», и при чтеньи дьякона уже не было слышно громовых ударов.
25. Смерть праведнаго и грешнаго
Один старец просил у Бога, чтоб допустил его увидеть, как умирают праведники. Вот явился к нему ангел и говорит: «Ступай в такое-то село и увидишь, как умирают праведники». Пошел старец; приходит в село и просится в один дом ночевать. Хозяева ему отвечают: «Мы бы рады пустить тебя, старичек, да родитель у нас болен, при смерти лежит». Больной услыхал эти речи и приказал детям впустить странника. Старец вошел в избу и расположился на ночлег. А больной созвал своих сыновей и снох, сделал им родительское наставление, дал свое последнее навеки нерушимое благословение и простился со всеми. И в ту же ночь пришла к нему Смерть с ангелами: вынули душу праведную, положили на золотую тарелку, запели «Иже херувимы» и понесли в рай. Никто того не мог видеть; видел только один старец. Дождался он похорон праведника, отслужил панихиду и возвратился домой, благодаря Господа, что сподобил его видеть святую кончину.
После того просил старец у Бога, чтоб допустил его увидеть, как умирают грешники; и был ему глас свыше: «Иди в такое-то село и увидишь, как умирают грешники». Старец пошел в то самое село и выпросился переночевать у трех братьев. Вот хозяева воротились с молотьбы в избу, и принялись всяк за свое дело, начали пустое болтать да песни петь; и невидимо им пришла Смерть с молотком в руках и ударила одного брата в голову. «Ой голова болит!.. ой смерть моя…» — закричал он и тут же помер. Старец дождался похорон грешника и воротился домой, благодаря Господа, что сподобил его видеть смерть праведнаго и грешнаго.
(Записана в Саратовской губернии. Из собрания В. И. Даля).
Примечание к № 25. Та же мысль, которая дала содержание настоящей легенде, выражена и во многих духовных стихах (см. Чтения Общ. истории и древностей Российских, год 3-й, № 9, стр. 183—185, 208 и 211):
Ссылает Господь Бог святых ангелов, Тихиих ангелов, все милостивыих, По его по душеньку по Лазареву. Вынимали душеньку честно и хвально, Честно и хвально в сахарны уста; Да приняли душу на пелену, Да вознесли же душу на небеса… Сослал Господь грозных ангелов, Страшныих, грозныих, немилостивыих, По его по душу по богачёву; Вынули его душеньку не честно, не хвально, Не честно, не хвально скрозь рёбер его. Да вознесли же душу вельми высоко. Да ввергнули душу во тьму глубоко, В тоё злую муку, в геенский огонь.26. Ангел
Родила баба двойни. И посылает Бог ангела вынуть из нее душу. Ангел прилетел к бабе; жалко ему стало двух малых младенцев, не вынул он души из бабы и полетел назад к Богу. «Что, вынул душу?» — спрашивает его Господь. — «Нет, Господи!» — «Что ж так?» Ангел сказал: «У той бабы, Господи, есть два малых младенца; чем же они станут питаться?» Бог взял жезло, ударил в камень и разбил его надвое. «Полезай туда!» — сказал Бог ангелу; ангел полез в трещину. «Что видишь там?» — спросил Господь. — «Вижу двух червячков». — «Кто питает этих червячков, тот пропитал бы и двух малых младенцев!» И отнял Бог у ангела крылья, и пустил его на землю на три года.
Нанялся ангел в батраки у попа. Живет у него год и другой; раз послал его поп куда-то за делом. Идет батрак мимо церкви, остановился и давай бросать в неё каменья, а сам норовит, как бы прямо в крест попасть. Народу собралось много-много, и принялись все ругать его; чуть-чуть не прибили! Пошел батрак дальше, шел-шел, увидел кабак и давай на него Богу молиться. «Что за болван такой! — говорят прохожие, — на церковь каменья швыряет, а на кабак молится! мало бьют эдаких дураков!..» А батрак помолился и пошел дальше. Шел-шел, увидал нищаго, и ну его ругать попрошайкою. Услыхали то люди прохожие и пошли к попу с жалобой: так и так, говорят, ходит твой батрак по улицам — только дурит, над святыней насмехается, над убогими ругается. Стал поп его допрашивать: «Зачем-де ты на церковь каменья бросал, на кабак Богу молился!» Говорит ему батрак: «Не на церковь бросал я каменья, не на кабак Богу молился! Шел я мимо церкви и увидел, что нечистая сила за грехи наши так и кружится над храмом Божьим, так и лепится на крест; вот я и стал шибать в нее каменьями. А мимо кабака идучи, увидел я много народу, пьют, гуляют, о смертном часе не думают; и помолился тут я Богу, чтоб не допускал православных до пьянства и смёртной погибели». — «А за́ что облаял убогаго?» — «Какой то убогой! много есть у него денег, а все ходит по миру да сбирает милостину; только у прямых нищих хлеб отнимает. За то и назвал его попрошайкою» [157].
Отжил батрак три года. Поп дает ему деньги, а он говорит: «Нет, мне деньги не нужны; а ты лучше проводи меня». Пошел поп провожать его. Вот шли они — шли, долго шли. И дал Господь снова ангелу крылья; поднялся он от земли и улетел на небо. Тут только узнал поп, кто служил у него целых три года.
(Записана А. Н. Афанасьевым в Воронежской губернии, Бобровском уезде).
27. Кумова кровать
Жили-были мужик да баба, у них был сын. И так обедняли они, хоть по́ миру иди. Мужик думал-думал, что делать, как хлеба добывать? — и надумался: стал учиться колдовству, учился-учился, и таки выучился с чертями водиться. Вот пришло ему время женить сына. «Дай, — говорит он, — пойду да сосватаю у своих приятелей-чертей». Пошел и сосватал за сына опившуюся девку, что возит у чертей воду с прочими опойцами. Дело сделали, по рукам ударили, начали пиво варить. Нечистые завели свата и жениха в богатые каменные хоромы свадьбу играть, и разослали позыватых звать гостей на пир, на веселье. Со всех сторон наехало видимо-невидимо чертей; собрались и начали пить, есть, веселиться. Сват с самим сатаной в переде [158] сидит. Вот начали молодые дары дарить. Сатана много на отдарье положил казны, и говорит свату: «Ну, сватушка! подарил я молодаго деньгами, подарю и слугою. Вишь, один мужик продал нам своего сына и росписку на том дал; коли хочешь, кум, — я тебе с сыном подарю эту росписку?» Кум бил ему челом, а сатана созвал всех чертей и спрашивает: «У кого росписка?» Указали на одного чорта, а тот знай себе запирается, не хочет отдавать росписки. Сатана приказал его раздеть и бить за утайку железными прутьями. Как ни били, как ни колотили его — не могли ничего сделать, стоит на своем да и только. Сатана и крикнул: «Тащите-ка его на кумову кровать!» Чорт так напугался, что сейчас же достал росписку и отдал сатане, а сатана куму. Вот сват и спрашивает сатану: «Какая это у вас кумова кровать, что даже чорт напугался?» — «Да так, кум, простая!» — «Как, кум, простая? нет, смотри, не простая!» — «Ну для тебя, пожалуй, скажу; только ты никому не сказывай! Кровать эта сделана для нас, чертей, и для наших сродников, сватов, кумовьев; она вся огненная, на колесах, и кругом вертится». Сват убоялся, вскочил с места и давай Бог ноги. А сатана вслед ему говорит: «Куда, кум, торопишься? посиди, побеседуй с нами. Да ведь не уйдешь от нас; пожалуй, и притащут милаго!».
(Записана в Саратовской губернии. Из собрания В. И. Даля).
28. Грех и покаяние
a. Жила-была старуха, у ней были один сын и одна дочь. Жили они в превеликой бедности. Вот раз как-то пошел сын в чистое поле посмотреть на озимые всходы; вышел и осмотрелся кругом: стоит недалеча высокая гора, а на той горе на самом верху клубится густой дым. «Что за диво такое! — думает он, — уж давно стоит эта гора, никогда не видал на ней и малаго дыма, а теперича, вишь, какой густой поднялся! Дай пойду, посмотрю на́ гору». Вот полез на гору, а она была крутая-крутая! — насилу взобрался на самой верх. Смотрит — а там стоит большой котел полон золота. «Это Господь клад послал на нашу бедность!» — подумал парень, подошел к котлу, нагнулся и только хотел горсть набрать — как послышался голос: «Не смей брать этих денег, а то худо будет!» Оглянулся он назад — никого не видно, и думает: «Верно мне почудилось!» Опять нагнулся и только хотел набрать горсть из котла — как послышались те же самыя слова. «Что такое? — говорит он сам себе, — никого нет, а голос слышу!» Думал-думал и решился в третий раз подойти к котлу. Опять нагнулся за золотом и опять раздался голос: «Тебе сказано — не смей трогать! а коли хочешь получить это золото, так ступай домой а сделай наперёд грех с родной матерью, сестрою и кумою. Тогда и приходи: все золото — твое будет!»
Воротился парень домой и крепко призадумался. Мать и спрашивает: «Что с тобой? ишь ты какой невеселой!» Пристала к нему, и так и сяк подговаривается: сын не выдержал и признался про все, что с ним было. Старуха, как услыхала, что он нашел большой клад, с того самаго часу и зачала в мыслях держать, как бы ухитриться смутить сына да на грех навести. И в первой-таки праздник позвала к себе куму, перемолвила с нею и с дочерью, и придумали оне вместе напоить ма́лаго пьяным. Принесли вина и ну его подчивать; вот он выпил рюмку, выпил и другую, и третью, и напился до того, что совсем позабылся и сотворил грех со всеми тремя: с матерью, сестрою и кумою. Пьяному море по колена, а как проспался да вспомнил, какой грех-то сотворил, — так просто на свет не смотрел бы! «Ну, что же, сынок, — говорит ему старуха, — о чем тебе печалиться? ступай-ка на гору да таскай деньги в избу». Собрался парень, взошел на гору, смотрит золото стоит в котле нетронуто, так и блестит! «Куды мне девать это золото? я бы теперь последнюю рубаху отдал, только б греха избыть». И послышался голос: «Ну, что еще думаешь? теперича не бойся, бери смело, все золото — твое!» Тяжело вздохнул парень, горько заплакал, не́ взял ни одной копейки и пошел куда глаза глядят.
Идет себе да идет дорогою, и кто ни встретится — всякаго спрашивает: не знает ли, как замолить ему грехи тяжкие? Нет, никто но может ему сказать, как замолить грехи тяжкие. И с страшнаго горя пустился он в разбой: всякаго, кто только попадется навстречу, он допрашивает: как замолить ему перед Богом свои грехи? и если не скажет — тотчас убивает до́ смерти. Много загубил он душ, загубил и мать, и сестру, и куму, и всего — девяносто девять душ; а никто ему не сказал, как замолить грехи тяжкие. И пошел он в темный дремучий лес, ходил-ходил, и увидал избушку — такая малая, тесная, вся из дёрну складена; а в этой избушке спасался скитник. Вошел в избушку; скитник и спрашивает: «Откуда ты, доброй человек, и чего ищешь?» Разбойник рассказал ему. Скитник подумал и говорит: «Много за тобою грехов, не могу наложить на тебя эпитимью!» — «Коли не наложишь на меня эпитимьи, так и тебе не миновать смерти; я загубил девяносто девять душ, а с тобой ровно будет сто». Убил скитника и пошел дальше. Шел-шел и добрался до такого места, где спасался другой скитник, и рассказал ему про все. «Хорошо, — говорит скитник, — я наложу на тебя эпитимью, только можешь ли ты снести?» — «Что знаешь, то и приказывай, хоть каменья грызть зубами — и то стану делать!» Взял скитник горелую головешку, повел разбойника на высокую гору, вырыл там яму и закопал в ней головешку. «Видишь, — спрашивает он, — озеро?» А озеро-то было внизу горы, с полверсты эдак. «Вижу», — говорит разбойник. «Ну, ползай же к энтому озеру на коленках, носи оттудова ртом воду и поливай это самое место, где зарыта горелая головешка, и до тех-таки пор поливай, покудова ни пустит она отростков и ни выростет из неё(я) яблоня. Вот когда выростет от неё яблоня, зацветет да принесет сто яблоков, а ты тряхнешь ее, и все яблоки упадут с дерева на́земь, тогда знай, что Господь простил тебе все твои грехи». Сказал скитник и пошел в свою келью спасаться по-прежнему. А разбойник стал на колена, пополз к озеру и набрал в рот воды, влез на гору, полил головешку и опять пополз за водою. Долго, долго эдак он потрудился; прошло целых тридцать лет — и пробил, он коленками дорогу, по которой ползал, в пояс глубины, и дала головешка отросток. Прошло еще семь лет — и выросла яблоня, расцвела и принесла сто яблоков. Тогда пришел к разбойнику скитник и увидел его худаго да тощаго: одне кости! «Ну, брат, тряси теперь яблоню». Тряхнул он дерево, и сразу осыпались все до единаго яблоки; в ту ж минуту и сам он помер. Скитник вырыл яму и предал его земле честно.
b. Была вдова, у ней было двое детей: сын и дочь. Жили они в большой бедности. Вот мать и задумалась отдать своего сына в пастухи. В одно время пас он скотину в лесу. И привез туда колдун воз денег, вырыл яму, вывалил в нее деньги, забросал землею, и стал заклинать: «Достаньтесь, мои деньги, тому, кто сотворит грех с родной матерью, с родной сестрою и с кумою!» Заклял и уехал. Пастух все это слышал: пригнал скотину на село и рассказал про этот клад своей матери. Крепко польстилась она на деньги; вот наутро нарядилась она так, что и признать ее нельзя, и пошла туда, где сын ее пас скотину; пришла и давай с ним играть. Играла-играла и навела его на грех… На другой день нарядила она свою дочь, послала в поле и наказала, что делать. И эта играла-играла с пастухом, и навела его на грех… Воротился сын домой. Вдова и говорит ему: «Ступай, доставай клад!» — «Ах, матушка, ведь я тебе сказывал, какой это клад: мне он не дастся!» — «Небось, дастся! Ведь ты сотворил грех и со мною, и с сестрою, а она тебе и сестра и кума вместе; ты с ней у соседа крестил». — «Ах, матушка, матушка! до чего ты меня довела! не хочу теперь с вами жить, лучше пойду — куда глаза глядят!» И только вышел сын за ворота и сделал шагов десять, как вдруг, поднялся ветер, изба вспыхнула и в одну минуту сгорела вместе с его матерью и сестрою. Он еще пуще приуныл и подумал про себя: «Стало быть, я великой грешник перед людьми и Богом!»
Шел он, шел, и попал в большой дремучий лес; увидал тропинку, пустился по этой тропинке и пришел к келье; начал стучаться, пустынник его и спрашивает: «Кто там?» — «Грешник, святый отче!» — «Подожди, молитву окончу». Окончил молитву, вышел из кельи и спрашивает: «Куда Бог несет? и что надобно?» Рассказал ему странник. «Это грех великой! не ведаю, можно ли отмолить его; ступай-ка ты по этой дорожке, и дойдешь до другой кельи — там живет пустынник старей меня вдвое; может, он тебе и скажет»… Пошел странник дальше и дальше, приходит к келье и опять стучится. Пустынник стоял тогда на молитве. «Кто там?» — спрашивает он. — «Грешник, святой отче!» — «Подожди, молитву окончу». Окончил молитву, вышел и спрашивает: что за грешник такой? Странник рассказал про все. «Коли хочешь отмаливать свои грехи, — сказал ему пустынник, — так пойдем со мною». Дал ему топор и повел к толстой березе: «Свали-ка эту березу и разруби ее на три части». Тот свалил березу с корня и разрубил на три части. Пустынник зажег эти три бревна; вот они горели-горели; и остались только три малыя головешки. «Закопай ты эти головешки в землю, и день и ночь поливай их водою!» — сказал пустынник и ушел. Грешник зарыл три головешки в землю и начал поливать их и день, и ночь; год поливал, и другой, и третий… долго-долго трудился: две головешки уж пустили отростки, а третья нет как нет! Пришел к нему пустынник, видит: выросло две березки, и говорит: «Бог простил тебе два греха — с матерью и сестрою, а третьяго — с кумою — ты еще не замолил у Господа. Вот тебе стадо черных овец, паси его да молись Богу до тех пор, пока ни станут все овцы белыми». Погнал грешник овец, пасет год, и другой, и третий, много молится, много трудов несёт — только овцы всё остаются черными.
Вот стал мимо его по заре ездить какой-то человек: едет себе и всякой раз распевает веселыя песни. «Дай спрошу, — думает грешник, — что это за человек ездит?» Вышел на дорогу, подождал немножко и видит: подъезжает тот самой человек и поет песню. Он сейчас схватил его лошадь за узду, остановил и спрашивает: «Кто ты таков и зачем поешь эдакия песни?» — «Я разбойник, езжу по дорогам и убиваю людей; чем больше убью за́ ночь, тем веселее песню пою!» Не утерпел пастух, размахнулся своей дубинкою и убил разбойника наповал. «Ах что же я наделал? — говорит он, — одного еще греха не отмолил, а уж другой грех нажил!» Воротился к овцам, а оне все белыя; пригнал овец к пустыннику и рассказал все, что с ним было. Пустынник и говорит: «Это за тебя мир умолил Бога!»
(Обе из собрания В. И. Даля).
Примечание к № 27 и 28. Подробности, встречаемые в этих двух легендах, нередко соединяются в один рассказ; грешник, устрашенный тем огненным ложем, которое ожидает его по смерти и о котором упоминает первая легенда, предается покаянию и подвергает себя той трудной эпитимье, о которой читаем во второй легенде. Таковы редакции польская и литовская, на которые сейчас будет указано; но прежде приведем белорусский вариант.
Быў пан и пани. Гэтый пан ехаў дарогой и заблудзиў ў лесе. Заблудзиў ў лесе и споткаўсе (встретился) с чортом, и просе яго́, каб jон показаў яму́ дарогу. Той чорт сказаў яму́: «Дай мне на письме, што у дванадцаць годоў оддаси мне то, чаго дома не покидаў». Іон даў картачку (письмо, расписку). Приехаў пан дамоў, аж яго́ жонка родзила сына. Ну, дык той пан ўзяўся за́ галаву, што ў дванадцаць лет треба аддаць сына ў пекла (ад). Як пришло время, сын и каже: «Я пайду ў пекла, каб чорт оддаў мне тую картачку, што бацька даў яму́». Узяў jон вады свящонай и ксёншку (книжку, здесь разумеется евангелие) и приходзе до пекла, и зачаў той вадой свянциць. Аж выходзе чорт, пытаетца, хто тут такий? Іон каже: «Я иду по тую картачку, што ты ўзяў у бацьки». Дык яны и аддали яму́, сказали: «Идзи сабе!» Іон идзе дамоў пираз (через) лес, аж ў тым лесе стоиць хатка, а ў тэй хатце разбойник. Пытаетца разбойник: «Гдзе ты быў?» Іон кажець яму́: «У пекле». Гэтой разбойник каже яму́: «Вернисе изноў ў пекла, пытайсе, там, што мне будзе, што я целый век ўсё людзей режу». Іон стаў з' ним спиратца (спорить): «Не пайду ў пекла!» — «Як ты не пайдзешь? Я ўсих людзей бью, дык и цебе забью, кали не пайдзешь». Ну, jон пашоў ў пекла изноў и пытаетца, што гэтому разбойнику будзе, што jон людзей реже? Черти сказали яму́: «Як jон людзей реже, так и яго́ резаць будуць». Іон вернуусе с пекла, идзе до той хатци и кажець разбойнику: «Як ты людзей резау, так и цебе резаць будуць!» Дык jон просе выспавядаць яго́. Тою мальчик каже: «Я не ксёндз (священник) цебе спавядаць». — «Кали не будзешь спавядаць, я цебе зарежу!» Ну, jон зачаў спавядаць яго́. Разбойник каже, каб покуту (эпитимья, покаяние) задаў. Іон пашоў ў лес з' ним, знашоў сухую яблыну, и кажець: «Носи с своей хатци воду ў губе (во рту) на коленях и поливай яе, аж поки яна ни отживець и будуць на ей ялбыки; сколько ты душ забиў, столько там будзе яблыков». Сказаў и сам поехаў дамоў до своего бацьки. Бацька оддаў яго́ учитца; jон выучиўся и высвянциўся на ксёндза (посвятился в попы). Едзе jон дамоў са школы праз той лес, идзе быў разбойник, и чуе — яблыки пахнуць, стаў шукаць (искать), и нашоў тую яблыну, што показываў разбойнику за покуту поливаць, — аж под тэй яблыной ляжиць умерший разбойник. Іон узяў яго́ павёз с собой и сховаў (схоронил) под церквой.
Г-н Кулиш внес малороссийский вариант этой легенды в сказание о странствовании по тому свету (Записки о Южной Руси, т. I, с. 309—311): Был гайдамака, долго грабил он народ, убивал старого и малого, а после одумался, пошел исповедаться; ни один поп не решился наложить на него очистительной эпитимьи. «Дали почу́в, що есть десь таки́й піп, що ще мале́ньким батько прода́в его нечистому, за те, що поміг у доро́зі вйрятовати во́за с калю́жи; так він и в пе́клі вже був… Иде́, аж той піп и іде ёму́ назу́стріч. Пита́етця: «Чи ти бу́в у пеклі?» — «Був». — «А чи ба́чив же ти там мою душу?» — «Бачив». — «Що́ж вона там ро́бить?» — «Гад рука́ми з я́ми до ями но́сить, а чорти́ о́стями іí поганя́ють». Стал каяться гайдамака тридцать лет трудился он — и выросла яблоня, на ней всё серебряныя яблоки, а два золотых. Приехал поп. «Ну, — ка́же, — труси́!» Струсну́в гайдама́ка я́блуню — усі сери́бні я́блука обси́пались, а дво́е золоти́х виси́ть… «Оце́ ж твоі два гріхи́ виси́ть, що ти отця́ й ма́тір уби́в!» Так и умер гайдамака, непрощенный в этих двух грехах, и мучится он на том свете горше всех других грешников: «Усім бу́де коли́сь пільга, а ёму не буде!»
В польском народном рассказе о разбойнике Мадее. (Повести и предания народов славян, племени, изд. И. Боричевского, с. 130—135) и в литовском о студенте, который ходил на небо и в ад (Litauische Märchen, Sprichworte, Rätsel und Lieder, gesammelt und übersetzt von August Schleicher, Weimar, 1857, c. 75—79), покаяние грешника не остается неуслышанным, и Господь прощает ему все тяжкие преступления. Разбойника ожидала на том свете страшная постель: раскаленная решетка, вся из игл, острых ножей и бритв; снизу пылал неугасимый огонь, сверху капала горящая сера. Ужаснулся Мадей и обрек себя на трудное покаяние: воткнул в землю свою убийственную палицу и приклонил колена, с обетом — не сходить с места, пока не получит от Бога прощения. Прошло много, много времени: из палицы выросла яблоня, расцвела и дала обильные плоды. В один день проезжал мимо епископ; Мадей узнал в нем того самого мальчика, который некогда ходил в ад, и умолял его дать ему разрешение грехов. В то время как исповедывал он свои старые грехи, яблоки одно за другим срывались с дерева невидимой силой, превращались в белых голубей и уносились на небо. Осталось только одно яблоко: то была душа отца Мадеева, котораго он замучил страшным образом; но боялся признаться в беззаконии. Наконец Господь услышал исповедь сокрушенного сердца. Яблочко мгновенно превратилось в сизого голубя, который исчез в след за другими. См. также Volkslieder der Wenden in der Ober- und Nieder-Lausitz ч. 2, с. 176— 178. Это предание о превращении душ, убитых Мадеем, в голубей тесно связано с древнеязыческим представлением души человеческой в образе птицы, о чем подробнее смотри в статье Афанасьева, помещенной в изданном г-ном Калачевым 3-м томе Архива историко-юридич. сведении о России [159].
29. Горькой пьяница
Жил-был старик, да такой горькой пьяница, что и сказать нельзя. Вот забрался он как-то в кабак, упился зелена вина, и поплелся во хмелю домой, а путь-то лежал через реку, подошел к реке, не стал долго думать, скинул с себя сапоги, повесил на шею и побрел по воде; только дошел до средины — спотыкнулся о камень, упал в воду, да и поминай как звали!
Остался у него сын Петруша. Видит Петруша, что отец пропал без вести, потужил, поплакал, отслужил за упокой души панихиду и принялся хозяйничать. Раз в воскресный день пошел он в церковь Богу помолиться. Идет себе по дороге, а впереди его тащится баба; шла-шла, спотыкнулась о камышек и заругалась: «Кой чорт тебя по́д ноги суёт!» Петруша услыхал такия речи и говорит: «Здорово, тетка! куды путь держишь?» — «В церковь, родимой, Богу молиться». — «Как же тебе не грешно: идешь в церковь Богу молиться, а поминаешь нечистаго! сама спотыкнулась, да на чорта сваливаешь»… Ну, отслушал он обедню и пошел домой; шел-шел, и вдруг откуда ни возьмись — стал перед ним мо́лодец, поклонился и говорит: «Спасибо тебе, Петруша, на добром слове!» — «Кто ты таков и за что благодарствуешь?» — спрашивает Петруша. — «Я дьявол; а тебе благодарствую за то, что как спотыкнулась баба да облаяла меня понапрасну, так ты замолвил за меня доброе слово». И начал просить: «Побывай-де, Петруша, ко мне в гости; я тебя во как награжу! и сребром, златом, всем наделю!» — «Хорошо, — говорит Петруша, — побываю». Дьявол рассказал ему про дорогу и пропал в одну минуту, а Петруша воротился домой.
На другой день собрался Петруша в гости к дьяволу; шел-шел, целых три дня шел и пришел в большой лес, дремучий да темный — и неба не видать! А в том лесу стоял богатой дворец. Вот он вошел во дворец, и увидела его красная девица — выкрадена была нечистыми из одного села; увидела его и спрашивает: «Зачем пожаловал сюда, доброй молодец? здесь черти живут, они тебя в клочки разорвут». Петруша рассказал ей, как и зачем попал в этот дворец. «Ну, смотри же, — говорит ему красная девица, — станет давать тебе дьявол золото и серебро — ты ничего не бери, а проси, чтобы подарил тебе того самаго ледащаго коня, на котором нечистые дрова и воду возят. Этот конь — твой отец; как шел он из кабака пьяной да упал в воду, черти тотчас подхватили его, сделали своей лошадью, да возят теперь на нем дрова и воду!» Тут пришел тот самый молодец, что звал Петрушу в гости, и принялся угощать его всякими напитками и наедками. Пришло время отправляться Петруше домой. «Пойдем, — сказал ему дьявол, — я наделю тебя деньгами и славною лошадью, живо до дому доедешь». — «Ничего мне не нужно, — отвечал Петруша, — а коли хочешь дарить — подари ту ледащую кляченку, на которой у вас дрова и воду возят». — «Куда тебе эта кляча! скоро ли на ней до́ дому доберешься, она того и смотри околеет!» — «Все равно, подари; окромя ее, другой не возьму!» Отдал ему дьявол худую кляченку. Петруша взял и повел ее за узду. Только за ворота, а навстречу ему красная девица: «Что достал лошадь?» — «Достал». — «Ну, доброй молодец, как придёшь под свою деревню — сними с себя крест, очерти кругом этой лошади три раза и повесь ей крест на голову». Петруша поклонился и отправился в путь; пришел под свою деревню — и сделал все, что научила его эта девица: снял с себя медный крест, очертил кругом лошади три раза и повесил ей крест на голову. И вдруг лошади не стало, а наместо ея стоял перед Петрушою родной его отец. Посмотрел сын на отца, залился горючими слезами и повел его в свою избу; старик-ат три дня жил без говору, языком не влада́л. Ну, после стали они себе жить во всяком добре и счастии. Старик совсем позабыл про пьянство, и до самаго последняго дня ни капли вина не пил.
(Из собрания В. И. Даля).
Примечание к № 29. В народных стихах и легендах пьянству произносится строгое осуждение, как такому пороку, который потемняет человеку рассудок и вызывает его на всевозможные грехи и преступления. По свидетельству напечатанных нами легенд и лубочных картин пьяницы пойдут в муку вечную и вместе с сатаной будут гореть в неугасимом огне. «Некоторый человек пияница (читаем под одним лубочным изображением) пропился на кружале до нага и рече: „Не знаю, что пропить! аще бы был купец, продал бы душу свою“. И прииде к нему диавол во образе человеческом, и рече ему: „Что, человече, думаеши?“ — „А то я думаю! Не знаю что с себя пропить! аще бы купец — продал бы душу свою“. И даде диавол ему денег. Пияница сел и начал пити, не помышляше о душе своей. И приближися вечер. Тогда рече диавол: „Аще кто купит коня, подобает ему взяти и узду. А вы, сторонние люди! — свидетели: купил аз у сего человека душу, но подобает взяти мне и тело“. И нападе на людей страх велий. Диавол же взял пияницу и потащил во ад на муку вечную» [160]. На опойцах черти возят на том свете дрова и воду (см. № 27, «Кумова кровать»). Самая выдумка высиживать хлебное вино приписывается дьяволу. В сатирической «Повести о многоумном Хмелю» встречаем следующее предание: «В древнее время был человек, имя ему Ной, праведен во всех человеках; люди же тогда жили в великом согрешении. И восхотел Господь скверну человеческих дел очистить и сотворить потоп на земле. И послал к нему, Ною праведному, ангела своего, и повелел Ною сотворить ковчег. Ной же по ангелову благовестию созидал ковчег тринадцать месяцев, а жене своей не сказывал, куда ходит и что́ делает… Дьявол сказал жене Ноевой: „Жено! Поведай мне, куда ходит Ной, муж твой?“ Она же сказала ему: „Крепок мой муж, не говорит мне своей тайны“. Дьявол же сказал ей: „Жено, послушай меня, есть трава по рекам, вьется по деревьям; имя ей хмель. И ты ступай, нарви травы той цвету, упарь и уквась ее, и тем его напой, и он поведает тебе все, куда ходит и что делает“. И сошел Ной с горы по обычаю, пищи ради, и сказал жене своей: „Жено! Дай мне квасу; от работы своей сильно хочу испить“. Жена же, налив чашу, подала ему. Ной выпил и похвалил, и сказал: „Нет ли еще?“ Жена дала ему еще две чаши. Испивши, Ной лег опочить; а жена начала его ласковыми словами спрашивать: „Куда, господине мой, ходишь и что творишь?“ Ной и рассказал ей все… Наутро пошел в горы и увидел ковчег свой разорен, и стал плакать. И явился ему ангел Господень, и сказал ему: „Не велел я тебе поведать дела этого жене твоей; услышал про то дьявол и разорил твоей ковчег“» [161].
В сборнике Боричевского (Народные славянские рассказы, с. 167—182) находим любопытный белорусский рассказ такого содержания:
Жил-был бедной мужик; взял он чуть ли не последнюю краюшку хлеба и поехал на пашню. Пока он работал, пришел чорт и утащил краюшку. Захотелось мужику пообедать; хвать — а хлеба нету! «Чудное дело! — сказал мужик, — никого не видал, а краюшку кто-то унёс. А, на здоровье ему! Авось с голоду не умру». Пришел чорт в пекло и рассказал обо всем на́большему дьяволу. Не понравилось сатане, что мужик не только не ругнул вора, а еще сказал ему на здоровье! И послал он назад чорта: «Ступай, заслужи мужикову краюшку!» Обернулся чорт добрым человеком и пошел к мужику в работники; в сухое лето засеял ему целое болото — у других крестьян все солнцем сожгло, а у этого мужика уродился чудной хлеб; в мокрое, дождливое лето засеял по отлогим горам — у других все подмокло и пропало, а у этого мужика опять урожай на славу. Куда девать хлеб? Чорт и принялся за работу; давай затирать да висиживать горькуху, и таки умудрился! После от него все переняли делать горькуху, и пошла она, окаянная, гулять по белому свету!
Подобный же рассказ о происхождении хлебного вина существует и между татарами Нижегородской губернии, с таким добавлением: приготовляя вино, черт подмешал туда сначала лисьей, потом волчьей, а наконец и свиной крови. От того если человек немного выпьет — голос бывает у него гладенький, слова масляные, так лисой на тебя и смотрит; а много выпьет — сделается у него свирепый волчий нрав; а еще больше выпьет — и как раз очутится в грязи, словно боров.
Кроме того, поселяне наши от души верят, что нечистый всегда подстерегает пьяного и готов затащить его в болото или трущобу. Одному, например, мужику случилось поздним вечером ворочаться домой с веселой пирушки. Навстречу ему незнакомый. «Здоров будь!» — «Здравствуй!» Слово за слово. «Зайдем ко мне, — говорит встречный, — обогреемся и выпьем по чарке, по другой». — «Отчего не выпить!» Пришли. Взялся мужик за чарку, и только перекрестился — глядь! стоит по горло в омуте, в руках кол держит, а товарища как не бывало!
30. Крестной отец
В некотором царстве, в некотором государстве жил-был бедной мужик с женою; детей у них не было. Стали они просить Бога, чтобы дал им детище во младости на посмотрение, под старость на утешение, а по смерти на помин души. Создал им Господь детище. Обрадовался мужик, пошел к соседу и начал просить в кумовья: «Пожалуй, — говорит, — приведи младенца в крещеную веру». Сосед отказался за тем, что мужик-то был оченно беден. Пошел он к другому, и тот отказался. Всю деревню исходил, никто к нему не йдет в кумовья. Что делать? Пошел мужик в иную деревню. Идет путем-дорогою, и попадается ему навстречу незнакомый старец. «Здорово, добрый человек! куда идешь, куда путь держишь?» — «Здорово, дедушка! дал мне Господь детище во младости на посмотрение, под старость на утешение, а по смерти на помин души, да вот прилучилось какое горе: человек я бедной, никто не йдет ко мне привести младенца в крещеную веру». — «Возьми меня». Мужик несказанно тому обрадовался и благодарствовал старику. «Ну, — говорит старец, — ступай теперь к богатому купцу, проси дочь его в крёс(т)ные матери». — «Ах нареченной кум, как мне к купцу идти, он мной побрезгает». — «Не твоя печаль! ступай и проси. Да смотри, чтоб к завтраму, к утру, все было готово». Бедной мужик воротился домой, запрёг лошадь и поехал в город к богатому купцу. «Что на́дыть?» — спрашивает купец. — «Да вот, господин купец! дал мне Господь детище во младости на посмотрение, под старость на утешение, а по смерти на помин души. Пожалуй, отпусти свою дочь в крёс(т)ные». — «А когда у тебя кстины (крестины)?» — «Завтра утром». — «Ну, хорошо; ступай с Богом, она приедет».
На другой день поутру приехала кума, пришел и кум, и окстили младенца. Распрощались и пошли по своим местам. Стал младенец возрастать, да такой умной да доброй, всем соседям на зависть. Отдали его учиться грамоте; которые учатся лет по пяти, а он всю науку в год окончал, всех перегнал! Пришла святая неделя. Отслушал мальчик заутреню и раннюю обедню, сходил к крёс(т)ной матери, похристосовался, воротился домой и спрашивает: «Батюшка и матушка! Где живет мой крёс(т)ной, я бы к нему пошел, похристосовался?» — «Любезный сын, — говорят они, — мы и сами не знаем; как окрестил он тебя — с той самой поры не видали, и нечего про него не слыхали». — «Ну, батюшка и матушка! прощайте: пойду искать своего крёс(т)наго». И пошел он куда глаза глядят; шел-шел, вышел в чистое поле, повстречался ему старец. «Здравствуй! — говорит старец, — куда идешь, куда путь держишь?» — «Здорово, дедушка! иду искать крёс(т)наго». — «Я твой крёс(т)ной, говорит старик; пойдем со мною». А старик-то был сам Господь, и повел он своего крестника в царство небесное; привел и приказывает: «Смотри крестник, по всем палатам гуляй, не входи только в эту дверь». Сказал и ушел от него; остался мальчик один. Вот он ходил-ходил по всем палатам и вздумал себе: «Отчего так не велел мне крёс(т)ной входить в эту комнату? дай пойду посмотрю — что там такое». Вошел и увидел там разбойника, а перед ним на коленях стоит человек; жалко ему стало того человека, ухватил он камень и убил разбойника. Вдруг является Господь. «Не послушал, — говорит, — ты моего приказания! Этот разбойник убил в свою жизнь девять человек, а ты его грехи теперь на себя снял; ступай же на землю и трудись, пока грехов своих не замолишь!» Указал ему Господь дорогу: «Иди вот по этой дороге; будут тебе на пути два озера, по пясь глубины от берега до берега; смотри же не пей из них воды, а коли напьешься — навек погибнешь».
Пошел мальчик путем-дорогою; шел-шел и пришел к первому озеру. Стал переходить на другой берег, добрался уж до средины, и захотелось ему пить; такая жажда напала, что утерпеть невмоготу. Начал он молиться Богу, и вздумал помочить голову водою; помочил — и сделалось ему легче. Вышел он на другую сторону, глянул в воду и видит, что на голове у него волосы стали серебреные. Пустился дальше в путь-дорогу, пришел к другому озеру, стал перебираться на тот берег, добрался до средины, и опять напала на него жажда: так бы вот и испил! Начал он Богу молиться, и опять вздумал помочить голову водою; помочил — и сделалось ему гораздо полегче. Вышел на́ берег, глянул в воду и увидел на своей голове золотые волосы. Пустился дальше; шел-шел, пришел в большой город, купил на рынке воловий пузырь и надел его на голову; измарался весь грязью и замешался меж поденщиками! Пришел на рынок царской садовник, забрал всех поденщиков; одного его не берёт на работу. «Что ж ты меня не возьмешь?» — «Да ты кто?» — «Я — Иван Шолудивый, садовник». — «Ну, коли ты садовник, мне таких и надо». И повел его прямо к царю в сад, раздал всем поденщикам работу; остался один Шолудивый. А у этого царя была любимая яблоня, и засохла тому лет уже десять; привел он его к этой яблони и говорит: «Вот тебе работа, привей эту яблоню». Иван Шолудивый взял ножик и привил яблоню; она сейчас принялась, расцвела и принесла такия же славныя яблоки, какия и прежде давала. Как увидал то садовник — вздивовался; к вечеру рассчитал он всех поденщиков, а Ивана Шолудиваго оставил при себе: «Живи браг, у меня; ты мне нужен!» Живет Иван Шолудивый у царя в саду, ни с кем дружбы не сводит, не гуляет, а все Богу молится. Раз поутру встал он рано и пошел прямо к колодезю, скинул с головы воловий пузырь и давай умываться; умылся и начал расчесывать свои золотыя кудри. Увидала его из окна меньшая царевна и так полюбила, что и во сне и наяву — все его видит.
Вот собрались царевны, пришли к своему родителю и пали в ноги: «Не прикажи, — говорят, — казнить; прикажи речь говорить». — «Говорите, любезныя дочери!» — «Милостивой батюшка! мы уже в совершенных летах, пора нам выходить замуж». — «Ладно», — говорит царь и разослал по всем царствам, по всем государствам, чтобы со всех сторон съезжались женихи: цари и царевичи, короли и королевичи и могучие богатыри. Съехались женихи, пошел пир на весь мир [162]. Вот царь встал и говорит своей большой дочери: «Ступай, дочь любезная! выбирай себе жениха». Выбрала большая царевна; после того пошла середняя царевна — и та выбрала себе жениха. «Ну, выбирай ты!» — говорит царь меньшой царевне. Она взяла налила чарку водки и говорит: «Кто эту чарку выпьет, тот и жених мой будет!» Поднесла чарку прямо к Ивану Шолудивому, поклонилась ему и подчует: «Ну, нареченный супруг, кушай на здравие!» У царя ни пиво варить, ни вино курить, честным пирком да за свадебку. Повенчали царевен. Вот старшие сестры и смеются над меньшою; «Твой-де муж как есть дурак!» — «Вам что за нужда? — отвечает царевна, — вить не вам с дураком жить!»
Жили они долго ли, коротко ли; напал на то царство сильный неприятель. Собрались старшие зятья и поехали сражаться. А Иван Шолудивый вышел в чистое поле, свиснул-крикнул своим богатырским голосом: «Эй ты, сивка-бурка! стань передо мною, как лист перед травою!» Откуда не́ взялся конь, стал перед ним как вкопанный. Надел он на себя платье богатырское, сел на коня, ударил по крутым бедрам и понесся на неприятеля, словно сокол на гусей и лебедей, и стал побивать направо и налево. Только самого его ранили в левую руку; увидала то меньшая царевна, взяла платок и перевязала ему руку. Опять поехал Иван Шолудивый и перебил дочиста все войско неприятельское; воротился в царской сад, лег и заснул крепким сном. Увидала его царевна и спознала, кто таков богатырь был; сказала царю — тот так обрадовался, что на радостях отдал ему половину царства; и стали они себе жить-поживать, да добра наживать.
(Из собрания В. И. Даля).
Примечание к № 30. Легенда эта распадается на две части. Вторая ее половина, содержащая в себе рассказ о садовнике Иване Шолудивом, есть не что иное, как вариант весьма распространенной в народе сказки, героем которой является Незнайко. Первая же половина носит чисто легендарный характер и составляет отдельное целое. В собрании В. И. Даля находится апокрифическая:
Повесть о сыне крестном,
како Господь крестил младенца
убогаго человека [163]
Бысть в некоторой стране, в городе Антоуре: живяше некий убогий человек во всяком убожестве, и по времени жена его роди сына… Рече жена мужу своему: «Поди позови восприемника, кто б крестил чадо наше». Он же поиде звати кума по всему граду своему, и никто же к нему не идет; скудости ради гнушаются. Он же поиде в дом свой, горько плакася, и встрете его некоторый муж лицем светел и во светлых ризах, и виде убогаго плачуща и спросиша его: «Чадо! что зло плачущи, повеждь ми; аз печаль твою излечу и на радость приложу». Той же рече ему: «Како мне не плакати! родился у меня сын, не изыщу к себе — кто б был восприемником и крестил его; никто не иде, и скудости моей ради гнушаются мною». Той же пресветлый муж рече ему: «Гряди, чадо, в церковь и вели священнику мало ждать; аз восприемником гряду и окрищу твоего детища». Убогий же поклонися ему до земли… Прииде тот светлый муж — нареченный кум, рече иерею: «Отче святый! аз хощу восприемником быть и окрестить сего младенца». Прием от иерея благословение, и окрестиша младенца и даша священнику за крещение 4 златницы… Младенец той возроста и трех лет воспросиша родителя своего: «Есть ли у меня отец крестный?» Мать его рече ему: «Чадо! отец твой тако безумен: сотворил твое крещение, а отца твоего крестнаго в дом к себе не позвал и о имени его не поведал; и мы его по сие время не имам знати». Младенец же, слышав то, зело бысть печален. И прииде праздник Воскресение Господа нашего; той младенец прииде в церковь и ста в таком месте, иде же Спасителев образ; зрит на Господа нашего Иисуса Христа, моляся со слезами, и во уме своем помыслиша: «Даждь ми, Господи! видети отца моего крестнаго; не с кем мне похристосоватися». Отпели утреню, и прииде ко младенцу муж зело велик и украшен лицем, аки солнце сияюще, и над ним много светлых и пресветлых юношей во святых ризах; и рече тот светлый муж младенцу: «Сыне мой крестный, Христос воскресе!» И поцеловал младенца и даша ему два яйца. Младенец же отвеща: «Воистинно воскресе!» Тако ж муж вопроша младенца: «Знаеши ли ты отца своего крестнаго?» Младенец рече ему: «От рождения своего не имам знати отца своего крестнаго». Рек ему светлый изрядный муж: «Аз есмь отец твой крестный»… Младенец же прииде в дом свой и нача с родителями своими христосоватися, даде им по яйцу; и они на те два яйца смотря зело удивляхуся и между собою глаголаху: «Таковых яиц во свете нет». И вопроша детища своего: «Кто их тебе даде?» Он же рече: «Отец мой крестный даде мне». — «Како тебе отца крестнаго знати?..». Младенец рече им с клятвою: «Воистинно дал мне отец мой крестный». Егда младенец поиде к литургии и вниде в церковь, и ста в том же месте, зря на Спасителев образ, со слезами и со всяким умилением моляшеся, глаголаше: «Господи царю, творец мой! даждь ми видети дом отца моего крестнаго». Отпели литургию Божию, и виде младенец: церковное небо растворилось и много грядущих светлых и пресветлых юношей во златых ризах… И предстоящему народу никому невидимо взяша его на высоту и вознесоша даже до… девятаго неба. И младенец ужасохся, и шестокрылати юноши рекоша ему: «Чадо! не убойся, не опалим тя пламением; мы слуги отца твоего крестнаго». И введоша его в палату, и узре младенец, яко палата украшена, в ней же беседующие ангели и архангели, поюще песнь, пресвятую Троицу славяще. И введоша его во другую палату, и виде младенец, яко палата украшена лепотою паче первыя, в ней же седяще пророцы и младенцы, хвалу Богу воздая. И введоша в третью палату, и та палата украшена паче всех седмерицею и содеяно в ней двенадцать престолов, украшены серебром и златом, и драгим камением и жемчугом, и посреде един престол превыше всех, преодеян багряною червленною ризою, и перед ним стояще херувимы и серафимы и множество ангелов непрестанно славяща Господа и Спаса нашего Иисуса Христа. И виде на том престоле сидяща Господа нашего Иисуса Христа; на нем порфира царская, в руке держит скипетр, судит дела человеческия. Возста Господь с престола своего и рече: «Поди, сыне мой крестный! то есть дом мой, еже ты желаешь видети; аз зде пребываю». И взя его за руку и посадил его на престол; а сам изволил изыдти в иную палату. Младенец же одеяйся во порфиру царскую, и возложи на себя венец, и взем в руце скипетр; и нача ему ангели и архангели служити. И виде младенец все: кто на земле творит добрыя дела и худыя, и рай и муку, и кто за какия дела мучится, и нача судить дела человеческия:
1-й суд
Виде младенец на земле: некоторые разбойники и грабители подкопали под церковь, хотяще святую церковь ограбити, и рече: «Повели, Господи, церкви обрушитися и подавить грабителей». И того часу церковь подавила их без покаяния.
2-й суд
Той же младенец виде на земле: в некотором море плыша разбойницы, хотяще некоторую обитель разбити, и рече: «Повели, Господи, разбойников потопить, да не погубят святую обитель». Того часа корабль погрузишась в море, и грабители без покаяния потонуша.
3-й суд
Той же младенец виде на земле: у некотораго купца, богатаго человека, во храмине жена его от мужа своего творяще блуд с прелюбодеями, и рече: «Повели, Господи, сей храмине обрушитися и подавити прелюбодеев». И того часа повалилась храмина, и с ними много неповинных без покаяния подавила.
4-й суд
Той же младенец виде на земле: в некотором граде люди творят много блуда и неправды без покаяния, и рече: «Повели, Господи, за беззаконие их сему граду провалитися сквозь землю». И того часа бысть так: погибоша множество неповинных без покаяния.
Господь же умилосердися над народом, не хотя создания своего без покаяния погубити, и внидоша во святую палату, и виде сына своего крестнаго седяща на престоле: в руцех держит скипетр, на нем порфира царская, судит дела человеческия. Господь рече ему: «Сыне крестный! немилостиво судиши. Посидел ты на моем престоле четверть часа, и погубил ты без покаяния народу на земле три тьмы тысяч человек; аще б ты еще тако же время посидел на моем месте, и ты бы всего народу не оставил; всех бы погубил до конца без покаяния. Аз, Господь, творец всем человеком,… не хощу смерти грешника и ожидаю покаяния»… И взыде Господь на престол свой, и прием от крестна сына порфиру царскую и венец и возложи на себя, и прием в руце скипетр, и сяде на престоле своем и нача судити дела человеческия. И повеле двум ангелом сына своего крестнаго снести с высоты небесныя… Тогда ангели его приняша и понесоша в дом родителя его. Родители же вопроша его: «Где толикое время был еси после обедни?» Он поведаша: «Аз был в доме отца моего крестнаго!» Они же не поняша ему веры: «Чадо! неправду глаголешь; како тебе быти у отца твоего крестнаго! и мы его не знаем; ты же како знаеши дом его?» И рече им с клятвою: «Воистинно я был у него!»
Легенда оканчивается так: мальчик ради душевного спасения покидает родительский дом, удаляется в непроходимые леса, и затворившись в пещере, день и ночь трудится Богу. По блаженной кончине, мощи труженика были прославлены даром исцеления больных, недужных и скорбных.
Народная немецкая сказка «Der Schneider im Himmel» имеет близкую связь с этой апокрифической повестью. Портной приходит к дверям рая и упрашивает апостола Петра впустить его на небо. Сначала тот не соглашается; но после — тронутый чувством сострадания — отворяет ему райские врата; портной должен тихо и смирно усесться в уголку за дверями, так чтобы Господь не заметил его присутствия и не разгневался. «Der Schneider gehorchte, als aber heilige Petrus einmal zur Thüre hinaus trat, stand er auf, gieng voll Neugierde in allen Winkeln des Himmels herum und besah sich die Gelegenheit. Endlich kam er zu einem Platz, da standen viele schöne und köstliche Stühle und in der Mitte ein ganz geldener Sessel der mit glänzenden Edelsteinen besetzt war; er war auch viel höher als die übrigen Stühle, und ein goldener Fuss-schemel stand davor. Es war aber der Sessel, auf welchem der Herr sass, wenn er daheim war, und von welchem er alles sehen konnte, was auf Erden geschah» [164]. Портной сел на золотое кресло, взглянул на землю «und bemerkte eine alte hässliche Frau, die an einem Bach stand und wusch, und zwei Schleier heimlich bei Seite that. Der Schneider erzürnte sich bei diesem Anblicke so sehr, dass er den goldenen Fuss-schemel ergriff und durch den Himmel auf die Erde hinab nach der alten Diebin warf… O du Schalk, sprach der Herr, wollt ich richten wie du richtest, wie meinst du dass es dir schon längst ergangen wäre? ich hätte schon lange keine Stühle, Bänke, Sessel, ja keine Ofengabel mehr hier gehabt, sondern alles nach denn Sündern hinabgeworfen. Fortan kannst du nicht mehr in Himmel bleiben, sondern musst wieder hinaus vor das Thor: da sieh zu wo du hinkommst. Hier soll niemand strafen, denn ich allein, der Herr [165]» (Kinder und Hausmärchen братьевъ Гримм, ч. I, № 35).
Есть также легенда о крестнице Пресвятой Девы; в прекрасном сборнике норвежских сказок (Norwegische Volksmärchen, gesammelt von P. Albjörnsen und Jörgen Moe, ч. I, № 8) находим одну под заглавием «Die Jungfrau Maria als Gevatterinn». У одного бедного человека родилась дочь; долго искал и просил он, чтобы взялся кто-нибудь окрестить его ребенка; все знали, что он беден, и никто не соглашался. Тогда предстала ему прекрасная жена, в великолепном одеянии, и сама пожелала быть у него кумою. Она окрестила девочку и взяла ее с собою. Прошло много годов; девочка выросла и поумнела. Однажды крестная мать собралась в путь. «Ты можешь, — сказала она крестнице, — ходить по всему дому; не входи только в эти три комнаты». Любопытная девушка нарушила приказание, и взглянула в одну запретную комнату, но едва отворила она дверь, как вдруг улетела оттуда звезда. Воротясь домой, крестная мать хотела прогнать виновную, но девушка так горько плакала и так упрашивала, что она смягчилась и простила ее. Но и после того не выдержала крестница испытания, и, заглянув во вторую запретную комнату, видела, как улетел оттуда месяц; и на этот раз ей удалось вымолить себе прощение. Наконец решилась она отворить дверь и в третью комнату, и только отворила, как улетело оттуда солнце. Тогда крестная сказала ей: «Выбирай какое хочешь наказание: или будешь ты немою, но за то красивее всех женщин, или сохранишь дар слова, но сделаешься самой безобразною». Девушка выбрала первое. Немая — она должна была покинуть свой счастливый приют и искать себе другого пристанища. Долго шла она темным лесом, и когда настала ночь — влезла на дерево, возле которого протекал источник; села на его ветвях и крепко заснула. На другое утро пришла за водой служанка из королевского замка, и только хотела почерпнуть — глазам ее представился прекрасный образ девушки, отражавшийся в чистом зеркале источника. «Это я!» — подумала она, бросила ведро, воротилась домой и сказала: «Я слишком хороша; чтобы таскать воду!» Пошла другая служанка, и с ней случилось то же. Пошел сам королевич, желая узнать — в чем дело. Он увидел красавицу, взял ее во дворец и сделал своей женою. Когда родилось у них первое дитя, в то время невидимо явилась ее крестная: разрезала ребенку палец, вымазала родильнице его кровью рот и руки, а самого ребенка взяла с собой. Старая королева стала говорить своему сыну: «Жена твоя ведьма! ты видишь — она пожрала свое собственное дитя», и настаивала, чтоб ее немедленно предать сожжению. Но принц так сильно любил свою подругу, что не в силах был расстаться с нею, и потому простил ее. То же самое случилось и со вторым его ребенком, и с третьим. Что могла сделать несчастная обвиняемая в смерти своих детей? Она была нема, и ни одного слова не могла вымолвить в свое оправдание. Королевич приговорил наконец свою жену к страшной казни сожжения, и вот повели ее на костер… В ту самую минуту явилась ей крестная мать. «Я — Дева Мария, — сказала она, — и как тебе было тяжко лишаться своих детей, так и мне было тяжко твое непослушание, когда ты выпустила звезду, месяц и солнце. Но теперь ты уж довольно наказана!» Тут возвратила она своей крестнице и дар слова и троих детей. С тех пор все они жили в радости и счастии.
Подобные же рассказы встречаются и у других народов: см. Volkslieder der Wenden in der Ober- und Nieder-Lausitz, ч. 2, с. 179—181. Между валахскими сказками (Walachische Märchen, herausgegeben von Arthur und Albert Schott, № 2) есть одна следующего содержания:
Жил бедный дровосек. С горя и нищеты думал он уже повеситься на дереве, как явился черт. «Что ты хочешь делать?» — спросил нечистый. — «Хочу повеситься, — отвечал бедняк, — я не в силах более таскать дрова». Черт обещал ему доставить много золота и серебра, если он обещает уступить ему то, что первое встретит его вечером при возвращении домой. Дровосек согласился. Когда подходил он к своей избе, навстречу к нему выбежала девочка, его единственное дитя, и с радостью сказала: «Скорей, отец! посмотри, что за чудо сотворил Господь с нами: подстилка, насланная для коз, и клочки пряжи, брошенные наземь, — все превратилось в чистое золото». На другой день поутру повел дровосек свою дочь на то самое место, где являлся ему черт; там приказал ей дожидаться своего прихода и оставил ее одну. Девочка села на траве и прождала до вечера. Боязнь овладела ею, и она готова была заплакать; в то время явилась святая Дева Мария и спросила: кого она ждет? Потом прибавила: «Мое дитя! твой отец не воротится, он за богатство уступил тебя дьяволу, который возьмет тебя и унесет с собою». Горько заплакал в ужасе бедный ребенок. «Смотри, дочь моя! — сказала Богоматерь, утешая девочку, — я начерчу около тебя круг, за который ты не должна выходить. Когда я удалюсь, ад пошлет за тобою своих слуг, но будь мужественна — они тебе ничего не сделают». Затем Св. Дева начертила круг и исчезла. Тогда приблизились безобразные демоны, но все их усилия были напрасны: они не могли переступить таинственного круга; когда снова явилась Св. Дева, они ни минуты не могли вынести ее сияния и тотчас же рассеялись в разные стороны. Св. Дева взяла девочку за́ руку, привела в чудесный сад, среди которого стоял великолепный дом, и дала ей четыре ключа. «Этими ключами, — сказала она, — ты можешь отворить все двери и гулять по всем комнатам; только не входи, дитя мое! в ту комнату, что отпирается этим деревянным ключем». Но девочка нарушила заповедь, отворила дверь в запретную комнату и видела, как Богоматерь исцеляла раны своего божественного сына. В гневе изрекла Св. Дева: «Да разверзнется земля и да поглотит неблагодарную!» — «Нет, — сказал Спаситель, — пусть она заплатит за это другим наказанием». Св. Мария привела ее в мрачную пещеру, строго запретила ей произносить хоть единое слово и удалилась. Долго жила она в этой пещере. Случилось однажды — охотился вблизи королевич, зашел нечаянно в пещеру и увидел девушку. На все вопросы его она не отвечала ни слова: несмотря на то, пораженный ее красотой, королевич женился на ней. Через год она родила ему двух прелестных золотых малюток. Ночью, когда и мать и няня спали, пришла Св. Дева и унесла одного ребенка. Когда няня проснулась и увидела, что детская постелька пуста, она сильно испугалась королевского гнева; поймала гуся, вызолотила его, посадила на постель и донесла, что жена королевича — злая ведьма, что она родное свое дитя превратила в гуся. Король сильно разгневался на свою невестку и пришел к ней в комнату, чтобы разузнать все дело; но тщетно, он ничего не добился от несчастной матери, кроме слез. На следующую ночь Пречистая Дева взяла и другого ребенка; проснувшись, няня сделала то же, что и прежде. Тогда король созвал суд, и приказал судить королевну. Решено было замуровать ее живою в каменную стену. Приговор был исполнен. Уже положили последний камень над ее головою, уже отчаянье проникло в ее измученную душу, — в то время явилась Пречистая Дева, возвратила ей детей, дала позволение говорить и наделила пищею. Целые три года пробыла королевна в каменной стене; наконец принц не мог далее противиться своей любви, разрушил стену и нашел свою жену и детей. С тех пор они жили мирно и счастливо.
Пользуясь собранием В. И. Даля, приводим оттуда русский народный рассказ, в котором то же содержание передается почти с теми же подробностями и обстановкою:
Жил-был мужик; до того обеднял, что остался у него один сундук, и тот порожний. Что теперь делать? держит он в уме; есть нечего, купить не на что! Кажись родную б дочь свою продал, да кому ее надобно? Только подумал, как вдруг входит в избу Пречистая Дева и говорит: «Здравствуй, мужичек! продай мне свою дочь». — «Что за диво! — подумал мужик, — еще ни слова не говорил, а уж ей ведомо! Отчего не продать! — сказал он. — Купи — твоя будет». Взял мужик деньги и отдал дочь. Пресвятая Богородица привела ее в высокие хоромы, и говорит: «Оставайся здесь и живи с миром. Если соскучишься — вот тебе ключ, отопри эту дверь и ступай гулять: там тебе будет весело». Девочка отворила дверь и вошла в большой-большой сад; каких только цветов и деревьев в нем ни было! Целой месяц пробыла здесь девочка, и все не могла насмотреться, не могла нагуляться. Прошло много времени, и дала ей Пречистая Дева другой ключ: «Будет скучно — отопри эту дверь и полюбуйся на Божье создание». Отворила девочка другую дверь, и увидела там многое множество разных птиц, точно со всего света сюда собраны. Век бы глядел на них — не нагляделся, век бы слушал их сладкое пение — не наслушался. Опять прошло много времени, и дает ей Пречистая Дева третий ключ; «Будет скучно — ступай в эту дверь, полюбуйся на Божье создание». Отворила девочка третью дверь, и увидела там многое множество разных зверей: все звери ласковые да красивые; стала она играть с ними, и на их скачки, на их прыжки долго не могла налюбоваться. После отдала ей Пресвятая Богородица все ключи и говорит: «Позволяю тебе везде ходить и все смотреть, только туда не ходи, где медной замо́к на двери висит». Вот девочка и стала про себя думать: «Что это такое — везде я хожу, на все я смотрю, а там не была, где медной замок висит? Дай хоть немножко загляну!» И только чуть отворила дверь, как ударило оттуда пламя, и она едва успела убежать в сторону. «Где ты была, что видела?» — стала спрашивать Пресвятая Дева. — «Я нигде не была, ничего не видела», — отвечала девочка. — «Если ты не признаешься я сделаю тебя и глухою, и немою». — «Я нигде не была, ничего не видела», — повторила девочка. Пречистая Дева сделала ее глухою и немою и отвела в густой и темной лес.
Долго ходила она по́ лесу, притомилась, приустала, и залезла в дупло отдохнуть. На ту пору охотился тут царской сын; наехал он на дупло и увидел девочку. Засмотрелся на ее красоту, и стал распрашивать: кто она и как сюда попала. Сколько ни спрашивал, она ни слова ему не промолвила. Тогда царевич велел своим людям взять ее с собою и привез ее во дворец. Девочка выросла и крепко полюбилась царевичу: захотел он на ней жениться, сказал отцу и матери; они и говорят ему: «Любезной сын! Мы с тебя воли не снимаем; а совет наш такой: что за охота брать за себя немую? женись-ка лучше на царевне, али королевне». Но царевич так неотступно упрашивал, что делать нечего — и отец и мать согласились, и дали ему свое родительское, навеки нерушимое благословение. У царя не пиво варить, не вино курить; веселым пирком да за свадебку, отпраздновали и стали жить в радости. Ровно через год родила молодая сына; но в ту же ночь, как скоро заснули все крепким сном, пришла Пречистая Дева, разбудила жену царевича, и сказала: «Я разрешаю твой язык, признайся только, что видела ты в горнице, где висел медной замок?» — «Я ничего не видала». Тогда Пречистая Дева сделала ее опять глухою и немою, взяла ея ребенка и унесла с собой. Наутро спрашивает царевич о сыне; мамки и няньки переполошились, искали-искали, думали-думали, и ничего не нашли, ничего не придумали. Царь с царицею стали ему говорить, что жена его — злая ведьма; сама изгубила свое милое детище, и что следует казнить ее. Царевич начал слёзно упрашивать своих родителей, и они сжалились на его слезы и простили невестку. Через год родила она другаго сына; ночью явилась Пречистая Дева и унесла с собой и другаго ребенка. Еще через год родился у царевича третий сын, и с ним случилось то же самое. Тогда царь сильно разгневался и приказал казнить царевичеву жену жестокою казнию. Повели ее казнить; уже все готово: и топор, и плаха! В то самое время явилась Пресвятая Богородица с тремя хорошенькими мальчиками, и сказала: «Признайся, что видела ты в горнице, где висит медной замок?» Тут только призналась царевичева жена, и Пресвятая Дева простила грешницу, разрешила ей язык и отдала детей. После того царевич стал со своею женою жить, да поживать, да добра наживать, а как умер его отец — он сделался царем, и правил народом долго и милостиво.
31. Кузнец и чорт
Жил-был кузнец, у него был сын лет шести, мальчик бойкой и разумной. Раз пошел старик в церковь, стал перед образом страшнаго суда, и видит: нарисован чорт, да такой страшной — чорной, с рогами и с хвостом. «Ишь какой! — подумал он, — дай-ка я себе намалюю такого в кузнице». Вот и нанял маляра, и велел ему нарисовать на дверях кузницы чорта точь-в-точь такого, какого видел в церкви. Нарисовал маляр. С той поры старик, как войдет в кузницу, всегда взглянет на чорта и скажет: «Здорово, земляк!» А после разведет в горне огонь и примется за работу. Жил эдак кузнец в ладу с чортом лет с десяток; потом заболел и помер. Стал сын его за хозяина, принялся за кузнечное дело; только не захотел он почитать чорта, как почитал его старик. Прийдет ли поутру в кузницу — с ним никогда не поздоровается, а заместо ласковаго слова возьмет самой что́ ни есть большой молот и огреет этим молотом чорта прямо в лоб раза три, да потом и за работу. А как настанет у Бога праздник — сходит он в церковь, поставит святым по свечке; а к чорту прийдет и плюнет в глаза. Прошли целые три года, а он все угощает нечистаго каждое утро то молотом, то плевками. Терпел, терпел чорт, да и вышел из терпения: невмоготу стало. «Полно, — думает, — принимать мне от него такое наругательство! дай ухитрюсь, да что-нибудь над ним сделаю».
Вот обернулся чорт парнем и приходит в кузницу. «Здраствуй, дядя!» — «Здорово». — «А что, дядя, возьми меня к себе в ученье? буду тебе хоть уголья таскать да меха раздувать». Кузнец тому и рад: «Отчего не взять! вдвоем все спорей…» Пошел чорт в науку; пожил месяц и узнал кузнечное дело лучше самого хозяина: чего хозяин не сможет, то он сделает. Любо-дорого посмотреть! Кузнец уж так его полюбил, уж так им доволен, что и сказать нельзя. В другой раз сам не йдет в кузницу — надеется на работника: он всем управит. Раз как-то не было хозяина дома, а в кузнице оставался один работник. Видит он — едет мимо старая барыня, высунул голову из дверей и давай кричать: «Эй, господа! вы пожалуйсте сюда; здесь новая работа открывается, старые в молодых переделываются». Барыня сейчас из коляски да в кузницу. «Чем ты похваляешься? да вправду ли? да сумеешь ли?» — спрашивает парня. — «Не учиться нам стать! — отвечает нечистой, — коли б не умел, так и не вызывался бы». — «А что сто́ит?» — спрашивает барыня. — «Да всего пятьсот рублев». — «Ну, вот тебе деньги, сделай из меня молодую». Нечистой взял деньги, посылает кучера на деревню: «Ступай, — говорит, — притащи сюда два ушата молока»; а самоё барыню схватил клещами за́ ноги, бросил в горн и сжег всю до́чиста, только одне косточки и остались. Как принесли два ушата с молоком, он вылил их в кадушку, со́брал все косточки и побросал в молоко. Глядь — минуты через три выходит из молока барыня: живая, да молодая, да красивая!
Села она в коляску и поехала домой; входит к барину, а тот уставил на нее глаза и не узнает своей жены. «Что глаза-то выпучил? — говорит барыня. — Видишь, я и молода, и статна; не хочу, чтоб у меня муж был старой! Сейчас же поезжай в кузницу, пускай и тебя перекуют в молодаго… а то и знать тебя не хочу!» Нечего делать, поехал барин.
А тем временем кузнец воротился домой и пошел в кузницу; смотрит — нету работника; искал-искал его, спрашивал-спрашивал — нет как нет, и след простыл. Принялся один за работу, только молотом постукивает. Приезжает барин и прямо в кузницу: «Сделай, говорит, из меня молодаго». — «В уме ли ты, барин? как сделать из тебя молодаго?» — «Ну, так как знаешь!» — «Я ничего не знаю». — «Врешь, мошенник! коли переделали мою старуху, переделывайте и меня, а то мне житья от нея не будет…» — «Да я твоей барыни и в глаза-то не видал». — «Все равно, твой работник видел. Если он сумел дело повершить, так ты, старой мастер, и подавну должен уметь. Ну, живей поворачивайся, не то быть худу: попробуешь у меня березовой бани». Принужден был кузнец переделывать барина. Распросил потихоньку у кучера, как и что и сделал работник его с барыней, и думает: «Куда не шло! стану то же делать; попаду на лад — хорошо, не попаду — все равно пропадать!» Тотчас раздел барина донага, схватил его клещами за ноги, сунул в горн и давай поддувать мехами: сжег всего в пепел. После того вынул кости, покидал в молоко, и ждет — скоро ли выскочит оттуда молодой барин. Ждет час, и другой — нет ничего; посмотрел в кадушку — одне косточки плавают, и те обгорелыя… А барыня шлет послов в кузницу: скоро ли будет готов барин? Отвечает бедный кузнец, что барин приказал долго жить; поминайте, как звали! Как узнала барыня, что кузнец только сжег ея мужа, а молодым не сделал, сильно разгневалась, созвала своих верных слуг и велела тащить кузнеца на виселицу. Сказано — сделано. Побежали слуги в кузницу, схватили его, связали и потащили на виселицу. Вдруг нагоняет их тот самой малой, что у кузнеца жил в работниках, и спрашивает: «Куда ведут тебя, хозяин?» — «Хотят повесить, — отвечал кузнец, и рассказал все, что с ним сталося. — «Ну, дядя! — молвил нечистый, — поклянись, что никогда не будешь бить меня своим молотом, а станешь ко мне такую же честь держать, какую твой отец держал, — и барин сейчас будет и жив и молод». Кузнец забожился, заклялся, что никогда не подымет на чорта молота, а будет отдавать ему всякую почесть. Тут работник побежал в кузницу и на́скоро воротился оттуда вместе с барином: «Стой, — кричит слугам, — не вешайте! вот ваш барин!» Они сейчас развязали веревки и отпустили кузнеца на все четыре стороны; с тех пор перестал кузнец плевать на чорта и бить его молотом, работник его скрылся и больше на глаза не показывался, а барин с барыней стали жить да поживать да добра наживать, и теперь еще живут, коли не умерли.
(Из собрания В. И. Даля)
Примечание к № 31: Вариант этой легенды напечатан в «Отечественных Записках» 1840 года (см. Шесть малороссийских простонародных баллад Л. Баровиковского, № 2, смесь; с. 50—51):
Славный у старых панов был Ярёмка-кузнец: бывало сделает серп ли, к дверям рукоятку ли, задвижку, крючок ли, завески ли к скрыне — ну так ведь прехитро украсит резьбой да насечкой, что, ей, загляденье! Вот так бы сидел да глядел бы!.. Ну, а кузница-то у Ярёмки, право, и хата другая не будет просторней и краше… Подле горнила, на самой на печке, висел на холсте намалеванный чорт, повешенный кверху ногами, ну да списанный точно! Кто ни посмотрит, узна́ет: чорт да и чорт тебе! чорный, с рогами, с предлинным хвостом, с бородою, с калиткою денег в когтях и с людскими грехами. Чорта Ярёмка повыпачкал грязью и дегтем, очи проклятыя выжег, всего исколол, исцарапал. Если Ярёмка куёт — ужь он так норовит, чтобы к чорту спиной повернуться… А если и глянет, бывало, на чорта, то, верно, чтоб плюнуть на чортову харю. Чорт разозлился и решился отомстить. Вот нанялся в кузницу новой работник, цыган, и какой работник! Десять против него не сработают; Ярёмка только смотрит да деньги считает. Приехал однажды к Ярёмке хромой атаман. Цыган предложил ему сковать ногу. Атаман согласился. Цыган пригораздил к жаровне хромую ногу; ударил молотом, спрыснул водою, посыпал песком. Атаман лишь вышел из рук кузнеца — да вприсядку!.. С этой поры к кузнецу приносили не лом да железо, а увечье, недуг да калечество. Много перековал цыган: стариков и старух в молодых, калек в здоровых, безобразных в красавцев. Как-то работник-цыган отлучился; а барин Ярёмкин, дряхлой старик, приходит к Ярёмке с приказом — перековать его в молодцы. Недолго думал кузнец; завязал его в мешок, подложил угольков в жаровню и, бросив в горнило, сам принялся раздувать. Отчаянный крик и стоны господские скоро затихли. Вынул Ярёмка с огня обгорелыя кости… Цыган пропал без вести! Ужь палачь и Сибирь ожидают Ярёмку! Велел он позвать священника с молитвою; вот священник прочитал молитву, стал кропить святою водою и прямо попал в намалеваннаго чорта. Вдруг откуда ни взялся — пришел цыган, вызвал Ярёмку и сказал: «Что хочешь надо мной делай, глумись и ругайся, только не кропи святой водою! Сейчас приведу твоего барина». Скоро явился барин молодец-молодцом! Ярёмку простили, а работник его сгинул без вести. Ярёмка снял чортов портрет и швырнул в огонь: с той поры чорт почернел еще хуже и любимым местом его стали кузнечныя трубы.
Смотри также легенду: «Пустынник и дьявол» (№ 20 b).
В немецкой сказке «Das junggeglühte Männlein» (Kinder- und Hausmärchen, ч. 2, № 147) совсем иначе обставлено предание о перековке дряхлых стариков в юношей, полных сил и здоровья; здесь оно связывается со Христом и апостолами. Однажды шел Господь по земле вместе с апостолом Петром. Дело было к вечеру, и они попросились ночевать к кузнецу. Случилось, что в то же время пришел туда за милостиной бедный нищий, совсем согнувшийся от старости и недостатка сил. «Господи, — сказал св. Петр, — даруй ему, чтобы он сам мог добывать свой хлеб». Господь приказал кузнецу развести огонь: «Я желаю, — говорил он, — помолодить этого больного старика». Кузнец положил в горнило горячих угольев, св. Петр принялся за меха, и когда все было готово, взял Господь старого нищего, положил его в горнило на самый жар и раскалил докрасна, после того бросил его в воду, дал охладиться горячему телу, и благословил: и тотчас восстал нищий здоровым, сильным, молодым, как будто ему было только двадцать лет. На другой день то же самое повторяет кузнец с полуслепою, сгорбленною старухою, но его опыт оказывается неудачным.
Любопытно то целебное и животворное свойство, какое в этой легенде и во многих других народных сказках приписывается воде и огню: это поверье, по своему происхождению, принадлежит глубокой доисторической старине, когда обожались стихии и когда знахарство (лечение больных) входило в область религиозных священнодействий. С принятием христианства многое из этих старинных представлений — в массе народа, по преимуществу живущей преданием, было удержано, и сказалось в ее поэтических созданиях, между тем как самая обстановка нередко заимствовалась из иного мира. Так было у всех народов, так было и у славянских племен. (Сличи с легендами, помещенными в этом сборнике под № 4 и 5).
Norwegische Volksmärchen (ч. 1, № 21) передают сказание о кузнеце отчасти сходно с немецкой легендой, напечатанной братьями Гримм, отчасти с своеобразными дополнениями:
Кузнец заключил с чертом договор, что ровно через семь лет готов отдаться ему, если на все это время нечистый сделает его первым мастером в кузнечном искусстве. Однажды как-то Христос и св. Петр, странствуя по земле, зашли к этому кузнецу. У него была мать-старуха: с сгорбленною спиною, с сморщенным лицом, она едва ноги передвигала от дряхлости. Господь взял ее, положил в горнило и начал ковать, — и старуха сделалась молодою и красивою. Кузнец попробовал тоже сделать, но ему вовсе не удалась хитрая работа. Раздраженный тем, что черт плохо ему помогает, он вздумал его проучить. «Правду ли говорят люди, — спросил кузнец нечистого, — что ты можешь на столько умалять себя, на сколько захочешь?» — «Правду». — «А ну, полезай в этот кошель!» — «Изволь!» — сказал черт, сделался маленьким и влез в кошель. Но едва он влез туда, в ту же минуту кузнец затянул кошелек, завязал, положил в горнило, и давай поджаривать нечистого. Черт кричать, молить пощады! Не тут-то было. «Я не могу тебя избавить, — сказал кузнец, — пословица говорит: куй железо, пока горячо!» Бросил кошелек на наковальню, и ну ударять по нем большим молотом. Вдоволь натешился над чертом и выпустил его: черт выскочил и давай Бог ноги! Прошло довольно времени; взял кузнец свой молот и пошел искать дороги в ад. Шел, шел, и добрался до перекрестка, где тропинка разделялась надвое: один путь вел на небо, другой в пекло. Здесь повстречался он с портным. «Добрый день! — сказал кузнец, — ты куда идешь?» — «На небо; а ты куда?» — «Ну, брат, мне с тобой не по дороге: я иду в пекло». Распрощались и пошли каждой своею дорогою. Вот пришел кузнец к адским воротам. «Кто идет?» — спрашивает черт, поставленный на страже. — «Я тот самый кузнец, у которого есть кошель и молот». Как услыхал это дьявол, сейчас велел запереть двери на все на девять замков. «Видно, здесь нет для меня квартиры, — подумал кузнец, — пойду в рай». Пустился в дорогу, и достиг райских ворот в то самое время, как св. Петр впускал на небо портного; но попал ли туда кузнец — неизвестно [166].
В «Москвитянине» 1843 года (№ 1, с. 132—140) г-н П. К. передал со слов одного казака народную сказку «Коваль Захарко». Черт позавидовал доброму и работящему ковалю и стал отзывать от него всех, кто только ехал к нему с работою. Захарко с горя продался черту; но с того времени был столь милостив к бедным и столь набожен, что свыше дано ему было во власть два слова: стань и сядь. Когда наступил срок и явилась за ним нечистая сила, он одному черту сказал: стань! а другому: сядь! и оба они не могли уже тронуться с места. Самого сатану посадил он в кожаный кошель и разбил молотом на наковальне. (Сличи с легендою «Солдат и Смерть», № 16c).
32. Волк
Дело было в старину, когда еще Христос ходил по земле вместе с апостолами. Раз идут они дорогою, идут широкою; попадается навстречу волк и говорит: «Господи! мне есть хочется!» — «Поди, — сказал ему Христос, — съешь кобылу». Волк побежал искать кобылу; увидел ее, подходит и говорит: «Кобыла! Господь велел тебя съесть». Она отвечает: «Ну, нет! меня не съешь, не позволено; у меня на то есть вид (паспорт), только далеко забыт». — «Ну покажи!» — «Подойди поближе к задним ногам». Волк подошел; она как треснет его по зубам задними копытами, ажно (так что) волк на три сажени назад отлетел! А кобыла убежала.
Пошел волк с жалобой; приходит ко Христу и говорит: «Господи! кобыла чуть-чуть не убила меня до́ смерти!» — «Ступай, съешь барана». Волк побежал к барану; прибежал и говорит: «Баран! я тебя съем, Господь приказал». — «Пожалуй, съешь! да ты стань под горою да разинь свою пасть, а я стану на горе, разбегусь, так прямо к тебе в рот и вскочу!» Волк стал под горою и разинул пасть; а баран как разбежится с горы, да как ударит его своим бараньим лбом: бац! Сшиб волка с ног, да сам и ушел. Волк встал, глядит на все стороны: нет барана.
Опять отправился с жалобой; приходит ко Христу и говорит: «Господи! и баран меня обманул; чуть-чуть совсем не убил!» — «Поди, — сказал Христос, — съешь портнаго». Побежал волк; попадается ему навстречу портной. «Портной! я тебя съем, Господь приказал». — «Погоди, дай хоть с родными проститься». — «Нет, и с родными не дам проститься». — «Ну, что делать! так и быть, съешь. Дай только я тебя смеряю: влезу ли еще в тебя-то?» — «Смеряй!» — говорит волк. Портной зашел сзади, схватил волка за хвост, завил хвост за руку, и давай серого утюжить (бить). Волк бился-бился, рвался-рвался, оторвал хвост, да давай Бог ноги. Бежит что есть силы, а навстречу ему семь волков. «Постой! — говорят, — что ты, серой, без хвоста?» — «Портной оторвал». — «Где портной?» — «Вон идет по дороге». — «Давай нагонять его» — и пустились за портным. Портной услышал погоню, видит — что дело плохо, взобрался поскорей на дерево, на самый верх, и сидит. Вот волки прибежали и говорят: «Станем, братцы, доставать портнаго; ты, кургузой (безхвостый), ложись под-исподь, а мы на тебя, да друг на дружку уставимся, — авось достанем!» Кургузой лёг на́земь, на него стал волк, на того другой, на другаго третий, все выше и выше; уж последний влезает. Видит портной беду неминучую: вот-вот достанут! и закричал сверху: «Ну, уж никому так не достанется, как кургузому!» Кургузой как выскочит из-под низу да бежать! Все семеро волков попадали наземь, да за ним вдогонку; нагнали и ну его рвать, только клочья летят. А портной слез с дерева и пошел домой.
(Из собрания В. И. Даля).
Примечание к № 32. См. «Народные русские сказки», вып. IV, с. 44—47, 155—158, и легенду о. бедной вдове (№ 3).
В сказке «О Георгии Храбром и о волке», записанной казаком Луганским, волк обращается с своими просьбами к этому святому. Георгий Храбрый между простолюдинами почитается покровителем стад и начальником волков, которым раздает приказания: где и чем кормиться. Народные поговорки говорят: «Св. Юрий коров запасает», «Егорий да Влас всему богатству глаз», «Что у волка в зубах, то Егорий дал». Существует поверье, что волк ни одной твари не задавит без Божьего дозволения. Под Юрьев день, и осенью, и весною в Курской губернии ничего не работают из шерсти, опасаясь, чтобы волки не поели за то овец [167]. От одного поселянина слышали мы такой рассказ:
Пасли два пастуха овечье стадо; захотелось одному водицы испить, и пошел он через лес к колодцу. Шел, шел и увидел большой, ветвистый дуб, а под ним трава вся примята и выбита. «Дай посмотрю, что тут делается», — сказал пастух и влез на самую верхушку дерева. Глядь — едет Св. Георгий, а в след за ним бежит многое множество волков. Остановился Георгий у самаго дуба; начал рассылать волков в разныя стороны, и наказывает всякому, чем и где пропитаться. Всех разослал; собирается уж ехать; на ту пору тащится хромой волк и спрашивает: «А мне-то что ж?» Егорий говорит: «А тебе вон на дубу сидит!» Волк день ждал, и два ждал, чтобы пастух слез с дерева, так и не дождался; отошел подальше и схоронился за куст. Пастух огляделся, спустился с дуба — и бежать! А волк как выскочит из-за куста: схватил его и тут же съел.
33. Петух и жорновки
Жил да был себе старик со старухою, бедные-бедные! Хлеба-то у них не было; вот они поехали в лес, набрали жолудей, привезли домой и начали есть. Долго ли, коротко ли они ели, только старуха уронила один жолудь в подполье. Пустил жолудь росток и в небольшое время дорос до́ полу. Старуха заприметила и говорит: «Старик! надобно пол-та прорубить; пускай дуб ростет выше; как выростет, не станем в лес за жолудями ездить, станем в избе рвать». Старик прорубил пол; деревцо росло-росло и выросло до потолка. Старик разобрал и потолок, а после и крышу снял; дерево все ростет да ростет, и доросло до самаго неба. Не стало у старика со старухой жолудей, взял он мешок и полез на дуб. Лез-лез, и взобрался на небо [168]. Ходил-ходил по небу, увидал: сидит кочеток — золотой гребенёк, маслена головка, и стоят жорновцы [169]. Вот старик-ат долго не думал, захватил с собою и кочетка и жорновцы и спустился в избу. Спустился и говорит: «Как нам, старуха, быть, что нам есть?» — «Постой, — молвила старуха, — я попробую жорновцы». Взяла жорновцы и стала молоть: ан блин да пирог, блин да пирог! что ни повернет — все блин да пирог! И накормила старика.
Ехал мимо какой-то барин, и заехал к старику со старушкой в хату. «Нет ли, — спрашивает, — чего-нибудь поесть?» Старуха говорит: «Чего тебе, родимой, дать поесть, разве блинов?» Взяла жорновцы и намолола: нападали блинки да пирожки. Проезжий поел и говорит: «Продай мне, бабушка, твои жорновцы». — «Нет, — говорит старушка, — продать нельзя». Он взял да и украл у ней жорновцы. Как уведали старик со старушкою, что украдены жорновцы, стали горе горевать. «Постой, — говорит кочеток — золотой гребенёк, — я полечу, догоню!» Прилетел он к боярским хоромам, сел на ворота и кричит: «Кукуреку! боярин, боярин! отдай наши жорновцы золотые, голубые! Боярин, боярин! отдай наши жорновцы золотые, голубые!» Как услыхал барин, сейчас приказывает: «Эй, малой! возьми — брось его в воду». Поймали кочетка, бросили в колодезь; он и стал приговаривать: «Носик, носик! пей воду; ротик, ротик! пей воду» — и выпил всю воду. Выпил всю воду и полетел к боярским хоромам; уселся на балкон и опять кричит: «Кукуреку! боярин, боярин! отдай наши жорновцы золотые, голубые! боярин, боярин! отдай наши жорновцы золотые, голубые!» Барин велел повару бросить его в горячую печь. Поймали кочетка, бросили в горячую печь — прямо в огонь; он и стал приговаривать: «Носик, носик! лей воду; ротик, ротик! лей воду» — и залил весь жар в печи. Вспорхнул, влетел в боярскую горницу и опять кричит: «Кукуреку! боярин, боярин! отдай наши жорновцы золотые, голубые! боярин, боярин! отдай наши жорновцы золотые, голубые!» Гости услыхали это и побе́гли и́з дому, а хозяин побег догонять их; кочеток — золотой гребенёк схватил жорновцы, да и улетел с ними.
(Записана А. Н. Афанасьевым в Воронежском уезде).
Примечание к № 33. Сличи с началом сказки «Лиса-лекарка» (Народные русские сказки, вып. IV, № 7) и с рассказом, помещенным в Volkslieder der Wenden in der Ober- und Nieder-Lausitz (ч. 2, с. 175—176) о бедняке, у которого было много детей: вырос дуб до самого неба; бедный мужик влез на верхушку и давай стучаться. «Посмотри, — сказал Господь апостолу Петру, — кто сюда стучится?» — «Кто там?» — спросил св. Петр. — «Я, бедный человек, у которого много детей». Апостол Петр дал ему два хлеба. В другой раз мужик выпросил себе булку; а в третий раз был прогнан палкою. — Чудесные жорновки, которые дают своему хозяину сколько угодно блинов и пирогов, напоминают собой сказочную скатерть-самобранку (Tuch deck dich). Норвежская сказка упоминает о такой же мельнице:
В старое время было два брата: богатый и бедный. Наступал празник Рождества Христова; у бедного не было ни куска мяса, ни хлеба в доме; он пошел к брату и стал просить у него ради Христа. Богатый не очень обрадовался такому посещению. «Сделай то, что прикажу тебе, — сказал он, — и я тебе дам целый окорок». — «Хорошо», — отвечал бедный. Тогда богатый бросил ему окорок и сказал: «Возьми и убирайся к черту». — «Я обещал, должен и выполнить», — подумал бедняк, взял окорок и пошел в ад. Целый день шел он, и наконец увидал старика с длинною белою бородою. «Здесь ли дорога в ад?» — «Здесь. Только послушай: когда ты прийдешь туда, все черти и большие и малые станут покупать у тебя окорок; но ты не отдавай его за деньги, а проси в обмен старую ручную мельницу, что у дверей стоит». Бедный послушался и получил мельницу. Воротясь домой, он поставил ее на стол, и приказал молоть: все, что только он ей приказывал, сейчас же давала чудесная мельница. Узнал о том богатый, пришел торговать мельницу, и купил ее за 300 талеров. Принес домой, и говорит жене: «Ступай в поле убирать сено, а я обед приготовлю». Жена ушла, а муж поставил мельницу на стол и приказывает, чтоб молола сельдь и молочный суп. Начала мельница молоть сельдь и молочный суп: наполнила все чашки, чугуны, кадки; уж и подставлять нечего, а она все мелет. Как ни останавливал ее богатый, как ни трудился, — ничего не мог сделать; затопила она всю избу, запрудила целой двор и потекло молоко с сельдями в открытое поле. Богатый бросился к брату: возьми назад свою мельницу. Тот взял мельницу и еще впридачу 300 талеров, и стал жить весело и счастливо. Заехал к нему однажды корабельщик и пожелал видеть мельницу. «Может ли она молоть соль?» — «Может». — «Продай ее мне». — «Купи». Сторговал за тысячу талеров, поставил ее на корабль, поехал в море и заставил молоть соль. Тотчас же посыпалась соль и наполнила целое судно; сколько ни старался корабельщик — не мог ее остановить: кучи соли росли выше и выше, и наконец потопили корабль со всем, что на нем было. Там на дне моря, стоит чудная мельница и до сего дня мелет соль: оттого-то и солона морская вода.
СЛОВАРЬ-КОММЕНТАРИЙ
Алтын — монета в три копейки.
Апокрифы — произведения раннехристианской средневековой литературы, как правило на библейские сюжеты, не признанные церковью.
Благовещение — христианский праздник, связанный с мифом об архангеле Гаврииле, возвестившем о будущем рождении девой Марией Иисуса Христа; отмечается 25 марта [170].
Введение во храм Пресвятой Богородицы — христианский праздник отмечается 21 ноября. Установлен в память о дне, когда родители девы Марии, Иоаким и Анна, в благодарность богу, услыхавшему их молитву и даровавшему им дочь, привезли ее в трехлетнем возрасте в Иерусалим и отдали в Иерусалимский храм для воспитания.
Великий пост — 7 недель перед Пасхой, в течение которых христианская церковь предписывает воздерживаться от скоромной (мясной и молочной) пищи, запрещает участие в увеселениях.
Вечерня — вечерняя церковная служба.
Воздвижение — христианский праздник, установленный в память воздвижения в Иерусалиме над толпой верующих креста, на котором по преданию, был распят Иисус Христос; отмечается 14 сентября.
Воскресение Христово (Пасха) — наиболее почитаемый общехристианский праздник в память воскресения распятого на кресте Иисуса Христа; отмечается в первое воскресение после весеннего равноденствия и полнолуния (приходится на период с 22 марта по 25 апреля).
Денежка — монета в полкопейки.
Духовные стихи — фольклорные и литературные музыкально-поэтические произведения христианско-религиозного содержания.
Жития святых — рассказы о жизни, благочестивых подвигах или страданиях людей, канонизированных христианской церковью; один из основных жанров средневековой литературы.
Заутреня — ранняя церковная служба в праздник.
Зеленя́ — всходы хлебов, преимущественно озимых.
Зо́ловать (платье) — парить в зольной воде, мыть со щелоком.
Ендова́ — широкий сосуд, чаще медный, с носиком, рыльцем для разлива питья.
Крещение — Христианский праздник, отмечающийся 6 января, в память о крещении Иисуса Христа.
Ледащий — слабосильный, тщедушный.
Литургия — христианское богослужение, во время которого совершается причащение: приобщение к Христу через вкушение вина и хлеба, воплощающих, по преданию, кровь и тело Христа.
Минеи-Четьи — средневековые церковно-литературные сборники, содержат жития святых, «слова» и поучения, расположенные по месяцам в соответствии с днями памяти каждого святого; предназначены для чтения на каждый день. В XVI веке на Руси под руководством митрополита Макария был создан 12-томный свод «Великие Минеи Четьи», который охватывал все письменные памятники, допускавшиеся к чтению на Руси. Наряду с житиями святых сюда вошли сборники «Пчела», «Золотая цепь», «Христианская топография» Космы Индикоплова, многие оригинальные памятники древнерусской литературы.
Мыкать прядиво — чесать лён или пеньку на кудель для пряжи, что делается мыкалкой, гребнем, щеткой.
Налой (от аналой) — в православных церквях высокая подставка, на которую при богослужении кладут для чтения книги, ставят иконы и крест.
Николин день — православный праздник в честь Николая Мирликийского; отмечается два раза в год: Никола зимний — 6 декабря, Никола летний — 9 мая.
Обрез (воды) — одна из половинок распиленной поперек бочки.
Обедня — народное название литургии (см. Литургия).
Опара — заправленное дрожжами и забродившее жидкое тесто.
Палея — памятник, в котором пересказываются с толкованиями и дополнениями библейские книги, причем библейский текст обильно дополнен апокрифическим материалом.
Патерики — общее название средневековых сборников, назидательных рассказов о жизни прославившихся благочестием и аскетизмом монахов и отшельников; в отличие от житий святых, последовательно рассказывавших о жизни подвижников, патериковые легенды ограничивались наиболее занимательными и поучительными эпизодами их биографий.
Праздник усекновения головы Иоанна Предтечи — отмечается 11 сентября. По евангелиям, Иоанн является предтечей, провозвестником пришествия на землю Иисуса Христа. Он крестил Иисуса в реке Иордан, а потом был брошен в темницу за выступление против царя Ирода и казнен по просьбе жены царя Иродиады, попросившей голову Иоанна. По календарю, этот праздник совпадает с древним праздником летнего солнцеворота, днем, который знаменовал собою начало осени, окончание сельскохозяйственных работ.
Пе́кельный (князь; о сатане) — от пекло, самый жар, огонь, ад, преисподняя.
Покров Пресвятой Богородицы — христианский праздник, отмечается 1 октября.
Разговляться — поесть скоромной (молочной и мясной) пищи после поста.
Рождество — христианский праздник в честь рождения Иисуса Христа; отмечается 25 декабря, русской православной церковью — 7 января (по новому стилю).
Светлая неделя — неделя за днем Пасхи.
Светлое Воскресение, Светлый день — см. Воскресение Христово.
Солод — продукт из смолистых зерен хлебных злаков, применяющийся при изготовлении пива.
Стих о Голубиной книге — духовный стих космогонического характера, рассказывает о начале мира, происхождении и первенстве в нем разных предметов и явлений.
Стоглав — сборник решений Стоглавого собора 1551 г. Состоит из 100 глав, является кодексом правовых норм внутренней жизни русского духовенства и его отношений с обществом и государством.
Схимник — монах принявший схиму — торжественную клятву (обет) полного отречения от мирской жизни.
Троица — христианский праздник, установленный в память о сошествии духа святого на апостолов на пятидесятый день после воскресения Христа. Получил свое название в память того, что в сошествии духа святого участвовали все три ипостаси божественной троицы: бог-отец, бог-сын, бог-дух святой. Отмечается на пятидесятый день после Пасхи и называется также пятидесятницей. Празднование христианской Троицы слилось с многими древними языческими праздниками, в частности, с древнеславянским семиком, знаменовавшим окончание весенних полевых работ (пахоты, посева), ожидание урожая.
Тычинка — всякий прут, колышек, воткнутый в землю.
Успение Богородицы — христианский праздник, в память о смерти (успении) Богородицы; отмечается 15 сентября.
Хронографы — средневековые сочинения, содержащие изложение всемирной истории.
Эпитимья — церковное наказание в виде поста, длительных молитв.
Юрьев день — православный праздник в честь св. Георгия; отмечается два раза в год: 26 ноября и 23 апреля.
УКАЗАТЕЛЬ СЮЖЕТНЫХ ТИПОВ ЛЕГЕНД В СБОРНИКЕ А. Н. АФАНАСЬЕВА
[171]
Названия текстов Номера сюжетов
1. Чудесная молотьба 752 A
2. Чудо на мельнице —
3. a, b. Бедная вдова 750 B****
4. Исцеление 785 и по мотиву омолаживания
5. Поп — завидущие глаза ср. 307, 507, 753, 839 A*
6. Превращения начало ср. 761 + 750 B**
7. Пиво и хлеб —
8. Христов братец
a) 471 и ср. 460, 461
b) 471 и ср. 804, 800
c) 471 A
9. Егорий Храбрый (Му́ки Егория) —
10. Илья-пророк и Никола 846 A*
11. Касьян и Никола 790**
12. Золотое стремя 790*
13. Пятница ср. 846***
14. О Ное Праведном два эпизода соответственно 825, 777**
15. Соломон Премудрой 804 B
16. Солдат и Смерть
a. 330 А, 804 B и B**
b. »
c. 330 A и В, 332
17. a, b. Видение 840
18. Потанька —
19. Поездка в Иерусалим —
20. Пустынник и дьявол
a. 839 A или 839*
b. 753 + 839 A
c. отчасти 839 A
21. Пустынник —
22. Повесть о бражнике 800*
23. Царевич Евстафий —
24. Повесть о царе Аггее и како пострада гордостию 757
25. Смерть праведнаго и грешнаго 808
26. Ангел 795
27. Кумова кровать 756 B
28. Грех и покаяние
a) (756 C)
b) 756 C
29. Горькой пьяница (761)
30. Крестной отец 800 + 532
31. Кузнец и чорт 753
32. Волк 122 A
33. Петух и жорновки 715 A
Ниже приводятся сюжетные типы легенд из примечаний (в скобках названия даны составителем):
с. 78—81 (Девушка, встающая из гроба) (849*) + 307
с. 81—82 » 307
с. 109—110 (Аника-воин и Смерть) —
с. 110—111 (Пьяница в раю) 800 A*
с. 115 (Незнайка) 332
с 120—123 (Черт учится у солдата
и везет его на побывку домой) начало — 1166*
с. 126—127 (Черт и пустынник) 839
с. 145—146 (Два великих грешника) начало ср. 313 A; 811*+ 756 C
с. 146 » 756 C
с. 150—151 (Черт служит мужику) 810 A
с. 155—158 (Божий крестник) —
с. 163—165 (Девочка продана Богородице) —
с. 167—168 (Кузнец и черт) 753
с. 172—173 (Егорий и волки) 934 B*
А. Н. ПЫПИН РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ЛЕГЕНДЫ (По поводу издания г-на Афанасьева в Москве 1860 г.)
[172]
Русская этнография уже давно обратила внимание на памятники народной словесности, утверждая, что в них всего яснее определяется характер народа, но до сих пор она очень мало исполнила одну из главных своих задач, именно издание самых памятников. Она довольствуется клочками песен и преданий, часто подправленных и подрезанных для «приличия» самими издателями или по так называемым независящим причинам; примеры первого мы видели даже в изданиях официальных ученых обществ, которые несмотря на всю ученую строгость своих взглядов не могут избавиться от академической щекотливости и печатают только самые невинные народные произведения. Несмотря на то, мы продолжаем говорить, что открываем в них дух народа, забывая, что целый оставшийся у нас нетронутым угол этой области иногда представляет весьма курьезные образчики этого народного духа. Г-н Афанасьев, сделавший недавно издание сказок, если не совсем удовлетворительное, то, по крайней мере, имеющее заслугу достоверности, перешел теперь к одному из таких мало тронутых отделов нашей народной словесности и посвятил свою книжку народным легендам, до сих пор еще не имевшим собирателя.
Народные произведения далеко не так резко отличаются друг от друга, как отличает их этнографическая терминология. Народные песни, поверия, преданья, сказки и т. д. принадлежат одному и тому же народному воображению и создаются им без всяких литературных правил, и потому беспрестанно смешиваются один с другими и по предмету и по изложению, так что все типы народной словесности незаметно переходят один в другой. Тем не менее каждый в отдельности они имеют какие-нибудь преобладающие особенности: легенда имеет ту специальность, что останавливается исключительно на предметах, принадлежащих к области христианских верований и религиозной морали; сам народ не дает им, кажется, никакого особенного названия, но мы термином легенды отличаем только одну часть его поверий, не касаясь нисколько православно-церковных сказаний, по своему священному значению и достоверности решительно не принадлежащих к разряду народных поверий. И особенно о русских легендах мы во всей статье говорим в смысле только народных поверий: замечаем мы это во избежание перетолков людей легкомысленных. От самого содержания легенда имеет серьезный тон, который только впоследствии переходит иногда в шутку, как мы увидим в примерах г-на Афанасьева. Легенды были поучительным развлечением, и рассказывание их было делом благочестивым; иные из них имели песенную форму и пелись нищими старцами при церквах и по дорогам… Первоначальное происхождение легенды было, следовательно, чисто христианское: оно относится еще к первым векам распространения христианства: народное воображение скоро воспользовалось рассказами о жизни Спасителя, о подвигах его учеников; затем любопытство народа пошло и далее, оно остановилось на прошедшей истории человека, на сотворении мира и судьбе первых людей, на загробной жизни, увлеклось, наконец, и теми личностями, которые в настоящую минуту поражали народ возвышенным характером и святостью жизни, и таким образом мало-помалу легенды составили большую массу преданий, которая, наконец, заняла важное место в письменной литературе. По своему исключительно христианскому содержанию легенда не имела в первое время никакой частной национальности, но стала более или менее общим достоянием христианских народов. Это одно из ее существенных качеств. Но кроме общехристианских преданий, у разных народов развились еще частные, местные легенды о чудесах и святых; отсюда явились местные отличия легенд, усиленные еще потом разделением церквей.
История народной легенды находится в необходимой связи с легендой литературной. Средние века были классическим временем легенды, в течение их она получила свое полное развитие. В свежих народах Европы христианство нашло сильный отзыв; личности и события священной истории заняли место языческой мифологии, хотя наивная бессознательность тогдашних людей нередко мешала язычество с христианским и даже повторяла ту же языческую старину под новыми формами. Особенная плодовитость легенды относится именно к тому времени, когда новое учение начало совершенно господствовать над умами и событие, в котором всего ярче вышло наружу религиозное увлечение, подействовало в то же время всей силой на распространение легенды. Крестовые походы были чрезвычайно важным фактом в истории западноевропейской легенды. Еще гораздо раньше этого воинственного движения в Азию Палестина была целью множества благочестивых странствований; пилигримы со всей Европы отправлялись туда, пренебрегая трудностями опасного путешествия, и возвращаясь на родину, приносили целую массу рассказов о том, что они видели и слышали. Здесь переходили в Европу старые палестинские предания, отрывки византийских сказаний, поверья о чудесах дальних земель, но в особенности те истории, которые связаны были с предметом странствования: легенды подробно и разнообразно рассказывали о жизни Спасителя, о подвигах святых и мучеников. Подобное было и в древней России: странники ко святым местам упоминаются у нас уже в XI столетии, игумен Даниил видел в Иерусалиме и других русских богомольцев из Киева и из Новгорода; с другой стороны, и у нас упоминаются странники из Палестины, как например, в житии Феодосия, — странники, может быть, уходившие тогда от преследований, которые терпело христианское население Палестины. Мы имеем положительные исторические известия о том, что наши странники именно заносили с собой из путешествий то или другое сказанье, которое они или переводили с чужих языков, или же записывали сами на память. В наших былинах сохранилось очень любопытное описание пилигримских путешествий в одной песни Кирши Данилова, которая сама носит полный характер легенды. Вот как отправлялись в путь старинные «калики перехожие»:
А из пыстыни было Ефимьевы, Из монастыря из Боголюбова, Начали калики наряжаться Ко святому граду Иерусалиму, Сорок калик их со каликою, Становились во единой круг, Они думали думушку единую, А едину думушку крепкую, Выбирали большаго атамана. Молода Касьяна сына Михайловича. А и молодой Касьян сын Михайлович Кладет он заповедь великую На всех тех дородных молодцев: «А идтить нам, братцы, дорога неближняя, Идти будет ко городу Иерусалиму, Святой святыне помолитися, Господню гробу приложитися, Во Ердань-реке искупатися, Нетленной ризой утеретися; Идти селами и деревнями, Городами теми с пригородками, — А в том-то ведь заповедь положена: Кто украдет, или кто солжет… Атаман про то дело проведает, Едина оставить во чистом поле, И вкопать по плеча во сыру землю». И в том-то ведь заповедь подписана, Белыя рученки изприложены… Пошли калики во Иерусалим град. И идут неделю уже споряду, Идут уже время немалое, Подходят уже они под Киев град, Сверх тое реки Череги На его потешных на островах, У великаго князя Владимира. А и вышли они из раменья, Встречу им-то Владимир князь… Завидели его калики тут перехожие, Становилися во единой круг, Клюки, посохи в землю потыкали А и сумочки изповесили, Скричат калики зычным голосом. Дрогнет матушка сыра земля, С дерев вершины попадали, Под князем конь окорачился, А богатыри с коней попадали… Едва пробудится Владимир князь, Рассмотрел удалых добрых молодцев, Они-то ему поклонилися, Великому князю Владимиру, Прошают у него святую милостыню, А и чем молодцам душу спасти.Это были люди, через которых в особенности шла легенда. Наши нынешние пилигримы до сих пор собираются на богомолье толпами, артелями; они делят удачи и неудачи путешествия, в их кругу составляется и запоминается легенда и потом расходится с ними по целому краю. В песне Кирши Данилова артель богомольцев с атаманом становится уже похожа на казацкий круг богатырей, но можно думать, что основание целого рассказа и приведенного нами эпизода относится еще к глубокой старине. Калика перехожий есть лицо очень обыкновенное в нашей исторической былине, и одно это могло бы убедить в распространении русского паломничества, ежели бы мы не имели на это и положительных указаний, в которых также нет недостатка.
Сказания, разными путями пришедшие к нам, до такой степени обжились наконец в новой среде, что становились почти национальными произведениями, превращались из легенды в роман, как предание о Соломоне у немцев, и таким образом теряли даже свой первоначальный священный смысл. Литературная история «Римских Деяний», «Золотой легенды» и других подобных сборников представляет весьма занимательные факты в этом отношении. На западе легенда расходилась сначала на латинском языке, тогда общем языке церкви; в одно время с первыми попытками западных литератур легенда появилась и на народных языках, она излагалась в поэтической форме и перешла даже в народную поэзию и стала песней: на Рейне в XII столетии пелись сказания о святом Анно, в половине XIV века слепцы пели на улицах чудеса святого Николая.
Что касается до нашей старинной легенды, она также имела свои литературные источники в византийских книгах, которые уже давно начали у нас переводиться; много могла почерпать народная легенда и из собственно русских житий, огромное количество которых до сих пор остается мало разработанным; наконец, фантазия народа могла работать сама под влиянием утвердившихся религиозных и нравственных воззрений или по готовым прежним образцам. Последнее даже необходимо признать, потому что для иных народных легенд о Христе, апостолах и святых до сих пор не было найдено источников в древних письменных памятниках.
Условия появления легенды оказались, следовательно, в старой русской жизни так же, как это было в мире романском и немецком: было одно содержание христианских преданий и одно стремление преданий переработать их отчасти фантазией. Но развитие нашей и западной легенды было все-таки различно: последняя выросла до такого же законченного поэтического цикла, в какой сложились произведения мифического и рыцарского эпоса; легенда легко привилась к литературе и скоро стала в ней темой поэтических вариаций. Гервинус определяет ход ее образования такими чертами. В поэтических обработках, говорит он, история Христа, его семейства и учеников до святых позднейшей эпохи более и более сближала отдельные и рассеянные сюжеты, и они сами собой составили целый круг эпической, христианской саги. Обзор этого легендарного цикла чрезвычайно поучителен для понимания развития всех эпических средневековых сказаний, основанных на истории; потому что, если разобрать эту христианскую эпопею хронологически, по ее хронологическим основам и поэтическим обработкам, она развивается так же, как всякий другой светский эпос средних веков, переходя от действительного и исторического к выдуманному и чудесному, от простоты к разнообразию, от частного к общему; местность и лица давали поэзии такую же свободу, как в рыцарских поэмах. В Христе является средоточие, герой предания, в котором трудно было изменить внутренний смысл, к которому можно было только внешним образом прибавить новые предания. Когда этот основной предмет был истощен поэтами, тогда перешли к родственному содержанию Ветхого Завета. Это можно сравнить с соединением отдельных или родственных саг в рыцарском эпосе. Затем распространяли первоначальный источник далее по бедным намекам, которые он давал, и здесь с первым развитием саги вошло в нее апокрифическое. Об некоторых из 12-ти учеников были, правда, исторические предания, но ряд нужно было дополнить, и о ком молчала история, о том говорила фантазия. Точно так в рыцарском эпосе мы находим, что Роланд с Карлом и Гильдебранд с Дитрихом были соединены уже в первоначальном предании; но в большей части того, что говорится о 12-ти пэрах, скорее можно подозревать чистую выдумку, чем остаток исторического предания. Далее, в каждой личности Нового Завета прилагаемы были новые сказания, которые часто обнаруживают самую пустую выдумку и все-таки достигали огромной известности и, следовательно, популярности. В этом роде сочиняли истории об антихристе, о Пилате, об Иуде, о Марии: факты, имена, действия, которые им приписываются, постоянно обнаруживают подражание, заимствование, желание дополнить и прикрасить старые легенды. К этим древнейшим сюжетам присоединился, наконец, целый ряд легенд о святых и мучениках из римских и позднейших времен, но они остаются одинокими, как поздние рыцарские романы не имеют связи с древним эпическим циклом. Наконец, когда исчерпан был весь эпический материал, переходят к поучительной лирической обработке христианских преданий, как это было и в светской поэзии.
Такого широкого и самостоятельного развития легенда не имела в нашей старой литературе, главным образом потому, что наши старые «списатели», как их называли, привыкли действительно больше списывать чужое и пользовались уже готовыми византийскими легендами. Количество легенд, относящихся к лицам евангельским, у нас было несравненно меньше, и главное, лишено самостоятельной обработки, хотя материал издавна был под руками. Хронографы и Палеи, представлявшие священную и древнюю историю, пришли к нам уже в первые века славяно-русской письменности от греков и южных славян; священная история, которую они передавали, уже была прикрашена рассказами, перешедшими потом в народную легенду. Так же давно начали переводить у нас жития, отдельные и собранные в разного рода патериках; литература древних и новых апокрифов была также очень знакома, но всем этим материалом у нас очень мало воспользовались. В нашей литературе едва ли когда найдется что-нибудь подобное тем эпопеям, которые посвящены были на западе евангельским лицам и событиям. Причина в ограниченности литературного развития вообще и в различном направлении религиозных понятий: нашим старым людям не приходило в голову дать легенде более поэтическую форму, чем та, какую она получила в первый раз, — самый язык, на котором они читали и сами привыкли писать, был в сущности язык чужой; окаменевший в церковном употреблении, он не мог идти на выражение задушевной мысли, необходимой в поэтическом произведении. Господство славянского языка, без сомнения, убивало поэзию: единственный раз, когда хотели им воспользоваться для поэзии, он уложился только в нелепые вирши Семеона Полоцкого и товарищей. Притом у нас, если не господствовало исключительно, то было в большой силе чисто буквальное понимание того, что относилось к религиозным верованиям; в книге церковной видели всегда нечто догматическое, и какова была привязанность к букве, можно видеть до настоящей минуты у раскольников.
Но хотя благочестивая ревность и понимала поэзию по-своему, она произвела много сказаний чисто русских, в которых пробивалась все-таки струя легендарной поэзии.
Наконец, источником народной легенды были и предания, шедшие не из книги, а жившие в самом народе, как песня и сказка: всего труднее определить пути, которыми проходили эти незатейливые повести до тех пор, пока встретились с любопытством ученых собирателей. Здесь легенда от беспрестанного обращения в народе иногда смешивалась с другими рассказами; в ее христианские рассказы вплетались разные посторонние черты из старых мифических воспоминаний: к библейскому сказанию о сотворении мира примешалась космогония древних обрядовых песен, в историю благочестивых людей попали подробности из народных сказок, в преданья об аде и рае вошли принадлежности новейшего быта и т. д. Примеры мы увидим в легендах г-на Афанасьева. Любопытно, что в этих народных легендах различные народности сходятся таким же поразительным образом, как в сказочном эпосе: легенды повторяются часто с замечательной точностью.
Таким образом, по содержанию народная легенда может быть приурочена или к чужим переводным сказаниям, или к литературным повестям чисто русским, или, наконец, к устным преданиям, в самом начале принадлежавшим к области народной поэзии. Нам остается еще сказать несколько слов о том, какие формы принимало у нас это общее легендарное содержание и в каких памятниках оно сохранилось и сохраняется в народе. Во-первых, большое количество легенд оставалось всегда только в форме житий (повторяем, что мы здесь разумеем народные, а не церковные сказания о житиях святых); некоторые из них наиболее читались и нравились и достигали, следовательно, известной популярности, особенно между грамотными людьми. В свое время чрезвычайно популярным средством распространения подобных легенд были лубочные картинки, которые теперь исчезают больше и больше. Лубочные картинки, удовлетворявшие в старину всем литературным потребностям простолюдина, сообщали и наиболее любимые легенды; в них можно найти Алексея Божия человека, Богатого и Лазаря, Георгия Победоносца, Бориса и Глеба, царевича Димитрия и т. д.
Не менее плодовиты были эти картинки изложением христианской морали в притчах и примерах, какими пользуется иногда и легенда народная: они изображали страшный суд, видения о загробной жизни, рассказывали о пьяницах, вдавшихся бесу; о мучениях немилостивых людей после смерти, о людях, умерших без покаяния, и пр.; одним словом, предмет картинок совершенно сходился здесь с чисто легендарными мотивами. Нам совершенно неизвестно, как давно появилась у нас другая, более оживленная форма легенды, — так называемые стихи. Эта форма уже прямо относится в область народной поэзии по своему колориту и внешности, но памятники не дают нам возможности определить ясно, в какое время произошло это перерождение народной легенды. Правда, мы встречаем в рукописях рассказы, написанные совершенно в тоне и размере стихов, но они попадались до сих пор только в сборниках конца 17-го и начала 18-го века. Заметим при этом, что в стихах надобно отличать два непохожие разряда: одни по своему содержанию принадлежат, без сомнения, к очень древней эпохе, как стих о Голубиной книге, и по языку совершенно народны; другие ясно принадлежат позднейшим книжникам и сложены на довольно нескладном языке, с тяжелыми книжными выражениями. В настоящее время, как, без сомнения, и прежде, стихи являются специальностью нищих старцев и слепцов, которые поют их в больших собраниях народа; те из них, которые были пограмотнее, были, вероятно, и сочинителями стихов. Легенды, заключающиеся в стихах, собраны были в первый раз Киреевским; они относятся ко всем тем сюжетам, которые мы упоминали выше. Отчасти это космогонические предания, как стих о Голубиной книге, в котором наши этнографы отыскали следы древнейших мифических преданий, как «Евангелистая» песня, стих о Георгии Храбром. Другие пересказывают книжные легенды о святых, как стихи о Елизавете Прекрасной, Николае Святителе, Федоре Тироне, царевиче Иоасафе и т. д., или сообщают известные поверья о будущей жизни, страшном суде, рае и аде; в них встречаются и сказания о том, как Христос ходил между людьми, — несколько подобных мы найдем и в издании г-на Афанасьева. Наконец, третьи, наиболее новые и слабые, наполнены нравственными сентенциями. Духовные стихи представляют вообще наиболее обработанную поэтическую форму нашей народной легенды, но, сколько нам кажется, они известны в народе гораздо менее, чем другие произведения народной словесности; быть может, народ начал уже забывать их.
Далее, до настоящего времени легенды живут в народе в виде простых прозаических рассказов. Переходя от одного к другому, от поколения к поколению, они не могли сохранить прочной формы, и больше, чем песня или стих, подвержены были изменениям. Рассказчики мешали их между собой, соединяли и разделяли, так что ученому собирателю нужно много внимания, чтобы передать их в должном целом виде. Эти прозаические рассказы, ходящие до сих пор в народе, предпринял издать г-н Афанасьев.
В связи с легендой стояли, наконец, и те народные произведения, превосходный образчик которых мы открыли недавно в повести о «Горе-Злочастии». Их соединяет благочестивое настроение рассказа, но последняя гораздо более обыкновенной легенды обращается к действительной жизни, вводит картины нравов и другой стороной своей принадлежит к чисто светской поэзии. К сожалению, повесть о «Горе» до сих пор остается несколько одиноким явлением в своем роде, и мы не можем определить, как много в старину написано было подобных вещей.
Итак, г-н Афанасьев ограничился только простыми прозаическими легендами, сохраняемыми преданием. Манера издания осталась у него та же, как в его сборнике сказок, т. е. он собрал подобные рассказы, записанные разными лицами в разных краях России, — между прочим, много записанных г-ном Далем и самим издателем, — и печатает их в том виде, как получил. Критика наша и прежде заметила недостаточность этого способа, вызывающего, например, такие возражения: насколько верны списки, которых издатель сам не мог проверить, и чем определяет он распространение легенды, которую он относит к какой-нибудь одной местности. В этом виде изложение легенд становится очень случайным: рассказчик, со слов которого пишется легенда, мог дать ей иной тон, чем следует; мог пропустить иные подробности, которые можно было бы дополнить на том же месте от других; местное распределение легенд или общая известность их остаются совершенно не определены.
Приведем теперь несколько примеров из книги г-на Афанасьева, чтобы познакомить читателя с различными типами легенды и вместе с тем показать, как она связывается с обыденной действительностью и понятиями простого человека. Первое место занимают легенды о хождении Христа и апостолов между людьми. Это один из любимых мотивов легенды вообще: Христос является на землю обыкновенным человеком, чтобы испытывать людей и направлять их на добрые дела; средством для этого обыкновенно бывает какое-нибудь чудо. Такого рода история рассказывается о «христовом братце» (см. легенду № 8).
В других легендах Христос также принимает на себя вид нищего старика, ходит по деревням и испытывает людей. Один раз богатый мужик принял его дурно и едва пустил переночевать; на другое утро старик предложил мужику помочь ему молотить хлеб; на току сложили пол-одонья хлеба, Христос зажег их и от сгоревшего хлеба осталось чистое, богатое зерно. Когда Христос ушел, мужик попробовал сделать то же сам, но хлеб сгорел, огонь бросился на избы и произошел страшный пожар. В другой раз Христос наградил мужика, который дал ему хлеба, тем, что из небольшого мешка зерна намололось у него на мельнице столько, что мужик не знал, куда и девать. Христос странствовал или один, или с апостолами, или с Николаем Милостивым: он терпеливо сносит ошибки слабых людей и своими чудесами обыкновенно направляет их на путь истинный; но иногда он строго наказывает их, — одного богатого и немилостивого мужика он обратил в коня и отдал доброму бедняку. Отношения бедных и богатых составляют чрезвычайно обыкновенный мотив подобных легенд; это обстоятельство прежде всего бывает на виду у простолюдина и легенда утешает его тем, что добрый бедняк в заключение всегда бывает награжден. Судьба иногда ошибается, по-видимому, в раздаче земных благ, посылает сокровища богачу, который не умеет ими пользоваться, прибавляет новые нужды неимущим, но зато небесное правосудие вознаграждает в будущем каждого по заслугам (см. легенду № 3 «Бедная вдова»).
В нашем старинном переводе «Римских Деяний» находится известный рассказ о пустыннике (20-я глава подлинника), повторенный, между прочим, в «Задиге»: пустынник странствует с ангелом, который совершает на пути много несправедливостей и даже злодеяний, задушает ребенка у человека, гостеприимно их принявшего; убивает человека, указавшего им дорогу; дарит золотой кубок поселянину, не давшему им ночлега, — но все это оказывается необходимым по расчетам высшей справедливости: смерть ребенка обратит к добру отца, не раскаявшегося в одном большом грехе; убитый путник спасается смертью от совершения страшного преступления, и т. д. Эта же мысль развивается в легенде об ангеле, служившем в батраках у попа. Ангел шел однажды по дороге, начал бросать камни на церковь, молился на кабак и бранил нищего; прохожие люди пошли жаловаться на него попу, но батрак объяснил: над храмом Божьим летала нечистая сила; в кабаке собрался и пьянствовал народ, не думая о смертном часе, и он молился, чтобы Господь не допустил их до смертной погибели; нищий прячет свои деньги и только отбивает милостину у других. Эта религиозная казуистика могла зайти в легенду из указанного нами источника, но легко могла быть придумана и самим народом.
Как Христос, ходят по земле и святые; в легендах г-на Афанасьева упоминаются св. Никола, Илья-пророк, св. Касьян, св. Пятница и особенно Егорий Храбрый, личность особенно любимая народным преданием. Странствования святых иногда рассказываются совершенно так же, как хождение Спасителя: святой Никола научает одного жадного попа, который мало его уважал, и играет ту же благодетельную роль, — разница только в именах. В других случаях вводятся любопытные отношения между святыми — отношения, принадлежащие, кажется, одной русской легенде, потому что русский народ весьма ревниво смотрит за должным почитанием святых. Например, св. Никола покровительствовал одному мужику, который почитал его день, но зато совершенно забыл Илью-пророка; последний решается наказать его, посылает град на его поле, но Никола предупреждает беду; Илья-пророк отнимает у хлеба спорынью, но св. Никола помогает и здесь. Последнему легенда, согласно с народными представлениями, приписывает больше силы и знания. Очевидно, что в этом случае легенда составлялась только для подтверждения понятия, существовавшего в народе еще раньше. Любопытно видеть, как народ сочиняет легенду, чтобы объяснить себе простой факт, почему св. Касьяну поют молебны только в високосные года, а Николе два раза в год. Они шли однажды по дороге и встретили мужика, который увязил свой воз; Касьян не захотел помочь ему, чтобы не замарать своего райского платья, а Никола напротив помог мужику вытащить воз… Происхождение этих легенд объясняется довольно просто. Одни проистекают прямо из евангельского предания, основа их очень немногосложна и не нужно делать никаких мудреных предположений, чтобы объяснить, почему они так сходно повторяются у разных народов. Чтобы пользоваться личностью Спасителя для поэтического рассказа, легенда должна была только поставить ее между людьми и характер предания определяется сам собой: Христос на земле мог только применять свое учение, и он или награждает добрых, или наказывает злых. Действие остается всегда в кругу народной сельской жизни, как и всегда народные произведения рисуют только свой быт, свои обычаи и нравы. Другие легенды, как приведенные нами предания об Илье-пророке, Николе и Касьяне, происходят из готовых уже понятий и только дают им поэтическое объяснение. В народе существовало, например, убеждение, что цыган не может жить без воровства, и легенда рассказывает, что когда св. Георгий, принимавший по нашим преданьям большое участие в управлении земельными делами, спрашивал на небе о том, чем жить цыгану, ему сказано было прямо, что цыган тем и будет жив, что украдет. В преданье о св. Пятнице баба, работавшая в день этой святой, была наказана и получила прощение только тогда, когда обещала поставить ей свечку и не работать по пятницам. Легенды о св. Георгии, собранные у г-на Афанасьева далеко не полно, представляют больше трудностей для объяснения; вероятно, они уже очень давно вошли в область народного воображения и соединились с другими повериями от нашего мифического эпоса, так что содержание их несравненно обширнее и сложнее, чем содержание обыкновенной легенды. Наконец, легенда о царевиче Евстафье перешла в народ из рукописных житий; «Повесть о царе Аггее» напечатана издателем прямо из рукописи как совершенно подходящая под разряд легенд, тем более что в народе нашелся очень близкий вариант этого рассказа: происхождение его, однако, несомненно книжное. Точно также взят из книги известный рассказ о том, как монах успел между заутреней и обедней съездить в Иерусалим на бесе, которого он поймал в рукомойнике. Чтобы кончить с новозаветными личностями легенды, заметим еще, что в издании г-на Афанасьева мы не находим преданий о Богородице, хотя нельзя сказать, чтобы их не было в народе. Эта часть легенд далеко не получила в русском народе такого обширного развития, как на западе. Там это была любимая личность католического предания и легендарной литературы; почитание Мадонны сделалось одним из господствующих догматов народной религии, и отсюда произошла целая масса разнообразных легенд: у нас соответствуют им только небольшое число общенародных сказаний. Часть их собрана в «Стихах» г-на Киреевского; сборник г-на Афанасьева не дает здесь почти ничего.
Из лиц ветхозаветных легенды г-на Афанасьева говорят только о Соломоне и о Ное. Первый по своей известной мудрости спасается из ада, сказавши бесам, что он хочет построить в аду монастырь; это небольшой эпизод из целого круга сказаний о Соломоне, ходивших в старину и, без сомнения, теперь еще известных в народе. В легенде о Ное смешаны различные рассказы. Вначале передается известная еще из Кирилла Туровского притча о хромом и слепом, которые крали плоды в саду; Господь на них прогневался и решился сотворить Ноя праведного. Ной и жена его Евга представляют, очевидно, первых людей. Господь приставил к Ною голую собаку, чтобы она никого не пускала его смотреть, но дьявол обещал собаке шубу и она показала ему Ноя. Чтобы очистить землю, Бог послал потоп; дьявол старается помешать постройке ковчега; потом успевает попасть обманом в ковчег, и обернувшись мышью, прогрызает дно; ковчег был спасен ужом, который заткнул головой отверстие, которое проточила мышь. Когда кончился потоп, Бог, а за ним дьявол начали засевать землю, доставая песку со дна морского. В одном варианте этого преданья говорится, что где Бог бросил землю, она выходила гладко и плоско (как святая Русь), а что черт побежал от Бога, а где приляжет, кашлянет и спотыкнется, там вырастали пригорки и высокие горы. Таким образом, народ считает создание русской равнины делом совершенно правильным, а незнакомые и нелюбимые им горы понимает только как дело беса. Любопытно также в этой легенде, что когда Ной спросил Бога, как может он один с женою населить землю, Господь велел ему свалять мужиков из глины, а господ — из пшеничного теста. Рассказ напоминает Девкалиона и Пирру греческой мифологии, делавших людей из камня, но русский человек приноровил его к своим отношениям и дал своим господам более щепетильное происхождение. Наконец, Ной спрашивает: «Как же им жить!» Бог дал им топоры и срубил им избы: «Живите, вот вам изба!» — «Господи, на чем же нам работать?» Дал Господь лошадь, связал обродь (узду) и хомут. Он поймал лошадь и запряг ее: «Вот вам, — говорит, — изба, лошадь, упряжь; живите да меня хвалите»… Так начинается история по народным понятиям; народный быт является готовым вдруг в том виде, как он существует теперь. В создании человека и первых условий жизни народ видел непосредственное участие Бога, он видит его и потом в каждом факте своей судьбы. Легенда надолго сохраняет этот малосознательный взгляд на природу и человека, оставшийся от очень старой поры; легенда, приведенная нами, могла составиться или войти в народ в самое первое время по введении христианства; некоторые подробности ее находятся уже в очень старых памятниках нашей письменности. В этом отношении был бы весьма любопытен разбор Палеи, хронографов и древних переводных апокрифов. С другой стороны, подробное сличение христианских преданий о создании мира с остатками древнейших мифических представлений народа покажет, что многое уцелело и было переделано народом еще из языческих верований: его пантеическая мифология также видела во всей природе и на всем ходе жизни человека действие сверхъестественной силы. Каким образом возможно было это смешение начал столь противоположных, мы можем наблюдать и до сих пор в народе, который почитает св. Николу и верит в домовых. По введении христианства народу старались обыкновенно представлять языческие божества как травестированных злых духов; он и верил отчасти этому, — так Нестор называет Перуна бесом; но так было не всегда — домовой не сделался бесом, он остался в народных понятиях существом независящим, способным и на зло, и на добро. В процессе перехода к христианству народ не бросает преданья вдруг, потому что слишком привык к ним; он только изменяет и дополняет их потом, и они живут удивительно долго; еще для нас возможно выследить их за несколько столетий назад. Вымирание преданий начинается с вымиранием старого быта; преданье начинает терять силу, когда народ выходит из прежней сферы, когда начинает больше вдумываться в жизнь, когда пословицей его становится «На Бога надейся, а сам не плошай» и когда старые призраки обращаются для него в шутку.
Мы думаем, что нынешние легенды нашего народа уже представляют в значительной степени шуточный элемент этого рода. Таков, например, длинный рассказ, сообщенный у г-на Афанасьева во множестве вариантов и, следовательно, очень любимый народом, — о похождениях солдата в аду и в раю, его встрече со смертью, которая не может его одолеть и которой он повелевает. Солдат не хочет идти в рай, потому что ему сказали, что там ни вина, ни табаку нет, а просто царство небесное; и когда ему пришлось отправиться в ад, он расположился в уголку, наколотил в стену гвоздей, развешал амуницию и закурил трубку. В аду не стало прохода от солдата, никого не пускает мимо своего добра: «Не ходить! видишь, казенные вещи лежат!» Черти могли отделаться от него только тем, что обманули его, забивши в барабан тревогу; когда солдат выбежал из ада, они заперли за ним двери и больше не пустили. Он держит смерть у себя в торбе, не пускает ее морить людей и заставляет точить старые дубы. Словом, все для него обращается в шутку, ничего он не боится и никто не может ему ничего сделать. Мы не думаем, чтобы легенда могла быть очень стара в этом виде, даже исключая беспардонный характер солдата, составляющий, конечно, тип из новой русской жизни; если некоторые подробности легенды носят характер старины, то в древнем рассказе они имели, без сомнения, более положительный смысл. Обращаясь в балагурство, легенда упадает: из нее делается анекдот, «не любо — не слушай», т. е. нечто вовсе не похожее на первое предание; в религиозном отношении, очень существенном в легенде, она становится совершенно безразлична. Очень любопытный образец подобного настроения легенды представляет «Повесть о бражнике», напечатанная в издании по старой рукописи. Бражник, т. е. по нынешнему пьяница, человек, как оказывается, неглупый, приходит в рай; св. Петр его не пускает. «Кто же ты?» — спрашивает он, и узнавши, что это Петр, говорит, что он несправедливо гонит его из рая, когда в жизни три раза отрекался от Христа, — «А я хотя и бражник — но все дни Божие пил и за всяким корцом имя Господа прославлял, а не отрекался от него». Петр отошел от ворот с сомнением. Точно также укоряет бражник царя Давида его грехами, а Иоанна Богослова недостатком любви, которую он сам проповедывал, и в заключение бражник попадает в рай. Легенда обратилась здесь, скорее, в апологию бражничества, которую наши предки придумали не без некоторого остроумия.
Бесы также часто выводятся на сцену в легенде, отчасти в комическом виде, как мы видели в похождениях солдата. Насмешливый взгляд на чертей довольно распространен и, следовательно, не стои́т в легенде одиноко; черти, как известно, поминаются в народном разговоре на каждом шагу, и в легенде они являются также довольно фамильярным лицом, даже с собственными именами, как черт Потанька в двух легендах г-на Афанасьева. Кроме шутливых рассказов о чертях, в легенде сохранились отголоски древних патериков; из житий старинных аскетов перешли, например, в легенду рассказы о том, как бес являлся к пустыннику, принимая на себя вид старца-монаха, соблазнял его на пьянство; приходил в образе женщины: старец поддается обману, он уже помолодел, готов венчаться, но в ту минуту, когда надевают на молодых венцы, он не может удержаться и кладет на себя крестное знамение, и видит что над ним согнута осина, а на ней петля (легенда о пустыннике). Черти не менее других требуют к себе уважения от людей и мстят им за насмешки и ругательства. В доказательство этого легенда рассказывает о черте, который был нарисован в кузнице; старик, отец кузнеца, жил с ним в ладах (по народному поверию, кузнецы бывают часто в дружбе с чертями, конечно, по их наружному сходству), но сын как ни придет на работу, то вместо ласкового слова ударит черта молотом в лоб и тогда берется за дело. Черт не выдержал, обернулся молодым парнем, пошел в службу к кузнецу и до тех пор строил ему козни, пока, наконец, хозяин побожился, что никогда не поднимет на черта молота и будет оказывать ему всякую почесть. Легенда любопытным образом сходится с народным предрассудком, который дает черту какое-то независимое значение и считает действительно нужным не обижать его: известен народный анекдот о набожной старухе, которая ставила свечки и святым и черту, нарисованному на картине страшного суда. Г-н Афанасьев приводит еще особенный образец легенды, совершенно похожий на обыкновенную сказку: черти живут во дворце, как сказочные волшебники, похищают девиц и забывают отчасти свои адские занятия. Читатель, знакомый с волшебным миром наших сказок, отличит в приводимом рассказе эти сказочные подробности (см. легенду «Горький пьяница», № 29).
Рай и ад народ представляет себе, как известно, чисто внешним образом. Картина страшного суда, пришедшая к нам из Византии вместе с христианством, на тысячи лет осталась у нас самым популярным изображением будущей жизни. Разнообразные муки огнем, в разных мудреных положениях, до сих пор пугают воображение простолюдина. В одной легенде описывается утонченное мучение: «кумова кровать», огненная, на колесах, все вертится; ее боятся сами черти. Предания о загробной жизни рассказываются в легендах о странствованиях «обмиравших» людей на том свете; г-н Кулиш напечатал интересные малорусские предания об этом предмете. В нашей легенде один царь, милостивый к нищим, принял Христа в образе убогого старика и за то удостоился видеть загробную жизнь, райские сады и муки грешников: одни из колодца в колодец воду переливают, — то вином торговали и народ обмеривали; что из печи жар выгребают — то ростовщики, сребролюбцы; что стоят голые, стену собой подпирают — то клеветники, ябедники и пр. Любопытный рассказ подобного рода г-н Афанасьев мог бы найти в старинных рукописях; старое «Хождение Богородицы по мукам», и теперь весьма известное в народе особенно у раскольников, дополнило бы приведенные им поверья. Быть может, она связывает наше предание с древними византийскими легендами… Рай есть место такой неописанной красоты, что человек, попадающий туда, совершенно забывает о времени, — представление, общее нам с западными народами. У нас рассказывают, что один добрый и набожный крестьянский сын побратался со старцем-скитником; отец сосватал ему невесту, но он не хотел жениться и ушел из родительского дома. На пути он встретился с тем же старцем, и старец привел его в свой сад: ему казалось, что он пробыл в саду только три минуты, а был он в саду триста лет. Это был рай.
Иногда в основу легенды кладется чисто дидактическая мысль, так что сюжет, или басня, легенды занимает уже второстепенное место. Легенда рассказывает, например, какая судьба ожидает людей себялюбивых, неблагочестивых и пьяниц; первый не имеет перед смертью даже времени раздать свое имущество нищим; второму пустынник предсказывает неудачу во всех делах, потому что он начинает их без молитвы; третьему — муку вечную, что пьет, не зная ни постов, ни праздников. В другой легенде описывается смерть праведника и смерть грешника: к первому смерть приходит ожиданная с ангелами, — вынули душу, положили на золотую тарелку и с херувимской песнью понесли в рай; к другому смерть приходит среди песен и пустой болтовни и поражает его молотом в голову. Заметим еще третью легенду, о том, как один парень совершил три смертных греха, чтобы достать клад, который без этого не давался в руки, и как после парень советовался со «скитниками» и по их совету отмаливал свое преступление (см. легенду № 28, «Грех и покаяние»).
Подробности рассказа взяты чисто из русской жизни, и он становится столько же похож на легенду, сколько на сцену из народного быта. Отыскивание кладов под условием смертного греха чрезвычайно известно в русских повериях; скитники по дремучим лесам, задачи, которые они задают грешнику, молитва мира, — все это черты в старом русском вкусе. Эти, так сказать, бытовые легенды по своей манере и содержанию довольно заметно отделяются от других преданий, и происхождение их не столько зависит от религиозного верования, сколько от обращения народа к собственной жизни: это нравоучение, извлеченное не из догматической морали, а из самого быта. В издании г-на Афанасьева напечатана еще другая чисто бытовая легенда, на которую мы также обратим внимание читателя; она любопытна по символическому взгляду народа на обстановку его домашнего быта (см. легенду № 17, «Видение»).
Мы пересмотрели довольно подробно содержание книжки, изданной г-ном Афанасьевым, но из нее еще далеко не вполне раскрывается русский легендарный мир. Для полного обзора его, кроме новых народных легенд, нужна еще разработка рукописного материала, из которого г-н Афанасьев взял только три-четыре повести, но в котором остается еще богатое разнообразие преданий, особенно расходившихся у нас в последние два века старой России. В эту эпоху уже твердо складывался характер народа, его гражданские и религиозные понятия, которые остались потом нетронуты реформой в продолжении XVIII столетия и продолжают жить до нынешнего времени, когда они уже сильнее начали поддаваться новым влияниям и в иных местах уже изглаживаются. Именно от XVI и XVII века осталось нам довольно много чисто легендарных произведений, которые с успехом могли бы заменить недостаток других литературных памятников, как указатель того, что́ и ка́к думал народ в то время. Необходимо заметить также и те литературные вещи, которые остались в ходу у раскольников; они издавна дорожат стариной и в самом деле сберегли ее (конечно, как учит православная церковь, сберегли старину только по внешности, а не смыслу) иногда лучше наших библиотек и древлехранилищ. Они сберегли его не только в своем быту, где до последнего времени живьем сохранились древние старцы и скитники, о которых рассказывает легенда, и аскетически суровые представления о благочестивой жизни; но они сберегли старину и в преданиях и рукописях, где старые апокрифические рассказы, общие, вероятно, целому народу полтора века тому назад, теперь нашли себе исключительное место. Многие предания получили в расколе почти догматическую силу — так они врезывались в народные понятия; возможно, следовательно, ожидать, что преданье хорошо уцелеет в подобной среде: у раскольников всего лучше сохранилась известная Голубиная книга, в народе уже полузабытая.
Другую сторону легенды, необходимую при общем обозрении этого разряда народных памятников, заключают так называемые стихи. По своей поэтической и стихотворной форме стихи выше других легенд; замкнутая форма стиха заставляла его больше держаться его первоначального вида и не подчиняться портящему влиянию народной болтовни, которая начинает примешивать в рассказ много постороннего и с которой не умеют справиться наши собиратели. Мы заметили уже, что, за исключением древних общенародных песен, стих отчасти должен своим существованием нашим слепцам, которые собираются на богомольях; отчасти это произведение раскольников, и потому, быть может, тон его бывает суровее, чем тон легенд, рассказываемых самим народом, который отбрасывает излишний фанатизм благочестия. Прочти в издании Киреевского стихи о грешной душе, о прощаньи души с телом, смертном часе, о вечной муке: везде суровые речи о мщении и заодно наружное неблагочестие — о таком мщении, которому конца и меры не будет:
Вы в церковь Божию не хаживали, Заблюдящим дороги не показывали, И вы мертвых в гробах не проваживали, За то-то сослал Бог вам муку вечную, Муку вечную, бесконечную. (стих 25-й)Стих смотрит на жизнь с мрачной точки зрения; его составлял озлобленный жизнью бедняк или закоренелый суевер, признающий в мире один грех, или просто раскольник с его упрямой враждой ко всему новому. Нынешний «прелестный» (т. е. исполненный соблазна) и «злой» мир уже близок к погибели:
Пришло времечко гонимо: Народился злой антихрист, Во всю землю он воселился, Во весь мир он воружился, Стали его волю творити: Власы, бороды, стали брити, Латынскую одежду носити, Распроклятую траву пити (т. е. курить табаку).Людям остается только покинуть этот мир и последовать совету, который дает сочинитель стиха:
Вы бегите в темные леса, Зарывайтеся песками, Рудожелтыми хрящами, Помирайте вы гладом: Вы не умрете, — оживете Моего царствия не минете. (стих 42-й)Эта исповедь аскетизма очень характерна в отношении к расколу старого и нового времени, как вообще легенда стиха любопытна по особенности ее религиозного настроения. Г-н Афанасьев мало коснулся этого отдела и вообще из «стихов» привел только новый вариант для стиха о Георгии Храбром, уже известного.
Таким образом, издание г-на Афанасьева ограничилось только частью русской легенды; мы бы желали поэтому, чтобы он продолжал издание и обратил внимание на другие легендарные источники, о которых мы говорили. Иначе заключения о нашей легенде, которые стали бы выводить по его книге, были бы очень неполны, и следовательно, неверны. Что касается до исполнения издания, мы недоумевали, что хотел сделать г-н Афанасьев — популярное ли чтение из легенд, т. е. выбор более изящного и любопытного, или ученое издание того материала, который был у него под руками. Для первого нужно было выбирать замечательнейшие вещи из целой легендарной литературы, рукописной и народной, но этого в книге нет, следовательно, он делал издание ученое. Легенды в самом деле снабжены вариантами, сличениями и так далее, но для достижения ученой цели мы желали бы и других приемов. В легенде любопытна не только самая легенда, но и способ ее образования, ее история, распространение, ее смысл для народа: что в ней своего и чужого, как давно она известна, что в ней наиболее серьезно для народа. Издатель, сам обращавшийся в народе и записывавший легенды, мог бы отвечать на некоторые из этих вопросов, но он касается их очень мало, а больше занимается любимыми мифическими изысканиями… Сравнения с легендами других народов конечно интересны, но мы так к ним привыкли, что желали бы, наконец, другого, например, чтобы нам показали различие легенд по разным народностям. Нельзя же думать, что легенды совершенно похожи у всех народов; тогда бы не стоило труда изучать их у каждого в такой подробности. В самом деле, несмотря на все сходство, русская легенда в целом оставит другое впечатление, чем итальянская или немецкая; следовательно, каждая имеет свой характер, и мы думаем, что его возможно определить. При сходстве мифа народная жизнь кладет свою печать на его изложение; исторические события, проходящие через народное сознание, задевают и легенду, и она необходимо получает черты отдельные, своеобразные. Это делается яснее, когда мы берем крайние особенности легендарной поэзии: фанатический стих раскольника окажется тесно привязанным к русской почве и для него не нужно искать сравнений; в его религиозном настроении мы увидим нечто оригинальное. Легенда вообще простонародна; выводимые ею личности действуют среди народа, в обстановке его быта, — но отчего в русской легенде рассказ из простонародности впадает нередко в какую-то тяжелую грубоватость не только слова, но и представления (грубоватость слова в иных случаях придали ей, кажется, сами неловкие записыватели), которая очень заметна читателю? Мы найдем и в самом содержании легенды много вопросов, требующих объяснения, и для него нужна была бы иная программа исследования, чем принятая г-ном Афанасьевым. В нашей старой литературе и народе легенда идет с давних пор и при недостатках литературного и поэтического развития в письменности осталась едва ли не главной пищей для народного ума. Древнее язычество, литература и нравы Византии, общественные отношения и религиозные смуты допетровской России и даже старинное невежество, все обстоятельства, дававшие тон целой народной жизни, оставили свои следы и на легенде, в ее форме и в содержании.
Мы слышали, что книга г-на Афанасьева по новости сюжета имела большой успех даже между людьми, которые прежде мало занимались подобными вещами: заключить ли из этого, что даже общество стало искренне интересоваться народной жизнью.
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ А. Н. АФАНАСЬЕВА
[173]
До гимназии и в гимназии
Я убежден, что записки частного человека могут быть весьма любопытны, если он сумеет представить характеристичные черты того общества, какое в разное время окружало его детство, юность и старость. С этой мыслью принимаюсь записывать виденное, слышанное и испытанное мною самим; происшествий и перемен собственной моей жизни я коснусь постольку, сколько это будет нужно, чтобы дать моим воспоминаниям связь и единство.
Я родился в 1826 году в уездном городке Богучаре (Воронежской губ.), и вскоре семья наша переехала на житье в Бобров (уездный город той же губ.), где отец мой долгое время был стряпчим. Отсюда начинаются мои воспоминания. До 11-ти лет я воспитывался в этом городке. Читать и писать выучился я на дому у одного учителя уездного училища, а потом продолжал учение последовательно у двух тамошних попов — отцов Иванов, которых посещал поутру и после обеда вместе с старшим братом и другими мальчиками и девочками, детьми уездного чиновного люда. Эго ученье мне очень памятно, хотя из него вынес я очень немного. Собирались мы рано утром, часов в восемь, и просиживали до 12 за книгами; после обеда та же история от 2-х часов до 4-х и пяти. И первый, и второй отцы Иваны были люди вовсе не злые; но, воспитанные в семинарии, они были знакомы только с суровым духом воспитания и вполне поясняли нам, что корень учения горек. Они выучили меня бегло читать по-русски и по-латыни, познакомили с десятками двумя латинских слов, несколько с арифметикой и священной историей, и только. Хотя учили они и грамматике русской и латинской, но я очень хорошо помню, что ровно ничего из того не понимал. Толковать нам никогда не толковали, а отмеривали ногтем урок от такого-то слова до такого-то и заставляли учить наизусть, слово в слово, что на техническом языке школьников называлось зубрить урок. Сидя все в одной комнате у попа, мы зубрили вслух, так что крик наш мог надоесть всякому, кроме почтенной семьи попа, и зубрили очень часто, не понимая ни слова из хитрых фраз наших учебников. Особенно трудны были для меня писаные правила латинского синтаксиса (вероятно, из семинарских лекций), которыми меня потчевал второй отец Иван и которых я, несмотря на все усилия, не мог запомнить. Понять их едва ли мог бы я и после; крепко в том сомневаюсь, да и понимал ли их мой учитель — не знаю. Когда поп уезжал с требою (а это было нередко), то уроки у нас спрашивала его жена, и ученье шло под ее надзором; но в этих случаях мы чувствовали больше простора. За незнание и шалости наказывали нас тем, что ставили нас на колени, били палями, т. е. линейкой по руке, оставляли без обеда, драли за волосы и за уши; но сечь нас не позволялось родителями. В дополнение к этим назидательным наказаниям первый отец Иван присоединил еще следующее: он заставлял одного ученика бить другого, не знающего свой урок, по щеке, и я помню, как иногда девочкам доставалось давать пощечины мальчикам, и наоборот. Подобно тому, другой отец Иван заставлял двух провинившихся мальчиков драть друг друга за уши или за волосы и с большим удовольствием тешился, когда мальчики, раздраженные болью, с какою-то затаенною злостью старались оттаскать друг друга. Этот же мудрый наставник заставлял виновного возвращаться домой по городу в вывороченной шубе и шапке или заставлял в наказание лежать на голом полу у дверного порога, и всякий, кому приходилось перейти из одной комнаты в другую, преспокойно шагал через него. Помню еще, что первый Иван завел таблички с нашими именами, куда в продолжение целой недели писал отметки о наших успехах, кто как знал урок: scit, nescit, mediocriter [174]. По субботам бывала всегда расправа, несмотря на то, что еще прежде за плохое знание урока мы уже подвергались наказанию. В этот день все ученики ставились на колени, какие бы отметки они ни имели; учитель брал табличку в одну руку, а в другую линейку и по очереди обращался к нам: у кого были везде scit, тому позволял садиться; у кого были nescit, тому за каждую такую отметку давал по порядочной пале. Тем оканчивалась расправа, и мы отпускались домой; после обеда ученья в этот день не было. Такая расправа на техническом языке называлась субботниками, и мы ее ожидали всегда с трепетом… Понятно, что при таком воспитании трудно было рассчитывать на укоренение нравственных и гуманных понятий в детях, и мы в свою очередь, где можно, проказничали, били кошек и т. под. Наставники наши, попы Иваны, были люди без сведений, грубые по натуре. Один из них был большой пьяница и вчастую колотил свою жену; зато другой Иван сам был в лапах попадьи, которая тоже придерживалась чарочки и колотила своего супруга. Эти сцены и сцены поповской жадности, обращенной на прихожан (пригородных мужиков), конечно, не могли служить для нас благотворными примерами, и читающий эти строки наверно удивится беспечности отцов и матерей, которые отдавали детей своих на ученье к таким людям. Но куда же было отдать? Уездное училище представляло подобные же примеры; сверх того, в них смешивались все возможные сословия: здесь большею частию учились дети купцов, мещан, приказных и крестьян; сюда барин отдавал учиться и своих крепостных мальчишек. Все это приносило с собой ту грубость и жестокость, среди которой выросло; некоторые из учеников были уже порядочные балбесы, как их называли, т. е. достаточно взрослые и уже достаточно знакомые с разными житейскими слабостями. С одной стороны, это, а с другой, дворянская и чиновничья спесь были причиною, почему уездная аристократия обходила и доселе обходит уездные училища. В мое время чиновные люди, следуя преданьям старины, отдавали своих детей учиться к семинаристам и приходским священникам. Но было ли это лучше?
Наконец отец мой увидел, что от такого ученья мало толку, и решил, что не за что больше давать отцу Ивану по золотому в месяц. Я перестал ходить к нему и стал учиться дома, под руководством одного из педагогов уездного училища, который действительно кое-что знал, но за пьянством занимался мною весьма плохо; он выучил меня читать и писать по-немецки, кроме того заставлял писать под диктовку, учить немецкие слова и разговоры. Само собою разумеется, что трепанье за волосы, пали и другие столь же милые наказания дома уже не повторялись.
В 1837 году исполнилось мне одиннадцать лет, и отец отвез меня в Воронежскую губернскую гимназию, где я провел 7 лет и прошел 7 классов, начиная с первого класса. Отец мой, хотя сам был воспитан на медные деньги, но уважал образование в других. Такое уважение, кажется, наследовал он от деда, который был членом библейского общества и от которого осталась довольно порядочная по тому времени библиотека, составленная из русских книг; между ними больше всего было переводных романов, но попадались и книги серьезные, исторического и мистического содержания. Отец тоже любил чтение и постоянно выписывал лучшие журналы. Он справедливо почитался за самого умного человека в уезде, и к нему многие обращались в важных юридических случаях за советами. Все другие местные чиновники, сколько припоминаю теперь от давно минувших годов моего отрочества и сколько после мог я убедиться, были несравненно ниже его и в умственном, и в нравственном отношениях. Интересы их были мельче и грубее; о чтении они не думали, и литература была для них совершенная terra incognita [175]. Правда, он разделял с ними некоторые общие застарелые предубеждения, но это не мешало ему верить в превосходство университетского образования. Отец решил дать каждому из нас, четырех братьев, полное воспитание и с малыми своими средствами всю жизнь хлопотал об этом; трех сестер воспитывал он в одном из московских институтов. Пользуясь дедовской библиотекой, я рано, с самых нежных детских лет, начал читать, и как теперь помню, бывало, тайком от отца (мать моя умерла очень рано) уйдешь на мезонин, где помещались шкапы с книгами, и зимою в нетопленной комнате, дрожа от холода, с жадностью читаешь какого-нибудь «Старика везде и нигде», «Мальчика у ручья» Коцебу, «Разбойника поневоле». Такого полного наслаждения не испытывал я после, даже читая действительно художественные произведения. Что нравилось в этих книгах, сказать не легко; но с каким тревожным чувством следил я тогда за судьбою героя, как страдал и как радовался за него; его горести и счастье я прочувствовал вполне, и эта тревога чувств, так сильно волновавшая, имела какую-то неизъяснимую прелесть. Чтение это сменило для меня сказки, которые, бывало, с таким же наслаждением и трепетом слушал я прежде, зимой по вечерам, в углу темной комнаты, от какой-нибудь дворовой женщины. Как прежде, так и теперь готов был я долго просиживать за книгою и забывал самый голод, и нередко приходил отец и прогонял меня с мезонина, отнимая книги, читать которые он постоянно запрещал, в чем и прав был: книги были не по возрасту. Но запрещения эти действовали плохо; шкапы не запирались, и страсть неугомонно подталкивала идти на мезонин.
Когда я поступил в гимназию, меня отдали жить к учителю математики Бернгарду, человеку незлому и честному; у него я пробыл 2 года, а потом, к величайшему моему сожалению, должен был оставить его и перейти к другому учителю И. А. Д—скому, у которого провел остальные годы своей воронежской жизни. Чтобы судить о характере и недостатках гимназического воспитания (а недостатков было много), я расскажу здесь, что сохранила память моя о тогдашних учителях.
Законоучителем был у нас протопоп отец Владимир, человек весьма добрый, ласковый и обходительный; дети его любили, встречали всегда с радостью и называли батюшкой; учились у него всегда с охотою и прилежанием и были с ним довольно откровенны. Доверие наше к нему было так велико, что, поступив в 7 класс, мы даже решились прочитать ему некоторые отрывки из сатирической пьесы, написанной на одного учителя, и он только посоветовал нам быть осторожнее, что не попасться с этими стихами в руки школьного правосудия. Сколько помню, он никогда и никого из нас не наказывал, тогда как никто другой из наставников наших далеко не мог этим похвалиться и такою тишиною, какая обыкновенно бывала, без всяких полицейских понуждений, в классе отца Владимира.
В продолжении семи лет мы прошли с ним весь определенный по уставу курс Закона божия. В первых двух классах заставлял он нас заучивать наизусть, слово в слово, какую-то краткую и темно написанную священную историю, из которой я и теперь помню начальные строки: «В начале бог сотворил небо и землю так прекрасно и великолепно, как мы оную теперь видим, в шесть дней из ничего». Кого не удивит эта странная расстановка слов? А ведь почти вся книга таким языком написана. В следующих классах мы учили катехизис митрополита Филарета, церковную историю Инокентия и книгу Кочетова о христианских обязанностях. Церковную историю и учение о христианских обязанностях позволялось воспитанникам излагать своими словами, затверживая одни тексты св. писания. Впрочем, ученье наизусть, слово в слово, буква в букву, было преобладающим в низших классах гимназии; высшие более или менее от того освобождались; но я знаю, что и в низших оно не приносило ни малейшей пользы. Что толку в том, что ученик, выдолбив урок и не понимая его, быстро мог проболтать его от начала до конца? Спросите его из середины или только задайте ему вопрос другими словами, а не теми, в каких выражен он в учебнике, — и самый прилежный воспитанник потеряется, собьется и замолчит.
Учители латинского языка были Ив. С. Д—ов и Андрей Иванович Б—ский, — оба весьма любопытные характеры. Первый был человек не без сведений, но страшно раздражительный, и эта раздражительность делала его злым, а нередко и глупым. Какие мерзости позволял себе делать этот господин, трудно теперь поверить, но, увы! я был живым их свидетелем и дивлюсь только одному, как могли подобные поступки оставаться безнаказанными. Поучая в низших классах, он, бывало, всех, получивших единицы, с самого начала урока до конца, заставлял стоять посреди комнаты, согнувшись дугою; если утомленные мальчики прислонялись к стенам или скамьям, то приказывал другим воспитанникам отталкивать их в спины. Иногда подзывал он какого-нибудь малютку, и когда тот не умел просклонять какие-нибудь mensa [176] или не заучил заданных слов, то расстегивал форменный его сюртучок, обыскивал карманы и, найдя пряники или конфеты, отбирал их; с злою насмешкою прикушивал их сам или раздавал другим лучшим ученикам; или брал за галстук и поднимал на воздух, приговаривая: «Я повешу тебя, матушка!» Надо заметить, что в мое время в низших классах гимназии вместе с детьми поучались и недоросли лет 18 и 19, которые, убоясь бездны премудрости, прямо из второго или третьего класса поступали в военную службу юнкерами. Ученье им не шло в голову; на уме были сабля и шпоры. Этих-то недорослей нередко подзывал к себе Д—ов и выщипывал им молодые, только пробившиеся усы, приговаривая: «Ведь тебя женить пора, матушка! ведь ты скоро детей станешь посылать сюда учиться!» Раза два или три, помню, садился он верхом на одного из таких взрослых болванов, которым обыкновенно приходилось стоять согнувшись за полученные единицы, и заставлял возить себя по классу, к общему удовольствию школьников. Печальнее всего, что эти возмутительные поступки позволял себе делать человек, тогда еще молодой, окончивший воспитание в Харьковском университете. Этот университет, к округу которого принадлежала наша гимназия, присылал к нам в наставники и других своих питомцев; но они также не всегда отличались мягкостью и тонким чувством приличия. Очень естественно, что ученики терпеть не могли Д—ва; он с своей стороны в каждом их слове подозревал желание сказать грубость. Раз кто-то из учеников написал на столе мелом: «Д—в дурак!» Надо было видеть бешенство этого господина; он поднял из глупой школьной выходки целую историю, допрашивал всех и каждого и разразился целою проповедью. «Да я умнее вашей бабушки! — говорил он. — Я — надворный советник, а вы что? Вы мальчишки, дрянь! Вы моей подошвы не стоите! Я в журналах участвую, меня вся Россия знает!» Последние слова сказаны были потому, что ему удалось поместить в «Репертуаре» и в местных губернских ведомостях несколько фразистых статеек о Воронежском театре. Подобные проповеди повторялись часто; при каждом удобном случае Д—в уверял нас, что он умнее и наших дедушек и наших бабушек. Справедливость, впрочем, требует заметить, что в последние годы моей гимназической жизни он значительно сделался мягче и обходительнее, и если часто бывал смешон, зато более сносен. Что было причиной этой перемены — осталось для меня загадкой. Он в это время преподавал уже в высших классах, на место вышедшего в отставку Б—ского.
Андрей Иванович Б—ский преподавал в высших классах; это был почтенный старик, толстый, седой, с грубым голосом и с большими странностями и для нас казался весьма смешным; не знаю за что, издавна в гимназии звали его Андропом. Он был любимым предметом наших наблюдений и рассказов, а нередко и шалостей. В первых трех классах преподавали нам этимологию и синтаксис, заставляли заучивать латинские слова и переводить Корнелия Непота; в высших классах мы учили просодию, повторяли грамматику и последовательно переводили Тита Ливия, Федра, Саллюстия, Энеиду Виргилия, оды Горация, речи Цицерона и летописи Тацита; переводили также и с русского на латинский. Должно прибавить, что латинский язык был единственный, который преподавался в гимназии еще сносно; но и тут многого оставалось желать. Грамматические правила знали воспитанники недурно; могли и переводить, но не иначе, как с приготовлением и с помощью лексикона. Читать и понимать прямо были не в силах. Обыкновенно заставляли нас к будущему уроку приготовить коротенькую статейку из какого-нибудь классика; дома мы приискивали в лексиконе незнакомые нам слова и делали перевод; перевод этот поправлялся в классе учителем, затем переписывался набело, и тем все оканчивалось. На эту бесплодную переписку набело много тратилось времени, и совершенно попусту. Упражнения в переводах, следовательно, были не очень значительны, а с тем вместе и познания наши в языке не могли быть велики. Сам Б—ский знал латынь основательно, но, к сожалению, усвоенная им метода занятий отзывалась сухою схоластикою и педантизмом. Урок свой постоянно начинал он тем, что вызывал нескольких учеников разом, ставил их в ряд и спрашивал по порядку одного за другим. Первый вызванный непременно должен был сказать, на какой странице находится заданный урок и в каком именно параграфе. Если он почему-нибудь не мог отвечать на этот мудрый вопрос, учитель уже дальше не спрашивал: «Э, domine [177]! — так ты такой! — говорил он смущенному ученику, — нечего тебя и спрашивать, когда не знаешь, на какой странице урок; ты, значит, и книги не разворачивал», — и убедить его в противном не было никакой возможности. Самый урок у него надо было знать буква в букву; даже простой перестановки слов он не допускал, принимая это за непростительное вольнодумство: «ведь лучше книги не скажешь!» Выслушав от одного гимназиста начало урока, он обращался к другому с словом: seguens [178]! и тот должен был продолжать ответ далее с того самого места, на котором остановился его товарищ; за ним то же обращение делалось к третьему, и так далее. Ошибки отвечавшего должен был поправлять следовавший за ним в ряду ученик, и это на языке педагога называлось ловить баллы. Кто поправит чужую ошибку, тому прибавлялся лишний балл; у того же, кто ошибся, производился вычет: если, например, он знал урок на 3, да товарищ поправил одну ошибку, то учитель отмечал против его имени только 2. Переспросив целый ряд, он вызывал на их место других воспитанников, и с ними начиналась та же история. Случалось, что вызванные учителем выносили с собою написанный на листке урок и прочитывали его из-за спины рядом стоявшего товарища. Сколько раз, бывало, весь класс сговорится, и мы писали урок мелом на доске, стоявшей позади учительского кресла, и на вопросы учителя отвечали по доске. Пристально следя по учебнику за ответом, он ничего не замечал. Бывало, несколько лекций сряду показывали ему один и тот же урок или перевод, и все обходилось без шуму. Сверх обычных занятий, круглый год обязаны были мы повторять таблицы склонений и спряжений. Было у нас два товарища, которые только и знали, что эти таблицы, и ухитрялись так, чтобы учитель спрашивал их не урок, которого они никогда не учили, а эти таблицы. Вся проделка основывалась на том, что память уже сильно начинала изменять старику, он хотя и любил ею похвастаться. Для этого перед началом урока старшой [179] в классе ученик, обращаясь к Б—скому, докладывал: «Андрей Иванович! прошлый раз Бабкин и Жуховецкий не знали таблицы склонений, так вы приказали напомнить, чтобы спросить их сегодня». — «Да, да, помню! а вот мы их спросим. Благодарю, что сказали… да и сам не забуду; у меня память хорошая. Domine Бабкин, пожалуйста сюда с вашим товарищем». А господа Бабкин и Жуховецкий, разыгрывая комедию, шли к ответу, пожимаясь, будто нехотя, и тем самым подстрекали в учителе желание непременно их спросить. Само собою разумеется, отвечали они бойко и безошибочно, получали хорошие отметки и спокойно возвращались на свои места, зная, что Андрей Иванович больше их на этот раз не потревожит: «Вот видите, господа! — говорил довольный наставник, — они теперь знают». А в следующий урок повторялась опять та же сцена с Бабкиным и Жуховецким, вызывая улыбки на лицах их товарищей.
Б—ский не прибегал к тем суровым мерам исправления, какими запугивал мальчиков Д—ов. Наказания его ограничивались тем, что он ставил в угол, на колени, или заставлял бить поклоны; последние мы скоро обратили в общую шалость. Стоило кому-нибудь засмеяться во время урока, чтобы Андрей Иванович тотчас же приказал. «Э, братец, да ты смехун! А ну-ка, положи 20 поклонов». Ученик подымался с места и начинал посреди комнаты отсчитывать поклоны. Не успеет он положить и пяти поклонов, как смотришь, другой засмеялся. «О, еще смехун! Поди ж, докладывай за него поклоны». И вот новый смехун шел на смену прежнего; и только сделает он два-три поклона, как уже смеется третий, и тоже отправляется на смену второго, и так далее; нередко весь класс участвовал в этой шалости: только и видишь, бывало, что одни садятся на место, а другие стоят и выколачивают поклоны. Помню, раз зимою было у нас разбито стекло в классе, и Б—ский ставил шалунов и ленивцев у окна: «Поди-ка, domine, защищай нас от Борея!» Если кто ошибался в каком-нибудь грамматическом правиле, того он заставлял написать это правило на особом месте раз 30 и больше: будешь-де помнить! Однажды рассказывал он нам об иезуитской школе, в которой сам воспитывался. Инспектор водил по всем классам какого-то провинившегося ученика в дурацкой шапке, т. е. просто в вывороченной наизнанку, и по этому поводу Б—ский сказал: «Это хорошо! В нашей школе это было еще строже: всякого ленивца водили по всем классам; приведут, да в каждом классе и высекут! Оттого был страх и ученье».
Небрежнее всего проходились в гимназии новые языки: немецкий (учитель Карл Иванович Флямм) и французский (учитель Карл Иванович Журдан). Стыдно сказать, что даже в последнем, VII классе воспитанники с трудом переводили Фенелонова Телемака и какую-то немецкую хрестоматию; грамматика обоих языков преподавалась бестолково по старинным и никуда не годным учебникам; весь труд заключался в бесплодном заучивании фраз. Карлы Ивановичи наши были люди жалкие; видно было, что они не получили никакого образования и никогда не думали поучать юношество; но коварная судьба, издавна привыкшая всякого рода иностранца превращать на Руси в педагога, разыграла и с ними ту же старую комедию. Немецкий Карл Иванович даже с большими усилиями изъяснялся по-русски. Гимназисты его нисколько не уважали; окружат, бывало, его при входе в классную комнату и подымут такой гам, что хоть святых выноси; а он сердится, посылает им на своем родном наречии крупные проклятья, махает палкою, без которой никогда на урок не являлся, или просто-напросто дерется. К нему-то в класс, говорило предание, пустили однажды воробья и долго тешились пугливым порханьям птички; раз в ящик учительского стола, где всегда лежал журнал класса с отметками учителей об успехах учеников, посадили ему мышь и тешились, когда при открытии ящика мышь бросилась и испугала немца, К нему же в классе шалуны приносили кусочки разбитого зеркала и, с помощью этих стекол, мучили бедного педагога, наводя летнее солнце на его почтенную лысину. Он всегда был в классе с палкою, и, раздраженный, нередко пускал ее в дело. Раз (я уже был в IV классе), помню, у меня сильно разболелась голова; утомленный, я прилег головой на руку, кисть которой свесилась со стола, и заснул. Немец, заметивший мое успокоение, сильно ударил меня по кисти руки палкой. Я проснулся от боли и в ту же минуту, не помня ничего, назвал его громко: колбасник! имя, которым нередко мы честили его в разговорах между собой. Он рассердился и стал допрашивать, кого думал я назвать колбасником. Я струсил и уверил, что назвал не его, а одного товарища, тоже немца; но тот, как на беду, сидел от меня через две скамьи. Флямм пожаловался на меня Д—скому, у которого тогда я жил, и тот умягчил его гнев; дело кончилось только выговором мне. «Я не хочу сделать тебя несчастным!» — величественно, но с странным и неправильным произношением провещал мне Флямм, изъявляя свое прощение. Наиболее шалостей происходило в маленьких классах; в высших мир и тишина нарушались редко; обыкновенно Карл Иванович, выслушав здесь урок, склонял свою голову на учительский стол и преспокойно дремал, ожидая звонка. Но особенно много ему было хлопот с первым классом, где надо было выучить мальчиков читать по-немецки. Для этого принята была им следующая метода: мальчики, сидя на своих местах, должны были все вместе в один голос читать какую-нибудь фразу из учебной книги; каждое слово должны были выкрикивать отдельно и разом, по мановению руки учителя. И что это было! Шум и гам! Кто пищит изо всех сил, кто надувается кричать басом, кто читает хриплым голосом, а иной выводит нарочно какие-то странные, неведомые звуки. Карл Иванович в таких случаях ставил около себя старшого и приказывал замечать шалунов. Однажды мы расшумелись так, что решительно не было ладу. Старшой, Цветков, ученик лет пятнадцати, был поставлен позади учительского кресла наблюдать за крикунами; но вместо того он сам принимал участие в общей забаве, — высовывал язык, кривлялся и в довершение всего стал размахиваться ладонью над лысиной учителя, как бы желая ударить; размахнется, поднесет ладонь к самой голове, да и назад руку. Взрывы хохота делались чаще и неугомоннее. Карл Иванович стал подозревать, что старшой ведет себя не совсем хорошо; захотелось ему поймать преступника на деле — он быстро приподнял свою голову в то самое время, как Цветков размахнул рукою, и удар, против воли самого виновника, плотно пришелся по лысине наставника. Эффект был поразительный! Все мгновенно смолкло, и на всех лицах выразился непритворный испуг. Раздраженный Карл Иванович выбежал из комнаты; а за ним бросился и весь класс умолять о прощении. У Цветкова отняли старшинство; имя его записали на черную доску. Надо сказать, что в каждом классе висело по две доски; красная и черная; на первой означались имена учеников отличных и благонравных, на второй ленивых и дурного поведения.
Карл Иванович француз, кажется, остался на Руси от великой наполеоновской армии; говорил по-русски порядочно, любил выпить и посещал гимназию весьма редко; случалось, целые месяцы не показывал глаз, и мы посвящали это время играм или расходились по квартирам. Потом появится раз-два, и опять исчезнет на неопределенное время. Он заставлял нас читать, писать под диктовку или спрашивал из грамматики, которою мы, однако, занимались мало, рассчитывая на его нехождение, а потому большею частью время класса наполнял он рассказами (вечно одними и теми же) о смерти Вандома, о судьбе своих перочинных ножичков, которыми он гордился, и об истории своей собачки; тут, бывало, в десятый раз повторял он нам, сколько раз пропадал его ножичек и как находился, и проч. Какие же могли быть при этом успехи? Конечно, их не было и быть не могло; нельзя удивляться, как могли терпеть тогда подобных учителей и за что брали они жалованье.
Историю всеобщую преподавали, начиная с 3-го класса, по руководству Кайданова, а русскую — по Устрялову (изданному для гимназий). Прежде был учитель Цветаев, который заставлял зубрить книгу слово в слово и спрашивал урок всегда по книге; при мне он уже был инспектором, а новые учителя позволяли всегда рассказывать исторический урок своими словами и даже объясняли (хотя и не всегда) урок наперед. Это были Рындовский, оставивший по себе в гимназии память, что любил ругаться, и Словатинский — уже нового поколения человек, избегавший всякого неприличия. Что касается до ругательств, то предание сохранило много печальных воспоминаний об одном учителе рисования и чистописания, который ругал учеников по-мужицки, но в мое время его уже не было, хотя предание было еще свежо. Вообще учителя рисования и чистописания играли в гимназии самую жалкую роль; уважения к ним воспитанники не питали; на успехи в этих занятиях никто не обращал внимания, ибо для перевода из класса в класс довольствовались хорошими баллами по разным наукам, а на чистописание и рисование не смотрели. Я и многие мои товарищи, в продолжение 4-х лет учения, только и выучились рисовать кружки, неизвестно почему называвшиеся глазами, да нос, столько же похожий на нос, как и на губы.
Математика проходилась в довольно широком объеме: арифметика (кажется, Бусса), алгебра и геометрия (Кушакевича, изд. для военно-учебных заведений). Я, как учившийся греческому языку, высшей алгебры не слушал. Учители были: Бернгард и Долинский, которые всякий раз постоянно объясняли нам урок и весьма тщательно, особенно первый умел мастерски говорить с учениками меньших классов и передавать уроки весьма легко для их понимания; упражнения в задачах были постоянно. Математика много помогла развитию логических приемов в ученических головах.
Долинский проходил с нами еще и физику (по руководству Ленца), сопровождая уроки интересными опытами. Оба они были люди добрые. У Бернгарда я жил с другими учениками, отданными к нему родителями, и не могу не похвалить его ласкового обращения с нами, заботливости о нас, добросовестности; стол был у него всегда прекрасный, присмотр — тщательный. Хотя и он верил в силу розог, но прибегал к ним весьма редко и то только в отношении к самому меньшему возрасту. Но не могу похвалить его за одно: он придумал особое наказание, только им и употреблявшееся: — ладушки. Обыкновенно схватывал он виновного за руки, отворачивал обшлага рукавов и начинал бить одну ладонь о другую и бил весьма больно. Я таки довольно попробовал этих невкусных ладушков. Да еще любил он в классе ставить учеников на колени на рубце стола (столы были у нас покатые, но впереди отделялась рубцом горизонтальная узенькая дощечка, для того чтобы ставить на ней чернила и класть карандаши), что также было довольно чувствительно.
Д—ский учил географии по Арсеньеву и в низших 3-х классах русской грамматике, по краткому руководству Востокова. Ученье шло по обычной методе заучиванья наизусть; сверх уроков Д—ский задавал нам упражнения, т. е. заставлял писать под диктовку, учить басни Крылова и делать грамматические разборы. По предмету географии он давал выписки из других учебников (Соколовского, Греча и др.) в пополнение Арсеньева: мы должны были записать то, что он нам диктовал в классе (на что уходило много времени), и потом перебелить и заучить наизусть.
Д—ский был господин весьма уклончивых свойств, мастер подделаться под чужие нравы и понравиться; он считался даже весьма снисходительным и ласковым и умел хорошо обделывать свои делишки. Ученики его прозвали Жако, Бразильская обезьяна. У него всегда жило много воспитанников (человек до 12), за которых он брал по 500 руб. ассиг. за каждого; и при том содержании, на каком они были, конечно, бывал далеко не в убытке. Я поступил к нему от Бернгарда и с 3-го класса до окончания гимназического курса прожил под его кровом, и не скажу, чтоб остались от этого времени только одни хорошие воспоминания.
Д—ский нанимал всегда порядочный дом; но для воспитанников своих отводил две-три комнаты, где они жили и приготовляли свои уроки все вместе; кровати стояли одна подле другой, в комнатах теснота и вечный содом, особенно когда начинали учить свой уроки, что всегда делалось вслух, громко. Один заглушал другого, и каждый мешал всем другим. Этот крик и гам далеко раздавался. Надзора за ученьем никакого не было; никто нам не объяснял уроков; мы зубрили их, выкрикивая разные фразы из учебных книг и тетрадок. Вся выгода житья в доме учителя ограничивалась только тем, что наблюдали за нашим поведением, т. е. не позволяли воспитанникам никуда без спросу ходить, смотрели, чтоб не дрались, не делали шалостей и были бы послушны; но и это исполнялось слишком плохо; примеры некоторых воспитанников, бывших в мое время, — слишком живая протестация против воспитания, усвоенного г-ом Д—ским. Боже мой! Сколько шалостей совершалось ежедневно и сколько непозволительных вещей пропускалось сквозь пальцы! Стесненные в одной комнате, мы, естественно, для развлечения затевали шалости и все участвовали в них. Предметом этих шалостей, большею частью, был и отец Д—ского, — старик с большими странностями и не совсем нравственными наклонностями. Он жил вместе с нами, среди вечного шума и тесноты. Мы надавали ему массу метких прозвищ и передразнивали все его странные привычки, следили за ним, когда он перед обедом, тайком, пробирался к шкапчику с водкой (что ему не всегда дозволялось), и громко высчитывали число выпитых им рюмок. Он любил долго сидеть по ночам и читать при свете зажженной свечи какую-нибудь книгу, мурлыкая потихоньку, но вслух; тут обыкновенно какой-нибудь затейник, лежа в постели, жевал бумагу и нажеванным комком бросал в светильню; мы так в этом наловчились, что промаху почти не бывало; свеча гасла; раздраженный старик, ругаясь, брал подсвечник и отправлялся в кухню за огнем: но его ждали устроенные посреди темных комнат баррикады из табуретов, забывая о которых он нередко спотыкался и падал, а мы хохотали. Добыв огня, старик ворочался и обходил наши постели с палкою в руке, и беда тому, кто не спал. Мы все притворялись глубоко спящими, но это не всегда спасало нас от драчливой палки. От нас не ускользали и его любовные похождения: старикашка был страстный и сластолюбивый; он не пропускал ни одной кухарки, как бы она дурна ни была, скупость мешала ему в этих делишках и ставила его в безвыходно смешные положения, что много тешило нас, следивших за каждым его шагом. Часто жаловался он на неугомонных своих сожителей сыну, и тот прибегал с выговором, ставил на колени, драл виновных за волосы, щадя только тех, которые выросли и могли, что называется, сами дать сдачи. Жили мы больше на дворе или в своей комнате, в гостиную нас не пускали, а в залу ходили только обедать и ужинать; общего с семьей учителя ничего у нас не было, и оттого мы, не зная другого общества, кроме школьного, дичали и грубели не по дням, а по часам. Стол у Д—ского не отличался хорошими качествами; жена его была скупая немка, и мы редко вставали из-за обеда сытыми, хотя обед состоял из 3-х блюд. Радовались мы, когда давали нам кашу: тут мы порядочно набивали желудки; но тертый сквозь сито картофель с гомеопатическою примесью масла был нашим вечным неприятелем. После праздника Р. Х. ученики, возвращаясь из дому, привозили в подарок учителю по нескольку пар гусей и уток. Он и еще больше жена его очень любили подобные приношения; я помню, как радовалась Эмилия Егоровна (жена Д—ского), когда ученики III класса поднесли на именины ее супругу чайный сервиз, купленный в складчину. Помню, с каким сладким взглядом и нисколько не стыдясь, говорила она мальчикам, что не худо было бы, если бы их родители присылали не только гусей и уток, но и по фунту чаю, и по голове сахару: «Вам это ничего не стоит, а мне бы было весьма кстати». Но памятны мне эти гуси и утки! Навезут, бывало, их после Крещения пар до 100, и начнут каждый день кормить нас жареным гусем; сначала идет хорошо, но чем дальше, тем хуже. Гусь до того опротивит, что решительно смотришь на него, как на врага. Начинаются оттепели; гуси, долго залежавшиеся, начинают портиться, и несмотря на то, что от них несется противный запах, хозяйка продолжает угощать нас жареным гусем. Время этого гусиного нашествия было самое печальное для наших желудков; один только старикашка, отец учительский, пожирал их и похваливал, несмотря ни на что. Вот был завидный желудок! Чай давали нам утром и вечером, по стакану, жидкий, с мелким, припахивающим сахаром, с крошечным ломтиком белого хлеба, или заменяли его стаканом молока. Сколько бывало раздоров и смуты из-за обеда! Мы, как голодные зверьки, промышляли съестным: где только можно было утащить кусок хлеба, слизать сливки, подцепить яблоко и т. п. — мы этого случая ни за что не упускали. С экономкой Анисьей были, по поводу этих фуражировок и дрянного стола, постоянные войны, и я не могу забыть моей ссоры с нею по поводу блинов, которых нам дали по два, взамен обеда. После ужина все воспитанники Д—ского молились и отправлялись спать; молитвы читались по очереди учениками следующие: Верую, Отче наш, Богородица дева, радуйся, Да воскреснет бог и помилуй мя, боже.
Русскую словесность читал (в высших классах) Н. М. С—ов, которого потом заменил Петров и Мал—н. В IV классе заставляли нас учить славянскую грамматику, далее следовала нелепая риторика Кошанского, и еще нелепейшая логика Кизеветтера, из которой никто ничего и понять не мог. Учили все это наизусть и терзали бедного Кая беспощадно: человек смертен, Кай — человек, следовательно, Кай смертен, и т. подобные истины всегда приправлялись злосчастным Каем. Петров заменил логику Кизеветтера логикой Рождественского, а риторику Кошанского — риторикой Плаксина, и это уже почиталось большим шагом вперед! В VII классе учили нас истории русской литературы и пиитики по Гречу; о ничтожности и бесполезности этого руководства и говорить не стоит. С—ов был ханжа в полном смысле. Всегда чисто, но чересчур скромно одетый, с постной и праведнической физиономией, с головой, нагнутой несколько набок, с глазами, часто поднимавшимися к небу, тихо и скромно входил он в класс. Ученики вставали и начинали читать молитву. Обыкновенно было заведено читать перед каждым классом и после каждого класса известные молитвы: Преблагий господа и проч. Эти молитвы от воскресенья Христова до вознесения заменялись троекратным чтением: Христос воскресе из мертвых. Перед и после латинского класса читали по-латыни Pater Noster [180], а в греческий класс ту же молитву по-гречески, или когда следовало читать: «Христос воскресе!», то эту молитву читали по-латыни и по-гречески. Но у С—ова никогда не ограничивались только одною молитвою; мальчики могли читать сколько угодно и какие угодно молитвы — все время он будет стоять и молиться с благоговейною кротостью. Мы знали это и, желая уменьшить время классных занятий, обыкновенно вычитывали все молитвы, какие знали, и таким образом иногда похищали по получаса времени. Были у нас и другие уловки избежать ученья, за которыми и сам учитель не слишком-то гонялся; только стоило попросить его рассказать нам о чудесах Николая-чудотворца или другого святого, как С—ов с радостною улыбкою начинал свои бесконечные рассказы, и класс проходил незаметно среди его проповеди и наших шалостей, которым предавались мы под его монотонный говор. Урок свой С—ов очень часто начинал вопросами: был ли каждый из учеников у обедни и заутрени в минувшее воскресенье или праздник, какое читали Евангелие и Апостол, и требовал рассказывать их содержание. Если ответы были неудовлетворительны, то баллы выставлялись нам плохие, несмотря на то, знали ль мы урок или нет, и обратно. Своих воспитанников, которые жили у него на квартире, он замучил обеднями, заутренями и всенощными, сам всегда будил их к заутрене и таскал с собой в церковь, а дома заставлял вместе с ним молиться часа полтора на коленях, читая акафист Иисусу Сладчайшему или какому святому. Он заставлял нас переписывать разные места из Евангелия и других церковных книг печатным славянским шрифтом, и такое срисовыванье стоило нам порядочных трудов; эта работа назначалась ради знакомства с славянскою грамматикою. Книги нам читать он почти не давал из гимназической библиотеки, хотя мы и приставали с просьбами о том, и сам в классе не знакомил с русскими писателями. Исключение делалось только в пользу Муравьева и Жуковского. Пушкина называл он безбожником; романы считал ересью. С—ов и его преемники задавали нам сочинения в прозе и в стихах. Темы сочинений у С—ова были обычные: четыре времени года, четыре возраста жизни, польза образования и т. под. Сочинения, конечно, были из рук вон плохи; фразы клеились кое-как без связи; но мы знали, как угодить набожному наставнику. Стоило только соблюсти обычный прием, и как бы сочинение ни было пошло, в графе непременно ставилась отметка 5. Прием был не сложный: описываешь ли прогулку, надо было сочинителю в заключение услышать звон колокола, зовущего к заутрене или всенощной, и зайти в храм божий, поблагодарить подателя всех благ за такую приятную прогулку и за красоты природы, им насажденные, описываешь ли бурю — надо было закончить молитвою к богу, являющемуся в грозных тучах и молниях напояющему дождем своим нивы поселянина. И мы воссылали эти благодарственные и хвалебные мольбы во всяком почти сочинении и кстати и некстати, — и эта уловка всегда удавалась нам.
Несмотря на такую излишнюю набожность, С—ов не всегда был свободен от движений гнева и вспыльчивости; я помню, как раз с злостью бегал он по классу за учеником, чтобы ударить его; помню, как другого ученика ударил он по лицу; тот, наслышавшись евангельских поучений наставника, подставил ему другую ланиту; но С—ов, разраженный и вне себя от такой выходки, сильно ударил его и по другой ланите несколько раз и поставил на колени (это было в IV классе с Третьяковым). С—ов постоянно терся около архиерея Антония, ожидая от него богатых и великих милостей, и, кажется, не напрасно, он скропал в плохих стишонках похвалу Митрофанию-угоднику и заставил каждого из нас покупать это стиходейство по 1 руб. серебром, он написал еще риторическую речь об Александре Невском и такое же жизнеописание епископа Воронежского Антония; составил акафист св. Митрофанию. Раз принес он в класс несколько свертков маленьких образков и раздавал всем ученикам, чтобы они помолились за больного архиерея. У него был сын, страшный баловень и весьма плутоватый господин: таковы были плоды его воспитания. Шалостей в его классе бывало всегда много, и однажды случилась пресмешная история. При гимназии был флигель из двух комнат, которые разделялись коридором. Коридор выходил с одного конца на задний двор, по которому бродила инспекторская телка. Телка забрела в коридор и, остановившись перед растворенными дверями нашего класса, замычала. Тотчас выскочило несколько учеников и, как будто прогоняя ее, вогнали в класс. Все вскочили со скамеек, и началась гоньба за телушкой. Учитель, перепуганный, кричит; мы тоже орем во всю мочь; телушка едва могла вырваться из класса. Ханжество С—ова служило предметом для насмешек его товарищей, других учителей. Как сердился он, бывало, когда его насмешливо спрашивали: «Что, Николай Михайлович, когда вы будете святым и откроются ваши мощи, в чем прикажете рисовать вас на образах: во фраке, мундире или просто в халате?»
Петров много упражнял нас в сочинениях, но был весьма недолго в гимназии. Помню, что при нем и после бывали у нас в гимназии чтения избранных ученических сочинений, в присутствии директора, учителей и всей гимназии; помню, что, наскучив поправкою наших бумагомараний, давал он нам какие-то стихи и прозаические статьи (откуда он их брал, не знаю) и заставлял нас читать их, под видом наших сочинений. Прочтенные таким образом сочинения вносились в особую книгу, которая, вероятно, и теперь хранится в гимназии. Там есть и сочинения, читанные мною, хотя и не мною написанные. Мал—н был человек добрый, но недалекий; впрочем, в этом виновато более воспитание его в Харьковском университете, не давшее ему тех правильных взглядов на искусство и историю, до которых трудно дойти самому. Он, взамен Греча, дал нам собственные записки по истории русской литературы и чуть ли при составлении их не пользовался студенческими тетрадками. Записки эти были и не полны, и бессвязны, и поверхностны; видно было отсутствие специального изучения. Марлинский был похвален, Гоголь невыгодно выставлен; его комедия «Женитьба» названа сальною; древняя литература до Ломоносова признана несуществующею. Он привел только какие-то два стихотворения о Перуне и Бабе-Яге, весьма недавнего и плохого сочинения, в пример мифологических преданий о древнейшей словесности! О Кирше Данилове и народных песнях он не заикнулся. Впрочем, эти недостатки едва ли в то время не были общими всех учебников и учительских записок.
При мне был введен в Воронежскую гимназию греческий язык; учителем назначен был Соб—ч — из семинарии, где он также был наставником. По положению, греческий язык должны были слушать только желающие, начиная с IV класса, которым уменьшен был за то математический курс; мы знали это постановление и изъявили свое нежелание учиться греческому языку. Но благодетельное начальство, не входя в причины этого нашего нежелания и думая, как бы выслужиться, завербовав большее число воспитанников для греческого языка (мысль о введении его в гимназию принадлежала министру Уварову), приказало нам слушать уроки Соб—ча без всяких отговорок. Вот первый повод к той нелюбви, какую потом постоянно питали мы к греческому учителю. Он был человек весьма незлой, даже добрый, но за ним было ненавистное для нас название семинариста, и сверх того, сам он весьма плохо знал греческий язык, за преподавание которого взялся, как обыкновенно берутся за все науки учителя и профессора семинарий, где не спрашивают, что знает он специально, а приказывают сегодня учить одному, а завтра — другому. Я знал семинарских профессоров, которые от церковной истории переходили на математику и т. п. Соб—ч и нас учил, и сам учился в одно время. Он сначала выучил нас читать по Рейхлинову произношению, следуя семинарскому преданию, а потом стал переучивать — читать по Эразмову произношению; он заставлял нас учить греческие слова и грамматику Бутмана, известную нам только по своей необыкновенной толщине, и переводил с нами отрывки из греческой хрестоматии: из Одиссеи Гомера и Геродота. Переводили мы мало: обыкновенно задавались нам по нескольку строк приготовить дома, т. е. приискать в лексиконе слова, перевести на русский язык и заучить греческий текст наизусть. Мы учились кое-как; особенно надоедали нам спряжения с их бесконечными видами и аористами. Аорист представлялся нам каким-то чудовищем, и мы часто рисовали мелом на доске какую-нибудь уродливую образину с подписью: аорист и оставляли ее до прихода учителя, зная, что подобные выходки ему не по нутру. Впрочем, и сам учитель нередко ошибался в этих спряжениях. Я подметил эту нестойкость, и бывало, когда он спрашивает других, зорко слежу по развернутой книге за формами склонений и спряжений греческих, и как только учитель или поправлял ученика неверно, или сам ошибался, я с притворною и насмешливою скромностью вставал и, указывая на развернутую страницу книги, спрашивал: вероятно, здесь ошибка? Эти часто повторяемые вопросы смешили моих товарищей и сердили учителя, которого мы прозвали Псюхой. Поэтическое название души — первое греческое слово, которое мы узнали, так показалось нам (не знаю отчего) странно и смешно звучащим, что мы, переделав его в Псюху, дали это имя нашему мудрому наставнику. Впоследствии, когда мы прочли «Мертвые души» Гоголя, мы называли его Собакевичем, но первое прозвище постоянно осиливало и навсегда осталось за ним в гимназии.
Теперь расскажу одно происшествие, которое надолго осталось памятным в гимназических преданиях. Я был уже в VI классе. Раз мы все плохо знали урок греческий, и Соб—ч поставил всему классу по единице. Это так нас раздражило против него, что мы согласились вовсе не учиться у него, основываясь на том, что нас незаконно и против желания принудили учиться греческому языку. На следующий раз, когда пришел Соб—ч, мы отказались читать молитву пред учением, не дали ему классного журнала и открыто объявили, что урока не учили и учить не станем, а хотим перейти на усиленный математический курс. После долгих увещаний со стороны учителя, и грубых ответов с нашей раздраженный Соб—ч бросился по лестнице вниз из класса. Вслед ему грянул громкий смех и крик. Надо же было случиться еще, что учитель впопыхах споткнулся о ступеньку лестницы и упал, а смех и крик раздалися еще сильнее. Соб—ч подал на весь класс (исключая 2-х, которых не было в то время в гимназии и которые не участвовали в нашем условии) рапорт инспектору. Дело началось со всеми подобающими юридическими тонкостями. Директор, бывший университетский синдик, Виноградский, назначил формальное следствие, которое производили инспектор, секретарь совета и еще один депутат (учитель). Нас призывали поодиночке, допрашивали, допросы записывал секретарь, и делали очные ставки. Допросы были весьма любопытны. Нас спрашивали: «Кто был зачинщиком сего возмущения? У кого возродилась первая мысль о бунте?» и т. под. После следствия было два совещания учителей, инспектора и директора, после чего было предложено нам, если мы желаем остаться в гимназии, то должно согласиться, чтобы нас высекли, а в противном случае всех нас исключат из гимназии. Мы твердо и единогласно отказались терпеть постыдное наказание и решились лучше быть исключенными. В таких печальных обстоятельствах стали мы думать о военной службе на Кавказе. Но дело кончилось гораздо проще. Директор решился не смотреть на наше негодование и обратиться к нашим отцам с тем же предложением; но благодаря бога отцы наши решили: пусть лучше исключат, а сечь не позволили. Мы находились в таком возбужденном состоянии, что решились бы на многое резкое, если бы нам действительно угрожало это наказание, с которым в глазах наших соединялось ничем не смываемое поношение. Директор собрал еще совет, на котором решено было наказать нас другим наказанием. Подвергать исключению весь класс побоялись; надо было бы донести об этом в университет, — и вышла бы история. В назначенный день была собрана вся гимназия, ученики и учителя; нас поставили впереди, секретарь прочитал нашу вину и определение о наказаниях; все присуждены были к заключению в карцер: я — на неделю, как зачинщик всего дела, Средин на две недели, как нераскаянный, не давший никаких ответов на допросы, ему предложенные, остальные на четыре дня. Нас рассажали по разным пустым комнатам, отдельно, и выдержали определенное время, отпуская домой только на ночь. В класс во все это время нас не пускали, и мы уроков не слушали: так умно распорядились наши педагоги! Тем и кончилась эта трагикомическая история, акты, свидетельствующие о ней, наверно, до сих пор сохраняются в архиве гимназии на память потомства и во свидетельство неумелости директора со братией, которые придали такой торжественный характер школьной шалости. После того мы продолжали учиться греческому языку, но в отмщение я и Средин написали стихотворную поэму заглавием Псюхиада, в которой было воспето разными размерами, разумеется, с примесью поэтической вольности, все рассказанное мною происшествие, героем которой был Соб—ч — Псюха. Эту поэму мы читали в промежутки между классов товарищам, а по выпуску нашему из гимназии пустили ее в ход между гимназистами, где она приобрела большую известность, переписывалась и перечитывалась и даже попала и в руки самих учителей. Я сказал, что мы продолжали посещать греческий класс и отвечать урок по требованию учителя; собственно же, мы ничему не учились и отвечали урок по развернутой книге. Мы завели общественный экземпляр Бутмана и оставляли его постоянно в гимназии; приходя в класс, мы вытаскивали эту единственную книгу, и кого спрашивал учитель, к тому передвигалась и книга; так обходила она обе скамьи, из которых состоял весь класс. Учитель смотрел в свою книгу, отвечающий в свою, и баллы выставлялись постоянно удовлетворительные. Соб—ч очень хорошо знал, что мы отвечаем урок по книге, и молча допускал это; случалось несколько раз, что он забывал принести с собою грамматику и просил нашего Бутмана, чтоб по нем спрашивать; тогда мы прямо говорили: а по чему же мы будем отвечать урок? Он посылал искать греческой грамматики в другом каком-нибудь классе, и пока, бывало, не найдут книги и не принесут, спрашивать урока не решался. Наступил выпускной экзамен; что было делать нам? Грамматики мы не знали, переводить не могли, и вот трое из нас — в том числе и я — от лица всего класса отправились к Соб—чу на дом, откровенно объяснились, что ничего не знаем, отвечать не можем, что он должен заранее назначить нам вопросы, кого о чем спросить и что заставить переводить, чтобы мы могли приготовить эти вопросы, а то ему же будет хуже, если из его предмета ни слова отвечать не будем. Делать было нечего, — Соб—ч согласился назначить нам вопросы из грамматики и по небольшому отрывку из Одиссеи; на выпускном экзамене было разложено им множество билетиков с вопросами; но что бы ни взял ученик, он спрашивал его то, что назначил прежде, — все отвечали хорошо. И вот за эти познания в греческом языке дали нам право на XIV класс!
Класс наш постепенно, как и все другие классы гимназии в мое время, отличался большим дружелюбием и согласием между собою; твердым убеждением и правилом было: никого не выдавать и ни под каким видом и ни в каком случае. Имя фискала самое позорное, которым награждался изменник или не желавший участвовать в шалости всего класса. В нашем классе был один (Пав—о), которого мы все подозревали в шпионстве и потому от души его ненавидели. Что ему, бедному, доставалось от нас претерпевать! Сколько колотушек перенес он! Бывало, сообща согласимся дать ему ударов сто ладонью по голове, разделим это число между всеми учениками, и непременно каждый влепит свою долю, несмотря на его жалобы и угрозы инспектора. Что-то зверское было в этом мщении!
Сверх указанных мною наказаний, в гимназии обыкновенно употреблялись следующие: ставили на колени, оставляли без обеда, нередко весь класс; но мы всегда находили возможность купить себе белых хлебов, яблок или орех и колбасы и бывали весьма довольны; в свободное время между классами от 12 до 2-х часов предавались мы всем возможным шалостям, и нам в таких случаях было всегда весело. Кроме того запирали виновного в карцер. Это темный закоулок в коридоре под лестницей, куда сторожа клали дрова. Наконец было в большом ходу и сеченье розгами. По гимназическому уставу, это наказание было дозволено только в 3-х низших классах; но бывали примеры, что инспектор нарушал это постановление, хорошо нам известное, и подвергал ему учеников 4-го класса. Почти каждый день видишь, бывало, как через гимназический двор идет инспектор, за ним сторож и толпа учеников, которые громко ревут и просят прощения. Толпа всегда направлялась к флигелю, в котором помещалась канцелярия; там производилась, по приказанию инспектора, экзекуция, и потому выражение: водили в канцелярию у нас значило просто высекли. Помню, как дрожал я от страха, когда я был еще в 1-м классе и инспектор высек розгами одного нашего товарища в самом классе, в присутствии всех. Меня высекли в гимназии один раз, когда я был в 3-м классе, за то, что, воспользовавшись уходом учителя из класса, я свистнул от нечего делать. Но особенно любопытно происшествие со мной, когда я был уже в 4-м классе. Раз я подрался с одним товарищем и порядочно поцарапал ему лицо; инспектор Цветаев рассудил высечь нас обоих и велел идти в канцелярию. Товарищ моего несчастья с плачем отправился туда, но я улучил минуту, схватил фуражку и пустился домой, на квартиру Д—ского. Прибежал я запыханный, сердце мое билось, негодование против инспектора, желающего поступить со мной вопреки гимназического устава, было сильно возбуждено; едва переводя дух и дрожа, как в лихорадке, я сел на табурет, и вслед за тем явился посланный за мною из гимназии солдат. «Пожалуйте, ваше благородие, в гимназию; инспектор за вами прислал», — сказал он. — «Зачем?» — «Вас хотят высечь», — спокойно и серьезно отвечал солдат. Несмотря на такое посольство, я наотрез отказался идти в гимназию, и не пошел. На другой день, по увещанию Д—ского, который уверил меня, что история в канцелярии не возобновится, пошел я в гимназию. Дело решилось тем, что противника моего простили (не секли), а мое имя написали на черную доску, а с красной, на которой оно было написано, стерли. С этих пор постоянным моим занятием, в течение целого месяца, было — ежедневно стирать свое имя с черной доски, что делалось уловкою и тайком; но смаранное, оно вскоре писалось на ней снова. По поводу этого происшествия Д—ский писал к моему отцу о позволении наказать меня розгами, но отец на это не согласился. Ответ отца вместе с письмом Д—ского я берегу, как дорогой для меня памятник светлого взгляда этого человека на воспитание. Исключения из гимназии были редки; я помню один случай, который сильно запал мне в память по той торжественности, какою он был окружен. Я был во 2-м классе; раз всю гимназию собрали в залу, поставили впереди одного из учеников нашего класса, Соколова, и секретарь прочел определение об исключении его из гимназии за дурное поведение. Соколов был избалованный и действительно дрянной мальчишка; испорченный дома, он менее всего мог обрести чувство стыда в гимназии, где его беспрерывно секли, так что наказание розгами ему сделалось нипочем. Когда приводили его в канцелярию, он без слез, а иногда с усмешкою спокойно раздевался, ложился сам и получал положенное число ударов. Нагадить учителям и инспектору — для него было большое наслаждение, и наконец он порезал шинель одному из учителей перочинным ножичком. По прочтении советского определения директор закричал: «Солдат!» Солдаты явились, посадили виновника на кресло, отпороли ему красный воротник и потом вывели с гимназического двора. Исключили было еще одного моего товарища из IV или V класса (Милошевича), но потом снова приняли в гимназию, по просьбе его матери. Милошевич был мальчик вспыльчивого и решительного характера, не мог покорно снести ни постыдного наказания, ни оскорбительного слова. За одну ссору инспектор захотел наказать его розгами; он убежал в гимназический сад. За ним послали несколько солдат. Прислонившись к дереву, он долго защищался перочинным ножичком и порезал в нескольких местах руки солдат. Следуя старине, гимназическое начальство крепко верило в спасительную силу розги, хотя частый опыт и должен бы, кажется, в том его разуверить. Это наказание приносило одни пагубные плоды: раздражая одних до неестественного в ребенке ожесточения и ненависти и пробуждая в нем отчаянную решимость, оно в других подавляло всякий стыд и очевидно развращало их нравственное чувство. То же должно сказать и о других наказаниях, придуманных хотя близорукими, но зато длиннорукими педагогами. Когда решились принять снова Милошевича в гимназию, то директор Виноградский, любивший все делать торжественно, собрал всю гимназию и сказал по этому поводу длинную и напыщенную разными риторическими украшениями речь. До таких речей он был большой охотник и пользовался каждым случаем, чтобы отпустить громкую фразу.
Всякий день у нас в гимназии было 4 урока, два утром и два после обеда; урок продолжался полтора часа; это довольно долгое время учителя наполняли тем, что спрашивали у учеников уроки; но объяснять нам уроки сами (кроме учителей математики) и не думали; и как в низших классах было много учеников, то учителя поручили лучшим из них спрашивать по нескольку других воспитанников каждому. Эти ученики назывались аудиторами. Они выслушивали у назначенных им учеников уроки и ставили им отметки, которые иногда поверял учитель. Нередко учителя оставляли класс и уходили в другой повидаться с другим своим товарищем и по получасу разговаривали о вчерашней игре в карты или о каких-нибудь сплетнях. По окончании месяца всякий учитель подавал инспектору ведомость об успехах учеников, после чего бывал совет, и определение его читалось в присутствии всей гимназии: чьи имена следует написать на красную доску, чьи — на черную и кому определяли какие наказания. Затем следовала новая рассадка воспитанников, смотря по их успехам. В конце года происходили экзамены по программе, составленной в университете, ученики выходили по очереди, брали билет и отвечали на него; им ставили отметку за этот ответ. Экзамены происходили в присутствии директора, инспектора и назначенных учителей. После того следовал совет о переводе учеников из класса в класс, и вакация, т. е. ученики разъезжались на июль месяц по домам; ездили домой еще на Р. Христово от 23-го числа декабря по 7-е января; тогда нам выдавались билеты с отметками об успехах и поведении. После вакации бывал публичный акт, на котором читались учениками приветственные и благодарственные речи к посетителям; учителя читали свои речи, — почти всегда о пользе своей науки; ученики читали стихи и избранные сочинения свои или классических писателей. Немецкий учитель всегда читал по-немецки, французский — по-французски, латинский — по-латыни. Во время этого чтения гимназия поила посетителей чаем, угощала арбузом, дыней и яблоками. На публичном акте всегда бывал архиерей, который раздавал похвальные листы и книги ученикам, отличившимся успехами и поведением. Вспоминаю одну речь, произнесенную Соб—чем о пользе греческого языка, которая начиналась так: «Было то золотое время, когда все народы говорили на одном языке», и в которой особенно понравилось мне то место, где автор, распространяясь о картинности греческого языка, говорил: «Уже в самых звуках сего языка слышится подражание природе; так, в звуках греческого слова βονξ, бык, не слышится ли голос сего животного: бу-бу!». Выкрикивая грубое бу-бу, педагог из всех сил тщился подражать быку, что ему и удалось, к общему удовольствию публики.
В классы мы любили собираться пораньше, задолго до начала уроков, и тут-то предавались всевозможным шалостям и резвостям, которые продолжали и в промежутках классов, при перемене учителей. Тут в гимназическом саду или на заднем дворе затевались у нас зимою снежки, а летом беготня и драка на кулачки. В снежки мы играли так: класс выходил на класс, или несколько классов соединялись и выступали против других классов, и победители долго гнали побежденных, преследуя комками оледенелого снега; и те и другие часто возвращались в классы с подбитыми и всегда раскрасневшимися лицами. На кулачки дрались гимназисты несколько раз в первые годы моего гимназического воспитания с учениками уездного училища, с которыми, неизвестно почему, была давняя вражда. Неприязненно смотрели гимназисты и на семинарию, и на кантонистов; но здесь до открытого боя не доходило, а кончалось перебранкою и отдельными стычками. Кантонисты дразнили гимназистов за красные воротники — красной говядиной, но самое обидное слово было то, когда кантонист при встрече на улице с гимназистом закричит: «Лягушки в кармане!» Что значило это выражение и почему почиталось оно обидным — никто не мог бы объяснить. И что бы, казалось, могло быть в нем обидного? Но, бывало, какую злобу и гнев почувствует гимназист, услышав эти слова. В ответ понесется брань, а досадный кантонист продолжает свое ужасное: «Лягушка в кармане! лягушка в в кармане!» Я только один раз, и то невольно, был зрителем кулачного состязания гимназистов с уездным училищем. Помню, что по этому поводу ученики уездного училища присылали к нам в гимназию парламентера с такого рода письмом: «Вы, негодяи, скоты, etc. выходите сегодня в 6-м часу после классов на такую-то улицу; мы вас, негодяев, и etc. хотим поколотить!» На это любезное послание последовал не менее любезный ответ: «Выходите сами, негодяи, а мы вас, дураков, не боимся». В назначенный час в самом деле они сходились, и с удовольствием повествовала потом каждая сторона о собственных подвигах в важном деле разбития носов и скул. Но эти гомерические нравы вскоре после того стали упадать и исчезли, когда появились при гимназии надзиратели, которых прежде не было. Между этими надзирателями памятен один Готшалк, или Готшалка, как мы его звали. Маленький ростом, хитрый, пронырливый, он все знал и всюду являлся невзначай и заслужил полную нашу нелюбовь. Я убежден, что из него мог бы выйти отличный шпион: природа дала ему все для того нужное.
На вакациях я уезжал в уездный город (Бобров) и здесь-то познакомился с уездным обществом и его нравами; но мало вынес отрадных воспоминаний: сплетни, взаимное недоброжелательство, пустые ссоры, мелочное самолюбие и тщеславие, бесконечные претензии и отсутствие общественности. Одна великолепная природа мирит меня с тамошними местами и дает мне несколько приятных воспоминаний. О праздничных увеселениях городка не говорю: они так верно описаны Потехиным в одном очерке, напечатанном в «Современнике».
В 1844 году, по окончании курса в гимназии, я уехал в Москву и поступил в Московский университет на юридический факультет…
Московский университет (1844—1848 гг.)
Вступительный экзамен я выдержал пополам с грехом, что называется. В Москве сначала очутился я совершенно один, никого — ни знаковых, ни родных. В этом многолюдстве я чувствовал странную пустоту, и тоска невыносимая теснилась во мне. Но скоро я свыкся с Москвою и с юношеским жаром привязался к университету. Для меня в эту эпоху все было погружено в жизни университетской, ею одною была полная и моя собственная жизнь. Начинаю воспоминания об университете.
Попечителем в это время был граф С. Г. Строганов [181], а инспектором студентов П. С. Нахимов [182], брат адмирала, синопского героя. Это было едва ли не самое счастливое время Московского университета, по отсутствию всяких стеснений и формализма, которыми так любят щеголять в наших учебных заведениях, и низших, и высших. Граф — человек весьма почтенный, благородный, любитель русской археологии: у него есть и прекрасная библиотека, и собрание старинных икон, и собрание монет. Он любит искусство, основал в Москве Строгановское училище живописи и напечатал прекрасное архитектурное издание «Дмитриевский собор во Владимире». С профессорами и студентами он всегда был учтив и вообще всегда и во всем умел держать себя с благородною гордостью хорошо образованного аристократа; он не принуждал нас быть вытянутыми и застегнутыми во время лекций — и это много значило в наше время. Были случаи, что граф помогал бедным студентам, давая им взаймы свои деньги для своевременного взноса в Московский университет за слушание лекций. (Плата эта была сначала меньше 40 руб. сер., потом увеличена до 50 руб. сер. в год.) Студенты все его очень уважали и в нынешнем году (1855), хотя уже он давно оставил университет, в день юбилея Московского университета (12 января) многие из окончивших при нем курс и теперь служащих в Москве собрались и ездили к нему на квартиру и записали свои имена, выражая тем свою память и свое уважение к его имени; графа не было тогда в Москве, он был в С.-Петербурге.
Нахимова мы все от души любили, да и он любил студентов, как своих детей. С простотой, по-видимому, несколько суровой, он соединял душу необыкновенно добрую и сердце мягкое; одним словом, он живо напоминал мне прекрасный характер Максима Максимовича (в «Герое нашего времени»). Как военный человек с раннего утра был он уже в форменном сюртуке, застегнут на все пуговицы, навытяжку; волоса его были подстрижены, елико возможно, низко — под гребенку с небольшим хохолком спереди. Как моряк, он любил выпить лишний стакан рома и всякий день уже с утра, бывало, отдает этот долг старинной привычке. Он осматривал всякого студента, попавшегося ему на глаза, и если что было не по форме, тотчас же делал распекание. На форму свыше требовалось от университетского начальства, чтоб оно обращало наиболее внимание. Покажутся ли серые панталоны, белые воротнички или голубой кантик, пущенный не на месте, ради щегольства, или длинные волосы — краса, которой многие так гордились, — Платон Степаныч (которого шутя называли Флакон Стаканыч, намекая на его любовь к крепким винам) пускался вдогон за ними или сам, или посылал своих суб-инспекторов; в карцер он сажал весьма редко, и дело кончалось наставлением и угрозою посадить в другой раз в карцер. В пример, как должно носить волоса, он всегда указывал на свою собственную прическу.
О Платоне Степановиче постоянно ходили анекдоты, свидетельствовавшие об его доброте и даже наивности.
Однажды в великий пост, когда говели казенные студенты, поп Терновский [183] объявил на исповеди двум студентам, что за какие-то важные грехи он не допустит их к причастию; студенты-грешники обратились к Платону Степанычу; тот бросился к Терновскому уговаривать его быть снисходительнее. Долго отговаривался Терновский, наконец сказал: «Не могу… Иисус Христос сказал…» — и уже был наготове текст, как Нахимов нетерпеливо и почти с отчаянием прервал его: «Что Иисус Христос! что граф-то скажет?…» Это последнее возражение возымело силу — и студенты допущены были к св. причащению.
Раз пришел к Платону Степановичу хозяин трактира «Великобритания» (здесь постоянно кутили, пили и закусывали, играли на бильярде — студенты, и трактир, находившийся как раз около университетских зданий, напротив экзерциргауза [184], считался и назывался студенческим) с жалобой на какого-то студента, который, забравши у него порядочную сумму, не платит и еще требует. Платон Степанович отправился в «Великобританию» сам.
«Ты задолжал; не платишь, да еще буянишь», — сказал он студенту (Платон Степанович всегда говорил студентам ты; к этому все привыкли, и нас бы удивило, если б он обратился иначе, с вежливым вы; все знали, что это простота и привычка, а никак не грубость).
«Я-с, Платон Степанович, не собрался с деньгами; я ему заплачу… а он — просто грабит, цены берет хорошие, а если бы вы видели, какая у него водка скверная, хоть не пей! вот извольте попробовать сами».
Платон Степанович взял рюмку и выпил; «Ах ты, мошенник, — закричал он на трактирщика, — такую-то продаешь ты водку!» — и распек его на чем свет стоит, а потом, обращаясь к студенту, сказал: «А ты бы лучше ром пил!»
Тем расправа и кончилась.
Как-то вошел он в ту комнату, в которой вилась чугунная лестница во все этажи (в промежутке между лекциями мы обыкновенно собирались на эту лестницу поболтать и позевать), и увидел студента, который с третьего этажа перегнулся через перила: «Вот, только упади, — закричал снизу Платон Степанович, — так сейчас посажу в карцер!» Но кого бы посадил он в карцер, если б неосторожный студент упал с 3-го этажа на каменный помост?
Кстати припомню здесь шалости студента П. И. Боткина, который сшил себе широкие панталоны из какой-то весьма тонкой материи красного цвета и принес их раз с собою в университет в кармане; в промежуток времени между лекциями он надел их сверх своего форменного костюма, вышел на площадку лестницы и облокотился о перила. Вдруг, к ужасу своему, суб-инспектор Понтов замечает снизу студента в красных панталонах; бежит он по лестнице вверх, но пока пробежал ступеней более сотни, прерываемых длинными площадками, студент уже снял свои красные штаны, спрятал в карман и спокойно глазел по сторонам.
Понтов, в вечно прилизанном парике, щепетильно чистенький и с ухватками кошки, которая как будто гладит лапкой, а того смотри: вот-вот царапнет! — вбежал в нашу аудиторию, ищет красных панталон и не находит. Удивленный, сходит вниз, взглядывает вверх — о ужас! красные панталоны появились снова. Снова бежит он по лестнице, и опять штаны исчезли. Сколько мы хохотали этой проделке, заставившей нашего общего нелюбимца Понтова совершить препорядочный моцион.
В 1847 году граф Строганов оставил университет, а вместе с ним покинул университет и Нахимов, который был сильно привязан к графу и не хотел оставаться при новом попечителе; это наделало много толков в Москве, где университетские новости всегда принимались к сердцу. Студенты искренно сожалели. Помню, как Платон Степанович обходил все аудитории и прощался с студентами, пришел он и в нашу аудиторию и, по-видимому, хотел что-то сказать нам на прощание, но на глазах его выступили слезы (этих слез никогда я не забуду!), и он только промолвил слово прощайте! с просьбой не забывать его. У нас у самих заблистали на глазах непритворные слезы. Лучшая похвала графу и Платону Степанычу та, что никто не помнил, чтобы при них был исключен какой студент или попал в солдаты, что (говорят) случалось позже в короткое время заведования университетом помощника попечителя Голохвастова [185]. Нахимов умел все неприятные истории погашать в самом их начале; он был постоянным, самым ревностным заступником студентов перед графом и даже перед профессорами (во время экзаменов); его просьбы уважались, и нередко полученная на экзамене единица была, ради его просьбы, переправляема.
Раз один студент, получивший единицу чуть ли не из медицины, обратился к нему с просьбой попросить за него.
— Вот теперь пристаешь, — сказал Платон Степаныч, — а зачем не учился?
— Помилуйте, Платон Степаныч, я отлично знаю; ну хоть сами спросите.
— Да, есть мне когда спрашивать! — отвечал старик, не признаваясь, что в медицине он ни аза не смыслит; подошел к профессору и упросил переправить отметку.
Место Строганова заступил Голохвастов, который недолго удержался в университете, а место Нахимова — Шпейер (ныне, в 1855 г., директор 1-й Московской гимназии), толстый, некрасивый и необходительный господин, который тогда же был весьма удачно прозван студентами моржом. Я был уже на 4-м курсе и при этих господах оставался несколько месяцев; потому особенных воспоминаний о них не вынес, а помню только, что любовью они и после не пользовались. С этого времени началось требование соблюдения строгой формы во всем. Нахимов был избран в директоры Шереметевской больницы; на этом месте вскоре он и умер. Многие студенты провожали его гроб в могилу; тогда же вышел его литографированный портрет, весьма похожий.
* * *
Теперь надо рассказать о профессорских лекциях.
Науки разделялись в университетском преподавании на факультетские и побочные; первые составляли предмет главных, специальных наших занятий; баллы, полученные на экзаменах из этих наук, принимались в расчет при определении степени окончившего курс студента: 4 1/2 в среднем выводе давало степень кандидата, а 3 1/2 — степень действительного студента; побочные, не главные науки входили в курс общего образования; и баллы, полученные из них, принимались во внимание только при переходе с курса на курс, но для этого достаточно было 3 1/2 в среднем числе, следовательно, можно было получить из иных и двойку. Поэтому мы вообще мало обращали трудов на эти науки, преимущественно занимались факультетскими. Студентам, при поступлении их в университет, раздавались табели, т. е. краткие правила поведения.
На первом курсе юридического факультета преподавались только две факультетские науки: во 1-х, энциклопедия законоведения — ординарным профессором П. Г. Редкиным [186], и во 2-х, история русского законоведения К. Д. Кавелиным.
Редкин пользовался в университете большою известностью, впрочем, не совсем заслуженною. Он читал свои лекции с ораторским одушевлением. Обыкновенно лекции в Московском университете излагались устно, а не читались по тетрадке, хотя выражение «читать лекции» и было у нас техническое и всеми принятое. Студенты записывали лекции со слов профессора, и записывали мастерски после навыка; некоторые умели записать лекцию слово в слово, как бы скоро она ни излагалась. Для этого у всякого были свои сокращения и знаки.
Нас на 1-м курсе было более 200 человек, да для некоторых лекций соединялись с нами словесники; потому занять место на передней лавке, поближе к профессору, считалось весьма важным делом. Как рано, бывало, приходили мы для того в университет! Иногда толпою ожидали, когда солдат отворит в определенное время дверь аудитории, и тогда все наперебой бросались занимать места, т. е. положить на избранное место свою табель, тетрадь или фуражку, вечно измятую из особенного франтовства. Место, на котором лежала фуражка, считалось уже неприкосновенным. Не так уважались тетради; иногда их сбрасывали, и при этом выходили из-за мест споры и ссоры. Неуспевшие занять места на передних лавках усаживались на ступенях профессорской кафедры, так что профессор постоянно бывал окружен толпою студентов с их тетрадками и чернильницами. Такая ревность бывала, разумеется, на первых двух курсах; в последних курсах студентов было уже несравненно меньше, и за места нечего было опасаться: в малых аудиториях голос профессора всюду был хорошо слышен.
Я сказал, что Редкин читал с воодушевлением оратора; он любил отпустить иной раз пышную фразу, особенно при окончании своей лекции, причем обыкновенно разгорячался и возвышал голос и говорил быстро; в выговоре его слышался неприятный малороссийский акцент (он был из Полтавской губернии), а в лекциях часто попадались иностранные слова: индивидуальность, конкретность, абсолютность, абстракт и проч. Меня сильно поразила его первая лекция, которую начал он вопросом: «Милостивые государи, зачем вы сюда явились?» — и потом сам же отвечал, что нас вело в университет предчувствие узнать здесь истину и сделаться в своем отечестве защитниками правды. «Вы жрецы правды — вы юристы!» — восклицал он и окончил лекцию любимою своею поговоркою: «Все минётся, одна правда остаётся!» — причем быстро соскочил с кафедры и убежал, что он делал очень часто. Редкин вместе с другими попал в университетский институт [187], причислен был ко II отделению собственной его величества канцелярии и послан за границу для юридического образования; в Германии он увлекся философией [188], и когда он воротился и начал свои лекции, то в них постоянно проглядывала и немецкая конструкция в изложении, и философское направление в содержании. Он был истый гегелист; Гегеля он уважал по преимуществу между всеми германскими философами и по его началам построил все свои лекции. Он толковал нам о принципе, из которого все развивается, о трех моментах в круге развития: момент — абсолютного, всеобщности, момент — конкретного обособления и момент единства того и другого; от этой тройственности он не отступал ни на шаг. Все лекции его делились на три части, из которых каждая опять на три, и так далее, что если и придавало им строгий систематический вид, зато всегда искусственный и изысканный. В «Энциклопедии законоведения» он объяснял нам развитие права по трем его моментам: право обычное, законодательство и право юристов: право обычное — темно, бессознательно истекающее из массы народа — это первый момент; второй — будет законодательство, где право высказывается уже с сознательною целью, исходит от лица и условливается его произволом; и наконец, в 3-м моменте, в котором два первые являются в единстве, право вступает на высшую степень; здесь оно бывает уже плодом трудов образованных юристов, вышедших из народа и ведающих его нужды и потребности. Право обычное восходило по следующим ступеням: a) устные юридические пословицы и поговорки; b) юридические символы и формулы и c) записанное обычное право. От вещественных, грубых символических форм право, все более и более одухотворяясь, принимает словесную оболочку и в последнем своем моменте приближается уже к законодательству и как бы становится первым моментом в развитии этого последнего. Законодательство проходит также три момента: a) отдельные записанные постановления, b) свод и c) уложение, т. е. не только собранные в одно целое, но и подвергнутые критике законопостановления, следовательно, здесь уже ясно влияние законоведцев (юристов). Право юристов, выражая в себе вполне сознательное развитие права, возвращает его народному обычному источнику, и таким образом, конец совпадает с началом и круг развития завершается. В предисловии [189] к этим лекциям П. Г. Редкин объяснил нам название науки, ее методу, источники, возможность, действительность и полезность, доказывая философское положение: «Все, что возможно, то и действительно».
Несмотря на явную искусственность и однообразие системы, лекции Редкина нам, первокурсникам, явившимся из гимназии и из родительских домов с малоразвитыми головами, оказали в своем роде пользу. Они заставили нас видеть в явлениях сего мира внутреннее развитие и в этом развитии признавать постепенность; показали нам, что ничто не возникает вдруг и что есть законы, которых нельзя обойти. Мы были в восторге от его лекций, но это продолжалось только на первом курсе. Уже на втором курсе, где читал он «Государственное право» (коренные законы, учреждения и законы о состояниях), увлечение наше значительно ослабело, а на 4-м курсе мы уже нисколько не восхищались его гегелевскими замашками и смотрели на них с благоразумною трезвостью. На 4-м курсе Редкин имел обыкновение менять свои лекции; предшественникам нашим он читал один год философию права по Гегелю, другой год сравнительный (и весьма любопытный) курс современного гражданского права во Франции и Англии; нам читал он историю философии права — предмет весьма интересный, но доведенный им только до новой истории, и то средневековое учение изложено им было весьма кратко; в трех лекциях — не более. Зато древний период прочитал пространно; он даже перевел нам целые места из сочинений Платона, Аристотеля и Цицерона о государстве и законах. Изложение, впрочем, было несколько сухо и по-старому натянуто на гегелевскую тройственную систему, которая так сильно надоела нам под конец. Той же системе подчинял он и государственное право, или, правильнее, свое длинное предисловие к государственному праву, читанное им более полугода; постановления свода законов изложены им были весьма кратко и без всякого указания на их историческое происхождение и судьбу. Помню только, что лекции Редкина о разных формах правления, о значении и формах конституционного устройства были и живы, и любопытны, и либеральны. Этим последним качеством (либерализмом) отличались, впрочем, все его лекции, и это-то особенно располагало нас в его пользу. В жизни он — строгий формалист и потому бывал несносен. Если не в срок подавали ему студенты конспекты лекций, которыми он нас мучил, то ни за что уже не брал, хотя бы это было на другой день после срока, а потому за неподачу конспекта ставил дурной балл.
Другой факультетский предмет на первом курсе читал нам адъюнкт К. Д. Кавелин, именно «История русского законоведения». Это был первый год его университетской службы. Он довел свои лекции до Петра Великого. В последующие годы лекции эти явились более обработанными, но далее Петра не касались. Кавелин излагал живо и просто; лекции его, хотя далеко не представляли подробного собрания фактов, нравились нам потому, что были исполнены мысли. В своих лекциях Кавелин старался высказать и пояснить те начала, которыми условливалось внутреннее развитие русской истории, и хотя многое им оставлено было в стороне, другое решено поспешно (впрочем, малая разработка источников в то время еще не позволяла делать решительных общих выводов), тем не менее многое было им угадано; взгляд его на историю и вместе с тем характер его лекций выражен им в статье, напечатанной в 1847 году в № 1 «Современника»: «Взгляд на юридический быт Древней России», в статье, которая в свое время расхвалена любителями старины, но которая теперь при открытии новых памятников и при появлении новых специальных работ, конечно, во многом неудовлетворительна. Автор, поставив краеугольным камнем своего труда личность, не объяснил точно, какой дает объем этому понятию и в какой мере справедливо отрицает влияние личного начала во всей допетровской истории; во всяком случае, едва ли верно приписано такое позднее развитие личности в юридической сфере наших предков. Это уступка придуманной системе и некоторым увлечениям западной партии [190]. Сверх того, в этой же статье Кавелин у целой эпохи безгосударной отнял всякое значение во внутренней жизни русской нации!.. Кроме лекций «История законоведения» он читал еще для студентов других факультетов законы об учреждениях, по Своду, с историческими заметками.
Кавелин — человек умный, с душою в высшей степени благородною, доброю и систематичною, характера живого — с людьми сближается скоро и всегда готов на услугу, в обществе говорлив, в нем есть что-то привлекающее к нему; но способен увлекаться и в жизни, и в науке, хотя и в этом увлечении нельзя не видеть открытых юношеских и прекрасных порывов, за что многие в дружеском кружке называют его дитятею, или, по выражению Краевского, «превечным младенцем». Я с ним познакомился еще студентом (на 3-м курсе) и с тех же пор полюбил его от души. Наших дружеских отношений и взаимного уважения нисколько не поколебали те литературные споры, в которых каждый из нас горячо стоял за свое убеждение. Когда печаталась моя статья «Ведун и Ведьма», Кавелин, уже служивший в С.-Петербурге, приезжал оттуда в Москву. Мы виделись и сообща решились спорить откровенно и прямо, не женируясь [191] нашими дружескими отношениями.
— Ведь я стану ругаться хуже всякого Погодина, — сказал он мне.
— Я и сам зубаст!
За этим мы расцеловались и расстались. Но о своих литературных спорах скажу ниже.
Нефакультетские предметы на первом курсе были: a) теория словесности (риторика) — читал проф. С. П. Шевырев; b) богословие (догматическое и нравственное) — протоиерей Терновский; c) латинский язык — лектор Фабрициус и d) немецкий язык — лектор Гёринг. Прежде читал на этом курсе древнюю всеобщую историю профессор Крюков [192], оставивший по себе память красноречивого профессора, основательного ученого и превосходного человека. Эта кафедра оставалась свободною по причине тяжкой его болезни, от которой он вскоре умер. Грановский, его друг, собрал было студенческие записки лекций Крюкова и думал издать его Древнюю историю в пользу семьи покойного, но намерение это не состоялось, и, кажется, единственною причиною этого была лень Грановского, который с особенною готовностью берется за многое, но редко что сделает: или не окончит, или и вовсе не начнет.
С. П. Шевырев начал свои лекции насмешками над немецкими риториками, составленными по старому образцу, потом приступил к изложению своей риторики, которую также разделил на три части: вместо источников изобретения он поставил: чтение писателей и образование пяти физических чувств (зрения, etc.) и душевных способностей человека (воображение, воля и др.), как необходимых для того, чтобы развить в человеке наблюдательность, живость впечатлений и творчество. Говоря о расположении, он делил всякое сочинение на три части: начало, середину и конец; в первой советовал представлять общее воззрение на предмет сочинения, неизученного в подробности; во второй разбирать его во всех подробностях (анализ), а в третьей снова обращаться к целому, делая о нем заключения и выводы, но уже полнейшие, на основании разбора, представленного во 2-й части: эту методу он назвал анализосинтетическою. Третья часть риторики посвящена была «выражению», в ней особенно сказались недостаточность лекций, вообще довольно сухих и мало представлявших дельного содержания, которое было бы почерпнуто из действительных фактов. Шевырев не указал нам ни образования метафорического языка, ни значения эпитетов и все свое учение о выражении лишил той основы, которая коренится в истории языка. Вообще ему не доставало филологических сведений, а на одних рассуждениях не ускачешь. Помню, как, трактуя о необходимости образовывать чувства, он приводил нам примеры из царства животного, и в числе других указал на развитость органа слуха ящерицы: «Когда я был в Италии [193], я несколько раз читал в одном пустынном месте стихи Пушкина, и всякий раз выползали ящерицы и, наслаждаясь мелодиею этих стихов, тихо прислушивались к моему голосу».
Эти лекции Шевырев неизменно повторял каждый год, даже с теми же примерами о музыкальном слухе ящериц и другими подобными. По поводу этих ящериц, в альманахе «1-е апреля» была напечатана насмешка над Шевыревым: только здесь вместо ящериц, кажется, выведены лягушки, которые вдобавок еще помотали главами при слушании стихов.
Шевыреву мы обязаны были подавать в известные сроки сочинения или переводы, которые раза три в год он разбирал публично — в аудитории. Помню, что я подал ему сцену между Грозным и Сильвестром после московского пожара, написанную белыми стихами — по Карамзину в более наполненную фразами, чем драматическим действием. Шевырев расхвалил ее (за что — я и сам теперь не ведаю, хоть тогда и был убежден в великом достоинстве своего труда) и даже изъявил сожаление, что юные таланты, посвящая себя юриспруденции, бросают перо… Шевырев любил фразы: он говорил красно, часто прибегая к метафоре, голосом немного нараспев: особенно неприятно читает он или, лучше, поет стихи. Иногда он прибегал к чувствительности: вдруг среди умиленной лекции появлялись на глазах слезы, голос прерывался, и следовала фраза: «Но я, господа, так переполнен чувствами… слово немеет в моих устах…» — и он умолкал минуты на две. Говорил бы он свободно, если б не любил вполне округленных предложений и для этого не прибирал бы выражений, прерывая свое изложение частыми «гм!». Ради этого «гм» вышел презабавный анекдот: Шевырев рассказывал содержание одной комедии: «Он вводит в свой кабинет и затворяет дверь — гм!» «Гм» вышло так многозначительно, что все засмеялись. На словесном факультете Шевырев читал историю литературы, теорию красноречия и поэзии, а теперь читает и педагогику. У него на руках была студенческая библиотека, т. е. составленная на пожертвования студентов, и он раздавал нам из нее читать книги; он был доступен студентам, позволял иногда спор с собою, но в то же время был и есть человек мелочно самолюбивый, искательный, наклонный к почестям и готовый при случае подгадить и по убеждениям, которые старался проводить в лекциях, — славянофил, только отнюдь не демократического направления… Степан Петрович Шевырев постоянно проповедовал, что русская натура выше всякой другой, что если другим народностям дано было разработать по частям прекрасные и возвышенные задачи человеческого образования: тому — музыка, другому — живопись, третьему — общественная жизнь и т. д., то русская народность все это соединит в одно целое — живое. Природа славянина многостороннее всякой другой, оттого менее других способна к ошибочным увлечениям и пристрастиям. Судьба русского человека велика; но краеугольным камнем русской истории, литературы и народного нашего характера была православная вера, забытая растленным западом ради земных выгод и расчетов. Она-то дает такую полноту русской народности.
Шевырев не пользовался особенною студенческою любовью; теснее сходился он с словесниками, постоянно слушавшими его; но юристов, воспитывавшихся под неприязненным ему влиянием Редкина, Кавелина и других профессоров, он не очень жаловал. Раз (я был уже на 4-м курсе) завязался у нас в аудитории горячий спор между студентами о назначении женщины и о романах Жоржа Занда; шум наш помешал лекции Шевырева, который читал в зале, примыкавшей к нашей аудитории. Он тотчас явился в нашу аудиторию сам и начал длинную речь о том, что наука любит тишину; но в это время студенты мало-помалу начали один за другим оставлять аудиторию, и оратор, боясь остаться без слушателей, поскорей закончил свою речь и, страшно раздосадованный, ушел, сопровождаемый насмешливыми взглядами студентов.
Терновский — грубый, самолюбивый и вполне проникнутый семинарским духом поп, говорил в нос и неприятно. Лекции свои читал по изданной им книге «Догматического богословия»; нравственное же богословие почти ничем не отличалось от филаретского катехизиса, кроме обилия текстов. Любопытно, как он объяснил некоторые догматы религии: «Сие, — говорил он, — можно доказать из двух источников — из разума и из откровения. Во-первых, из разума; но разум человеческий весьма часто погрешает, он несовершен, слаб и потемняется мирскими суетами и соблазнами, а посему отметаем сей нечистый источник. Во-вторых, из откровения». Тут следовали тексты, с их вчастую натянутыми объяснениями. На четвертом курсе нашего факультета он читал «Церковное право», но, увы, как читал! Будучи без всякого юридического образования, он нисколько не понимал ни важности, ни интереса порученной ему науки. Все лекции его ограничивались много-много 30-тью писаными листами. Ему назначено было в расписании читать два часа в неделю; но он приходил так поздно (и уходил всегда прежде конца), что едва ли просиживал более часа. В лекциях о церковном праве он изложил нам подробно становления вселенских и поместных соборов и святых отцов, сказал несколько слов о сборниках канонических узаконений в Византии, причем сурово отзывался о папах и их властолюбии, коверкая их имена, наприм., вместо Урбана — Урван. Одного какого-то папу и похвалил: «То был человек добросовестный, но, к сожалению, он через две недели после занятия папского престола скончался». Мы заподозрили, что если б и другие так же скоро умирали, то заслужили б не менее лестный отзыв нашего преподавателя. Далее он кратко касался постановлений, и без всякой системы, о церковных поземельных имуществах, браке священства и проч. Тут считал он обязанностью коснуться истории, но обнаружил полное с него незнакомство. Владимир, Св. Иоанн Грозный и Петр Великий — вот три лица, о которых он упомянул, перескакивая от одного к другому через целый ряд годов и удивляя нас своими смелыми скачками. Он не показал нам ни исторического развития иерархии, ни отношений между властями, ее составляющими, ни учреждений синода и консисторий, ни ответственности духовных лиц; даже не объяснил порядочно юридической стороны брака, а остановился на этом акте, доказывая, что брак есть таинство. Хорошо, да дело не в том, а и какие есть постановления о вступлении и расторжении брака, и как судятся спорные дела в этом случае. Словом, лекции эти были из рук вон плохи, что, кажется, понимал и сам Терновский. Помню один случай: Терновский прочитал (на 4-м курсе читал он всегда по тетрадке) нам лекцию, и на другой час хотел отправляться домой, как в аудиторию вошел попечитель Голохвастов и уселся слушать. Терновский, нисколько не затрудняясь, начал снова читать то, что сейчас окончил, и заставил нас вторично прослушать составленный им вздор.
На студентов Терновский взирал как на своих природных неприятелей, как на людей, готовых не почтить его сан. На экзаменах был весьма строг и даже придирчив. Он особенно прижимал тех, которые мало посещали его лекции. Теперь (1855) он читает философию! Во время экзаменов (1-го курса) из богословия присутствовал в университете викарный архиерей Иосиф: вызвали меня, и как теперь помню, какой спор завязался между Терновским и викарием по случаю ответа моего, слово в слово взятого из лекций Терновского: один доказывал, что Христос сходил в ад в славе, а другой — что в уничижении. Вот вам и средневековая схоластика.
К Фабрициусу и Гёрингу ходило очень немного студентов: иногда аудитория и совсем была пуста. Первый заставлял студентов переводить речи Цицерона и сочинения его «De republica» и «De legibus» и «Institutiones» [194] Гая, а последний свою хрестоматию. Уважением они не пользовались ни на волос. Фабрициусу раз, во время занятий с студентами в зале, другие студенты бросили с хор, при аплодисментах венок, связанный из губки и тряпья. Нарушить покой в его аудитории было для некоторых студентов предметом удовольствия. Фабрициус вскоре оставил университет. Гёринг нередко пополнял время своего урока более рассказами и анекдотами, нежели делом.
На втором курсе, кроме государственного права, мы слушали еще: a) «Историю римского права» — Крылова [195] (ординарного профессора) и не факультетские науки, b) статистику и политическую экономию — ординарного профессора Чивилева [196], c) русскую историю — Соловьева (теперь, в 1855 г., ординарного профессора), d) всеобщую историю средних веков проф. Грановского и e) логику адъюнкта ***.
Никита Иванович Крылов, по справедливости, признавался за лучшего профессора: он мастерски умел вылепить смысл юридических понятий и раскрыть их характеристические особенности с необыкновенною наглядностью и выпуклостью, так что для студентов вполне было понятно, почему римскому праву присвоено название «Ratio humana» [197]. Самый язык его изложения, несмотря на некоторые странные барбаризмы (например, «периферия личности», «амальгамироваться» и др.) и частое употребление рядом многих синонимических выражений, отличался необыкновенною точностью. Оттого мы любили слушать его лекции, и они были весьма полезны для развития нашего мышления. В последние годы он мало или почти вовсе не занимался своею наукою, лекции его каждый наступающий год были неизменным повторением лекций предыдущих годов. Но должно сказать, что и это не вредило его лекциям, составленным по трудам Нибура [198], Саваньи [199] и других знаменитостей; разработка римского права после того вновь не могла подвинуться далеко, да сверх того, лекции римского права важны были вовсе не в том отношении, о котором мечтают некоторые, думая о приложении римских институтов к современной жизни (и Крылов нисколько не гонялся за частностями и тонкостями постановлений римского права), а потому, что приучали к исторической критике и строгой логичности в выводах; для нас эти лекции заменяли философию права. Историю римского права разделял Крылов на три части: a) право обычное, теократическое, жреческое в период царей; b) право законодательное, строгое (jus strictnum) — в период республики и c) право юристов — в период империи. На третьем курсе Крылов читал римское право имущественное, а на четвертом семейное, в его полном развитии, но и здесь обращался к истории за нужными объяснениями. Особенно славился он прекрасным составлением лекций семейного права, на которое употреблено было им и наиболее трудов [200]. Крылов известен был (и справедливо) за умного профессора, но, как о человеке, о нем ходят слухи не совсем лестные; говорили о его суровой строгости и даже взяточничестве с богатых студентов; он был деканом и всем заправлял в факультете по-своему. Но я уже не застал этого властительства, потому что вскоре вместо его избрали другого декана — Баршева и случилась еще история, повернувшая все в другую сторону и заставившая Крылова сделаться мягким и даже заискивать в студентах популярности. История эта, по странной случайности, из семейной сделалась университетскою.
Крылов поссорился с своею женой, урожденною К—ш; на сестре ее женат и Кавелин; семейство Евг. К—ш (брата) было в дружеских сношениях с Грановским, Редкиным и Кавелиным. Кто виноват — Крылов или его жена, — сказать трудно; кажется, и тот и другая; но дело дошло до весьма большой размолвки, и супруги разъехались. В бедствующей супруге приняли участие сейчас названные мною; тут припомнили они и дурные слухи о Крылове, и его грубое обращение с студентами в университете, и все (Редкин, Грановский, Кавелин и В. Ф. Корш [201], бывший тогда редактором «Московских ведомостей») обратились к графу С. Г. Строганову (это было, помнится, в 1847 г.) с жалобами на Крылова и его недостойное поведение и решительно объявили, что они оставят университет, если не оставит его Крылов.
Граф Строганов, хотя и сам не совсем был доволен Крыловым, не мог согласиться на подобную протестацию. Редкин, Кавелин и Крылов прекратили лекции; первые потому, что думали оставить университет, а последний — вследствие общего шума, наделанного всей этой историей, что и продолжалось около 3-х месяцев; но потом принуждены были продолжать свои чтения, не отказываясь ни болезнию, ни другими предлогами. Молва обо всем этом ходила и по Москве, и между студентами. Когда после долгого отсутствия Кавелин и Редкин начали свои лекции, то студенты встретили их аплодисментами [202]. Платон Степанович Нахимов боялся, чтобы первая лекция Крылова не была нарушена чем-нибудь ему неприятным, и потому сам с двумя суб-инспекторами сопровождал его в аудиторию; суб-инспектора просидели все время лекции. Крылов явился худой и бледный, точно после болезни; все прошло тихо. Вскоре затем Кавелин, Редкин и Корш оставили университет и перешли на службу в С.-Петербург. (Первый в Министерстве внутренних дел, потом у Ростовцева [203] по военно-учебным заведениям, теперь (в 1855 г.) он начальник отделения в комитете министров. Редкин сначала оставался в Москве директором сиротского института, а потом, по желанию Перовского, получил место по уделам [204]. Случилось как-то странно. Грановский не вышел в отставку и продолжает до сегодня (первая половина 1855 г.) принадлежать к Московскому университету.)
Вскоре затем как Крылов стал продолжать свои лекции, он прочитал одну любопытную на 2-м курсе (я ходил туда его послушать), очевидно, направленную против Редкина и его гегельщины. Рассуждая о влиянии философских систем в Германии на изучение римской истории и права, он заметил о Гегеле, что он всякую жизнь думал подчинить своей искусственной системе; живой и самобытный организм непременно должен был пройти через три момента, а никак ни более, ни менее. Но разве можно так рубить живое явление? «Мы, когда были посланы за границу, — говорил он, — были увлечены лекциями Гегеля; в них, в самом деле, было что-то обаятельное для юношей — всякое жизненное явление как-то легко раскрывалось в процессе внутреннего его развития, и мы, лежа на диванах и бросив все положительные, практические занятия, стали мечтать о судьбах мира и строить все события и будущее человечество по троичной системе. Многие и остались в этих сладких, но обманчивых и призрачных, мечтаниях. Я скоро их оставил, и выйти из этой пустоты помогли мне только превосходные и в высшей степени проникнутые практическим смыслом лекции Савиньи. Но еще далее пошел ученик Гегеля, профессор Ганс, который всю историю человечества представлял в трех моментах: Восток — выразил собою первый момент в развитии: это момент неподвижности, покоя; древний античный мир (греки и римляне) выражали своей историей идею бесцельного и безостановочного движения; наконец, германские племена составляют 3-й высший момент единства двух первых: их движение получило определенность и назначение; плодом их развития и должно быть жизненное благо человека. После лекции мы, русские, обратились к Гансу с вопросом: что же остается на долю славянским племенам, столь многочисленным и не лишенным высших даров, уделенных человечеству. Тогда он с необыкновенною дерзостью отвечал нам, что славянскому миру остается выжидать!» [205]
В настоящее время (1855 г.) Крылов уже сошелся с своею историческою супругою.
Чивилев излагал первое полугодие политическую экономию, а другое полугодие — статистику европейских государств, и изложение его было хотя и дельно, но весьма сухо. По кафедре политической экономии придерживался он системы экономистов; о позднейших школах социалистов и коммунистов он и не заикался, да и нельзя было. Статистика его разделялась на две части: в первой подробно знакомил он с местностью разных государств Европы, что называл он «пластическим видом этих государств», и раскрывая влияние природы на политическую жизнь народов. Вторая часть состояла из числовых данных некоторых выводов. Лекции Чивилева не менялись уже несколько лет, и мы списывали их с старых тетрадок, следовательно, новости в статистических данных у него искать было нельзя. Он был директором дворянского института, а после оставил университет и перешел на службу в С.-Петербург. Место его заступил Вернадский (из Киева), который что-то не совсем ладил с профессорами своего факультета.
Кафедра русской истории после Погодина оставалась не занята. При моем переходе на 2-й курс начал читать в первый раз свои лекции С. М. Соловьев [206], воспитанник Московского же университета (и он, и Кавелин, и Калачов были некогда слушателями Погодина, который потому и после трактовал их, как своих учеников, позволяя себе не совсем учтивые выходки (см. «Москвитянин», 1849, № 1). На счет графа С. Г. Строганова С. М. Соловьев ездил за границу.
Соловьев блистательно начал свое ученое поприще. Лекции его отличались и свежестью взгляда, и фактическою полнотою; он дал смысл всей этой безурядице княжеских распрей и, хотя уже не впервые, но с особенною наглядностью объяснил родственные (родовые) и вместе политические отношения княжеской фамилии. Все им прочитанное нам составило его диссертацию на степень доктора («Об отношениях между князьями Рюрикова дома»); на следующие года, все, что прочитано было нам, он излагал вкратце, а с особенною подробностью читал историю последующего времени и потом напечатал эти лекции в «Современнике», под названием: «Обзор событий русской истории». Именно с его статьей вошло в моду выражение «родовой быт», начались усиленные о нем толки и споры, особенно с славянофилами, хотевшими видеть в славянской истории только общинное устройство. Споры эти и увлечения той и другой стороны занесены в разных журналах.
На последних (1855 г.) трудах Соловьева (особенно т. I его Истории и статьи в «Отеч. записках» о Карамзине и о географических сведениях иностранцев о России) [207] видна поспешность, и от этого в них много поверхностного. Соловьев самолюбив до излишка; с какою-то странною гордостью уверяет он, что критик на себя большею частью не читает. Еще не было примера, и вероятно не будет, чтобы он сознался в самой очевидной ошибке, и ради этой ложной щепетильности готов на всевозможные натяжки (см. хоть, например, примечание к V т. Истории его о вере в род и рожаниц). И для чего? Его ученая репутация так прочна, что подобное признание нисколько бы ее не уронило, а ошибаться — errare humanum est [208]. Почему бы не поправить указанной ему И. Д. Беляевым (в «Москвитянине») ошибки, что половцы шли на наши полки густою массою, как бор, лес (аки борове), а не как свиньи, как угодно было Соловьеву.
Т. Н. Грановский — любимый и наиболее известный профессор Московского университета. Наделенный от природы счастливою наружностью и несомненным талантом, он остроумен, любезен и обладает уменьем излагать свои рассказы в оживленных и картинных представлениях; слог его мастерский и в лекциях, и в статьях; в нем изящная простота соединяется с задушевностью и теплотою чувства; по убеждениям человек либеральный, но с тактом и умом. Он много читает, имеет прекрасную библиотеку; в обществе весьма приятен и вообще, как человек чрезвычайно образованный, умеет себя держать; как профессор, он заслужил полное уважение; на лекции его собиралось всегда много студентов с разных факультетов; публичные лекции, читанные им три раза (один раз сравнительный курс истороии Англии и Франции), посещались москвичами с особенным удовольствием и доставили профессору большую известность. Но необходимо прибавить, что Грановский страшно ленив и не усидчив для строгих ученых работ; все, что он написал, заключается в двух небольших диссертациях и в нескольких журнальных статьях (в «Библиотеке для чтения», «Современнике», «Архиве историко-юридических сведений» Калачова и альманахе «Комета»), которые, конечно, немного внесли в область науки, уже прекрасно разработанной иностранными учеными. Он только мастерски, если захочет, пользуется их трудами. […] Грановский пристрастен к карточной игре, наследовав эту страсть от своего родителя, и потому вечера проводит за зеленым сукном, подвизаясь в ералаш, крестики и палки; в клубе он играл по большой и не раз много проигрывал; любит он жизнь вести рассеянную, в разъездах по городу; знакомств у него много, и дома его осаждают многие, и студенты, и не студенты; если прибавить к этому дружеские обеды и попойки, и всегдашний долгий послеобеденный сон, то, конечно, для ученой работы времени не останется. Сколько стоило ухищрений, чтобы заставить его написать эту небольшую и весьма поверхностную статью, которая напечатана в альманахе «Комета»; тут были пущены в ход и дружеские, и родственные усилия. Время уходит преимущественно в пустой болтовне, в передаче неверных слухов и еще в менее верных пророчествах по поводу политических событий. Как человек, умеющий жить в свете, он не всегда открыто идет против чужого мнения и готов, ради дружбы и знакомства, поддержать своим голосом то, что в другое время сам же осмеял бы. Вообще искренности и откровенности в нем немного. Что хотите предложите — Грановский схватится, по-видимому, с жаром, и, конечно, дело никогда не будет сделано; попросите его за кого-нибудь, и он тотчас надает обещаний хлопотать об этом человеке, сыскать ему место или работу (иногда эти обещания дает и без всякой вашей просьбы) — и будьте уверены, что обещаний своих никогда не исполнит, даже не попытается исполнить. От этой распущенности в жизни его прекрасное лицо обрюзгло, живот начинает не в меру выдаваться вперед. Летом он проводит жизнь где-нибудь на даче или в деревне у своих приятелей и тоже мало или почти ничего не делает. Вот уже несколько лет как ему от министерства поручено составить учебник по всеобщей истории, — труд, представляющий ему большие материальные выгоды; в цензурном отношении обещана ему снисходительность. Но учебник мало подвигается вперед и будет ли приведен к концу — сомнительно [209]. В своем кружке и в отношении к журналистам он сумел себя так поставить, что все ему поклоняется, все за ним ухаживает, все трубит его славу. Студенты во время моего университетского воспитания очень любили его за его доступность, снисходительность на экзаменах (иногда уже совершенно излишнюю) и мастерское изложение лекций. Эта любовь особенно обнаружилась на диспуте Грановского на степень магистра. Им была написана диссертация, потом напечатанная в «Сборнике исторических и статистических сведений о России» (издание Валуева) о древних городах: «Волин, Иомсбург и Винета». Профессор славянских наречий О. М. Бодянский [210] загодя уже пророчил Грановскому побиение на диспуте; трудом его он был очень недоволен.
Когда бывали в университете диспуты по предметам истории и другим общеинтересным, то в зал собирались студенты со всех факультетов, являлись и окончившие курс кандидаты и действительные студенты, приходило много посторонних лиц, между ними бывало и несколько дам. Но никогда, может быть, не был так полон зал, как в этот раз; просто зал был битком набит, студенты наполнили даже хоры; на задних местах они повлезали на скамьи и столы, чтобы лучше видеть и слышать.
Когда явился диспутант, его встретили долговременными и единодушными аплодисментами. Аплодисменты вошли в обычай в университете, кажется, с началом публичных лекций, на которых публика Шевырева и Грановского встречала и провожала рукоплесканиями. Начался диспут. Бодянский высказывал свои опровержения с свойственными ему грубыми и вовсе не светскими замашками, заключив свой приговор этими словами: «Диссертация ваша так недостаточна и так составлена плохо, что я бы от студенческого сочинения потребовал больше». В эту минуту раздалось в зале общее шипение; в последующем споре, когда спорящие разгорячились и Шевырев сцепился с Редкиным по поводу философских идей Августина [211] (как эти философские идеи попали в спор — не понимаю), всякое горячее слово Шевырева и Бодянского было освистываемо с необыкновенным шумом, а противникам их посылались громкие аплодисменты. Бодянский и Шевырев несколько раз обращались со словами: «Это не театр!» — но за эти слова поплатились еще более: свист и шипение положительно не давали им ничего высказать.
По окончании диспута студенты проводили Грановского до его экипажа с восторженными криками. История эта наделала много шума и дошла в Петербург. Граф С. Г. Строганов был на диспуте и выдержал себя с отличным равнодушием; он даже ни разу не оглянулся на студенческие скамьи. Платон Степанович Нахимов с умоляющим видом тихо упрашивал студентов шипеть потише.
На другой день граф Строганов потребовал к себе депутатов от всех факультетов, сделал в лице их выговор всем факультетам, представляя, какие худые могут выйти из этого последствия и как правительство дурно смотрит на подобные протестации, и затем отпустил. Более ничего и не было. А чем бы могла разыграться эта история при другом попечителе — страшно и подумать! После министр Уваров завел было с ним речь об этом происшествии, давая заметить, что он распустил студентов вверенного ему университета, но граф с достоинством отвечал ему: «Я сам был на диспуте!» Тогда же аплодисменты в университете были запрещены, а на диспуты стали допускаться только студенты двух высших курсов — 3-го и 4-го. Впоследствии, уже при Назимове, желающие быть на диспуте должны были записывать свои имена в университетском правлении и получать оттуда билеты, за подписью ректора.
*** читал логику, придерживаясь Бонике, но, по причине болезни, посещал университет мало; всего прочел он в год лекций 25; изложение его отличалось бессвязностью и неясностью (1855 г.). Сам он чувствовал этот недостаток, потому что почти каждую лекцию заключал словами: «Конечно, для вас это теперь еще не совсем ясно, но мы постараемся выяснить сказанное нами в следующее чтение», но дело оставалось только при обещаниях. В последующие годы читал он психологию, и лекции его хвалили, но я их ни разу не слушал. Затем философские кафедры перешли к духовным лицам…
На 3-м курсе читали ординарные профессора: Ф. Л. Морошкин [212] — гражданское право, С. И. Баршев [213] — уголовное право и Лешков — полицейское право; на 4-м курсе: Морошкин — гражданское судопроизводство, а Лешков — общественное или международное право, и адъюнкт Мюльгаузен — финансовое право (которое прежде читал Чивилев); о римском праве я уже сказал.
Морошкин излагал гражданское право и судопроизводство по Своду законов, натягивая русское законодательство на постановления римского права, с которыми любил их сравнивать и постоянно восхищаясь логикою римского права. Изложение его отличалось особенным, свойственным только ему языком; он любил пестрить речь рельефными и меткими выражениями и неожиданностию их часто смешил целый курс; при этом брови его обыкновенно подымались на лоб; одною рукою потирал он лысину, а голос, и без того басистый, возвышался; фразы его были отрывисты. Рассуждая о старшинстве близнецов (что иногда признавалось важным, при наследстве), он выражался: «Ну, кто прежде вышел на божий свет, тот и старше! Близнецы фронтом не родятся!» Или описывая процесс, он говорил: «Вот Пахом схватил там какого-нибудь Семпрония за шиворот и потащил в нижний земский суд; он ведет за собой ораву свидетелей, а этот ведет еще больше, ну, станут на суд и начнут поталкиваться». В лекции о моральных юридических лицах он говорил: «Стоит в завещании: а столько-то раздать нищим. Нищим! кому же? Здесь нищие — лицо моральное. Это завещание не тому Пахому, что каждый день стоит у вашего окна я просит милостыню, в лаптях, рукавицах, весь оборванный… нет, это не ему, а нищим — именно кому, не определяется, просто нищим!»
На 4-м курсе он приносил сенатские записки и заставлял студентов решать изложенное в них дело, составляя из них все присутственные и судебные места: уездный суд, гражданскую палату и сенат; тут были и свои судьи, и секретари, и стряпчие, и прокурор; назначались от истца и ответчика поверенные студентов, которые подавали прошения, по доверенности. Мы любили посещать лекции Морошкина, потому что нам было весело слушать его неожиданные выходки. Прежде он читал «Историю русского законоведения», и, говорят, коньком его было казачество, о котором всегда говорил с особенным одушевлением и от которого производил русское дворянство, «лыцарство», к этому предмету любил он возвращаться кстати и некстати. Другим коньком его была ученая страсть всех народов обращать в славян и толковать о великорослости славянского племени, как об особенном характерном и великом его качестве. Он принадлежал той школе славянистов, против которой сражался Норманн-Погодин; статьи Морошкина, написанные в этом духе, поразительны своими странностями и нелепостями [214]. Он почти все европейские народные имена перевел словами: лес, дубина, — и все народы обратил в леших, лесных жителей. Здесь есть любопытная выходка у него. Произведя турка от turn (башня) и доказав, что башни были в древности деревянные, он восклицает: «Я не обижусь, если меня назовут турком; да, я турок, потому что я славянин!» По поводу этой лингвистической чепухи, показавшей совершенное отсутствие филологических познаний, Погодин справедливо заметил: «Чем дальше в лес, тем больше дров!»
Морошкин, несмотря на то, что в частной жизни является человеком практическим, как профессор имеет (1855 г.) столько странностей, что не оберешься. В лекциях его и в разговорах как-то непонятно путается дельная и мастерски сказанная мысль с совершеннейшим вздором. Кто бы поверил, что речь об Уложении, в которой так много дельного и нового сказано, принадлежала тому же перу, которое написало такие курьезные разыскания о славянах. О странностях Морошкина ходит весьма много характерных анекдотов. На одном литературном вечере, где были и дамы, Морошкин вздумал так занять свою соседку: «А видали ль вы нагого мужчину?» — спросил он у сидящей подле него девушки. «Нет, не видела!» — «А я видел; и нагую женщину видел. Нагой мужчина — это конь, рьяный, ретивый конь; а нагая женщина — это птица! ну, просто птица!» В другой раз на литературные вечера уже не приглашали остроумного наблюдателя. По окончании курса в Московском университете, маленький ростом Попов (А. Н. — теперь, в 1855 г., служит во II отд. собств. канц. его велич., при графе Д. Н. Блудове [215]) зашел к Морошкину проститься с ним перед отъездом из Москвы. Он уезжал на родину — в Рязань. В то время Морошкин сильно был занят доказательствами в пользу великорослости славян вообще и рязанцев в особенности. Разговорясь о рязанцах, он повторял: «Рязанцы — у! это народ великорослый, коломенской, столбовой, стоеросовый!» Потом, взглянув на Попова, спросил: «А вы тоже из Рязани?» — «Да, я рязанец», — отвечал маленький Попов. «Ну, вы еще вытянетесь!» Будучи сам высокого роста, он им всегда гордился как бог весть каким достоинством [216]. Морошкин — ярый почитатель дворянства (хотя сам и происходит от сельского дьячка); на лекциях не раз доказывал он, что законы поддерживаются пушками, штыками и квартальным надзирателем. Когда начинает он рассуждать о политике — прелесть! Когда Кошут [217] (после венгерских неудач) явился в Англии и был там принят с торжеством, Морошкин по этому поводу выразился так: «Англию давно подобает наказать за пристанодержательство, дабы впредь не повадно было…» […]
Он любил вспоминать о профессоре Сандунове, которому, по-видимому, сам старался подражать в манерах и в практических занятиях (по судопроизводству). «Сандунов! (не раз говаривал он) это был человек — практик! это была — голова. Все видел и знал! От него никуда не спрячешься. Бывало, вызовет да спросит, так у всякого поджилки трясутся! Попробуй не знать у него или отвечать не дело, так он тебя в бараний рог свернет, с грязью смешает! Вот каков был человек! Голосище здоровенный, говорит — так окна дрожат… ну, просто Юпитер-громовержец… Сандунов — это просто было урожденное превосходительство!» [218] Увлекаясь личностью Сандунова и стараясь сам прослыть практически знающим юристом, Морошкин любил употреблять подьяческие выражения: понеже и другие, и всегда защищал слово оный: «Вследствие оного отношения… У, это слово! оного — весьма важно!.. Что там ни говори журналисты и какие там насмешки ни подпускай, а юристу это словцо нужно! Оного! очень выразительно! В приказной бумаге без оного обойтись нельзя. Раз написана была так бумага от одного присутственного места в другое: „По получении сего извещения, посланного с канцеляристом Сидоровым, имеете вы его прибить у дверей присутствия и, учинив надлежащее исполнение, донести о сем немедленно“, — что же? Сведение получили, а канцеляриста Сидорова отколошматили у дверей присутствия и послали о сем донесение. А если бы стояло: „имеете вы оное прибить“, тогда ясно прибили бы присланное сведение. Это слово важное, да!»
Морошкин любит (1855 г.), чтоб ему отвечали на вопрос скоро и находчиво, и доволен такими ответами, хоть бы они были и некстати. Раз одного студента спросил он, какая была в старину у русских мера? Студент, не зная, что сказать, пренаивно отвечал: «душа — мера!» Морошкин даже подскочил от удовольствия: «Прекрасно сказано! именно душа — мера!» — и пошел носиться с этой поговоркой, как дурень с писаной торбой, а студенту поставил 5. Припоминаю еще случай. В лекциях своих Морошкин доказывал, что крепостное состояние хотя не есть рабство, но наполовину пораженное рабством, и что в России нет собственно всероссийского дворянства, а есть дворянства губернские: московское, костромское и другие, которые имеют потому и свои отдельные собрания, и капитал, и дома. На 4-м курсе двое из моих товарищей, не размыслив, что можно говорить и чего нельзя, как попугаи проболтали эти мысли, вычитанные из лекций профессора. Попечитель Голохвастов вступился и стал доказывать, что подобные мнения — вольнодумные и несправедливые, и задал распеканцию и тому, и другому студентам. Но печальнее всего было то, что Морошкин вместо всякой защиты студентов, сам напал на них с той же точки, с какой и Голохвастов.
С. И. Баршев (из семинаристов) читал уголовное право слово в слово по изданной им книге, а уголовное судопроизводство по книге брата своего (профессора в С.-Петербургском университете). Оба брата — люди ограниченные. Наш Баршев излагал свою, столько любопытную, науку весьма поверхностно, сухо, неинтересно и вдобавок наипискливейшим голосом. Он был ленивый, но добрый человек, т. е. не делавший никому ни добра, ни зла. При чтении своих лекций он только тогда одушевлялся, когда речь заходила об участии женщины в преступлении; по его личному мнению, женщину должно было за преступление наказывать вдвое сильнее, нежели мужчину, «потому что, если мужчина пьяный и развратный гадок, то женщина пьяная и развратная вдвое еще гаже!». Либерализм его не простирался дальше квартального, о невежестве которых он позволил себе отзываться открыто, говоря о недостаточности производимых ими следствий по уголовным делам. Фразы свои строил он по немецкому книжному синтаксису и, неизвестно ради чего, имел привычку предложения свои начинать длинным рядом частиц. Иногда лекция его начиналась так: «так как уже и по тому обстоятельству, что… и проч…». Примеры такой речи можно читать в его книге об уголовном праве.
Лешков (из педагогического института, был за границей) — профессор, не отличающийся особенною талантливостью; лекции его, главным образом там, где прибегал он к общим философским выводам, запечатлены были темнотой и сбивчивостью, и привычка профессора беспрерывно употреблять выражение: «и так ясно» нисколько не помогала в этом случае. Говорил он быстро глотая целые слоги. Предмет свой имел привычку дробить на рубрики и отделы, которые, впрочем, мало имели внутренней связи; хотя и мечтал он создать из полицейского права особую строго определенную систему, не соглашаясь видеть в нем яму, куда свалили все остатки (в слишком обширных размерах), которым еще ученые не нашли приличного места. Хотелось ему также убедить нас и в действительном существовании международного права, не только в той мере, в какой замечается оно в некоторых немногих общепризнанных положениях, но в самом широком смысле, как будто можно говорить о праве там, где решает сила и война. Лешков доказывал нам, что в настоящее время война даже и невозможна, что пять великих держав все решают с своего согласия и что для властолюбивых замыслов нет уже удачи, ибо против обнаружения их в одном государстве достаточно грозного слова других членов европейского международного общества. Но в том же году (1855 г.) политические события вполне доказали несостоятельность системы Лешкова. Еще странность: общенародного права он искал с самых древнейших времен истории [219].
Ф. Б. Мюльгаузен — человек весьма не глупый, довольно начитанный, но несколько ленивый, скучный и сухой; подобных господ весьма характеристически называют словом мямля. Лекции его были очень умны и интересны, но изложение отличалось сухостью; видно было, что он прекрасно воспользовался лекциями немецких профессоров в бытность свою за границей.
О профессорах других факультетов Московского университета могу сказать весьма мало; из них признавались за лучших между студентами: Рулье [220], профессор зоологии, мастер излагать интересно и общедоступно, но любивший манкировать и гуляка; Линовский [221] (читал сельское хозяйство), убитый вскоре по занятии кафедры своим слугою (мальчишкой), и П. Н. Кудрявцев [222], который читал древнюю, а теперь (1855 г.), кажется, и среднюю всеобщую историю; П. М. Леонтьев [223], заместивший Крюкова по кафедре римских древностей, известен трудолюбием, начитанностью и сухостью изложения.
И. И. Давыдов [224] (теперь, 1855 г., директор педагогического института, председатель II отд. Академии наук) такой же был на своих лекциях, как и в изданных им книгах «Чтения словесности»: тот же напыщенный метафорический язык, тот же подбор ненужных эпитетов и тот же в сущности пустоцвет. Я раза два слушал его лекции, читанные полякам и состоявшие в критике их сочинений; помню, как о «Ревизоре» Гоголя заметил он, что здесь есть сальные сцены, как, например, Хлестаков ковыряет в зубах, а лакей Осип лежит перед публикою на диване. Как о человеке, о нем носятся самые невыгодные слухи и россказни о его низкопоклонничестве и интригах. Рассказывают, что Лазарева (именем которого назван Восточный в Москве институт) он целовал в плечо; что, женившись на старости лет на молоденькой институтке и произведя на свет сына, он письменно и словесно уверял графа Сергея Григорьевича Строганова, министра Сергея Семеновича Уварова, кн. Сергея Михайловича Голицына и кн. Гагарина, каждого отдельно, что именно в честь его-то и нарек своего сына Сергеем.
О. М. Бодянский занимает (1855 г.) кафедру славянских наречий. Филолог он весьма недорогой; с позднейшими учеными приемами вовсе незнаком и лекции его никогда не отмечались большими достоинствами. Славянские наречия он, конечно, знает, но знания эти не ведут ни к чему; сам же он говорит таким странным и неправильным языком, что в нем как будто слышишь отголоски всех славянских наречий, слившихся воедино ради вавилонского смешения. Упрямый, несколько грубый, он вдобавок еще сильно кос, весьма необтесан и фигурою своею живо напоминает Собакевича, который непременно на что-нибудь наступит или что-нибудь зацепит; входя в комнату, он страшно топает своими аляповатыми сапогами, подбитыми большими железными гвоздями. Эти сапоги, кажется, работает ему не сапожник, разве плотник. Людей угадывать и определять их талантливость он далеко не мастер. На словесном факультете в мое время был горбатый и вонючий уродик Клеванов [225] (потом служил в Моск. глав. арх. мин. ин. дел), господин весьма не такой, чтобы выдумать порох. Он своими нелепыми сочинениями и толками о величии славянщины (что так нравится Бодянскому) так сумел подладиться к нему, что Бодянский присудил ему за три сочинения три золотые медали; Грановский, сколько мне известно, подписывал свое согласие, не читая рассуждений Клеванова, другие едва ли не то же делали или не желали спорить с Бодянским. Клеванов потом выдержал экзамен на магистра по русской истории написал рассуждение: «История юго-западной Руси», отдельно им напечатанное, и подал его как диссертацию на степень магистра. Но факультет признал это суждение неудовлетворительным, несмотря на поклоны Клеванова у Соловьева и Шевырева. В это время случилась с Бодянским история по Флетчеру [226], и Клеванов перестал к нему ездить: «Теперь, он мне не нужен!» — говорил он с наивною откровенностью. С тою же наивностью рассказывал о том, как после долгих хождений к Шевыреву принял его этот профессор.
«Я прихожу к нему, а он собрался куда-то ехать, уж и лошадь подана. Тут мне и сказал он: ваша, говорит, диссертация никуда не годна, просто, говорит, дрянь! Так и сказал при своем кучере и лакее… я уж хотел было ему сказать…» — «Что же вы ему сказали?» — «Ничего, я поклонился ему и ушел домой».
Я еще застал в Московском университете профессора Васильева, который вскоре оставил университет. Он читал студентам не юристам законы об учреждениях, читал или, лучше, диктовал их по тетрадке, сказывая, где нужно какие ставить знаки препинания. Это был памятник старого времени: его называли все чудаком, и еще прямее и невыгоднее отзывались о его голове. Раз мы, юристы, зашли в его аудиторию, но он до тех пор не хотел начать своей лекции, пока не упросил нас оставить его: это упрашиванье продолжалось весьма долго, ибо каждый студент уверял, что жаждет послушать его словес.
После моего ухода из университета место Редкина занял Орнатский (переведен из Харьковского университета), а место Кавелина — Калачов (Н. В.). Об Орнатском ходит много смешных анекдотов; он, например, не решился на лекции, читанной в присутствии вел. князей Михаила и Николая Николаевичей, выразиться женщина, а заменил это слово выражением: «человек женского пола»; когда к университетскому юбилею студенты пожелали издать портреты профессоров, то он серьезно упрашивал не изображать его в карикатуре, и разные другие анекдоты, свидетельствующие об его ограниченности. Читая государственные законы, он ругается над формами республиканского и конституционного правления.
Калачов — весьма достойный человек и по своему характеру, и по своим обширным сведениям, и трудолюбию необыкновенному; он прежде служил в Моск. глав. архиве мин. ин. дел и обыкновенно вставал часа в 3 утра и занимался самыми кропотливыми работами по своим изданиям. Такая усидчивость у русского человека необычайна. Прекрасные лекции его в университете отличались самою тщательною и подробною фактическою обстановкою; едва ли кто так заботливо объяснял текст памятников.
На филологическом факультете, который в последнее время (1855 г.), положительно можно сказать, есть лучший, справедливое внимание обращает теперь (1855 г.) Ф. И. Буслаев, труды которого представляют так много нового и полезного и который обещает вскоре издать русскую грамматику, составленную по памятникам и по фактам, представляемым живою народною речью. Его филологическое образование, основанное на результатах знаменитых немецких умов, весьма прочно и едва ли у нас составляет не единственный пример.
* * *
Студенты в мое время делились на кружки, которые условливались их общественным положением: кружок аристократов по фамилиям и отчасти по состоянию (здесь преобладал французский язык, разговоры о балах, белые перчатки и треугольные шляпы), кружок семинаристов, кружок поляков и кружок (самый обширный), состоявший из всех остальных студентов, где по преимуществу коренилась и любовь к русской науке и русской народности.
Большая часть студентов жила по квартирам, нанимая небольшую комнатку со столом и прислугою, иногда и чаем; некоторые жили весьма бедно; стипендии, выдававшиеся от университета, и уроки, если не могли ожидать присылок из дома от родителей, были единственными средствами им в жизни.
Москва в это время разделялась на две театральные партии, из которых одна стояла за танцовщицу Андреянову [227] (любовницу Гедеонова, директора театров) и ею восхищалась; другая же изо всех сил восторгалась Санковскою [228] и ее балетным искусством. Студенты всегда стояли за Санковскую; они ей поднесли в бенефис серебряный венок, сделанный на собранные деньги, и приветственные стихи. Сколько раз аплодисменты, которыми публика осыпала Андреянову, были нарушаемы студенческим шипением и сколько раз неистовое хлопанье студентов встречало и провожало их любимицу. Какой-то санковист (только не студент) дошел до того, что бросил из райка на сцену во время танцев Андреяновой издохнувшую кошку, за что и был выслан из Москвы.
По окончании курса в Московском университете и после некоторых неудачных попыток найти место [229] я наконец в ноябре 1849 года поступил на службу в Московский главный архив министерства иностранных дел.
ПРИМЕЧАНИЯ
[230]
Впервые: Русский архив, 1872, № 3—4, стб. 809—852 (о детских и гимназических годах) и Русская старина, 1886, № 8, с. с. 357— 394 (о годах учебы в университете). Печатается по изд.: Афанасьев А. Н. Народные русские легенды/Под ред. И. П. Кочергина. Казань. 1914, с. VII—XXX.
Поскольку в воспоминаниях Афанасьева дается подробная характеристика каждого из преподавателей университета, то в примечаниях приводятся краткие сведения об упомянутых лицах.
1 Строганов Сергей Григорьевич (1794—1882) — в 1835—1847 гг. попечитель Московского учебного округа, в 1859—1860 гг. московский военный генерал-губернатор.
2 Нахимов Платон Степанович (1790—1850) — в 1834—1848 гг. инспектор Московского университета.
3 Терновский Петр Матвеевич (1798—?) — протоиерей, настоятель университетской церкви.
4 экзерциргауз (нем.) — здание, в котором происходило строевое обучение солдат.
5 Голохвастов Дмитрий Павлович (1798—1849) — профессор Московского университета, историк. Во «Временнике общества истории и древностей» (1849 г.) издал так называемую Копшинскую редакцию «Домостроя».
6 Редкин Петр Григорьевич (1808—1891) — в 1835—1848 гг. профессор юридического факультета Московского университета.
7 Орнатский Сергей Николаевич (1806—1884) — с 1848 г. профессор юридического факультета.
8 Лешков Василий Николаевич (1810—1881) — профессор, основатель и председатель Юридического общества.
9 Иноземцев Федор Иванович (1802—1859) — известный хирург, профессор Московского университета.
10 западная партия — т. е. «западники».
11 не женируясь (фр.) — не стесняясь.
12 Крюков Дмитрий Львович (1809—1845) — специалист по римской словесности, профессор университета с 1835 г.
13 Крылов Никита Иванович (1804—1879) — с 1835 г. профессор римского права.
14 Чивилев Александр Иванович (1808—1867) — историк, статистик и политэконом. Профессор университета с 1838 г.
15 Нибур Бартольд Георг (1776—1831) — немецкий историк античности.
16 Савиньи Фридрих Карл (1779—1861) — немецкий юрист, специалист по истории римского права.
17 пандекты — свод классических сочинений юристов Древнего Рима по вопросам права, имевший силу закона.
18 Корш Валентин Федорович (1828—1883) — журналист и историк литературы. В 1856—1862 гг. редактор газеты «Московские ведомости», в 1863—1874 гг. — редактор «Санкт-Петербургских ведомостей».
19 Ростовцев Яков Иванович (1803—1860) — русский государственный и военный деятель, генерал-адъютант. Возглавлял управление военно-учебными заведениями России. Активный участник подготовки крестьянской реформы 1861 г.
20 Мюльгаузен Федор Богданович (1820—1878) — профессор университета.
21 Бодянский Осип Максимович (1808—1877) — крупный славист и археограф, профессор университета с 1849 по 1868 г.
22 Августин Блаженный (354—430) — крупный христианский теолог.
23 Морошкин Федор Лукич (1804—1854) — с 1833 г. профессор университета, специалист по гражданскому праву.
24 Баршев Сергей Иванович (1808—1882) — в 1837—1876 гг. профессор уголовного права.
25 Блудов Дмитрий Николаевич (1785—1864) — государственный деятель и дипломат.
26 Кошут Лайош (1802—1894) — борец за независимость Венгрии, руководитель революции 1848—1849 гг.
27 Малов Михаил Яковлевич (1790—1849) — профессор права Московского университета. Об известной «маловской» истории подробно рассказал А. И. Герцен в «Былом и думах».
28 Рулье Карл Францевич (1814—1858) — профессор биологии университета, сторонник эволюционизма.
29 Линовский Ярослав Альбертович (1818—1846) — талантливый ботаник, зоолог и агроном, профессор университета с 1844 г.
30 Кудрявцев Петр Николаевич (1816—1885) — историк и литератор, один из друзей Т. Н. Грановского.
31 Леонтьев Павел Михайлович (1822—1874) — профессор университета, специалист по «римским древностям».
32 Давыдов Иван Иванович (1794—1863) — профессор латинской словесности и философии.
33 Клеванов Александр Семенович (1826—1883) — историк-славист и переводчик.
34 Речь идет об издании полного перевода книги английского дипломата Джила Флетчера «О государстве русском». Перевод появился в 1848 г. в «Чтениях в Обществе истории и древностей российских при Московском университете», но был изъят цензурой и запрещен вплоть до 1905 г. В связи с публикацией сочинения Флетчера Бодянский был уволен из Московского университета (в 1848—1849 гг.).
35 Андреянова Елена Ивановна (1819—1857) — балерина, первая русская исполнительница заглавной партии в балете «Жизель». В 1843, а также в сезонах 1844/45 и 1848/49 гг. гастролировала в Москве.
36 Санковская Екатерина Александровна (1816—1878) — балерина, «душа московского балета», как ее называли современники. Среди ее восторженных почитателей были Белинский, Герцен, Фет, Салтыков-Щедрин и другие. Особенно популярна была среди демократического московского студенчества.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ОБ А. Н. АФАНАСЬЕВЕ И ЕГО ТРУДАХ
[231]
Кирпичников А. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых. — Спб., 1889. — Т. 1 — С. 860—870.
Пыпин А. Н. История русской этнографии. — Спб, 1891. — Т. II. — С. 110—132.
Грузинский А. Е. А. Н. Афанасьев (биографический очерк) // Афанасьев А. Н. Народные русские сказки. — М., 1897. — Т. I. — С. V—XL.
Савченко С. В. Русская народная сказка: (История собирания и изучения). — Киев, 1914. — С. 140—145, 325—332.
Соколов Ю. М. Жизнь и научная деятельность А. Н. Афанасьева // Народные русские сказки А. Н. Афанасьева: В 3 т. — М., 1936. — Т. I. — С. IX—LVII.
В последнее время (особенно в 60—70-е годы) в ряде исследований советских ученых биография Афанасьева была дополнена важными сведениями и пересмотрена трактовка общественных позиций и идейно-политических взглядов собирателя. Этому во многом способствовали эпистолярное наследство Афанасьева и его «Дневник. Отрывки из моей памяти и переписка», сохранившийся в рукописном фонде декабриста И. Д. Якушкина (ЦГАОР, ф. 279, оп. 1, ед. хр. 1060). К таким работам относятся:
Тонков В. А. Александр Николаевич Афанасьев: (К 120-летию со дня рождения) // Литературный Воронеж. — 1947. — № 1(16). — С. 337—360.
Азадовский М. К. История русской фольклористики. — М.: Учпедгиз, 1963. — Т. 2. — С. 73—84.
Пропп В. Я. Предисловие // Народные русские сказки Афанасьева: В 3 т. — М.: Худож. лит., 1957. — Т. 1. — С. III—XVI.
Pomeranzewa E. A. N. Afanas'ev und Brüder Grimm // Deutsches Jahrbuch für Volkskunde. — Berlin, 1963. — Bd 9. Т. 1. — S. 94—103.
Померанцева Э. В. Судьбы русской сказки. — М.: Наука, 1965. — С. 77—105.
Ельницкая Т. Из дневника А. Н. Афанасьева // Вопросы театра — М., 1965. — С. 289—293.
Эйдельман Н. Я. Тайные корреспонденты «Полярной звезды». — М.: Мысль, 1966.
Порудоминский В. И. «А не рассказать ли тебе сказку?» // Повесть о жизни и трудах сказочника А. Н. Афанасьева. — М.: Дет. лит., 1970.
Равич Л. М. Афанасьев и журнал «Библиографические записки»: (К 100-летию со дня смерти А. Н. Афанасьева) // Советская библиография, — 1971. — № 6. — С. 45—60.
Павлова В. А. А. П. Афанасьев — собиратель воронежского фольклора // Вопросы истории и филологии. — Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1972. — С. 45—56.
Лазутин С. Г. Дневник А. Н. Афанасьева // Подъем. — 1973. — № 4. — С. 153—160.
Эйдельман Н. Я. Герцен против самодержавия. Секретная политическая история России XVIII—XIX веков и Вольная печать. — М.: Мысль, 1973.
Порудоминский В. И. «Я полюбил Пушкина еще больше…»: Пушкин в «Библиографических записках». Из писем Афанасьева к Геннади). — М.: Прометей, 1974. — Т. 10. — С. 206—217.
Баландин А. И. Мифологическая школа // Академические школы в русском литературоведении. — М.: Наука, 1975. — С. 61—77.
Порудоминский В. И. Не уклоняясь от добра и правды: К 150-летию со дня рождения А. Н. Афанасьева // Новый мир. — 1976. — № 7. — С. 236—246.
Аникин В. П. Александр Николаевич Афанасьев и его фольклорные сборники // Народные русские сказки: Из сборника А. Н. Афанасьева. — М.: Худож. лит., 1978. — С. 5—19.
Письма А. Н. Афанасьева к П. П. Пекарскому/Публ. З. И. Власовой // Из истории русской фольклористики. — Л.: Наука, 1978. — С. 64—83.
Из писем А. Н. Афанасьева к М. Ф. Де-Пуле/Публ. М. Д. Эльзона // Из истории русской фольклористики, — Л.: Наука, 1978. — С. 84—93.
Левинтон Г. А. От публикатора: (Комментарии к главе монографии А. Н. Афанасьева «Илья Громовник и Огненная Мария») // Литературная учеба. — 1982. — № 1. — С. 154—157.
Иванов В. В. О научном ясновидении Афанасьева, сказочника и фольклориста // Там же. — С. 157—161.
Кирдан Б. П. А. Н. Афанасьев — фольклорист, гражданин, демократ // Афанасьев А. Н. Древо жизни. Избранные статьи. — М.: Современник, 1982. — С. 5—20.
Бараг Л. Г., Новиков Н. В. А. Н. Афанасьев и его собрание народных сказок // Народные русские сказки А. Н. Афанасьева: В 3 т. — М.: Наука, 1984. — Т. I. — С. 377—426.
Налепин А. Л. Археолог славянских древностей // Народ-художник: Миф. Фольклор. Литература. — М: Сов. Россия, 1986. — С. 3—24.
Примечания
1
Сокращенное издание вышло в 1982 г.: Афанасьев А. Н. Древо жизни: Избранные статьи/Подг. текста и коммент. Ю. М. Медведева, вступ. статья Б. П. Кирдана. — М.: Современник.
(обратно)2
Афанасьев А. Н. Народные русские сказки/Изд. К. Солдатенкова и Н. Щепкина. — М., 1855. — Вып. 1; 1856. — Вып. 2; 1857. — Вып. 3; 1858. — Вып. 1—4; 1860. — Вып. 1—4; 1861. — Вып. 5—6; 1863. — Вып. 7—8; Афанасьев А. Н. Народные русские сказки. Изд. 2-е, вновь пересмотренное/Изд. К. Солдатенкова. — М., 1873. — Кн. I—IV [посмертное]; Афанасьев А. Н. Народные русские сказки/Изд. 3-е, доп. биогр. очерком и указателями под ред. А. Е. Грузинского/Тип. т-ва И. Сытина. — М., 1897. — Т. I—II; Русские народные сказки А. Н. Афанасьева/Под ред. и с биогр. очерком А Е. Грузинского. Изд. 4-е, в 5-ти томах. Тип. т-ва И. Д. Сытина, 1913—1914. — Т. I—V; Афанасьев А. Н. Народные русские сказки/ Под ред. М. К. Азадовского, Н. П. Андреева, Ю. М. Соколова. — [Л.]: Academia, 1936. — Т. I; Гослитиздат, 1938—1940. — Т. II, III; Народные русские сказки А. Н. Афанасьева. В трех томах/Подготовка текста, предисл. и примеч. В. Я. Проппа. — М.: Гослитиздат, 1957. — Т. 1—3; Народные русские сказки А. Н. Афанасьева. В трех томах/Издание подготовили Л. Г. Бараг и Н. В. Новиков. — М.: Наука, 1984 — Т. I; 1985. — Т. II, III.
(обратно)3
Подробнее о судьбе изданий сказочного сборника Афанасьева см.: Бараг Л. Г., Новиков Н. В. А. Н. Афанасьев и его собрание народных сказок // Народные русские сказки А. Н. Афанасьева. В трех томах. — М.: Наука, 1984. — Т. I. — С. 406—425.
(обратно)4
Предполагается, что лондонское издание опережало московское и набор в московской типографии осуществлялся по печатному тексту лондонского издания, а не по рукописи. — См. Там же. — С. 391.
(обратно)5
Афанасьев А. Н. Народные русские легенды. — М., 1859. — С. VII.
(обратно)6
Там же. — С. VI.
(обратно)7
Там же. — С. V—VI. Выделено мною. — В. К.
(обратно)8
Цит. по: Иванков В. М. Изучение Афанасьевым фольклора как средства выражения народного мировоззрения // Вопросы филологии и методики исследования. — Воронеж, 1975. — С. 40.
(обратно)9
Терещенко: Быт русского народа, ч. V, с. 48. Подобное же сказание есть у немцев: см. Kinder- und Hausmärchen, ч. 2, № 194 («Die Kornähre»). Г-н Терещенко сообщает еще два предания о пчеле (ч. V, с. 46—47).
(обратно)10
Русская Беседа, 1857, кн. 3, с. 117.
(обратно)11
Записано в Херсонской губернии г-ном В. Негрескулом.
(обратно)12
Сын Отечества, 1839, № 10, с. 144—145.
(обратно)13
Записано в Харьковской губернии.
(обратно)14
Московские ведомости, 1858, № 87.
(обратно)15
Записано в Херсонской губернии г-ном В. Негрескулом.
(обратно)16
Под этим именем в Норвегии разумеется rothhaubichte Schwarzpecht.
(обратно)17
Терещенко: Быт русск. народа, ч. V, с. 47.
(обратно)18
Иллюстрация, год 2-й, статья Даля, с. 262, 333. В день Рождества Христова литвины стараются топить печи до зари, чтобы воробьи не видели выходящего из труб дыма; в противном случае птица эта сильно повредит крестьянским посевам (Черты из истории и жизни литовск. народа, с. 95).
(обратно)19
Костомаров: Об истор. значении русск. народн. поэзии, с. 85.
(обратно)20
Т. е. будут напоены, не будут мучиться жаждой, а вовсе не в том смысле, в каком это слово обыкновенно употребляется.
(обратно)21
За сообщение этого прекрасного стиха приносим благодарность П. А. Бессонову.
(обратно)22
Особенно дни от Пасхи и до Вознесения почитаются временем таких странствований Спасителя (Русск. Беседа, 1856, № 1, статья Максимовича, с. 78).
(обратно)23
Српске народне приповиjетке, с. 99—103.
(обратно)24
Плавающие поверх кружки́ растопленного масла.
(обратно)25
Westslawischer Märchenschatz. Ein Charakterbild der Bohmen, Mahrer und Slowaken in ihren Märchen, Sagen, Geschichten, Volksgesangen und Sprichwörtern. Deutsch bearbeitet von Joseph Wenzig, 1857, Leipzig, c. 90—92.
(обратно)26
Deutsche Volksmärchen aus dem Sachsenlande in Siebenbürgen, gesammelt von Joseph Hallrich. Berlin, 1856, c. 67—70.
(обратно)27
По другому списку: Спаситель в нищенских лохмотьях попросился ночевать к одному мужику, вошел в избу и лег на лавке. Спустя немного заехал туда же Марко Богатой; увидал убогаго, прогнал с лавки и сам улегся на его месте. В полночь явился под окно Михаил-архангел, постучался и спрашивает: «Господи, Иисусе Христе! здесь ли ночуешь?» — «Здесь», — говорит Господь. — «У беднаго мужика сын родился, у Марка Богатаго — дочь; Господи, каким их счастием, какой судьбою наделишь?» Отвечал Господь: «Пускай сын беднаго владеет и дочерью и всем имением Марка Богатаго».
(обратно)28
В другом списке: перебросил с руки на руку.
(обратно)29
В валахских сказках (Walach. Märchen, herausgegeben von Arthur und Albert Schott, N 6) есть одна под заглавием "Die altweibertage", в которой также упоминается о странствовании Спасителя с апостолом Петром. Злая свекровь мучает свою сноху трудными работами; наконец заставляет ее вымыть добела волну, снятую с черной овцы. С утра до вечера трудилась она, руки ее устали, а успеха не было; с горя заплакала бедная. На ту пору шел мимо Спаситель с св. Петром. «О чем ты плачешь?» — спросил ее Господь. Она рассказала. «Будь послушна матери, — возразил Спаситель, — мой и усталыми руками; да будет Бог с тобой!» Принялась она снова мыть, и мало-помалу черная волна обратилась в белую. Злую свекровь постигло наказание: раннею весною она погнала своих овец на горы и там окаменела со всем стадом.
(обратно)30
Volkslieder der Wenden in der Ober- und Nieder-Lausitz, herausgegeben van Leopold Haupt und Johann Ernst Schmaler, ч. 2, c. 175.
(обратно)31
Westslawischer Märchenschatz. Deutsch bearbeitet von Joseph Wenzig, с. 89—90.
(обратно)32
Deutsche Volksmärchen, von J. Haltrich, с. 62. Сличи с № 177 во 2-м томе "Kinder- und Hausmärchen" братьев Гримм ("Die Boten des Todes").
(обратно)33
Говорить (Опыт обл. великор[ус], словаря, с. 44).
(обратно)34
Снопы, покладенные в кучу, скирд (там же, с. 138).
(обратно)35
Петр хотел спуститься вниз, но господь велел ему лежать. Крестьянин потерял терпение, поднялся по лестнице с палкой и набросился с ней на Петра, лежавшего с краю. Но когда крестьянин спустился, пришлось ему снова ждать и звать, чужаки не шли. А Петр тем временем подумал про себя: «Если он сейчас снова придет, пусть он меня не застанет с краю», и спрятался за господа; а крестьянин пришел во второй раз с палкой и сказал: «Тот, что с краю лежит, уже получил свое, теперь другого очередь» — и дал бедному Петру второй завтрак, еще крепче первого (нем.). — Ред.
(обратно)36
Вариант: Шел Христос с 12-ю учениками, словно нищенки. Пришла они в город и попросились ночевать к богатому купцу; купец не пустил…
(обратно)37
Вариант: Собрала вдова ужинать и говорит: «Я бы вам, родимые, блинков растворила, да муки нетути». Христос отвечает: «Посмотри, может быть найдется». — «Нет, батюшки вы мои! я уж в ларе крылушком муку повымела». — «Ступай, посмотри, — опять говорит Христос, — может и найдется». Пошла вдова и видит: полон ларь муки, откуда что взялось! Принесла она муки, сделала раствор, а поутру встала и напекла блинов.
(обратно)38
Вариант: с серебром.
(обратно)39
Вариант: к купцу.
(обратно)40
Вариант: Первый колодезь приуготовлен, богатому купцу, а второй бедной вдове.
(обратно)41
Ободрался.
(обратно)42
Платья.
(обратно)43
Кушанья, ествы.
(обратно)44
Поблагодарили усердно.
(обратно)45
Свадебное гулянье, веселье.
(обратно)46
Как будто (Словарь малорос. Чужбинского, с. 21).
(обратно)47
Угощаешь (Труды Общ. люб. рос. словесн., кн. VII, с. 323).
(обратно)48
Привадишь этих старцев.
(обратно)49
Затворяться.
(обратно)50
Накричал.
(обратно)51
Оттуда.
(обратно)52
Держать себя.
(обратно)53
Дорогою.
(обратно)54
Ослабел (Словарь, приложенный к «Энеиде» Котляровского, с. 10).
(обратно)55
Богача (Словарь малорос. Чужбинского, с. 3).
(обратно)56
Бедствует.
(обратно)57
Притворился будто.
(обратно)58
Скорее.
(обратно)59
Чтобы обогнать, опередить волка.
(обратно)60
Т. е. грязью.
(обратно)61
Не сделает.
(обратно)62
Макитра — глиняный сосуд, горшок.
(обратно)63
Колодец, родник.
(обратно)64
Испугался (Словарь малорос. Чужбинского, с. 167).
(обратно)65
Убежал.
(обратно)66
С испугу (Труды Общ. люб. рос. слов., кн. VII, с. 310).
(обратно)67
Может быть.
(обратно)68
Вместо гоней (гони — мера расстояния; смотри Малоросск. словарь Чужбинского, с. 76).
(обратно)69
С испугу; ляк — испуг (см. Словарь, приложенный к «Энеиде» Котляревского, ст. 13).
(обратно)70
Неверно, непременно.
(обратно)71
Изюм (Труды Общ. любит. рос. словесности, кн. VII, с. 313).
(обратно)72
Почувствовал.
(обратно)73
Года.
(обратно)74
Мужа.
(обратно)75
Замешкался (Слов[арь] малорос. Чубжинского, с. 7).
(обратно)76
Пойдемте (Опыт обл. великор. словаря, с. 2).
(обратно)77
Так что (Опыт обл. великор. словаря, с. 74).
(обратно)78
Росстань — место, где одна дорога разделяется на две; перекресток (Опыт обл. великор[ус]. словаря, с. 192).
(обратно)79
Щепоткой, тремя пальцами (Опыт обл. великор[ус]. словаря, с. 185).
(обратно)80
Да приподнимет (Там же, с. 177).
(обратно)81
Возьмет ли его сила (Там же, с 114).
(обратно)82
Вариант: «Ну вперед же не бей ключами Николу-угодника; вот как прошиб ты мне голову!».
(обратно)83
Вариант: Пошли вместе. У Николы-угодника был мешок с лепешками. «Дай я понесу», — вызвался поп. — «Возьми, неси!» Ночью поп приел все лепешки, а в мешке дыру прорвал. Утром на другой день говорит Никола: «Давай позавтракаем». — «Да чего завтракать-та?» — «А лепешки где?» — «Видишь дыра в мешке, все по дороге рассыпались».
(обратно)84
Вариант: Взял Никола-Угодник, рассек больнаго на мелкия части, вымыл их в теплой воде, сложил опять вместе, дунул и сказал: «Встань во имя Господне!». Больной встал здравым и невредимым. Странников наградили, и пошли они дальше…
(обратно)85
Пир (т. е. задает).
(обратно)86
Труха остающаяся после льна и конопли (Опыт обл. великор[ус]. словаря, с. 91).
(обратно)87
На бедность, сиротство.
(обратно)88
Благодарить (Этнограф, сб., вып. 2, с. 116).
(обратно)89
Т. е. навозили лесу на новую избу. — Объясняя эту легенду, г-н Дмитриев говорит: «На другой год странник (дед, в виде которого являлся сам Господь) во второй раз приходит к бедняку, гладит подаренного им коня, и он снова обращается в богача, который после этого превращения заказывает навсегда и себе и детям своим гордиться и велит всегда помогать бедным».
(обратно)90
Вариант: Едет царь и видит: двое из колодца в колодец воду переливают. «Ах царь-государь! — говорят ему, — ты едешь к Богу, помолися о нас грешных: скоро ль будет нам прощение?» Едет он дальше и дальше и видит: двое из печи в печь жар выгребают голыми руками. «Ах, царь-государь! — говорят ему, — помолися о нас грешных Богу; скоро ль будет нам прощение?». Едет он все дальше и дальше: стоят двое голые и подпирают стену: «Ах, царь-государь! помолись о нас грешных Богу: скоро ль будет нам прощение?»
(обратно)91
Вариант: Отвечал Господь: «Это мучатся грешники, и не будет им прощения. Что из колодца в колодец воду переливают — то вином торговали да народ обмеривали; что из печи жар выгребают — то ростовщики, сребролюбцы; что стоят голые, стену собой подпирают — то клеветники, ябедники».
(обратно)92
Сличи с литовским рассказом (Litauischen Märchen… von А. Schleicher, с. 71—75).
(обратно)93
Подобное же мучение определено было Танталу.
(обратно)94
Чтения и пения.
(обратно)95
За этим стихом в подлинном списке следуют еще два:
Строгал он во стружачи, во мелкие, Обратилися стружачи — калены стрелы. (обратно)96
Следующие затем стихи в рукописи совершенно искажены. Смысл тот: змий грызет мать Егория, и кровь потоком бежит из ран. Егорий напускает на змия волков прискучих, волки погибают.
(обратно)97
См. статью о «Зооморфич[еских] божествах у славян» (Отеч[ественные] записки, 1852, № 2).
(обратно)98
Воронеж. губ. Ведом[ости], 1851, № 11, Владим. губ. Ведом[ости], 1844, прибавл. к № 52.
(обратно)99
Малорос. и галиц. загадки, с. 8, 39. «Когда гремит гром, тогда по небу ездит Илья-пророк или Господь». В Нижегородской губернии, когда гремит гром, говорят: «Илья великий гудит!» В скопческой песне поется:
У нас было на сырой земле — Предворилися такия чудеса: Растворилися седьмыя небеса, Сокатилися златыя колеса, Золотыя, еще огненныя. Уж на той колеснице огненной Над пророками пророк, сударь, гремит, Наш батюшка покатывает, Утверждает он святой Божий закон. Под ним белой, храброй конь; Хорошо его конь убран, Золотыми подковами подкован. Уж и этот конь не прост: У добра коня жемчужной хвост, А гривушка позолоченная, Крупным жемчугом унизанная; В очах его камень-маргарит, Из усть его огонь-пламень горит.(Исследов. о скопческ. ереси, соч. Надеждина, 1845, см. Прилож., с. 47—48).
(обратно)100
Иллюстрация, год 1, статья Даля, с. 250.
(обратно)101
Прибавл. к Известиям Акад[емии] наук по 2-му отделению, 1852, с. 47.
(обратно)102
Воронеж. губ. Ведомости, 1851, № 11; Терещенко: Быт русск[ого] народа, ч. IV, с. 49—50.
(обратно)103
Снегирева: Русск[ие] в своих пословицах, ч. IV, с. 20, 65; Сахарова: Сказания русск[ого] народа, т. I, (песни), с. 274.
(обратно)104
Српске народне пjесме, кн. 1, с. 155—157. Гримма: Deutsche Mythologie, с. 158; Норк: Andeutung einer sistems der Mitholog., с. 237.
(обратно)105
Шевырева: Поездка в Кирилло-Белозерский монастырь, ч. II, с. 66—67. Терещенко: Быт. рус[ского] народа, ч. VI, стр. 49—50.
(обратно)106
Отеч[ественные] записки, изд. Свиньина, 1826 г., ч. XXVIII, № 79, с. 166. Москвитян[ин], 1853, № 11, с. 64 (Внутрен. известия).
(обратно)107
В другом списке: Как достать денег? И надумал он пойти ночью к болоту и попросить у чертей. Дождался полночи, пришел к болоту и подает голос нечистому: «Возьми, говорит, мою душу, только дай двадцать рублев». Отвечает ему нечистой: «Ступай домой, доброй человек! Нам твоей души не надобно. Много вашей братьи голышей сюда таскается; если всем давать деньги, так самим придется щелкать зубами! Мы и на господ-то напастись не можем, а то еще вам давай!» Воротился мужик домой с пустыми руками.
(обратно)108
Вариант: Снял образ со стены, положил у порога и давай в грязь топтать. Идет мимо купеческой сын…
(обратно)109
Вариант: Жил-был бедной мужик Нестерка, а детей у него была шестерка…
(обратно)110
В одном списке вместо Егория выведен св. Петр.
(обратно)111
Вариант: Только что уехал Егорий, мужик Нестерка продал золотое стремено да купил себе хлеба и всякаго харчу, и с той поры завсегда у кого что ни возьмет — а уж непременно затаит и забожит.
(обратно)112
Не почтила.
(обратно)113
Женская одежда (Опыт. обл. великор. словаря, с. 269).
(обратно)114
Мочка — прядь льна или поскони (Там же, с. 117).
(обратно)115
Терещенко: Быт русск[ого] народа, ч. VI, стр: 56, Чтения Общ. истории и древн. риссийск., год. 3-й, № 9, с. 210, 221 и 224.
(обратно)116
Православн[ый] Собеседник, 1859, № 2, с. 188.
(обратно)117
Акты юридические, № 358; Акты Запад[ной] Руси, т. IV, № 22. У болгар также не прядут по пятницам (Архив историко-юридич. сведений, т. II, статья Буслаева, с. 42).
(обратно)118
Сахарова: Сказания рус[ского] народа, т. II, с. 97, 101: Снегирева: Простонар[одные] русск[ие] праздники, ч. I, с. 188—189; Терещенко: Быт. русс[кого] народа, ч. VI, с. 56; Маяк, 1843, т. XII, с. 7 и 1844, т. XIII. Вестн. Геогр. Общества, 1853, кн. 3, с. 5: Полтавск. губ. Ведом[ости], 1845, № 24 — часть неофициальная; Абевега рус[ских] суеверий, с. 275.
(обратно)119
Православ[ный] Собеседник, 1859, № 2, с. 196.
(обратно)120
Рязанск. губ. Ведомости, 1846, № 6 — часть неоф.: Макарова: Русские предания, ч. I, с. 22—26; Терещенко: Быт. русск[ого] народа, ч. VI, с. 58—59.
(обратно)121
Иллюстрация 1846 г., с. 648 — статья Даля; Воронежск. губ. Ведом[ости], 1851, № 11. Равным образом и в другие праздничные дни запрещается прясть: это грех неотмолимый, но сматывать нитки и сучить их не считается за грех. Женщины не оставляют пряжи на веретенах в воскресенье и праздники, чтобы не рвались нитки. На масленицу не прядут, чтобы мыши не грызли ниток и чтобы холсты не были гнилыми. В Литве, приготовляясь к светлому празднику, поселяне стараются прибрать и вычистить свои избы до страстного четверга, а с этого дня до самой Пасхи не принимаются за эту работу, боясь, чтобы лежащему во гробе Христу не засорить глаз; в то же время старательно прячут веретена и прялки и перестают заниматься пряжею. (Вестн. Геогр. Общества 1853, кн. I, с. 60. Иллюстрация, год 2-й, с. 262; Пузины: Взгляд на суеверия, с. 154, Ворон. губ. Вед[омости], 1851, № 11; Черты из истории и жизни литовск. народа, с. 93).
(обратно)122
Снегирева: Простонар. русск[ие] праздники, ч. IV, с. 118; ч. I, с. 48.
(обратно)123
Мочальная или веревочная узда (Опыт обл. великор. словаря, с. 135).
(обратно)124
См. статью: Мифическая связь понятий света, зрения, огня, металлов и проч. (в Архиве историко-юридич. сведений о России, т. 2, половина 2-я).
(обратно)125
Русск[ая] Беседа, 1856, т. 3, с. 74; статья Максимовича.
(обратно)126
Крик петуха, предвозвещающий восход солнца, прогоняет нечистых духов. Сличи с Kinder- und Hausmärchen, ч. 2, с. 519.
(обратно)127
Вариант: в ад.
(обратно)128
Вариант: Взял шнур, вынул из ранца кусок мела, намелил шнур и стал размерять пекло.
(обратно)129
Вариант: Хочу собор построить: придет табель, некуда и в парад идти!
(обратно)130
Вариант: Поставил Бог солдата у райских дверей: «Смотри, приказывает, никого не пропускай!» — «Слушаю; стараго солдата нечего учить». Вот стоит он на часах, никого не пропускает. Идет Смерть. «Кто идет?» — окликает солдат. — «Смерть». — «Куда?» — «К Богу». — «Зачем?»…
(обратно)131
Вариант: Грызи старой лес, которой сто лет на корню простоял.
(обратно)132
Вариант: Средних людей.
(обратно)133
Вариант: Грызи средний лес.
(обратно)134
Вариант: Идет чуть живая: только ветер подует — так от ветру валится!
(обратно)135
Вариант: Велел Господь солдату кормить Смерть орехами, чтоб она поправилась. Пошел солдат с нею в лес, и заспорил: «Ты де не влезешь в пустой орех!» Смерть сдуру и влезла, а солдат заткнул дырочку (в орехе) колышком, спрятал орех в карман, и пошел на старое место.
(обратно)136
Вариант 1. Служил солдат двадцать пять лет и выслужил три денежки. Идет на родину, а навстречу ему сам Господь с двенадцатью апостолами. Подходит Христос в нищенском образе и просит милостину. «Что ж тебе подать, старичек, — говорит солдат, — хлеба у меня нет ни куска, вот тебе денежка — прими Христа ради!» Пошел солдат своей дорогой, а Господь зашел вперед, повстречал его и спрашивает: «Скажи, служивой; чего желаешь?» Апостолы говорят: «Проси, солдат, царства небеснаго!» А он в ответ: «Я двадцать пят лет служил своим умом, и теперь не хочу слушать чужаго разума! Дай мне, — говорит, — кисет табаку». Дал ему Господь кисет табаку. На другой день идет Христос и по-прежнему просит у солдата милостину; отдал ему солдат и другую денежку. Пошел солдат своей дорогой, а Господь зашел вперед, навстречу ему, и опять спрашивает: «Скажи, служивой, чего желаешь?» — «Проси царства небеснаго!» — говорят апостолы. — «Не хочу жить чужим умом», — отвечал солдат, — дай мне кошель с деньгами». Дал ему Господь кошель с деньгами. На третий день идет Христос и опять просит у солдата милостину, отдал ему солдат и последнюю заслужоную денежку. И в третий раз зашел Господь ему навстречу и спрашивает: «Скажи, служивой, чего желаешь?» — «Проси царства небеснаго!» — говорят апостолы. — «Что вы учите! — сердито закричал солдат, — сказал вам, что не хочу чужим умом жить — и не приставайте! Вишь, своим умом-то я выпросил кисет табаку да кошель денег, и сколько табаку ни курю, сколько денег ни беру — все не убывает!» Была у солдата порожняя сума, вот он ее ухватил и говорит Христу: «Пущай по моему слову будет она полна, чем пожелаю!» — «Ну, пущай!» — сказал Христос и пошел с апостолами своей дорогой.
Вариант 2. Выслужил солдат три сухаря и пошел домой. Идет, а навстречу ему Господь с апостолом Петром. «Служивой, дай чего-нибудь перекусить нам!» Солдат дал им по сухарю, себе оставил третий. «Спасибо!» — и пошли они в разныя стороны. Вот Господь и говорит апостолу Петру: «Ступай, нагони солдата и спроси, чего от Бога желает?» Нагоняет апостол Петр солдата, а солдат увидал его и кричит: «Что, брат, аль за третьим сухарем идешь? У самого один остался, и не проси — не дам!» — «Нет, служивой! скажи-ка, чего ты от Бога желаешь?» — «Чего желаю? да только колоду карт, да еще коли на что погляжу и вымолвлю: по Господневу слову полезай в ранец! — чтоб все туда и лезло».
(обратно)137
Вариант 1. Жил-жил, и пришло ему время умирать. Посылает Господь ангелов вынуть его душу. Вот ангелы взяли солдатскую душу, понесли по мытарствам, и спрашивают у Бога: куда прикажет эту душу — в рай или ад? «Посадите ее в муку вечную, — сказал Господь, — она сама отказалась от царства небеснаго!» Посадили солдата в му́ку вековечную. Вот он осмотрелся и видит: висят кругом котлы с горячею смолою, а в котлах грешныя души мучатся, плачут и скрежещут зубами. Обступили солдата черти: «Ну, служивой, пора тебе в котел отправляться!» — «Вы меня котлом не стращайте, а давайте-ка лучше играть в карты». — «Нет, брат, полно! мы с тобой играть не станем». — «А вот же врете: станете играть, только торбу вам показать…». — «Ништо она с тобою?» — «Со мною». Перепугались черти: «Давай, служивой, карты!» Вот и стали они играть на грешныя души. Солдат обыграл. «Ну, теперь ты здесь хозяин!» — сказали ему черти. А он тому и рад, повыпускал из котлов все грешныя души, построил их по-солдатски в три шеренги и повел прямо к райским дверям. «Отпирай ворота!» — кричит солдат. Апостол Петр говорит: «Постой, пойду у Бога спрошу». — «О чем же ты прежде думал?» Пошел апостол Петр к Богу: «Господи! — говорит, — пришел к райским дверям солдат и привел с собой из пекла многое множество грешных душ». — «Прими от него по счету, а самаго не пущай в рай». Вот апостол Петр отпер райския двери и стал примать души — всё по одной. А солдат: «Эх, брат, ты и считать не умеешь! а ты вот как считай: раз, два, три — ступай туды! раз, два, три — и я туды!» — и полез было в рай; апостол Петр схватил его за руку: «Нет, говорит, погоди! ты сам не пожелал себе царства небеснаго, на себя и пеняй!»
Вариант 2. Посадили солдата в ад, увидал он у чорта два большие ключа и спрашивает: «Что это за ключи?» — «Один от котла, другой от холодной горницы». — «А там что?» — «В котле кипят грешные души, а в холодной горнице мерзнут…» — «Давай играть в карты на эти ключи!» — «Давай!» Солдат выиграл ключи и повыпускал на волю все грешныя души. Пришел чорт: «Служивой! куда девал ты грешныя души?» Солдат показывает себе на грудь и говорит: «Во̀тана грешная душа!» Побежал чорт к своим товарищам: «Ну, братцы! солдат все грешныя души поел! пожалуй, и до нас доберется». И тут же выгнали его из пекла. Собрал солдат всех выпущенных из котла и холодной горницы грешников и повел в царство небесное. «Кто идет?» — спрашивают солдата. — «Я с грешными душами». — «Сюда грешных не принимают: здесь рай!» — «Знаю, что край, от того и не иду дальше…»
(обратно)138
Вариант: Ездил Аника-воин по чистым полям, по темным лесам, никого не наезжал, не с кем силы попробовать. «С кем бы мне побиться? — думает Аника-воин, — хоть бы Смерть пришла». Глядь — идет к нему страшная гостья: тощая, сухая, кости голые! и несет в руках серп, косу, грабли и заступ.
(обратно)139
Сличи с легендою под № 21 («Пустынник»).
(обратно)140
В русской легенде наоборот: если Смерть станет в ногах больного — он выздоровеет, а если в головах — то умрет. То же и в рассказе, записанном г-ном Максимовичем, о «Мужике и Смерти» (смотри ниже).
(обратно)141
Несколько снопов хлеба, складенных в кучу (Опыт обл. великор. словаря, с. 221).
(обратно)142
См. также: Этнограф. сб., вып. 2, с. 57.
(обратно)143
Рукописи слав. и росс., принадл. почетному гражданину И. Н. Царскому, разобраны и описаны П. Строевым, с. 434.
(обратно)144
Между русскими солдатами ходит рассказ о том, как Никола-угодник прогневался за что-то на них и сказал: «Век вы будете учиться, и не выучитесь; век вы будете чиститься и не вычиститесь!»
(обратно)145
См. интересный рассказ о превращении горячих угольев в золото на светлый праздник — в «Картинах русского быта» В. И. Даля (Отечеств[енные] Зап[иски], 1857, № 10, с. 430—434). Объяснение этого предания можно найти в статье моей о мифической связи понятий: света, зрения, металлов и проч. (Архив историко-юридич. сведений о России, т. 2, половина 2).
(обратно)146
Рукописи славянские и русские И. Н. Царского, разобраны и описаны П. Строевым, с. 552.
(обратно)147
В рукописи: «царь же поедиша».
(обратно)148
В рукописи прибавлено: «царь».
(обратно)149
В рукописи: «убити».
(обратно)150
В рукописи: «нарицается ее ми».
(обратно)151
В рукописи прибавлено: «а правда».
(обратно)152
В рукописи вставлено здесь: «велел».
(обратно)153
В рукописи вместо этого слова стоит: «царь».
(обратно)154
В другом списке ангел спрашивает царя Аггея: «Правду ли в церкви поют: богатые обнищают и взалкают?» Царь говорит: «Справедлив этот стих; каждую службу велю его петь, лишь бы Господь меня простил». Ангел отдал ему царское платье, и исчез. Царь Аггей опять сел на царство, рассказал свое похождение в заповедал всякую службу петь стих: богатые обнищают и взалкают.
(обратно)155
Рукописи славянские и русские И. Н. Царского, разобраны и описаны Строевым: с. 496, 610. Пыпин: Оч. литерат. ист. старин. повестей и сказок, с. 185, 196—197. Равным образом и легенда о царевиче Евстафии (№ 23) носит на себе следы книжного происхождения.
(обратно)156
Вариант: Пустил пан стрелу — мимо, пустил другую — не попала, пустил третью — и та не угодила. Поскакал он за зверем, быстро несется на коне…
(обратно)157
Вариант: Нанялся ангел у мужика три года работать; выработал три рубля, пошел на базар, накупил калачей и роздал нищим. Видит он: едут два мальчика и упал лицом наземь, а после набрал камней и давай метать на избу. Вот стали его спрашивать: «Скажи, человече, зачем ты лицом упал наземь?» — «А за тем, что ради этих мальчиков Бог отнял у меня ангельские крылья». — «А зачем метал на избу каменья?» — «За тем, что хозяева на ту пору обедали, и я отгонял от них дьявола».
(обратно)158
Перёд — передний угол, почетное место в избе (Опыт обл. великор. словаря, с. 155).
(обратно)159
В «Карманной книжке для любителей русской старины и словесности» (Спб., 1832, изд. 2-е, с. 294—345) народная легенда о кающемся разбойнике переделана г-ном Олиным в повесть, но весьма неудачно.
(обратно)160
См. легенду «Пустынник» (№ 21) и друг[ую] лубочн[ую] карти[нку]: «О пиянстве сказать без примесу — от мастеровых вдался бесу».
(обратно)161
Русск[ий] Вест[ник], 1856, № 13, с. 21—23 (статья г-на Буслаева). Сличи с легендой о Ное Праведном (№ 14). См. также «Очерк литерат. ист. старинных повестей и сказок» Пыпина, с. 204-205.
(обратно)162
Вариант: «пошел пир горою».
(обратно)163
Очевидно, выписана из какого-нибудь рукописного сборника, но, к сожалению, сведений об этой рукописи не сообщено.
(обратно)164
Портной послушался, когда же святой Петр отошел как-то от двери, он встал, с любопытством обошел все уголки неба и осмотрелся. Наконец он подошел к месту, где стояли четыре дорогих красивых стула, посередине — всё из золота, кресло, усыпанное сияющими драгоценными камнями; оно было намного выше, чем другие стулья, а возле него — золотая скамейка для ног. Это было кресло, на котором сидел господь, когда он был дома, и с него он мог видеть все, что происходило на земле (нем.). — Ред.
(обратно)165
и заметил старую безобразную женщину, которая стояла у ручья и стирала, а две накидки припрятала. Портной так разозлился, что схватил золотую скамейку для ног и бросил ею с неба на землю в старую воровку. «Ах, ты негодник, — сказал Господь, — если бы я правил так, как ты думаешь, что бы тогда было? У меня уже давно не было бы стульев, скамеек, кресел, не было бы здесь даже ухвата для печи, — все было бы сброшено на грешников! Отныне ты не можешь больше оставаться на небе. Уходи прочь туда, откуда пришел! Здесь никто не должен наказывать, так как Господь один — я» (нем.). — Ред.
(обратно)166
О странствовании портного на небо см. немецкую сказку в Kinder- und Hausmärchen, N 35.
(обратно)167
Зооморф. божества у славян в Отечеств[енных] записк[ах], 1852, № 3, с. 17—18; Черты из истории и жизни литовского народа, с. 93; Маяк, 1844, т. XIV.
(обратно)168
Вариант: Жил себе дед да баба. Раз ели они горох и уронили под пол одну горошину. Стала она рости, росла-росла, и выросла до самаго потолка. Дед разобрал и крышу, и потолок, а горошина взяла рости до самаго неба. Полез дед на небо…
(обратно)169
Ручная мельница.
(обратно)170
Все даты даются по старому стилю. — Ред.
(обратно)171
Составлен Ю. И. Смирновым по «Сравнительному указателю сюжетов. Восточнославянская сказка». Л.: Наука, 1979. Номер сюжетного типа, заключенный в скобки, означает частичное соответствие типу, прочерк — отсутствие его в указателе.
(обратно)172
Впервые опубликовано в журнале «Современник» (1860, кн. LXXX). В 1914 г. статья была перепечатана в книге: Афанасьев А. Н. Народные русские легенды. Казань. — С. 203—228; печатается по этому изданию.
(обратно)173
Печатается по: Афанасьев А. Н. Народ-художник: Миф. Фольклор. Литература. — М., Сов. Россия, 1986, — С. 259—319.
(обратно)174
знает, не знает, посредственно (лат.). — Ред.
(обратно)175
неведомая земля (лат.) — Ред.
(обратно)176
стол (лат.). — Ред.
(обратно)177
господин (лат.). — Ред.
(обратно)178
следующий (лат.). — Ред.
(обратно)179
Старшой назначался инспектором из лучших учеников: он хранил журнал класса и обязан был, в отсутствие учителя, наблюдать за тишиною.
(обратно)180
«Отче наш» — католическая молитва (лат.). — Ред.
(обратно)181
Строганов Сергей Григорьевич (1794—1882) — в 1835—1847 гг. попечитель Московского учебного округа, в 1859—1860 гг. московский военный генерал-губернатор.
(обратно)182
Нахимов Платон Степанович (1790—1850) — в 1834—1848 гг. инспектор Московского университета.
(обратно)183
Терновский Петр Матвеевич (1798—?) — протоиерей, настоятель университетской церкви.
(обратно)184
экзерциргауз (нем.) — здание, в котором происходило строевое обучение солдат.
(обратно)185
Голохвастов Дмитрий Павлович (1798—1849) — профессор Московского университета, историк. Во «Временнике общества истории и древностей» (1849 г.) издал так называемую Копшинскую редакцию «Домостроя».
(обратно)186
Редкин Петр Григорьевич (1808—1891) — в 1835—1848 гг. профессор юридического факультета Московского университета.
(обратно)187
В этом институте были: Орнатский 7, Лешков 8, Иноземцев 9, Грановский и другие.
(обратно)188
Он был и в Испании.
(обратно)189
Которое также делилось и подразделялось на неминуемые три части.
(обратно)190
западная партия — т. е. «западники».
(обратно)191
не женируясь (фр.) — не стесняясь.
(обратно)192
Крюков Дмитрий Львович (1809—1845) — специалист по римской словесности, профессор университета с 1835 г.
(обратно)193
Первое время по возвращении из-за границы он, говорят, только и бредил Италией и не раз читывал на своих лекциях итальянских поэтов, не думая о том, что стихов этих никто из слушателей не понимал.
(обратно)194
«О государстве», «О законах» и «Институции» (лат.). — Ред.
(обратно)195
Крылов Никита Иванович (1804—1879) — с 1835 г. профессор римского права.
(обратно)196
Чивилев Александр Иванович (1808—1867) — историк, статистик и политэконом. Профессор университета с 1838 г.
(обратно)197
Разум человеческий (лат.). — Ред.
(обратно)198
Нибур Бартольд Георг (1776—1831) — немецкий историк античности.
(обратно)199
Савиньи Фридрих Карл (1779—1861) — немецкий юрист, специалист по истории римского права.
(обратно)200
Прежде требовал он от студентов чтения пандектов 17, в мое время это прекратилось.
(обратно)201
Корш Валентин Федорович (1828—1883) — журналист и историк литературы. В 1856—1862 гг. редактор газеты «Московские ведомости», в 1863—1874 гг. — редактор «Санкт-Петербургских ведомостей».
(обратно)202
В это время уже аплодисменты были строго воспрещаемы; Редкин, напуганный всеми толками, став в гордую чиновничью позу и сухо объявил, что аплодисментов не нужно. По этому поводу наш IV курс послал к нему депутатом одного студента сказать от лица юристов, что он…, что и было сказано. Как теперь помню, как взбесился Редкин: он при мне приезжал к Кавелину посоветоваться с ним по этому поводу; но тот объявил ему, что он сам виноват, принявшись за полицейские увещания, но что со своей стороны он уже передал студентам, что их сочувствие ему дорого и он благодарит их за встречу.
(обратно)203
Ростовцев Яков Иванович (1803—1860) — русский государственный и военный деятель, генерал-адъютант. Возглавлял управление военно-учебными заведениями России. Активный участник подготовки крестьянской реформы 1861 г.
(обратно)204
Говоря о лекциях П. Г. Редкина, я забыл заметить, что он любил щегольнуть начитанностью и потому, указывая на источники своей науки, всегда исчислял нам бесконечное количество сочинений на всевозможных языках. Он проповедовал, что так как наука едина, то для того, чтобы знать основательно один предмет — необходимо изучать и все другие; крайность такого взгляда ярко сказалась в его речи о том образовании, какое требуется от современного юриста. По смыслу этой речи положительно никто не сможет быть образованным юристом, хоть будь семи пядей во лбу и хоть занимайся науками 50 лет. Таковы требования профессора-энциклопедиста.
(обратно)205
В лекциях своих Крылов прекрасно излагал нам различные воззрения на владение, опровергал их и в заключение предлагал свое воззрение на владение, но это воззрение было составлено им из смеси частей, оторванных от чужих воззрений, им же опровергаемых.
(обратно)206
Мне выпало прослушать первогодичные курсы Соловьева, Кавелина, NN и Мюльгаузена 20.
(обратно)207
Эта последняя статья есть чистый перевод отрывков из разных иностранных писателей о России, сшитых на живую нитку.
(обратно)208
Человеку свойственно ошибаться (лат.). — Ред.
(обратно)209
Лекциями Грановский довольно часто манкировал и манкирует, сваливая свой грех на какую-то болезнь. Когда я был на 2-м курсе, случилось, что он прочитал нам одну и ту же лекцию три раза сряду, потому что промежутки между этими 3 разами появления его в университетской аудитории были весьма продолжительны и он успевал забыть, что читал в предыдущий раз. Под конец он так часто манкировал, что мы, не видя возможного окончания его курса и думая о приближающихся экзаменах, а с другой стороны, и недовольные постоянным пропуском лекций, решались перестать остальное время приходить на его лекции. Как нарочно, тогда-то и явился Грановский и, не найдя никого в аудитории, сильно оскорбился, и в следующий затем раз, явившись в аудиторию, сделал нам упрек, что ничем не заслужил такого невнимания, и тем закончил свои лекции.
(обратно)210
Бодянский Осип Максимович (1808—1877) — крупный славист и археограф, профессор университета с 1849 по 1868 г.
(обратно)211
Августин Блаженный (354—430) — крупный христианский теолог.
(обратно)212
Морошкин Федор Лукич (1804—1854) — с 1833 г. профессор университета, специалист по гражданскому праву.
(обратно)213
Баршев Сергей Иванович (1808—1882) — в 1837—1876 гг. профессор уголовного права.
(обратно)214
См. «Россия великогерманская» и «О сочинениях Венелина» в «Отеч. записк.» 1841 года; прибавления к изданному им сочинению Рейца и исследование о происхождении и расселении славян.
(обратно)215
Блудов Дмитрий Николаевич (1785—1864) — государственный деятель и дипломат.
(обратно)216
Вот любопытный отзыв его о Кавелине в том же духе: «Кавелин!… У! Это человек знающий, деловой!.. читал много!.. ну, а профессором ему быть не следовало!»
— Да почему же, Федор Лукич, — спрашивали его, — вы сами же говорите, что он знающий и начитанный.
— Не спорю, — он — талант! большой талант!.. ну, а профессором быть не может!
— Да отчего же?
— Ростом мал!»
(обратно)217
Кошут Лайош (1802—1894) — борец за независимость Венгрии, руководитель революции 1848—1849 гг.
(обратно)218
В университете в мое время мало было воспоминаний о старых профессорах: слышал только анекдотические рассказы о Малове27, который будто делил право на нравоучительное, поучительное и нравственное; о Терновском (читал логику), который будто, определив способность воображения, в пример всегда приводил: «Представьте себе, что казак с пикою скачет по карнизу дома — вот вам и воображение». Об одном профессоре философии (Якубович?) рассказывали, что он так определял скептицизм: «Мужик ведет на веревке поросенка, а прохожий, встретив его, говорит: полно, так ли? не поросенок ли ведет мужика! — вот — скептицизм». Еще о Ловецком, профессоре зоологии, рассказывали, что он однажды перепутал листки, по которым читал, и перепрыгнул незаметно с зайца на льва: заяц оказался у него с гривой, когтями, кровожадным и пр., а явившись на следующий раз, он так поправил ошибку: «Все сказанное мною в прошлый раз о зайце — относи ко льву», — и затем прочитал снова о зайце — что следовало.
При мне (да и теперь, в 1855 г., кажется) был швейцаром в университете старик Михайло, давно уже служащий при университете; он был говорливый старик и шутник; со всеми студентами и профессорами (которых почти всех помнит студентами) обращается свободно и попросту. Он рассказывал о старом времени Московск. универс., что порядка бывало немного: студенты ходили не совсем в опрятных и целых костюмах; в аудитории на лекции приносили с собой закуску и водку; буянство бывало нередко.
(обратно)219
В лекциях своих он постоянно касался фактов, предлагаемых памятниками русской истории.
(обратно)220
Рулье Карл Францевич (1814—1858) — профессор биологии университета, сторонник эволюционизма.
(обратно)221
Линовский Ярослав Альбертович (1818—1846) — талантливый ботаник, зоолог и агроном, профессор университета с 1844 г.
(обратно)222
Кудрявцев Петр Николаевич (1816—1885) — историк и литератор, один из друзей Т. Н. Грановского.
(обратно)223
Леонтьев Павел Михайлович (1822—1874) — профессор университета, специалист по «римским древностям».
(обратно)224
Давыдов Иван Иванович (1794—1863) — профессор латинской словесности и философии.
(обратно)225
Клеванов Александр Семенович (1826—1883) — историк-славист и переводчик.
(обратно)226
Речь идет об издании полного перевода книги английского дипломата Джила Флетчера «О государстве русском». Перевод появился в 1848 г. в «Чтениях в Обществе истории и древностей российских при Московском университете», но был изъят цензурой и запрещен вплоть до 1905 г. В связи с публикацией сочинения Флетчера Бодянский был уволен из Московского университета (в 1848—1849 гг.).
(обратно)227
Андреянова Елена Ивановна (1819—1857) — балерина, первая русская исполнительница заглавной партии в балете «Жизель». В 1843, а также в сезонах 1844/45 и 1848/49 гг. гастролировала в Москве.
(обратно)228
Санковская Екатерина Александровна (1816—1878) — балерина, «душа московского балета», как ее называли современники. Среди ее восторженных почитателей были Белинский, Герцен, Фет, Салтыков-Щедрин и другие. Особенно популярна была среди демократического московского студенчества.
(обратно)229
Между прочим, обращался я и к Морошкину как директору практической коммерческой академии; здесь открывалось место учителя законоведения. Он мне откровенно сказал: «Я уж имею в виду посадить на это место своего родственника!» — потом усадил меня и начал потчевать своими отзывами о других профессорах. Помню, что о Крылове отозвался он: «Никита — себе на уме! Э! Никита не промах!», а о Кавелине: «Это — гвоздь — куда хочешь можно вбить — везде пригодится».
(обратно)230
Подготовил А. Л. Налепин. Печатается по: Афанасьев А. Н. Народ-художник: Миф. Фольклор. Литература. — М., Сов. Россия, 1986 — С. 357—359.
(обратно)231
Печатается на основе списка, составленного Л. А. Барагом, Н. В. Новиковым для издания Народные русские сказки А. Н. Афанасьева: В 3 т./Издание подготовили Л. А. Бараг и Н. В. Новиков. — М.: Наука, 1984. — Т. I — С. 427—428.
(обратно)


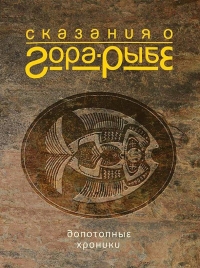



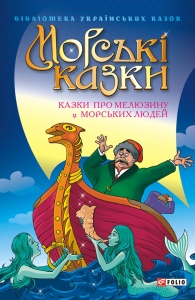
Комментарии к книге «Народные русские легенды А. Н. Афанасьева», Александр Николаевич Афанасьев
Всего 0 комментариев