Легенды Крыма
Предисловие
Крым по праву считается одним из красивейших уголков. И чуть ли не каждый камень здесь овеян поэтическим сказанием. Это неслучайно. На протяжении многих веков крымскую землю потрясали бурные исторические события, оставившие на ней неизгладимые следы. Народ связал эти события с многочисленными памятниками материальной и духовной культуры, имеющимися в Крыму, и своеобразно отразил в различных поэтических произведениях.
Но не только история питала подобного рода творения. В Крыму, как и в других уголках юга Украины, много оригинальных памятников природы. Причудливые контуры скал, заросшие лесом теснины глубоких ущелий, таинственные провалы пещер нередко навевали фантастические образы и сюжеты и также служили источником легенд и сказаний.
В прошлом крымские легенды издавались неоднократно.
В настоящее издание вошли широко известные крымские легенды. Некоторые легенды являются, если можно так выразиться, краеведческими. Другие имеют ясно выраженный исторический колорит. В них действуют конкретные лица, находят отражение достоверные события, они довольно точно передают общую историческую обстановку, на фоне которой развертывается сюжет. Но легенды — это, прежде всего, поэтические произведения, и историческое содержание в них передается в сугубо преображенном виде.
Легенды призваны помочь лучшему познанию края, возбудить интерес, любовь к Крыму — этому благодатному уголку Украины, горячо любимому трудящимися. В них воспеваются мужество и бесстрашие народа. Легенды внушают веру в неизбежное торжество добра над злом, в победу высоких принципов человеколюбия над бесчеловечностью, стяжательством и эгоизмом.
В сборнике представлены произведения с украинскими мотивами. Это закономерно: связь Крыма с Украиной уходит своими корнями в глубь веков. Вошли в сборник легенды крымских татар.
Произведения в сборнике неоднородны по жанрам, манере изложения, языку и своему происхождению. Думается, что в этом ничего плохого нет. Сборник незачем было делать однотипным по языку, стилю, жанрам, искусственно обрабатывать, нивелировать его содержание.
Сборник иллюстрируется рисунками и снимками тех примечательных мест, о которых говорится в легендах. Это даст читателю дополнительную возможность лучше ознакомиться с памятниками истории и природой Крыма.
В конце сборника помещены краткие пояснения к легендам. Пояснения отделены от основного текста для того, чтобы не загромождать его всевозможными сносками. [Пояснения, выделенные курсивом, приведены в конце каждой легенды. — lenok555]
О скале явления святого Георгия
Недалеко от мыса Фиолент высится в море небольшая скала. Ничем как будто не примечательна эта скала, но вот о чем рассказывает легенда.
Команда небольшого торгового судна таврических греков во время плавания по Черному морю вблизи обрывистых берегов мыса Фиолент была застигнута небывалой для этих мест бурей. Страшный шторм обрушился на маленькое суденышко мужественных греков. Свирепый шквалистый ветер порвал в клочья все паруса, поломал стройные мачты и сорвал надежный руль. Темные и тяжелые тучи спустились низко над бушующими волнами, закрыв весь горизонт. Гигантские разъяренные волны в неукротимой ярости обрушились на палубу и стали нести корабль на высокий невидимый скалистый берег.
Видя неизбежную гибель, команда судна бросилась на колени с верою и молитвою. Они подняли руки к небу и стали горячо молиться, обращаясь к Святому Великомученику Георгию Победоносцу: “О Святой Георгий, наш покровитель, помоги нам, спаси нас от неминуемой гибели”. Услышав сердечные вопли погибающих, Святой Георгий явился перед молящимися, весь в сиянии, из кромешной темноты на небольшой скале в море у берега. Он, воздев руки к небесам, обратился к самому Богу, и его призыв был услышан — буря тотчас же стихла. Избавленные от верной гибели, греки взобрались на эту скалу и там обрели икону Великомученика Святого Георгия. Они увидели невдалеке высокий скалистый берег и перебрались на него со скалы, взяв с собой икону.
В благодарность за свое счастливое спасение они основали в ближайшей пещере на берегу напротив скалы, где явился Святой Георгий, пещерный храм и установили там приобретенную икону. Наиболее набожные греки поселились здесь же навсегда, образовав братию. Устроившись жить, они не забывали о своем верном спасителе, каждодневно молились Святому Георгию и неустанно трудились, возводя жилые постройки, хозяйственные помещения и ведя образцовое хозяйство.
Описанный в легенде случай имел место в 891 году. Со временем, действительно, был построен монастырь в честь Святого Георгия. Управлялся Георгиевский монастрырь (позже — монастырь во имя Великомученика Святого Георгия) херсонесским епископом. С 1304 года — епископом Готской епархии. При владычестве турок монастырь управлялся константинопольским патриархом, а после присоединения Крыма к России — Святым Синодом.
В 1891 году, в празднование тысячелетия существования обители, на той самой скале в море, где в 891 году явился весь сияющий Святой Георгий и была приобретена икона Святого Георгия, был воздвигнут позолоченный огромный крест с надписью о времени чудесного явления, а для восхождения от моря и посещения этого знаменательного места в скале были высечены ступеньки. Монастырь Святого Георгия процветал много веков, помимо древнего пещерного храма во имя Святого Георгия.
Кузнец с горы Демерджи
Спуск с Ангарского перевала на Южный берег… Дорога извивается змеей. С левой стороны все время от подошвы до вершины видна гора Демерджи.
После Чатырдага это самая красивая гора в Крыму, говорят местные жители. Сколько часов имеет день, столько раз меняется ее цвет. Будто радуга переливается по ее склонам.
Днем, когда все залито солнечным светом, можно заметить на горе скопление глыб, словно великан отрывал их от вершины и складывал в кучу. На стороне, обращенной к долине, видны каменные колонны, сказочные фигуры, — не то люди, не то животные. Стоят эти причудливые изваяния рядом с обыкновенными скалами и как бы спрашивают: “Узнайте, кто мы такие, как мы попали сюда”.
О них старожилы рассказывают множество легенд. Вот одна такая легенда.
В далекие-далекие времена хлынули на крымскую землю орды завоевателей-кочевников. Были они коренасты, длинноруки, лица — круглые, глаза — маленькие, а взгляд — свирепый. Как огненная лава, растекались они по степям и горам, гарь, дым, смрад стлались за ними.
Не покорились пришельцам крымские жители, храбро встречали врагов. Немало истребили они незваных гостей, поубавили их спесь. И чем дальше в глубь полуострова двигались завоеватели, тем больше нужды в оружии испытывали они.
И дошли они до горы, которую местные люди звали Фунна — Дымящаяся. Поднимался с вершины ее столб дымящегося огня, всегда светло было вокруг горы.
Славились окрестные жители кузнечным искусством, немало умельцев жило в селении у подножия горы, трудясь в своих маленьких кузницах.
Первый горн в этих местах люди зажгли от огня с вершины Фунны. И часто в народе эту гору звали по-другому — Демерджи, что значит “кузнец”.
Собрались вокруг горы военачальники завоевателей, с удивлением смотрели на ее окутанную дымом вершину.
— Лучший горн где найдешь? — сказал старший. — Тут будем ковать себе оружие…
Он подозвал человека, который выделялся своей внешностью. Был он высок, широкогруд, имел длинную черную бороду, в ней вились серебристые нити, глаза большие, красивые, смотришь в них — оторваться трудно, а на душе — страшно. Кто хоть раз видел этого человека, не мог забыть ни его могучего тела, ни его тяжелого взгляда.
Сказал старший военачальник чернобородому несколько слов, отошел тот быстро, позвал с собой несколько воинов, и пустились они к селению. Захватили они там с десяток жителей, заставили отвести себя на вершину горы.
С той поры начали получать завоеватели новое оружие. Ковал его на вершине чернобородый человек, кузнец. Устроил он там гигантскую кузницу. Целыми днями гора гремела, валил дым, плясало пламя, разносились стук и звон молотов. Гора дрожала. Сабли, копья, доспехи, щиты, топоры — все, это везли и везли армии завоевателей. И потому, что чернобородый обладал какой-то тайной силой, сталь с горы получалась такая, что рубила любую другую, а сама даже не зазубривалась. И этим дьявольским оружием всех уничтожали завоеватели.
Обезлюдели окрестные поселения. Самые сильные мужчины были уведены в кузницу. Там ковали они оружие для порабощения своего народа, закованные в цепи, работали до изнеможения. Расковыряли жерло горы, увеличили силу поднимавшегося из нее огня, высекли из скал огромные колонны, покрыли их навесом. Гибли они от непосильного труда, от голода и лишений.
Пылавшее пламя сушило землю. Иссякали родники, мелели речки, перестал родиться виноград, чахли плодовые деревья.
Приближался конец всему живому вокруг горы.
Возле Фунны не уставала ходить с косой смерть, — все новых и новых работников требовал чернобородый кузнец, все больше и больше гибло их на вершине горы.
Собрались старейшины нескольких деревень, чтобы обдумать, как же избавиться от страшного соседства, как потушить адскую кузницу, чтобы перестала она ковать оружие, сеящее в мире разрушения и смерть. Отрядили они самых уважаемых, послали к кузнецу — просить его уйти с горы. Долго их не было, и вдруг доставили с Фунны еще горячий кувшин с пеплом и остатками человеческих костей.
Хорошо поняли в селении, что хотел сказать им кузнец, и замерло все кругом в большом горе.
Тогда одна девушка — Марией звали ее — решила поговорить с господином огня. Тихонько пробралась она мимо стражи, чуть заметными тропками добралась до огромной кузницы. Мрачную картину увидела она. Под навесом клокотали огнем десятки горнов, гудели меха, искры разлетались яркими снопами. У наковален стояли полуголые люди, били молотами по раскаленному железу.
В углу на груде железа лежал мертвый человек. Мария узнала своего соседа, который совсем недавно был взят на гору…
Дождалась она, когда появился чернобородый, и подошла к нему.
— Слушай меня, чужой человек, — сказала она. Кузнец оглядел ее хищным загоревшимся взглядом.
— Чего ты хочешь?
— Я прошу тебя — не губи ты людей, уходи отсюда.
Засмеялся чернобородый.
— Нет, не уйду я. Зачем мне уходить? И тебя здесь оставлю. Ты будешь моей…
Он протянул руку к девушке. Оттолкнула она его с безумной силой. Упал он возле горна, опалил волосы, одежду. Взвыл звериным воем, в неудержимой злобе схватил только что откованный кинжал — и пала Мария бездыханным трупом к его ногам.
Старая седая гора не выдержала такого злодейства. Дрогнула она от основания до вершины, зашатались устои, на которых держался навес, и рухнули на горны и наковальни. Шире раскрылось жерло горы, и провалились в его раскаленную глубину чернобородый вместе с его помощниками — пришельцами. А те, кто был из долины, словно ветром были подняты высоко в небо и плавно опущены к своим хижинам.
Когда потухло пламя, улеглась пыль, долетели до подножия обломки скал, стало видно снизу необычайное зрелище. На склоне горы высились каменные изваяния неведомых чудовищ — то были уродливые подобия кузнеца и его подручных. А на самом высоком месте горы, если смотреть с долины по дороге к морю, появилась скала, похожая на женскую голову. Она напоминала всем поселянам о девушке Марии — последней жертве жестокого кузнеца.
И от тех времен потухла Фунна, не стало видно огня над ее вершиной и было забыто людьми давнее имя горы — Дымящаяся. Но запомнил народ все пережитое и закрепил за горой новой имя — Демерджи, что значит “кузнец”.
Легенда греческого происхождения, как и многие другие, приведенные в настоящем сборнике. Необходимо подробнее остановиться на термине «греки в Крыму». По разъяснению кандидата исторических наук Е. В. Веймарна, заведующего Бахчисарайской археологической станцией АН СССР, в Крыму известны греки трех совершенно различных групп:
а) греки античные, основное население греческих городов-колоний;
б) греки средневековые; именем «греки» русские источники называли все христианское средневековое население Крыма вплоть до XVIII в. Эти «греки» образовались в основном в раннем средневековье в результате смешения тавров и оседлых скифосарматов, вошедших в горные долины под натиском гуннов. В специальной археологической литературе они часто связываются с аланской культурой и иногда называются аланами;
в) греки архипелагские, поселенные в Крыму в самом конце XVIII в. русским правительством для несения кордонной службы (например, балаклавские греки).
Большинство легенд в сборнике говорит о «греках» второй группы (б), т. е. о местном населении средневекового Крыма.
Легенда о горе Демерджи (Кузнец) возникла, очевидно, в связи с тем, что жители деревни того же названия, лежавшей у дороги на Южный берег, занимались кузнечным ремеслом. Сюжет легенда навеян и самим обликом горы. Массив ее сложен из горных пород — конгломератов и известняков, легко поддающихся выветриванию и разрушению. Поэтому обвалы на Демерджи — постоянное явление. Следы такого обвала, случившегося в 1894 году, видны до сих пор в виде хаотического нагромождения каменных глыб.
На Демержди есть гигантские столбообразные скалы причудливой формы, образовавшиеся в результате выветривания. На южной оконечности горы высится скала, напоминающая женскую голову в профиль с высокой прической и гребнем в волосах. Об этой скале и рассказывается в легенде.
Совершенно безосновательно в последние десятилетия молва стала связывать эту скалу с именем императрицы Екатерины II.
Легенда записана со слов Н. Снежковой из Алушты.
Фунна (дымящаяся) — греческое название горы Демержди.
Демержди — ныне село Лучистое, расположенное на склонах горы.
Золотая россыпь у Чатырдага
Всю жизнь провел в седле могущественный хан Гирей. Неутомим и ненасытен был он в кровавых набегах.
Прошло двадцать лет царствования хана, все он имел, что может желать человек, не было только у него наследника.
В иные минуты хан приходил в такую ярость, что приказывал рубить головы беям, которым судьба даровала сыновей, в дворцовых бассейнах топил своих жен, которых обвинял в бесплодии. Часто видели, как он в озлоблении рвал свою бороду, как в отчаянии молился аллаху. Придворные были в ужасе от жестокости своего господина, привозили к нему с разных концов света прославленных мудрецов, но ни один из них не мог излечить его.
Однажды хан, по обыкновению сумрачный, выходил из мечети. Его остановил старец, похожий на дервиша, и сказал:
— Государь! Я хочу помочь тебе избавиться от горя и, кажется, сумею это сделать.
Гирей грозно посмотрел на ничтожного смертного, осмелившегося остановить хана, но старик не смутился.
Гирей приказал ему явиться вечером во дворец. В условленное время старик был введен в покои хана. Никто не знал, о чем они говорили наедине. Слугам было ведено к полуночи приготовить двух оседланных коней, и ровно в двенадцать часов дервиш и хан выехали за город и поскакали к глухому ущелью, известному под именем Темного. Въехав в ущелье и сойдя с лошади, дервиш сказал:
— Хан, ты имеешь еще время раздумать и возвратиться домой. Решай!
— Делай со мной все, что надо, — ответил хан.
Дервиш предложил идти за ним в темную расщелину. Некоторое время спустя хан выскочил оттуда бледный, трясущийся. Вслед за ним из пещеры вырвались смрадный дым и багровое пламя. Не переводя духа, хан вскочил на коня и что было силы рванул повод…
Девять месяцев спустя одна из жен хана родила сына; на лице ребенка лежал красный отсвет, словно оно было опалено огнем. С детских лет в мальчике открылся ужасный характер. Его могли упросить не капризничать, только пообещав показать казнь человека. На охоте он развлекался тем, что добивал раненых зверей. Старый хан все это видел и радовался: сын рос таким, каким он хотел видеть его, — человеком без сердца.
Наступило время умирать хану. Он призвал к себе юношу и рассказал ему историю его рождения. Закончил старый хан так:
— Я добыл тебе и жизнь и исполнение самого сокровенного твоего желания. Своей кровью я скрепил договор с могучими духами. Когда ты после моей смерти вступишь на престол, то в полночь должен обязательно отправиться в Темное ущелье, чтобы поблагодарить дервиша за все, что он для нас сделал. И скажешь ему, что ты хочешь иметь, но только одно что-то, самое-самое главное для себя. Обдумай хорошенько, что ты намерен попросить, чтобы быть довольным всю свою жизнь.
Умер хан. В тот же день по решению Верховного дивана юноша вступил в управление ханством. В полночь молодой хан вскочил на коня и помчался к пещере.
У въезда в лес, за последней деревней, путь ему пересек старик-крестьянин, несший вязанку хвороста.
— Прочь с дороги! — крикнул хан и с такой силой хлестнул старика плетью, что тот упал, обливаясь кровью.
У входа в пещеру молодого хана встретил дервиш. Он взглянул на плеть, покрытую запекшейся кровью, и довольно усмехнулся.
— Ты приехал благодарить меня и просить исполнения желания? — спросил дервиш.
— Да.
— Я знаю твое желание. Ты хочешь, чтобы весь свет трепетал перед тобой, чтобы имя твое пугало людей. Ты хочешь сеять повсюду смерть и разрушения.
— Ты угадал, — ответил хан, боясь взглянуть в глаза старика, горевшие каким-то зловещим огнем.
— Я дам тебе столько золота, что ты сможешь вооружить огромную армию, какой нет ни у одного царя на свете. Взгляни вон туда, к Чатырдагу. Видишь трещину у подножия? Доберись до нее, отбрось несколько лопат земли, и под ней найдешь неистощимую россыпь золота. Она — твоя. Золото это будет служить тебе, помогать тебе сеять злые дела. С его помощью ты будешь целые страны превращать в бесплодные пустыни…
Сказав это, колдун исчез. Молодой хан нашел трещину у подножия Чатырдага, разгреб землю возле нее и действительно открыл там золотую россыпь. Набив золотом переметные сумки, он возвратился к себе во дворец.
И с той поры забыл о покое молодой хан. Он проводил годы в кровавых походах, как отец его, не оставляя ни на один день седла. Как смерч налетал он на мирные города и села, сеял пожары, убивал тысячи людей, и это было для него истинным наслаждением. Ему удалось вооружить армию, равной которой не было ни у одного царя на свете. Но хану и этого показалось мало. Часто он, никем не сопровождаемый, скакал глухой ночью в горы и возвращался оттуда к утру на взмыленном коне с переполненными сумками.
Задумал хан устроить набег на страны, лежащие к северу от Крыма. Его несметная конница двинулась в поход. Задрожала земля под десятками тысяч копыт. Запылали селения, полилась кровь, от стонов и криков людей содрогнулось небо. Бесконечные колонны пленных, обреченных на рабство, потянулись по пыльным дорогам.
Когда мимо пленных проезжал хан, все еще не насытившийся картинами смерти и разрушения, в одежде, обрызганной кровью невинных жертв, воины принуждали пленных падать ниц в дорожную пыль, а тех, кто ослушивался, убивали.
Но нашелся один смелый человек, который не пал ниц и, прежде чем был зарублен воинами хана, успел крикнуть:
— Погоди, злодей! Придет время — последняя капля крови твоих жертв переполнит чашу. И тогда жди возмездия!..
Рассмеялся хан. Мало ли что вздумает сказать перед смертью обезумевший невольник?
В числе пленниц, угнанных в рабство ханскими войсками, была не старая еще женщина, имевшая двенадцатилетнюю дочь. Когда воины хана нагрянули в деревню, где жила эта женщина, ее дочь спряталась.
Теперь несчастная мать мучилась мыслью о том, что дочь умрет от голода на пепелище деревни или будет растерзана зверями.
Но девочка не погибла. Она пошла по следам разбойничьей орды, питалась мясом павших лошадей, выпрашивала подаяние.
В Крыму девочка узнала, что многих пленников угнали в горные селения у Чатырдага. Девочка направилась туда, надеясь разыскать мать.
Несколько дней спустя во время сильной грозы хан, по своему обыкновению один, возвращался от золотой россыпи с сумками, полными золота. Он проезжал мимо девочки, укрывшейся под деревом у края дороги, и в этот момент из сумки выпал кусок драгоценного металла.
Девочка окликнула хана и подняла золото, чтобы отдать владельцу. И в этот миг она подумала: “Это может спасти мать”.
— Господин! — сказала девочка. — У тебя много золота. Дай мне хоть маленький кусочек. Я выкуплю из неволи свою мать…
— Как ты осмелилась сказать мне это, дерзкая девчонка? — с яростью воскликнул хан, и его плеть со свистом, словно сабля, упала на девочку.
Страшно вскрикнула девочка, падая на землю, так вскрикнула, что небо откликнулось ей раскатами грома. Еще грознее засверкали молнии.
Но хан не обратил ни на что внимания. Он спрыгнул с коня, оттолкнул носком сапога лежавшую без чувств девочку и жадно схватил потерянный кусок золота. Капли крови ребенка, брызнувшие на это золото, обагрили пальцы хана
И кто знает, которая из этих капель оказалась той последней, что переполнила чашу…
Положил хан окровавленное золото в сумку, и показалось ему, что мало он взял на этот раз из россыпи. Повернул коня и под завывание ветра, грохот грома и сверканье молний поскакал обратно к Чатырдагу.
Только разгреб хан землю и протянул руки к открывшимся его взору золотым слиткам, как раздался удар грома неимоверной силы. Задрожала земля Из черных туч ударила молния и испепелила злодея. Еще раз ударила молния — и обрушился склон горы, погребая под собой дьяволово золотое гнездо.
И с той поры не стало в Крыму золота, с той поры кончился ханский род.
Тело последнего хана долго искали, но не нашли. И искали напрасно…
В горных породах Крыма золото не встречается, поэтому рассказы о крымских золотых россыпях не более как вымысел. Во всех вариантах легенд о золоте в Крыму оно помогает крымским ханам творить зло, содействуя их разбойничьим набегам на украинские и русские земли.
Настоящий вариант легенды был записан в 1938 году от Н. Ушакова из Симферополя.
Чатырдаг (Шатер-гора), высота 1525 метров. С востока и запада Чатырдага имеются понижения — перевалы. По восточному — Ангарскому перевалу проложено шоссе из Симферополя в Алушту.
Пещера тысячеголовая на Чатырдаге
Из всех горных великанов Крыма самый величественный — Чатырдаг. Гордо вознес он свою вершину над степью, долинами, горными хребтами, берегом моря. Откуда ни посмотришь, кажется, будто гигантский шатер поставлен на поверхность полуострова.
В недрах горы скрыты подземные дворцы. Тому, кто проникает сюда по извилистым ходам, кажется при неверном свете фонарей и свечей, что каменные стены и потолки чудесно убраны лепными украшениями и хрусталем. Словно чей-то волшебный резец потрудился тут.
Местами сталактитовые украшения стен напоминают изящнейшее кружево самого причудливого рисунка. Кое-где с арок, разделяющих залы, свешиваются драпировки с густой бахромой из длинных и тонких сосулек сталактитов. На них дрожат и серебрятся прозрачные капли воды, просачивающиеся сквозь толщу горы и звонко падающие с высоты на сырой пол подземелья. Пламя свечей переливается миллионами блесток в этих трепещущих каплях, и кажется, будто бахрома состоит из алмазных нитей. В неровно колеблющемся свете по стенам ползут причудливые тени.
Много тайн хранят эти глубокие пещеры, много преданий связано с ними. Вот одно такое предание.
Было страшное время, когда на полуостров грянули дикие кочевники-завоеватели. Они разоряли города и селения, убивали жителей, порабощали их.
Спасая свою жизнь, жители уходили в леса и горы и скрывались там в укромных местах.
Нападению кочевников подверглось и население цветущей Алуштинской долины. Большая группа поселян поднялась на Чатырдаг и поспешила спрятаться в одной из пещер. Она была очень удобна. Утесы и каменные глыбы, густой кустарник и деревья прикрывали вход — незаметную узкую щель. Дальше шла длинная, извилистая нора, по ней человек мог проникнуть в пещеру только ползком. Затем ход расширялся и приводил в обширное помещение, способное вместить множество людей. В этом убежище можно было считать себя в безопасности.
В кустах у входа беглецы выставили стражу, чтобы враг не мог подойти незамеченным к пещере.
Боясь попасть в руки кочевников, люди редко выходили из пещеры. Вскоре они стали терпеть мучения от голода и особенно от жажды. Вода, которую по каплям собирали со стен, не могла напоить массу людей.
Тогда одна смелая девушка решила найти источник где-либо вне пещеры. Однажды лунной ночью она вышла наружу и неподалеку от убежища нашла меж бесплодных скал небольшую полянку, заросшую чудесными цветами. Среди цветов скрывался родник с кристально чистой водой.
За водой к роднику нельзя было послать много людей: может быть, поблизости притаились вражеские лазутчики. К источнику по ночам ходила только девушка, набирала полные сосуды воды и относила их в пещеру.
— Если я попаду в руки врагов, — говорила девушка, — я буду молчать, как эти скалы, пусть даже меня разорвут на куски…
Любовались смелой самоотверженной девушкой седые утесы, зеленые деревья, шелковистая травка просилась ей под ноги, чудесные цветы шептали: “Мы украсим твой путь, храбрая девушка”.
И там, где ступали ее ноги, где падали на землю из сосудов капли воды, — вырастали цветы дивной красоты…
Между тем отряд кочевников пришел на нижнее плато Чатырдага. Стали вести поиски беглецов, однако убежища их не находили.
Но вот кто-то из воинов увидел цепочку ярких цветов, пролегшую от родника куда-то в заросли, к нагромождению каменных глыб. Пошли вражеские воины по этой цепочке и заметили вход в пещеру, увидели следы многих людей на влажной земле у входа. Догадался предводитель отряда, где скрываются беглецы.
Жестоки были завоеватели, никого не привыкли они щадить. Велел предводитель отряда набрать побольше хвороста и сухой травы. Завалили воины выход из пещеры, развели огонь. А второго выхода не было. Потек внутрь густой удушливый дым, и погибли от него в страшных мучениях все беглецы — мужчины, женщины и дети…
Многими десятилетиями позже зашли какие-то смельчаки в эту пещеру-могилу и увидели, что весь ее пол покрыт людскими костями, черепа погибших смотрели на смельчаков темными пустыми глазницами.
Не было уже в те дни и чудесных цветов: их вытоптали кони кочевников. Иссяк родник: даже вода ушла в глубь земли от жестоких завоевателей.
Люди, побывавшие в пещере-могиле, потрясенные, спустились в долину и поведали всем об увиденном.
Народная молва исчисляет погибших в тысячу человек, отчего и названа пещера Тысячеголовой.
Пещера Тысячеголовая находится на нижнем плато Чатырдага и является одной из достопримечательностей Крыма. Ежегодно пещеру посещают тысячи туристов. До сих пор в отдаленных уголках пещеры встречаются человеческие кости, которых несколько десятков лет назад, по свидетельству многих экскурсантов, было «огромное количество». Это же подтверждают в своих очерках крымоведы Е. Марков, С. Елпатьевский и другие, которые видели в пещере человеческие кости и черепа.
Появление человеческих скелетов в пещере Тысячеголовой многие археологи объясняют тем, что в период средневековья она могла быть использована как могильник. Кости встречаются и в других пещерах Крыма.
Массовая гибель людей от дыма маловероятна, так как Тысячеголовая не имеет второго отверстия, а вследствие этого и тяги, поэтому дым от костров не смог бы проникнуть в глубину пещеры.
Легенда записана в 1935 году от Н. Снежковой из Алушты.
Сказание о царице Феодоре
Давно это было, много веков прошло с тех пор, а память народная передает из поколения в поколение предание о славной и мужественной красавице Феодоре — царице Сугдейской.
Доброта, ясный ум и мудрость в государственных делах снискали ей народную любовь. Слава о красоте Феодоры соперничала со славой о прекрасной стране на берегу Черного моря, которой она управляла, и богатом городе Сугдее, где жила в своем дворце на склоне горы.
А красота Феодоры могла очаровать всякого. У нее были тонкие черты лица, смуглая кожа, глубокие черные глаза и темные волосы. В движениях гибкого тела чувствовались ловкость, сила и неутомимость. Многие знатные вожди желали назвать прекрасную деву своей женой. Одни предлагали ей свои богатства, другие — славу, добытую мечом в сражениях, третьи — молодость, красоту, четвертые — знатность рода. Всех отвергала Феодора: она дала обет безбрачия, чтобы всю жизнь быть независимой и все свои силы направлять на благо своего царства.
Любимым жилищем царицы был замок на вершине скалы. С орлиной высоты верхнего замка Феодора любовалась далекими горами, побережьем моря, вдоль которого до самой Медведь-горы простирались ее владения, цветущими долинами и городом, лежавшим у подножия скалы. К городу вели многочисленные дороги, широко раскинулась гавань с кораблями. Видела Феодора, как спешили в Сугдею караваны верблюдов, груженных товарами, ветер доносил до нее лязг якорных цепей и скрип корабельных снастей. В Сугдее на огромном торжище встречались торговые люди из разных стран. Здесь были и русские купцы, именовавшие Сугдею Сурожем и привозившие из Руси драгоценные меха: горностаевые, бобровые. Венецианцы со своих галер выгружали полотна, тонкие сукна, фрукты и оливковое масло. Из южных степей, с берегов Волги в Сугдею шли хлеб, рыба, икра, шерсть. Китай, Туркестан, Аравия и Индия посылали пряности, драгоценные камни, парчу и бархат, шелка и индиго, опиум и благовония, ковры и оружие.
Но все чаще становилось суровым лицо Феодоры. Сгущались тучи над богатой страной: на севере к границам ее подступали орды татар, а на востоке в соседнем городе Кафе обосновались хитрые и коварные генуэзцы. Из Кафы генуэзцы готовились нанести удар по благословенной Сугдее. Волновал царицу и раздор, проникший в среду ее приближенных, причиной которого была она сама.
С детских лет Феодора росла вместе с двумя сыновьями одного из местных князей — близнецами Ираклием и Константином, очень похожими друг на друга лицом и ростом. Она разделяла с мальчиками их игры и забавы, не уступая им ни в чем: ни в беге, ни в скачках на коне, ни в стрельбе из лука. С возрастом детская привязанность к Феодоре перешла у юношей в чувство любви. Соперничество в любви поссорило братьев.
Однажды, оставшись с Феодорой наедине, Ираклий, волнуясь, сказал ей:
— Феодора, забудь свой суровый обет, позволь назвать тебя женою!
Но девушка твердо ответила ему:
— Девичью судьбу, свободную, вольную, я дала обет не менять никогда. И от обета не откажусь.
— Царица! — взмолился Ираклий.
— Нет! Не мужем, а братом я буду звать тебя, — ответила девушка. — Знай, Ираклий, что лютая смерть мне гораздо милей, чем удел жены. Совсем другое у меня на душе.
С этими словами рассерженная царица удалилась. А отвергнутый юноша стал мрачен и грозен — терзали его злоба и жажда мести. Не раз говорил он себе: “Запомню я, змея, твои слова, что смерть тебе милее. Свершится все, что выбрала ты себе, твой жребий уж близок!”
С тех пор Ираклий затаил мысль: или любой ценой овладеть Феодорой, а вместе с нею и властью над страной, или погубить Феодору. Он часто удалялся в дикие ущелья и дремучие леса и на свободе обдумывал, как отстранить брата-соперника и осуществить свои властолюбивые мечты.
Второй брат — Константин, в противоположность Ираклию, был добр и честен. Нежно любя Феодору, он помнил об ее обете и даже не помышлял о том, чтобы она нарушила его, не искал власти; его желанием было находиться возле любимой и помогать ей.
Ираклий решился на предательство. Пробравшись в Кафу, он убедил генуэзского консула напасть на Сугдею, обещая помочь при взятии города. В уплату за свое вероломство изменник потребовал отдать ему Феодору.
Вскоре, как стая коршунов, под стенами Сугдеи собралась черная рать генуэзцев. Два месяца длилась кровопролитная битва. Во главе защитников города были Феодора и Константин. Везде, где появлялись неустрашимая царица и ее верный спутник, воины с удесятеренной силой отбивали натиск врагов.
Наконец Ираклию удалось пробраться в город. Пользуясь своим сходством с братом, он ночью подошел к городским воротам якобы для проверки часовых. Усталые воины, не видя опасности, отдыхали в башне, у ворот стоял лишь один человек из стражи. Подойдя к воину, предатель зарубил его мечом и мгновенно открыл ворота, за которыми находились притаившиеся генуэзцы. Прежде чем защитники Сугдеи сумели опомниться, вражеские воины ворвались в город. Началась ожесточенная битва на его улицах. Но силы были неравными. Враги одолевали. К утру Сугдея была в их власти. Феодора, Константин с частью воинов и жителей через пролом в стене бежали на запад и укрылись в крепости Алустон.
Напрасно искал Ираклий своего брата среди убитых, напрасно ожидал он, что приведут к нему пленную Феодору! Как громом поразила его весть, что они благополучно бежали из захваченного города.
Вскоре галеры кафийцев показались у Алустона. Из всех окрестных поселений жители уходили под защиту стен крепости и готовились к обороне. Началась осада. Войска генуэзцев много раз шли на приступ, но население обороняло город все ожесточенней. Мужчины, женщины и дети — все были на укреплениях, мечами, кольями, топорами отбивали неприятелей, кипятили смолу и масло и обливали ими осаждающих, бросали в них камни. Тогда генуэзцы подвезли стенобитные орудия и стали таранами разрушать крепостные стены и башни. Видя, что города не удержать, Феодора вывела из Алустона воинов и жителей, и они скрылись на Кастель-горе.
Казалось, сама природа позаботилась о том, чтобы сделать куполообразную вершину Кастель-горы неприступной. Редкий смельчак решился бы одолеть ее почти отвесные склоны, падающие к морю и в долину. Только с севера небольшой пологой седловиной соединяется она с Главной грядой Крымских гор. Недаром в глубокой древности избрали люди эту гору для укрытия от врагов, и до сих пор путь к ее вершине преграждают остатки мощных стен.
Через некоторое время генуэзцы подошли к оборонительной стене и воротам, защищавшим единственное уязвимое место крепости. Не надеясь на успех штурма, враги решили окружить гору и голодом вынудить Феодору сдаться.
Но выжидание не входило в расчеты Ираклия, ему не терпелось заполучить девушку немедленно. Он снова предложил захватчикам свою помощь и по известному ему подземному ходу проник ночью в крепость. И снова воины Феодоры были обмануты сходством двух братьев-близнецов. Ираклий сумел беспрепятственно добраться до ворот. В это время он увидел Константина, стоявшего у бойницы. Незаметно подкравшись к брату, Ираклий нанес ему смертельный удар кинжалом. Бросившись к воротам, предатель отодвинул засов, и генуэзцы ворвались в крепость. Началась схватка. На шум битвы выбежала Феодора, но в это время дорогу ей преградил Ираклий. Приняв его за Константина, царица с тревогой спросила:
— Где враги?
— Они в крепости! Ты моя, Феодора, я спасу тебя! — закричал Ираклий.
Узнав изменника, царица в одно мгновение занесла меч:
— Будь проклят, предатель!
Отсеченная голова Ираклия покатилась к ее ногам. Феодора ринулась в гущу битвы.
Взошла луна и осветила страшное ночное сражение на Кастель-горе. Жители Сугдеи и Алустона отчаянно бились с генуэзцами. Ручьями лилась кровь. В первых рядах воинов сражалась Феодора. Враги не знали пощады от ее меча, она была вся изранена, кровь струилась по ее телу, но бледное лицо было гневно, огромные глаза сверкали яростью, голос звенел, зовя в бой воинов. Феодора была прекрасна в эти последние минуты своей жизни, враги пятились от нее, как от грозного видения. Но слишком неравны были силы… Пала Кастель.
На юго-западном склоне горы, там, где нет растительности, на сером фоне утесов и сейчас еще видны темные полосы. Это, как передает народная молва, ручьи запекшейся крови защитников крепости, до последнего человека сражавшихся с захватчиками-генуэзцами и павшими в битве во главе со славной своей царицей, девушкой-воином Феодорой.
В сказании рассказывается о вполне реальных исторческих событиях. В конце XIII века генуэзцы утвердились в Кафе (современная Феодосия), которая стала главным центром их торговли на Черном море. В XIV веке генуэзцы захватили Сугдею (современный Судак) и все побережье до Балаклавы. Они жестоко эксплуатировали местное население, разоряя крестьян и ремесленников Крыма. Естественно, что коренное население побережья оказывало упорное сопротивление захватчикам.
Историческая наука не подтверждает существования в средневековое время правительницы, подобной Феодоре; образ легендарной царицы — плод народной фантазии, связавшую вымышленную личность с действительными историческими событиями.
Существует несколько вариантов сказания, отличающихся по сюжету. В данном сборнике приводится наиболее распространенный. О царице Феодоре упоминают известные крымоведы А. Маркевич, Е. Марков. В книге «В дебрях Крыма», изданной в 1902 г., С. А. Качиони приводит легенду о Феодоре со следующим сюжетом.
Царицу Сугдеи Феодору полюбил ее полководец Гиркас. Но Феодора дала обет безбрачия и отвергла все домогательства Гиркаса. Когда на Сугдею напали генуэзцы, Гиркас предал Феодору, показав генуэзцам дорогу в крепость. Генуэзцы взяли Сугдею. Феодора, прокляв Гиркаса, бросилась с верхней башни в море и разбилась о камни.
Публикуемый в настоящем сборнике вариант записан в 1935 году от Н. Снежковой из Алушты.
Алустон — современная Алушта.
Гора Кастель — находится западнее Алушты.
Легенда о Медведь-горе
В отдаленные времена в горах Крыма обитали лишь дикие звери. Много было среди них огромных кровожадных медведей. Хищники уходили далеко за горы, появлялись на равнинах, нападали на живущих там людей. Набрав побольше добычи, опять скрывались в лесных дебрях.
На самом берегу моря поселилось стадо огромных зверей. Управлял им вожак — старый и грозный медведь.
Однажды возвратились медведи из набега и обнаружили на берегу обломки корабля. Среди этих предметов лежал сверток. Старый вожак развернул его и увидел маленькую девочку. Только она осталась в живых после гибели корабля.
Маленькая девочка стала жить среди медведей. Шли годы, она росла и превратилась в красивую девушку. Старый вожак и все медведи очень любили ее. Девушка громко пела песни, резвясь среди дикой природы, а медведи готовы были с утра до ночи слушать ее чудесный голос.
Однажды хищники отправились в набег на равнину. В их отсутствие недалеко от медвежьего логова, среди купающихся в воде скал прибило к берегу челн с молодым красивым юношей. Еще подростком он был угнан в рабство воинами одного из разбойничьих племен, обитавших на другом берегу моря. Теперь юноша решился на бегство, надеясь вернуться на родину. Буря долго носила его челн по волнам, пока не выбросила на крымский берег.
Обессиленный голодом и жаждой, юноша лежал без движения на дне челна. Девушка перенесла юношу в укромное место, напоила и накормила, а челн спрятала и кустах под прибрежной скалой, чтобы медведи ни о чем не догадались.
Много раз приносила девушка юноше еду и питье. Юноша рассказывал ей, как живут люди в его родных краях. С интересом слушала девушка, глядя в ясные синие глаза юноши. Она пела для него свои любимые песни. И в эти дни вошла пылкая любовь в сердца обоих.
Юноша сказал девушке: “В моем челне хватит места для двоих. Хочешь поплыть со мной на мою родину?” И девушка ответила: “Хочу. Я готова плыть с тобою куда угодно”.
Юноша уже окреп, к нему вернулись силы. Он смастерил мачту, сделал парус из звериных шкур. Влюбленные ждали теперь попутного ветра, чтобы покинуть медвежий берег.
И вот подул попутный ветер. Юноша и девушка столкнули челн в воду, сели в него. Вот уже между челном и береговыми скалами легла широкая голубая гладь…
Тут задрожала земля под тяжелыми лапами, заколебался воздух от грозного рева. Это вернулись на берег из далекого похода медведи и не обнаружили девушки.
Вожак посмотрел на море и понял все. Любовь к юному пришельцу, тяга к людям победили в душе девушки все прошлые привязанности. Навсегда увозит теперь челн любимицу медвежьего племени.
Старый медведь яростно взревел. Вне себя от гнева стадо заметалось по берегу, оглашая окрестности громовым ревом. Вожак опустил огромную пасть в голубую влагу и с силой стал втягивать воду. Его примеру последовали остальные. Через некоторое время море стало заметно мелеть.
Течение увлекало челн обратно к берегу. Девушка видела: ее возлюбленному не избежать страшной участи, его растерзают медведи.
И девушка запела. Как только донесся до зверей ее голос, они подняли головы от воды и заслушались. Лишь старый вожак продолжал свое дело. Еще глубже погрузил он передние лапы и морду в холодные волны. Бурлило море у его пасти, вливаясь в нее широкими потоками.
Заклинала в песне девушка все силы земные и небесные стать на защиту ее первой, чистой любви. Умоляла она старого медведя пощадить юношу. И так горяча была мольба девушки, что страшный зверь перестал тянуть в себя воду. Но не захотел он оставлять берега, продолжал лежать, всматриваясь вдаль, где исчезал челн с существом, к которому он привязался.
И лежит старый медведь на берегу уже тысячи лет. Окаменело его могучее тело. Мощные бока превратились в отвесные пропасти, высокая спина стала вершиной горы, достигающей облаков, голова сделалась острой скалой, густая шерсть обратилась в дремучий лес.
Старый вожак-медведь стал Медведь-горою.
Медведь-гора (Аюдаг) находится на Южном берегу Крыма к востоку от Гурзуфа. Высота горы 565 м. Она состоит из массивно-кристаллических пород и представляет собой огромный купол, так называемый лакколит. Между западным подножием Медведь-горы и Гурзуфом расположен Артек.
Гора своими мягкими очертаниями издали напоминает фигуру медведя, прильнувшего к воде. Особенно хорошо это заметно с верхнего шоссе за селом Запрудное по пути в Ялту. На этом сходстве основана легенда о Медведь-горе, имеющая много вариантов. Публикуемый в сборнике записан от Л. Д. Гелдавы из Симферополя.
Скалы-близнецы у Гурзуфа
В тех местах, где ныне Гурзуф, в давние времена все было покрыто дремучими лесами. Много зверей водилось в тех лесах: и медведи, и олени, и барсы. Люди жили только на вершине Медведь-горы. Там стоял величественный замок. Далеко видны были его высокие башни, еще дальше разносилась слава о его владельцах — князьях Петре и Георгии. Они были близнецы. Их мать княгиня Елена, умирая, завещала им жить в мире и с честью носить отцовские доспехи. Вечно были братья в походах, на охоте. Мало жили в замке они, а когда бывали там — от подножия и до вершины звенела гора музыкой. Моряки, которым случалось в те ночи плыть мимо Медведь-горы, пугались зарева на небе от огней костров и смоляных бочек…
Жили братья дружно, в бою рядом сражались, защищая один другого. Где меч одного промахнется, там меч другого попадет в цель.
Много верных слуг было у молодых князей, но вернее всех служил им старый Нимфолис. Страшный вид имел он: борода зеленая, руки длинные, до колен; глаза суровые, исподлобья глядят. А ударит он палицей — сотни врагов валятся. Свистнет старый — трава к земле пригибается, море рябью подергивается. Любили князья Нимфолиса. Во всем слушались его.
Прошел не один год со дня смерти княгини Елены. Возмужали князья, красивее их по всему Черноморью никого не было. Кудри до плеч, глаза, словно угли горящие; глянут ласково, будто осчастливят навек, грозно глянут — задрожишь. Стройные, смелые, с гордым взглядом, со смелой поступью, — они были любимцами народа и грозой врагов.
Однажды в темную ночь стучит к братьям старый Нимфолис. Встают братья и спрашивают:
— Что тебе надо, дорогой?
— Я пришел с вами проститься. Ухожу. Не уговаривайте меня, на то не моя воля. А на прощанье даю вам по подарку. Вы постигнете тайну живущего, узнаете, как устроен мир и из чего он состоит. Но помните: никогда не пользуйтесь этим даром с корыстной целью, для какого бы то ни было насилия, пусть он служит вам только для радости познания.
Поставил он на стол два перламутровых ларца и исчез. Бросились братья к ларцам, открыли их. Нашли в одном костяной жезл с надписью: “Подними его — и расступится море, опусти его — узнаешь обо всем, что есть в пучине”, а в другом ларце — два серебряных крыла, тоже с надписью: “Привяжи их — и понесут тебя, куда захочешь, узнаешь там все, что пожелаешь”.
Рады были братья волшебным подаркам, но еще больше жаль было Нимфолиса.
Однако ничего не поделаешь. Потосковали братья и стали жить, не раз вспоминая, как приходил к ним печальный Нимфолис в свою последнюю ночь. Обрывалась тогда музыка, стихало веселье в залах замка, омрачались тоской лица братьев.
Притупилась грусть, еще интереснее зажили братья, время побежало еще быстрей. Как задумают братья, рванется один в голубую высь, а другой по таинственному дну моря с жезлом пойдет, поражая морских чудовищ твердой рукой, которая никогда не дрожала. Изумлялись гости дивным рассказам Георгия о далеких странах, содрогались самые храбрые при виде страшных чучел Петра.
Но вот услыхали братья, что в далеком славном городе на быстрой реке есть у князя две сестры, девушки-близнецы, как и сами братья. Говорили, что сестры — красавицы отменные, такие стройные, что когда идут, будто корабль по тихому морю плывет, такие смелые, что гордый взгляд своих голубых глаз ни перед кем не опускают.
Братьям бы прийти с миром да лаской, заслужить приветливостью любовь и уважение, показать себя во всей душевной красе, а они по-другому сделали, по-плохому.
Налетели на далекий славный город, жителей побили, сестер-красавиц силой взяли. А силой взятое — не любовью взятое. Насилие и любовь никогда не уживутся.
И хотя появились женщины в замке братьев, не изменилось в их жизни ничего. Орлы встретили орлиц! Не захотели гордые сестры принять братьев, отвергли их любовь, которую не хотели подарить им в неволе. Если бы в поднебесье, паря в неоглядном просторе, нашли бы они друг друга… А в клетке тесной, стальными прутьями перевитой, омертвела душа у сестер и ничего в ней не осталось, кроме презрения и ненависти к братьям.
Дрогнули сердца братьев от боли. И захотели они любой ценой купить любовь сестер. Приходят к ним и говорят:
— Не заставляйте нас горевать, не мучайте нас… Скажите, что хотите вы за свою любовь?
Гордо отвернулись от них сестры, долго молчали, одна, с виду постарше, сказала, не глядя:
— Свободу раньше дайте нам. А потом будем говорить как равные с равными.
Переглянулись братья и покачали головами.
— Нет!
Чего только не делали молодые князья, чтобы заставить улыбнуться красавиц-сестер. Они по-прежнему были холодны и молчаливы, словно камни на дне морском.
Затосковали братья. Думали в кровавых битвах забыть о девушках — не помогло: как шип железный, торчит в сердце отвергнутая любовь. Думали в попойках потушить тоску — не потушили. Перед глазами стоят красавицы, как судьи смотрят на братьев.
Говорит брат брату:
— Может быть, скажем им о наших ларцах, о жезле и крыльях? Они узнают, кто мы с тобой, и допустят нас в свои сердца.
Согласился брат и добавил:
— Скажи им, мы властны подняться к самому солнцу и их поднять туда, мы можем опуститься в глубины моря и их увлечь за собой.
Так и сделал брат. Одна сестра как будто заинтересовалась.
— До самого солнца? И в самую глубь морскую? Диковинно, если правда это.
Другая тоже посмотрела на князя.
Всю ночь не спали братья. Они помнили завет Нимфолиса, который предупреждал их, чтобы не пользовались они волшебными предметами с корыстной целью. И тихо рассуждали, как отнесется к их поступку старый слуга.
— Он нас не осудит, — сказал Георгий. — Ведь он, наверно, знает, как тяжело нам живется и как нужна нам дружба этих женщин. Нет, не ради корысти, а ради счастья и покоя решаем мы показать то, что скрыто от глаз человеческих.
На другой день подвязал Георгий коню крылья, уселись на коня братья с сестрами и поднялись ввысь. Не одно облако они задели, не одна молния проносилась мимо них на землю, а все выше поднимались дерзкие. К вечеру, словно гора алмазов, засветились перед ними солнечные чертоги и прянул на людей, опаляя, солнечный луч.
Раздался голос старого Нимфолиса:
— Назад!
Задрожал Георгий, побледнел в первый раз в жизни и повернул коня. Словно вихрь неслись они вниз. Дух занялся у сестер, закрылись голубые глаза, без чувств опустил их на землю Георгий. Но очнулись они и заговорили насмешливо и дерзко:
— Не поднял нас до солнца, бежал, как трусливый заяц. Как женщина слабая, поступил. Недостойны ни ты, ни брат твой нашей любви. Вот пойдем мы в море, опустимся в пучину и опять не дойдем мы до конца, не увидим царя морского.
Передернуло обидой лицо Георгия, гневно глянули черные очи, страшно загремел его тяжелый меч о вымощенный каменными плитами пол. Но ничего не сказал князь, гордо вышел из покоя.
Затуманился Петр. Задумался о завтрашнем дне, о жизни, которая была и которая будет, нахмурил брови…
На другой день запряг Петр в колесницу коней и повез сестер и брата к бурному морю. Поднял жезл, расступилась пучина, и понеслись они по дну вглубь, где дивный высился дворец. Недалеко еще отъехали от берега, как явился к Петру незримый для красавиц Нимфолис в зеленом плаще и сказал:
— Петр, с нечистым замыслом опустился ты в глубину. Приказываю тебе вернуться, если не хочешь погибнуть сам и погубить всех.
Ничего не ответил Петр, хлестнул быстрых коней. Сестры смеялись всю дорогу. И решились братья: едем дальше. Разгневался царь пучин, грянул трезубцем один раз — и убил братьев, грянул второй — и убил сестер. Но не погибли они. Всплыли их тела, соединились навеки в камне.
И люди увидели в море скалы-близнецы Адалары. Повествуют эти скалы о том, как скорбно кончаются попытки взять что-либо силой от души человеческой.
Скалы-островки стоят в некотором отдалении от берега моря напротив Артека. Происхождение их таково.
Некогда часть известняковой кромки яйлы в районе Гурзуфа откололась от общего массива и сползла к морю. Длительный процесс выветривания, а также разрушительная сила морских волн в течение тысячелетий придали скалам оригинальные очертания. Две скалы очень между собою схожие, как близнецы, остались стоять, окруженные морем, составляя живописную группу.
Легенда о скалах-близнецах связана с Медведь-горой, на вершине которой находятся остатки очень древнего укрепления.
В данном варианте легенда была записана в 1935 году от Е. Осовец из Ялты.
О письменах на камне вблизи Никиты
В небольшой греческой деревушке Массандра, что лежала неподалеку от Никиты, некогда жили семь братьев с единственной сестрой Марией. Они рано осиротели, сами вели свое хозяйство, жили очень дружно и во всем подчинялись старшему брату Константину. Все юноши, как на подбор, были рослыми, статными парнями. Они боготворили свою сестру, которая в шестнадцать лет превратилась в замечательную красавицу. У Марии были пышные золотистые волосы, заплетенные в две толстые косы. Когда она смеялась, открывались ровные, красивые, словно жемчужные, зубы. Гибкой и стройной была фигура девушки.
Не только братья любили девушку. Она была любима всеми жителями за веселый и общительный нрав. Немало юношей тайно вздыхали о Марии. Однако она никому не оказывала предпочтенья, была беззаботна и чистым звонким голоском пела свои песенки, хлопоча по хозяйству или поджидая братьев с поля.
Но вскоре счастливая и спокойная жизнь Марии и ее братьев была нарушена. Однажды под вечер Мария пошла к источнику набрать воды. Наполнив кувшин холодной влагой, она направилась по тропинке к дому и вдруг услышала позади себя конский топот. Оглянувшись, девушка увидела всадника — важного и богато одетого турка, который попросил у нее напиться. Подав ему кувшин, Мария стояла, потупив взор, чувствуя на себе тяжелый взгляд всадника, отчего сердце ее сжалось тревожным предчувствием. Узнав, кто она, турок направился вслед за ней к дому, где был принят братьями с подобающим радушием и гостеприимством.
Каково же было удивление Константина, когда на другой день его гость, оказавшийся турецким пашой, заявил, что имеет намерение отправить Марию в Стамбул.
— Для какой надобности? — спросил Константин.
Паша надменно ответил:
— Султан оказывает вам честь, желая принять сестру вашу в свой гарем. Вы все будете достаточно награждены нашим повелителем.
Придя в негодование, юноша вскипел, выхватил кинжал, вонзил его турку в грудь и выбежал во двор. Там он рассказал остальным братьям и односельчанам о своей расправе с пашой. Посоветовавшись, что делать дальше, все решили: братья и Мария должны укрыться в горах, в случае необходимости молодежь придет им на помощь. В тот же день семья перешла к подножию скалы, в глухое место, куда, казалось, и птица не залетала. Чтобы еще лучше укрепить это место, братья с помощью односельчан выкопали глубокий ров и обложили свое убежище толстой каменной стеной.
Несколько дней спустя турки узнали об убийстве в Массандре паши, посланного в Крым для пополнения султанского гарема молодыми красавицами. Они направили в селение отряд янычар, чтобы схватить виновных и доставить их в Кафу. Узнали об этом жители Массандры и поспешили уйти в леса, а молодежь, способная носить оружие, присоединилась к семи братьям.
Несколько татар, хорошо знакомых с местностью, указали туркам, где укрывались братья. Вскоре янычары подошли к укреплению. На предложение начальника отряда сдаться и выдать Марию братья и их товарищи ответили градом камней и стрел. Янычары, вооруженные ружьями, отвечали выстрелами, но пули пока не причиняли вреда осажденным, укрытым стеной.
Константин видел, что силы неравны. Но братья решили защищать сестру и свою жизнь до последнего вздоха. Молодежь поклялась биться вместе с ними.
Турки готовились к приступу. Обнажив сабли, греки ждали врагов. Константин подозвал Марию и сказал ей, чтобы она укрылась в надежном месте. Плача, обнимала девушка своих любимых братьев и просила позволить ей остаться, чтобы разделить общую участь.
В это время янычары с дикими криками кинулись на приступ и пытались взобраться на стену. Братья с друзьями уже были в опасных местах, беспощадно рубили, кололи и сбрасывали врагов в ров. Но вот уже один из братьев, взмахнув руками, замертво свалился на камни, вот над другим занес свою кривую саблю громадного роста янычар, но подоспевший на выручку самый младший брат кинулся на турка и вонзил ему кинжал в грудь по самую рукоятку. Оба покатились в ров.
Встретив такое беспримерное сопротивление, турки отступили, притащили небольшую пушку и стали стрелять по укреплению. Тогда осажденные пошли на вылазку. Бились они до тех пор, пока не погибли все.
Слезами обливалась Мария, видя смерть своих милых братьев и их друзей, а когда последним пал Константин, из груди ее вырвался яростный крик, Мария взбежала на вершину скалы и стала проклинать турок.
Враги были поражены появлением девушки такой необыкновенной красоты. Начальник янычар приказал схватить ее. Но прежде чем вражья рука коснулась ее одежды, Мария лежала мертвой у подножия скалы…
Прошли годы, и жители деревушки тайком описали подвиг семи братьев и их сестры на скале, — там, где все это случилось. А чтобы враги — татары и турки — не узнали, что рассказано в надписи, они применили свои древнейшие знаки письма. Много ученых пыталось разгадать письмена на камне, но безуспешно.
А спросили бы народ — и народ все раскрыл бы…
Поселок Массандра и село Никита расположены в нескольких километрах к востоку от Ялты. Эти селения являются одними из древних на Южном берегу Крыма. В настоящее время поселок Массандра известен заводами винкомбината «Массандра», славящимися производством марочных вин; село Никита дало имя известному в стране Никитскому ботаническому саду.
Скалы Верхней Никиты составляют очень живописную группу, используемую иногда для тренировки спортсменов-скалолазов.
Легенда о «письменном камне» донесла до наших дней историю, которая в действительности могла произойти в этих местах. Жители Южного берега не раз становились жертвами произвола турецких захватчиков, которые силой увозили в Стамбул красивых девушек и женщин.
О камне с надписью (Грамата или Язлы-таш) возле Никиты упоминает известный крымовед академик П. Кеппен в своем сочинении «О древностях Южного берега Крыма и гор Таврических», изд. 1837 г.
Данный вариант легенды был записан от С.Ф. Борисовой из Ялты.
Паша — турецкий сановник.
Янычары — турецкие солдаты из уведенных турками в неволю христианских детей, воспитанных с детства в особых школах. Войска янычаров были упразднены в XIX веке.
Как возникла Ялта
Было — не было так, но рассказывают, что в далекие времена по Черному морю плыли греки из Константинополя, чтобы найти для себя новые плодородные земли. Плыли долго и как будто уже должны были увидеть берег. Но его все не было и не было, потому что зигзагами шла дорога путешественников. Недаром в древности называли Черное море Понтос Аксинос — Негостеприимным морем. Бушевало оно, бросая суда по волнам. Выбились люди из сил, борясь со стихией, и ждали гибели в темно-свинцовых водах.
Наконец стихла буря. Но не сделалось легче. Спустился густой туман, закрыл горизонт и небо. Куда плыть? В какую часть света несет корабли?
Долго блуждали по морю люди. Не стало на судах пресной воды, съедена вся пища, и снова мореплаватели ждали гибели от жажды и голода.
Много дней стоял кругом мертвый туман. Отчаяние охватило путешественников, потерявших надежду когда-нибудь встретиться с землей. Но однажды утром с зарей появился ветерок, белая пелена стала рассеиваться, выглянуло солнце, и совсем недалеко греки увидели зеленый берег и горы.
— Ялос! Ялос! Берег! Берег! — закричал дозорный, и все на корабле радостно приветствовали землю:
— Ялос! Ялос!
То была прекрасная Таврида…
С возродившимися силами работали гребцы и вскоре причалили к берегу. Вернулись жизнь и радость к уставшим переселенцам.
На благодатной земле греки, по соседству с местными жителями, основали поселение и назвали его самым дорогим для себя словом “Ялос” — берег.
Так возникла Ялта — прибрежное селение и ее название.
Легенда о возникновении Ялты связывает воедино основание города с его названием. Известно, что в период раннего средневековья Византийскаяя империя владела Южным берегом Крыма и поддерживала с ним оживленные связи. Не исключена возможность переселения греков из Византии в Крым, о чем рассказывает легенда.
Записана от М.Г. Киборт из Ялты.
Ялос — по-гречески берег.
Легенда о Золотом пляже
Жил когда-то в Ялте турецкий правитель всей округи Амет-ага. Более злобного притеснителя не встречали еще жители Южного берега. Самым большим удовольствием для аги было издеваться над стариками. Но хуже самого аги была его жена, злая, ненасытная Ходжава, действовавшая заодно с сыном своим, прозванным за жестокость Дели-балта, то есть бешеный топор.
Злая Ходжава беспрерывно подговаривала мужа и сына совершать насилия над беззащитными жителями Ялты и ее окрестностей, грабить несчастных, отбирать последние гроши у них. Ни одна лишняя монета не могла укрыться от жадных глаз аги, его супруги и сына.
Так богатела эта семья на несчастье и горе, людей. Вскоре сундуки злой Ходжавы были наполнены золотыми и серебряными монетами, браслетами, янтарем, дорогими тканями.
Но вот подошел конец господству турок в Крыму. Амет-ага, его жена Ходжава и сын Дели-балта спешно покидали крымские берега. Ходжава перенесла все сундуки на судно, готовое отплыть в Синоп. Вслед убегавшей семье неслись проклятия дочиста ограбленных ею местных жителей.
Но как только тяжело нагруженное всяким добром судно вышло в открытое море, поднялась сильная буря. Ветер и волны швыряли судно, как ореховую скорлупу. Сломался руль, ветер порвал паруса и снасти, и, лишенный управления, корабль стал гибнуть. Жители Ялты стояли на берегу и смотрели в море, где воздавалось возмездие тем, кто нажился на слезах и страданиях народа.
Буря была так сильна, что никто не мог помочь погибающим, если бы даже хотел этого. Судно вынесло к Ореанде, что возле Ялты. Здесь оно было разбито, и обломки его выбросило на берег. Злая Ходжава, ее муж и сын камнем пошли на дно под тяжестью зашитых в их одежде золотых монет.
Прибежал народ в Ореанду, и увидели все, что песчаный берег усеян золотыми и серебрянными вещами.
— Смотрите, весь пляж золотой! — кричали дети. А взрослые тем временем собирали богатства и делили их между собой.
С тех пор берег возле Ореанды стал называться Золотым пляжем.
Говорят, что даже теперь, во время сильных бурь на Черном море, волны продолжают выбрасывать на этот пляж измельченное золото, оно светится и переливается солнечными бликами в мелкой гальке.
Легенда, несомненно, имеет историческую основу. Произвол турецких чиновников, непосильные взятки и поборы с местного населения достигали невиданных размеров, особенно в последние годы турецкого владычества в Крыму. Конец этому положила война 1768-1774 гг., закончившаяся победой России и подписанием Кучук-Кайнарджийского мирного договора, по которому турецкие войска и администрация были выведены из Крыма.
Легенда записана от М. Г. Киборт из Ялты.
Золотой пляж — один из лучших галечных пляжей на Южном берегу; находится в нескольких километрах западнее Ялты. Там же расположен санаторий того же названия.
О русалке и фонтане у Мисхора
В очень давние времена, когда Южный берег Крыма был под властью турецкого султана, жил в деревне Мисхор скромный труженик Абий-ака. Жил он в хижине вблизи моря и неутомимо работал на своем маленьком винограднике. Слыл старик Абий-ака честным работящим человеком и пользовался почетом и уважением у всех односельчан.
Бережно ухаживал Абий-ака за своими дынями на баштане, за лозами на винограднике, за персиками и яблонями в саду, оберегая их от весенних морозов и туманов, от прожорливых гусениц и болезней. Но всего заботливее, всего нежнее выращивал он свою единственную донку, черноглазую Арзы. Славился Абий-ака своей мудростью, но еще больше славился он красавицей-дочкой. Строен и гибок был стан Арзы, как лоза винограда, сорок тонких косичек сбегали по плечам ее до самых колен, как сорок струек воды в горной речке, блестящие огромные глаза были черны, как звездное небо над цветущей яблоней, яркие губки рдели, как две спелые вишни, а нежные щеки румянились, как бархатные персики.
Все любовались прелестной Арзы. Но внимательнее всех присматривался к ней хитрый старик Али-баба. Он потерял покой с тех пор, как впервые увидел ее у фонтана на берегу моря, набиравшей воду в медный кувшин. Али-баба был хозяином фелюги с пестрыми парусами, которая приходила часто из-за моря с турецкого берега в Мисхор с товарами. Не любили купца: ловко он умел обмануть при купле и продаже. И еще шла о старом турке темная молва, будто высматривает он девушек в деревнях Южного берега, похищает их и увозит на своей фелюге в Стамбул для продажи в гаремы турецких пашей и беев.
Всегда не по себе было красавице Арзы, когда она чувствовала пристальный взгляд Али-бабы
Время шло, и хорошела с каждым днем девушка Весело хлопотала она вокруг отцовской хижины, помогая матери в работе, звенел ее серебристый смех на винограднике, с песней спускалась она к своему любимому фонтану И долго просиживала там, глядя, как набегает на берег волна за волной и шевелит разноцветные камешки.
Много мисхорских женихов присылало сватов к Абий-аке, но посмеивался старик и пряталась Арзы. Не могла она забыть веселого парня из дальней деревни, которого встретила однажды у прибрежного фонтана. О нем-то и думала она подолгу, глядя на волны и на чаек, носившихся над морем.
И вот пришел день, когда парень прислал сватов к Арзы. Покачал головой Абий-ака, жаль ему было отдавать дочь в чужую деревню, поплакала мать. Но не отказали сватам родители.
Пришла весна, цвели деревья у хижины Абий-аки, но еще пышнее цвела дочь Абия, готовясь к свадьбе. И только одно печалило ее сердце: близкая разлука с отцом и матерью, с родной деревней, с подругами и с милым фонтаном у берега моря.
Весело праздновала деревня Мисхор свадьбу красавицы Арзы. Юноши и девушки затевали шумные игры.
Многолюднее и шумнее всего было во дворе Абий-аки. Вся деревня Мисхор сошлась на свадьбу Арзы. И из соседних деревень пришло много гостей на торжество.
Звенели смех и песни, но Арзы была печальна.
Вот спустились весенние сумерки на берег, вот в синюю тень погрузилось подножие Ай-Петри У деревни запел рожок пастуха, возвращавшегося со стадом, и подернулась мраком просторная гладь моря. Поднялась со своей подушки наряженная в пестрое одеяние невесты Арзы и тихонько вышла из хижины. В последний раз захотела повидаться и проститься с дорогим для нее фонтаном и морским простором.
Взяла она свой медный кувшин и спустилась к фонтану. Там, у самых морских волн, прислушиваясь к плеску прибоя и журчанию источника, погрузилась она в воспоминания о детстве.
Не подозревала девушка, что несколько коварных глаз наблюдали за ней, следили за каждым шагом. Не замечала она, что в прибрежных кустах прятались чужие люди. Не знала, что фонтан окружен со всех сторон.
Посидев у берега, Арзы подошла к фонтану, нагнулась и подставила свой кувшин под желобок. Звонко побежала вода в медный сосуд.
Вдруг… Что-то чуть шевельнулось над самой ее головой, послышался легкий, кошачий прыжок, и две цепкие руки обхватили несчастную девушку. Отчаянный крик вырвался из груди Арзы, но две другие руки закрыли ей рот, набросили плащ на голову, скрутили так, что она не в силах была издать больше ни звука.
Пираты подхватили драгоценную добычу и во главе с Али-Бабой бросились к лодке.
Али-Баба торжествовал. Наконец-то ему удалось доставить радость своему жадному сердцу, похитить такую красавицу, которая станет украшением дворца самого султана, а ему принесет богатство, много золота. Узнав о свадьбе, он уже совсем было потерял надежду захватить Арзы. А тут она сама далась в руки.
Обезумев от ужаса и горя, прибежал отец Арзы на крик дочери, бросились за ним жених и гости, но было уже поздно — фелюга Али-бабы, покачиваясь на волнах, уносилась к Стамбулу.
Деревня огласилась воплями. Все оплакивали любимую Арзы.
Тосковали о бедной девушке не только несчастные родители, не только жених, не только односельчане. Зачах и любимый ее фонтан. Прежде он весело журчал, давал обильную влагу, а исчезла Арзы — стал иссякать, наконец лишь тяжелые капли, как горькие слезы, покатились с желобка.
Али-баба привез Арзы в Стамбул. Удача и здесь не оставила его. Не успел он вывести плачущую девушку на невольничий рынок, как явились туда евнухи самого султана. Они нашли Арзы достойной гарема наместника пророка на земле. Девушка была приведена во дворец. За Арзы Али-баба получил большую плату: столько золотых монет, сколько нужно было, чтобы сплошь выложить ими ложе его величества…
Тосковала, плакала Арзы, не находила себе места в гареме, дичилась жен, рабынь, евнухов и таяла не по дням, а по часам. Родила Арзы мальчика, но не принес он облегчения ее душе. Ровно через год с того дня, когда руки разбойников схватили ее на далеком крымском берегу улюбимого фонтана, поднялась Арзы с ребенком на угловую башню султанского сераля и бросилась в пучину Босфора.
В тот же вечер печальная русалка с младенцем подплыла впервые к фонтану у берега Мисхора.
С тех пор один раз в год, в тот день, когда была похищена Арзы, начинал фонтан струиться сильнее, и в этот же час из тихих волн появлялась русалка с младенцем на руках. Она подходила к фонтану, жадно пила воду, играя со струёй, смачивала руки и волосы, ласково гладила камни, сидела на берегу, задумчиво всматривалась в морской простор, глядела на родную деревню. А потом, тихо опустившись в волны морские, исчезала до следующего года…
Южнобережная легенда о девушке Арзы в какой-то степени отражает действительные случаи похищения молодых женщин турецкими пиратами и продажи их в гаремы богатых стамбульских пашей и султанов. Известно, что еще в XVIII веке существовал такой промысел.
Похищенные женщины оказывались навсегда оторванными от родных мест, иные из них, не вынеся неволи, кончали жизнь самоубийством.
Широко известны и пользуются популярностью среди экскурсантов скульптурные группы "Фонтан Арзы" и "Русалка", установленные на берегу моря в Мисхоре. Эти скульптуры были выполнены известным скульптором А. Р. Адамсоном свыше пятидесяти лет назад.
Легенда впервые была опубликована в фольклорном сборнике Алуштинского музея, изд. 1936 года.
Мисхор — курорт на Южном берегу Крыма.
Фелюга — турецкое парусное судно.
Сераль — султанский дворец.
Об источнике под Ай-Петри
Между Алупкой и Мисхором на берегу горной речки Хаста-баш в давние времена доживали свой век старик со старухой. Хижина их пришла в ветхость, да и не удивительно: ведь старику исполнилось девяносто лет, старухе восемьдесят, а дети их давно разъехались по свету в поисках счастья. Крошечный огород и садик едва-едва давали им скудное пропитание.
Почувствовал старик приближение смерти. Мучила его и старуху одна мысль: где взять деньги, чтобы устроить приличные похороны?
Старик решил, собрав последние силы, несколько раз сходить в горы в лес, набрать там сушняка, продать его на базаре в Алупке и купить гроб и все, что нужно для похорон.
На следующий день старик рано утром опоясался веревкой, заткнул за пояс топор и, тяжело опираясь на кизиловую палку, пошел в горы. Подолгу и часто отдыхал, пока дошел до подножия Ай-Петри, где было много бурелома и сухих веток. Нарубив большую вязанку дров и взвалив ее на спину, кряхтя и спотыкаясь, поплелся старик вниз.
Дошел он до одного из источников, которые дают начало речке Хаста-баш. Солнце было в зените, жара и усталость совершенно обессилили старого человека. Он решил отдохнуть и, сбросив дрова на землю, жадно стал пить. После этого ему очень захотелось спать, и, прислонившись спиной к сосне, старик уснул.
Когда он проснулся, то увидел, что солнце ушло на запад — день кончился. Старик забеспокоился и поспешил домой. Легко вскинув на плечи вязанку с дровами, чуть ли не пританцовывая, быстро начал спускаться с горы, по привычке разговаривая с самим собой:
— Мало дров взял, старый, очень легкая ноша, надо бы раза в два больше.
Между тем старуха, не дождавшись старика, решила пойти в лес на поиски. Когда она увидела человека с вязанкой, то не узнала в нем своего мужа и обратилась к нему со словами:
— Не встречал ли ты, молодец, в лесу моего старика?
— Да что ты, мать, — ответил ей муж, — от старости ослепла, что ли, своего старого узнавать перестала!
— Не смейся надо мной, старой, и ты когда-нибудь таким будешь, и мой муж лет семьдесят назад был таким, как ты.
И понял тогда старик, что напился он воды из источника молодости, о котором говорил ему дед, но местонахождения которого никто из окрестных жителей точно не знал.
Старик рассказал об этом старухе. Она, конечно, немедленно захотела напиться той же водицы. Муж объяснил ей, как найти источник, и быстро пошел домой. Он вдруг вспомнил что много лет уже не починял плетень вокруг сада и огорода, что оставалась лежать сломанной калитка и что вообще немало дома дел, которые требуют сильных рук и хозяйского глаза.
Увлекшись работой, он не заметил, как наступила ночь. Только тогда, когда нельзя было уже работать без света, вспомнил, что старухи все нет и нет. Бегом бросился в горы. За несколько минут он проделал путь, на который утром затратил несколько часов. Но у источника старухи не было.
Долго он разыскивал жену. Уже отчаялся найти ее, когда услышал в кустах детский плач. Подняв ребенка, он направился домой. Наступал рассвет. Несказанно удивился старик, увидев, что ребенок на его руках укутан в лохмотья старухи…
Оказалось, что со свойственной женщинам жадностью к молодости старая женщина выпила слишком много воды из чудодейственного источника под горой Ай-Петри.
Сюжет легенды можно назвать "бродячим", так как легенды на подобные сюжеты бытыют у многих народов, живущих среди гор, изобилующих реками и источниками с чистой водой. Можно предполагать, что легенда была занесена в Крым с Кавказа, как известно, богатого минеральными источниками, исцеляющими недуги.
Легенда была записана от Г. А. Никитина из Алупки.
Хаста-баш — горная речка, берущая начало в районе горы Ай-Петри.
Развалины крепости на Крестовой горе
В далекие времена в Крыму жило два племени. Народ, населявший побережье, занимался разведением садов, сбором фруктов и ягод и ловил рыбу в море. Люди, находившиеся внутри страны, в лесах, занимались охотой на диких козлов и оленей и скотоводством.
Не было согласия между береговыми и лесными людьми. Часто шли между ними войны. Разорялись и сжигались селения, многих жителей убивали и уводили в плен.
В войнах чаще побеждали лесные люди. Закаленные на охоте, они были более смелы, подвижны, жестоки и выносливы. А люди береговые, земледельцы, хуже владели оружием, не привыкли к военным хитростям.
Правитель лесных жителей имел сына-наследника, юношу смелого, сильного и настойчивого. Юноша еще не знал, любви, да и не было в их стране девушки, достойной его. Он жадно слушал рассказы об иноземных красавицах.
У юноши был воспитатель-невольник. Он научил многому молодого наследника: стрельбе из лука, метанию из пращи, прыганью, бегу. Любил воспитатель своего воспитанника и рассказывал ему о жизни других народов, об их витязях и девушках. Рассказывал, что у правителя берегового народа есть дочь редкой красоты, такой красоты, что соловьи той страны только о ней и поют. Тайно вызывал юноша невольников, которые видели красавицу, и расспрашивал их, какова она собой.
Наслушавшись рассказов о красавице, юноша загорелся такой любовью к этой девушке, что только и думал о ней. Все перестало его радовать: охота, скачки, военные игры, состязания, веселые пирушки, рассказы старых воинов о походах и победах и прочие развлечения. Юноша стал мрачен, молчалив, не находил покоя, отказывался от пищи, не спал по ночам, тоскуя о далекой красавице. Он иссох так, что стал похож на свою тень.
Обеспокоился старый отец юноши, видя перемену в любимом сыне. Настойчиво допытывался о причине, его тоски, но юноша молчал. Старик звал колдунов, жрецов, но никто из них не мог излечить юношу.
Отец велел верховному жрецу во что бы то ни стало узнать причину скорби сына. Жрец стал следить неотступно за каждым шагом и вздохом юноши, но ничего не мог заметить. И только однажды, когда юноша забылся в дремоте, жрец тихо подкрался к нему, приник ухом к шевелящимся губам и услышал: “О, Зехра, Зехра” и слова великой любви и печали.
Гадали правитель со своим жрецом, о ком шептал юноша, но не могли догадаться. Не нашлось в их стране девушки с таким именем. Стали искать людей, которые знали бы, кого зовут именем Зехра. И вот один из невольников сказал, что Зехра живет по ту сторону гор. Другие пленники подтвердили, что у правителя береговой страны есть дочь Зехра.
Тревога и печаль старика-отца сменились страшным гневом, ибо одно упоминание о ненавистном соседе приводило его в ярость.
Он увидел в любви сына измену отцу и племени, запретил ему даже думать о проклятой иноземке — дочери исконного врага, грозил отцовским проклятием. За юношей был установлен строгий надзор. Но твердое сердце юноши не испугалось угроз отца. Он решил бежать из родной страны и пробраться к береговым людям, чтобы хоть раз взглянуть на свою любовь и исцелить свою душу.
Долго размышлял юноша, как ему обмануть отца и обойти надзор, однако ничего не придумал. Помог ему дядька-воспитатель. Он достал пастушье платье и в одну темную грозовую ночь проскользнул с переодетым юношей мимо стражи и добрался до ближайшего леса. Всю ночь они бежали по лесным дебрям, скалам, без дорог и тропинок и к рассвету поднялись на пустынную вершину хребта. Здесь беглецы прятались в пещере. Во вторую ночь они по скалам спустились в леса южного склона к прибрежным селениям.
Как ни трудно было бежать из отеческого дома, как ни трудно было пробираться через горы и дремучие леса, но увидеть красавицу-дочь правителя береговой страны оказалось еще трудней. Всячески старался юноша проникнуть во дворец — все его попытки кончались неудачей. Наконец беглецы придумали такую хитрость. Разучив много песен береговой страны и одевшись странствующими нищими, стали ежедневно петь у дворца правителя, восхваляя его мудрость. Долго пели напрасно, однако прекрасный голос молодого певца и настойчивая мольба, выражавшаяся в его песнях, наконец произвели впечатление на красавицу. Вначале она приближалась к воротам и слушала, а затем упросила отца допустить певцов в ее комнату. И тут-то юноша впервые увидел ту, о ком мечтал бессонными ночами и из-за которой покинул отца и родную страну. Долго не мог он прийти в себя от изумления, ибо все мечтания оказались лишь бледной тенью той живой красоты, какую он увидел.
Девушка тоже скоро обратила внимание на то, что молодой нищий не только обладает звучным голосом, но и прекрасен собой; у него смелые пылкие глаза, а нищенские одежды скрывают сильное гибкое тело.
Постепенно молодой певец стал отличаться не только в искусстве пения. Он нередко участвовал в состязаниях в стрельбе из лука, метании копья, борьбе и верховой езде. Никто из местных юношей не мог с ним сравниться силой, мужеством и меткостью.
Много прошло дней, недель, месяцев, прежде чем два любящих сердца открылись друг другу. Беспредельно было их счастье, когда отец красавицы согласился на брак. Счастлив был и отец, когда Зехра наградила его золотокудрым внуком.
Тем временем правитель горно-лесной страны после бесплодных поисков исчезнувшего сына, после пыток и казни воинов стражи решил, что сын его погиб. Он желал, чтобы юноша лучше умер, чем стал возлюбленным дочери врага. Но когда до него дошел слух, что во вражеской стране какой-то пришлый женился на дочери правителя и что у него родился сын, в душу старика закралось подозрение. Он послал лазутчиков в береговую страну. Безмерна была ярость старика, когда он все узнал.
Решил злой отец уничтожить сына и все береговое племя. Собрал огромное войско и двинулся в поход. Семь лет и семь зим длилась война. Лились реки крови, воздух наполнялся свистом стрел, и земля дрожала под копытами лошадей. Яростен был натиск свирепых пришельцев. Мужественно защищали свою землю, хижины, жен, детей и стариков береговые жители.
Зять правителя береговой страны, как лев, бросался вперед, увлекая за собой воинов. Его оружие приносило победу. Но не всегда и не везде он мог быть впереди, а там, где его не было, войска терпели поражение.
Случилось, что молодой витязь с отборным отрядом бросился на врагов, сея в их рядах смерть, и проник далеко в глубь вражеского стана, стремясь настигнуть своего отца. Тут он оказался окруженным. Стойко бился отряд, но витязь был убит камнем, который метко пустил из пращи его отец. Пали и все воины отряда.
Ужас объял прибрежных обитателей, и они уже не сопротивлялись. Немногие из них попали в рабство, все остальные были уничтожены, города, деревни и храмы — разрушены, цветущий берег превратился в мрачную пустыню.
Долго защищался в своем дворце, на месте нынешней Алупки, правитель прибрежной страны. Не могли враги взять дворец. И, чтобы уничтожить его, они стали с вершины Ай-Петри сваливать огромные глыбы, которые со страшной силой катились вниз и разрушали дворец.
Старый правитель, видя неминуемую гибель, бросился с дочерью и внуком спасаться через потайной подземный ход в крепость на Крестовой горе. С трудом он поднялся по подземному ходу в крепость и с ужасом увидел, что она тоже разрушена и завалена обломками скал. Враги не могли найти беглецов там, но и беглецы не могли выбраться из каменной западни и после долгих страданий и мучений умерли здесь от голода.
И высятся с той поры развалины крепости на Крестовой горе как памятник людской жестокости и бессмысленной вражды.
Близ Алупки на Крестовой горе в древности были таврское поселение и могильник, остатки которых сохранились до сих пор. Гору опоясывает на значительном протяжении оборонительная стена циклопической кладки, ныне сильно разрушенная. Крестовая гора окружена сосновым лесом, среди которого видны огромные глыбы скал, некогда упавшие с Ай-Петри и кое-где составляющие хаотические, очень живописные нагромождения.
Легенда в публикуемом варианте записана в 1938 г. от П. Однокозова из Алупки.
Птица счастья с Соколиной горы
Встретились два соседа: бедный и богатый.
— Что ты такой грустный? — спросил богатый бедного.
— А что же веселиться, — сказал бедный, — счастья ни на что у меня нет. Говорят, есть на свете справедливость, да видно, не для бедняков! Тебе богатство само в руки лезет, хоть ты в торговле без конца людей надуваешь, а вот мне досталось совсем не то: много детей и мало прибытку. Богачи имеют сады и виноградники в долинах, воды там много и урожаи большие, а мне, бедняку, отвели участок на бугре, под самой Соколиной скалой, что возле Ай-Петри. Вот и бьюсь, как рыба об лед. Кругом кустарник, камни. Что там будет расти? Дети мои редко когда кусок хлеба видят. Нет у меня счастья, — закончил бедняк.
— Откуда ты счастья ждешь? — спросил богатый. — Счастье надо самому добыть. Ты не слыхал, как бывалые люди рассказывали, будто на Соколиной скале есть пещера, а в ней птица живет, которая счастье приносит. Как жар горит! Поймай ее, и счастье будет твое. Только, — продолжал богатый, — не дается она легко. Много, много людей хотели поймать Птицу Счастья, да сами навсегда в пещере остались, — очень там глубоко и страшно.
С того дня, как поговорил бедняк с богатым, не стало покоя бедняку. Все из рук валится: Птица Счастья на уме. Однажды взял он канат, мешок, длинную палку и полез на скалу.
Ох, и трудно же было лезть! Ожиной все заросло, держи-деревом, колючки в тело впиваются. А как на самую верхушку взбираться стал бедняк, тут уж совсем дело дрянь вышло: на два шага подымется, а четыре назад ползет. Хорошо, что в руках была толстая палка, а то никогда не поднялся бы на Соколиную скалу.
Вот под самым верхом и пещера. Сел у края ее бедняк, покурил, отдохнул немного. Влез он в пещеру, а в ней сразу с самого края пропасть начинается, стены отвесные, как у колодца, и дна не видно.
Обвязал себя смельчак канатом, один конец к корню дерева прикрепил и стал спускаться. Спустился немного, вдруг подул со дна пещеры сильный ветер и чуть бедняка наверх не выкинул. А бедняк хитрый: уперся ногами в стены пропасти и давай дальше лезть, вниз. Еще немного спустился, стали птицы крыльями хлестать его. Отбился и от них.
Лезет и лезет бедняк вниз. Целый день лез. В пещере темно, ничего не видно. Вот как будто дно пещеры, а в стороне дыра, пролезть можно. Иссякли силы у бедняка, а охота ему Птицу Счастья поймать. Пролез еще в одну дыру, и вдруг необыкновенным светом ему в глаза ударило., Закрылся рукой счастливец, весь так и дрожит.
“Вот она где, Птица Счастья, — думает, — как бы не убежала!”
Пролез еще немного, стал подкрадываться к Птице Счастья. Той уже деваться некуда. Забилась она в угол и пищит. Снял бедняк шапку с головы, накрыл птицу и скорее ее в мешок. Стал назад карабкаться. Долго поднимался, измучился весь, но, наконец, выбрался наверх, покурил и давай домой бежать. Дома жену и детей чуть насмерть не перепугал, когда увидели они его без шапки и всего ободранного. Заплакала жена:
— Что ты сделал? Одни штаны у тебя были, и от тех лохмотья остались!
— А ты, жена, не плачь, — сказал бедняк. — Что там штаны! Я Птицу Счастья поймал, теперь заживем!
Поел бедняк похлебки и давай для Птицы Счастья клетку мастерить. Делает клетку и все думает, как бы это от птицы побольше счастья взять.
Долго думал и решил так: пока от птицы добра дождешься, лучше сразу за нее деньги получить. Бедняк слыхал, что хан в Бахчисарае за всякие диковинки много платит.
— Пойду, отдам хану Птицу Счастья, — сказал жене бедняк, — а хан даст золото, вот мы и разбогатеем!
Посадил бедняк птицу в клетку, и, пока мешком накрывал ее, чуть не ослепли жена и дети — такой свет наполнил убогую хижину.
Пошел бедняк в Бахчисарай. Долго шел, наконец добрался. Расспросил дорогу к дворцу. Стража не пустила бедняка к хану. А сказал бедняк, с чем он пришел, — и не только калитку, даже главный вход открыли, как для дорогого гостя. Переступил порог бедняк и подумал: “Вот где счастье начинается!”
Попал он в ханские покои. Толстый хан важно сидит на подушках, а кругом министры стоят.
— Правда, что ты мне принес Птицу Счастья? — спросил хан бедняка.
— Правда, повелитель, вот она! — и бедняк указал на клетку.
— А ну, покажи, — сказал хан.
Снял бедняк мешок с клетки. Как брызнет от птицы сверкающим светом и опаляющим жаром… Министры все на пол попадали, а хан в испуге подушкой закрылся.
— Скорей, скорей закрывай клетку! — кричит хан бедняку.
Опять тот клетку мешком закрыл. С пола поглядывают министры, а хан спрашивает:
— Эй, ты, чертов сын, хорошо закрыл?
— Хорошо, повелитель, — ответил бедняк.
Вылез хан из-под подушки, смеется:
— Вот так штука интересная! А можешь ты поймать еще такую птицу? — спросил хан бедняка.
Не оробел бедняк:
— Что же, — говорит, — трудно, но можно.
— Подумаю я, как наградить тебя за подарок по-хански, — сказал хан. — А пока сдай птицу моему первому министру.
Отдал бедняк то, что добыл с таким трудом. Щедро наградил хан бедняка: велел снять ему голову с плеч, чтобы отважный охотник еще кому-нибудь другому не поймал птицу, которая приносит счастье.
Сюжет легенды о Птице Счастья, несомненно, заимствован от других народов, в фольклоре которых также встречаются мотивы о счастье в виде птицы, нелегко дающейся в руки бедному человеку.
Впервые напечатана в записи А. Кончевского в 1929 году.
Соколиная гора (Шан-Кая) — скала несколько западнее массива Ай-Петри, ее высота 877 метров над уровнем моря. С вершины скалы открывается широкий вид на Южный берег, Алупку и Симеиз и на отвесную стену яйлы, от которой скала некогда откололась.
О скалах Дива, Монах и Кошка в Симеизе
В те далекие времена Южный берег был покрыт дремучим лесом, но селения уже соединились узкими тропинками.
Среди безлюдных скал Симеиза появился отшельник. Долго не знали, кто он. Однако людская молва все-таки принесла рассказы о его жизни. Покачали головой люди. Много страшного было занесено в книгу дней этого человека.
Беспощадный и жестокий воин, он долгие годы огнем и мечом опустошал многие страны, разорял города, жег селения, усеивая свой путь десятками трупов беззащитных стариков, детей и женщин. Особенно много было на его совести девушек: их захватывал он и себе на утеху и для продажи в неволю.
Ужасные видения долго мучили этого человека. Жертвы его злодеяний проносились перед ним чередой, взывая к возмездию.
Решил искупить этот злодей вину перед своими жертвами. Разыскал в скалах Симеиза пещеру и поселился в ней, питался одними дикими плодами, лишь иногда позволял себе съесть немного рыбы, которую ловил в море. Надеялся изнурить себя постом так, чтобы не иметь сил даже вспоминать.
Миновали годы. В конце концов люди забыли прошлое отшельника. Новое поколение знало его как человека чистой жизни. В народе прослыл он мудрым. Пастухам, которые встречали иногда отшельника, казалось, что вокруг его головы светилось сияние, а это они считали знаком необычайной праведности человека.
Редко подходили люди к пещере отшельника. Не любил он людей: напоминали ему они о прошлом.
За долгие годы одиночества многое из своей прошлой жизни старик, наконец, и сам забыл. Забыл и стал считать, что так, как он живет в пещере, он жил всегда. Никогда никаких преступлений не совершал, никакого раскаяния перед людьми испытывать не должен. Проникся он гордостью великой и все чаще смотрел на людей, как на существа низшие, порочные, не ровня ему, праведнику.
Дьявол и злой дух не могли спокойно относиться к такой незаслуженной славе старика. Ведь он был им сродни — грабитель и убийца. Им стало обидно. Они — не хуже его, а как презирают их и как восхваляют его!
Начали они искать какую-нибудь старую склонность в старике. Не могли найти: далеко спрятал он свою былую алчность, жестокость, развращенность. Долго обдумывали, как же подступить к его душе. И придумали.
Обернулся дьявол кошкой. В ненастную ночь стал царапаться в дверь пещеры отшельника и жалобно мяукать. Сжалился старик, пустил кошку в тепло.
И прижилась кошка в пещере. Днем спала, по ночам охотилась, а по вечерам у огня мурлыкала свои песни. Рисовали эти песни отшельнику картины тихой жизни у очага, в кругу детей и близких. Разъярился старик. В его ожесточенном сердце никогда раньше не было места для таких человеческих радостей, ненавистны были они ему и теперь. Схватил старец кошку за хвост и вышвырнул из пещеры…
Засмеялись дьявол и злой дух от удовольствия: заставили отшельника показать свою истинную душу.
Наступила очередь злого духа. Обернулся он красивой девушкой. И когда однажды старик закинул сеть в море, чтобы наловить рыбы, злой дух юркнул в нее. Вытащил отшельник сеть на берег, а в ней не рыба, а девушка, едва прикрытая остатками одежды. Лежит с закрытыми глазами, свежа, обольстительна. Изумился такому диву старик, кинулся к девушке, стал приводить ее в чувство.
Вздохнула красавица, приоткрыла глаза, ласково посмотрела на отшельника. Улыбнулся он девушке, присел возле нее. Хотел расспросить, кто она и как попала в сети. А девушка вскинула руки на его плечи и крепко поцеловала в губы. Проснулось в отшельнике прошлое. Жадно привлек он красавицу к себе…
Засмеялись дьявол и злой дух от удовольствия, что еще раз заставили отшельника показать свою истинную душу. Громом прокатился их злорадный смех.
Но не стерпели добрые силы мира надругательства над тем, что свято для рода человеческого: над семейным очагом и чистой любовью. Не могли больше стерпеть обмана, который сеял отшельник. И в наказание превратили всех трех в камень…
И с той поры стоит у моря скала Дива, не спускает глаз с нее скала Монах, а за ними, словно сторожит их, гора Кошка.
В районе нынешнего Симеиза на Южном берегу Крыма некогда произошел горный обвал. Часть известняковой кромки откололась от общего массива яйлы и сползла к морю, устилая свой путь обломками скал. Длительный процесс выветривания, длящийся тысячи лет, придал этим гигантским глыбам причудлиый вид. Так образовалась гора Кошка, напоминающая лежащую кошку, скала Дива и другие оригинальные формы скалы. Еще лет двадцать пять назад существовала столбообразная глыба Монах, поразительно напоминавшая человеческую фигуру в длинном одеянии с капюшоном на голове. Зимой 1931 года во время сильного шторма верхняя часть скалы была разрушена прибоем, и теперь от Монаха остались лишь бесформенные обломки.
Легенда о живописной группе симеизских скал, возникшая в сравнительно недавнее время, имеет много вариантов. Публикуемый в настоящем сборнике вариант записан в 1928 году от С. Одамана из Симеиза.
Гикия — героиня Херсонеса
Было время, когда цветущим, многолюдным Херсонесом управлял первый архонт Ламах. Был он очень богат, имел много золота и серебра, скота и земли. Дом его — большое квадратное здание — выходил на несколько улиц. В городской стене Ламах имел даже отдельные ворота, чтобы многочисленные его стада, возвращаясь с пастбищ, не шли через город, а попадали прямо в загоны, примыкавшие к дому.
Гикия была единственной дочерью Ламаха. В Херсонесе, славившемся своими риторами и мудрецами, она получила прекрасное образование. Среди девушек города она выделялась красотой и умом. Как истая херсонеситка, Гикия горячо любила свой знаменитый город, раскинувшийся на берегу беспокойного Понта, и мечтала сделать для него что-нибудь выдающееся.
В те времена соседним Боспорским царством правил царь Асандр. Не давали ему покоя богатства Херсонеса. Пытался он силой захватить город, да потерпел поражение. Тогда решил Асандр хитростью овладеть городом. Знал он, что у Ламаха есть дочь, и предложил своего сына ей в мужья. Надеялся он, что после смерти Ламаха власть над Херсонесом перейдет к роду первого архонта и от Гикии попадет в руки его сына. Царь посвятил сына в свой замысел, и тот согласился действовать так, как задумал отец.
Херсонеситы разрешили Ламаху брак Гикии с сыном Асандра. Но они поставили условием, чтобы после свадьбы муж Гикии никогда не покидал Херсонеса для свидания с отцом; если он посмеет это сделать, будет казнен. Боспорцы приняли это условие, и сын Асандра, приехав в Херсонес, женился на Гикии.
Пламенно и искренне полюбила Гикия своего мужа. Он казался скромным человеком, преданным гражданином Херсонеса, не скупящимся на добрые дела.
Через два года умер Ламах. На совете именитых граждан было решено поставить во главе управления городом не сына Асандра, зятя Ламаха, а другого видного херсонесита, Зифа, сына Зифова. Рухнули планы мужа Гикии. Но он не отказался от своей мечты и лишь ждал удобного случая, чтобы осуществить свой замысел.
В первую годовщину смерти отца Гикия пожелала почтить его память и с разрешения совета города устроила поминки. Она пригласила к себе многих граждан города и раздавала им вино, хлеб, масло, мясо, рыбу — все, чем полны были кладовые ее обширного дома. Все благодарили Гикию за хорошее сердце.
Городские власти разрешили Гикии так отмечать ежегодно годовщину смерти отца.
Одно из таких празднеств и решил использовать муж Гикии для выполнения своего коварного плана. Он послал преданного раба в Пантикапей к отцу с известием, что нашел путь завладеть Херсонесом.
Отец стал присылать сыну морем через определенные промежутки времени по десять или двенадцать отважных юношей, кроме гребцов, как бы для того, чтобы доставить ему и Гикии подарки. Лодки боспорян входили в бухту Символов, а сын Асандра посылал туда лошадей, на которых привозил в город и подарки, и боспорских юношей. Через несколько дней гости якобы должны были уезжать к лодкам. Их отъезд муж Гикии приурочивал к позднему вечеру, когда совсем стемнеет. Отойдя на некоторое расстояние от города, боспорцы сворачивали с дороги и, достигнув берега, на лодках возвращались к тропам, по которым шли стада Ламаха к его отдельным воротам в городской стене Херсонеса. Тут их снова впускали в город и прятали в подвалах дома Гикии. А гребцы в лодках в это время отчаливали из бухты и уходили в сторону Боспора, создавая видимость, будто никто в Херсонесе не остался.
Сын Асандра посвятил в заговор трех рабов, вывезенных из Боспора. Один из них, якобы проводив боспорских юношей до бухты, возвращался в Херсонес и заявлял городской страже, что все уехали; другой провожал боспорян до берега и усаживал в лодки; третий провожал до ворот в городской стене и вводил в дом Ламаха. Эти же рабы доставляли спрятанным пищу и воду.
Все это делалось скрытно. Сама Гикия не подозревала, что творится у нее в доме.
Боспорский царевич избрал третью годовщину смерти Ламаха для выполнения своего замысла. За два года он тайно собрал около двухсот боспорских воинов. Сын Асандра рассчитывал, что в день памяти архонта все херсонеситы будут допоздна веселиться и изрядно опьянеют; когда они улягутся спать, он выведет спрятанных заговорщиков и совершит свое злое дело. Флот его отца к этому времени был готов к нападению на Херсонес.
Случайное происшествие раскрыло заговор.
Одна из любимых служанок Гикии провинилась перед ней и в наказание была заперта в комнате, находившейся над подвалом, где были собраны боспорские воины. Служанка в одиночестве пряла лен и нечаянно уронила пряслице, которое покатилось к стене и попало в глубокую щель. Чтобы достать его, девушка приподняла кирпич пола и сквозь отверстие заметила в подземелье вооруженных людей.
Осторожно опустив кирпич на место, служанка позвала одну из своих подружек и послала к госпоже, прося прийти к ней, так как она хочет сообщить что-то важное. Гикия пришла, к счастью, не взяв с собой никого из домашних. Служанка пала к ее ногам и рассказала все.
Гикия сразу поняла, что замышляется в ее доме. Она превыше всего ставила интересы своего народа, поэтому, ни минуты не колеблясь, приняла решение уничтожить врагов, в том числе и своего мужа, который оказался изменником.
Двум родственникам Гикия поручила собрать лучших людей города. Одно условие поставила она. Они должны были поклясться, что за свое сообщение, если его признают важным, она будет похоронена в черте города.
Собравшиеся граждане поклялись исполнить это условие. Тогда удовлетворенная Гикия сказала:
— Я открою вам тайну. Муж мой, от отца своего унаследовавший ненависть к нашему городу, тайно провел в дом много вооруженных боспорян. Как я догадываюсь, они намереваются в день памяти моего отца напасть на нас, сжечь дома и всех истребить.
Херсонеситы слушали Гикию, оцепенев от ужаса.
— Скоро подойдет этот день, — продолжала Гикия. — Он должен быть проведен как обычно. Вы получите все, чем я обещала угощать Вас. Приходите в мой дом и веселитесь, чтобы враги ничего не заподозрили. Все, что вы будете получать, употребляйте умеренно, поминайте моего отца, пляшите на улицах, однако об опасности не забывайте. Дома у каждого должны быть припасены хворост и факелы. И когда я знаком покажу, что надо кончать пир, вы спокойно разойдетесь по домам. Я раньше обыкновенного велю закрыть ворота. А вы тотчас высылайте слуг с хворостом и факелами, пусть они обкладывают весь мой дом, все входы и выходы. Чтобы дерево быстрей загорелось, велите обливать его маслом. Тогда я выйду, и вы зажжете хворост, а затем окружите дом и будете следить, чтобы из него никто не ушел живым. Теперь идите и приготовьте все, о чем я говорила. И не забывайте о своей клятве…
Как было условлено, в день памяти Ламаха население города целый день веселилось на улицах. Гикия щедро раздавала вино на пиру в своем доме, часто угощала своего мужа, сама же воздерживалась, как и ее рабыни: она приказывала наливать себе воду в чашу пурпурного цвета, где вода казалась вином.
Когда наступил вечер и граждане, как бы утомясь, разошлись по домам, Гикия стала звать мужа отдыхать. Он охотно согласился, так как со своей стороны старался не возбудить в ней никаких подозрений. Она велела закрыть ворота и все выходы и принести ей, как обычно, ключи. И тотчас тайно приказала надежным служанкам выносить из дома одежду, золото, различные драгоценности.
Дождавшись, пока все в доме успокоилось, и видя, что уснул опьяневший муж, Гикия вышла из спальни и заперла за собой дверь, позвала служанок и вместе с ними оставила двор. На улице она сказала, чтобы подожгли дом со всех сторон.
Огонь быстро охватил все здание. Боспорские воины пытались спасаться, но их тут же убивали. Они все до единого были истреблены.
Вот так Гикия избавила родной Херсонес от смертельной опасности, грозившей со стороны Боспорского царства.
Благодарные граждане вскоре поставили в честь Гикии на главной площади две статуи. Одна изображала ее сообщающей херсонеситам о заговоре мужа, другая — вооруженной, мстящей заговорщикам. На постаментах были высечены надписи, гласившие, что сделала Гикия для города.
Когда Гикия напомнила про обещание похоронить ее в черте города и попросила повторить клятву, среди правителей раздались возражения: некрополь у херсонеситов был далеко вне стен города, вблизи своих жилищ они никого не хоронили. Горожане предложили вместо этого восстановить уничтоженный дом Гикии за счет общественных средств. Гикия не уступала и настояла на своем: ей снова пообещали, что ее желание будет выполнено.
Через несколько лет мудрая Гикия задумала испытать, будут ли граждане верны своей клятве. Она сговорилась со своими рабынями, чтобы те разнесли по городу слух о внезапной кончине их госпожи.
Печаль охватила население Херсонеса. Народ толпился у дома всеми любимой героини. Ее рабыни и близкие приготовляли тело “умершей” Гикии к похоронному обряду.
Старейшины после совещания все же не решились, несмотря на клятву, нарушить древний обычай греков и постановили вынести Гикию за город и там похоронить.
Когда похоронная процессия остановилась у раскрытой могилы, Гикия поднялась из саркофага и стала горько упрекать граждан в обмане и нарушении клятвы.
Пристыженные старейшины в третий раз поклялись исполнить ее желание. Еще при жизни Гикии ей позволили избрать внутри города место для погребения и отметили его медным позолоченным бюстом.
И тот, кто хотел испытать чувство восхищения прекрасным, всякий раз смахивал пыль с памятника Гикии и читал на нем надпись о смелом ее подвиге.
Легенда сохранена византийским писателем Константином Багрянородным.
В основу легенды о Гикии в настоящем сборнике положены пересказы, приведенные в литературе о Херсонесе многими атворами (В. Кондараки, А. Бобринским, К. Гриневичем, Г. Беловым, Д. Каллистовым).
Личностью Гикии восхищался М. Горький. В известном очерке о Херсонесе писатель уделил много внимания ее подвигу, назвав Гикию женщиной «с высокоразвитым чувством гражданственности».
Херсонес (по-гречески «полуостров») был расположен на Гераклийском полуострове, изрезанном удобными бухтами, в нескольких километрах к западу от современного Севастополя. По своему политическому строю Херсонес представлял собой рабовладельческую демократическую республику. Город возник в период греческой колонизации побережья Черного моря в V в. до н. э.
Боспор — крупное государство древности с монархическим строем, в котором большую роль играли местные племена. Государство возникло в VI–V вв. до н. э. на обоих берегах Керченского пролива с главным городом Пантикапеем (современная Керчь). В I в. н. э. Херсонес находился под контролем Боспорского царства, пытавшегося полностью подчинить его себе. Политическое положение Херсонеса в ту пору находит отражение в легенде о Гикии.
Архонт — выборное должностное лицо, управляющее республикой.
Бухта Символов — название современной Балаклавской бухты у древних греков.
О колыбели, спрятанной на горе Басман
Когда-то в Крыму существовали два сильных княжества. Одно из них именовалось генуэзским и расположено было на побережье, другое находилось в горах и потому называлось горским.
Княжества эти вели между собой беспрерывную войну. Генуэзцы угоняли стада горцев и разоряли селения. Горцы в ответ нападали на генуэзские крепости. Такое положение не могло длиться бесконечно, надо было решить споры. Но как? Вопрос этот враждующие князья задали своим советникам. Некоторое время спустя генуэзский посол явился со свитой к горскому князю и предложил вечную дружбу. И если горцы действительно искренне желают дружбы, то пусть выдадут генуэзцам золотую колыбель — священную реликвию горского народа, которая изображена на его знамени.
— Мы требуем этого только потому, — сказал генуэзец, — . что знаем, как высоко цените вы колыбель. Передайте ее нам — и мы убедимся, что вы дорожите миром больше всего на свете.
Услышав это требование, горский князь обнажил саблю и ответил:
— Твои слова так оскорбительны, что я готов тебя убить. Неужели ты не знаешь, что в этой колыбели вскормлены все мы и что у нее клялись в верности своему народу наши предки?
Посол генуэзцев настаивал на своем и добавил:
— Мы жаждем согласия с вами и готовы тоже дать вам в залог самое дорогое, что имеем.
Вождь горского народа немедленно собрал своих советников, рассказал о предложении генуэзцев. Долго думали горские советники. Они ни за что не хотели расстаться со святыней своего народа, ибо это значило, что они добровольно согласны лишить себя своего имени, свободы и независимости.
— Надо попросить у генуэзцев ту бумагу, по которой они владеют землей в Крыму, — решил совет горцев. — Нечего думать, что они на это согласятся. А тогда начнем переговоры о мире на иных условиях.
Генуэзскому послу передали ответ горского князя. Посол молча повернулся и со своей свитой отправился на побережье. Прошла еще неделя, и от генуэзского князя явился новый гонец.
— Возьмите у нас все, что угодно, — говорил он, — но только не эту бумагу.
— А что же дороже ее есть у вас? Ведь осмелились же вы говорить с нами о нашей святыне!
— Мы — это другое дело, — сказал посол. — Вы известны, как народ гордый, неустрашимый, и вас можно заставить помириться в нами, только отняв вашу святыню.
— Спасибо за доброе слово! — усмехнулся горский князь. — Но почему вы держитесь за клочок бумаги? Что он вам дает?
— А какие же права на землю останутся у нас, если мы лишимся этой бумаги?
— Не договоримся мы, наверное, — сказал князь.
— Смотри, не озлоби нас. Мы силой заберем вашу святыню, раз вы сами не хотите отдать ее нам.
— Ты угрожаешь, — ответил горец, — но легче говорить, чем сделать. Народ наш не боится никого и скорее весь до последнего ляжет в битве, чем продаст свою честь!
— Другого ответа я не дождусь?
— Нет!
Разгорелась новая война между генуэзцами и горцами. Редели ряды славных защитников знамени с изображением золотой колыбели, княжеству грозила гибель. Генуэзцы требовали золотую колыбель, обещая прекратить войну. Тогда горский князь собрал народ и спросил, не лучше ли согласиться с такими условиями.
— Мы не хотим этого! — закричали воины. — Не допустим позора, пока жив хоть один из нас!
— Друзья мои! — сказал князь. — Пока цела наша святыня, народ живет, хотя бы осталась от него только горстка людей. Поэтому я спрячу святыню так, чтобы ее не нашел никто из врагов. И наложу на нее заклятие, чтобы далась она в руки только тем, кто приблизится к ней с чистыми побуждениями…
Сказав это, князь с небольшой группой близких людей направился к пещере на горе Басман, близ Биюк-Узенбаша. Только им одним известными тропами они добрались до нее. Воины внесли золотую колыбель в глубь извилистой пещеры и оставили князя одного. Став на колени, он тихо произнес:
— Могучие духи! Я и народ мой вверяем вам самое дорогое, чем мы обладаем. Его хотят отнять алчные соседи — генуэзцы, чтобы лишить нас имени, чести и свободы. Горские воины бьются с ними сейчас не на жизнь, а на смерть. Если они не сумеют одолеть жестокого врага и погибнут, прошу вас: примите под свою охрану нашу святыню и сохраните ее для грядущих поколений.
— Так будет! — раздалось в мрачной пустоте пещеры.
— Заклинаю вас покарать того, кто захочет взять эту колыбель ради порабощения другого народа или ради какого-нибудь иного злого умысла.
— Так будет! — опять донеслось из мрачной пустоты.
— Могучие духи! Я прошу вас открыть место, где хранится колыбель нашего народа, тем людям, которые будут искать ее для возрождения моего народа, его славного имени, его непокорного духа. И помогите мне в битве за жизнь моей семьи, жен и детей моих воинов, за нашу землю, горы, за наши поля и жилища!
В этот момент перед князем появился старец в белой одежде и сказал ему:
— Не отчаивайся! Тяжелые дни переживает твой народ, но наступят для него и лучшие времена. Это будет не скоро, немало горя испытает он. Однако, смотря вдаль, я вижу его возрожденные поля, шумные города, счастливых людей. Не отчаивайся, если даже потерпишь поражение…
— А что будет с генуэзцами, нашими врагами?
— Судьба их несчастна, как и всех захватчиков. Они навсегда исчезнут с этой земли.
Старец медленно ушел в глубину пещеры, а князь выбрался из нее и поспешил к своим воинам. Долго еще длилась война между двумя народами. И каких бы побед ни достигали генуэзцы, они не добивались своего, не могли захватить золотой колыбели.
Ушли последние отряды горцев с родной земли, уступили злобной силе. Но и ряды их врагов ослабли. И когда неожиданно орды новых захватчиков нагрянули на генуэзцев, они с позором бежали, чтобы никогда больше не появляться на крымской земле. А бумагу, которая давала им право владеть ею, унес ветер в далекое море, и исчезла она навеки.
Столетие за столетием кипели битвы за горскую землю, а в пещере на горе Басман хранилась чудесная золотая колыбель. Много смельчаков пыталось завладеть ею, но им не удавалось добраться до нее. Они возвращались изуродованные, с помутившимся разумом.
Однако наступило время, и раскрыли горы свои богатства. Живущий сегодня в Крыму народ добыл эту колыбель. В его сердце — беззаветная любовь к родине, как у горцев, на знамени которых была когда-то изображена золотая колыбель.
Легенда о спрятанной колыбели в какой-то степени отражает борьбу коренного населения Крыма с пришлыми захватчиками-генуэзцами. Можно полагать, что под именем «горского княжества» в легенде выведено княжество Феодоро, которое в средневековое время занимало юго-западную часть горного Крыма; население княжества состояло главным образом из потомков древних обитателей полуострова.
Легенды о Золотой колыбели были очень распространены в Крыму. В основу публикуемой в сборнике положена запись, сделанная в 1938 году от П. Герасименко, жителя села Краснолесье.
Гора Басман (высота 1176 м) находится в пределах Крымского заповедника с северо-западной стороны Главной гряды. В отвесных обрывах горы Басман зияют темные отверстия пещер. Такие же пещеры, встречающиеся и в других местах Крыма, породили среди местного населения множество легенд о сокровищах, якобы укрытых в них и охраняемых заклятиями от похищения.
Биюк-Узенбаш — ныне село Счастливое, Куйбышевского района.
О происхождении Бахчисарая
Однажды сын хана Менгли-Гирея поехал на охоту. Он спустился из крепости в долину. Сразу же за крепостными стенами начинались дремучие леса, полные дичи. Для охоты выдался удачный день, гончими и борзыми затравили много лисиц, зайцев и даже трех диких козлов.
Захотелось ханскому сыну побыть одному. Отправил он слуг с добычей в крепость, сам забрался в чащу, спрыгнул с коня и присел на пне у речки Чурук-су. Верхушки деревьев, позолоченные заходящим солнцем, отражались в струях воды. Только шум реки, бежавшей по камням, нарушал тишину.
Вдруг послышался шорох на том берегу Чурук-су. Из прибрежного кустарника быстро выползла змея. Ее преследовала другая. Завязалась смертельная схватка. Обвив одна другую, змеи острыми зубами рвали друг у друга куски тела. Долго длилась схватка. Одна змея, вся искусанная, обессиленная, перестала сопротивляться и безжизненно опустила голову. А из чащи по густой траве спешила к месту боя третья змея. Она накинулась на победительницу — и началось новое кровавое побоище. Кольца змеиных тел мелькали в траве, освещаемые солнцем, невозможно было уследить, где одна змея, где другая. В азарте борьбы змеи отползли от берега и скрылись за стеной кустарника. Оттуда доносились злобное шипение и треск веток.
Сын хана не спускал глаз с побежденной змеи. Он думал о своем отце, о своем роде. Они сейчас подобны этой полумертвой змее. Вот такие же искусанные убежали в крепость, сидят в ней, дрожа за жизнь. Где-то идет битва, а кто кого в ней одолеет: золотоордынцы — турок или турки — золотоордынцев? А ему и отцу его, Менгли-Гирею, уже не подняться, как этой змее…
Прошло некоторое время. Молодой хан заметил, что змея стала шевелиться, силится поднять голову. С трудом ей это удалось. Медленно поползла она к воде. Напрягши остаток сил, приблизилась к реке и погрузилась в нее. Извиваясь все быстрее и быстрее, полуживая змея приобретала гибкость в движениях. Когда она выползла на берег, на ней даже следов от ран не осталось. Затем змея снова окунулась в воду, быстро переплыла реку и невдалеке от изумленного человека скрылась в кустах.
Возликовал сын Менгли-Гирея. Это счастливый знак! Им суждено подняться! Они еще оживут, как эта змея…
Он вскочил на коня и помчался в крепость. Рассказал отцу, что видел у реки. Они стали ждать известий с поля битвы. И пришла долгожданная весть: Оттоманская Порта одолела ордынского хана Ахмеда, который когда-то истребил всех воинов Гирея, а его самого загнал в крепость на крутой скале.
На том месте, где схватились в смертельной битве две змеи, старый хан велел построить дворец. Около дворца поселились его приближенные. Так возник Бахчисарай. Двух перевившихся в схватке змей хан велел высечь на дворцовом гербе. Надо было бы трех: двух в борьбе, а третью — полумертвую. Но третью не стали высекать: мудрым был хан Менгли-Гирей.
Город Бахчисарай, что значит дворец в садах (бахча — сад, сарай — дворец), ныне районный центр, существует с конца XIV в. В XV веке (1432 г.) стал столицей Крымского ханства. До той поры столица находилась в Солхате (ныне город Старый Крым).
Хан Менгли-Гирей (умер в 1515 г.) долго боролся с Золотой Ордой за самостоятельность Крымкого ханства. В 1475 г. Менгли-Гирей содействовал туркам при разгроме генуэзских владений в Крыму. После победы турок Крымское ханство попало в вассальную зависимость от турецких султанов. В 1502 г. Золотая Орда окончательно распалась, а в 1503 г. хан Менгли-Гирей построил в Бахчисарае, на левом берегу речки Чурук-Су, дворец.
Легенда аллегорически отображает борьбу крымских и золотоордынских ханов и турецкого султана за господство на Крымском полуострове. На воротах ханского дворца в Бахчисарае до сих пор сохранились изображения дерущихся змей.
Легенда записана в 1938 г. от И. Оксюза из Бахчисарая.
Фонтан слез Бахчисарайского дворца
Свиреп и грозен был хан Крым-Гирей. Никого он не щадил и никого не жалел. Сильный был хан, но сила его уступала жестокости. К трону пришел кровожадный Крым-Гирей через горы трупов. Он приказал вырезать всех мальчиков своего рода, даже самых маленьких, кто был ростом не выше колесной чеки, чтобы никто не помышлял о власти, пока он, хан, жив.
Когда набеги совершал Крым-Гирей, земля горела, пепел оставался. Никакие жалобы и слезы не трогали его сердце, он упивался кровью своих жертв. Трепетали люди, страх бежал впереди имени его.
— Ну и пусть бежит, — говорил хан, — это хорошо, если боятся…
Власть и слава заменяли ему все — и любовь, и ласку, и даже деньги не любил он так, как славу и власть.
Какой ни есть человек, а без сердца не бывает. Пусть оно каменное, пусть железное. Постучишь в камень — камень отзовется. Постучишь в железо — железо прозвенит. А в народе говорили — у Крым-Гирея нет сердца. Вместо сердца у него — комок шерсти. Постучишь в комок шерсти — какой ответ получишь? Разве услышит такое сердце? Оно молчит, не отзывается.
Но приходит закат человека, постарел некогда могучий хан. Ослабело сердце хана, и вошла в него любовь. И поросшее шерстью сердце стало совсем человеческое. Голое. Простое.
Однажды в гарем к старому хану привезли невольницу, маленькую худенькую девочку. Деляре ее звали. Привез ее главный евнух, показал Крым-Гирею, даже зачмокал от восхищения, расхваливая невольницу.
Деляре не согрела лаской и любовью старого хана, а все равно полюбил ее Крым-Гирей. И впервые за долгую жизнь свою он почувствовал, что сердце болеть может, страдать может, радоваться может, что сердце — живое.
Недолго прожила Деляре. Зачахла в неволе, как нежный цветок, лишенный солнца.
На закате дней своих любить мужчине очень трудно. Oт этой любви сердцу всегда больно. А когда любимая уходит из жизни, сердце плачет кровью. Понял хан, как трудно бывает человеческому сердцу. Трудно стало великому хану, как простому человеку.
Вызвал Крым-Гирей мастера иранца Омера и сказал ему:
— Сделай так, чтобы камень через века пронес мое горе, чтобы камень заплакал, как плачет мужское сердце.
Спросил его мастер:
— Хороша была девушка?
— Мало что знаешь ты об этой женщине, — ответил-хан. — Она была молода. Она была прекрасна, как солнце, изящна, как лань, кротка, как голубь, добра, как мать, нежна, как утро, ласкова, как дитя. Что скажешь плохого о ней? Ничего не скажешь, а смерть унесла ее…
Долго слушал Омер и думал: как из камня сделаешь слезу человеческую?
— Из камня что выдавишь? — сказал он хану. — Молчит камень. Но если твое сердце заплакало, заплачет и камень. Если есть душа в тебе, должна быть душа и в камне. Ты хочешь слезу свою на камень перенести? Хорошо, я сделаю. Камень заплачет. Он расскажет и о моем горе. О горе мастера Омера. Люди узнают, какими бывают мужские слезы. Я скажу тебе правду. Ты отнял у меня все, чем душа была жива. Землю родную, семью, имя, честь. Моих слез никто не видел. Я плакал кровью сердца. Теперь эти слезы увидят. Каменные слезы увидят. Это будут жгучие слезы мужские. О твоей любви и моей жизни.
На мраморной плите вырезал Омер лепесток цветка, один, другой… А в середине цветка высек глаз человеческий, из него должна была упасть на грудь камня тяжелая мужская слеза, чтобы жечь ее день и ночь, не переставая, годы, века. Чтобы слеза набегала в человеческом глазу и медленно-медленно катилась, как по щекам и груди, из чашечки в чашечку.
И еще вырезал Омер улитку — символ сомнения. Знал он, что сомнение гложет душу хана: зачем нужна была ему вся его жизнь — веселье и грусть, любовь и ненависть, зло и добро, все человеческие чувства?
Стоит до сих пор фонтан и плачет, плачет день и ночь…
Так пронес Омер через века любовь и горе: жизнь и смерть юной Деляре, свои страдания и слезы.
Хан Крым-Гирей (умер в 1769 г.) был одним из наиболее ярых ненавистников России. Известен своими жестокостями и разгульным образом жизни, за что получил прозвище дели-хана (сумасшедшего хана). Во время русско-турецкой войны 1768-1774 гг. Крым-Гирей, командовавший многотысячным отрядом крымских татар, произвел значительные опустошения на Украине. Но это было последнее нашествие крымских татар на украинские и русские земли.
Фонтан слез, сооруженный по приказанию Крым-Гирея в 1764 году, является оригинальным памятником зодчества, воспетым великим русским поэтом А. С. Пушкиным и великим польским поэтом А. Мицкевичем.
Легенда в поэтической форме воссоздает историю строительства этого фонтана.
Существует несколько легенд о Фонтане слез. Одна из них была положена Пушкиным в основу сюжета знаменитой поэмы «Бахчисарайский фонтан». Запись данного варианта легенды сделана от М. Кустовой и В. Мануиловой из Бахчисарая.
Сказание о Джаныке из Кырк-Ора
Вот смотри, крепкие стены Кырк-ора, ух, какие крепкие! Если ты вот так даже руки разведешь, стену все равно не обнимешь. Толстые стены, крепкая крепость. И ворота железные и замки, наверное, каждый с пуд. А за стенами кто жил, знаешь?
Тохтамыш-хан. Что сказать о нем? Тохтамыш-хан — это мало сказать! Какой был хан? Не хотят глаза смотреть, такой страшный был. У него — люди говорили — тело шерстью поросло, он был рыжий, голова у него была, как у барана, зрачки у него поперек глаз стояли, таких глаз у человека не бывает.
Он никогда не кричал, Тохтамыш-хан, но люди даже шепота его боялись. Богат был Тохтамыш. А где ты видел бедного хана? Всего было у него. В его каменных пещерах стояли сундуки богатые, сундуки с большими замками. Но, женщина, лучше не открывай ты крышки этих сундуков. Если откроешь, глупая, ты подумаешь, что солнце украли и спрятали в сундук, посмотришь и ослепнешь. Это не солнце, это богатые одежды с камнями драгоценными, золото нашито на одежды. Только ты их руками не трогай, не надо, пусть лежат. Липкие они, потому что богатство Тохта-мыш-хана по рекам крови пришло, пришло и легло в сундуки. Стерегут эти сундуки каменные пещеры, каменные стены и каменное сердце Тохтамыш-хана.
Никого не любил Тохтамыш-хан, а какой хан кого любит?
Была у него в гареме девушка, звали ее Джаныке. И вправду, она была джаныке — душевная. Добрая была, ласковая, как ребенок, как мать всем ласковая.
Красивая была Джаныке. Только в груди у Джаныке какая-то птица всегда ютилась. Так думала Джаныке. Не знала, глупенькая, что в груди у нее большой недуг, болезнь страшная. Отца, матери у нее не было, а Тохтамыш купил ее в Бахчисарае, внизу, купил девочку и спрятал, как голубя в клетку, и растил для себя в своем гареме, а чтобы люди не говорили плохого, дочерью назвал.
Все боялись Тохтамыша, и маленькая Джаныке боялась. Придет в гарем Тохтамыш, спросит, как живешь? Живу, говорит Джаныке. Большую рыжую руку положит хан нa ее голову, и казалось Джаныке, что голова отвалится.
Всего много у Тохтамыша, но самое главное сокровище — Джаныке.
Однажды пришла беда на Тохтамыша. Крепость Кырк-ор окружили враги, с двух сторон шли. Большое войско. Они били в даул, они кричали, они уже радовались. Знали враги: в крепости воды нет, а без воды как жить будешь? Знали враги, что им не нужно головами в камни стучать. Подождем, говорили, у нас времени много. Вода у нас, хлеб у нас, а Тохтамыш-хан, когда заставим, он сам свои железные ворота откроет, он сам на шелковой подушке ключи вынесет и попросит: примите, все ваше. Так говорили враги. А за стеной Тохтамыш-хан ходил, как дикий зверь, как барс злой, страшный.
Нет воды, а дни идут, а птица Клафт ни разу свои крылья не раскрыла над Кырк-ором, и люди скоро стали падать, как падают осенние листья. Каменное сердце было у Тохтамыша. Он боялся за свои сокровища, а людей не жалел. Он заставил их бросать камни вниз, на врагов, и злобно говорил своим людям:
— Думаете, я своими руками открою ворота? Если у меня камней не хватит, я ворота вашими головами забросаю.
Люди сначала боялись, а потом уже ничего не чувствовали, им было все равно. Без воды разве будешь жить?
И стало тихо в крепости Кырк-ор, никто не пел песен. У матерей из груди не только молока — крови не выдавишь, и падали быстрей всех маленькие дети. Как было их жалко! А воды все нет. Джаныке в гареме дивилась: почему так тихо в Кырк-оре, почему никто ничего не говорит, почему даже собаки не лают? А няньки в ответ только плечами пожимали; няньки знали, а сказать нельзя. Потом к Джаныке в гарем пришел мальчик — пастушок Али. Он пришел, смиренно опустил голову и сказал так:
— Слушай, Джаныке. Вот видишь, я мужчина, а не смотрю на тебя, пусть мои глаза не оскорбят тебя, девушку. Не бойся, выслушай меня, я ведь пришел от народа. Слушай, Джаныке, люди о тебе говорят, что никогда ты не сказала неправды, что твои розовые губы никого не обидели. Слушай, Джаныке, люди еще говорят, — дрожа от испуга, говорил Али, — что ты не дочь Тохтамыша, что ты наша, оттуда из Эски-Юрта, что тебя купил Тохтамыш. Если так, Джаныке, то как же твое сердце терпит, как же ты народу не поможешь? Слушай, что я тебе скажу: там далеко, но ты не бойся, там вода поет, пойдем…
— А зачем нужна вода? — спросила Джаныке.
— Ты не знаешь? Во всем Кырк-оре нет ни капли воды, маленькие дети падают, умирают, и никто не может спасти их. Я хотел проползти туда, где вода, но у меня широкие плечи, а ты — люди говорят про тебя, ты тонка, как веточка, ты всюду проникнешь, — ты будешь проползать в расщелину и доставать оттуда воду, она там поет, а я понесу ее в водоем. Пойдем, ты же наша.
— Что ты, мальчик, — ответила Джаныке, — разве я смею, я же девушка, мне нельзя быть с тобой, мальчиком. Меня проклянет небо, все меня проклянут, все от меня отвернутся, даже ты, когда вырастешь и станешь большим мужчиной, ты будешь на меня пальцем показывать, и мне нужно будет тогда умереть.
— Не бойся, Джаныке, — просил мальчик, — пойдем, Джаныке, пойдем, мы так сделаем, что никто нас не увидит, а грех я на себя весь приму.
— Хорошо, — сказала Джаныке, и они пошли.
Всю ночь девушка и мальчик маленькими бурдюками таскали воду в городской водоем, и уже стало в водоеме воды столько, сколько в маленьком море, и еще носили, и еще носили, а потом, когда уже брызнуло солнце, когда стало хорошо на небе, вдруг из груди девушки улетела птица, даже видела маленькая Джаныке, как она высоко-высоко в небо понеслась. Потом ей стало очень больно и она упала.
И упала она лицом на землю. Лицом вниз упала Джаныке, она матери всех матерей стала жаловаться — земле.
Когда стало светло, пришли люди. Первыми появились маленькие люди — дети. Они увидели воду и сказали просто, как мудрецы: “Смотрите, вода!”, и стали пить. А потом бегали всюду и кричали: “Вода! Вода!” А большие люди не поверили, но маленькие люди все говорили: “Смотрите, вода! Вода!”
И весело все повторяли это слово и стали пить воду. А потом увидели, что Али-пастух плачет около какого-то тела, которое лежит на земле, такого маленького, тонкого.
Когда повернули его лицом кверху, увидели и испугались.
— Джаныке!
И тогда все понял народ, и сказал тогда народ:
— Здесь лежит прекраснейшая из прекрасных, роза райских садов. О люди, уготовьте ей лучшее место в сердцах своих!..
Сказание, несомненно, отражает исторический факт, имевший место в царствование золотоордынского хана Тохтамыша и так или иначе способствовавший смерти его дочери Ненеке-джан (Джаныке).
Мавзолей над могилой Ненеке-джан построен в 1437 году. Он находится на плато, где расположены развалины Средневекового города Фуллы возле Бахчисарая.
Легенда печатается в изложении М. Кустовой.
К ы р к-о р — татарское название Фулл. После XIII века город служил резиденцией ханов. Не раз подвергался нападению и осаде в период внутренних междоусобиц и переворотов. Потерял свое значение в связи с основанием Бахчисарая — столицы Крымского ханства.
Д а у л — барабан.
Э с к и – ю р т — пригород старого Бахчисарая, ныне район железнодорожного вокзала.
П т и ц а К л а ф т — олицетворение дождевой тучи.
Камни мать и дочь в долине Качи
Есть в Бахчисарае камни. Посмотришь — задумаешься. Человек — не человек высекал, как же получились такие? Вот люди сидят, застыли, большая семья. А рядом два камня высоких, на макушке как будто шапочки.
И хотя все видят — камни, а называют как людей. Есть и на Каче камни, на людей похожие.
И вот что рассказывают о них.
Жила в деревне девушка, звали ее Зюлейка. Хорошая девушка. Всем она взяла — и красотой, и сердцем добрым, и умом ясным. О хорошем незачем долго рассказывать, хорошее само умеет говорить, только увидеть надо.
О глазах можно сказать — хорошие были глаза. А какие хорошие? А вот какие: если на базаре на какого-нибудь мужчину посмотрит, то драка начинается. Каждый говорит: на меня посмотрела. Так дерутся, ни покупать, ни продавать нельзя. Зюлейка и на базар не ездила, боялась.
А что сказать о ее губах… Кто видел вишню, когда она зреет, не тогда, когда уже темная, а когда только зреет, тот и видел губы Зюлейки.
А что сказать о ее щеках… Идет она по дороге, а куст шиповника цветет, и закроется он весь, от зависти померкнет, чахнуть начинает.
А что сказать о ресницах… Если на ресницы пшеницу насыпать, а Зюлейка глаза поднимет, на голову зерна взлетят.
А косы у Зюлейки черные, мягкие, длинные. И вся Зюлейка высокая, тонкая, но крепкая, ноги легко ее несли.
Жила Зюлейка с матерью, бедною вдовою. Никого у них не было — ни брата, ни дяди.
Большая мастерица была Зюлейка, вместе с матерью холсты ткала, холсты длинные-предлинные: вдоль пойдешь — устанешь и тонкие-тонкие: будешь лицо вытирать, будто лучом света прикоснешься.
Много надо холста ткать, чтобы жить. Много надо белить полотна в речке. А воды где взять? Воды в Каче мало: день бежит, два дня не показывается. Зюлейка была хитрая девушка. Песню запоет, вода остановится, тоже слушать хочет, как девушка поет. А внизу все ругаются — воды нет.
А она поет да белит, поет да белит, а кончит — домой пойдет. Воде стоять больше нечего, скорее побежит дальше, все ломает, ничто ее не удержит. Люди говорят — наводнение. Неправда, это Зюлейка песни кончила петь. Вся вода, что слушала ее, заторопилась дальше по своей дороге.
Хорошая девушка была Зюлейка, умелая, веселая, певучая.
А жил в долине недалеко от Зюлейки грозный Топал-бей. Его мрачный замок стоял на скале, охраняли его свирепые стражи. Но ничем не был так страшен бей, как своими двумя сыновьями.
Когда родились они, бабушка, которая их принимала, застонала, пожалела мать:
— Что у тебя случилось, словами не рассказать! У тебя два мальчика родились. Радоваться надо, только ты плачь: у обоих сердца нет.
Мать засмеялась. Чтобы ее дети остались без сердца? А она зачем?
— Я возьму свое сердце, отдам по половинке. Материнское сердце не такое, как у всех, пополам на двоих хватит.
Так и сделала. Да ошиблась мать. Плохими росли дети, всегда ругались, спорили, за ножи хватались. Росли жадными, ленивыми, лукавыми. Кто больше всех дрался? Дети бея. Кто больше всех пакостил? Дети бея. А мать их баловала, самые лучшие шубы, самые лучшие шапки, самые лучшие сапоги на них надевала. Но они всегда были недовольны.
Подросли братья, бей послал их в кровавые набеги. Несколько лет гуляли они по далеким местам, домой не возвращались. Только караваны с награбленным добром к отцу посылали, отцовское сердце радовали.
Приехали, наконец, домой сыновья Топал-бея. Не только на руках, на сердце у них кровь запеклась. Научились страшным играм — в людей стрелять, пленных убивать. Затрепетало все кругом в. страхе. Темными ночами рыскали братья по деревням, врывались в дома поселян, уносили с собой все дорогое, уводили девушек. И ни одна из них не выходила живой из замка Топал-бея.
Ехали братья с охоты через деревню Зюлейки, увидели ее, и решил каждый: моя будет.
— Молчи ты, кривоногий! — закричал один.
— Ну что ж, что кривоногий, — ответил второй, — зато я на два крика раньше тебя родился.
Разъярились братья, кинулись друг на друга. Да отошли вовремя. И сказал один другому: кто раньше схватит ее, того и будет.
Следили братья, как хищные звери, что каждый делает. И пошли оба в деревню девушки. Шли не так, как хороший человек идет. Хороший человек идет — поет, пусть все люди о нем знают. А эти шли, как воры, тихо, ползли, чтоб никто не видел.
Пришли к хижине Зюлейки. Нет там мужчин, защищать девушку некому. Каждый свой дом смотрит, а у Зюлейки нет ни брата, ни дяди.
Слышит девушка, в окно лезут. Она мать крикнула, в дверь выбежала. Ей бы по деревне бежать, а она по дороге бежит, и мать за нею.
Наконец устала Зюлейка, говорит матери:
— Ой, ой, мама, боюсь. Нет спасения нам! Мать ей говорит:
— Беги, девочка, беги. И не бойся, дитя!
Еще дальше бежит, ноги совсем устали. А братья близко, вот они уже за спиной, оба схватили разом, с двух сторон тянут, рвут к себе девушку. Закричала она:
— Не хочу быть в руках злого человека. Пусть камнем на дороге лягу. И вам, проклятым, окаменеть за ваше зло.
Крепкое слово было у девушки, у чистой души. Стала она в землю врастать, камнем становиться. И два брата возле нее легли обломками скал.
А мать за ними бежала, сердце в груди держала, чтоб не вырвалось. Подбежала, увидела, как Зюлейка и братья-звери в камень одеваются, сказала:
— Хочу всю жизнь на этот камень смотреть, дочку свою видеть.
И такое крепкое слово было у матери, что как упала она на землю, так тоже камнем стала.
И так стоят они до сих пор в долине Качи.
А все сказанное — одна правда. Люди часто подходят к камням, прислушиваются. И тот, у кого сердце чистое, слышит, как мать плачет…
В обрывах второй горной гряды Крыма часто встречаются причудливые скалы, напоминающие своими формами окаменевших людей, животных, каких-то чудовищ. Эти скалы
Живые скалы (Бахчисарай) [эта версия легенды не из этой книги]
Любовь матери родиться раньше ребёнка, и когда умрёт мать — всё ещё живёт. Посмотрим.
В деревне у нас жила Земинэ, и у неё была дочь Шерифэ.
— Мама, я боюсь чего-то, — сказала раз Шерифэ.
— Коркма, балам. Не бойся, дитя.
А сама испугалась, стала гладить дочь, заплетать её волосы в мелкие косички; шептала ласковое слово.
— Сивгили, кимитли, когинайм. Любимое, бесценное дитятко моё.
Ласка матери, как ветерок в душный день, как пригрев Солнца в ненастье. Вспомни мать, если нет её уже на свете, и облегчиться тяжесть сердца.
— Мама, человек, который приходил утром, нехорошо смотрел.
— Эх, Шерифэ, часто, кажется так. Зачем дурно думать. Лучше хорошо думать.
— Мама, соседка говорила: от Топал-бея он. Ходит по садам, высмотрит девушку, скажет хозяину. Возьмёт бей девушку.
— Коркма, эвледым. Ничего не бойся, родная. Не отдам тебя за Топал-бея. Молодого, красивого найду.
Оглянулась Земинэ. Кто-то хихикнул за углом. Зашла за угол.
— Слышал, говоришь смешно ты. Ай, как смешно! Зачем молодой, зачем красивый? Богатый надо. Когда богатый будет, тебе лучше будет. Десять служанок будет, на шелку лежать будешь, баклаву делать будешь. Вот как думаю.
Рассердилась Земинэ.
— Уходи и не смей больше приходить!
— Не приду, сам придёт.
Перепрыгнул Мустафа через плетень, не видно стало в темноте. Плакала Шерифэ, прижалась к матери.
— Ах, боюсь, мама!
— Коркма, балам. Придёт Топал-бей, убежим на мельницу к дяде. Не выдаст дядя.
Легла Шерифэ на колени к матери; гладит мать её голову, заснула Шерифэ. Только неспокойно спала. Сон видела, будто бегут они по скалам, и гонится за ними Топал-бей, и обернулись они в скалы. Хоть светила Луна, пробежал мимо Топал-бей. Под утро сон видела. Если под утро сон видеть — скоро сбывается. А Луну видишь во сне — всегда выходит, как приснилось. Так случилось и с Шерифэ.
Пришла утром сваха, худа. Прогнала Земинэ сваху. Обиделась сваха.
— Эй, гордая. Плакать будешь.
А на другой день к вечеру приехал Топал-бей с Мустафой к Земинэ.
— Если будет кричать, заткни её глотку.
Коршун, когда падает на цыплёнка, не боится курицы. Хоть мать, а нечем защитить. Только когда опасность близка, ухо чутким бывает. Услышала Земинэ топот коней, догадалась; крикнула дочери, и убежали женщины на мельницу. Не нашёл их Топал-бей дома. От дома вилось ущелье, как змея; за поворотом не видно человека. Понял Хромой-бей, куда убежали женщины, поскакал за ними.
— Вот скачет Топал-бей. Что будем делать? — испугалась Шерифэ. Вспомнила Земинэ сон дочери.
— Хоть бы так и случилось.
И только подумала — сама, и дочь, стали, как скалы, в двух шагах одна от другой. Подскакал Топал-бей к ним, стал искать.
— Лучше выходите; не вам со мной спорить.
Напрасно сказал так Хромой-бей. Слаба женщина, а когда спасает дитя — твёрже камня бывает. Оглянулся бей на скалы. Точно не скалы, а женщины. Одна бежит, а другая присела. Подъехал ближе — скалы. Догадался, что колдовство. И велел пригнать десять пар буйволов. Десять пар буйволов — большая сила.
Задели люди скалы арканом, стали погонять буйволов: — Ги!
Тянули буйволы, не двигались скалы.
— Погоняй хорошенько! — кричал Топал-бей и, чтобы лучше погоняли, бил людей нагайкой. — Залым адам, злой человек, — думали люди и ударили по буйволам кольями. Рванулись буйволы, треснул камень, точно заплакал кто-то в нём.
— Вай, вай, анам. Мах ву алуерум. Пропадаю, мамочка.
И услышали люди, как кто-то крикнул от большой скалы: — Коркма, балам. Я с тобой, ничего не бойся.
Испугались люди. Не один, все слышали. Бросили буйволов, убежали в деревню. Поскакал Топал-бей за ними, боялся оглянуться, чтобы самому не окаменеть.
Долго потом не ходили туда, а когда как-то пришлось пойти, увидели, что остались скалы на месте. И стоят они и теперь там же, за мельницей Кушу-Дермен, на Каче. Только неизвестно — убежали из них женщины или навсегда остались в скалах.
Эх, Топал-бей, хершей сатын алымаз. Не всякую вещь купишь, не всё возьмёшь силой!..
В обрывах второй горной гряды Крыма часто встречаются причудливые скалы, напоминающие своими формами окаменевших людей, животных, каких-то чудовищ. Эти скалы возникли в результате выветривания мягких горных пород — меловых и третичных известняков. Народная фантазия создала вокруг таких столбов выветривания занимательные легенды.
Среди населения Бахчисарая и Качинской долины существует много вариантов легенды о камнях Мать и Дочь. В наиболее распространенном из них рассказывается, что красавицы мать и дочь были похищены Топал-беем и за непокорность замурованы им живыми в скале. Через некоторое время неподалеку от дворца бея появились два каменных истукана, из которых по временам показывались загубленные женщины. Боясь возмездия за свои преступления, Топал-бей задумал свалить эти скалы и приказал впрячь в одну из них всех своих лошадей и быков. Когда все было готово и по приказанию Топал-бея погонщики должны были ударить по животным, чтобы натянуть веревки, из камня послышался женский голос: “Ай, мама, боюсь!”. Тогда из дальнего истукана донесся ответ: “Не бойся, дитя!” — в миг все лошади, быки и люди превратились в камни.
Скалы, упоминаемые в легенде, находятся в долине реки Кача недалеко от Бахчисарая.
В основу приведенной в настоящем сборнике легенды взяты вариант в изложении М. Кустовой и запись со слов П. Гарбузенко из Бахчисарая.
Б е й — князь, дворянин.
Т о п а л - б е й (хромой бей), по словам Н. Маркса — одного из собирателей крымских легенд, — личность не выдуманная. Это был один из влиятельных беев при ханском дворе.
О стене Мангупа
Говорят, что стена крепости Мангупа со стороны ущелья Табана-дере была разрушена каким-то богатырем. Пришел он сюда из далеких стран. Донесся к нему слух, что у мангупского князя есть дочь — неописуемая красавица.
Богатырь этот, явившись к Мангупу, потребовал, чтоб князь показал ему девушку.
Князь принял его по-княжески: выслал несколько воинов с приказанием принести голову дерзкого пришельца.
И с кем задумал тягаться! Богатырь расшвырял кучку воинов, направился к воротам Мангупа и опрокинул их. И не только опрокинул, но и сбросил верхнюю часть крепостной стены, а вместе с нею засевших там княжеских слуг.
Покончив с этим, герой снова потребовал привести красавицу, грозя превратить весь город в развалины. Перепуганный князь вывел свою дочь.
Осмотрел ее с головы до ног богатырь и громко рассмеялся:
— И чтобы я слушал еще всякую чепуху! Да это же заморыш…
Пожелав девушке такого же тщедушного супруга, как она сама, он быстро удалился.
Пораженный таким оборотом сватовства, князь Мангупа долго стоял молча, потом покачал головой и грустный ушел во дворец. А когда починяли стену, приказал вырубить на одной из плит надпись, восхваляющую людей сильных и великодушных.
Мангуп — столица средневекового княжества Феодоро в юго-западной части горного Крыма. Город был расположен на обширном плато на высоте 581 метр над уровнем моря. С юга его защищали естественные обрывы, с севера подходы со стороны заросших лесом ущелий были укреплены оборонительными стенами и башнями, частично сохранившимися до сих пор.
В настоящее время развалины средневекового города Мангупа объявлены историческим заповедником и ежегодно посещаются тысячами туристов и экскурсантов.
Легенда впервые опубликована В. Кондараки.
Т а б а н а – д е р е — ущелье кожевников; было названо так из-за обилия растущего там кустарника сумаха, содержащего дубильные вещества, из которого получался дубильный экстракт.
Об удалом казаке и жадном турке из Мангупской цитадели
Рассказывают старые люди, что во время турецкого владычества в Крыму жил на Мангупе паша — начальник крепостной стражи. Безмерно жаден был паша к деньгам, которые любил больше всего на свете. С окрестных жителей он собирал тягчайшие налоги и солдат своих много раз посылал грабить ближние селения. Когда турки приводили в Мангуп пленных, паша сам обыскивал их жалкие лохмотья и забирал себе все ценное.
Среди других узников Мангупа в каменном склепе на мысе Дырявом, окруженном с трех сторон пропастью, томился и пленный казак-запорожец. Турки надеялись получить за него большой выкуп. Но не оставлял казак надежды, что и без выкупа доберется он до берегов родного Днепра, что сумеет бежать из турецкого плена.
Любил паша слушать рассказы пленника о странах, где тот побывал, о походах и битвах, а особенно о золоте, драгоценных камнях и дорогих тканях, которые видел казак в годы своих странствий. Тогда глаза паши загорались жадностью, он забывал обо всем на свете и в грезах видел себя обладателем несметных сокровищ, о которых говорил пленник.
И задумал удалой казак заворожить пашу сказкой о кладе на Мангупе, который будто бы давно зарыли здесь предки казацкие и о котором он до сих пор не сказывал, потому что хотел раньше узнать, что, мол, за человек паша.
Однажды в вечерний час, когда паша отдыхал на мысе Эллибурун, он вызвал к себе пленного казака, чтобы послушать его очередной рассказ.
— Ослабь мои кандалы, дай немного размять руки и ноги, — попросил казак. — А хочу я рассказать тебе быль о богатствах этой горы, о кладе, который запрятали когда-то здесь казаки. Молчал я все время о нем, да вижу — хороший ты человек.
И стал рассказывать казак, да так, как никогда не говорил. Лилась его неторопливая речь о том, как пленные казаки пронесли много золота с собой в крепость, как сумели его спрятать, закопать в какой-то пещере. Можно эту пещеру найти, если хорошенько поискать.
Смотрел казак прямо в глаза паше, смотрел — завораживал. И вот уже потускнели глаза турка, смежились веки. Уснул свирепый властелин.
Спит он и видит сон, будто стоит в обширном подземелье, знакомом ему. Он присматривается внимательнее и в свете, падающем из небольших отдушин, узнает каземат в глубоких подвалах Мангупа, куда турки бросали самых стойких своих противников.
После некоторого раздумья стал припоминать, зачем же он сюда опустился. И вспомнил рассказа казака. Ах, ведь об этом каземате говорил пленник! Тут где-то и клад спрятан. Где же оно, богатство, которым насытится паша на всю жизнь? Надо поискать его — и найдется оно.
Медленно ступал паша по неровному полу, приглядывался к каждому бугорку, каждой расщелине. И вдруг в одном месте заметил, будто что-то светится. Стал шарить, копать — и выгреб из ямы груду золота. Кольца, браслеты, золотые денежки… Сидел паша у мерцающего металла, трясся в лихорадке от радости. Правду сказал казак, добрый человек! Истинную правду!
Вдруг услышал он голос. Испуганный, поднял глаза и увидел перед собой женщину неописуемой красоты. Паша вскочил. Потупя взор, красавица сказал:
— Ты хочешь овладеть моими сокровищами, но я их берегу для того, кто пожелает стать моим мужем.
Паша смотрел на нее разгорающимся взором.
— Не я ли твой суженый, прекрасная женщина? — спросил он.
— Тогда дай клятву, что ты соединишься со мной, — и золото твое! — ответила женщина.
— Клянусь! — сказал паша и хотел схватить ее руку, но наткнулся на камень. В подземелье раздался шум шагов и замер вдали.
Турок проснулся.
Тем временем пленника не стало. На земле валялись его цепи. Казак бежал. Паша не стал преследовать беглеца, так поверил он его рассказу и своему сну.
С той поры турок потерял покой. Он обыскал все казематы во всех подземельях крепости, но нигде ничего не обнаружил. Тогда он стал обыскивать всю окрестность. Золото и драгоценности мерещились ему днем и ночью. Он лазил по скалам, забирался в ущелья, в пещеры, но золота нигде не было.
Однажды паша взобрался на скалу страшной высоты, увидел там какую-то расщелину, попытался к ней подобраться, но сорвался и рухнул вниз. Там нашел он свою смерть.
Окрестные жители говорят, что жадный турок не сам упал, а был затянут в пропасть злым духом, живущим в подземельях Мангупа.
И еще говорят, что душа турка будет долго бродить возле Мангупа, стараясь высмотреть вход в заветное подземелье, где хранится казачий клад: жадная душа не успокоится, пока бег времени не сотрет ее с лица земли.
Часто раздается в скалах Мангупа оглушительный хохот: то, говорят, удалой казак, веселая душа, смеется над одураченным турком.
Летом 1475 года турецкая армия захватила столицу княжества Феодоро, получившую при турках название Мангуп-кале.
Турки превратили Мангуп в цитадель, где держали свой гарнизон. В те годы в казематах мангупской цитадели томились многие пленники. Среди них известны посол Ивана Грозного Афанасий Нагой с товарищами и воевода Василий Грязной, пробывший там пять лет.
Историк Карамзин приводит слова Грязного о невыносимых тяготах мангупского заключения: “И только б не государская милость застала душу в теле, инобы с голоду и с наготы умерети”.
Коренное население Крыма страдало от турецкого владычества, а также от произвола солдат и военачальников. Это послужило поводом для создания народом легенды о наказанной жадности турецкого паши.
Легенда в настоящем виде, когда одним из ее действующих лиц является пленный запорожский казак, записана в 1949 году со слов Н. Янченко из Бахчисарая.
О девичьей башне в Судаке
На склонах высокой скалистой горы в Судаке видны остатки крепости. До сих пор сохранились стены и оборонительные башни, увенчанные зубцами, храмы и замки, где жили в средневековой Сугдее генуэзские консулы.
На самой вершине горы стоит одинокая башня. К ней ведет крутая тропинка со следами выбитых в скале ступенек.
Говорят, что в те древние времена, когда этой местностью владели еще греки, башня уже существовала и в ней жила дочь архонта, гордая красавица, равной которой не было в Тавриде.
Говорят, Диофант, лучший полководец Митридата, царя Понтийского, тщетно добивался ее руки, а местная знатная молодежь не смела поднять на нее глаза.
Никто не знал, что девушка уже любила — любила простого деревенского пастуха.
И вот как это случилось.
Любимая прислужница дочери архонта сорвалась с кручи и погибла. По обычаю, несчастную девушку похоронили там, где она умерла, и на могильной плите сделали углубление, чтобы в нем собиралась роса, и птицы, утоляя жажду, порхали над могилой и пели умершей свои песни.
Однажды дочь архонта пошла на могилу своей рабыни покормить птиц и тогда впервые увидела у могильной плиты пастуха. Юноша сидел, задумавшись. Красивое смуглое лицо его выражало грусть, а пышные кудри рассыпались по плечам и шевелились под ветром.
Они стали разговаривать. Знатная девушка спросила юношу, кто он, откуда родом.
— Как видишь — пастух, а родом… Мать нашла меня в огороде.
Она улыбнулась.
— А почему ты грустный?
— Потому, что некому смотреть на меня.
И засмеялся, да так хорошо, что ей показалось, будто никто никогда так не смеялся.
Болтая, они не заметили, как бежало время. Обоим было легко и радостно, и ничто не напоминало, что она — дочь архонта, а он — пастух. Разве для сердец это важно?
С тех пор только мечтами о пастухе и жила прекрасная девушка, а пастух считал, что среди богов и людей не было его счастливей.
Но как-то увидели их вместе и донесли об этом архонту. Приказал архонт схватить пастуха и бросить его в каменный колодец, холодный и тесный, как могила.
Прошло несколько дней, пока узнала обезумевшая от горя девушка, где ее возлюбленный. Лаской, подкупом, хитростью, но она сумела освободить узника из темницы и принесла к себе.
Без сознания лежал пастух в комнате девушки, когда открылась дверь и вошел архонт. Он гневно поднял руку, хотел что-то сказать людям, которые пришли с ним, но увидел смертельно бледную дочь, ее горящий решимостью взгляд и отступил. Легкая усмешка скользнула по его лицу.
— Позовите лекаря, — велел он.
Когда пришел врач, архонт сказал ему громко, чтобы все слышали:
— Я не хочу омрачать печалью добрые чувства моей дочери. Ты должен спасти его ради ее счастья.
И юноша был спасен.
Но архонт вовсе не думал согласиться с выбором дочери. Один вид пастуха вызывал в нем глухую злобу. Он решил хитростью разъединить их, а затем как можно быстрей выдать дочь замуж.
Вскоре уходил корабль в Милет. С этим кораблем архонт хотел отправить пастуха в Грецию якобы с важным поручением.
Архонт велел юноше готовиться в путь.
— Через год, — сказал он дочери, — корабль вернется назад. Если твой возлюбленный не изменит тебе, ты увидишь на мачте белый знак. И тогда я не буду противиться твоему счастью. Но если на корабле не будет этого знака, ты не должна отчаиваться: значит, он не достоин тебя. И ты должна будешь согласиться, чтобы твоим мужем стал Диофант.
А мореходам архонт приказал умертвить пастуха по дороге в Милет.
Для девушки потянулись серые дни, время ползло, как черепаха.
Целыми днями проводила дочь архонта в башне и только изредка спускалась к могиле, где впервые встретила пастуха.
Прошел год.
Все тревожнее становилось девушке, все чаще выходила смотреть, не появился ли корабль с белым знаком.
Однажды все население города собралось на пристани: прибыл корабль из далекого Милета. Но ожидаемого знака дочь архонта не нашла на мачте.
Позвала она рабынь и велела подать себе самую лучшую тунику и диадему из сапфира и опала. Была она бледна и, как никогда, красива.
Девушка поднялась на вершину башни, туда, где ее опоясывают зубцы.
— Позовите Диофанта, — попросила девушка. Вскоре на вершину башни взбежал влюбленный полководец и кинулся к дочери архонта. Она остановила его жестом.
— Ты домогался меня, не спрашивая, нужен ли ты мне, — сказала она. — А ты ведь знал, что я люблю другого — пастуха, который где-то погиб или убит. Что же ты хотел взять у меня, если тебе не нужно было мое сердце? Я должна была стать твоей наложницей, называясь твоей женой. Ничтожные люди! И ты, и отец мой! Вы не знаете, что такое сердце и любовь. А я покажу вам.
Дочь архонта быстро подошла к просвету между зубцами и бросилась вниз.
…С той поры башню на скале называют Девичьей.
Сугдея (древнерусское название — Сурож) — современный Судак — находится в восточной части Крыма в пятидесяти километрах западнее Феодосии. Во II — I вв. до н. э. во время походов полководца Диофанта против скифов и восставших на Боспоре рабов, руководимых скифом Савмаком, все побережье и все греческие колонии подпали под власть Понтийского царя Митридата Евпатора (умер в 63 г. до н. э.). Судакская крепость, судя по приписке к греческому синаксарию (житию святых), написанному в XII веке, была построена в 212 году, но верхний замок — цитадель, называемая народом “Девичьей башней”, могла существовать и раньше. Археологическая наука пока еще не располагает данными о существовании древнегреческого поселения на месте современного Судака, однако не исключено, что местность находилась в сфере деятельности полководца Диофанта. Судакская крепость с Девичьей башней является одним из крупнейших исторических памятников Крыма.
Легенда известна во многих вариантах. Вариант настоящего сборника записан в 1935 году со слов М. Каганцова из Севастополя.
М и л е т — во времена древней Греции был крупнейшим городом на побережье Малой Азии. Выходцы из Милета основали много колоний на берегах Черного моря. По словам античных писателей, Милет являлся метрополией до 90 колоний, среди которых было большинство возникших в Северном Причерноморье греческих городов, например, Пантикапей (современная Керчь), Феодосия и другие.
Гора двух удодов — Опук
В той местности, где сейчас высится гора Опук, было в древности большое богатое селение. Жили в нем кроткие, скромные и трудолюбивые люди, которые считали за тяжкое преступление угнетать кого-либо, не знали, что такое насилие.
Однажды недалеко от селения потонул во время бури какой-то корабль. Из всех находившихся на корабле спаслись только две женщины. Их подобрали добросердечные поселяне и приютили у себя.
Жители селения немедленно принялись за работу и в несколько дней выстроили женщинам дом, поставили в нем все, что полагается, подарили каждой по овце, стали заботиться о чужестранках, как о родных дочерях. Старшую звали именем, которое произносилось, как звук О, младшую — Пука. А так как они были неразлучны и всюду появлялись вместе, то их называли не иначе, как О-Пука.
Женщинам все в селении казалось странным и удивительным. Попали они сюда из страны, где жители были жадны и завистливы, где каждый старался захватить себе побольше всяких ценностей — земли, скота, построек, где одолевали друг друга силой. Женщины знали только такую жизнь.
Прожив несколько месяцев тихо и скромно, они стали тяготиться таким необычайным для них порядком и начали мечтать о господстве над теми, кто их приютил. Это желание с каждым днем все сильнее и сильнее овладевало ими. И женщины мало-помалу начали приводить его в исполнение.
Действовали они осторожно и коварно. Они начали с того, что стали вмешиваться в семейную жизнь поселян, затем попробовали влиять на ведение общественных дел. В конце концов они возбудили у некоторых жителей общины дотоле неведомые чувства — алчность, честолюбие. Приблизив к себе таких людей, женщины образовали из них свою свиту. Эта свита держала в страхе население. Все это напоминало чужеземным женщинам порядки их далекой страны.
Все стали замечать, как меркла, тускнела день ото дня красота чужестранок. И они заметили это. Тогда женщины принялись наряжаться в немыслимо пестрые платья, которые называли мантиями, натирать себя благовонными мазями, румяниться, на головы надели особенные уборы, гордо именуя их коронами. Царицы, говорили они, должны быть нарядными.
Простосердечные поселяне молча сносили тяготы новой власти. Но О и Пуке казалось мало достигнутого. Они приказали изготовить и выставить на площади свои каменные изображения и требовали поклонения им, как богам. Слуги цариц согнали поселян, и те построили вблизи изваяний высокие кресла — троны. По утрам царицы усаживались на троны, а согнанный на площадь народ опускался перед ними на колени. Вид поверженных людей наполнял радостью сердца чужеземок. А в дни новолуния у каменных истуканов закалывали жертву — какое-либо животное.
Кротким жителям ничего не оставалось делать, как уходить из родных мест и искать прибежища у соседних народов. Пустел поселок, становилась бесплодной земля, разрушались жилища.
Шел с востока в сторону поселка странствующий мудрец. Всю жизнь посвятил он изучению жизни, помогал людям разумным словом. Горела в его сердце большая любовь к человеческому роду, и думал он только о том, чтобы сделать людей счастливыми.
Чем ближе подходил мудрый старец к поселку скромных и кротких тружеников, тем больше узнавал об их ужасной судьбе. Ускорил шаг старый человек, догадывался, что нужно там его слово.
И вот он в поселке. Со всех сторон идут к нему люди с жалобами.
— Когда от вас снова потребуют жертвоприношения? — спросил старец.
— Когда подойдет новолуние, — ответили ему.
— Я в тот день явлюсь к вам, и вы будете избавлены навсегда от злых существ.
День новолуния совпадал с годовщиной захвата власти чужеземками. Согнали всех взрослых и детей на площадь. Явились перед ними в нелепых пестрых нарядах царицы. И вдруг, не ведая, что творится в душах собравшихся, О и Пука перед жертвоприношением сказали:
— Кто пожертвует собой для прославления нашего имени и великих дел?
При этих словах все оцепенели от ужаса. Молчали, опустив головы.
— В таком случае пусть решит жребий, кто достоин стать жертвой, — сказала старшая и велела молодым людям отойти от пожилых.
— И вместо одной жертвы восславят нас две…
В эту минуту появился в толпе мудрый старец. Смело подошел он к тронам, снял с плеч котомку и громко сказал:
— Ничтожные существа! Эти люди дали вам приют и пищу. А вы, зараженные ненасытным властолюбием, поработили их. Вы заставили поклоняться своим изображениям, обездолили жизнь этих покорных людей, а теперь требуете их крови! Неблагодарные! Вы вообразили, что терпению этих тружеников не будет конца и что не найдется никого, кто сумел бы наказать вас. Ошибаетесь! — голос старика загремел.
— Это что за комар жужжит у наших ног? — крикнула, вскочив, младшая.
— А вот узнаешь! — повысил голос старик и обратился к поселянам. — Какому наказанию подвергнуть дерзких?
— Делай с ними, что хочешь, только избавь нас от этих хищных птиц! — закричал народ.
— Эй, воины! — позвала старшая. — Хватайте подлого старика!
— Не трогайтесь с места! — голос старца разнесся вокруг громовыми раскатами. Подняв руки к потемневшему небу, старец произнес: — Проклинаю вас, ничтожные твари, и да превратитесь вы в птиц, на которых вы похожи. А троны ваши да превратятся в скалу!
В этих словах будто соединились вся ненависть и презрение жителей поселка к наглым честолюбицам. Была в словах такая сила, что не успел старец замолкнуть, как заколыхалась земля и пред расступившимся народом поднялась из нее скала, на вершине которой сидели две птицы. У них были перья пестрые, словно одежды исчезнувших женщин, а на головах поднимались гребни наподобие царских корон. Прижавшись друг к другу, птицы неистово кричали:
— О-пук! О-пук!
Так кричат удоды, и печален их крик, как печальна судьба низвергнутых цариц, ожесточивших народ.
С той поры и называется эта скала горой Опук. На ней постоянно живут два удода, две самки; живут они сотни лет, но не могут дать племени от себя, потому что потомству от существ, которыми они были когда-то, не должно быть места на земле.
А вскоре недалеко от берега, на том месте, где когда-то потонуло судно, поднялись со дна моря два больших камня, очертаниями похожие на корабли.
Эти камни-корабли напоминают жителям поселка об опасности, какой грозит заморская страна. Пусть не забывают, что оттуда попасть могут к ним нелюди и принести злое горе.
Гора Опук расположена на южной оконечности Керченского полуострова у самого моря. Высота ее — 180 метров, она является наивысшей точкой в этой местности. В V веке до н. э. у подошвы горы было греческое поселение — Киммерик, входившее в состав Боспорского царства. Здесь сохранились остатки строений, фундаменты домов и стен. На вершине горы Опук также есть остатки древних сооружений.
Напротив Опука в море, на расстоянии около трех километров расположены очень интересные скалы. Их называют “Камни-Корабли” за их поразительное сходство с кораблями, идущими под парусами. Существуют многочисленные варианты легенды по поводу горы Опук и скал в море. Данный вариант приводится в сборнике по записи 1938 года от П. Канари из Керчи.
Легенда о семи колодезях
Кем и когда были вырыты в степи семь колодезей — люди не помнят. Рассказывают только, как ушла из них вода.
Семь колодезей уже было, когда приобрел эту землю старый немец. Росло у него шестеро сыновей. Пересчитал немец колодцы и говорит:
— Знать, счастливое число семь. Нужно мне еще одного сына.
Родился у немца седьмой сын, названный Фрицем.
Был в этой безводной местности такой обычай, что хозяин колодцев давал людям воду бесплатно. Давал после того, как наполнит свои водоемы, напоит огороды, бахчи. Но все-таки не отказывал в воде, ибо в ней была жизнь.
Старый немец не нарушал этот обычай, и хозяйство его процветало. По вечерам сидел он вблизи колодцев, считал барыши, курил трубку и наблюдал, как играет Фриц. И уже тогда говорил:
— Из этого парня будет толк.
А маленький Фриц скакал верхом на палочке и, между прочим, уже умел замечать каждую пролитую каплю воды. Он бурчал:
— Плескают всюду воду… Плескают всюду воду…
Подрос Фриц и стал упрекать отца, зачем он раздает драгоценную влагу бесплатно, когда за нее можно брать деньги, сколько хочешь денег. Старый немец смотрел на него и говорил:
— Из этого парня должен быть толк, — но говорил уже не так радостно, как раньше.
Однако молодого Фрица он не слушал и всю воду, что оставалась в колодце, по-прежнему отдавал.
Прошли годы. Сгорбился старик, а Фриц вырос в здорового парня, такого сильного, что все боялись его. Побаивался даже отец.
Случилась беда в семье старого немца: один за другим умерли все шесть сыновей и остался один Фриц. Готов был все сделать для него отец, но только в одном не хотел уступить: не позволял закрывать для народа колодцы.
— Вода держит возле нас людей. А в людях — основа нашего богатства. Пока я жив — так будет, а умру — поступай как знаешь, — говорил он Фрицу.
— Основа богатства — в деньгах, — твердил Фриц, удивляясь неразумству отца.
Умер старый немец. Фриц похоронил отца и первым делом запер все семь колодцев на замок.
— Кому нужна вода — пусть платит, — объявил он.
Поднялся в народе ропот. Ведь никогда такого не было. Но что сделаешь! Несли свои гроши за каждую кружку воды, несли, но роптали все сильней. Услыхал об этом Фриц, стали холодными, как болотная гниль, его глаза, и не велел он давать воду даже за деньги.
— Пусть подохнут, раз меня так ругают.
А вода — это жизнь. Что делать, как жить без воды?
Пришли люди к Фрицу, слезно просили его смилостивиться. Не кланялся ему только один мужичок, бывший солдат, с медалями на груди. Не кланялся и ругал Фрица, как последнего человека на земле. Слушал всех Фриц и сказал:
— Ладно, воду получите. Но не все. Вот тому, что ругает меня, — ни капли не дам.
Схватил того мужика и швырнул за ворота. Упал мужичок наземь и грудь себе отбил. Целый день мучился и к вечеру помирать стал. Пересохло горло, внутри все жжет.
— Испить бы! — просит он, но воды нельзя было нигде достать: чтобы доконать мужика, Фриц велел запереть колодцы на семь замков, а ключи спрятал.
Потянулся перед зарей мужичок последний раз, посмотрел в последний раз на белый свет, сказал какое-то слово и умер. Утром Фриц велел открыть колодцы и принести ему воды. Шарили, шарили в колодцах, а воды в них ни капли не осталось — вся ушла.
И с тех пор многие годы не было ее в семи колодезях.
Ушел от тех мест Фриц, бежал в страхе, а народ остался. Развеялась с годами память о жадном человеконенавистнике — и снова появилась вода в семи колодезях — холодная, сладкая, чистая.
Семь Колодезей — железнодорожная станция в пятидесяти километрах от города Феодосии по Керченской линии. В прошлом в районе станции находились экономии немецких колонистов, которые появились в Крыму еще в первой половине XIX века. Окрестности Семи Колодезей, и в особенности юго-западная часть Керченского полуострова, бедны водой, и воду здесь еще недавно добывали с большим трудом.
В результате изысканий, проведенных несколько лет назад, в районе станции обнаружены мощные источники хорошей пресной воды, а с прокладкой трассы Северо-Крымского канала вопрос о водоснабжении Керченского полуострова полностью разрешен.
Легенда записана от А. Фролова — жителя Семи Колодезей, долгое время батрачившего у немецких колонистов.
Ифигения в Тавриде
Многочисленное греческое войско собралось в поход на Трою. Но вот уже несколько дней греческие корабли стояли у берега и не могли отплыть: дул противный ветер. Этот ветер послала богиня Артемида, разгневавшаяся на греческого царя Агамемнона за то, что тот убил ее священную лань.
Напрасно ждали греки, что ветер переменится. Он, не ослабевая, дул в прежнем направлении. В стане начались болезни, среди воинов поднялся ропот.
Наконец прорицатель Калхас объявил:
— Лишь тогда смилостивится богиня Артемида, когда принесут ей в жертву прекрасную дочь Агамемнона Ифигению.
В отчаяние пришел греческий царь. Неужели суждено ему судьбой потерять нежно любимую Ифигению?
Прекрасная и величественная прошла Ифигения среди несметных рядов воинов и встала около жертвенника. Заплакал Агамемнон, взглянув на свою юную дочь, и, чтобы не видеть ее смерти, закрыл лицо широким плащом.
Спокойно стояла у жертвенника Ифигения. Все хранили глубокое молчание. Вещий Калхас вынул из ножен жертвенный нож и положил в золотую корзину. На голову девы он надел венок. Вышел из рядов воинов Ахилл. Он взял сосуд со священной водой и жертвенную муку с солью, окропил водой Ифигению и жертвенник, посыпал мукой голову Ифигении и громко воззвал к Артемиде:
— Всемогущая богиня Артемида! Пошли нашему войску благополучное плавание к троянским берегам и победу над врагами!
Взял Калхас в руку жертвенный нож и занес его над Ифигенией. Но не упала с предсмертным стоном юная дева. Вместо нее у алтаря, обагряя его кровью, билась в предсмертных судорогах лань, сраженная ножом Калхаса.
Свершилось великое чудо: богиня Артемида сжалилась над Ифигенией и сохранила ей жизнь, послав на жертвенник лань. Пораженные чудом, как один человек, вскрикнули все воины. Громко и радостно вскрикнул и вещий Калхас:
— Вот та жертва, которую требовала великая дочь громовержца Зевса — Артемида! Радуйтесь, греки, нам сулит богиня счастливое плавание и победу над Троей.
И действительно, не была еще на жертвеннике сожжена лань, как подул попутный ветер. Не теряя времени, греки стали готовиться к отплытию.
Богиня Артемида, похитив у жертвенника Ифигению, перенесла ее на берег Эвксинского Понта в далекую Тавриду. Там Ифигения стала жрицей в храме богини Артемиды.
Спустя много лет брат Ифигении Орест, выросший за это время и превратившийся в смелого, мужественного воина, отправился вместе со своим неразлучным другом Пиладом в неведомую страну Тавриду. Он должен был привезти оттуда священную статую Артемиды.
После счастливого плавания Орест и Пилад прибыли в Тавриду. Спрятав свой корабль у прибрежных скал, отважные путешественники ступили на чужую землю. Здесь их подстерегала большая опасность.
У тавров, местных жителей, существовал обычай умерщвлять чужеземцев и приносить их в жертву богине Артемиде. Священнодействие совершала жрица, не знавшая брачного факела. Она приводила чужеземца к алтарю, и тот падал под ударом девичьего меча. Голова жертвы в угоду богине укреплялась возле храма на высоком столбе. Орест, конечно, и не подозревал, что этот печальный обряд вот уже многие годы совершает его сестра Ифигения.
Отважные путешественники незаметно подкрались к храму Артемиды. Это было огромное здание, опирающееся на многочисленные колонны. К нему вела широкая, в сорок ступеней, мраморная лестница. Возле храма возвышались столбы, на которых торчали человеческие головы. Поняв, что днем статую Артемиды не удастся выкрасть, Орест и Пилад спрятались и стали ждать ночи.
Но случилось так, что еще до наступления темноты Ореста и Пилада заметила стража. После короткой, но жестокой схватки их связали и отвели к таврскому царю Фоапту, известнее и могущественнее которого не было в водах эвксинских. Царь спросил пленников, откуда они и зачем прибыли в его страну, а затем объявил, что по местному обычаю они будут удостоены особой чести: их принесут в жертву богине Артемиде.
Утром Ореста и Пилада связанных привели в храм, где у алтаря, сделанного из белоснежного мрамора, их уже ожидала жрица. Покропив пришельцев очистительной водою, покрыв повязками их виски, Ифигения сказала:
— Простите, юноши, я не по своей воле совершаю этот жестокий обряд. Таков обычай здешнего племени. Скажите мне, кто вы?
Услышав в ответ, что они греки и что оба из родного ей города, Ифигения воскликнула:
— Пусть один из вас падет жертвой нашей святыне, а другой повезет весть от меня на родину.
Орест и Пилад заспорили. Пилад, желая спасти друга, настаивал на том, чтобы в путь отправился Орест, Орест же твердил, что именно он должен умереть на чужбине.
Пока юноши спорили, кому умереть, Ифигения писала письмо на родину своему брату, которого она оставила когда-то еще младенцем. И только тогда, когда Ифигения протянула Оресту письмо, они узнали друг друга.
Несказанно обрадовались все трое такой неожиданной встрече и стали думать о том, как спастись им и как увезти священную статую Артемиды.
И решила Ифигения прибегнуть к обману. Она объявила царю тавров Фоапту, что статуя Артемиды осквернена и нужно омыть в море и ее и жертвы — двух чужеземцев. Согласился на это Фоапт.
В торжественной процессии пошла Ифигения с прислужницами храма на берег моря к тому месту, где был укрыт корабль. Прислужницы несли статую Артемиды, а воины царя вели связанных Ореста и Пилада. Прийдя к морю, Ифигения велела воинам удалиться, так как они не должны были видеть тайных обрядов омовения. Когда воины ушли, сестра освободила брата и его друга и поспешила с ними на корабль.
Подозрительным показалось таврским воинам, что так долго длится обряд омовения. Они вернулись к берегу и, к своему удивлению, увидели за скалой чужой корабль, на котором пленники и жрица уже собрались бежать.
Бросились воины на корабль, скрестили мечи, завязалась упорная битва. И хотя воинов было много, Орест и Пилад обратили их в бегство. Не успел гонец сообщить таврскому царю Фоапту о случившемся, как гребцы сели на весла, и греческий корабль вышел в открытое море.
Легенда изложена по трагедии греческого писателя Еврипида “Ифигения в Тавриде”, а также по письмам латинского писателя Овидия (Кун Н. А. “Легенды и мифы древней Греции”, Учпедгиз, 1957; Латышев В. В. “Известия древних писателей, греческих и латинских о Скифии и Кавказе”, т. I — IV, СПб, 1893 — 1906).
А р т е м и д а — в древней мифологии богиня-охотница, покровительница животных.
А х и л л — герой древнегреческой мифологии, храбрейший из воинов, осаждавших Трою.
А г а м е м н о н — герой древнегреческой мифологии, царь Аргоса,-предводитель ахейского войска.
И ф и г е н и я — дочь царя Агамемнона.
О р е с т — сын царя Агамемнона.
Т а в р и д а — древнее название Крыма, произошло от названия народа — т а в р о в, населявших прибрежную и горную часть полуострова.
Х р а м А р т е м и д ы — возможно, находился на северной оконечности Херсонеса, где археологами была найдена монета с изображением Артемиды. Есть также предположения, что этот храм стоял возле одного из греческих поселений на Аю-Даге.
Перекопский ров
Более чем две тысячи лет тому назад на Крымском полуострове господствовали скифы — могучее и воинственное племя. Воспитанные в суровых условиях, скифы отличались выносливостью и душевной доблестью. Скифские воины, сильные и мужественные, готовы были в любую минуту сесть на коней и отправиться в поход на врага, угрожающего их отечеству.
В то далекое время между скифами и египтянами разгорелся спор о том, кто из них является самым древним народом.
— Мы первые появились на земле, — хвалились египтяне. — От нас пошли все другие народы, в том числе и вы, скифы.
— Нет, мы самый древний народ, — возражали скифы. — На свете еще никого не было, даже вас, египтян, а наши предки уже кочевали по просторным степям Скифии.
— Ну, это еще надо доказать, — говорили египтяне. — А вот мы вам докажем! В начале сотворения мира, когда одни страны пылали от нестерпимой жары, а другие, как ваша Скифия, покрывались льдом от ужасного холода, в Египте был климат умеренный. И если в других странах человек существовать не мог, пока не были найдены средства защиты от жары и холода, то в Египте ни зимние холода, ни летний зной не причиняли страданий его обитателям, а плодородная почва давала обильное количество пищи.
Итак, наша страна с полным правом может считаться родиной людей.
Посмеялись скифы над доказательствами египтян:
— Да разве ж это доказательства?! Ведь каждому ясно, что природа, распределив по странам света жару и холод, сразу же создала живые существа и растения, способные переносить тот или иной климат. Ваши растения, например, любят много тепла и не терпят холода, а наши вполне переносят зиму.
Что касается плодородия ваших земель, то они не сразу стали плодородными. Потребовались много веков и труд многих поколений для сооружения плотин и оросительных каналов, после чего ваши поля стали давать урожай.
А теперь выслушайте доказательства в нашу пользу.
Если в мире, как утверждают некоторые мудрецы, первоначально господствовал огонь, то наша Скифия, вследствие зимних холодов, первой остыла и на ее территории появились первые люди. А Египет долго после этого оставался в огне. Да и доселе он не остыл как следует и страдает от жары.
Если же земли, как утверждают другие мудрецы, некогда были затоплены, то прежде освободились от воды и высохли высокие места, а в низменностях вода стояла дольше всего. Как известно, Скифия лежит выше Египта, с ее поверхности раньше схлынула вода и раньше появились живые существа…
Много лет продолжался этот спор между двумя древними народами. Наконец египтяне, не сумев убедить противника словом, решили доказать свою правоту мечом и объявили скифам войну.
Египетский царь Везосиз собрал великое войско и повел его на Скифию, предварительно выслав туда своих послов. Послы предложили скифам сдаться без боя, выразить Везосизу, царю богатой и сильной страны, покорность и признать египтян самым древним народом. Скифы ответили египетским послам так:
— Царь столь богатой страны безрассудно, лишь по высокомерию своему начал войну с нищими, войну, которой ему следовало бы опасаться, так как исход ее сомнителен, награды никакой, а вред очевиден. Скифы не станут дожидаться, когда к ним придет богатый противник, а сами поспешат навстречу добыче.
Дело не замедлило последовать за словами. Не успел египетский царь выслушать от своих послов дерзкий ответ скифов, как вдали показалось большое пыльное облако и послышался топот сотен тысяч конских копыт. Везосиз никак не ожидал, что скифы осмелятся первыми напасть на него, растерялся и, бросив войско со всем военным снаряжением, бежал.
Скифы, захватив обильную добычу, преследовали противника до самого Египта, и только болота не пустили их в эту южную богатую страну.
Окрыленные победой над египтянами, скифы не повернули сразу домой, а двинулись в поход по Средней Азии. Они покоряли одну страну за другой, накладывая в знак своей власти умеренную дань, и вскоре вся Азия сделалась скифскою данницею…
С тех пор, как скифские воины покинули свою родную Скифию, прошло ни много ни мало как двадцать лет. Скифские жены, истомившись от долгого ожидания и полагая, что мужья их все погибли в боях и больше не вернутся, вступили в брак со своими рабами. И когда жены услышали, что их мужья живы и вскоре вернутся домой, они пришли в неописуемый ужас. Что делать? Посоветовавшись между собой, они созвали всех рабов, и также сыновей своих, прижитых с рабами, и сказали:
— Нам всем угрожает гибель от рук мстителей. Мужья не простят измены ни нам, своим женам, ни вам, своим рабам, ни вам, незаконным детям. Поэтому защищайтесь как только можете!
И тогда рабы и их сыновья взяли в руки кирки и отправились туда, где узкая полоска земли соединяла Крымский полуостров с материком. Выкопав глубокий ров, они вооружились и засели там, решив погибнуть все до одного, но не пропустить мстителей.
Ничего этого не зная, скифские воины, гордые и счастливые от многочисленных побед, приближались к родной земле.
Они предвкушали радость встречи со своими матерями, женами, детьми, и их возбужденные голоса разносились далеко по степи.
А вот и перешеек, то единственное место, по которому скифы могут перейти через соленые озера на полуостров к себе домой. Но что это? Глубокий ров, которого раньше не было, преграждал им путь, а какие-то неизвестные люди угрожали им оружием! Разъяренные скифы навалились на неизвестных, и начался жестокий бой.
Двадцать дней на узком перешейке лилась кровь, двадцать дней подряд падали и умирали люди. Неизвестные дрались так отчаянно, словно защищали свою родную землю, и невозможно было их одолеть.
После двадцатидневной борьбы скифы отступили и удалились на совещание.
— Если так будет продолжаться и дальше, — сказали самые мудрые воины, — то никто из нас не увидит родины. Мы все погибнем здесь, у ее порога. Надо узнать, кто они и чего от нас хотят.
И узнали скифы, что воюют они против своих рабов и сыновей своих жен, и поняли тогда, что силой оружия им не победить отчаявшихся, что надо действовать иначе.
Снова скифские воины двинулись на штурм рва, только в руках у них были не мечи и стрелы, а кнуты и розги. Приблизившись к защитникам, они неожиданно осыпали их ударами, и те, увидев кнут и услышав свист розог, из отважных воинов превратились в покорных рабов и, побросав оружие, в панике бежали…
Скифы после этого не засыпали рвов, а наоборот, расширили, углубили его и рядом построили небольшое укрепление. Как опытные воины, они поняли, что ров может быть надежной защитой от нападения врагов.
С тех незапамятных времен и существует Перекопский ров.
Легенда записана древними писателями Юнианом Юстином и Плинием Старшим (Латышев В. В., “Известия древних писателей греческих и латинских о Скифии и Кавказе”). Печатается в обработке Г. Тарана.
П е р е к о п с к и й р о в — сооружен около двух тысяч лет тому назад для обороны Крымского полуострова от кочевников. Впоследствии он неоднократно обновлялся, углублялся. Турки, захватив Крым, построили на перешейке крепость Ор-Капу, развалины которой можно видеть и в настоящее время.
С к и ф ы — занимали сначала степные просторы Причерноморья, а с III в. до н. э. переместились в Крым. Столица скифов Неаполь скифский находилась на холмах, лежащих недалеко от нынешнего Симферополя.
Смерть Митридата
Митридат был одним из самых могущественных властителей древности. Он подчинил себе многие народы Востока, он завоевал богатый Херсонес, а затем и великое Боспорское царство и утвердил свое господство на Понте Эвксинском.
Митридат был одним из самых образованных людей своего времени. Он знал двадцать два языка, так что мог свободно изъясняться с подвластными ему племенами и творить суд над ними, не обращаясь за помощью к толмачам.
Митридат, как ни один из смертных, был крепко привязан к жизни. Он ежедневно на протяжении многих лет принимал ядовитые снадобья и так приспособил к ним свой организм, что, когда захотел умереть, смерть не пришла к нему.
Но, как и каждый властелин, Митридат был жестоким, несправедливым и самоуверенным. Это и погубило его.
Народы находившиеся под владычеством Митридата, не раз восставали против тирана и пытались освободиться от невыносимого гнета. А с другой стороны Митридату все время угрожал могущественный Рим, который стремился заполучить такие прекрасные земли, как Таврия и Колхида. Не имея поддержки со стороны тавров, скифов, савроматов и других народов, Митридат терпел от римских легионов поражение за поражением.
Последний сокрушительный удар нанес Митридату римский полководец Помпей. Окончательно разгромленный, потерявший свое войско, Митридат еле спасся бегством и не успел даже забрать с собой свою больную дочь Дрипетину. Она осталась в крепости Сингории на попечении евнуха Минофила, который лечил ее от тяжкого недуга.
Вскоре римляне подошли к крепости Сингории и окружили ее. Видя, что защитники крепости собираются сдаваться и что благородная дочь Митрида будет отдана на потеху жестоким врагам, Минофил одним ударом ножа убил ее, а другим покончил с собой.
А тем временем Митридат, достигнув Пантикапея, начал лихорадочно готовиться к новому сражению с римлянами. Он решил бороться до последнего.
Но трудно было старому, израненному волку в одиночку отбиваться от стаи шакалов. Понял Митридат, что военачальники его ненадежные, что друзья от него отшатнулись и что довериться никому нельзя.
Собрав новое войско, Митридат обратился к своему сыну Фарнаку:
— Сын мой, на тебя одного надежда. Бери войско и иди на врага. Тебе вверяю я мою судьбу и судьбу моего государства. Иди же и возвращайся с победой.
Не знал старый полководец, что сын его тоже недоволен им и давно помышляет об измене. Решив, что подходящий момент настал, Фарнак не повел войско навстречу римлянам, а повернул его против отца. В городах Боспора, в Херсонесе вспыхнули восстания, на сторону восставших перешли многие военачальники.
Великим гневом воспылал Митридат, услышав об этом. Не помня себя, не веря больше никому и ничему, он казнил несколько своих верных друзей и вместе с ними сына Эксиподра. Потом он велел запереть все ворота крепости, а сам взобрался на высокую стену и стал уговаривать Фарнака:
— Опомнись, сын мой! Подумай, что ты делаешь! Ты погубишь и меня, и себя, и государство!
Но неумолим был Фарнак, и Митридат с гневом продолжал:
— Что ж, пусть свершится то, что ты желаешь: я умру… Но перед смертью своею я проклинаю тебя… И еще прошу отечественных богов, если они существуют, чтобы ты услышал когда-нибудь такие же слова от сына своего…
Митридат быстро сошел с крепостной стены и заперся во дворце. Он собрал всех своих жен, наложниц, дочерей, наполнил чаши отравленным вином и приказал:
— Пейте за победу!
Потом он переоделся в одежды простого воина и сам принял яд…
Но тщетно ждал смерти некогда могущественный царь. Она не приходила. Даже смерть отказала ему в повиновении.
— О проклятье! — воскликнул Митридат и вспомнил, что он неуязвим для яда и что ему не удастся незаметно уйти из жизни. Тогда он выбежал из дворца, подозвал к себе одного из тех воинов, которые уже прорвались в крепость, и подставил под его нож свое горло.
Так умер Митридат, и с тех пор гора на Керченском полуострове носит его имя.
Легенда записана древнегреческими писателями (Латышев В. В., “Известия древних писателей греческих и латинских о Скифии и Кавказе”). Печатается в обработке Г. Тарана.
К о л х и д а — древнее название Кавказа.
М и т р и д а т — царь Понтийского государства, подчинил себе Боспор, Херсонес, многие царства Колхиды и вел долгую и упорную борьбу с римлянами, стремившимися к мировому господству. В 63 г. до н. э. покончил жизнь самоубийством в пантикапейском дворце. Его именем названа гора, возвышающаяся возле нынешней Керчи.
П а н т и к а п е й — столица древнего Боспорского государства, находилась на месте нынешней Керчи.
П о м п е й — древнеримский полководец и политический деятель.
Могила Мамая
В Крыму в глубокой древности появился человек, который некогда господствовал над половиной мира и хотел во что бы то ни стало завладеть остальной его частью. Слава о жестокости и вероломстве завоевателя летела далеко по земле. Имя этого человека было Мамай.
Он так любил говаривать:
— Только тогда я успокоюсь, когда стану властелином мира…
Но не суждено было осуществиться властолюбивым мечтам кровожадного хана. На славянской земле он встретил достойный отпор. Ударили русы по ханскому войску — и падали татары с коней, как осенью листья с деревьев.
Бросив разбитое войско и захватив с собой сокровища, Мамай бежал к берегам Азовского моря. Там он нанял большой корабль и пустился искать счастья в других краях.
Как долго плавал Мамай — никто не знает. Только оказался его корабль у берегов Крыма, возле города Кафы. Стал проситься Мамай в город, стал хвастаться своим богатством. Узнали градоправители, кто к ним пожаловал, подумали и решили пустить беглеца в Кафу. Что ж, если хочет, пусть мирно живет, торгует, способствует обогащению города.
Мамай поселился за городом. Но властолюбивые мечты не давали ему покоя. Жизнь простого горожанина была не по нем. И он задумал захватить Кафу.
Для достижения своей цели Мамай начал подбирать людей, которые благоговели перед его былым могуществом, которые жаждали славы и легкой наживы. Когда приверженцев набралось достаточное количество, Мамай приказал им притаиться в городе, приготовиться к нападению и ждать его сигнала.
Мамай был уверен в успехе. Городская крепость охранялась слабо, в городе никто даже и не подозревал о грозящей опасности. Упоенный надеждами хан забылся на минуту и поведал о своей радости верному слуге. Слуга разделил радость своего хозяина со своей любимой женой. А известно, что, когда женщина посвящена в какую-либо тайну, она, чтобы возвыситься в глазах других, старается разгласить ее встречному и поперечному, приговаривая при этом: “Только тебе одному”.
Тайна Мамая в первый же день облетела всю Кафу и дошла до градоправителей, которые и без того уже с беспокойством посматривали на подозрительных людей, появившихся в городе. Понятно, что стража в крепости была увеличена, а жители вооружены и приготовились к отчаянному сопротивлению.
Не зная, что заговор его раскрыт, Мамай в полночь подал сигнал и стал во главе мятежников. Но на какую бы улицу отряд ни попадал — везде его встречали градом камней и дождем стрел.
Поняв, что замысел его провалился, хан бросил на произвол судьбы своих сообщников и спрятался в городском бассейне. Там он сидел до утра в надежде, что кто-нибудь придет за водой и поможет ему незаметно исчезнуть из города. Утром он услышал знакомый голос и вышел из своего убежища. Оказалось, что это был его слуга.
Канавой, по которой стекает к морю дождевая вода, слуга вывел своего хозяина за город.
— Беги, мой повелитель, — сказал он. — Беги в те края, где тебя еще не знают.
— А сокровища? Мои сокровища! Я должен захватить их с собой.
— Но, повелитель, тебе опасно показываться дома. Тебя разыскивают по всему городу. А разыщут — пощады не жди. Я сам своими ушами слышал, какие страшные проклятия сыпались на твою голову. Город бурлит от негодования. Беги!
— Ты мне смеешь указывать! — закричал хан. — Я сам знаю, что мне делать!..
Придя домой, Мамай почувствовал себя в безопасности и начал мечтать о том, как он в конце концов захватит Кафу и отомстит за свое вчерашнее поражение. “Я богат, — думал он. — У меня есть сокровища, при помощи которых я подкуплю стражу и градоправителей, посею смуту и недовольство среди горожан. Люди всегда склоняли головы перед золотом, перед силой. Я сильный, я поставлю всех на колени!”
А в это время дом, в котором находился Мамай, был окружен. Услышав гул голосов и бряцание оружия, Мамай схватил меч и выскочил наружу.
— Смерть тебе, жестокосердный и коварный человек! — закричала вооруженная толпа, увидев Мамая. — Ты надругался над нашим гостеприимством, ты опозорил наш город, ты пролил кровь наших жителей! Смерть тебе! Смерть! Смерть!
И в тело Мамая вонзились десятки пик.
— Постойте, не убивайте, — прохрипел хан. — У меня сокровища, я дам вам много золота…
Даже в эту минуту он все еще надеялся жить, чтобы со временем завоевать мир и расправиться с ненавистным ему человечеством. Но душа покинула его тело, прежде чем дневное светило покинуло землю.
Когда совсем стемнело и нельзя уже было отличить белую нитку от черной, слуга отыскал иссеченное тело своего властелина и похоронил его далеко за городом Кафой. Вскоре на том месте появился курган, который люди назвали Мамаевой могилой.
Легенда записана В. Кондараки (“Легенды Крыма”, М., 1883). Печатается в обработке Г. Тарана.
М а м а й — золотоордынский хан. Разгромленный в битве с русскими, он бежал в Крым, где и погиб в городе Кафе.
Каменные парусники
Поднимай парус, старый корабль, крепи снасти — будет шторм!
Много штормов пережил на своем веку старый Ерги Псарась, но впереди его ожидал самый свирепый, самый страшный шторм.
Давно уж не выходил Псарась в открытое море и жил себе в покое и довольстве. Его дворец считался самым красивым в Пантикапее, а его склады в гавани, содержащие различные товары, — самыми богатыми. Но неоценимым богатством своим Псарась считал своего красавца сына, один взгляд которого заставлял сильнее биться женские сердца.
Пора было выбирать для сына невесту, и отец выбрал. Он стал часто посылать сына в Кафу к одному купцу, у которого была красивая дочь. Но сын полюбил другую. Та, другая, жила в дальней деревне, куда сын Ерги Псарася ездил покупать пшеницу. Морщинки уже побежали по ее лицу, и голос уже не звучал по-девичьи. Но в глазах жил веселый смех, и каждое движение сулило радость.
Встретив ее, юный Псарась почувствовал, как сильнее забилось его сердце, как опутали его цепи любви. А она, познавшая в прошлом и горечь и радость любви, поняла, что поздний призыв жизни сильнее смерти.
И думала несчастная женщина о своем мальчике, которого отняли у нее в давние дни, и вспоминала о муже-рыбаке, который бросил ее, так жестоко расправившись с нею. Его звали также Ерги, но он был беден, и ничего, кроме рыбачьей ладьи, у него не было.
Не делилась женщина своими скорбными думами с юношей, не хотела огорчать его, боялась затмить светлые минуты встречи. И без того печален был он, и часто слеза сбегала из его глаз. Она припадала к его устам в замирающем поцелуе, обвивала его тонкий стан нежною рукою и напевала старинную песню:
Любовь без горя, любовь без слез То же, что море без бурь и без гроз…А между тем отец торопил сына с женитьбой. Новый корабль, предназначенный для такого случая, был уже готов. Ждали только попутного ветра, чтобы поднять паруса и ехать за невестой. Когда ветер зашумел от Камыш-Буруна, Ерги Псарась позвал к себе сына:
— Пора ехать в Кафу.
Хотел сказать что-то сын, да увидел суровое лицо отца, и замерло слово на его устах.
К ночи вышел корабль из гавани, и тотчас же к старику подошел слуга.
— Тебе от сына, — сказал он, подавая хозяину свиток.
Развернул свиток Ерги Псарась и медленно прочел его. Если бы ураган, который поднялся в груди отца, мог вырваться на волю, он сровнял бы всю землю на своем пути от Пантикапея до Кафы. И если бы гора Митридат упала на старика, она не показалась бы ему более тяжелой, чем та правда, о которой он узнал из письма сына.
— Пусть будет трижды проклято имя этой женщины! — проговорил Ерги Псарась. — Пусть лучше погибнет сын от моей руки, чем он станет мужем своей матери!.. Поднимай паруса, старый корабль, служи последнюю службу!
И Ерги Псарась прокричал корабельщикам, чтобы готовились к отплытию.
— С ума сошел старик, — ворчали люди. — Шторм, какого еще не бывало, а корабль, словно решето…
Звякнули якоря, затрепетали на ветру паруса, и рванулось вперед старое судно. Как в былые времена, Ерги сам направлял его бег и забывал, что оба они — один дряхлее другого.
Гудел ураган, волны захлестывали борта, от ударов трещал корабельный корпус.
— В трюмах течь! — крикнул шкипер.
Вздрогнул Ерги, но, заметив впереди мачтовый огонь другого корабля, велел прибавить парусов. Словно птица взлетел старый корабль и, прорезав несколько перекатов волны, ринулся в пучину. Казалось, что он коснулся морского дна, а потом снова взлетел вверх и бросился на гребень огромной, как гора, волны.
В эту минуту Ерги Псарась увидел совсем рядом, в нескольких локтях от себя, свой новый корабль. Сквозь тучи на какое-то мгновение пробился свет луны, и отец увидел своего сына, узнал ту женщину с золотистыми волосами, которая была с ним. Пересиливая ураган, Ерги Псарась крикнул:
— Опомнись, сын: она твоя мать!..
Белая ослепительная молния разорвала черное небо, страшной силы удар потряс гору Опук-кая. Часть горы откололась, и тысячи обломков посыпались в воду, отчего море покрылось белой пеной. Налетел новый шквал, и оба корабля исчезли навсегда.
Услышал ли сын отца, понял ли свою роковую ошибку — никто не знает. Только на том месте, где произошла катастрофа, из воды поднялись две скалы, похожие на корабли с парусами. И кажется, что корабли несутся по морю и что один корабль вот-вот настигнет другой.
— Знать, не услышал сын своего отца, — говорили люди, указывая на скалы-корабли. — Видишь, до сих пор от него убегает.
Легенда записана Н. Марксом (“Легенды Крыма”, вып. I, М., 1913).
Камни-Корабли — название скал, виднеющихся в море в нескольких километрах от горы Опук.
Кара-Даг — Черная Гора
Донеслась из ущелья девичья песня, высокой нотой прорезала воздух, на мгновение оборвалась и тут же, подхваченная многими голосами, разлилась по Отузской долине.
Это девушки, покончив с укладкой винограда, торопятся домой. Спешат девушки, словно быстрые сумерки подгоняют их, и с опаской поглядывают на Кара-Даг — Черную гору, которая зловеще нависла над долиной, заслонив собой часть неба. Там, в недрах горы, обитает страшное чудовище — одноглазый великан-людоед.
Днем великан спит, но даже его мирный храп, похожий на отдаленные раскаты грома, пугает жителей окрестных селений. Повернется великан во сне — вся гора дрожит до основания, а вздохнет — из отверстия, находящегося на ее вершине, пар клубами валит.
Поздним вечером, когда совсем стемнеет, великан просыпается и вылезает из своего логова. Угрожающе сверкая своим единственным глазом, он начинает оглушительно реветь, так что громовое эхо далеко перекатывается по Крымским горам и замирает где-то на Ай-Петри.
Тогда в страхе прятались все — дети, старики, женщины, прятались где только кто мог, а мужчины, чтобы задобрить чудовище, отводили к подножию Черной горы быка или пару овец. Привязав скотину на видном месте, мужчины удалялись, а великан мгновенно замолкал и успокаивался до следующего вечера.
Но осенью, когда вслед за листопадом наступал месяц свадеб, великан требовал большой жертвы. Его не удовлетворяли тогда даже десятки овец и быков. Он ревел и рсвел, не переставая, целую ночь. От рева его дрожали окна в селении и потухал огонь в очагах. Наконец, он хватал огромные камни и начинал сбрасывать их в долину. Камни, скатываясь по склону горы, цепляли за собой десятки других камней помельче, и эта лавина сметала все на своем пути, засыпала виноградники, разрушала строения.
Напуганные до смерти люди выбирали тогда одну из невест, приводили ее на Кара-Даг и связанную оставляли на высокой скале…
Много лет властвовал великан над Отузской долиной, много жертв погубил, много горя людям принес. И люди, проклиная свою тяжелую судьбу, терпели великана, и никто не знал, как избавиться от него.
Но вот нашелся один юноша, сильный и смелый, словно горный орел, который не боится даже человека, как бы тот высоко в горы ни забирался.
— Надо убить великана, — сказал юноша.
— Сами знаем, что надо убить, — ответили ему мужчины-односельчане. — Но как это сделать?
— Надо всем нам вооружиться, взобраться на Черную гору, спрятаться недалеко от выхода и ждать, когда проснется великан. А как только высунет он свою голову, тут и забросать его стрелами.
Посмеялись мужчины над юношей:
— Что значит молодо-зелено! Да ведь великан, как гора, а мы, как мыши перед ним. Что ему наши стрелы сделают? Нос поцарапают и только. Он нас одним взмахом сметет с вершины. Мы погибнем, и семьи наши погибнут.
— Что ж, если вы боитесь, тогда я сам влезу на Черную гору и убью великана, — сказал юноша.
— Зря бахвалишься, только народ смешишь.
— Клянусь, что убью великана, — упрямо повторил юноша и стал дожидаться месяца свадеб.
Дождавшись месяца свадеб, юноша выполнил свою клятву — отправился на Кара-Даг к великану.
Солнце зашло, с гор в долину спустились сумерки. На темно-синем небе появилась большая луна и покрыла серебристой чешуей морскую гладь. В селении постепенно затихли людские голоса, блеяние овец, мычание коров, там и сям вспыхивали вечерние огоньки.
“Красиво как у нас здесь, — думал юноша, оглядываясь вокруг. — И жить очень хочется! Но лучше погибнуть в неравном, но правом бою, чем терпеть ненасытное чудовище. Завтра потребует оно очередную жертву, и, может быть, жребий выпадет на мою дорогую Эльбис”.
Вспомнил юноша свою возлюбленную, присел на камне и, мечтательно глядя на море, запел старинную песенку:
Любовь — это птичка весны, Пришла ей пора прилететь. Спросил я старуху-гречанку, Как птичку любви мне поймать? Гречанка ответила так: «Глазами ты птичку лови, Она на уста упадет И в сердце проникнет твое…»— Ха-ха-ха! — раздался над головой юноши такой громкий смех, что его услышали, наверное, чабаны на Перекопе. — Однако ты ничего поешь. Мне нравится.
Юноша задрал вверх голову и увидел на вершине Кара-Дага горящий, как яркая звезда, глаз великана.
— А, это ты, сосед, — не испугался юноша, — рад тебя видеть.
— Спой мне еще свою песенку, — пророкотал великан. — У меня весеннее настроение. Я тоже хочу, чтобы ко мне птичка любви прилетела, чтобы мне на уста упала и чтобы в самое сердце проникла.
— Значит, ты хочешь увидеть птичку любви?! — обрадовался юноша. — Ты ее увидишь, даю тебе слово, только тебе придется потерпеть до завтра. А завтра я приведу ту, которая посылает любовь.
Следующим вечером в то же время юноша снова отправился на Кара-Даг, но уже не сам, а вместе со своей суженой, красавицей Эльбис.
Увидев на вершине Черной горы огромного великана, силуэт которого четко вырисовывался на звездном небе, Эльбис в ужасе остановилась. Но, взглянув на своего любимого, она поборола страх и отважно шагнула навстречу опасности. Она взошла на высокую скалу, ту самую, на которой великану приносили в жертву девушек, и громко произнесла:
— Эй, великан, я пришла! Я принесла птичку любви! Посмотри на меня: нравлюсь ли я тебе? Если нравлюсь, то открой пошире глаз и гляди внимательно сюда. Я выпущу птичку любви.
Красота Эльбис была настолько ослепительна, что великан от изумления широко раскрыл свой единственный глаз. А девушка, — она была достойной парой своему возлюбленному, — взяла лук, натянула тугую тетиву и пустила в светящийся глаз великана каменную ядовитую стрелу.
Взвыл от невыносимой боли великан и рванулся было к смельчакам, чтобы раздавить их, но, ничего не видя, споткнулся о камень и сорвался в свою глубокую нору.
То ли великан при падении поломал себе руки и ноги, то ли отверстие завалилось, только остался он в горе и не мог уже выбраться наружу, чтобы отомстить людям. В каменной ловушке он корчился от боли и ревел от бешенства. Он напрягал все свои силы, пытаясь развалить Черную гору, отчего гора шевелилась, как живая. Громадные камни, а то и целые утесы откалывались от нее и с шумом падали в море. От гневного дыхания великана плавилась земля и сквозь образовавшиеся трещины стекала со склонов огненными потоками.
Целую ночь над Кара-Дагом стоял беспрерывный гул, целую ночь вершина его извергала огонь, дым и пепел. Черная зловещая туча заволокла все небо, сверкали молнии, беспрерывно гремел гром. Весь Крымский полуостров трясся, как в лихорадке, а море, вздымая свои волны-горы, с яростью наскакивало на берег, словно хотело поглотить сушу.
На рассвете над Отузской долиной выпал дождь и все утихло. Вышли люди из своих убежищ, посмотрели в ту сторону, где вчера еще было логово великана, и в удивлении замерли. Черной горы больше не существовало. Она развалилась до основания, похоронив под собой великана. А на том месте поднялись высоко к небу новые утесы, зубчатые хребты, причудливой формы скалы, напоминающие диких зверей. Море уже больше не сердилось, а ласково обмывало отвесные стены торчащих из воды скал, заливало многочисленные бухточки и пещеры и, выливаясь, что-то радостно бормотало.
Люди ходили по берегу, собирали разноцветные камешки и любовались дикой красотой мертвого царства великана.
Легенда записана Н. Марксом (“Легенды Крыма”, вып. III, Одесса, 1917). Печатается в обработке Г. Тарана.
К а р а – Д а г (Черная гора) — горный массив, расположенный между Судаком и Феодосией. Три могучих силы создали своеобразный карадагский ландшафт: вулканическая деятельность, процессы горообразования и процессы выветривания.
Хан и его сын
“Был в Крыму хан Мосолайма эль Асваб, и был у него сын Толайк Алгалла…”
Прислонясь спиной к ярко-коричневому стволу арбутуса, слепой нищий, татарин, начал этими словами одну из старых легенд полуострова, богатого воспоминаниями, а вокруг рассказчика на камнях — обломках разрушенного временем ханского дворца — сидела группа татар в ярких халатах, в тюбетейках, шитых золотом. Вечер был, солнце тихо опускалось в море, его красные лучи пронизывали темную массу зелени вокруг развалин, яркими пятнами ложились на камни, поросшие мхом, опутанные цепкой зеленью плюща. Ветер шумел в купе старых чинар, листья их так шелестели, точно в воздухе струились невидимые глазом ручьи воды.
Голос слепого нищего был слаб и дрожал, а каменное лицо его не отражало в своих морщинах ничего, кроме покоя; заученные слова лились одно за другим, и пред слушателями вставала картина прошлых, богатых силой чувства дней.
— Хан был стар, — говорил слепой, — но женщин в гареме было много у него. И они любили старика, потому что в нем было еще довольно силы и огня, и ласки его нежили и жгли, а женщины всегда будут любить того, кто умеет сильно ласкать, хотя бы и был он сед, хотя бы и в морщинах было лицо его — в силе красота, а не в нежной коже и румянце щек.
Хана все любили, а он любил одну казачку-полонянку из днепровских степей и всегда ласкал ее охотнее, чем других женщин гарема, где было триста жен из разных земель, и все они красивы, как весенние цветы, и всем им жилось хорошо. Много вкусных и сладких яств велел готовить для них хан и позволял им всегда, когда они захотят, танцевать, играть…
А казачку он часто звал к себе в башню, из которой видно было море, там для казачки он имел все, что нужно женщине, чтобы ей весело жилось: сладкую пищу, и разные ткани, и золото, и камни всех цветов, музыку, и редких птиц из далеких стран, и огненные ласки влюбленного. В этой башне он забавлялся с ней целые дни, отдыхая от трудов своей жизни и зная, что сын Алгалла не уронит славы ханства, рыская волком по русским степям и всегда возвращаясь оттуда с богатой добычей, с новыми женщинами, с новой славой, оставляя там, сзади себя, ужас и пепел, трупы и кровь.
Раз возвратился он, Алгалла, с набега на русских, и было устроено много праздников в честь его, все мурзы острова собрались на них, были игры и пир, стреляли из луков в глаза пленников, пробуя силу руки, и снова пили, славя храбрость Алгаллы, грозы врагов, опоры ханства. А старый хан был рад славе сына. Хорошо было старику знать, что, когда он умрет, — ханство будет в крепких руках.
Хорошо было ему это, и вот он, желая показать сыну силу любви своей, сказал ему при всех мурзах и беках — тут, на пиру, с чашей в руке, сказал:
— Добрый ты сын, Алгалла! Слава аллаху, и да будет прославлено имя пророка его!
И все прославили имя пророка хором могучих голосов. Тогда хан сказал:
— Велик аллах! Еще при жизни моей он воскресил мою юность в храбром сыне моем, и вот вижу я старыми глазами, что, когда черви источат мое сердце, — жив буду я в сыне моем! Велик аллах и Магомет, пророк его! Хороший сын у меня есть, тверда его рука и ясен ум… Что хочешь ты взять из рук отца твоего, Алгалла? Скажи, и я дам тебе все по твоему желанию…
И не замер еще голос хана-старика, как поднялся Толайк Алгалла и сказал, сверкнув глазами, черными, как море ночью, и горящими, как очи горного орла:
— Дай мне русскую полонянку, повелитель-отец.
Помолчал хан — мало помолчал, столько времени, сколько надо, чтобы подавить дрожь в сердце, — и, помолчав, твердо и громко сказал:
Бери! Кончим пир, — ты возьмешь ее.
Вспыхнул удалой Алгалла, великой радостью сверкнули орлиные очи, встал он во весь рост и сказал отцу-хану:
— Знаю я, что ты мне даришь, повелитель-отец! Знаю это я… Раб я твой — твой сын. Возьми мою кровь по капле в час — двадцатью смертями я умру за тебя!
— Не надо мне ничего! — сказал хан, и поникла на грудь его седая голова, увенчанная славой долгих лет и многих подвигов.
Скоро они кончили пир, и оба молча рядом друг с другом пошли из дворца в гарем.
Ночь была темная, ни звезд, ни луны не было видно из-за туч, густым ковром покрывших небо.
Долго шли во тьме отец и сын, и вот заговорил хан эль Асваб:
— Гаснет день ото дня жизнь моя — и все слабее бьется мое старое сердце, все меньше огня в груди. Светом и теплом моей жизни были знойные ласки казачки… Скажи мне, Толайк, скажи, неужели она так нужна тебе? Возьми сто, возьми всех моих жен за одну ее!..
Молчал Толайк Алгалла, вздыхая.
— Сколько дней мне осталось? Мало дней у меня на земле… Последняя радость жизни моей — эта русская девушка. Она знает меня, она любит меня, — кто теперь, когда ее не будет, полюбит меня, старика, — кто? Ни одна из всех, ни одна, Алгалла!..
Молчал Алгалла…
— Как я буду жить, зная, что ты обнимаешь ее, что тебя целует она? Перед женщиной нет ни отца, ни сына, Толайк! Перед женщиной все мы — мужчины, мой сын… Больно будет мне доживать мои дни… Пусть бы все старые раны открылись на теле моем, Толайк, и точили бы кровь мою, пусть бы я лучше не пережил этой ночи, мой сын!
Молчал его сын… Остановились они у двери гарема и, опустив на груди головы, стояли долго перед ней. Тьма была кругом, и облака бежали в небе, а ветер, потрясая деревья, точно пел, шумел деревьями.
— Давно я люблю ее, отец… — тихо сказал Алгалла.
— Знаю… И знаю, что она не любит тебя… — сказал хан.
— Рвется сердце мое, когда я думаю про нее.
— А мое старое сердце чем полно теперь?
И снова замолчали. Вздохнул Алгалла.
— Видно, правду сказал мне мудрец-мулла — мужчине женщина всегда вредна: когда она хороша, она возбуждает у других желание обладать ею, а мужа своего предает мукам ревности; когда она дурна, муж ее, завидуя другим, страдает от зависти; а если она не хороша и не дурна — мужчина делает ее прекрасной и, поняв, что ошибся, вновь страдает через нее, эту женщину…
— Мудрость не лекарство от боли сердца, — сказал хан.
— Пожалеем друг друга, отец…
Поднял голову хан и грустно поглядел на сына.
— Убьем ее, — сказал Толайк.
— Ты любишь себя больше, чем ее и меня, — подумав, тихо молвил хан.
— Ведь и ты тоже.
И опять они помолчали.
— Да! И я тоже, — грустно сказал хан. От горя он сделался ребенком.
— Что же — убьем?
— Не могу я отдать ее тебе, не могу, — сказал хан.
— И я не могу больше терпеть — вырви у меня сердце или дай мне ее…
Хан молчал.
— Бросим ее в море с горы.
— Бросим ее в море с горы, — повторил хан слова сына, как эхо сынова голоса.
И тогда они вошли в гарем, где она уже спала на полу, на пышном ковре. Остановились они перед ней, смотрели; долго смотрели на нее. У старого хана слезы текли из глаз на его серебряную бороду и сверкали в ней, как жемчужины, а сын его стоял, сверкая очами, и, скрежетом зубов своих сдерживая страсть, разбудил казачку. Проснулась она — и на лице ее, нежном и розовом, как заря, расцвели ее глаза, как васильки. Не заметила она Алгаллу и протянула алые губы хану.
— Поцелуй меня, орел!
— Собирайся… пойдешь с нами, — тихо сказал хан.
Тут она увидела Алгаллу и слезы на очах своего орла и — умная она была — поняла все.
— Иду, — сказала она. — Иду. Ни тому, ни другому — так решили? Так и должны решать сильные сердцем. Иду.
И молча они, все трое, пошли к морю. Узкими тропинками шли, ветер шумел, гулко шумел…
Нежная она была девушка, скоро устала, но и горда была — не хотела сказать им этого.
И когда сын хана заметил, что она отстает от них, — сказал он ей:
— Боишься?
Она блеснула глазами на него и показала ему окровавленную ногу…
— Дай понесу тебя! — сказал Алгалла, протягивая к ней руки. Но она обняла шею своего старого орла. Поднял хан ее на свои руки, как перо, и понес: она же, сидя на его руках, отклоняла ветви от его лица, боясь, что они попадут ему в глаза. Долго они шли, и вот уже слышен гул моря вдали. Тут Толайк, — он шел сзади их по тропинке, — сказал отцу:
— Пусти меня вперед, а то я хочу ударить тебя кинжалом в шею.
— Пройди, — аллах возместит тебе твое желание или простит, — его воля, — я же, отец твой, прощаю тебе. Я знаю, что значит любить.
И вот оно, море, перед ними, там, внизу, густое, черное и без берегов. Глухо поют его волны у самого низа скалы, и темно там, внизу, и холодно, и страшно.
— Прощай! — сказал хан, целуя девушку.
— Прощай! — сказал Алгалла и поклонился ей.
Она заглянула туда, где пели волны, и отшатнулась назад, прижав руки к груди.
— Бросьте меня, — сказала она им…
Простер к ней руки Алгалла и застонал, а хан взял се в руки свои. прижал к груди крепко, поцеловал и, подняв ее над своей головой, бросил вниз со скалы.
Там плескались и пели волны и было так шумно, что оба они не слыхали, когда она долетела до воды. Ни крика не слыхали, ничего. Хан опустился на камни и молча стал смотреть вниз, во тьму и даль, где море смешалось с облаками, откуда шумно плыли глухие всплески волн. и ветер пролетал, развевая седую бороду хана. Толайк стоял над ним, закрыв лицо руками, камень, неподвижный и молчаливый. Время шло, по небу одно за другим плыли облака, гонимые ветром. Темны и тяжелы они были, как думы старого хана, лежавшего над морем на высокой скале.
— Пойдем, отец, — сказал Толайк.
— Подожди… — шепнул хан, точно слушая что-то. И опять прошло много времени, плескались волны внизу, а ветер налетал на скалу, шумя деревьями.
— Пойдем, отец…
— Подожди еще…
Не один раз говорил Толайк Алгалла:
— Пойдем, отец.
Хан все не шел от места, где потерял радость своих последних дней.
Но — все имеет конец! — встал он, могучий и гордый, встал, нахмурил брови и глухо сказал:
— Идем…
Пошли они, но скоро остановился хан.
— А зачем я иду и куда, Толайк? — спросил он сына. — Зачем мне жить теперь, когда вся моя жизнь в ней была? Стар я, не полюбят уже меня больше, а если никто тебя не любит — неразумно жить на свете.
— Слава и богатство есть у тебя, отец…
— Дай мне один ее поцелуй и возьми все это себе в награду. Все это мертвое — одна любовь женщины жива. Нет такой любви — нет жизни у человека, нищ он, и жалки дни его. Прощай, мой сын, благословение аллаха над твоей главой да пребудет во все дни и ночи жизни твоей. — И повернулся хан лицом к морю.
— Отец, — сказал Толайк, — отец!.. — И не мог больше сказать ничего, так как ничего нельзя сказать человеку, которому улыбается смерть, ничего не скажешь ему такого, что возвратило бы в душу его любовь к жизни.
— Пусти меня…
— Аллах…
— Он знает…
Быстрыми шагами подошел хан к обрыву и кинулся вниз. Не остановил его сын, не успел. И опять ничего не было слышно — ни крика, ни шума падения хана. Только волны все плескали там, да ветер гудел дикие песни.
Долго смотрел вниз Толайк Алгалла и потом вслух сказал:
— И мне такое же твердое сердце дай, о аллах!
И потом он пошел во тьму ночи…
…Так погиб хан Мосолайма эль Асваб, и стал в Крыму хан Толайк Алгалла…
Легенда записана М. Горьким (Собрание сочинений в тридцати томах, том 2, М., 1949).
Гордая Айше
Камни, камни на крымской земле! Куда ни посмотришь — везде камни. Почему же так много камней в нашем краю?
Вот на Бурунчуке из камня крепость была сложена, большая крепость. А владела этой крепостью девушка, звали ее Айше. Сильная девушка была, гордая, сердце ее не знало жалости. Она никогда никого не любила. Глаза у нее были черные, и если она на человека ими посмотрит, когда сердится, от человека один пепел остается. Лучше на такие глаза не попадаться.
Совсем как мужчина была девушка Айше, никогда никого не боялась, и далеко знали о ней.
Всегда гневная и сильная, а нутро женское. Никогда никого не любила и любить не хотела, а нутро говорило ей — полюбишь.
И захотелось ей однажды стать мягкой, как все женщины. А не смогла. Тогда сказали ей:
— Знаешь что, иди вниз, к источнику. Там такая вода есть, что самый крепкий человек, самый гневный человек мягким становится, если в той воде искупается.
И решила Айше: “Пойду выкупаюсь, попробую, как это жить, когда совсем как женщина”.
И пошла.
А напротив источника стояла другая крепость — Тепе-Кермен, и в ней жил юноша. Глаза у него были такие голубые, как два горных озера, волосы белые, шаг мягкий, как у кошки. Но никто не знал, что эти голубые глаза могут быть, как два меча, когда они в сильных руках, никто не знал, что если в гневе юноша посмотрит, то этими голубыми глазами срежет голову.
Увидел юноша, что пришла к источнику прекрасная девушка, и спустился к ней вниз.
— Уходи, юноша, — сказала Айше, — эта вода моя.
— Что ты, девушка, эта вода всегда была моей. Уходи ты.
— Как ты смеешь мне приказывать! Разве ты не знаешь, что я Айше из Кыз-Кюлле? Мне никогда еще никто не приказывал.
— Я тебе не приказываю, я тебя прошу — уходи, потому что вода эта моя.
— Ну скажи это еще раз, и я посмотрю, как ты сгоришь на глазах моих.
— Попробую сказать.
И хотя она гневно посмотрела на юношу, тот не дрогнул. Он только поймал взгляд черных глаз и в сердце свое спрятал. И в первый раз полюбил.
— Слушай, девушка, — задыхаясь, сказал он, — иди ко мне в крепость. Теперь я тебя знаю — ты соседка моя. Идем ко мне, и я сделаю тебя своей женою.
— Сделаешь? — сказала Айше, и глаза ее гневно сверкнули. — Уйди от воды!
— Нет, зачем же. Я не уйду. Лучше иди ко мне в крепость.
И он еще ближе подошел к ней.
— Оставь мои руки! — крикнула Айше, когда юноша сильно сжал их.
И она ушла от источника. А потом наверху у себя рассердилась, ох как рассердилась!
Позвала гордая Айше слуг и сказала:
— Идите и скажите ему, пусть поклонится мне, и я его возьму себе в мужья. Ступайте!
Они пошли. Пошли и сказали:
— Господин, наша повелительница сказала, что она тебя берет в мужья. Иди к ней в крепость.
— Берет, говорите вы, — засмеялся юноша. — А я не лошадь. Пускай ко мне придет, если хочет.
— Так, — сказала в бешенстве Айше, выслушав ответ. — Я тебя заставлю все-таки прийти.
И велела бросать камни в овраг. И стала сама камни бросать. По-разному бросала: со злобой бросала и с нежностью бросала. Забросала овраг и стала ждать…
А через овраг, наполненный камнями, пошли два маленьких человека: девочка и мальчик.
Девочка шла навстречу мальчику и говорила:
— Какие злые люди забросали овраг камнями. Там внизу были такие красивые цветы! А мальчик говорил сердито:
— Там внизу жили барсуки, и я ходил на них смотреть. Зачем закрыли их норы? А ты куда идешь? — спросил он девочку.
— Так, гулять.
— Идем к нам в крепость.
И девочка весело побежала с мальчиком в крепость.
Айше смотрела им вслед и думала: “Что ж, и я так пойду, как ребенок? Ни за что”.
Долго терпела Айше, а потом пошла. Она шла, пошатываясь, и губы ее что-то шептали. Она закрывала свое лицо руками и опять шла. И пришла в крепость.
В воротах встретил ее юноша.
— Пришла? — сказал он.
— Пришла, — ответила угрюмо Айше.
— Значит, любишь?
— Люблю, — сказала Айше.
А потом высоко подняла руку и в самое сердце кинжалом ударила юношу.
— Люблю! — еще раз сказала она.
Легенда записана М. Кустовой.
Т е п е – К е р м е н — древний пещерный город, находился на горе неподалеку от Бахчисарая.
Орлиный залет
Гордо подымаются высокие горы, свои вершины высоко подняли, словно им нет охоты глядеть вниз.
А внизу хорошо!
Торопливо бежит чистая веселая вода реки Бельбек… А чего ей не веселиться? Ее нельзя ударить, плюнуть ей в лицо, отнять детей, дом, жизнь. Нельзя остановить, нет на нее князя-злодея, нет плетки. Сама себе хозяйка! Сама может в гневе наказать любого князя, даже самого сильного. Весело ей глядеть, как тучный князь прыгает на одной ноге, стараясь быстро вскочить на коня и убежать, когда она разольет свои воды широко по долинам. Куда и спесь девается. Становится жалким. Трус. Только о. себе в ту пору и думает.
Внизу хорошо!
По берегам сады. Тропки лесные. И чего только не дает земля людям, — и не пересказать. Весело глядят на человека и круглые яблоки с красными щечками, и прячущиеся в зелени кустов груши, и украшение земли — темные вишни. Весело!..
А почему же люди не радуются? Люди, что под властью князя живут, много сил отдали, чтобы вырастить все это веселое великолепие, а в рот взять ни себе, ни детям нельзя: все княжеское. Только труд — людской. Кому жаловаться, у кого защиты просить?
Молчат горы…
Молчит река…
Молчат люди…
Не молчит только князь Туган-бей. Только и слышно:
— Чего мало сделали?
— Почему мало собрали?
— Я вас, лодыри…
— Я вам, собачьи уши…
— Вы мне, ишачьи дети…
Словно в человеческой речи и слов других нет.
Но пришло время. Горы в гневе тряслись, обрушивая в долины потоки камней. Угрюмо ворчал лес, шумя вершинами сосен. Гневно бормотала неведомые слова река.
Не понимали люди, о чем они говорят, на кого гневаются. Стали люди вслушиваться, о чем говорят камни, о чем шумит лес, что бормочет река. Не вдруг поняли. А когда поняли, гнев пришел в их сердца. Посветлели лица, прояснились глаза. Но страшно еще было показывать свой гнев и радость.
А горы говорили:
— Эх, вы! Вас много, а он один. Смотрите, как он бежит прочь, когда я в гневе сыплю на него камни. Их много, а он один.
Лес шумел:
— Эх, вы! Вас много, а он один. Смотрите, как он бежит прочь, когда я в гневе валю на него деревья. Их много, а он один.
Речка бормотала:
— Эх, вы! Вас много, а он один. Слепые вы, что ли, не видите, как он трусливо бежит, когда в гневе я обрушиваю на него струи вод своих. Их много, а он один.
Горы любили людей. Их ласковые руки умело подбирали каменные россыпи, укладывая в стены домов-лачуг. Сколько прекрасных песен слышали камни, укрывая людей от стужи, ветра, дождей. Какие ласковые слова слушали камни из уст матерей, сколько влюбленных пряталось в тени каменных стен!
Но сколько горькой обиды слышали камни, сколько безутешных слез падало на них. И великий гнев за человека подымался до самых вершин каменных. Горы снова и снова говорили людям:
— Вас много, а он один…
Лес любил людей. Их умелые руки из теплой древесины делают много чудесных вещей. Люльку, в которой нежилось дитя, осторожно раскачивали бережные материнские руки, и дереву становилось весело. Тонкое веретено кружилось в девичьих руках, и нитка послушно обвивала дерево, и от этого весело было ему. Круглое колесо мельницы собирали из отдельных дощечек. Вот уж когда весело было!
Но сколько проклятий слышал лес, когда палку лесную брал в руки Туган-бей. Тогда удары сыпались на плечи людей. Горько было лесу. Не для этого растил деревца лес, не на горе, а на радость людям.
И гневно шумели высокие сосны людям:
— Вас много, а он один.
Река любила людей. Разве не она поила их, разве не она обмывала грязные ручонки детей? Разве не она давала людям прохладу в зной? Разве не она поила сады, разве не она белила холсты?
Да разве люди этого не видели? Что же они в гнев не войдут, как она, что же они не обрушат гнев на голову Туган-бея? Разве мало видела река горя людского? Разве не шептала она им:
— Вас много, а он один…
И все лучше понимали люди, о чем говорят горы, лес, река. И все светлее лица и яснее глаза становились у людей. И все крепче сжимались губы, чтобы не выдать радости:
— Нас много, а он один…
Все поняли, но не все знали, что делать дальше. Еще трудно было решиться обрушить свой гнев на него.
Но сильные духом люди всегда были на земле. Были они и на земле Туган-бея. И это не только храбрые юноши. Подымался великий гнев в кротких сердцах девушек. Разве не их обливал грязью похотливый взгляд Туган-бея? Разве не их тащили цепкие руки Туган-бея в свои ковровые покои? Разве не они кидались в тихие омуты реки, ища покоя на дне речном? Разве не они бросались головой вниз с высоких гор? Разве не их Туган-бей лишал простых человеческих радостей?
Поняли храбрецы, о чем грохотали горы, шумел лес, бормотала река, и задумали убить князя.
Но земля родит не только цветы, а и крапиву, чтобы люди остерегались. Родит не только сладкие вишни, но и ядовитый сумах, чтобы люди береглись. Родит не только душистую, сладкую траву, но и подлый бурьян-сорняк, чтобы люди чистили землю, холили ее.
Забыл человек об этом — земля напомнит.
Жили в деревне чистые сердцем люди, украшение земли, но был и бурьян-сорняк. В три погибели сгибались перед Туган-беем. Руку, бившую их по лицу, лизали. Подмечали. Подслушивали. Присматривались. Доносили. Оглядываясь, захлебываясь от злой радости, они шепотом рассказывали князю, что задумали храбрецы убить его, князя.
Затрясся от страха Туган-бей: один он, а их много.
Ночью, как вор, никому не доверяя, поскакал в Бахчисарай просить у хана помощи.
И дал хан воинов. Примчались, как волки зимой. Бешено рубили в деревне и старого и малого. Пьяные от крови, не щадили никого. В горы ушла горсточка уцелевших юношей и девушек, доверив свои жизни камням и лесу.
Но подлость за ними по тропам шла, грязной рукой путь воинам показывала. Вот-вот настигнет девушек.
И тогда решили: не дать себя схватить. Лучше с родных камней вниз головой броситься.
Горы пожалели их, помогли. Только ринулись девушки вниз, как почувствовали: не падают, а легко кружат над пропастями, крылья сильные у них, сердце крепкое, дух гордый. Орлицами стали, клекотом орлиным друг друга сзывали.
А юноши подымались все выше, выше. Круче становилась тропа, меньше становилось сил. И поняли — не уйти. С тоской смотрели в небо, где плавными кругами летали большие сильные птицы. В небо крикнули:
— Помогите!
Камнем вниз падали орлицы-девушки, в глаза юношам глядели с тоской, а речи нет.
Пожалели горы юношей. Силу почувствовав небывалую, взмыли юноши на могучих крыльях. Орлы!
Никто теперь не достигнет, никто не унизит, никто не отнимет радости.
В страхе кинулись воины к Туган-бею, — а над ними стая орлиная. Свист могучих крыльев резал воздух. Месть пришла неумолимая. От нее не уйдешь.
Заклевали насмерть Туган-бея. А птицы остались тут. Гордые, смелые, недосягаемые. В горах приветливых строили гнезда, растили детей — племя орлиное.
Прошли годы. Стала земля чистой, река веселой, лес ласковым, горы спокойными. Свободная земля! И только орлы напоминают людям о темном прошлом…
И слышат люди в клекоте орлином:
— Помните, люди! Вас много, вас много… Бейтесь за счастье детей ваших.
— Нет большего счастья, чем свобода, нет большей радости, чем борьба!
— Вас много, вас много, люди!
Шумел лес, бормотала река, мудро смотрели горы. Они любили свободных людей. Они гордились ими…
Легенда записана М. Кустовой.
О р л и н ы й з а л е т — название скалы, возвышающейся недалеко от села Соколиное.
Кизил — Шайтанова ягода
Когда Аллах сотворил мир и, сделав эту очень ответственную работу, лег отдыхать, на земле настала блаженная весна. Зазеленели деревья, начали распускаться почки, появились цветы.
Тогда потянулось к райским цветущим садам все живое и поднялся большой шум. Тот хватает одно, тот тянет другое, ссорятся между собой, ругаются. Одним словом — никакого порядка нет.
Не выдержал Аллах, поднялся со своего ложа, где он отдыхал, и стал наводить порядок. Первым долгом позвал он всех к себе и сказал так:
— Неразумные дети мои! Вы перепортите все сады. Повелеваю каждому из вас выбрать себе какое-нибудь одно растение, чтобы потом только им и пользоваться. Подумайте хорошенько, подходите ко мне и просите.
Что здесь было после слов Аллаха! Всякая живая тварь засуетилась, заволновалась, как бы не прогадать. Тот просит вишню, тот яблоню, тот персик, тот абрикос.
Подошел к Аллаху и Шайтан.
— И ты здесь? — спросил Аллах.
— И я здесь, — ответил нечистый, скосив хитрый глаз.
— Подумал?
— Подумал.
— И что же ты выбрал?
— Кизил.
— Кизил? Почему кизил?
— Так, — не хотел сказать правду Шайтан.
— Хорошо, бери кизил, — решил Аллах.
Весело запрыгал Шайтан, завилял хвостом от радости. Еще бы, он так ловко обхитрил всех, выпросив для себя кизил. Кизил первым зацвел, значит, раньше других растений даст урожай. А первая ягода — самая дорогая. Повезет он свой кизил на базар, продаст втридорога, денег много загребет. Богаче всех будет Шайтан!
Настало лето, начали созревать плоды — вишни и черешни, яблоки и груши, персики и абрикосы. А кизил все не зрел, по-прежнему оставался зеленым и твердым.
Сидит Шайтан под деревом, злится:
— Да созревай скорее, шайтанова ягода!
Не зреет кизил. Тогда стал Шайтан дуть на ягоды, и сделались они красными-красными, словно пламя. Но, как и раньше, они были твердыми и кислыми.
— Ну, как твой кизил? — спрашивали Шайтана люди.
— Гадость, а не ягода, берите ее лучше себе, — ответил Шайтан и плюнул с досады, аж кизил почернел.
Поздней осенью, когда урожай в садах был уже убран, люди пришли в лес по кизил. Собирая черные, но сладкие, вкусные ягоды, они подсмеивались над Шайтаном:
— Просчитался Шайтан!
— Маху дал Шайтан!
— Сам себя перехитрил Шайтан!
А Шайтан тем временем бесился от злости и думал, как бы отомстить людям, чтобы они запомнили этот кизил раз и навсегда. И придумал.
На следующую осень Шайтан сделал так, что кизила уродилось вдвое больше. И чтобы он созрел, потребовалось вдвое больше солнечного тепла.
Обрадовались люди большому урожаю кизила, не подозревая, что это проделка Шайтана.
А солнце, истощившись за лето, не смогло уже послать на землю достаточно тепла. И наступила такая суровая зима, что позамерзали сады, а люди чуть живы остались.
С тех пор существует примета: если большой урожай на кизил — быть холодной зиме.
Легенда записана Н. Марксом (“Легенды Крыма”, вып. I, M., 1913).
К и з и л — распространенное в Крыму лесное растение с темно-красными ягодами, созревающими поздней осенью.
Почему Черное море бурливое
Давно это было, кто знает, когда все это было…
Жил на земле сказочный богатырь, силы неслыханной, смелости невиданной. Имел он оружие удивительное — волшебную стрелу. Но не тем стрела славилась, что была из чистого золота выкована, драгоценными камнями усыпана, а тем, что обладала чудесным свойством. Стоило богатырю взять свой лук, натянуть тугую тетиву — и летела стрела на край света с такой быстротой, что человеческий глаз не замечал полета ее. И там, где она проносилась, вспыхивал воздух, закипала вода, плавилась земля, гибло все живое.
Страшное было это оружие! К счастью, находилось оно в надежных руках. Богатырь был человеком благоразумным, справедливым и огненную стрелу без надобности в руки не брал. На другие страны он не покушался, а на его отечество враги не нападали — боялись.
Боялись и в то же время мечтали завладеть этим смертоносным оружием, чтобы чужие земли покорить. Но не тут-то было! Крепко берег волшебную стрелу богатырь, спрятав ее глубоко в подземелье за десятью пудовыми замками.
Много-много лет жил на земле богатырь и много лет неусыпно оберегал чудодейственную стрелу. Но вот пришло время расстаться ему с жизнью. Задумался богатырь: кому передать стрелу? Сыновьям-наследникам? Нельзя. Хотя они воины честные и смелые, но молоды и больно уж горячи. Не удержаться им от соблазна испробовать силу оружия — и вспыхнет тогда братоубийственная война.
Кому же еще? Есть ли на земле человек, достаточно сильный и благоразумный, которому можно было бы доверить стрелу, не опасаясь, что он использует ее во зло человечеству? Нет такого человека, не родился еще! Нельзя оставлять на земле огненную стрелу, ибо злые, алчные люди, завладев таким страшным оружием, могут поджечь весь мир, разрушить его до основания.
И решил богатырь спрятать волшебную стрелу, да так, чтобы ее никто не смог отыскать на протяжении тысячелетий. И лишь тогда, когда люди, наконец, устанут воевать, когда научатся ценить и беречь мир, — тогда они найдут стрелу, чтобы использовать ее чудодейственную силу в мирном труде.
Позвал богатырь сыновей своих и говорит им:
— Дети мои, я стар и тяжко болен. Недолго осталось жить мне на свете. Слушайте же мое последнее повеление: откройте подземелье вот этими ключами, возьмите золотую стрелу, о страшной силе которой вы слыхали, и бросьте ее посредине Черного моря, самого глубокого моря в мире.
Выполняя волю умирающего отца, воины взяли волшебную стрелу и той же ночью отправились в путь.
Долго ли шли они, коротко ли, только вот впереди показались синие горы. Своими высокими вершинами они подпирали голубое, прозрачное, будто из хрусталя, небо. Взобрались братья на синие горы, поднялись к голубому небу, и взорам их открылась величественная картина: далеко-далеко внизу простиралось огромное безбрежное море. Окутанное утренней розоватой дымкой, оно еще спало. В его тихих водах отражался красный шар поднимающегося солнца.
Это было Черное море.
И вдруг братья почувствовали, что жаль им расставаться с драгоценной стрелой, и честолюбивые мечты овладели ими.
— Послушай, брат, — осторожно начал младший, — зачем выбрасывать такое богатство в море? Ведь это наследство наше…
— Да, — подхватил старший, — волшебная стрела по праву должна принадлежать нам, и глупо было бы так просто отказаться от нее…
— А если бы мы обладали огненной стрелой, — продолжал младший брат, — мы завоевали бы эту красивую страну, построили бы на вершине этой горы большой замок, взяли бы себе в жены прекраснейших из прекрасных…
— Да что одну страну! — воскликнул старший брат. — Мы покорили бы все страны, которые знаем и которых еще не знаем. Мы имели бы много жен, нам безропотно подчинялись бы все. Мы стали бы властелинами мира…
И договорились братья, что спрячут они стрелу в горах, а отцу, если тот к их возвращению не умрет, скажут, что исполнили его волю.
Как договорились, так и сделали. Оставили они чудодейственную стрелу в пещере, привалили вход огромным камнем и отправились в обратный путь.
Каково же было их удивление, когда, возвратившись домой, они узнали, что отец каким-то образом раскрыл их замысел. С негодованием набросился старик на своих сыновей, обвиняя их в родительском непослушании.
— Не будет вам моего благословения, — сказал он, — пока чудодейственная стрела не ляжет на дно Черного моря.
Тогда сыновья, убедившись в том, что невозможно сохранить у себя волшебное оружие, снова отправились к берегам далекого моря и с грустью исполнили приказание отца.
Огненная стрела опустилась в бездну морскую. Потемнело от гнева море, закипело, заволновались его тихие воды.
И с тех пор не может успокоиться Черное море. Нет-нет да и снова забурлит оно, заклокочет, подымет громадные волны, тщетно пытаясь выбросить из недр своих смертоносное оружие.
Легенда записана В. Кондараки (“Универсальное описание Крыма”, СПб, 1875). Печатается в обработке Г. Тарана.
Родник Святославы
У самого синего моря, на краю крымской земли, стоит древняя Феодосия.
С юга город омывают морские волны, с севера тянется гряда холмов. А на западе высится гора, у подножия которой журчит источник. К концу дня уходит за гору на отдых солнце. Утром, закончив ночной дозор, опускается за ее вершину луна. Веками люди видели эту гору, но никто никогда не замечал, чтобы на ней росло что-нибудь живое. Даже злой репейник никогда не появлялся на мертвой ее вершине.
Называют старые люди эту гору Лысой и рассказывают о ней удивительную легенду.
Давным-давно, когда солнечная Таврия стонала под игом поработителей, а древняя Феодосия — Кафа была центром работорговли, жил здесь богатый и знатный хан Ахмед-Назы.
В безумствах, в разгуле пролетела молодость.
В походы он больше не ходил, пил ароматные вина, ел вкусные яства и утешался прекрасными пленницами.
Много у Ахмед-Назы было прекрасных пленниц, но любил он больше всех Святославу — девушку из Руси. Гордая была Святослава, смелая, как орлица. А как пела! Как играла на гуслях! Заслушаешься! Приведут красавицу к Ахмеду, посветлеет угрюмое лицо старика. Похаживает вокруг, поглядывает на стройный стан, на косы длинные золотистые и только губами причмокивает, а подойти не смеет: взглядом останавливала.
Поднимет Святослава ясные синие очи, взглянет на хана, усмехнется презрительно — и упадет сердце старика. Словно не она, а он был ее невольником.
Любили Святославушку и невольницы — за смелый и веселый нрав, за доброе сердце, за поддержку душевную. Если бы не она, изныли бы в тоске, измучились.
Позвали однажды Святославу играть для хана на гуслях. Запели, заплакали струны под тонкими пальцами. Лежит Ахмед на шелковых подушках, любуется красой девичьей — нежится. Нежился-нежился и заснул. Только этого и ждала смелая девушка. Давно созрел дерзкий план, давно подготовила Святослава пленниц к побегу: выследила, где хранятся ключи и как быстрее скрыться можно.
Спит хан, похрапывает, а девушка вытащила ключи из шкатулки, открыла потайную дверь гарема и вывела невольниц прямо в степь:
— Бегите, милые, а я закрою дверь, чтобы задержать погоню.
Как птички, выпорхнули невольницы на свободу и скрылись в темноте ночи. А Святославушка осталась дверь закрывать.
Услыхали стражники шум, схватили девушку и притащили к хану. Позеленели, стали холодными, как у змеи, глаза старого деспота. Пятнами покрылись дряблые щеки:
— За вероломство я могу сжечь тебя заживо! Могу повесить, утопить! Все могу! Но я могу и помиловать, все в моей власти! Подумай хорошо, но знай, только одной ценой можешь искупить вину свою!
Знала Святославушка цену эту позорную, взглянула на хана презрительно и еще выше подняла гордую голову.
— Не покоришься? — вскричал Ахмед в ярости. — Заточу в подземелье! Иссушу тебя в неволе!
И посадили девушку в подземелье, словно заживо похоронили. Долго томилась она в каменной гробнице, так долго, что и сама не помнит сколько. Единственной радостью было для узницы видеть через крошечное оконце, сквозь железную решетку кусочек крымского неба да слышать в тихую погоду, как журчит маленький родничок, пробивающийся из земли у склепа.
Святослава разговаривала с родничком, как с другом. Пела ему о своей далекой родине, рассказывала о любимой матушке, о братьях, о молоденьком тополечке, что рос в их саду, под окном ее светлицы. А родничок слушал, журчал ей в ответ о чем-то и размывал каменную стену, чтобы пробиться в склеп к узнице.
Три раза приходил человек от хана и спрашивал: “Покоришься?” И три раза гордая узница говорила: “Нет!”
На четвертый раз Ахмед пришел сам. Тяжело открылась ржавая железная дверь, пахнуло гнилой сыростью из подземелья… В полосе упавшего сверху света стояла не прежняя красавица, — стройная, румяная, а какая-то тень, похожая на привидение.
Увидев ее, хан вздрогнул и отшатнулся в ужасе.
— Вот что бывает с непокорными! — сказал он. — Теперь ты уже никому не нужна. Разве что смерть возьмет тебя…
“Знать, страшна я стала”, — подумала Святослава, когда хан удалился. И зарыдала.
И тут, просочившись сквозь стену, упали на землю рядом с узницей чистые, крупные капли родниковой воды и зазвенели:
— Не плачь, гордая девушка, не горюй, я помогу тебе! Испей воды из родника, умойся ею — и к тебе вернутся сила и красота прежняя…
Не успела девушка испить несколько глотков, умыться волшебной водицей, как почувствовала в себе силу русскую, волю несгибаемую, красоту сказочную.
Через день пришли в склеп ханские слуги, увидели Святославу и глазам своим не поверили. Что за чудо! Что за красавица вышла из-под земли! Румяная, свежая, как заря алая.
Рассказали хану о волшебном роднике. Прибежал тот к родничку, стал пить из него со страшной жадностью.
— Пей-пей, деспот, я окажу тебе услугу, — журчал родничок.
Пил Ахмед воду, пил, пока не превратился в большую гору. Так и стоит с тех пор Лысая гора, огромная, некрасивая, и ничего не растет на ней. И нет от нее ни пользы, ни радости человеку.
Зато о чудесном родничке идет добрая слава. Со всех концов земли едут люди в наш древний и помолодевший город, чтобы набраться здоровья, попить чистой, искристой, как шампанское, минеральной водицы, покупаться в прохладных водах синего моря.
Легенда записана К. Любицкой. Публикуется впервые.
Тополь, Гранат и Кипарис
На морском побережье в четырнадцати верстах от Алушты жил честный рыбак с добродетельною женою. Это были чрезвычайно кроткие и хорошие люди. Их ветхая хижина всегда был открыта для путников, которые находили в ней приют и ночлег. А бедные вдовы и дети-сироты получали здесь не только пищу, но и слова ласки и утешения.
Что и говорить, окрестные жители глубоко уважали рыбака и его жену. Добрая слава шла о них по Крыму. А рядом с доброй шла слава худая — о детях этих честных людей, о трех дочерях родных.
Старшую дочь звали Тополиной. На вид она была безобразной, маленького роста, неуклюжая. А по характеру — злая-презлая. Чтобы досадить соседям, она взбиралась на крыши, подслушивала чужие тайны, а потом разглашала их по всему побережью. Но всего ужасней было в ней то, что она день и ночь проклинала своих родителей за свое уродство, за свой крошечный рост.
Вторая дочь, Граната, помешалась на розовом цвете. Она упрекала отца и мать за то, что она не красавица и что у нее не розовые щечки. Вот если бы она была розовой, как цветок, все прохожие останавливались бы и смотрели на нее с восхищением.
Что касается младшей, Кипарисы, то она была красивая и обладала веселым нравом. Но под влиянием старших сестер тоже насмехалась над отцом и матерью. Мол, родили ее на свет божий не днем, а ночью, оттого она такая резвая и смешливая.
Тяжело было родителям слышать упреки детей своих. Но что поделаешь? Любовь родительская слепа и беспомощна. Старики молча сносили проделки своих дочерей, терпели от них насмешки. И, чтобы избежать неприятностей, часто уходили в горы. Там они жили по нескольку дней.
Однажды, когда они были дома, в хижину ворвались все три дочери. Разозленные каким-то уличным происшествием, они с кулаками набросились на отца и мать и начали избивать их.
— О небо, — взмолились родители. — Есть ли силы, которые смогли бы защитить нас от наших же детей!
Не успели они произнести эти слова, как неизвестно откуда раздался голос:
— Тополина! Ты клянешь своих родителей за то, что родилась карлицей. Так стань же высочайшим деревом, которое всегда будет без цветов и плодов. Ни одна птица, кроме ворона, не будет вить на тебе гнезда…
— Граната! Твое желание тоже сбудется. Ты станешь деревом с розовыми цветами, и все будут останавливаться и восхищаться ими. Но никто не наклонится, чтобы понюхать эти красивые цветы, потому что они не будут иметь запаха. Плоды твои, ярко-красные в середине, не насытят никого и не утолят ничьей жажды, потому что они не будут созревать…
— Кипариса! Тебя постигнет участь твоих сестер. Ты сетовала на свой веселый нрав — ты станешь растением красивым и печальным…
Перепуганные насмерть девушки бросились из хижины. За ними выбежали родители. Но детей своих они уже не увидели: во дворе стояли три дотоле неизвестных дерева. Одно взметнуло ввысь свои ветви, словно хотело стать еще выше, другое было усыпано розовыми цветами, а третье застыло в грустном молчании.
И назвали люди эти деревья именами трех дочерей — тополь, гранат и кипарис.
Легенда записана В. Кондараки (“Легенды Крыма”, M., 1883).
Длинная крепость
Вот послушайте, что произошло в керченской степи много лет тому назад. Уже тогда Крым славился своей пшеницей. За хорошей и дешевой крымской пшеницей приезжали из Великой Руси и из далеких заморских стран.
Однажды на крымском полуострове появился купец по прозвищу Золотой Слон. Не напрасно, видать, люди купца так прозвали. Сам он был роста громадного, руки и ноги толстые, как у слона, а нос длинный, словно хобот. Сундуки его были набиты золотом, накопленным за долгие годы стяжательств.
Походил Золотой Слон по степи, посмотрел, как люди живут, послушал, что говорят, и начал на мысе Казантип какое-то здание строить. Тысяча бедняков работала на каменоломнях, другая тысяча подвозила камни к месту стройки, а еще одна тысяча укладывала эти камни в стены.
Здание росло изо дня в день и, наконец, стало таким огромным, что люди удивлялись: зачем, мол, купцу такое большое, такое длинное? Зачем высокие стены и башни с бойницами? От кого обороняться задумал?
— Жить здесь буду, торговать буду, помещение большое надо, — отвечал купец любопытным. — А что стены высокие да башни грозные — люблю спать спокойно.
Когда крепость, которую люди прозвали Длинною, была, наконец, построена, Золотой Слон нанял вооруженную охрану и начал свозить туда зерно. Он скупал его у местных жителей за небольшие деньги, а часто выманивал и без денег. Он дрожал над каждой копейкой, над каждым зернышком…
Шли годы. Амбары Длинной крепости уже были наполнены миллионами четвертей хорошо высушенной пшеницы. А жадный купец все покупал ее и покупал. Хлеб повышался в цене.
Однажды по Крыму странствовал какой-то путешественник. Шел он, говорят, из Великой Руси, северной страны, в Индию, южную страну. Повстречал он у Длинной крепости Золотого Слона и спрашивает:
— Правда ли, что это сооружение наполнено потом народным со слезами пополам?
— О, странник божий, — смиренно отвечал купец, — народ любит слухи разные распускать. А ты спроси: обидел ли я кого-либо? Отнял ли у кого что-нибудь? Нет. Люди сами мне несут.
— Но зачем тебе столько?
— Торговать буду, на то я и купец.
— Недоброе дело ты, видать, задумал, — покачал головой путешественник. — Смотри, как бы не просчитался.
И вот наступил неурожайный год, которого с нетерпением ждал Золотой Слон. В выгоревшей крымской степи — ни одной копны пшеницы, ни одного стога сена. Звери уходили в другие края, птицы со зловещими криками улетали. Ревели домашние животные. А люди с надеждой обращали свои взоры к замку купца и говорили:
— Он не даст погибнуть с голоду нам и детям нашим.
А Золотой Слон, усилив вооруженную охрану, поджидал уже покупателей. Прежде всех к нему обратились горожане. Он назначил неслыханно высокую цену: по пятьдесят червонцев за четверть. С проклятием платили горожане такие бешеные деньги. Затем к купцу приехали заморские торговые люди. А в заключение начали являться бедные хлебопашцы, у которых Золотой Слон когда-то выманивал мешок пшеницы за пучок вяленой рыбы.
Люди, не имевшие денег, умоляли богача одолжить им хоть по одной четверти зерна с тем, что они в будущем привезут ему по десять четвертей.
— Спасибо вам, — нагло отвечал купец. — Не для того я десять лет собирал зерно, чтобы на зерно его выменивать. Давайте червонцы!
Все больше и больше становилось голодающих, все чаще и чаще они обращались к Золотому Слону с просьбой дать им хлеба. Но неумолим был купец. И люди сотнями гибли здесь же, у Длинной крепости, за стенами которой лежало столько хлеба, что его хватило бы прокормить целые города и страны.
К тому времени возвращался из далеких стран русский путешественник. Увидел он сожженную солнцем степь, увидел тысячные толпы у стен крепости и все понял. И решил он помочь несчастным труженикам, которые умирали от голода, но не смели взять хлеб, лежавший рядом.
— Люди! — громко сказал путешественник, взобравшись на камень. — Подумайте, кого вы просите, кого умоляете? Разве вы не знаете Золотого Слона? Да ведь он всю свою жизнь готовился к этому злодеянию! Не даст он вам хлеба, не ждите и не надейтесь. А пока у вас есть еще силы — берите хлеб силой. Он ваш, этот хлеб. Вы взрастили его своими руками. Берите же, не бойтесь, вас много, а он один!..
— Правда твоя, человек хороший! — прокатилось по степи.
И хлынули на Длинную крепость толпы голодных. Не выдержали толстые стены, не помогли высокие башни с бойницами. Стража, побросав оружие, в страхе разбежалась, а Золотой Слон хотел спрятаться от народной мести, зарылся с головой в пшеницу да там и задохнулся.
На том, месте, где была Длинная крепость, остались только развалины, которые свидетельствуют об алчности человеческой и о великих силах, таящихся в народе.
Легенда записана В. Кондараки (“Легенды Крыма”, M., 1883). Печатается в обработке Г. Тарана.
К а з а н т и п — мыс на берегу Азовского моря.
Оксана
Оксана, Оксаночка, ох и хороша дивчина. Что и говорить — красивая! Много слов красота не требует. О красоте не языком говори, глазами смотри. А глаза всегда подскажут. Да что тут подсказывать? И так видно…
Гей-гей, Оксана, Оксаночка, статная, сильная. Никто не мог сказать, что видел хоть раз слезы на глазах Оксаны. Слезы — это для слабеньких.
Черноусые казаки не вдруг заговаривали с ней. Не то чтобы побаивались, но были осторожны. Куда девался металл в голосе казаков. Голос мягчал, становился вкрадчивым.
В жаркий день в селе тишина. Каждый прохлады ищет, от жары прячется. А Оксана на сильных плечах коромысло несет с холстами — белить на реку.
Гей-гей, Оксана, Оксаночка, если бы знала ты, если бы ведала — в ту пору не пошла бы на реку холсты белить. Не пошла бы, если б знала, что беда движется из степи далекой.
Словно гром загремел. Оглянулась Оксана — небо чистое, откуда быть грому?! Но все ближе, ближе надвигалась беда.
Из далеких степей на село, лежавшее в тихом забытьи, налетела орда крымская. Поднялся стон и плач…
Не вздумай, Оксана, бежать назад в село, не в те руки попадут твои холсты, не ты, не твой милый будет носить белые сорочки. И тебя грязные руки заграбастают!
Так и случилось. Пригибаясь, осторожно выглядывая из-за кустов, вдруг кинулась на нее целая толпа. Ох, как отбивалась Оксана, как кусала грязные пальцы! Не кричала, нет, только стонала от бессильной ненависти. А потом, связанная сыромятным ремнем по рукам, захлестнутая за шею, пошла, куда потянули. Молча. Ох, не им бы глядеть в твое лицо, Оксана, в твои глаза!
Радовались татары — богатый урожай им достался, много купцы дадут денег. Видит Оксана — вот пошла соседская семья. Сыновья окровавленные, избитые. Ловко охватила петля сзади, уже теперь не вырвешься. Остап — могучий, как дуб. Подходили к нему, тыкали в богатырскую грудь, причмокивали. От этого прикосновения у старого Остапа ходили желваки на щеках. Связанный, но не покоренный… А тетушка? Прижала последыша — девочку, плетется сзади босыми ногами, слез не вытирает…
Впереди пути-дороги страшные, выжженные села, кровавые тропы. Назад оглянешься — горят хаты, горит счастье человеческое, горит честь девичья — все горит. Только одни мельницы машут своими крыльями, будто прощаются. Скрипят телеги, везут в чужие земли полоненных, везут хлеб, потом взращенный.
Вот и Кафа. Большой двор, обнесенный высокой стеной, большие ворота, железом окованные. Ох, сколько людей прошло через эти ворота, сколько с грустью-тоской оглянулось, когда они со скрипом закрывались.
Вот хозяин, а около него с бледным лицом евнух — пришли на торг. Вырвали из семьи самую тоненькую, самую славную девочку, бесстыдно сорвали рубашонку… Рванулись связанные братья за сестру постоять. Ну и что ж? Упали окровавленные у ног сестры.
Торг идет. Вот и вторая обнажена по грудь. Оксана даже не поморщилась, она стояла, как из камня, прекрасная в своем скорбном гневе. Так хороша, что даже у торговцев телами человеческими язык прилип к гортани. Не расхваливался этот товар, незачем, и так видно. Такой красы еще не было. Такой силы, осанки тоже никто не видывал.
Опасливо похаживали вокруг евнухи. Смелая, чувствовали, с этой рубашки не сорвешь. И стояла она в гневе своем так хороша, что люди, будто желая навеки запечатлеть ее облик, закрывали глаза.
Не опуская головы, не глядя ни на кого, а обратив взор куда-то далеко-далеко, так стояла. На что она смотрела — никому не было ведомо. А было на что глядеть Оксане далеко через всю степь. И видела она того, кого хотела видеть.
Не случился в ту несчастную пору в селе Павло. Где ты, мой горицвет, казаче мой?! Пусть люди не могли сказать, где я — кто убит, кто в полоне. Но неужели сердце казачье, неужели оно молчит, не говорит тебе ничего? Павло услышит. Павло узнает, он все равно придет. Только бы не трогали, только бы девичью честь не порушили. Ведь муки примет Павло. Какой он, знает Оксана. Знает душу своего казака. Гнев его великий и очи огненные, и плечи широкие, и руки могучие! Знает Оксана: этот гнев поведет его по выжженным дорогам. Только бы дождаться.
Не глядела Оксана, как все больше торг разгорался, как все более жадно горели глаза у хозяина, как потирал он руки и сгибался почти вдвое, похаживая вокруг нее и только издали показывал пальцем, не трогая девушки. Не смел…
Вот и продана Оксана. Потеряла она из виду старого Остапа и всех своих. В фургоны позапихивали невольников. Стали запихивать и ее. Попробовала сопротивляться — ударили. Поглядели бы, как повела плечом Оксана, когда впервые в жизни ее ударили. Больше ее не ударят. Так говорила Оксана всем видом своим. И больше ее не били.
Привезли. Чужой город, непонятный. Грязный, пыльный — как будто со всех гор смели мусор в эту яму. Только в одном месте красовался дом, какого еще не видывала Оксана. Но не проявляла она ни к чему интереса, не любопытствовала. Оставалась такою же каменно прекрасною, не поднимая глаз. Слуги привели ее в помещение, где было очень много женщин. Не понимала Оксана, зачем в одно место столько женщин собрали, а мужиков нет.
Вдруг из-за двери глянули на нее глаза девичьи — синие, ясные и такие скорбные, что у Оксаны сердце словно кто-то рукой повернул. Ох, горюшко, наша украиночка. А синие глаза неотступно преследовали ее. Так долго одними глазами и разговаривали. Одна у другой спрашивала, одна другой отвечала. Разговор был длинный и тяжкий. Ничего хорошего синие глаза не сказали. Никак не обнадеживали глаза черные. Поговорили-поговорили и сникли.
Подружились девушки. Много тяжкого рассказала синеглазая о гареме, о неволе.
— Почему такая белая, — спрашивала Оксана подружку, — почему солнце не ласкает никогда твоего лица, почему ты от него прячешься?
— Ты посмотри, где сижу, шью, — отвечала синеглазая. — Вот станок, вот пол земляной, вот маленькое оконце за решеткой, вот евнух, вот еще станок. Наверное, и тебя посадят, будешь, как и я, вышивать соняшники, вспоминать Украину родную. И ты, как я, будешь мечтать: поплывет чайка-лодка, и ты с ней уплывешь далеко по Днепру домой, может, мать жива, может, батько что скажет…
Ничего не ответила Оксана. Но видно было, что она не будет шить, не будет сидеть в этой дыре, она лучше перережет себе горло, лучше разобьет голову об эти стены, она еще не знает, что сделает… Она задушит того, кто к ней прикоснется.
Не трогали Оксану евнухи и к хану не вели. Ждали, что ослабнет духом, а тело не стали портить. “Будем кормить сладко, одевать красно, неправда, сломится, не таких ломал гарем”, — думали.
Но Оксана, обряженная, сидела молча. С трепетом проходили мимо нее евнухи. Просили у нее помощи все слабенькие, истощенные, сломленные. Как крепость в гареме была Оксана. К такой не подойдешь, не крикнешь.
Шли дни — тоскливые, серые, один на другой похожие. Чем заняться Оксаночке, привыкшей к широким степным просторам, к яркому солнцу? Сколько было дарено природой и жизнью, теперь только оценила она по-настоящему. И милое сердцу родное село, и тихие вербы, чистые воды и ясные зори, девичий смех и задушевные песни.
А Павло! Лучше бы ей не думать о нем. Это надо прятать очень глубоко, это может сломить. Украина, гей, гей, земля родная!
Но никто не видел Оксану плачущей, никогда. Какая-то огромная внутренняя сила поддерживала девушку, и она оставалась такою же непоколебимой. Как родная мать, ходила она меж полонянок, утехой им была и защитницей.
Все бывает на земле, все случается. Привели как-то в гарем евнухи женщину — старую, сердитую, рослую — с товарами заморскими. Там и для мастерских пряжа тонкая, шелка мягкие, там и кружева, каких еще глаза не видали, там и парча камзольная, тонкая, как дуновение ветра, чадра черная, желтая, синяя. Ох, какое женское сердце утерпит! Товары ласкали глаза и пальцы. Осторожненько откладывали женщины, что кому понравится. Оксана ничего не откладывала.
Торговка в чадре, лица не видать, а глаза не старушечьи, быстрые. Посмотрела в эти глаза Оксана — и у нее тяжело заходила грудь. Павло! Вот сейчас или смерть или волюшка.
Старуха все распродала. Когда большая корзина до дна дошла, знак Оксане только глазами подала: иди, мол, девушка, за мной, дам тебе самое заветное. Евнухи решили — пусть идет эта каменная, может, чем-нибудь прельстит торговка ее сердце девичье, может, мы ее, наконец, купим.
За высокий тополь зашла Оксана. Впервые услышали евнухи, как она засмеялась, вздохнули облегченно. “Ну, теперь будет нам легче, — думали, — не будет больше гневаться”.
Кряхтя и охая, взяла старуха корзинку на плечо, прикрыв старым платком, потихоньку поплелась на улицу. Никто не задержал и чадру не поднял — грех великий.
Кто знает, сколько усилий приложил Павло, сколько стараний приложили его дружки, пока достали товаров всяких, пока проникли в ханскую столицу, во дворец. Сердце вело Павла незнакомыми дорогами, любовь привела его в самое гнездо осиное. Тут бы ему быть схваченным да на кол посаженным. А вот этого-то и не случилось.
Согнувшись, сидела Оксана в корзине, не дыша. Ох и гневалась же она на себя, на свое тело крупное, на свою мощь казацкую. Ей бы тоненькой быть, тогда не гнулись бы так плечи казака.
Наконец вынес Павло корзину в далекий переулок, поставил ее, прислонив к стене.
С гиком, с криком по пустому переулку промчались всадники. Трое от них отделились. Татары… но речь не татарская, речь родная, ласковая, мягкая.
Гей-гей, Оксана. Оксаночка. Вот и она на коне, корзина брошена. Выпрямившись в могучий рост, вскочил на коня Павло — и помчались. Оксана в середине, всадники окружили ее плотным кольцом, едут быстро-быстро. Казалось, каждый и свою силу передал коню.
Эй, скорее, скорее, дальше, дальше. Вот туда, за гору высокую, за лесок зеленый.
Вынесла всех сила молодецкая, удаль богатырская. Вынесли всех верные кони казачьи. Вот уже родные бескрайние степи, вот чистые воды и ясные зори…
Далеко позади остались высокие стены ханского дворца, свирепая стража ханских палат, неумолимый гнев хана. Все это, даже самую смерть победила любовь крепкая, любовь верная, дружба казацкая.
Об озерах целебных
Гей, вы, кони сильные, кони казачьи! Мчите быстрее стрел татарских острых, ветер обгоняйте! Несите невольников израненных к садам вишневым, к родным зорям и водам днепровским…
Гей, на волю! На Украину родную!..
Мчат по степи крымской, палящим солнцем выжженной, отважные запорожцы. А тревожные думы назад летят. Там, над поганым Гезлевом еще пожар гудит, остыть не успели мертвые побратимы. Много их полегло сегодня в городе печали, городе рабства.
Но еще больше вырвалось на волю. Вот они рядом, на конях. Слабые, изголодавшиеся, как былинки, на ветру шатаются. Не верят еще своему счастью.
Скачут кони… Скачут…
А долго ли выдержат бешеную гонку? Удастся ли от погони татарской всем скрыться? Скоро, ох, скоро притомятся казачьи кони! А орда не дремлет…
— Сто-ой! — разнесся над степью суровый голос атамана.
Сгрудились казаки. Спрыгнул атаман с коня, к земле ухом припал. Слышит он, как гудит-стонет земля от дальнего топота конского…
И молвил атаман:
— Всем нам нету отсюда дороги, братья казаки. Отдайте лучших коней людям, нами спасенным. Пусть с проводниками мимо озер соляных на Украину скачут. А мы тут останемся. Дорогу басурманам закроем.
То не черная туча по небу плывет, то ханское войско по степи скачет. У каждого всадника в поводу по три-четыре коня. Чтобы страху больше на врага навести, чтобы боялись все — то орда татарская летит! И кони свежие всегда под рукой — хоть от рассвета до рассвета скачи!
Всматриваются вдаль татары: где неверные, напасть осмелившиеся на город солнцеликого хана, где беглецы?
Как соколы камнем падают на добычу, так запорожцы из засады рванулись, острым ножом в войско басурманов врезались.
Засвистели сабли, запели смертельные песни стрелы татарские. Брызнула горячая кровь на землю.
За муки народные, за горе, что, как тяжелая гора, висело над украинскими хатами, нещадно рубились казаки.
И дрогнули враги.
Но не знали запорожцы, что на помощь татарам новый отряд спешил.
Прижала орда запорожцев к соляным озерам. Здесь последний бой был. В топкой прибрежной грязи увязали кони, сбивались в кучу. Негде развернуться казакам, показать врагу свое уменье бранное. Позади — озерная глубь…
Солнце покатилось к закату. Плакала вечерняя заря, кровавым светом заливая степь и соляные озера. Белый туман опускался на землю, пряча от глаз страшную картину.
Темными буграми на берегу казаки лежали. Никто не пошевелится, не вздохнет. Жупаны изодраны, саблями иссечены, руки и лица в крови. Молчат казаки, руки белые в смертном сне разметав.
Не матери старые заплачут над ними горючими слезами — степные вороны закаркают. Не родные руки глаза им закроют — вороны выклюют.
И на рассвете, когда солнце бросило на землю первый тонкий луч, слетелись вороны. Закричали, крыльями замахали в радости — большая добыча досталась. Опустились стаей на поле битвы…
Да не удалось попировать вестникам смерти!
Стали вдруг оживать казаки, подыматься. Тот рукой шевельнет, этот голову подымет, третий товарищу жалуется: “Ох, и долго я спал, будто убитый…”
Удивляются казаки: что же с ними случилось? Ведь и этот побратим был зарублен — сами видели? — и тот как подкошенный с коня упал…
Стали они присматриваться, вокруг все примечать. И увидели, что там, где раны к черному береговому илу прикасались, — их как не было! Все затянулись, зарубцевались.
И поняли тогда казаки, что родная земля для своих детей — всегда мать. Никогда она их в горе-беде не оставит, не даст пропасть, на помощь придет!
Зашли воины в озеро, соленой водою умылись и в шапки, в бурдюки чудесной земли набрали.
Потом коней уцелевших разыскали, седла подтянули и в степи родные поскакали — понесли на Украину суровую весть о битве с ордой татарской и о целебной крымской земле.
Легенда записана Ю. Ярмышем.
С а к с к о е о з е р о — находится возле города Саки. На дне озера залегает слой грязи, которая славится целебными свойствами. Еще Плиний и Птоломей в своих сочинениях упоминали об удивительной земле, исцеляющей раны, которая лежит в западной Таврии.
Дивчина-чайка
На море на Черном есть остров суровый, немой — красные скалы на буйном зеленом раздолье. Не видно на острове беленьких хаток, кудрявые листья его не покрыли. Одна только тропка зеленая вьется: весенний ручей промыл красную глину, оброс бархат-травою. А дальше — все мертво и глухо.
Но нет, не все: вон там на утесе над морем, где вечно бушует седой прибой, на самой вершине горит по ночам огонек. А днем над утесом чайки печальные вьются, кричат над бушующим морем.
Это что за утес? Почему там огонь? И за что чайки любят утес тот суровый?
Давно, говорят, на остров тот дикий приплыл человек неизвестно откуда. Наверное, горькая доля долго гоняла беднягу по свету, пока не нашел он на острове диком приюта.
Дитя, да пожитки убогие вынес из утлого челна на берег и стал себе жить-поживать.
Как жил, чем питался — сначала об этом никто не ведал. Со временем люди узнали, какое доброе сердце у этого человека. Он каждую ночь огромный костер разжигал, чтоб его видно было далеко, чтоб те корабли, которые плыли по волнам зеленым, могли безопасно пройти мимо камней суровых да отмелей скрытых, коварных! А если корабль разбивался о скалы, тогда человек в своем утлом челне отважно бросался на помощь несчастным.
И благодарные люди отдать ему были готовы сокровища, деньги и все, что везли на своих кораблях. Но не брал ничего чужеземец, лишь только еды немного, да дров, да смолы для костра.
И вскоре люди узнали о старике этом странном, прозвали его “аистом морским”. А также узнали о дочери его любимой, которую, словно русалку, и волны морские качали-ласкали, и камни немые, и бури морские жалели-утешали.
И выросла дочь старика, и стала на диво прекрасной: бела, словно пена морская; пушистые косы ее, как морская трава, до колен ниспадали, а голубые глаза, словно раннее море сияли; а зубы, как жемчуг, сверкали из-под коралловых губ.
Однажды после купания дивчина сладко уснула на теплом песочке (море в то время молчало-дремало). И слышит сквозь сон она шепот. То рядом за камнем втроем собрались: птица-бабич, свинка морская, да рыбка — чешуйка золотая.
Вот рыбка и молвит:
— Достану со дна я ей жемчуг, кораллы и яркие самоцветы за то, что спасла меня. Лежала, несчастная, я на косе — сердитые волны забросили очень далеко. Жгло меня солнце, сушило, а хищный мартын белоснежный в небе кружился, и с ним моя смерть приближалась. А добрая дивчина эта взяла меня, ласково мне улыбнулась и в море легко опустила. Я вновь ожила…
— А я хорошо научу ее плавать, нырять, танцевать веселые танцы, чудесные сказки я ей расскажу, — молвила свинка морская, — за то, что она меня кормит, делится честно едою со мной. Погибла бы я без нее…
— А я, — отозвалась задумчиво птица-бабич, — а я ей поведаю новость, которой никто здесь не знает. Была я за морем, слыхала: прибудут сюда корабли и галеры. На тех кораблях и галерах дивные люди с чубами (из зовут казаками). Они никого не боятся, и даже древнему морю подарки не дарят, как другие купцы-мореплаватели, лишь веслами бьют его, не уважают. И море разгневалось на чубатых, и злая судьба их всех потопить присудила, сокровища камням отдать, да нам, морским слугам. Большой этой тайны никто не знает. А ей, милосердной, должна рассказать я за то, что меня она тоже спасла. Какой-то злодей перебил мои крылья стрелою, и я умирала на волнах зеленых. А милая дивчина эта меня изловила, кровь зашептала, целебных трав приложила, кормила, поила, за мною смотрела, пока не срослись мои крылья. За это раскрою ей тайну большую…
— Молчи! — зашумели, проснувшись, сердитые волны. — Молчи, не твое это дело! Не смеет никто знать о воле великого моря, не смеет никто противиться грозному!
Набросились волны на камни, сердито урчат между ними. Испуганно свинка и рыбка нырнули на дно, а птица в небо взлетела.
Но поздно проснулись волны: услышала дивчина тайну, на ноги быстро вскочила и громко позвала:
— Вернись, птица-бабич, вернись! Расскажи мне о тайне подробней! Не нужно ни жемчуга мне, ни кораллов, ни танцев веселых, ни сказок чудесных. А лучше скажи мне, откуда высматривать хлопцев чубатых, как от беды бесталанных спасти?
А волны бушуют, а волны ревут:
— Молчи! Не расспрашивай, глупый ребенок. Смирись! Не перечь лучше морю: море ведь тяжко карает!
А дивчина думает: “Ладно, бушуйте, зеленые волны, чернейте от злости, беситесь. Я вам не отдам на съедение людей тех отважных. Я вырву из горла у хищного моря братьев моих бесталанных! Отцу не скажу я ни слова. Ведь старенький он, и бороться ему не под силу, а будет большое ненастье, я вижу”.
И день догорел. И солнце в море спустилось. И тишина наступила. Лишь слышно во тьме, как бормочет старик, на пост свой ночной собираясь.
Дочь попрощалась с отцом, в пещере легла. А только отец стал костер разжигать, она поднялась, прыгнула в челн, приготовила все — ждет бури!
Море спокойно пока. Но вдали слышен гул: то туча, союзница моря, идет, глазами сверкает, крыльями черными машет на яркие звезды. И гаснут звезды со страха. Вот ветер, посланец ее, налетел, засвистел, стараясь костер потушить. Но дед догадался, подбросил смолы, и костер запылал сильнее. И ветер отпрянул назад, застеснявшись, и вновь тишина наступила…
И снова, но ближе, загрохотала грозная туча. И целая стая хищных ветров закружилась, завыла, толкая в бока сонные волны. Волны гурьбою метнулись к скалам. А скалы швырнули в них галькой. Алчно они проглотили гостинцы и бросились снова на скалы.
А туча находит, а гром громыхает, и молнии хищно сверкают. А буря галеры несчастные гонит, мачты ломает, рвет паруса, в волнах соленых купает.
Но борются с морем отважно гребцы, не поддаются чубатые! Вот подогнало их к берегу море, вот раскачало и бросило прямо на скалы. И скалы завыли, как звери, увидев такую добычу. Глазом моргнуть казаки не успели вдребезги разбило галеры.
Дивчина, страха не зная, в море свой челн направляет, утопающих хватает, быстро на берег выносит. Уж здесь собралось их немало, но больше еще погибает. А дивчина знай спасает, а дивчина слышать не хочет, что море ей грозно рокочет:
— Эй, отступись, не тягайся со мною! Добыча моя, не отдам по-пустому! Эй, отступись, неразумная! Страшная доля тебя покарает. Эй, отступись-ка!
Но тщетно! Дивчина слушать не хочет. Поднялись страшные волны, утлый челнок подхватили, как скорлупу, бросили с гневом на скалы — разбили.
Дивчина плачет: плачет она не от боли, плачет она не со страху, — она из-за челна рыдает. Жалко ей стало, что нечем спасать несчастных.
“Нет, попытаюсь еще раз!” Мигом одежду с себя сорвала и бросилась в бурное море. Не смилостивилось море: алчно ее поглотило.
Но смилостивилась доля: дивчина не погибла. Серою чайкой она вспорхнула и полетела над морем, горько рыдая…
А старик и не знал, что дочь совершила. Да те казаки, которых спасла она, все рассказали. Старик как стоял у костра, так и бросился с горя в огонь…
Погибли и дочь и старик.
Но нет, не погибли! Каждую ночь огонек на утесе мерцает, а над утесом серые чайки летают, плачут-кричат, лишь только услышат хищную бурю: оповещают они моряков, да нам повествуют о древней легенде, о славной дивчине-чайке.
Легенда записана Днепровой Чайкой (псевдоним Л. Василевской) (“Антологiя украiнського оповiдання”, К., Держлiтвидав, 1960). Перевод с украинского Г. Тарана.
Морское сердце
Однажды в море купались два брата. Вот старший, когда искупался, к берегу тихо поплыл, а младший — от берега дальше и дальше.
И полюбила морская волна отважного брата: взяла, обняла его крепко и тянет к себе на дно, в подводное царство морское.
Сопротивляется хлопец, кричит, зовет на помощь брата родного. А старший боится плыть. Думает: “Там глубоко, еще утону вместе с ним!”
— Ой, братец, мой милый. Ой, братец любимый, спасай! — последний раз вынырнул хлопец, слезы роняя.
— Пускай тебя господь спасает, — трусливо промолвил старший, а сам не посмел и взглянуть, как брат утопает, и к берегу быстро гребет, на камень влезает.
Волна рассердилась и погналась за трусом, догнала, снесла его в море и потопила.
Меньшего брата морская царица на дне приютила. И слезы его превратились в сверкающий жемчуг, а кудри — в кораллы.
А старшего брата рыбы и раки дотла растащили. Лишь к сердцу никто не хотел прикоснуться: таким было мерзким это трусливое сердце.
С тех пор появилось в море то сердце. Робко, украдкой плавает, скользкое, хладное, жгучее, как крапива, вяло оно шевелится, подрагивает, и нет от него даже тени — прозрачное.
А море брезгает сердцем: на берег его бросает, и там оно гибнет бесследно…
Легенда записана Днепровой Чайкой (“Антологiя украiнського оповiдання”, К., 1960). Перевод с украинского Г. Тарана.
Самойло Кошка
Ой, из города из Трапезонта выступала галера в три цвета расцвечена-размалевана. Ой, первым цветом расцвечена — злато-синими флагами увешана; а вторым цветом расцвечена — пушками опоясана; третьим цветом расцвечена — турецким белым сукном покрыта.
В той галере Алкан-паша, трапезонтское княжа, гуляет, с собой отборных людей имеет: турок-янычар семьсот да четыреста и бедных невольников триста пятьдесят, кроме старшины войсковой.
Первый старший — Кошка Самойло, гетьман запорожский; второй — Марко Рудой, судья войсковой; третий — Myсий Грач, войсковой трубач; четвертый — Лях Бутурлак, ключник галерный, сотник переяславский, отступник христианский, который тридцать лет был в неволе, а двадцать четыре как стал на воле, отурчился, обасурманился ради панства великого, ради лакомства несчастного!..
В той галере далеко от пристани отплывали, по морю Черному долго плыли-гуляли, возле Кафы-города пристали, здесь на отдых стали.
И приснился Алкан-пашате, трапезонтскому княжате, молодому панычу сон дивный-предивный…
Тогда Алкан-паша, трапезонтское княжа, турок-янычар да бедных невольников вопрошает:
— Турки, — молвит, — турки-янычары, и вы, бедные невольники. Кто из турок-янычар сможет сон разгадать, тому три града турецких буду даровать. А кто из бедных невольников сможет разгадать, тому вольную велю написать, на свободу велю отпускать”
Турки это услыхали, — ничего не сказали. Бедные невольники хоть и разгадали, но промолчали. Только Лях Бутурлак, ключник галерный, отступник христианский, отозвался:
— Как же, — молвит, — Алкан-паша, твой сон разгадать, если ты не хочешь его рассказать?
— А такой мне, горемыке, сон приснился, чтоб он никогда не сбылся! Снилось мне: моя галера, расцвечена-размалевана, стала вся ободранной, обгорелой; снилось: мои бедные невольники, что были в неволе, стали вольными; снилось: гетьман Кошка Самойло меня на три части разрубил, в море Черное выбросил.
Как только Лях Бутурлак это услыхал, такие слова сказал:
— Алкан-паша, трапезонтское княжа, молодой паныч! Сон этот не будет тревожить тебя, вели только мне получше за невольниками надзирать, в ряд их сажать, по две, по три пары старых и новых кандалов ковать, на руки-ноги надевать, красной таволги по два прутья брать, по шеям стегать, кровь христианскую наземь проливать!
Как только турки это услыхали, от пристани галеру далеко отпускали и бедных невольников к веслам приковали, на глубокую морскую воду выплывали. Как только это услыхали, от пристани галеру далеко отпускали, в город Козлов к девке Санджаковой на гулянье поспешали.
Вот к городу Козлову прибывали. Девка Санджакова навстречу выходила, Алкан-пашу в город со всем войском заводила. Алкан-пашу за белу руку брала, за столы белые сажала, дорогими напитками угощала. А войско на базаре сажала.
Но Алкан-паша дорогих напитков не пьет, на галеру двух турок подслушивать шлет, чтобы не мог Лях Бутурлак Кошку Самойла расковать и рядом с собою сажать!
Вскоре те два турка на галеру прибывали…
А Самойло Кошка, гетьман запорожский, молвит:
— Эх, Лях Бутурлак, брат наш старый. Когда-то и ты был в неволе, как мы теперь. Добро учини: хоть нас, старшину, отомкни — пусть и мы в городе побываем, свадьбу панскую повидаем.
— Эх, Кошка Самойло, гетьман запорожский, батька казацкий! Ты добро учини: веру христианскую ногами потопчи, крест на себе поломай! Будешь веру христианскую ногами топтать, будешь у нашего пана молодого за брата родного.
Как только Кошка Самойло это услыхал, такие слова сказал:
— Эх, Лях Бутурлак, сотник переяславский, отступник христианский! А чтоб тебе не дождать, как я веру христианскую буду ногами топтать! Пусть я до смерти в беде да в неволе буду жить, но хочу в земле казацкой голову христианскую сложить. Ваша вера поганая, земля проклятая!
Как только Лях Бутурлак это услыхал, Кошку Самойла бить по лицу стал.
— Ой, — молвит, — Кошка Самойло, гетьман запорожский! Будешь ты меня верой христианской допекать, буду тебя пуще всех невольников стеречь. Велю в старые да новые кандалы заковать, велю тебя цепями трижды опоясать!
А те два турка это услыхали, к Алкан-паше приходили, такие слова говорили:
— Алкан-паша, трапезонтское княжа, спокойно гуляй! Хорошего ключника имеешь. Он Самойла Кошку по лицу бьет, в турецкую веру обращает.
Тогда Алкан-паша, трапезонтское княжа, большую радость имело, пополам дорогие напитки разделяло: половину на галеру отсылало, половину с девкой Санджаковой распивало.
Стал Лях Бутурлак дорогие напитки пить-попивать, стали его голову казацкую думы одолевать: “Боже, есть у меня что пить, в чем ходить, только не с кем мне о вере христианской поговорить”.
И к Самойле Кошке, он приходит, рядом с собой сажает, дорогой напиток по два, по три кубка наливает. А Самойло Кошка по два, по три кубка в руки брал, то в рукав, то за пазуху, то на пол выливал. А Лях Бутурлак по одному выливал и так напился, что с ног свалился.
Тогда Кошка Самойло смекнул: Ляха Бутурлака, как дитя, в постель уложил, а сам восемьдесят четыре ключа из-под подушки вынимал, на пять невольников один ключ давал и тихо говорил:
— Казаки-братья, хорошо старайтесь, друг друга отмыкайте, но кандалы с рук и ног не снимайте, полуночи дожидайтесь!
Тогда казаки друг друга отмыкали, кандалы с рук и ног не снимали, полуночи дожидались. А Кошка Самойло недолго думал-гадал, себя, как бедного невольника, цепями трижды обмотал, полуночи дожидаться стал.
Стал полуночный час наступать, стал Алкан-паша с войском на галеру прибывать. Как только на галеру прибыл, такие слова молвил:
— Вы, турки-янычары, не очень шумите, моего верного ключника не разбудите. Сами же меж рядами идите, каждого невольника осмотрите, ибо ключник нынче подгулял, как бы кому поблажки не дал.
Тогда турки-янычары свечи в руки брали, по рядам ходили, каждого невольника проверяли. Бог помог: за замки руками не брались!
— Алкан-паша, спокойно почивай, хорошего и верного ключника имеешь. Он бедных невольников в ряд сажал, по три, по две пары старых и новых кандалов надевал, а Кошку Самойла цепями трижды опоясал.
Тогда турки-янычары в галеру заходили, спокойно спать ложились. А кто пьян был, кого сон сморил, те у пристани козловской спать легли.
Тогда Кошка Самойло полуночи дождался, кандалы с рук и с ног поснимал, в море Черное побросал, в галеру заходил, казаков разбудил. Сабли булатные на выбор выбирает, к казакам слово обращает:
— Вы, панове-молодцы, кандалами не стучите, шума не подымайте, никого из турок в галере не разбудите.
Это казаки и сами хорошо понимали, кандалы с себя снимали, в море Черное бросали, ни одного турка не разбудили.
Тогда Кошка Самойло казакам слово молвил:
— Вы, панове-молодцы, постарайтесь, со стороны города Козлова нападайте, турок-янычар в пух и прах рубите, а которых и живьем в море бросайте!
Тогда казаки со стороны города Козлова нападали, турок-янычар в пух и прах рубили, а которых и живьем в Черное море бросали. А Кошка Самойло Алкан-пашу взял, на три части порубил, в море Черное побросал, казакам сказал:
— Казаки-молодцы! Хорошо старайтесь, всех в Черное море бросайте, только Ляха Бутурлака не рубите, в войске как ярыгу войскового оставляйте.
Тогда казаки постарались, всех турок в Черное море побросали, только Ляха Бутурлака не зарубили, в войске как ярыгу войскового оставили.
Тогда галеру от пристани отпускали, Черным морем далеко плыли-гуляли.
В воскресенье утром рано то не сизая кукушка куковала, то девка Санджакова возле пристани ходила, белые руки ломала, горько причитала:
— Алкан-паша, трапезонтное княжа! За что же ты на меня великий гнев имеешь, почему сегодня от меня так рано уезжаешь? Пусть бы я от отца-матери позор приняла, но с тобою хоть одну ночь переночевала!
А еще в воскресенье в полдень Лях Бутурлак пробуждается, по сторонам смотрит, удивляется, что ни одного турка на галере не видно. Тогда Лях Бутурлак с постели подымается, к Кошке Самойле приходит, в ноги кланяется, слово молвит.
— Ой, Кошка Самойло, гетьман запорожский, батько казацкий! Не будь же ты таким ко мне, каким я был в конце жизни своей к тебе. Бог да помог тебе неприятеля победить, но не сумеешь ты в земли родные доплыть. Мудро учини: половину казаков в кандалах к веслам посади, половину в дорогие турецкие одежды наряди. Как будем от города Козлова к Царьграду подплывать, будут из города Царьграда двенадцать галер выбегать, будут Алкан-пашу с девкой Санджаковой поздравлять, то как ты будешь перед ними ответ держать?
Как Лях Бутурлак научил, так Кошка Самойло, гетьман запорожский, и учинил: половину казаков в кандалах к веслам посадил, а половину в турецкие дорогие одежды нарядил.
Стали от Козлова к Царьграду подплывать, стали из Царьграда двенадцать галер выбегать, стали из пушек палить, Алкан-пашу с девкой Санджаковой поздравлять. Тогда Лях Бутурлак недолго думал-гадал, на нос галеры выходил, турецкой белой чалмою махал. Один раз молвит по-гречески, другой по-турецки:
— Вы, турки-янычары, не шумите, потихоньку от галеры отплывите, потому что он подгулял, теперь почивает, с похмелья страдает. К вам не выйдет, головы не подымет. Говорил: “Как обратно плыть буду, вашей милости вовек не забуду”.
Тогда турки-янычары от галеры отплывали, к городу Царьграду направлялись, из двенадцати пушек салютовали. Тогда казаки хорошо постарались и себе семь пушек заряжали — салютовали.
Когда в Лиман-реку входили, Днепру-Славуте низко поклонились:
— Хвалим тя, господи, и благодарим! Были пятьдесят четыре года в неволе, а теперь не даст ли нам бог хоть бы час побыть на воле!
А на острове Тендрове Семен Скалозуб с войском на заставе стоял да на ту галеру глядел, казакам своим говорил:
— Казаки, панове-молодцы! Что сия галера бродит? Или войска царского много возит, или за большой добычей шныряет? Так вы постарайтесь, по две, по три пушки заряжайте, да эту галеру грозными пушками привечайте, гостинца ей дайте! Если турки-янычары — в пух и прах рубите! Если бедные невольники — помощь окажите!
Тогда казаки сказали:
— Семен Скалозуб, гетьман запорожский, батько казацкий! Ты, наверное, сам боишься и нас, казаков, пугаешь. Сия галера не бродит, и войска царского не возит, и за добычею не шныряет. Это, может, давний бедный невольник из неволи убегает.
— А вы не доверяйте, хоть две пушки заряжайте, тую галеру грозными пушками привечайте, гостинца ей дайте. Если турки-янычары — в пух и прах рубите, если бедные невольники, помощь окажите!
Тогда казаки, как дети, неладное затевали: по две пушки заряжали, тую галеру грозными пушками привечали, три доски в судне пробивали, воды днепровской напускали…
Тогда Кошка Самойло, гетьман запорожский, недолго думал-гадал, на нос галеры выступал, красные хоругви старые с крестами из кармана вынимал, те хоругви распускал, сам низко голову склонил:
— Казаки-панове, молодцы! Эта галера не бродит, войска царского не возит, за добычей не шныряет. Это давний бедный невольник Кошка Самойло из неволи убегает. Были пятьдесят четыре года в неволе, теперь не даст ли нам бог хоть бы час побыть на воле…
Тогда казаки в каюки скакали, тую галеру за малеванные борта цепляли, к пристани подтянули.
Тогда: злато-синие флаги — казакам, парчовую одежду — атаманам, турецкое бело сукно — казакам-белякам на кафтаны, а галеру поджигали.
А серебро-злато на три части делили: первую часть брали — церкви отдавали, святому межигорскому спасу, трехмировскому монастырю, святой сечевой покрове давали, которые давно еще на казацкие деньги воздвигали, чтоб за них с утра до вечера милосердного бога молили; а другую часть меж собой делили; а третью часть брали, в круг садились, пили да гуляли, из семипядных пищалей палили, Кошку Самойла с волей поздравляли.
— Здорово, — молвят, — Кошка Самойло, гетьман запорожский. Не погиб ты в неволе, не погибнешь с нами, казаками, и на воле!
Правда, панове, сложил голову Кошка Самойло в Киеве — Каневе монастыре!
Слава не умрет, не поляжет!! Будет слава славная помеж казаками, помеж друзьями, помеж добрыми молодцами!!!
Украинская дума, записанная П. Лукашевичем (“Укpaiнськi народнi думи та iсторичнi пiснi”. Издательство АН УССР, 1955). Перевод с украинского Г. Тарана.
Г а л е р а — гребное судно, на котором гребцами были невольники, прикованные цепями к скамьям.
К о з л о в (Гезлев) — древнее название Евпатории. Здесь был невольничий рынок.
К л ю ч н и к — надзиратель над невольниками на галере.
Л и м а н – р е к а — Днепровско-Бугский лиман у северных берегов Черного моря.
Т а в о л г а — луговое растение, из которого изготовлялись бунчуки, шомполы.
Т р а п е з о н т (Тробзон) — турецкий порт на Черном море.
Х о р у г в и — здесь запорожские знамена.
Я н ы ч а р ы — привилегированные, отборные войска в султанской Турции.
Я р ы г а — здесь прислужник, переводчик.
Кутузовский фонтан
Веками господствовали турки в Крыму, веками турецкие поработители грабили и разоряли этот благодатный край. Отсюда, из Крыма, орды татарских конников нападали на русские земли, захватывали мирных жителей в полон и приводили их в Кафу и Гезлев на невольничьи рынки. Здесь несчастных продавали в рабство. Крым превратился в большой невольничий рынок. Всюду раздавался стон порабощенных, заглушая радостное пение птиц, говор вечно свободного моря.
Но вот, наконец, пришли в Крым русские воины-богатыри, прогнали турок-угнетателей далеко за море, освободили невольников. И наступила в Крыму мирная жизнь. Стали люди землю пахать, пшеницу сеять, виноград возделывать.
А по ту сторону Черного моря турецкий султан уже готовился к новой войне в русскими. Он послал в Крым к татарскому хану Сахиб Гирею, к татарским мурзам своих лазутчиков для тайных переговоров.
— Мы будем сражаться хоть до светопреставления, пока Крым не будет отобран у московов, — заверили ханских лазутчиков татарские мурзы.
Узнав об этом, турецкий султан собрал большое войско, позвал к себе своего верного сераскира Гаджи-Али-бея и сказал:
— Мой верный Гаджи-Али-Бей! Даю тебе янычар пятьдесят тысяч, даю тебе кораблей тысячу — иди на Крым. Через тридцать дней и тридцать ночей я буду ждать от тебя вести о завоевании Крыма. Не дождусь такой вести — не сносить тебе головы!..
И турецкий флот во главе с сераскиром Гаджи-Али-беем отправился к берегам Крыма.
С рассветом турецкие корабли появились у берегов Алушты. На прибрежных холмах мирно дремали жилища, увитые виноградом, обсаженные стройными кипарисами. Слева величественно возвышалась куполообразная гора Кастель, а далее, за Алуштой, на фоне утреннего бледно-голубого неба вырисовывались контуры Чатыр-Дага и Демерджи.
— Видите эту землю? — обратился к янычарам сераскир Гаджи-Али-бей. — Мы захватим ее за тридцать дней и тридцать ночей. Мы умертвим неверных половину, а вторую половину угоним в рабство. Мы оставим на этой земле одни лишь руины да пепел, а драгоценности заберем себе. Вперед, правоверные! Да поможет вам Аллах!
Словно саранча, полезли янычары на крымский берег, оглашая окрестности воинственными криками. Казалось, никакая сила не сможет остановить их.
И тут поднялся на защиту Алушты русский гарнизон — сто пятьдесят отважных егерей. Укрывшись в развалинах древней Алуштинской крепости, они целый день сдерживали натиск пришельцев. Но слишком неравными были силы. Один за другим падали егеря, сраженные турецкими пулями.
Ворвались к концу дня янычары в крепость, захватили Алушту и двинулись к Чатыр-Дагу.
А из Симферополя навстречу туркам уже спешило русское войско. Вел это войско самый храбрый из русских воинов — Михаил Илларионович Кутузов.
Тяжким был путь русского войска. Приходилось двигаться по бездорожью, по горам, по лесам, по непроходимым тропам. Высокие скалы вставали на пути отважных, глубокие ущелья и бурные реки преграждали им путь. Колючие ветви держи-дерева цеплялись за одежду, царапали лица, руки, не пускали вперед. Но сильные, выносливые воины-богатыри обошли высокие скалы, преодолели глубокие ущелья, переправились через бурные реки и вышли к перевалу.
Их взору открылось большое-пребольшое море, которому, казалось, не было конца-края. Залитое ярким полуденным солнцем, оно ослепительно сверкало, переливалось серебром и перламутром. Берега его утопали в изумрудной Зелени диковинных южных растений. Вдоль берегов тянулись горы, вздымая в небо вершины причудливых очертаний.
Долго молча стояли русские воины, пораженные сказочной красотой полуденной земли.
Вдруг гром пушек разорвал тишину, гора Чатыр-Даг вздрогнула и окуталась черным дымом. Это турки-янычары начали пальбу. Укрепившись на неприступных склонах Чатыр-Дага, они решили внезапно напасть на московов и разбить их.
— Братцы мои, славные гренадеры! — громко сказал Кутузов. — Не впервые нам, братцы, сражаться с неприятелем, не впервые побеждать его! Турки-янычары напали на эту благодатную землю, чтобы испепелить ее, а население повергнуть в рабство. Встретим же непрошеных гостей, как подобает, по-русски! Попотчуем их булатной сталью и проводим туда, откуда они пришли!
Промолвив эти слова, Кутузов построил гренадеров в боевые порядки и повел их на штурм неприятельских укреплений.
Разгорелась жестокая битва. Горы, словно живые, дрожали от беспрерывной пальбы. Лес встревоженно шумел, роняя листья. Гигантские великаны-буки и златоствольные красавицы-сосны, срезанные ядрами, медленно валились на землю и умирали. Солнце померкло от дыма и пыли.
А турки все палили и палили из пушек, мушкетов, пищалей, скатывали со склона огромные камни, пытаясь остановить русских богатырей. А русские все шли и шли, бесстрашно приближаясь к турецким укреплениям. И впереди всех шел самый смелый из них — Кутузов.
Вот уже скрестились русские клинки с кривыми турецкими саблями. Взмахнет Кутузов левой рукой — двадцать пять янычар падает, взмахнет правой — пятьдесят на земле лежат. Увидел это сераскир Гаджи-Али-бей и понял, что если Кутузова не остановить, все турецкое войско будет порубано. Взял он мушкетон, прицелился и выстрелил. Хорошим был стрелком сераскир Гаджи-Али-бей — не промахнулся. Попала вражеская пуля прямо в голову Кутузова…
Упал русский полководец, обагряя своей кровью крымскую землю. Янычары бросились к нему, пытаясь захватить его в плен живым или мертвым. Но не тут-то было! Стеной встали гренадеры на защиту своего командира. Оттеснив врагов, они подхватили Кутузова на руки и понесли к источнику, который находился неподалеку от места сражения.
Принесли, бережно опустили на траву, стали поить его водой из источника, стали промывать его рану.
И с удивлением заметили они, что рана перестала кровоточить, быстро затянулась, зажила. Кутузов пришел в сознание, поднялся на ноги. Словно и не было смертельной раны!
Догадались тогда русские богатыри, что источник этот целебный, что вода в нем не простая, а живая. Напились они этой воды, омыли ею свои раны и вслед за своим полководцем с новыми силами двинулись в бой.
И таким был стремительным натиск русских, что турки не выдержали и побежали. А сераскир Гаджи-Али-бей, увидев Кутузова живым и невредимым, пришел в неописуемый ужас.
— О, Аллах! — взмолился он. — Ты воскресил моего противника, чтобы он погубил мою жизнь? Чем я провинился перед тобой, Всемогущий Аллах?!
В суеверном страхе бежал Гаджи-Али-бей без оглядки до самой Алушты. А вслед за ним в беспорядке бежали янычары. Не многим из них удалось достичь берега и спастись на кораблях.
Турецкий флот поспешно покинул берега Крыма…
Выгнав из крымской земли турецких захватчиков, русские воины-победители вместо оружия взяли в руки топоры, кирки и лопаты, чтобы проложить сквозь дремучие леса дорогу к южному берегу Крыма…
Через леса, через ущелья и долины, по склонам гор, по берегу моря вьется дорога — величественный памятник, который воздвигли себе в Крыму русские воины. На том месте, где журчал источник, они соорудили фонтан с барельефом своего любимого полководца, храброго воина Михаила Кутузова.
Много путников идет и едет по этой дороге. И каждый останавливается, чтобы испить целительной влаги из Кутузовского фонтана.
Легенда записана Г. Тараном. Публикуется впервые.
К у т у з о в M. И. — в русско-турецкой войне командовал гренадерским батальоном. В бою под с. Шумы был тяжело ранен.
К у т у з о в с к и й ф о н т а н — памятник Кутузову, сооруженный в 20-х годах XIX в. при строительстве дороги Симферополь — Алушта.
Т у р е ц к и й д е с а н т, о котором идет речь в легенде, высадился в Алуште в 1774 году.
Окаменелый корабль
Взойдите на Отлукая и поглядите на Кохтебельский залив. Что за вид! Море синею эмалью врезалось в широкий, ласковый пляж и слилось на горизонте с лазурью южного неба. Как крыло чайки, бросившейся в волну, белеют паруса турецких филюг, и дымок парохода убегает за дальний мыс Киик-Атлама.
Ушли все, и только один парус застыл на месте. Дни и ночи, годы, сотни и тысячи лет он не движется с места. Окаменел.
И моя мать рассказывала, бывало, в детстве, как это случилось.
Святая Варвара скрывалась в крымских горах. По пятам преследовал ее старый отец, — Диоскур, и, наконец, почти нагнал у Сугдеи.
Но не настало еще время Варваре принять мученический венец. Одна гречанка из Фул, небольшого городка между Карадагом и Отузами, узнав, что гонимая — христианка, приютила ее у себя; укрыла на время от преследования. И случилось чудо. Сад гречанки, побитый морозом, вновь пышно зацвел, а глухонемой ее сын стал различать речь. Заговорили об этом кругом. Дошла весть и до язычника-отца. Догадался Диоскур, кто скрывается у гречанки, и ночью окружил ее дом.
Как была, в одной рубашке, бросилась Варвара к окну, и, незамеченная преследователями, с именем Иисуса на устах, бросилась в колодец. Поддержали упавшую Божьи ангелы и отнесли подальше от Фул, к подножью Отлукая.
В эту ночь у Отлукая остановилась отара овец. Задремавший пастух, молодой тавр, был донельзя поражен, когда рядом с собой увидел какую-то полунагую девушку.
— Кто ты, зачем пришла сюда, как не тронули тебя мои овчарки?
И Варвара не скрыла от пастуха, кто она и почему бежала.
— Глупая ты, от своих богов отказываешься. Кто же поможет тебе в горе и беде? Нехорошее дело ты затеяла.
Но, заметив слезы на глазах девушки, и как дрожит она от холода, пожалел ее, завернул в свой чекмень.
— Ложись, спи до утра. Ничего не бойся.
Было доброе намерение у пастуха.
Прошептав святое слово, уснула Варвара под кустом карагача.
Раскинулись пышные волосы; разметалась вся; красавицей лежала.
И не выдержал пастух. Нехорошо поглядел на нее. Бросился к ней с недоброй мыслью, забыв долг гостеприимства. Бросился… и остолбенел, а за ним застыло и все стадо. Окаменели все. Только три овчарки, которые лежали у ног святой, остались, по назначению Божью, охранять ее до утра.
С первым утренним лучом проснулась Варвара и не нашла ни пастуха, ни стада. Вокруг нее и по всему бугру точно овцы, белели странные камни, и между ними один длинный, казалось, наблюдал за остальными. Жутко стало на душе у девушки. Точно случилось что. И побежала она вниз с горы, к морскому заливу. Впереди бежали три овчарки, указывая ей путь в деревню. Удивились в деревне, когда увидели собак без стада. Не знала ничего и Варвара. Только потом догадались.
У деревни, в заливе, отстаивался сирийский корабль. Он привез таврам разные товары и теперь ждал попутного ветра, чтобы вернуться домой.
Донес ветерок до слуха Варвары родную сирийскую речь. Пошла она к корабленачальнику и стала просить взять ее с собой. Нахмурился суровый сириец, но, поглядев на девушку-красавицу, улыбнулся. Недобрая мысль пробежала в голове.
— Хоть и нет у нас обычая возить с собой женщин, а тебя я возьму. Ливанская ты.
Радовалась Варвара, благодарила. Еще не было у нее дара предугадывать будущее.
Подул ветер от берега. Подняли паруса, и побежал корабль по морской волне.
Варвара зашла за мачту и сотворила крестное знамение. Заметил это корабленачальник и опять нехорошо улыбнулся. — Тем лучше! А потом позвал девушку к себе, в каюту, и стал расспрашивать: как и что. Смутилась Варвара и не сказала правды. Жил в душе Иисус, а уста побоялись произнести Его имя язычнику. И потемнели небеса; с моря надвинулась зловещая, черная туча; недобрым отсветом блеснула далекая зарница. Упала душа у Варвары. Поняла она гнев Божий. На коленях стала молить — простить ее. А навстречу неслась боевая триира, и скоро можно было различить седого старика, начальствовавшего над нею. Узнала Варвара гневного отца; защемило сердце, и, сжав руки, стала призывать имя своего Господа.
Подошел к ней корабленачальник. Все сказала ему Варвара и молила не выдавать отцу. Замучает ее старик, убьет за то, что отступилась от веры отцов. Но, вместо ответа, сириец скрутил руки девушки и привязал косой к мачте, чтобы не бросилась в воду.
— Теперь моли своего Бога, пусть тебя Он выручает!
Сошлись корабли. Как зверь, прыгнул Диоскур на сирийский борт; схватил на руки дочь и швырнул ее к подножью идола на своей триере. — Молись ему!
А Варвара повторяла имя Иисуса.
— Молись ему! — И Диоскур ткнул ногой в прекрасное лицо дочери.
— За тебя молюсь моему Христу, — чуть слышно прошептала святая мученица и хотела послать благословение и злому сирийцу, но не увидела его.
Налетел бешеный шквал, обдал сирийский корабль пеной и точно белой корой покрыл его.
Налетел другой и на минуту не стало ничего видно. А когда спала волна, то на месте корабля выдвинулась из недр моря подводная скала, точно бывший корабль.
С тех пор прошли века. От камней Варварина стада немного осталось на прежнем месте. Новые люди повели по иному жизнь, и на новую дорогу пошли старые камни. Только окаменелый корабль остался недвижим.
Не дошла до него очередь.
— Мама, — замечал я в детстве, — да ведь это просто подводная скала.
— Конечно, так, мой мальчик. Подводная скала для чужих, а для нас, здешних, это народный памятник христианке первых веков.
Легенда рассказана Зефирой Павловной Маркс, из рода Ставра-Цирули, одного из древних насельников Феодосийской округи. Подводные камни, которые местные жители называют Окаменелым кораблем, лежат в Кохтебельском заливе, между мысом Тапрак-кая и мысом Киик-Атлама. Кохтебель лет двадцать назад представляла из себя пустынный пляж, верстах в двух от которого лежала бедная болгаро-татарская деревушка того же имени. (В 19 верстах от Феодосии по судакскому шоссе). Болгары пришли сюда при императрице Екатерине II, татары — с начала XIII века, но местность эта была известна еще Плинию (79 г.), по словам которого здесь некогда была пристань тавров, древнейших жителей Тавриды. Легенда об Окаменелом корабле в устах местных греков связана с именем св. Варвары. Как известно, св. Варвара (III век), сирийка по происхождению, действительно, бежала от отца, который преследовал ее за принятие ею христианства, но в Крыму она никогда не была; и если народное предание говорит именно о св. Варваре, то это показывает насколько имя мученицы было популярно в горах Крыма. Быть может легенду нужно приурочить к началу XII века, когда были перенесены из Византии в Киев мощи св. Варвары. Отлу-кая — небольшая гора по правую сторону шоссе из Кохтебели в Отузы. У подножья ее продолговатое всхолмье, вершина которого, до проведения шоссе в 90-х годах прошлого столетия, была окаймлена поставленными на ребро плитами, а по склону были разбросаны камни, напоминавшие издали стадо овец. Камни пошли на постройку шоссе, но местные жители до сих пор называют это место Окаменелым стадом. Следует отметить, что на Керченском полуострове, недалеко от д. Кызильхую, существует Овраг окаменелых овец, но здесь в основе татарской легенды лежит наказание дочери за ее черную неблагодарность отцу.
Отара — стадо (от — трава, ара — искать).
Чертова баня
Не верьте, когда говорят: нет Шайтана. Есть Аллах — есть Шайтан. Когда уходит свет, — приходит тень. Слушайте!
Вы знаете Кадык-Койскую будку? За нею грот, куда ходят испить холодной воды из скалы.
В прежние времена тут стояла придорожная баня, и наши старики еще помнят ее камни.
Говорят, строил ее один отузский богач. Хотел искупить свои грехи, омывая тело бедных путников. Но не успел. Умер, не достроив. Достроил ее деревенский кузнец-цыган, о котором говорили нехорошее.
По ночам в бане светился огонек, сизый с багровым отсветом. Может быть в кагане светился человеческий жир. Так говорили.
И добрые люди, застигнутые ночью в пути, спешили обойти злополучное место.
Ходил даже слух, что в бане живет сам Шайтан.
Известно, что Шайтан любит людскую наготу, чтобы потом над нею зло посмеяться. Уж, конечно, только Шайтан мог подсмотреть у почтенного отузского аги Талипа такой недостаток, что, узнав о нем, вся деревня прыснула от смеха.
Кузнец часто навещал свою баню и оставался в ней день, другой. Как раз в это время в деревне случались всякие напасти. Пропадала лошадь, тельная телка оказывалась с распоротым брюхом, корова без вымени, а дикий деревенский бугай возвращался домой понурым быком.
Все Шайтановы штуки! А, может быть, и кузнеца. Недаром он так похож на Шайтана. Черный, одноглазый, с передним клыком кабана. Деревня не знала, откуда он родом и кто был его отцом; только все замечали, что кузнец избегал ходить в мечеть; а мулла не раз говорил, что из жертвенных баранов на Курбан-байрам самым невкусным всегда был баран цыгана; хуже самой старой козлятины.
Кохтебельский мурзак, который не верил тому, о чем говорили в народе, проезжая однажды мимо грота, сдержал лошадь; но лошадь стала так горячиться, так испуганно фыркать, что мурзак решил в другой раз не останавливаться. Оглянувшись, он увидел, — он это твердо помнит, — как на бугорке сами собой запрыгали шайки для мытья.
И много еще случалось такого, о чем лучше не рассказывать на ночь.
Впрочем, иной раз, как ни старайся, от страшного не уйдешь.
У Османа была дочь и звали ее Сальгэ. Пуще своего единственного глаза берег ее старый цыган. Однако любви не перехитришь, и, что случилось у Сальгэ с соседским сыном Меметом, знали лишь он да она. Только и подумать не смел Мемет послать свата. Понимал, в чем дело. И решил бежать с невестой в соседнюю деревню. Как только полный месяц начнет косить, — так и бежать.
И смеялся же косой месяц над косым цыганом, когда скакал Мемет из деревни с трепетавшей от страха Сальгэ.
Османа не было дома. Он проводил ночь в бане. Пил заморский арак, от которого наливаются жилы и синеет лицо.
— Наливай еще!
— Не довольно ли? — останавливал Шайтан. — Слышишь скрип арбы? Это козский имам возвращается из Мекки… И грезится старику, как выйдет завтра ему навстречу вся деревня, как станут все на колени и будут кричать: “Святой хаджи!..” Постой, хаджи, еще не доехал! — И прежде, чем кузнец подумал, Шайтан распахнул дверь. Шарахнулись волы, перевернулась арба, и задремавший было имам с ужасом увидел, как вокруг него зажглись серные огоньки. Хотел прошептать святое слово, да позабыл. Подхватила его нечистая сила и бросила с размаха на пол бани.
Нагой и поруганный, с оплеванной бородой, валялся на полу имам, а гнусные животные обливали его чем-то липким и грязным. И хохотал Шайтан. Дрожали стены бани. — То-то завтра будет смеху! На коленях стоит глупый народ, ждет своего святого, а привезут пьянень-кого имама! — Не стерпел обиды имам, вспомнил святое слово и очнулся на своей арбе, которая за это время уже отъехала далеко от грота.
— Да будет благословенно имя Аллаха, — прошептал имам, и начал опять дремать.
А в бане хохотал Шайтан. Дрожали стены бани.
— Наливай еще, — кричал цыган.
— Постой! Слышишь, скачет кто-то! — И вихрем вынес нечистый приятеля на проезжую тропу.
Шарахнулась со всех четырех ног лошадь Мемета, и свалился он со своей ношей прямо к ногам Шайтана.
— А, так вот кого еще принесло к нам! Души его, — крикнул Шайтан, а сам схватил завернутую в шаль девушку и бросился с ней в баню.
Зарычал цыган и всадил отравленный кинжал по самую рукоять между лопаток обезумевшего Мемета.
А из бани доносился вопль молодого голоса. “Будет потеха, будет хорошо сегодня”, — подумал цыган и, шатаясь, пошел к бане.
В невыносимом чаду Шайтан душил распростертую на полу нагую девушку, и та трепетала в последних судорогах.
— Бери теперь, если хочешь!
Обхватил цыган девушку железными руками, прижался к ней… и узнал дочь…
— Згне! — крикнул он не своим голосом слово заклятья.
И исчез Шайтан. Помнил уговор с Османом. Только раз цыган скажет это слово, и только раз сатана подчинится ему.
— Воды, воды, отец!
Бросился Осман к гроту, а грот весь клубился удушливыми серными парами. И не мог пройти к воде Осман. Не знал второго слова заклятья. Упал и испустил дух.
* * *
Поутру проезжие татары нашли на дороге три трупа и похоронили их у стен развалившейся за ночь бани.
— Чертова баня, — назвал с тех пор народ это место.
И я хорошо помню, как в детстве, проезжая мимо грота, наши лошади пугались и храпели.
Не верьте, если вам скажут: нет Шайтана. Есть Аллах — есть Шайтан! Когда уходит свет, — приходит тень.
Легенду рассказал местный помещик Мефодий Николаевич Казаков, со слов отузских татар.
Шайтан — дух зла, изгнанный Аллахом из сонма ангелов за то, что он не хотел поклониться Адаму. С тех пор Шайтан мстит человеческому роду, толкая его на все, противное заповедям Аллаха.
Курбан-байрам — праздник жертвоприношения. Он празднуется в течение четырех дней в 12-м лунном месяце года. К этому празднику каждый татарин запасается жертвенной овцой, которую в день праздника закалывает после молитвы муллы. Шкура и лучшая часть овцы идут мулле, кусок баранины — бедным, а остальное на дом. Татарин верит, что душа невинного жертвенного животного поможет душе жертвователя войти в обитель вечной отрады. Как известно, Магомет ввел этот вид жертвоприношения взамен существовавшего у арабов жертвоприношения детей.
Ага — чиновное, должностное лицо.
Имам — мулла, священник.
Эчкидаг — Козья гора
Али, красавец Али, тебя еще помнит наша деревня, и рассказ о тебе, передаваясь из уст в уста, дошел до дней, когда Яйла услышала гудок автомобиля, и выше ее гор, сильнее птицы, взвился бесстрашный человек.
Не знаю, обогнал бы ты их на своем скакуне, но ты мог скорее загнать любимого коня и погубить себя, чем поступиться славой первого джигита.
Быстрее ветра носил горный конь своего хозяина, и завидовала отузская молодежь, глядя, как гарцевал Али, сверкая блестящим набором, и как без промаха бил он любую птицу на лету.
Недаром считался Али первым стрелком на всю долину и никогда не возвращался домой с пустой сумкой.
Трепетали дикие козы, когда на вершинах Эчкидага, из-за неприступных скал, появлялся Али с карабином на плече.
Только ни разу не тронула рука благородного охотника газели, которая кормила дитя. Ибо благородство Али касалось не только человека.
И вот как-то, когда в горах заблеяли молодые козочки, зашел Али в саклю Урмие.
Урмие, молодая вдова, уснащавшая себя пряным ткна лишь для него одного, требовала за это, чтобы он беспрекословно исполнял все ее причуды. Она лукаво посмотрела на Али, как делала всегда, когда хотела попросить что-нибудь исключительное.
— Принеси мне завтра караджа.
— Нельзя. Не время бить коз. Только начали кормить, ведь знаешь, — заметил Али, удивившись странной просьбе.
— А я хочу. Для меня мог бы сделать.
— Не могу.
— Ну так уходи. О чем нам разговаривать.
Пожал плечами Али, не ожидал этого, повернулся к двери.
— Глупая баба.
— К глупой зачем ходишь. Сеит-Мемет не говорит так. Не принесешь ты, принесет другой, а караджа будет. Как знаешь!
Вернулся Али домой, прилег и задумался. В лесу рокотал соловей, в виноградниках звенели цикады, по небу бегали одна к другой в гости яркие звезды. Никто не спал, не мог заснуть и Али. Клял Урмие, знал, что дурной, неладный она человек, а тянуло к ней, тянуло, как пчелу на сладкий цветок.
— Не ты, принесет другой.
Неправда, никто не принесет раньше. Али поднялся.
Начинало светать. Розовая заря ласкала землю первым поцелуем.
Али ушел в горы по знакомой ему прямой тропе.
Близко Эчкидаг. Уже поднялся ловкий охотник на одну из его вершин, у другой теперь много диких коз, караджа. Нужно пройти Хулах-Иернын — Ухо земли. Так наши татары называют провал между двумя вершинами Эчкидага. Глубокий провал с откосной подземной пещерой, конца которой никто не знает. Говорят, доходит пещерная щель до самого сердца земли; будто хочет земля знать, что на ней делается: лучше ли живут люди, чем прежде, или по-прежнему вздорят, жадничают, убивают и себя и других.
Подошел Али к провалу и увидел старого, старого старика с длинной белой бородой, такой длинной, что конец уходил в провал.
— Здравствуй, Али, — окликнул его старик. — Что так рано коз стрелять пришел?
— Так, нужно.
— Все равно не убьешь ни одной.
Подошел ближе Али, исчез в провале старик.
— Ты кто будешь?
Не ответил старик, только сорвавшиеся камни полетели в провал; слушал, слушал Али и не мог услышать, где они остановились. Оглянулся на гору. Стоит стройная коза, на него смотрит, уши наставила.
Прицелился Али и вдруг видит, что у козы кто-то сидит и доит ее; какая-то женщина, будто знакомая. Точно покойная его сестра.
Опустил он быстро карабин, протер глаза. Коза стоит на месте, никого подле нее нет.
Прицелился вновь, и опять у козы женщина. Оглянулась даже на Али. Побледнел Али. Узнал мать такой, какой помнил ее в детстве. Покачала головой мать. Опустил Али карабин.
— Аналэ, матушка родная!
Пронеслась по тропинке под скалой пыль. Стоит опять коза одна, не шевелится.
— Сплю я, что ли, — подумал Али, и прицелился в третий раз.
Коза одна, только в двух шагах от нее ягненок. Причудилось, значит, все, и навел Али карабин, чтобы вернее, без промаха, убить животное прямо в сердце.
Хотел нажать на курок, как увидел, что коза кормит ребенка, дочку Урмие, которую любил и баловал Али как свою дочь.
Задрожал Али, похолодел весь. Чуть не убил маленькую Урмие.
Обезумев от ужаса, упал на землю и долго ли лежал не помнил потом.
С тех пор исчез из деревни Али. Подумали, что упал со скалы и убился. Долго искали — не нашли. Тогда решили, что попал он в Хулах-Иернын, и нечего искать больше.
Так прошло много лет.
Алиева Урмие стала дряхлой старухой, у маленькой Урмие родились дети и внуки; сошли в могилу сверстники джигита, и народившиеся поколения знали о нем только то, что дошло до них из уст отцов и где было столько же правды, сколько и народного вымысла.
И вот раз вернулся в деревню хаджи Асан, столетний старик, долгое время остававшийся в священной Мекке. Много рассказал своим Асан, много чудесного, но чудеснее всего было, что Асан сам, своими-глазами видел и узнал Али.
В Стамбуле, в монастыре дервишей происходило торжественное служение. Были принцы, много франков и весь пашалык. Забило думбало, заиграли флейты и закружились в экстазе священной пляски-молитвы святые монахи. Но бешеннее всех кружился один старик. Как горный вихрь, мелькал он в глазах восторженных зрителей, унося мысль их от земных помыслов, но силой всего своего существа отдававшийся страсти своего духа.
— Али, — воскликнул Асан, и, оглянувшись на него, остановившись на мгновение, дервиш снова бешеным порывом ушел в экстаз молитвы.
Легенду сообщил отузский татарин Абляким-Амит-оглы. Гора Эчкидаг, поднимающаяся на высоту 2100 ф., отделяет отузскую долину от козской. По склону Эчкидага идет шоссе из Отуз к Судаку. Татары говорят, что у вершины горы действительно существует провал без дна, который они называют Ухом земли (Хулах Иернын). В лесу, которым покрыты склоны Эчкидага, еще недавно охотники били диких коз (караджа).
Ткна (хна) — красная краска, которой татарки, по обряду, покрывают волосы и пальцы рук и ног.
Под именем франков турки разумеют вообще иностранцев.
Пашалык — генералитет.
Монашеский орден дервишей (нищих) — особенно чтим крымскими татарами. Они считают дервишей — святыми, имеющими власть изгонять недуг из больных. Во время молитвы, которая сопровождается вскрикиваниями — Бог все движет! (Гуво!), дервиши начинают вертеться, и, постепенно учащая темп движения, доходят до экстаза. В России служение дервишей происходит в одной только Бахчисарайской мечети.
Думбало — огромный барабан, в который бьют с обеих сторон легким деревянным молотком сверху и тросточкой снизу.
Святая могила
Это было лет триста назад, а может быть и больше. Как теперь, по долине бежал горный поток; как теперь, зеленели в садах ее склоны и, как теперь, на пороге деревни высился стройный минарет Отузской мечети.
В двух шагах от нее, где раскинулся вековечный орех, стояла тогда, прислонившись к оврагу, бедная сакля хаджи Курд-Тадэ.
Ни раньше, ни потом не знали в деревне более праведного человека.
Никто никогда не слышал от него слова неправды, и не было в окрестности человека, которого не утешил бы Курд-Тадэ в горе и нужде.
Бедняк не боялся отдать другому кусок хлеба и на случайные гроши успел сходить в Мекку и вырыть по пути два фонтана, чтобы утолять жажду бедного путника.
Святое дело, за которое Пророк так охотно открывает правоверному двери рая.
— Святой человек, — говорили в народе, и каждый с благоговением прижимал руку к груди, завидев идущего на молитву хаджи.
А шел он творить намаз всегда бодрой походкой не уставшего в жизни человека, хотя и носил на плечах много десятков лет.
Должно быть, Божьи ангелы поддерживали его, когда старые ноги поднимались по крутым ступенькам минарета, откуда он ежедневно слал во все стороны свои заклинания.
И было тихо и радостно на душе; светло — точно Божий луч начинал уже доходить до него с высоты небесного престола.
Но никогда нельзя сказать, что закончил жить, когда еще живешь.
Как ни был стар хаджи Курд-Тадэ, однако радостно улыбался, когда глядел на свою Раймэ, земной отзвук гурий, которые ждали его в будущем раю.
Когда падала фата и на святого хаджи глядели ее жгучие глаза, полные ожидания и страсти, сердце праведника, дотоле чистый родник, темнилось отражением греховного видения.
И забывал хаджи старую Гульсун, верного спутника жизни. А Раймэ, ласкаясь к старику, шептала давно забытые слова и навевала дивные сны давних лет.
Пусть было б так. Радуешься, когда после зимнего савана затеплится, зазеленеет земля; отчего было не радоваться и новому весеннему цветку.
И не знал хаджи, какие еще новые слова благодарности принести Пророку за день весны на склоне лет.
И летело время, свивая вчера и сегодня в одну пелену.
Только раз, вернувшись из сада, не узнал старик прежней Раймэ. Такие глубокие следы страданий отпечатались на ее прекрасном лице; такое безысходное горе читалось в ее взоре.
“Раймэ, что с тобой”, подумал он, но не сказал, потому что замкнулись ее уста.
И подул ночью горный ветер и донес до спящего Курд-Тадэ речь безумия и отчаянья.
— Милый, желанный, свет души моей. Вернись. Забудь злую чаровницу. Вернись к своей любимой, как ты ее называл. Вернись навсегда. Скоро старый закроет очи, и я буду твоей, твоей женой, твоей маленькой, лучистой Раймэ.
Проснулся Курд-Тадэ и не нашел рядом с собой юного тела, а на пороге сеней в безысходной тоске рыдала, сжимая колени, молодая женщина.
Чуть-чуть начинало светать. Скоро муэдзин пропоет с минарета третью ночную молитву. Хаджи, никем не замеченный, вышел из усадьбы и пошел к Папас-тепэ.
На середине горы некогда находился греческий храм, и от развалин храма вилась по скале на самый верх узкая тропинка.
Никто не видел, как карабкался по ней старый Курд-Тадэ, как припал он к земле на вершине горы, как крупная слеза скатилась впервые из глаз святого.
Не знал хаджи лжи. А ложь, казалось, теперь стояла рядом с ним, обвивала его, отделяла, как густой туман, душу его от вершины горы, к которой он припал.
И услышал он голос Духа. И ответил хаджи на этот голос голосом своей совести:
— Пусть молодое вернется к молодому и пусть у молодости будет то, что она боится потерять.
Если угодна была моя жизнь Аллаху, пусть Великий благословит мое моление.
И в молении, не знающем себя, душа святого стала медленно отделяться от земли и уноситься вдаль, в небесную высь.
И запел в третий раз муэдзин.
И голос с неба казался далеким эхом: — Да будет так.
С тех пор на гору к могиле святого ходят отузские женщины и девушки, когда хотят вернуть прежнюю любовь.
Крымские татары чтут могилы праведных людей — азизов. Признание азизом совершается обыкновенно после того, как несколько почтенных лиц засвидетельствуют, что видели на могиле зеленоватый свет и что над поклонявшимися могиле совершались чудеса. Если имя святого не сохранилось в народе, то азиз именуется по местности, где он погребен; так Святая могила на Папастепэ принадлежит неизвестному азизу. Но имя хаджи Курд-Тадэ приурочивалось к Святой могиле, почему и приводится это имя в легенде. Званиехаджи присваивается лицам, посетившим Мекку. Посещение этого священного города установлено ст. 192-м, гл. 2-й и ст. 91-м главы 3-й Корана. При возвращении хаджи из Мекки его встречает вся деревня с великим преклонением и провозглашением хаджи, освященным Св. Духом.
Минарет — каменная или деревянная башенка, с внутренней лестницей и балконом, откуда муэдзин совершает свой призыв.
Муэдзин — дьякон. В час молитвы он, после омовения, поднимается на минарет (могут и другие лица) и, обходя кругом балкончик, возглашает нараспев: “Великий Боже, исповедаю, что нет Бога — кроме Аллаха и Магомет его пророк”. Затем, оборачиваясь на восток, он называет иноверцев дурным народом, а на юг шлет призыв: “О, достойный народ, приходи к поклонению, приходи к спасению!”
Намаз — молитва. По учению Магомета намаз следует совершать пять раз в день, а именно: при заходе солнца, два часа спустя, перед рассветом, в полдень и в три часа пополудни.
Шайтан-сарай
— Расскажи, Асан, почему люди назвали этот дом — Чертовым.
Асан сдвинул на затылок свою барашковую шапку, было жарко, и усмехнулся.
— Расскажу — не поверишь. Зачем рассказывать!
Мы сидели под плетнем у известного всем в долине домика в ущелье Ялы-Богаз. Ущелье, точно талья красавицы, делит долину на две. На севере — отузская деревня с поселками, старые помещичьи усадьбы, татарские сады. На юге — виноградники, сбегающие по склонам к морю, и среди них — беленькие домики нарождающегося курорта.
Зная Асана, я промолчал.
— Если хочешь, расскажу. Только ты не смейся. Когда Шайтан где поселится, скоро оттуда не уйдет. Жил здесь грек-дангалак; клады копал. Нашел — не нашел, умер. Жил армянин богатый; людей не любил; деньги любил; умер. Потом чабаны собирались ночью, виноград воровали, телят резали, вместе кушали; друг друга зарезали. Так наши старики говорили. Потом никто не жил. Один чабан Мамут, когда на горе пас барашек, прятал в дом свою хурду-мурду. Еще хуже стало.
И Асан рассказал случай, имевший, как говорят, место в действительности.
— Видишь развалины на горе, под скалой? Там была прежде греческая келисе. Давно была. Теперь стенка осталась, раньше крыша держалась, свод был.
Один раз случилась гроза. Дождь большой пошел, вода с гор побежала, камни понесла. Мамут загнал барашек за стенку, сам спрятался под свод. Стоит, поет. Веселый был человек. Горя не знал. А дождь — больше и больше. — Анасыны, говорит. Надоело ему. Нечего было делать, в руках таяк, которым за ноги барашек ловят, давай стучать по стене. Везде — так: в одном месте — не так. Еще постучал.
— Может клад найду, — думает. Хочет выломать камень из стены. Вдруг слышит: — Эй, Мамут, не тронь лучше! Плохо будет. — Посмотрел — никого нет. Начал камень выбивать. — Не тронь, — слышит опять, — будешь богатым, червонцем подавишься.
Сплюнул Мамут. — Анасыны, бабасыны. Врешь, Шайтан, богатым всегда хорошо. Навалился как следует и сдвинул камень с места. Видит печь, а в ней кувшин с червонцами. Ахнул Мамут. Столько золота! На всю деревню хватит. Задрожал от радости, спешит спрятать клад, чтобы другие не увидели. Только камень назад не пошел. Высыпал все червонцы в чекмень, завернул в узел, под куст до вечера положил.
Дождь прошел, выгнал стадо пасти, а сам на куст смотрит. Куст горит — не горит, дымится. — Вай, Алла! Солнце еще высоко, в деревню не скоро; стал думать — какой богатый человек теперь будет. Принесет червонцы домой, отдаст жене: — На! Сам падишах больше не даст, а я, чабан, все тебе подарю. Положим — не подарю; только так скажу. Смеется сам. — Куплю себе дом в Ялы-Богазе; дом на дороге, открою кофейню; стадо свое заведу; чабаны свои будут. Ни одна овца не пропадет. Украдет чабан — сейчас поймаю. Первый богач в Отузах буду. Так думал Мамут, ждал, когда солнце за Папастепэ зайдет — гнать стадо домой. И гнал так, что сам удивлялся. Бежал сам, бежали барашки, бежали собаки.
Прибежал к себе домой, развернул на полу чекмень, позвал жену. — Смотри!
С ума сошла женщина от радости; побежала к соседке; та — к другой. Вся деревня собралась, поздравляют Мамута. Один имам прошел мимо, покачал головой; знал разные случаи.
Послал Мамут за бараниной. Десяток ок на червонец дали, бабам каурму велел варить. — Кушайте все, вот какой я человек, не как другие.
Стали хвалить Мамута: — Добрый человек, хороший человек, уважаемый будешь человек. Смотрели червонцы. Чужие, не похожи на турецкие. Сотский советовал позвать караима Шапшала. Шапшал виноград покупал, образованный человек был. Позвали. Обещал помочь. Скоро поедет в Стамбул, там разменяет на наши деньги. Только третью часть себе требует. Поторговались, сошлись на четвертой. Отдал Мамут все червонцы, себе немного на баранину оставил. Не спал ночью, все думал, “что много дал за хлопоты. Обидно было. Мучился человек.
На другой день стада не погнал. Когда богатый, разве будешь чабаном! Пошел дом торговать в Ялы-Богазе. Никто не жил в доме — дешево продали. Без денег, в долг купил. Мулла татарламу сделал по шариату. Мастеров нанял дом поправить. Без денег пошли, знали, что Мамут самый богатый человек на деревне.
Ждет Мамут караима Шапшала. Все не едет. Пришла ураза, нельзя целый день кушать. Недоволен Мамут, к баранине привык. Стал бранить потихоньку старый закон, а Шайтан смеется: — Скоро Мамут моим будет!
По ночам слышит Мамут чужой голос: — Обманул тебя Шапшал. Пропали червонцы. Никогда не увидишь их. — Хмурым встает по утру Мамут. Все радуются: скоро Курбан-байрам; Мамут сердит на всех, не думает о празднике.
Один раз в деревне услышали колокольчик. Приехал начальник. Бежит сотский за Мамутом.
— Иди, тебя зовет.
— Зачем?
— Ты клад, говорит, нашел, куда его девал?
Испугался Мамут.
— Скажи, не нашел.
— Как скажу? Ведь все знают.
— Ну, скажи, дома нет.
Почесал сотский затылок и пошел к начальнику.
А Мамут взял со стены ружье и ушел через сады в Ялы-Богаз.
Над ущельем нависла черная туча, темно стало; буря началась; вспомнил Мамут тот день, когда клад нашел.
Ветер деревья ломает, в трубе воет; собаки на дворе воют, нехорошо воют, покойника чуют.
Положил Мамут чекмень на пол, лег спать. Заснул, не заснул — не знает. Только видит в углу на корточках сидят гости: белый, черный, грек-дангалак, армянин-хозяин, зарезанные чабаны. Сидят, тихонько разговаривают, боятся разбудить Мамута. Пошевелился Мамут. Погладил длинную бороду белый.
— Мамут, к тебе пришли. Сначала я скажу, потом он скажет. Посмотрим, кого послушаешь…
Долго говорил белый, душу спасти просил, на мечеть мулле дать, бедному соседу дать, сироту в дом принять. Напишет мулла в Стамбул, поймают Шапшала, вернут в Отузы деньги. Не будет Мамут в тюрьме сидеть: начальника хорошо попросят. Когда начальника хорошо просить, начальник добрый будет.
Смеется черный. — Только Шапшала где теперь найдешь? Давно из Стамбула ушел. Хочешь деньги, можно иметь деньги. Скоро начальник поедет. Насыпь больше дроби в ружье. Близко поедет. Будет много денег.
Поднялся Мамут на ноги; точно провалились все его гости; только пол заскрипел. Слышит звенит колокольчик. Зарядил ружье, за окошко спрятался. Шагом едет начальник, дорога плохая. Вспомнил о Мамутовом кладе, оглянулся на дом. Блеснуло в окне что-то, пошел по горам гулять выстрел. Позади ехали верховые; бросились к дому, схватили Мамута, скрутили кушаком ему руки. Не боролся Мамут; знал, что пропал человек.
Сидит Мамут в тюрьме, ни пьет, ни ест, позеленел; всю ночь с кем-то разговаривает. Страшно караульному: один, а на два голоса разговаривает. Сумасшедший, думает. Вдруг, видит, стал Мамут рвать на себе шаровары, схватил что-то в руку, запрыгал от радости. Не стал караульный дальше смотреть, зашел за дверь; не видел, как вскочил к Мамуту зеленый Шайтан, как руку на плечо положил.
— Прячь скорей свой последний червонец; увидят — отберут. Прячь в рот.
Сунул Мамут в рот червонец. Зазвенел засов тюрьмы. Глотнул Мамут и удавился.
Узнали в деревне, что удавился червонцем Мамут, говорили: — Жадный был человек, глупый был человек, дом в Ялы-Богазе купить захотел. Кто в Ялы-Богазе может жить! Нечего жалеть такого человека!
С того времени никто в этом доме не живет и народ его называет Шайтан-сарай.
Помолчал Асан, а потом прибавил:
— Может быть и теперь Шайтан здесь живет. Кто знает! Когда Шайтан где станет жить, долго оттуда не уйдет!
Случай с кладом, найденным чабаном в стене развалины церкви Успенья Богоматери, рассказал в шестидесятых годах прошлого столетия феодосийский исправник Изнар. Развалины церкви на Келисэ-кая (церковная гора) сохранились и до наших дней.
Чабан — пастух.
Таяк (копыто) — посох с крюком, которым чабан ловит овцу за ногу.
Око — мера веса, три фунта.
Ураза, или рамазан-байрам — годовой праздник, который начинается с десятого новолуния и продолжается три дня. Празднику предшествует месячный пост, в течение которого татары от восхода солнца и до заката не едят, не пьют и не курят. Пост установлен в память поста Магомета на горе Хора, куда он удалился на сороковом году жизни для поста и молитвы на целый месяц. Относительно кладов у татар существует ряд поверий. Так, например, есть поверье, что если положивший клад умрет, сотворив заклятье, то такой клад переходит во власть Шайтана, и тогда нашедший клад и воспользовавшийся им, не зная заклятья, непременно погибнет.
Святая кровь
Что это за рой кружится над церковкой, старой туклукской церковкой греческих времен?i
Не души ли погибших в святую ночь Рождества!
Еще не знали в Крыму Темир-Аксака, но слух о хромом дьяволе добежал до Тавра, и поднялся в долине безотчетный страх перед надвигавшейся грозой.
Плакали женщины, беспокойно жались к матерям дети и задумывались старики, ибо знали, что когда набегает волна, — не удержаться песчинке.
Скорбел душой и отец Петр, благочестивый старец, не носивший зла в сердце и не знавший устали в молитве. Только лицо его не выдавало тревоги. Успокаивал до времени священнослужитель малодушных и учил мириться с волей Божьей, как бы не было тяжко подчас испытание. Так шли дни, близилось Рождество — праздник, который с особенной торжественностью проводили греки в Туклуке.
По домам готовились библейки, выпекалась василопита, хлеб св. Василия с монетой, которая должна достаться счастливейшему в Новом году.
Лучше, чем когда-либо, поднялся хлеб Зефиры, двадцатилетней дочери Петра, и мечтала Зефира, чтобы вложенная ею в хлеб золотая монета досталась юноше, которого ждала она из Сугдеи с затаенной радостью. Только не пришел он, как обещал. Стало смеркаться, зазвучало церковное било вечерним призывом, а юноши все не было. Склонив в печали голову, стояла в церкви девушка, слушая знакомые с детства молитвенные возгласы отца.
И казалось ей, что никогда еще не служил отец так, как в эту ночь. Точно из недр души, из тех далеких пределов, где человеческое существо готово соприкоснуться с божественным откровением, исходило его благостное слово.
Веяло от него теплом мира, и под песенный напев, в тумане сумерек, при мерцании иконостасных лампад, чудился кто-то в терновом венце, учивший не бояться страданий.
Каждый молился, как умел, но тот, кто молился, понимал, что это так.
Смолк священник, прислушался. С улицы доносился странный шум. Смутились прихожане. Многие бросились вон из церкви, но не могли разобрать, что делалось на площади. Они только слышали дикие крики, конский топот, бряцание оружия, проклятие раненых.
Побледнел, как смерть, отец Петр. Сбылось то, что поведал ему когда-то пророческий сон.
— Стойте, — крикнул он обезумевшей от ужаса толпе. — И слушайте! Бог послал тяжкое испытание. Пришли нечестивые. Только вспомним первых христиан и примем смерть, если она пришла, как подобает христианам. В алтаре, под крестом, есть подземелье. Я впущу туда детей и женщин. Всем не поместиться, пусть спасутся хоть они.
И отец Петр, сдвинув престол, поднял плиту и стал впускать детей и женщин по очереди.
— А ты? — сказал он дочери, когда она одна осталась из девушек. — А ты?
— Я при тебе, отец.
Благословил ее взором отец Петр и, подняв высоко крест, пошел к церковному выходу.
На площади происходила последняя схватка городской стражи с напавшими чагатаями Темура.
С зажженной свечой в одной руке и крестом в другой, с развевающейся белой бородой, в парчовой ризе, стоял отец Петр на пороге своей церкви, ожидая принять первый удар.
И когда почувствовал его приближение, — благословил всех.
— Нет больше любви, да кто душу свою положит за други своя.
И упал святой человек, обливаясь кровью, прикрыв собой поверженную на пороге дочь. Слилась их кровь и осталась навеки на ступенях церковки.
И теперь, если вы посетите эту деревню, маленькую церковку, вы, если Господь осенит вас, увидите следы святой крови, пролитой праведным человеком когда-то, много веков назад, в ночь Рождества Христова.
В двух верстах от деревни Козы, в сторону Судака, находится небольшая деревня Токлук. На бугре, при въезде в деревню, стоит древняя церковка святого Ильи, очень почитаемая местным населением. На каменной плите порога показывают след крови, пролитой некогда в ночь Рождества. В. X. Кондараки в ч. 1-й Универсального описания Крыма (ст. 251), говоря об этой церковке, приводит легенду об убиении в ее алтаре мусульманами священника при занятии Феодосии русскими войсками. Но местная уроженка Панцехрия Ставра-Цирули рассказывала, что священник был убит во времена Темура Аксака. Нашествие Темура, владетеля чагатаев, на Персию и Русь относится, как известно, к 1390 годам.
Василопита — хлеб в честь святого Василия, начиненный пережаренною на масле мукою с медом. В василопиту кладут одну или две серебряные монеты. На новый год хозяин дома разрезает василопиту на куски по числу членов семьи и домочадцев. Верят, что кому достанется монета, тот будет счастлив в новом году. Если же монета попадет под нож, то жизнь кого-нибудь из членов семьи будет в том году пресечена.
Письмо Магомету
Татары говорят: мир людей — точильное колесо, оно выгодно тому, кто умеет им править.
Фатимэ, жена Аблегани, варила под развесистой орешиной сладкий бекмес из виноградных выжимок и думала горькую думу.
Три года не прошло, как праздновали ее той-дугун.
Первая красавица деревни, как персик, который начинает поспевать, она выходила замуж за первого богача в долине. Свадебный мугудек, обвитый дорогими тканями и шитыми золотом юзбезами, окружало более ста всадников. Горские скакуны, в шелковых лентах и цветных платках, обгоняли в джигитовке один другого. Думбало било целую неделю и чалгиджи не жалели своей груди.
Завидовали все Фатимэ, завидовала в особенности одна с черными глазами и сглазила ее. Как только вышла Фатимэ замуж, так и пришла болезнь.
Звали хорошего экима лечить, звали муллу читать — не помогло. Возили на святую гору в Карадаг, давали порошки от камня с могилы — хуже стало.
Высохла Фатимэ, стала похожа на сухую тарань.
Перестал любить ее Аблегани; сердится, что больная у него жена; говорит, как сдавит вино в тарапане, возьмет в дом другую жену.
— Отчего так, — думала Фатимэ. — Отчего у греков, когда есть одна жена, нельзя взять другую; у татар — можно? Отчего у одних людей — один закон, у других — другой?
Плакала Фатимэ. Скоро привезут из сада последний виноград, скоро придет в дом другая с черными глазами. Ее ласкать будет Аблегани; она будет хозяйкой в доме; обидит, насмеется над бедной, больной Фатимэ, в чулан ее прогонит.
— Нет, — решила Фатимэ, — не будет того, лучше жить не буду, лучше в колодец брошусь.
Решила и ночью убежала к колодцу, чтобы утопиться.
Нагнулась над водой и видит Азраила; погрозил ей Азраил пальцем, взмахнул крыльями, как нежный голос коснулся ее сердца, и унесся к небу, на юг.
Схватились старухи, что нет дома Фатимэ, бросились искать ее и нашли на земле у колодца; а в руках у нее было перо от крыла, белее лебединого.
Умирала Фатимэ, но успела сказать, что случилось с ней. Собрались козские женщины, всю ночь говорили, спорили, ссорились, жалели Фатимэ, думали, что и с ними может то же случиться. И вот нашлась одна, дочь эфенди, которая знала письмо — ученой была.
— Скажи, — спрашивали ее, — где написано, чтобы когда жена больной, старой станет, муж брал новую в дом. Где написано?
— Захотели — написали, — ответила дочь эфенди. — Мало ли чего можно написать.
— Вот ты знаешь письмо, напиши так, чтобы муж другую жену не брал, когда в доме есть одна.
— Кому написать? — спросила Зейнеп. — Падишаху? Посмеется только. У самого тысяча жен, даже больше.
Задумались женщины. Но нашлась, которая догадалась.
— Кто оставил Фатимэ перо? Ангел. Значит — пиши Пророку. Хорошо только пиши. Все будут согласны. Кто захочет, чтобы муж взял молодую хары, когда сама старой станешь. Пиши. Все руку дадим.
— А пошлем как?
— С птицей пошлем. Птица к небу летит. Письмо отнесет.
— Отцу нужно сказать, — проговорила Зейнеп.
— Дура, Зейнеп. Отцу скажешь — все дело испортишь. Другое письмо напишет, напротив напишет.
Уговаривали женщины Зейнеп, обещали самую лучшую мараму подарить и уговорили.
Села на корточки Зейнеп, положила на колени бумагу и стала писать белым пером ангела письмо Магомету.
Долго писала, хорошо писала, все написала. Замолчали женщины, пока перо скрипело, только вздыхали по временам.
А когда кончили — перо улетело к небу догонять ангела.
Завязала Зейнеп бумагу золотой ниткой, привязала к хвосту белой сороки, которую поймали днем мальчишки, и пустила на волю.
Улетела птица. Стали ждать татарки, что будет. Друг другу обещали не говорить мужьям, что сделали, чтобы не засмеяли их.
Но одна не выдержала и рассказала мужу.
Смеялся муж; узнали другие, потешались над бабьей глупостью, дразнили женщин сорочьим хвостом. А старый козский мулла стал с тех пор плевать на женщин.
Стыдились женщины, — увидели, что глупость сделали; старались не вспоминать о письме.
Но мужья не забывали и, когда сердились на жен, кричали: — Пиши письмо на хвосте сороки.
Выросла молодежь и тоже, за отцами, стыдила женщин. Смеялись и внуки и, смеясь, не заметили как не стало ни у кого двух жен, ни в Козах, ни в Отузах, ни в Таракташе.
Может быть баранина дорогой стала; может быть мужчинам стыдно стало, может быть ответ пророка на письмо пришел.
Не знаю.
Легенду эту сообщил козский учитель Мемет-эфенди. П. И. Сумароков полагал, что деревня Козы есть древняя Козия, быть может Гозия или Готия. П. Коппен хотел видеть в этом случае половецкое имя, дошедшее до нас в “Слове о полку Игореве”. Кёз — означает впадину, лощину между двумя горами. Это одна из горных деревень, где сохранился во всей неприкосновенности древний уклад жизни, между прочим и свадебный той-дугун. Богатая свадьба — целое событие для жителей долины. Свадебный пир продолжается неделю и больше. Невесту везут на крытой коврами и разукрашенной мажаре (повозке) — мугудек, в сопровождении конных джигитов и всего населения деревни, причем джигиты получают подарки, шитые золотом и шелками платки и полотенца — юзбезы. При свадебном кортеже идут музыканты — чалгиджи.
Тарапан — составленный из каменных плит ящик, в котором татары давят ногами вино. Тарань (Cyprinus Vimba) — рыба из породы карповых, популярное блюдо на юге.
Лечение порошком от мрамора, взятого с христианской могилы, применяется при лихорадках, горячке и др. истощающих болезнях. На карадаге был, по преданию, похоронен святой человек, Кемал-бабай. Татары рассказывают, что за несколько дней до смерти азиза он сказал, чтобы его похоронили там, где упадет его палка. Брошенная им затем палка полетела на гору, упала у ручья, где и был похоронен азиз и куда теперь стекаются больные из разных местностей Крыма в надежде на исцеление. Многоженство допускается религией Магомета, у которого была двадцать одна жена. Однако в ст. 3-м главы 4-й Корана сказано: если боитесь быть несправедливыми, не женитесь более как на трех или четырех женщинах; если все-таки убоитесь этого, то берите одну жену или невольницу. Ныне у крымских татар многоженство встречается лишь как исключение.
Азраиль — ангел смерти, один из двух, особенно чтимых из бесчисленного сонма ангелов. По доверию Аллаха он исторгает душу из человеческого тела.
Разбойничья пещера
Много лет прошло, как увезли в Сибирь Алима, а старокрымская гречанка, укачивая дитя, все еще поет песенку об удальце, который не знал пощады, когда нападал, но глаза которого казались взглядом лани, когда он брал на руки ребенка.
И в долгие зимние вечера, когда в трубе завывает ветер и шумит недобрым шумом бушующее море, татары любят, сидя у очага, послушать рассказ старика о последнем джигите Крыма — Алиме, которым гордились горы, потому что в нем жило безумие храброго и потому, что никогда не знали от него обиды слабый и бедняк.
Шел прямо к сердцу Алимов кинжал, взмах шашки его рассекал пополам человека и заколдованная пуля умела свернуть за скалу, чтобы настичь укрывшегося.
Как грозы боялись люди Алима и во всей округе только один человек искал встречи с ним. То был старый карасу-базарский начальник, о котором рассказывали, что кулак его тяжелей кантарной гири, а от острого взгляда его не укрыться даже под землей.
Семь лет подряд только о нем да об Алиме говорил Крым; семь раз за эти годы попадал Алим в руки стражей и семь раз, разбив кандалы, успевал бежать в таракташские леса, в ногайскую степь. А в горах и в степи вся татарская молодежь стояла за него и старые хаджи, совершая намаз, призывали лишний раз имя Аллаха, чтобы он оградил Алима от неминуемой беды.
Нависла над ним черная туча и знали об этом мудрые старики.
Ибо нельзя было плясать на одной веревке двум плясунам, как говорил отузский мулла.
В тот год стояла в Крыму небывалая стужа; терпел бедняк, но было не лучше богачу, так как по дорогам шел стон от Алимова разбоя.
Алима видели в разных местах, появлялся он в местечках и городах, и был даже слух, что заходил к самому карасубазарскому начальнику — предлагал ему выдать Алима.
Говорили в народе, что начальник сказал: — Будет Алим в моих руках — сто карбованцев тебе. — Засмеялся Алим и крикнул начальнику: — Вот был Алим в твоих руках, да не умел ты взять его. — Прыгнул в окно и ускакал из города.
Не догнала погоня. Белый конь Алимов был о трех ноздрях, с тремя отдушинами в груди, чтобы три дня мог скакать без отдыха.
Тогда двинули со всех сторон стражей и окружили таракташский лес.
Но Алима не нашли. Успел вовремя предупредить отузский кефеджи, и Алим ушел в Кизильташ. Там была пещера, где укрывались разбойники в ненастье и откуда шел ход в подземелье. А в подземелье хранились Алимова добыча и запасы. Была и другая пещера со святой водой, которая исцеляла раны и удваивала силы людей.
Здесь в Кизильташе притих на время Алим. Знали об этом только отузский кефеджи, да его подручный Батал. Но Батал готов был скорее проглотить свод язык, чем выдать Алима. Любил и баловал Алим его сиротку, маленькую Шашнэ и слал ей через отца то турецкую феску, то расшитые папучи, то золотую серьгу. Хвастала Шашнэ, показывая подругам новые подарки. Будет большой — весь кизильташский клад отдаст ей Алим и сам женится на ней. Услышала о том дочь грека дангалака, сказала отцу. Отец боялся Алима и не любил его, потому что когда боишься, — всегда не любишь.
И к тому же была между ними кровь: убил Алим в разбое родича дангалака. Чуть свет поскакал дангалак в город, а к вечеру в Отузы прибыл начальник и собрал сход.
Коршуном поглядел он на татар.
— Чтобы курица из деревни не вышла, чтобы голубь за околицей не парил, пока Алим не будет в моих руках.
И поняли татары, что пришел Алиму конец.
Никто не спал в деревне в эту ночь. Визжал вихрем Шайтан по дороге, ломал деревья по садам, мертвым стуком стучал в дверь труса и кидался на прохожего бешеным ливнем.
Жутко было идти стражам по кизильташской тропе. Жутью дышал лес нагорья и гулом гудел обложной дождь, сбегая тысячью потоков в ущелья кизильташской котловины.
Не ждали разбойники в эту ночь никого и, укрывшись в чекмени, спали в Разбойничьей пещере вокруг догоравшего костра.
Спал и Алим зыбким сном. Видел, будто забыл испить к ночи святой воды, как делал всегда, и вбегает в Святую пещеру, но в источнике, вместо воды, кипит кровь. А сверху, со скал, свесились кольцами черные змеи, и одна из них, скользкая и холодная, обвила его шею узлом.
Вскрикнул Алим от боли, открыл глаза и увидел над собой громадного человека, который давил ему грудь и сжимал горло.
Выскользнул Алим, но удар под сердце лишил его сознания. А когда очнулся, то лежал уже связанным вместе со всей шайкой.
— Здравствуй, Алим, был ты у меня в гостях, теперь, видишь, я к тебе пришел, — говорил над ним кто-то.
Потемнело опять в глазах Алима, а когда вновь пришел в себя, был день и несли его на носилках вдоль деревенской улицы. Точно вымерла вся деревня. Ни души не было видно, прятались все от взора начальника. Посмотрел начальник на Алима, точно что-то спросил, и ответил Алим взором: — Знаю, не будет больше джигитов в Крыму.
А к полудню у сельского правления собрались арбы, к которым были прикованы разбойники. В кандалах лежал Алим и с ним кефеджи с Баталом. Все было готово, чтобы тронуться в путь. Собралась вся деревня, вышел из правления начальник; плакала, ласкаясь к отцу, Баталова Шашнэ.
— Не плачь, — сказал начальник девочке, — скоро отец вернется, — и, посмотрев на Алима, добавил: — Чуть, было, не забыл, за мною ведь долг. Помнишь, я обещал, когда Алим будет в моих руках, сто карбованцев тебе? Алим в моих руках, — деньги твои.
— Отдай их ей, — показал Алим на девочку. Арбы медленно двинулись в путь и уже навсегда увезли из гор Алима.
Кизильташ лежит в семи верстах от Отуз, в сторону от Феодосийско-Судакского шоссе. Со времени Севастопольской войны здесь учрежден монастырь. Богомольцы после службы обыкновенно посещают монастырские пещеры, из которых одна называется Святой, а другая Разбойничьей.
П. Кеппен в 1837 г., когда еще не было монастыря, писал, что “близ Отуз верстах в шести от деревни, несколько вправо от дороги таракташской, есть в скале Кызылташской пещера глубиной на семнадцать шагов, которая иногда привлекает к себе богомольцев. В конце оной на столе, заменяющем алтарь, при образе лежит обломок беломраморной плиты величиною вершков в пять, на коем иссечен лик какого-то святого, судя по венцу, окружающему главу”. (П. Кеппен. Крымский сборник, 37.) На кустах у этой пещеры посетитель видит множество разноцветных лоскутков, которые богомольцы отрывают от платья больного и вешают на кусты, помолившись об исцелении его у источника в пещере.
Разбойничья пещера находится ниже Святой. Ее образуют две огромные сброшенные скалы. Предание об этой пещере сообщил местный грек Петр Егорьевич Джеварджи. Это предание связано с именем разбойника Алима, хорошо известного Крыму по народному рассказу и песням. Поют о нем и татарские чалгыджи на пирах, и местные гречанки, укачивая детей. Алим, из деревни Зуя под Симферополем, разбойничал в Крыму в сороковых годах прошлого столетия. Это был последний из джигитов, с которыми русской власти пришлось считаться после присоединения Крыма к России. Он пользовался огромной популярностью и несомненной поддержкой среди татарского населения края. До безумия смелый и дерзкий, Алим, говорят, отваживался вступать в открытую борьбу с небольшими отрядами войск, был не раз окружен и схвачен, но каждый раз бежал из тюрьмы, пока, наконец, в 1850 г., по наказании шестью тысячами ударов розог, был сослан на каторгу. Карасубазарским начальником в то время был Павел Михайлович Жизневский, славившийся богатырской силой.
Кефеджи — содержатель кофейни.
Грибы отца Самсония
В те времена, когда Кизильташ был еще киновией, и все население его состояло из десятка монахов, епархиальное начальство прислало туда на эпитимию некоего отца Самсония.
В киновии скоро полюбили нового иеромонаха, полюбили за его веселый, добрый нрав, за сердечную простоту и общительность. В свой черед и отец Самсоний привязался к обители, которой управлял тогда великой души человек — игумен Николай. Сроднился с горами, окружавшими высокой стеной монастырь; сжился с лесной глушью и навсегда остался в Кизильташе.
В монастырь редко кто заглядывал из богомольцев; соседи татары относились к нему враждебно, и монахам приходилось жить лишь тем, что они могли добыть своим личным трудом.
Только раза два-три в год наезжала помолиться Богу, а кстати по ягоду и грибы, местная отузская помещица с семьей, и тогда дни эти были настоящим праздником для всех монахов и особенно для отца Самсония.
Монахи слышали звонкие женские голоса, общались со свежими наезжими людьми, которые вносили в их серую, обыденную жизнь много радости и оживления. А отец Самсоний знал, как никто, все грибные и ягодные места, умел занять приветным словом дорогих гостей и потому пользовался в семье помещицы особым расположением.
Уезжая из обители, гости оставляли разные съедобные припасы, которые монахи экономно сберегали для торжественного случая.
Так шли годы, и как-то незаметно для себя и других, молодая, жизнерадостная помещица обратилась в хворую старуху, а отец Самсоний стал напоминать высохший на корню гриб, не нужный ни себе, ни людям. Почти не сходил он со своего крылечка, обвитого виноградной лозой. И если воскресал в нем прежний любитель грибного спорта, то только тогда, когда приезжали по грибы старые отузские друзья.
И вот однажды, когда настала грибная пора, игумен, угощая отца Самсония после церковной службы обычной рюмкой водки, сказал:
— По грибы больше не поведешь.
— Почему?
— Еле ноги волочит. Не дойду, говорит, а был ей будто сон: в тот год, когда по грибы не пойдет, — в тот год и помрет. Сокрушается.
Жаль стало отцу Самсонию, не из корысти, а от чистого сердца; сообразил он что-то и стал просить:
— А вы ее, отец игумен, все-таки уговорите; грибы будут сейчас за церковью, в дубняке.
— Насадишь, что ли? — усмехнулся отец Николай и обещал похлопотать.
И действительно помещица, к общему удивлению, собралась и приехала со всей семьей в монастырь.
Обрадовались все ей, радовалась и она, услышав знакомый благовест монастырского колокола. Точно легче стало на душе и притихла на время болезнь.
— Ну вот и слава Богу, — ликовал, потирая руки, отец Самсоний.
— Отдохните, в церкви помолитесь, а завтра по грибы.
А сам с ночи отправился в грибную балку у лысой горы и к утру, когда еще все спали, успел посадить в дубняке, за церковью, целую корзину запеканок.
Только что кончил свои хлопоты, как ударил колокол. Перекрестился отец Самсоний и сел под развесистым дубом отдохнуть. От усталости старчески дрожали руки и ноги и колыхалось, сжимаясь, одряхлевшее сердце. Но светло и радостно было на душе, потому что успел сделать все, как задумал. Глядишь, с верхней скальной кельи спускается суровый схимник, старец Геласий. Побаивался отец Самсоний старца и избегал встречи с ним. Всегда всех корил Геласий и никто не видал, чтобы он когда-нибудь улыбнулся.
— Мирской суетой занимаешься. Обман пакостный придумываешь. Посвящение свое забыл. Тьфу, прости Господи, — отплюнулся старец и побрел в церковь.
Упало от этих слов сердце у отца Самсония, ушла куда-то светлая радость и не вернулась, когда очарованная старуха, срывая искусно насаженную запеканку, воскликнула:
— Ну, значит, еще мне суждено пожить. А я уж и не чаяла дотянуть.
— Да что с тобой, отец Самсоний, — добавила она, поглядев на Самсония.
— Нездоровится что-то. Состарился, сударыня.
И хотел подбодриться, как видит, возвращается Геласий из церкви, к ним присматривается. Остановился, погрозил пальцем.
— Где копал, там тебя скоро зароют.
Испугался Самсоний пророческому слову старца. Всегда сбывалось оно…скоро зароют.
— Да что с тобой сталось, отец Самсоний, — допытывалась помещица, уезжая из монастыря.
А к ночи отец Самсоний почувствовал себя так плохо, что вызвал игумена и поведал ему о своем тяжком нездоровьи, о том, как корил и что предрек ему Геласий и как неспокойно стало у него на душе.
— Ну, грех не велик, — успокаивал добрый игумен, — а за светлую радость людям тебя сам Бог наградит.
Пошел игумен к Геласию, просил успокоить болезнующего, но не вышло ничего. Отмалчивался Геласий и только, когда уходил игумен, бросил недобрым словом:
— На отпевание приду.
И случилось все так, как предсказал Геласий.
Недолго хворал отец Самсоний и почувствовал, что пришла смерть. Отсоборовали умирающего, простилась с ним братия, остался у постели один иеромонах и стал читать отходную.
Вдруг видит — поднялся на локтях Самсоний, откинулся к стене, а на стене висела вязка сухих грибов, и засветились они, точно венец вокруг лика святого. Вздохнул глубоко Самсоний и испустил дух.
Рассказали монахи друг другу об этом и стали коситься на Геласия, а Геласий трое суток, не отходя от гроба, клал земные поклоны, молился и шептал:
— Ушел грех, осталась святость.
Как понять — не знали монахи, и была между ними тревога и жуть.
Еще больше пошло толков, когда, придя на девятый день к могиле отца Самсония, — а похоронили его, по указанию схимника, в дубняке, за церковью, — увидели, что у могильного креста выросли грибы.
Повырывал их Агафангел иеродиакон, игумен окропил место святой водой, соборне отслужили сугубую панихиду.
А на сороковой день повторилось то же, и не знали, что думать, — по греху ли, по святости совершается.
Пошли у монахов сны об отце Самсоний; стали поговаривать, будто каждую ночь вырастают на могиле его грибы, а к последней звезде ангел Божий собирает их, и светится все кругом.
Стали замечать, что если больному отварить гриб, сорванный вблизи могилы, то тому становится лучше.
Так говорили все в один голос, и только Геласий схимник хранил гробовое молчание и никогда не вспоминал об отце Самсонии.
И вот, как раз в полугодие кончины Самсония, случилась с Геласием беда. Упал, сходя с лестницы, сломал ногу и впал в беспамятство. Собрались в келье старца монахи — не узнал никого Геласий, а когда игумен хотел его приобщить, оттолкнул чашу с дарами.
Скорбел игумен и молил Бога вразумить старца. Коснулась молитва души Геласия, поднялись веки его, принял святые дары, светло улыбнулся людям и чуть слышно прошептал:
— Помните грибы отца Самсония. То были святые грибы.
После сожженного в 1866 году татарами игумена Парфения и в течение последующей четверти века настоятелем Кизильташской киновии был игумен Николай, о котором все окрестное население доселе вспоминает с благоговением, как о светлом и гуманном человеке, отличавшемся необыкновенной добротой и отзывчивостью. Отец Самсоний жил в киновии в шестидесятых годах прошлого столетия. Эпизод с грибами, украшенный впоследствии легендарными подробностями, имел место в действительности.
Мыс Ильи
Чем ближе к Ильину дню, тем ниже нависают облака, душнее становится воздух и чаще ночные грозы.
А в Ильин день потемнеют облака, забегают змеи молний и треском громовых раскатов напомнит о себе пророк.
Беда попасть тогда в море. Хорошо, если только сорвет снасти, Иной раз закружит судно, швырнет на скалу и щепками выбросит у мыса Ильи.
Помолись, моряк, на церковь пророка — не случилось бы несчастья.
А видна та церковь с большого расстояния, хотя и не велика она. Такая, какие строили в древние времена.
В те времена, когда верили в Верхнюю силу и знали свою слабость перед Ней. Хотя и были смелыми, пожалуй, смелей, чем теперь.
Не выдумали люди, что Илья, сын Тамары, построивший церковь, в открытое море ходил на дощанке.
А когда стал богатым и приобрел свой корабль, в самую страшную бурю не боялся оставить гавань и в декабрьский шторм поднимал паруса.
Но раз случилось выйти под пророка Илью.
Освирепело в тот день море, озлились небеса и попрятались люди в жилища. А Илья Тамара поднял сразу флакос и тринесту и белой чайкой унесся в волну.
Кто рискнул бы сделать это теперь? Разве только сумасшедший.
Далеко ушел Тамара в море, не стало видно берегов. Не знал он опасности и не верил в рыбачью сказку об Илье.
— И молния, и гром от облаков.
И когда подумал так, накатился на судно вал выше мачты намного мер.
— Васта темони, клади руль, — крикнул Тамара рулевому, но оторвался руль, и понеслось судно по воле ветра к береговой скале.
Понял Илья, что близка гибель, и в испуганной душе шевельнулось сомнение, не карает ли его пророк за неверие.
И в ту же минуту пронесся с севера на юг громовой раскат, и над мысом, где теперь церковь Ильи, в пламени и тысячах искр опустилась огненная колесница.
— Илья! — воскликнул Тамара, и подумал в душе: — На том месте, где видел его, построю ему церковь, хотя бы пришлось для того продать корабль.
Матим бистин, своей верой клянусь в том.
Не успела остыть эта мысль, как примолкла гроза, и ветер с берега погнал волну в море, а с нею и Тамарин корабль.
— Васта темони, — прозвучал над Тамарой чей-то грозный голос, и увидел себя Тамара стоящим у руля, который, подплыв к судну, стал на свое место.
К вечеру достиг Тамара Сугдеи, сдал товар и, нагрузившись новым, вернулся в Кафу.
Не рассказал, однако, никому о случившемся, пожалел продать корабль и решил заработать прежде побольше денег и тогда построить храм.
Сначала решил так, но вскоре передумал.
— Не может быть, чтобы все это случилось. Просто приснилось. Колокитья!
И, успокаивая себя так, он со временем забыл о своей клятве.
Все шло хорошо; за десятки лет ни один из кораблей его не потерпел крушения, и Илья Тамара стал богатейшим купцом Кафы.
Однако в душе, помимо воли, жило что-то, что напоминало о случае в молодые годы. Не любил Тамара смотреть на гору, где было ему видение, и избегал выходить в море под Ильин день.
Но однажды, незадолго до этого дня, пришлось ему возвращаться от Амастридских берегов.
— Да будет благословенно имя Георгия, патрона той страны!
Попутный ветер резко нес корабль и вдали стали уже синеть Таврские горы.
И вдруг сразу стих ветер, точно смело его с моря, и корабль попал в мертвый штиль.
Больше всего боятся его моряки, но наступал Ильин день, когда по всему Понту носится ветер, и Тамара спокойно лежал на корме.
Он подсчитывал барыши и, закончив подсчеты, улыбнулся торговой удаче.
— Не нужно быть знатным, не нужно быть ученым, чтобы хорошо жить. Нужно только быть умнее других, чтобы пользоваться их глупостью. Алю пулунде грамата, алю полите гносис!
— Скверная мысль, — сказал кто-то в душе его, и вздрогнул Тамара.
Поднялся с ложа, посмотрел на берег. Оттуда медленно надвигались тучи, и зарница сверкала зловещим глазом.
Побежала по морю предветренная рябь, за нею береговик погнал волну.
Корабль поднял все паруса и взял нос на восток, где была Кафа, но, попав в странное течение, не мог далеко уйти.
А ветер быстро крепчал, недобрым шумом гудело морс, воздух шипел и свистел, завывая.
Не выдержала порыва главная мачта и обломилась.
— Плохо дело!
И в последнем сумеречном свете увидели гору, где когда-то случилось видение.
Вспомнил о нем Тамара и смутился духом. Настала темнота, нельзя было видеть своей руки; ливень заливал потоками палубу; волна била через борта и в трюмах появилась течь. Истрепались в клочья штормовые паруса; не слушался корабль руля, как гнилая нитка, оборвалась якорная цепь, когда нагнало корабль к берегам и попытались бросить якорь.
— Одно чудо может спасти!
И молили люди о чуде; умоляли Илью смягчить гнев; обещали весь первый улов отдать на свечу ему.
А Тамара упал на колени и в сердце своем поклялся выполнить, что обещал когда-то в своей юности.
Огненная молния рассекла небо, опалила воздух, озарила корабль и скалы, среди которых он носился; в последнем зигзаге скользнула по мачте и загорелась сиянием впереди судна.
Кто-то грозный и гневный поднял над кораблем руку. Сверкал молниями его взгляд; в бешеном порыве рвалась борода; готовы были открыться уста для гибельного слова.
— Элейсон имас, Кирие! Помилуй нас!
Опустилась рука проклятия и указала погибавшим путь спасения.
В стороне зажглись кафские огни и… потухло сияние.
Как убитые, заснули дома корабельные. Не заснул только старик Тамара. Стоял у городского храма и шептал слова тропаря:
— Почитающих тебя, Илья, исцели.
Стоял всю ночь и утром нашли его на том же месте. Не узнали его, так изменился он. Покоем величия дышало его. лицо и близостью Неба светились глаза.
И когда через год иконный мастер писал образ пророка Ильи для нового храма, который построил на горе Тамара, это с него он написал лик пророка.
Оттого не видно гнева в пророческих глазах и нет страха, когда смотришь на икону.
Умер Тамара глубоким стариком и под конец дней своих избегал говорить о пережитом, но люди читали об этом в чистом взоре его.
Ибо взор души человеческой проникает часто глубже, чем подсказывает речь.
Солдаткин мост
Теперь пройти ночью не страшно, кругом все застроено. А раньше был пустырь и над обрывом стояла кузница, а в кузнице жил цыган-кузнец.
Бил молотом кузнец по наковальне, летели в стороны искры. Скалил зубы цыган, хохотал.
— Хватить по голове, мозги, как искры, разлетятся.
— А, чтоб тебе! — говорили люди и избегали без надобности ходить к кузнецу.
Недалеко жила молодая солдатка. Муж ушел на войну в Туретчину, и два года не было вести о нем.
— Верно, убили, а не то — так просто помер.
Приглянулась солдатка цыгану, стал он к ней захаживать. Когда орехов, когда чего другого носил.
Уклонялась солдатка от ласки и не хотела, чтобы цыган вовсе перестал к ней ходить.
Вертелась, вертелась и забеременела.
— Что будем делать, если солдат вернется? — боялась солдатка.
А цыган хохотал:
— Ребенка под мост — и концы в воду. Чего, дура, робеешь.
И пришло время родить. Мучилась, мучилась солдатка и родила девочку.
Беленькую, не на цыгана, на солдата похожую.
— Не моя дочь, — верно, с кем блудила.
Толкнул женщину ногой и унес девочку к мосту; привязал к ней камень и швырнул в место поглубже.
И ударили в это время в ночной пасхальный колокол.
Вскрикнуло дитя и замолкло.
— Куда ты дел девочку, — допытывалась солдатка. — Хоть бы покрестили ее, нехристь ты этакий!
— Покрестил сам ее, — хохотал злее прежнего цыган.
Недолго пожила солдатка и умерла; все хотела позвать свою доченьку, но не знала, как позвать, потому что не было у нее христианского имени.
Прошло много лет. Из молодого цыган старым стал, и таким неприятным, что не дай Бог на ночь встретится. Не заснешь потом.
В народе дурно говорили о нем. Было много обид всяких. И один парень не стерпел, хватил его молотом по голове и разлетелись мозги, как искры от наковальни.
А вскоре развалилась и цыганская кузница.
Судили парня и засадили в острог. Но в ночь под Пасху зазевался надзиратель, и убежал парень из острога.
Убежал и спрятался под мост.
Искали — не нашли.
— Убежал, видно, в горы.
Лежит парень под мостом и слышит, как ударил пасхальный колокол.
Перекрестился парень.
— Христос воскресе!
И почудилось ему, будто из тины за мостом кто-то ответил:
— Во истину.
Примолкнул парень, боялся шевельнуться. Стих ветер выглянула из-за туч луна, осветила местность.
И увидел парень, как вместе с туманом поднялась от ручья девушка в белом и потянулась к нему.
— Кузнецова дочь я, имени нет у меня, потому что некрещеной бросили. Мучаюсь я. Похристосуйся со мной, умру я тогда христианкой. Так сказано мне.
Поднялись у парня волосы дыбом, и бросился он бежать от моста. И сколько времени бежал — не помнил, и куда бежал — не соображал.
Очнулся в острожной больнице, рассказал все, что случилось с ним. Только никто не поверил, а за побег дали ему сто плетей.
Однако, хоть и не поверили, все же стали говорить один другому о некрещеной дочери солдатской, и под следующую Пасху никто не пошел через мост.
Разговелся острожный надзиратель и стал хвастать, что пойдет на мост и ничего с ним не случится.
И пошел.
Идет, а у самого сердце бьется. Кто шел позади — поотстал, а впереди собака воет, и пасхальный звон похоронным кажется,
Стал подходить к мосту: не мост, а снежная белизна.
Присмотрелся и видит — красавица стоит, волосы длинные распущены.
Стоит в одной рубахе, дрожит, руки вперед простирает.
— Пошли, говорит, ко мне такого, чтобы еще ни с кем не похристосовался. Похристосуется со мной, помру христианкой, и мать на место в гробу ляжет.
Не слушал дальше надзиратель, убежал к себе в острог и со страха запер сам себя в одиночную.
И с тех пор стало всем известно, что каждый год в пасхальную полночь ищет девушка у моста, чтобы кто-нибудь похристосовался с нею, с первой. И не может найти такого храброго, чтобы не побоялся спасти ее, хотя бы пришлось самому умереть.
Застроился город; кругом моста выросли дома. Живут в них новые люди и не знают, что случилось некогда у моста,
Только одна старуха помнит, как рассказывала ей о несчастной солдатской дочке бабка ее и будто бы, рассказывая, добавляла:
— Все же дождалась несчастненькая. Вернулась с чужбины душа солдатская, возвратился старый солдат взглянуть на свои родные места. Под Пасху, в самую полночь вступил он на мост.
Бросилась к нему девушка и рассказала все. Не смутилась душа солдатская. Храбрость с жалостью в ней вместе жила.
— Христос воскресе!
И трижды похристосовался солдат с дочкой солдатской.
И успокоились оба навеки.
Карадагский звон
Капитан Яни лежит у костра, смотрит на гору.
— Как камбала, капитан Яни?
— А, чатра-патра… Плохо, неплохо! Куда идешь?
— В Карадаг. Там, говорят, в сегодняшнюю ночь слышен звон.
— Энас нэ аллос охи. Один слышит, другой — нет.
— Откуда звон? Из Кизильташа?
Капитан Яни отворачивается, что-то шепчет.
— Оттуда, — показывает он на море. — Может быть, даже из Стамбула.
Мы некоторое время молчим, и я смотрю на Карадаг.
Отвесными спадами и пропастями надвинулся Карадаг на берег моря, точно хотел задавить его своей громадой и засыпать тысячью подводных скал и камней.
Как разъяренная, бросается волна к подножью горного великана, белой пеной вздымается на прибрежные скалы и в бессилии проникнуть в жилище земли сбегает в морские пучины.
Капитан Яни подбрасывает в костер сушняку и крутит папироску.
Я ложусь на песок рядом с ним.
— А ты сам слышал?
— Когда слышал, когда нет.
Темнеет. Черной дымкой подернулся Отузский залив; черной мантией укрывает Карадаг глубины своих пропастей.
Капитан Яни медленно говорит, вставляя в речь греческие слова, и я слушаю под шум прибоя рассказ старого рыбака.
Слушаю о том, как под Карадагом был некогда город, и в залив входили большие корабли из далеких стран.
— Хроня, хроня! Как бежит время.
И как там, где ползет желтый шиповник, был прежде монастырь.
Бедный монастырь; такой бедный, что не на что было купить колоколов.
— Какомири! Какомири! Бедняки были.
Тогда в Судаке жил Стефан.
— Агиос Стефанос.
И просили монахи святого Стефана помочь им, но был беден Стефан и не мог помочь.
Был беден, но смел, не боялся сказать правду даже знатным и богатым.
Не любили его за это царь и правители, и вызвали на суд в Стамбул.
В самую пасхальную ночь увозили его на корабле. Плыл корабль мимо Карадага, и вспомнил святой монахов. Вспомнил и стал благословлять монастырь.
А в монастырь к заутрени прибыл из города Анастас астимос, Анастас правитель.
Знали и боялись Анастаса на сто верст кругом.
— Фоверос антропос! Никому не давал пощады.
В те времена в стране был обычай — кто под Пасху оставался в тюрьме — того отпускали на свободу.
Не хотел Анастас исполнить обычай, велел потуже набить колодки заключенным.
— Ти антропос! Вот был человек!
Узнал об этом игумен и не велел начинать службы.
— Ти трехи? В чем дело, — спрашивал Анастас монахов.
Боялись монахи сказать, но все-же сказали.
— Ох, строгий игумен. Не начнет, если сказал. Отпусти людей из тюрьмы.
Вскипел гневом Анастас, схватился за меч.
— Не идет в церковь, так я сам пойду за ним.
Выше церкви было кладбище. Еще теперь можно найти могилы.
Только подошел Астимос к кладбищу — зашевелились могильные плиты.
Отшатнулся Анастас, опустил меч: отнялись у него ноги; не смог идти дальше.
— Анастаси каме! Анастас, сделай, — сказал чей-то голос.
Может быть, было не так, но так говорят.
— Пиос ксеври! Кто знает!
Подошел к Анастасу игумен, упал перед ним на колени Анастас, обещал сделать по обычаю.
Открыл игумен церковную дверь и запели монахи.
— Христос анести ек некрон.
Дошел голос их до Стефана и ответил он:
— Алифос анести. Воистину воскресе!
Но не услышали монахи, а по молитве святого донесся до них откуда-то перезвон колоколов.
— Тавма! Чудо случилось, и объяснил игумен людям это чудо.
С тех пор, сколько ни прошло лет, всегда в ночь на Пасху слышен в Карадаге Стефанов звон.
Точно издалека приходит, точно вдаль уходит.
* * *
Догорел костер; замолчал старый рыбак.
Должно быть пришла полночь. Сейчас зазвонят. Прислушался капитан Яни.
— Акус? — Ты слышишь?
И мне показалось, что слышу.
Кетерлез
Кетерлез омыл лицо водой, посмотрел в ручей.
— Сколько лет прошло, опять молодой. Как земля, — каждый год старой засыпает, молодой просыпается.
Посмотрел вокруг. Синим стало небо, зеленым лес; в ручье каждый камушек виден.
— Кажется, не опоздал, — подумал Кетерлез и стал подниматься в гору.
У горы паслась отара. Блеяли молодые барашки, к себе звали Кетерлеза.
— Отчего в этот день коней, волов не трогают, не запрягают, а нас на шашлык берут? — остановились, спрашивая, овцы.
Подогнал их чабан: — Нечего даром стоять.
По тропинке ползла змея.
— Кетерлез, верно, близко, — подумал пастух.
— Когда Кетерлез молодым был, с коня змею копьем убил. С тех пор, когда он идет, всегда змея от него убегает.
Поднял чабан камень, чтобы убить змею. Крикнул ему Кетерлез:
— Лучше ложь в себе убей, чем змею на дороге. Не коснулось слово сердца чабана, и убил он змею.
— Хорошо вышло, Кетерлез будет очень доволен.
Вздохнул Кетерлез; посмотрел вниз.
Внизу, по садам, под деревьями, сидели люди, готовили на шашлык молодого барашка.
— Ай, вкусный будет, когда придет Кетерлез, есть чем угостить.
— Может быть прежде ходил, теперь больше не ходит, — сказал один.
Засмеялся другой.
— Наш Хабибула крепко его ожидает. Думает, покажет ему ночью Кетерлез золото; богатым будет.
Сидел Хабибула на утесе, молчал.
— Отчего молчишь, Хабибула? Старым стал, прежде всегда хорошую песню пел.
И запел Хабибула:
— Ждем тебя, Кетерлез, ждем; прилети, Кетерлез, к нам сегодня; принесись на светлых струях; заиграй музыка сердца. Чал, чал, чал!..
Прислушался Кетерлез, подумал:
— Вот золото ищет человек, а золото — каждое слово его.
Протянул руки к солнцу. Брызнули на землю лучи. Сверкнул золотом месяц на минарете.
Пел Хабибула:
— Золотой день пришел к бедняку, — Кетерлез не обидит людей… Чал, чал, чал!..
Пел и вдруг затих.
Не любит его Кэтыджэ, хоть говорит иногда, что любит. Нужен ей другой, нужен молодой, богатый нужен.
— Богатый — значит умный, — говорит она. — Был первый муж богат. Хочу, чтобы второй еще богаче был. Все сделаю тогда, все будет в руках.
Смотрит Хабибула вперед, не видит, что близко, что далеко — видит, где другие не видят. Ищет глазами Кетерлеза среди гор и леса. Верит, что придет он. Обещает поставить ему на старом камне свечу из воска, бал-муму.
Понял Кетерлез, чего хочет Хабибула, покачал головой.
— Те, что пьют и едят по садам, счастливее этого.
Пили и ели люди по садам, забыли о Хабибуле и Кетер-лезе.
Не заметили, как пришла ночь. Зажег Хабибула на старом камне свечу, ждет Кетерлеза.
Долго ждет.
Поднялась золотая луна; услышал шорох в кустах; заметил, как шевельнулись ветки, как осветил их дальний огонь.
— Ты хотел меня, — сказал голос. — Вот я пришел. Знаю зачем звал. Молодым был, только песню любил, старым стал — женщину хочешь. Для нее золото ищешь.
— Для нее, — сказал сам себе Хабибула.
— Слышишь, Хабибула, как шумит ручей, молодой ручей; как колышется трава, свежая трава. Только старый ты — не услышишь завтра.
— Слышишь, как твое сердце бьется, хочет успеть за другим, молодым. Не успеет только.
— Имел в себе золото ты, было легким оно. Из земли захотел? А поднимешь?
Не слушал дальше Хабибула; бросился в кусты, откуда был свет.
— Не опоздать бы.
Бежал к свету по лесу, рвал о карагач одежду, изранил себя.
— Теперь близко. Слышал сам голос Кетерлеза. В двух шагах всего.
И увидел Хабибула, как под одним, другим и третьим кустом загорелись в огне груды золота.
Подбежал к ним; брал руками горящие куски, спешил спрятать у себя на груди. Плакал от радости и страха, звал прекрасную Кэтыджэ.
Тяжело было нести. Подкашивались ноги, не помнил, как добрался до деревни.
Не было даже сил постучать к Кэтыджэ. Упал у порога.
— Кетерлез дал много золота. Все твое. Принес тебе, моя чудная.
Шли тихо слова, не долетали до Кэтыджэ. Спала крепко она, обняв руками другого.
Не нужен ей больше Хабибула.
И умер Хабибула.
Хабибула — ольдю.
Может быть, лучше, что умер, не взяв в руки прекрасного.
Если бы взял, может быть оно перестало бы быть таким. Кто знает.
* * *
Уходил Кетерлез из тех мест, думал:
— Ушел с земли Хабибула — певец, ничего, придет на его место другой. Пройдет одно лето, придет другое. Оттого никогда не умрет Кетерлез.
Карасевда
— Облако, если ты летишь на юг, пролети над моей деревней, скажи Гюль-Беяз, что скоро вернется домой Мустафа Чалаш.
Пролетело облако, не стало видно за тюремной решеткой.
Целую ночь работает Мустафа Чалаш, чтобы разбить кандалы. Только “не там ломится железо, где его пилят”.
— Демир егелеген ерден копалмаз.
Лучше не спеши домой, Мустафа. Подкралась Карасевда, черная кошка и ходит близко от твоего дома.
Но бежал Мустафа Чалаш из тюрьмы и скрылся туда, где синеют горы.
Долго шел лесом и знал, что недалеко уже Таракташ, да трудно идти в гору, устал.
А позади звенит колокольчик, догоняет, — едет становой.
Спустился Мустафа Чалаш в Девлен-дере, Пропалую балку, как зовут ее отузские татары.
Если нападает на кого Карасевда, непременно придет сюда, чтобы повеситься.
Лег Мустафа Чалаш под дерево. Ветра нет, а каждый лист дрожит, шевелится, говорит что-то.
Может быть, что осень пришла; может быть жалеет человека, который пришел сюда.
Было жарко. Закрыл глаза Мустафа Чалаш и пришел к нему странный сон.
Сидит, будто, старый козский Аджи-Мурат у себя перед домом, пьет холодную бузу, ждет невесту. Едет свадебный мугудек и четыре джигита держат над ним на суреках шелковую ткань.
Остановился мугудек. Бросил Аджи-Мурат джигитам по монете. Опустили джигиты золотые суреки, крикнули: айда! Подхватил на руки ткань невестин дядя, завернул в нее невесту и унес в дом.
Заиграли чалгиджи, изо всей силы ударило думбало.
— Айда! — крикнули джигиты, и Мустафы Чалаша невеста стала женой старого Аджи-Мурата.
Мяукнула в кустах черная кошка. Вздрогнул Мустафа Чалаш, проснулся.
Смотрели на него с дерева злые глаза. Не видел их Чалаш; только ныло сердце.
Совсем близко подкралась Карасевда.
Схватил Мустафа Чалаш дорожную сумку, выбрался из балки. Увидел свои горы: Алчак-кая, Куш-кая… Легче стало.
Садилось солнце, спадала жара, по всему лесу неслись птичьи голоса. Запел и Чалаш.
— Алчак-кая, Куш-кая, Сарындэн-Алчак… Эмир Эмирсы бир кызы памукшан имшак.
— Слаще меда, тоньше ткани, мягче пуха Эмир Эмирисова дочь…
Завтра день под пятницу; завтра ночью пойдет Мустафа Чалаш под окно к невесте, скажет Гюль-Беяз “горячее слово”.
Скажет: — Любимая, сам Аллах назначил так, чтобы я полюбил тебя. Ты судьба моя; моя тактыр. Говорит тебе жених твой.
И ответит Гюль-Беяз:
— Ты пришел, значит цветет в саду роза, значит благоухает сад.
И расцветет сердце Мустафы, потому что любит его та, которая лучше всех.
Пришла ночь, зажглись звезды, зажглись огни по долине.
Вот бугор: за ним дом старого Чалаша.
Сидит на бугре нищий цыган, узнал его.
— Вернулся?
Подсел к нему Мустафа.
— Нэ хабер? Что нового?
— Есть кое-что…
Помолчал немного.
— Вот скажи, какой богач Аджи-Мурат, а на свадьбе двух копеек не дал.
— Какой свадьбе? — удивился Мустафа.
— Гюль-Беяз взял, двух копеек не дал.
Вскочил на ноги Мустафа Чалаш, сверкнул за поясом кинжал.
— Что говоришь?
Испугался цыган.
— Спроси отца.
Как в огне горел Мустафа Чалаш, когда стучал в дверь к отцу, и не узнал старик сына, принял за разбойника.
Испугался еще больше, когда понял, что сошел сын с ума от любви к Гюль-Беяз.
Не ночевал дома Мустафа Чалаш; разбудил двух-трех молодцов, позвал в Судак ракы пить.
Разбили молодцы подвальную дверь, выбили дно из бочки, — пили.
Танцевал в вине Мустафа Чалаш, танцевал хайтурму, всю грудь себе кинжалом изранил, заставлял товарищей пить капли крови своей, чтобы потом не выдали.
А на другой день узнали все в Судаке и Таракташе, что вернулся Мустафа Чалаш домой и что тронула его Карасевда.
Дошел слух до Коз, где жил старый Аджи-Мурат с молодой женой. Испугался Аджи.
— Чего только не сделает человек, когда тронет его Карасевда.
Запер Гюль-Беяз в дальнюю комнату и сам боялся выйти из дома.
Но раз пошел в сад, за деревню и не узнал своего места. Кто-то срубил весь виноградник.
Догадался Аджи-Мурат кто, и послал работника заявить в волость.
А ночью постучал работник в дверь.
Отворил Аджи-Мурат дверь; не работник, сам Мустафа Чалаш стоял перед ним.
— Старик, отдай мою невесту.
Упал перед ним аджи: — Не знал я, что вернешься ты. Теперь не пойдет сама.
— Лжешь, старик, — крикнул не своим голосом Мустафа.
— Позови ее сюда…
Попятился аджи к дверям, заперся в жениной комнате, через окно послал будить соседей.
Сбежались люди.
Ускакал Мустафа Чалаш из Коз, а позади него на седле уцепилась черная кошка.
Теперь всегда она с ним. По ночам разговаривает с нею Мустафа, спрашивает совета.
И подсказала Карасевда пойти в Козы, к Гюль-Беяз, потому что заболел старик и не может помешать повидать ее.
Удивился нищий цыган, когда отдал ему Мустафа Чалаш свой бешмет, а себе взял его отребье.
— Твои лохмотья теперь дороже золота для меня.
— Настоящая Карасевда. Совсем голову потерял, — подумал цыган.
Одел Мустафа Чалаш цыганскую одежду, взял в руки палку, сгорбился, как старик, и пошел в Козы просить милостыню.
Кто хлеба, кто монету давал. Пришел и к Аджи-Мурату. Лежал больным Аджи-Мурат и сидела Гюль-Беяз одна на ступеньке у дома. Протянул к ней руку Мустафа Чалаш и положила ему Гюль-Беяз в руку монету. Не узнала его.
Сжалось сердце, зацарапала Карасевда.
— Мустафу Чалаша забыла?
— Атылан иок гери донмез.
— Пущенная стрела назад не возвращается, — покачала головой Гюль-Беяз.
— Значит, забыла, — крикнул Мустафа Чалаш и бросился к ней с ножом.
Но успела Гюль-Беяз уклониться и скрылась за дверью.
И пошли с тех пор на судакской дороге разбои. Не было ночи, чтобы не ограбил кого-нибудь Мустафа Чалаш. Искали его власти; знали, что где-то близко скрывается и не могли найти.
Потому что нападал Чалаш только на богатых и отдавал награбленное бедным.
И скрывали его таракташские татары, как могли.
— Все равно скоро сам уйдет в Девлен-дере.
И ушел Мустафа Чалаш в Девлен-дере.
В лохмотьях пришел; один пришел, бросили его товарищи, увидели, что совсем сумасшедшим он стал. Уже не только ночью, а целыми днями разговаривал Чалаш с черной кошкой. Желтым стал, не ел, глаза горели так, что страшно становилось.
Пришел в Девлен-дере и лег под то дерево, где отдыхал, когда бежал из тюрьмы.
Заснула скала под синим небом, хотел заснуть и Чалаш. Не мог только. Жгло что-то в груди, ловили губы воздух, не мог понять, где он.
Три больших дуба подошли к нему и один больно ударил по голове.
— Затягивай крепче шею, — сердился другой, старый, похожий на Аджи-Мурата.
Толкнул третий из-под ног камень, и повис Мустафа Чалаш в воздухе.
Нашли его отузские еще живым и добили кольями.
— Отузские всегда так, — говорили в Козах и жалели Чалаша.
— Настоящие горцы, настоящие “таты”, — хвалили таракташцев в Кутлаке и Капсихоре.
Вздохнет таракташец, вспоминая Чалаша.
— Сейчас тихо у нас. Кого убили, кого в тюрьму увели. И увидев орла, который парит над Бакыташем, опустит голову. — Были и у нас орлы. Высоко летали. О них еще помнят старики. Не случись Карасевда, Мустафа Чалаш таким бы был.
Ай-Савва
Их было три, три старых, почти слепых монаха. Таких старых, что забыли бы как их зовут, если бы не поминали каждый день за молитвой:
— Павло, Спиридо, Василевс.
Пришли татары, взяли крепость, сожгли Сугдею.
Кто уцелел, бежал в горы; разбежались и монахи.
Только Павло, Спиридо и Василевс остались у Ай-Саввы, у святого Саввы, потому что куда бежать, если не видишь, что на шаг впереди. И еще потому, что, когда долго живешь на одном месте, трудно с ним расстаться.
В тот год раньше времени настала студная зима и покрылись крылья Куш-кая, Сокол-горы снежным пухом. Сильнее прежнего гудел Сугдейский залив прибоем волн; плакал, взвизгивая, острый ветер ущелья; по ночам выл зверь у самой церковной ограды. А перед днем Рождества налетела снежная буря и не могли старцы выйти из своих келий, чтобы помолиться в церкви.
Уже несколько дней не встречались они и не знали — живы ли или нет.
Но в праздник Василевс, менее старый, чем другие, ударил в церковное било и когда на зов его никто не отозвался, догадался, что Павло и Спиридо оставили его одного навсегда.
Стоят рядом кони, не думают один о другом, а уведут одного — скучает другой.
Взгрустнулось Василевсу. Видно близок и его час.
— Савва, преподобный отец, — молился Василевс, опустившись на церковную плиту, и думал о близком конце.
Но стих ураган, и в церковное оконце залетел солнечный луч.
Обрадовался ему Василевс. — Может быть, еще поживу.
Придет весна, запоет в лесу хоралом птиц, закадит перед Творцом благоуханием земли.
— Докса си, Кирие, докса си. Слава Тебе, Господи, слава Тебе.
Так думал Василевс и улыбнулся своей мысли.
— И хора инэ одельфи дие липие.
— Радость и печаль — сестры, только одна стоит впереди и не хочет оглянуться на другую, пока не случится.
Распахнулась тяжелая дверь. Оглянулся Василевс.
У входа сверкнули мечи.
— Вот монах, — крикнул передовой, и рванул Василевса за руку, чтобы показал, где скрыты богатства.
Потянулся Василевс взглядом к алтарю. Он последний, кто служил перед ним, кто благодарил Творца за радость жизни.
Убьют его, запустеет храм, рухнут стены.
И воззвал к Савве, чтобы спас обитель.
Точно спала на миг пелена с глаз, озарилась церковь лучистым светом, и из-за престольного камня поднялся в свете высокий старик.
И когда напавший ударил Василевса мечом и брызнула на пол его кровь, светлый старик коснулся рукой престольного камня.
И из него истек источник живой воды.
— Мегас и Кирие, ке фавмаста та ерга су. Велик Ты, Господь, и чудны дела Твои.
* * *
Прошли тысячи зим мягких и суровых, забыли в Айса-вах о святом Савве, а источник бежит по-прежнему из-под престольного камня и там, где пробегает светлый ключ — растут цветы и плоды, и радуется человек.
Кэдэ
Кошка, когда крадется, чтобы поймать птицу, не так была хищна, как Назлы — дочь Решеида.
Ах, Решеид, Решеид, Аллах знает, как наказать человека.
В Демерджи боялись Решеида. Злой был человек; злой и хищный, как старая лисица. Тихо говорил; балдан татлы — сахарное слово знал, улыбался, придумывая человеку обиду.
Пошла Назлы в отца. Ласкалась, хвалила его; распускалось у отца сердце, как благоухающая роза.
Тогда дергала Назлы отца за бороду, царапала, кусала его, и убегала в жасмин. Не достанет ее там отец.
— Хи!
Скрывал Решеид от людей свое горе и по-прежнему был важен, когда на улице ему кланялись и свои, и чужие.
На много верст кругом знали Решеида. От Демерджи до Алушты тянулись его сады, а тратил на себя меньше, чем слепой Мустафа.
Напрасно все это, Решеид-ага.
Умрет богач, не больше останется, чем от бедного.
Ехал Решеид из Алушты, продал Хахылгана.
Если побить больного по спине и потом продать белого петуха, — хахылгана, то, когда начнут зеленеть деревья, вся твоя болезнь перейдет к другому, кому продал хахылгана.
Болел у Решеида давно живот, теперь больше не будет болеть.
Шла дорога в гору. Устали лошади бежать, устал Сейтар погонять.
— Айда, Сейтар, — сердился Решеид.
Не свои были лошади, чужих нанял, нечего было жалеть.
Смотрел Решеид-ага на свой сад, приятно было.
Миндаль оделся листьями, другие деревья были в цвету.
Думал Решеид: — Кто-нибудь двадцать тысяч даст, опять не отдам.
Оглянулся назад. Высоко поднялись. Синее море, как стена стало. Красиво было смотреть. Только не подумал об этом Решеид-ага, о другом думал.
— Как много добра даром пропадает. Когда кушают люди, сколько сала на тазу остается…
Мяукнула у плетня кэдэ, кошка.
— Отчего кэди эти, например, нельзя есть? Ну, сам не ешь, гостей можно накормить. Прибавить курдюку — хороший пилав будет.
Приехал домой, рассказал Назлы, что думал по дороге.
Смеялась Назлы.
— Вот хорошо. Непременно сделаем так. Соберем соседских кошек. Сама резать буду. Позовем гостей из Шумы!
Рад был Решеид посмеяться над шуминцами.
Давно хотел их наказать за то, что не продали ему леса.
— Сделаем. Только смотри, никому не говори.
Пропала кошка у одного, у другого. Мало ли куда могла забежать. Не удивились.
Удивились, что Решеид-ага гостей из Шумы позвал всех, кто бороду запустил.
— Не даром.
Подала Назлы плов. Дымился рис, только немножко неприятный запах был. Точно кошка близко ночевала.
Однако шуминцы ели, некоторые даже хвалили.
— А ты отчего сам не ешь? — угощала Назлы отца.
— Попробовал бы, как я приготовила.
Отплюнулся в сторону Решеид, смолчал.
А шуминцы хвалили.
— Хорошая хозяйка у тебя дочь, ох, хорошая, в тебя вся пошла.
И много еще другого говорили хозяину.
Только икнул один и показалось ему, что в животе у него мяукнула кошка.
Слышали другие, подумали:
— Обрадовался человек, что в гостях объелся.
Однако, когда на ночь вернулись в Шумы, не у одного, у всех замяукало в животе.
Не спали всю ночь, мучились, точно кто царапал внутри.
А старый Асан чуть не умер.
— Да что ты, кошку что ли съел, — сердился на него сын, потому что тот не давал ему спать.
И подумал Асан — не посмеялся ли в самом деле над ними Решеид-ага, не накормил ли дрянью.
А наутро вся деревня узнала, что накормил Решеид-ага людей пилавом из кэдэ.
Шли мимо два демерджинца и посмеялись над глупостью шуминцев.
Обрадовались, кошатины наелись. Мяу, мяу!
И стало от всех шуминцев после этих слов пахнуть кошками. И через месяц, и через год, и через десять лет, и даже теперь не прошло. Если едешь мимо Шумы — слышишь кошку.
Может быть, что и прибавил; не прибавишь — хорошо не расскажешь.
— Артмасы — ганиме.
Только одно правда. Если проезжаешь по шоссе мимо Шумы, не дай Бог сказать “мяу”.
Лучше молчи.
Хорошо если тебя обругают, или плюнут, случится топор, и топор вдогонку полетит. А не веришь — испытай сам. Крикни, проезжая, “мяу”.
Посмотришь, что выйдет.
Гюляш-Ханым
Туды-Мангу-хан был похож на быка с вывороченным брюхом; к тому же он был хромой и кривил на один глаз.
И все дети вышли в отца; одна Гюляш-Ханым росла красавицей. Но Туды-Мангу-хан говорил, что она одна похожа на него.
Самые умные люди часто заблуждаются.
В Солгатском дворце хана жило триста жен, но мать Гюляш-Ханым занимала целую половину, потому что Туды-Мангу-хан любил и боялся ее.
Когда она была зла, запиралась у себя, тогда боялся ее хан и ждал, когда позовет.
Знал, каков бывает нрав у женщины, когда войдешь к ней не вовремя.
А в народе говорили, будто ханша запирается неспроста. Обернувшись птицей улетает из Солгатского дворца в Арпатский лес, где кочует цыганский табор Ибрагима.
Попытался было сказать об этом Туды-Мангу-хану главный евнух, но побелело от гнева ханское око и длинный чубук раскололся о макушку старика.
Помнил хорошо хан, что вместе с Гюляш-Ханым пришла к нему удача, — так наворожила ее мать. И любил хан цыганку-жену, потому что первым красавцем называла она его, когда хотела угодить.
Улыбался тогда Туды-Мангу-хан, и лицо его казалось чебуреком, который сочнел в курдючном сале.
И всегда, когда хан шел на Ор, он брал с собой Гюляш-Ханым — на счастье, чтобы досталось побольше добычи и была она поценнее.
Один раз добыл столько, что понадобилось сто арб.
Была удача большая, потому что Гюляш-Ханым не оставляла хана, даже когда он скакал на коне.
Но арбы шли медленно, а хану хотелось поскорей домой. Позвал он Черкес-бея и поручил ему казну и Гюляш-Ханым, а сам ускакал с отрядом в Солгат.
Весел был хан, довольны были жены. Скоро привезут дары.
Только не всегда случается так, как думаешь.
Красив был Черкес-бей, строен, как тополь, смел как барс, в глазах купалась сама сладость. А для Гюляш-Ханым настало время слышать, как бьется сердце, когда близко красавец.
Взглянула Гюляш-Ханым на Черкес-бея и решила остаться с ним, — обратилась в червонец. Покатился червонец к ногам бея, поднял он его, но не положил его к себе, — был честен Черкес-бей, а запер червонец в ханскую казну.
Честным поступком не всем угодишь.
А ночью напал на Черкес-бея балаклавский князь, отнял арбы, захватил казну.
Еле успел спастись Черкес-бей с немногими всадниками.
И повезли Гюляш-Ханым с червонцами в Балаклаву.
В верхней башне замка жил греческий князь.
К нему и принесли казну.
Открыл князь казну и начал хохотать. Вместо червонцев — в казне звенел рой золотых пчел.
— Нашел, что возить в казне глупый Туды-Мангу-хан!
Вылетел рой, поднялся к верхнему окну; но одна пчела закружилась около князя и ужалила его прямо в губы.
Поцелуй красавицы не всегда проходит даром.
Отмахнулся князь и задел крыло пчелы. Упала пчела на пол, а вокруг нее посыпались червонцами все остальные.
Поднял от удивления высокую бровь балаклавский князь и ахнул: вместо пчелы у ног его сидела, улыбаясь, ханская дочь; загляделась на него.
Был красив Черкес-бей, а этот еще лучше. Светилось на лице его благородство и в глазах горела страсть.
Околдовало его волшебство женской красоты и оттолкнул юноша ногой груду золота.
Когда молод человек, глаза лучше смотрят, чем думает голова.
Схватил ханшу на руки и унес к себе.
Три дня напрасно стучали к нему старейшины, напрасно предупреждали, что выступило из Солгата ханское войско.
Напиток любви самый пьяный из всех; дуреет от него человек.
А на четвертый день улетела Гюляш-Ханым из башни. Обернулась птицей и улетела к своим, узнала, что приближается к Балаклаве Черкес-бей.
Скакал на белом коне Черкес-бей впереди своих всадников и, услышав в стороне женский стон, задержал коня.
В кустах лежала Гюляш-Ханым, плакала и жаловалась, что обидел ее балаклавский князь, надругался над ней и бросил на дороге.
— Никто не возьмет теперь замуж.
— Я возьму, — воскликнул Черкес-бей, — а за твою печаль заплатит головой балаклавский князь.
И думала Гюляш-Ханым по дороге в Солгат — кто лучше, один или другой, и хорошо бы взять в мужья обоих, и князя бея и еще цыгана Ибрагима, о котором хорошо рассказывает мать.
Когда имеешь много, хочется еще больше.
А балаклавский князь искал повсюду Гюляш-Ханым и, когда не нашел у себя, пошел, одевшись цыганкой, искать в ханской земле.
Через горы и долины шел до Солгата.
На много верст протянулся город, но не было никого на улицах. Весь народ пошел на площадь к ханскому дворцу, потому что Туды-Мангу-хан выдавал младшую дочь замуж и угощал всех, кто приходил.
Радовался народ. Сто чалгиджи и сто одно думбало услаждали слух, по горам горели костры; ханские слуги выкатывали на площадь бочки с бузой и бекмесом; целое стадо баранов жарилось на вертеле.
Славил солгатский народ Туды-Мангу-хана и его зятя Черкес-бея.
Завтра утром повезут Гюляш-Ханым мимо мечети султана Бибарса; будет большой праздник.
Думала об этом Гюляш-Ханым, и что-то взгрустнулось ей. Подошла к решетчатому окошку в глухой переулок и вспомнила балаклавского князя.
— Хоть бы пришел.
И услышала с улицы, снизу, старушечий голос.
— Хочешь погадаю; вели впустить.
Велела Гюляш-Ханым впустить ворожею и заперлась с нею вдвоем.
— Гадай мне счастье.
Посмотрела Гюляш-Ханым на цыганку. Горели глаза безумным огнем, шептали уста дикие слова. Отшатнулась ханша. Упали женские одежды и к ней бросился балаклавский князь.
Бывает луна белая, бывает желтая.
Посмотрели люди на небо, увидели сразу три луны: одну белую и две в крови. Подумали — убили двух, третий остался.
Вскрикнула Гюляш-Ханым. Вбежал Черкес-бей. В долгом поцелуе слились уста. Мелькнуло лезвие ятагана, и покатились две головы любивших.
Оттолкнул Черкес-бей тело Гюляш-Ханым и женился в ту же ночь на старшей дочери хана.
Потому что не должен мужик жалеть бабу.
* * *
Теперь от Солгатского дворца остались одни развалины. Совсем забылось имя Гюляш-Ханым. Но в осеннюю пору, когда у местных татар играют свадьбы, в лунную ночь видят, как на том месте, где был дворец хана, встречаются две тени. И спрашивает одна:
— Зачем ты погубил меня?
И отвечает другая:
— Я любил тебя.
Легенда относится к тому времени, когда побережье Крыма от Судака до Балаклавы находилось в руках греков, а вся степная часть полуострова — во власти татар, то есть ко времени после первой половины XIII века, времени вторжения в Крым татар. В этот период, до утверждения династии Гираев (в первой половине XV века) главным центром татарского владычества в Тавриде был город Солгат, теперешний Старый-Крым. Отсюда, например, золотоордынские ханы вели сношения с египетско-мамелюкским султаном. Памятником таких сношений явилась мечеть, построенная султаном Бейбарсом (1281 — 1288 г.). “Уроженец Кипчака, египетский султан Бибарс, желая увековечить свое имя и прославить место своего рождения, построил великолепную мечеть, стены которой были покрыты мрамором, а верх — порфиром”. (Jos de Guignes. Histoire generale de Huns etc. Paris, 1756, v. II, p. 643.).
Туды-Мангу-Хан — лицо историческое. Это он отправлял в Египет нарочитое посольство с просьбою пожаловать ему какой-нибудь мусульманский титул. От его времени дошла старокрымская монета (1284 г.). Ханы не всегда жили в Солгате, и в их отсутствие городом правили наместники. Одним из таких наместников являлся Черкез-бей, живший, впрочем, в более позднюю эпоху, судя по договору 1380-го года между генуэзцами и татарами. Старокрымские беи или беки пользовались огромными правами: они имели право чеканить свою монету, сноситься с другими странами и т. д.
Ор (по татарски — ров) — теперешний Перекоп. Старая крепость была построена на перешейке, который был перерезан рвом.
Aрпат — деревня между Судаком и Алуштой.
Чебуреки — пирожки с рубленой бараниной, поджаренные на курдючном сале. Это любимое блюдо татар.
Буза — напиток, приготовляемый из проса.
Чалгиджи — музыкант.
Думбало — большой барабан.
Бетмас — мед, приготавливаемый из виноградных выжимок.
Ханский дворец был построен на берегу р. Серен-су, протекающий в южной части города. Здание существовало еще в конце XVIII века, когда в нем жил епископ Гумилевский (1792 г.). Теперь от дворца остались развалины внешней стены, внутренняя же площадь продана городом частному лицу.
Легенда эта, как и последующая, рассказана бывшим заведующим феодосийским музеем древностей — Степаном Ивановичем Веребрюсовым. В несколько иной редакции она помещена в Легендах Крыма — В. X. Кондараки.
Гибель Гирея
Золото и женщина — две гибели, которые ждут человека, когда в дело вмешивается Шайтан.
Если высохла душа, дряблым стало тело — тогда золою.
Если кипит еще кровь, и не погас огонь во взоре — тогда женщина.
Шайтан знает, как кому угодить, чтобы потом лучше посмеяться.
* * *
Казалось, не было на земле хана умнее солгатского, казалось, могущественный Арслан-Гирей имел все, чтобы быть довольным. Сто три жены и двести наложниц, дворец из мрамора и порфира, сады и кофейни, бесчисленные табуны лошадей и отары овец Что еще было желать?
Казалось так.
Но по ночам приходил к Гирею кто-то и тревожил его мысль:
— Все есть, только мало золота
— Откуда взять много золота? — спрашивал сам себя Гирей. И не спал до утра.
И вот раз, когда пришли к нему беки, велел им созвать мудрецов со всего ханства. Не знали беки — для чего, и каждый привел своего приятеля, хоть бы он и не был мудрец:
— Средство хочу, — объявил хан, — чтобы камень золотом становился.
Подумали беки и мудрецы: «Помешался хан, если бы можно было так сделать, давно бы люди сделали».
Однако сказали:
— Воля падишаха священна. Дай срок.
Через неделю попросили:
— Если можешь, подожди.
А через две недели, когда открыли рот, чтобы просить нового срока, хан их прогнал.
Умный был хан.
— Пойду сам поискать в народе мудреца, — решил он.
Беки отговаривали:
— Не следует хану ходить в народ. Мало ли что может случиться. Может услыхать хан такое, чего не должно слышать благородное ухо.
— Все же пойду.
Оделся дервишем и пошел.
Правду сказали беки. Много обидного услышал Гирей и о себе и о беках, пока бродил по солгатским базарам и кофейням. Говорили и о последней его затее:
— Помешался хан, из камня золото захотел сделать.
А иные добавляли:
— Позвал бы нашего Кямил-джинджи, может быть, что и вышло.
— А где живет Кямил-джинджи?
И хан пошел к колдуну; рассказал ему, чего хочет.
Долго молчал джинджи.
— Ну, что же?
— Трудно будет… Если все сделаешь, как скажу, может, что и выйдет.
— Сделаю.
И хан поклялся великою клятвою:
— Да ослабеют все три печени, если не сделаю так. И повторил:
— Уч талак бош олсун.
Тогда сели в арбу и поехали. Восемь дней ехали. На девятый подъехали к Керченской горе.
— Теперь пойдем.
Шли в гору, пока не стала расти тень. А когда остановились, джинджи начал читать заклинание.
На девятом слове открылся камень и покатился в глубину, а за ним две змеи, шипя, ушли в подземный ход. Светилась чешуя змей лунным светом, и увидел хан по стенам подземелья нагих людей, пляшущих козлиный танец.
— Теперь уже близко. Повторяй за мной: Хел-хала-хал.
И как только хан повторил эти слова, упали впереди железные ворота, и хан вошел в другой мир.
Раздвинулись стены подземелья, бриллиантами заискрились серебряные потолки. Стоял хан на груде червонцев, и целые тучи их неслись мимо него.
Поднялся из земли золотой камень; кругом зажглись рубиновые огни, и среди них хан увидел девушку, которая лежала на листе лотоса.
Завыла черная собака; вздрогнул джинджи.
— Не смотри на нее.
Но хан смотрел, зачарованный. Потускнели для него бриллианты; грубой медью казалось золото, ничтожными все сокровища мира.
Не слышал Гирей ее голоса, но все в душе у него пело, пело песнь нежную, как аромат цветущего винограда.
— Скорей возьми у ног ее ветку, — бросился к нему джинджи, — и все богатства мира в твоих руках.
Поднялась с ложа царевна.
— Арслан-Гирей не омрачит своей памяти, похитив у девушки ее чары. Он был храбр, чтобы прийти, и, придя, он полюбил меня. И останется со мной.
Потянулись уста царевны навстречу хану, заколебался воздух. Полетели золотые искры, вынесли джинджи из недр Керченской горы и перебросили его на солгатский базар.
Окружили его люди.
— Слышал? Пропал наш хан, — говорили ему. — Жаль Арслан-Гирея.
Но джинджи тихо покачал головою.
— Не жалейте Гирея — он нашел больше, чем искал.
Династия Гираев утвердилась в первой половине XV века, по выделении Крымского юрта в особое ханство. Арслан-Гирей (Арслан-лев) правил ханством всего около двух лет (ок. 1744 г.). Рукопись мурзы Мурата Аргинского говорит о нем: “Зная, что кто лишит жизни одного человека, все равно как бы лишил ее всех, воздерживался насколько мог уничтожать тварь Божью”. В Бахчисарае, на ханском кладбище, имеется памятник со следующей надписью: “Он (Бог) всегда жив и вечен. Мудрый Асаф, он был в делах военных лихой наездник, на поле брани геройством превосходил весь род Чингисов. Сам Марс жаждал острия меча его, упитанного кровью. Возможно ли сравнить мужество его с храбростью Неримана. Грозный вид его убивал современных ему тигров, раньше, чем он величественно, как воин, вступал на поле брани. Но, покорствуя священному гласу — вернись, он скончался. Пусть мир облечется в траур и раздерет ворот своего кафтана. Хифзи прекрасным, алмазным полустишьем изобразил его хронограмму: “Рай — воздаяние Арслан-Гирей хану”. (1767 г.).
Джинджи — духовидец, волшебник.
“Учь толак бош олсун”, то есть “да оскудеют все три моих печени”, в смысле — “да лишусь возможности жен и детей”. Сказать вслух это великое заклятие у крымских татар — достаточный повод для развода. В Отузах был когда-то такой случай. Дядя одного татарина заехал к племяннику и не застал дома его жены. Она была у своей матери, с которой дядя был в ссоре. Племянник сказал, что пошлет за женой. Дядя улыбнулся и выразил сомнение, чтобы она приехала, так как мать едва ли отпустит, узнав, что в гостях дядя. Так и случилось. Молодая женщина не вернулась домой даже тогда, когда того потребовал от нее лично муж. И вот, вскипев, молодой человек произнес громко приведенное заклятие. Молодая женщина сочла себя обесчещенной и потребовала немедленного развода. Когда затем, через некоторое время, молодые люди, любившие друг друга, одумались, они решили опять пожениться. Но для этого потребовалось совершить весьма сложную процедуру, а именно, женщина должна была выйти на одну ночь замуж за договоренного для того какого-то бедняка и затем, получив развод путем произнесения того же заклятия, вышла замуж за первого мужа.
Легенда о гибели Гирея связана с теми сведениями о катакомбных богатствах Керчи, которые, несомненно, давно были известны населению Крыма.
Мюск-Джами — Мускусная мечеть
Когда пройдет дождь, старокрымские татары идут к развалинам Мюск-джами, чтобы вдохнуть аромат мускуса и потолковать о прошлом. Вспомнить Юсуфа, который построил мечеть.
Когда жил Юсуф? Кто знает когда. Может быть еще когда Эски-Крым назывался Солгатом.
Тогда по городу всюду били фонтаны, по улицам двигались длинные караваны, и сто гостиниц открывали ворота проезжим. Тогда богатые важно ходили по базару, а бедные низко им кланялись и с благодарностью ловили брошенную монету.
— Алла-разы-олсун, ага.
Но был один, который не наклонялся поднять брошенного и гордо держал голову, хотя и был носильщиком тяжестей.
Мозоли на руках не грязнят души.
Да будет благословенно имя Аллаха!
Носильщик Юсуф не боялся говорить правду богатым и бедным, все равно.
Ибо время — решето, через него пройдет и бедность и богатство.
— Богатые, — говорил Юсуф, — у вас дворцы и золото, товары и стада, но совесть украл кто-то. Нет сердца для бедных; разрушается мечеть, скоро рухнет свод. Отдайте часть.
— Пэк-эй, так, так, — думали про себя бедняки, но богатые сердились.
— Ты кто, чтобы учить? Посмотрели бы, если бы был богат.
Покатилась слеза из глаз Юсуфа, и взглянул он на небо. Плыл по небу Божий ангел.
И сказал Юсуф ангелу:
— Хочу иметь много золота, чтобы построить новую мечеть; и чтобы помочь тому, кто в нужде, хочу быть богаче всех.
Унес ангел мысль сердца Юсуфа выше звезд, выше света унес. А люди, злые люди хотели бросить его в пропасть в Аргамышском лесу. Много костей человеческих там на дне, если только есть дно.
И поспешил уйти от них Юсуф на площадь. На площади остановился караван, потому что умер внезапно погонщик верблюда, и нужно было заменить его.
— Может быть ты сможешь погонять верблюда, — спросил хозяин каравана.
— Может быть смогу, — ответил Юсуф и нанялся погонщиком.
И ушел с караваном за Индол, на Инд.
Кто не слыхал об этой стране!
В камнях там родится лучистый алмаз; на дне моря живет драгоценный жемчуг; из снежных гор везут ткань легче паутины, и корни трав пьют из земли аромат и отраву.
Много лет провел Юсуф в этой стране; спускался с гор в долины и поднимался опять в горы.
Благословил ангел пути его, росло богатство хозяина, но Юсуф оставался бедняком.
Когда к руке не липнет грязь, не прилипает и золото. Удивлялся хозяин: — Где найти такого?
Один раз привез Юсуф хозяину мешок алмазов, каких никогда не видал хозяин. И не взял себе ни одного.
Подумал тогда хозяин о своем сыне, от которого знал только обман, и сказал близким:
— Вы слышите, если умру, Юсуфу, а не сыну — мое богатство.
И вскоре умер.
Так бывает. Сегодня жив, а завтра умер; вчера не было, сегодня пришло.
И стал Юсуф богаче всех купцов своего города.
Была пятница, когда его караван приблизился к Солгату. Тысяча верблюдов шли один за другим.
И никто не подумал, что это караван Юсуфа.
Не узнали его, когда подошел к мечети.
Не догадались, когда сказал:
— Вот упал свод.
Молчали.
— Иногда молчишь, когда думаешь, когда стыдно станет — тоже молчишь.
Так подумал Юсуф и сказал:
— Не отдадим ли части богатства?
Закричали солгатские беки:
— Если имеешь, отдай!
Усмехнулся Юсуф.
— Юсуф обещал сделать так.
Тогда подумали — не он ли Юсуф.
— Бывают чудеса.
А на другой день сотни рабочих пришли на площадь, где была мечеть, чтобы сломать старые стены.
— Прислал Юсуф-ага.
И по слову Юсуфа стали подвозить со всех сторон молочный камень, слоновую кость, золотую черепицу.
— Такой мечети не было в Крыму, — говорили в народе и называли Юсуфа отцом праведных, узнав что по заказу его пришел в Кафу корабль с мускусом, и приказал он бросать ароматный порошок в кладку стен новой мечети.
— Чтобы, когда пройдет дождь, с паром от земли поднималось к небу и благовоние от подножья Мюск-джами.
Прошло две зимы, и к празднику жертв была готова мечеть.
К небу шли белые башни минаретов, сверкали золотом скаты крыш, порфировые пояса бежали по сводам.
— Абдул-гази Юсуф, Юсуф отец праведных, иди принести первую жертву!
Заклал Юсуф жертвенного барана и отдал беднейшему носильщику.
— Таким был Юсуф, когда просил ангела о богатстве, чтобы построить мечеть.
И взглянул Юсуф на небо. Плыло светлое облако и, остановившись над мечетью, осыпало землю бриллиантовым дождем.
Тогда благовоние мускуса поднялось от подножья мечети.
И упал народ перед Юсуфом на колени.
— Юсуф, ты достоин быть повелителем Солгата.
Но Юсуф покачал головой.
— Власть — пропасть между людьми.
И остался навсегда с бедными, потому что, раздав все, стал сам опять бедняком.
Но народ забыл ханов и беков, и не забыл Юсуфа.
И когда после дождя старокрымские татары собираются к развалинам Мюск-джами, чтобы вдохнуть в себя аромат мускуса, всегда вспоминают праведного Юсуфа.
Развалины мускусной мечети сохранились. Они образуют параллелограмм, свод над которым поддерживался столбами по три с каждой стороны. Вокруг мечети еще в 60-х годах прошлого столетия были видны красивые, местами с позолотой, арабески. Надвходная надпись говорит: “Да будет благодарение Всевышнему за руководство на путь истины и милость Божья на Мухамете и его преемниках. Строитель сей мечети в дни царствования великого хана Мухамета-Узбека (да будет владычество его вечно) смиренный раб, нуждающийся в милости Божьей, Абдул-Гази-Юзуф, сын Ибрагима Узбекова, 714 гиджри” (1314 г.) — Золотоордынский хан Узбек (1313—1342 гг.), по свидетельству арабских писателей, проявил особую ревность в утверждении мусульманства в его владениях. Сам Узбек хан не жил в Солгате (Старый Крым) и лишь наезжал туда. С именем Юсуфа, помимо настоящей легенды, в народной памяти сохранилось предание об основании самого Солгата. Крымский историк Сеид-Мухамед-Риза (1756 г.) в своем сочинении “Семь планет в известиях о царях татарских”[Напечатано Казем-беком в Казани в 1832 г. (ср. 77,78).] рассказывает: “В прежнее время местность, на которой расположен город, принадлежала к Кафской пристани (Феодосийской), служа сборным пунктом для купцов персидских и франкских, привозивших сюда разные европейские и азиатские товары, которыми наполнялись и пестрели шалаши, палатки, деревянные дома и саманные мазанки. Благодаря превосходному климату и чудному воздуху, население и постройки быстро умножались, и мало-помалу возник к югу от Кафы, при подошве высокой горы Аргамыш, целый город, обнесенный ради безопасности крепостной стеной и названный Солгатом. В ту пору один богатый купец предпринял постройку большой мечети и, из усердия к Богу, к материальным затратам присоединил и личный труд. Одетый в старое платье, он вместе с рабочими таскал глину. Вдруг проезжает мимо купец с двадцатью вьюками мускуса. Строитель мечети полюбопытствовал узнать, что за товар везут. Торговец поглядел на грязную рабочую одежду его, презритель но ответил: “Подходящего для тебя товара нет”. Смущенный таким ответом торговца, строитель заплатил тотчас же стоимость мускуса и велел свалить его в размешанную глину, сказав рабочим: “сал (сваливай), кат (меси)”. Оттого и самый город назвали Салкатом”. Об этом древнем Солгате Jos. de Guignes, в своей Histoire generate de Huns ets. (p. 343) говорит: “Всадник едва мог объехать его на добром коне за полдня. Было много зданий, достойных удивления, особенно высших училищ, где преподавались всякие науки. [Развалины одного из них сохранились и доселе. - Прим.] Караваны из Ховарезми (Хивы) безопасно проходили в Крым, употребляя на путь три месяца. Жители наживали торговлей огромные богатства, но по скупости, заполняя золотом сундуки, ничего не выделяли беднякам”.
Мускус — ароматный, коричневого цвета порошок, добываемый из мускусной крысы (Азия) и Гималайского оленя, самца, под брюхом которого имеется мешочек с этим веществом. Мускус считался в древности драгоценнейшим препаратом, благодаря его целебным свойствам, в особенности для облегчения страдания рожениц. Может быть, в связи с этим мускус приобрел литургическое значение. Папы, до начала XVI века, вступая во владение Латеранским дворцом, получали в дар кошелек с двенадцатью драгоценными камнями и мускусом, который считался символом добродетели и милосердия к бедным. В свою очередь, папы, выражая особенное благоволение царственным особам, дарили золотую розу с мускусом. Как говорит Н. В. Чарыков в своем известном труде о Павле Минезии, в 1675 г. был дан указ сибирскому приказу о посылке в Рим к аббату Скарлату 3 ф. мускусу доброго, в вознаграждение за собрание сведений по описанию святынь Рима (260, 681 ст.). Судя по нашей легенде о Мускусной мечети в Солгате, литургическое значение мускуса было не чуждо миру мусульманскому. По словам татар, стены Мускусной мечети и теперь после дождя издают аромат.
Аргамыш — горный хребет верст в 8 в длину; на одной из вершин его имеется провал, схожий с жерлом вулкана, не более сажени в поперечнике. Местный пристав Н. М. Яворский опускал веревку в 50 саж. длины, но не достал дна, а, по словам старокрымцев, если бросить просо, то оно выйдет в прудах Шубаша, за несколько верст от города. По преданию в этот провал сбрасывали преступников.
Индел — путь в Индию.
Верблюд завезен в Крым татарами из средней Азии. Это нежное животное после эмиграции степных татар стало быстро исчезать в Крыму.
Алла-разы-олсун — благодарю.
Настоящую легенду рассказал старокрымский мулла.
Султан-Салэ
И сто лет назад развалины Султан-Салэ стояли такими же, как теперь.
Бури и грозы не разрушили их.
Видно, хорошие мастера строили мечеть Султана-Салэ и зоркий глаз наблюдал за ними.
А был Салэ раньше простым пастухом, и хата его была последней в Джанкое.
Какой почет бедняку! И не смел он переступить порога богатого дома.
Но как-то раз, выгоняя коров на пастьбу, Салэ зашел на ханский двор и увидел дочь бека.
Есть цветы, красота которых удивляет, иные плоды заставляют забыть любую горечь. Но у цветов и плодов нет черных глаз, которые загораются любя; нет улыбки, что гонит горе, и в движении нет ласки, отражающей рай пророка.
Салэ понял это, когда поднималась по лестнице Ресамхан.
С тех пор перестал есть и пить бедный пастух, а старуха мать потеряла покой.
— Что случилось, — спрашивала она сына, и молчал Салэ.
Но внезапно умерла Ресамхан от рыбьей кости, и когда узнал об этом Салэ, не стало в лице его кровинки. Тогда открылось все матери, и поняла она, отчего обезумел сын, ее бедный Салэ, который ночью принес тело девушки, вырытое из могилы.
Жемчуг бывает разный. Жемчуг слез, которые родились в любви, самый чистый из всех.
Плакал Салэ, обнимая тело, и от дыхания ли любви, от горячих его слез — стало теплым тело.
Бросился Салэ к матери. И в простоте сердца сказала мать, что не умирала Ресамхан и, устранив кость, оживила девушку.
Но как только Ресамхан открыла глаза, поспешил Салэ укрыться от ее взора, ибо самый маленький камешек может смутить чистоту вод хрустального ручья.
Тронула сердце девушки такая любовь, а великий Аллах дал ей не одну красоту. Долго помнил потом народ в Джанкое мудрость Ресамхан.
И поняла она, что есть и чего нет в пастухе.
— Пусть пойдет, — сказала она старухе, — в Кефеде, на пристань; там сидит Ахмет-ахай; он даст Салэ на копейку мудрости, на копейку другой.
Проник в душу пастуха Ахмет-ахай своим взором, когда пришел Салэ к нему на пристань, и дал совет.
Один: — Помни, не то красиво, что красиво, а то красиво, что сердцу мило.
И другой: — Цени время, не спрашивай того, что тебя не касается.
Улыбнулась Ресамхан, когда мать пастуха рассказала о совете Ахмет-ахая.
— Пусть так и делает. И я скажу. В Кефеде стоят корабли. Хорошо будет, если возьмут Салэ на большой корабль. В чужих краях он узнает больше, чем знают наши, и тогда первый бек не постесняется принять его в своем доме.
Вздохнул Салэ, просил мать спрятать Ресамхан, пока не вернется, и, нанявшись на корабль, отправился в дальние страны, и не вернулся назад, пока не узнал моря, как знал раньше степь.
В степи — ширь и в море — ширь, но не знает степь бурной волны, и тишь степная не страшит странника.
Когда корабль Салэ был у трапезундских берегов, повисли на нем паруса, и много дней оставался он на месте.
Тогда послали Салэ и других на берег найти воду.
У черной скалы был колодец, и корабельные поспешили спустить в него свои ведра, но не вынули их, потому что кто-то отрезал веревку.
— Нужно посмотреть — кто, — сказал Салэ. Однако из страха никто не полез.
— Не полезу — все равно пропаду, — подумал Салэ и спустился к воде.
У воды, в пещере, сидел старик, втрое меньше своей бороды; перед ним красавица арабка кормила собаку, а вокруг стояло тридцать три кола и на всех, кроме одного, торчали человеческие головы.
— Собаных-хайр-олсун, — приветствовал Салэ старика. И на вопрос — как сюда попал, присев на корточки, рассказал, как все случилось.
Усмехнулся старик.
— Если у тебя есть глаза, ты должен видеть, куда попал. Как же ты не удивился и не спросил, что все это значит.
— Есть мудрый совет, — отвечал Салэ, — не расспрашивай того, что тебя не касается.
Шесть раз икнул волшебник, и встала торчком его борода.
— Вижу, ты большой мудрец. Скажи тогда — что красивее: арабка или собака.
Не задумался Салэ.
— Не то красиво, что красиво, а то красиво, что сердцу мило.
Плюнул в ладонь старик и, замахнувшись ятаганом, снес головы арабке и собаке.
— Когда раз ночью пришел к жене, я нашел чужого, и, по моему слову, женщина стала собакой, а мужчина женщиной. Ты видел их. Потом приходили люди, не ответили как ты. За то бараньи головы их на колу, а твоя останется на плечах.
И старик наградил Салэ. Кроме воды, вынес Салэ из-под земли ведро разных камней.
Не бросил их назад в колодец, как советовали корабельные, а послал с первым случаем к матери в Джанкой.
Пожалела мать, что камни, а не деньги, подумала — потерял Салэ разум, но Ресамхан сказала старухе, чтобы позвала богатого караима, и караим отдал за камни много золота, столько золота, сколько не думала старуха, чтобы было на свете.
А через год возвращался Салэ домой и на пути в Джанкой встретил табуны лошадей, и отары овец, и стада скота, и когда спрашивал — чьи они, ему отвечали:
— Аги Салэ.
— Верно новый богач в Джанкое, — думал Салэ и не подумал о себе.
Много лет не был Салэ в Джанкое и не узнал деревни; и упало у него сердце, когда не увидел своей хаты, а не подалеку от места, где она была, стоял на пригорке большой дом, должно быть тоже Аги-Салэ.
Когда петух пьет воду, он за каждый глоток благодарит Аллаха. Таким был Салэ с тех пор, как ожила Ресамхан. Теперь поник он головою и в печали сел у ограды нового дома.
Но когда ждешь кого — зорко видит глаз, и увидела Ресамхан Салэ у ограды и послала старуху-мать позвать Салэ в его новый дом.
Если падаешь духом, вспомни о Салэ и улыбнись его счастьем. Может быть и к тебе придет оно.
Первым богачом стал Салэ на деревне, первым щеголем ходил по улице, а когда садился на серого коня, выходили люди из домов посмотреть на красавца-джигита.
Увидел его старый бек из башни ханского дворца, послал позвать к себе, три раза звал, прежде чем пришел к нему Салэ, а когда пришел, позвал бека к себе в гости.
Угощал Салэ старика и не знал старик, что подумать. Никто, кроме Ресамхан, не умел так приготовить камбалу, поджарить каурму.
— Если бы Ресамхан была жива, отдал бы ее за тебя.
И тогда открыл Салэ беку свою тайну, и сорок дней и ночей пировал народ на свадьбе Аги Салэ.
Через год родился у бека внук и стали называть его Султаном-Салэ.
А когда Султан-Салэ стал старым и не было уже в живых его отца, построил он в его память, на том месте, где стояла прежде хата, такую мечеть, какой не было в окрестности.
Много воды утекло с тех пор; не только люди — переменились камни; в Джанкое не стало татар и давно уже живут греки, а стены мечети Султан-Салэ стоят, как стояли, гордые своими арками и поясами.
Видно, хорошие мастера строили их и зоркий глаз наблюдал за ними.
По шоссе, на пути из Феодосии в Отузы, в местности, называемой Султановкой, недалеко от греческого поселка Джанкой (Душа-деревня) хорошо сохранились развалины мечети Султан-Салэ. С этими развалинами связана легенда, которую я слышал от отузского поселянина Абдул-Кадыра Зекерья-оглы.
Кефеде — Кафа (Феодосия).
Сабаных хайр олсун — доброе утро.
Отара — стадо (от — трава, ара — искать).
Ага — должностное, чиновное лицо, или вообще важное лицо.
Каурма — разваренная в собственном соку баранина с картофелем, нечто вроде густого супа.
Титул султана, со времени родоначальника Гераев — Хаджи Герая, получил второстепенное значение, и султанами назывались ханские княжичи.
Кемал-бабай
Не искал почета, не искал золота; искал правду. Когда увидел — ушла правда, тогда умер Кемал-бабай.
Сколько лет было Кемал-бабаю, не знали. Думали — сто, может быть, двести.
Он жил так долго, что вся деревня стала родней; он жил так много, что дряхлое ухо не различало шума жизни, а глаз перестал следить за ее суетой.
Иногда о нем забывали, и только, когда весеннее солнце заливало золотом лучей вершины Карадага, вспоминали, что он жив.
— Опять идет на гору.
Кемал-бабай шел, чтобы омыть лицо весенней струёй из родника.
Навстречу неслись гимны аромата цветов; легкий бриз играл, лаская землю; радость бытия наполняла существо.
Кемал-бабай прислушивался к доходящим ощущениям и в них искал себя.
Старый, дряхлый Кемал-бабай, ноги которого еле двигаются и руки с трудом поднимаются для молитвы, ты ли тот самый Кемал, который в бурную ночь плыл между скал к кораблю, чтобы предупредить об опасности. Смелый Кемал, не боявшийся самым сильным и богатым говорить в лицо слово правды; Кемал, которого изгнали из девяти стран, ибо, кто говорит правду, того изгоняют из девяти государств, как потом стал говорить народ.
Катилась жизнь твоя, Кемал, как бурная река, пока не нашел приюта в бедной деревушке.
Кто знает коран лучше муллы, кто понимает арабскую книгу, кто побывал в Мекке и Стамбуле — тот мудрый человек. А мудрого человека не тронут в деревне.
И вот долго живет Кемал под Карадагом, много весен прошло; и каждую весну идет на гору, к ручью, где делает на дереве зарубку.
Потом сочтет — сколько лет ждал правду на земле. Потому что все ждет ее чистый духом человек.
Так думал Кемал-бабай, спускаясь в долину, когда вечерняя синева бежала по склонам вслед за уходящим светом дня.
Так шли годы, много уже зарубок на дубе, до ветвей дошли.
И вот пришло время зноя, какого не знали раньше. Солнце выжгло траву, иссушило лист; вымерли ручьи; воздух жег дыхание.
Молились в мечети; спрашивали Кемал-бабая:
— Что будет?
— Покажется месяц, пойдет дождь, землю зальет. Горе будет.
Ждали люди. Сверкнул серебристый серп и на безоблачном небе, — не похоже было на дождь.
— Плохой пророк Кемал-бабай.
Но за ночь набежавшие тучи потушили огни звезд, блеснула разгневанная молния, загрохотал перекатом по горам гром; понеслись по земле странные голоса и диким ревом загудел ливень. Не было еще такого.
— Правду сказал Кемал-бабай!
Испугались люди. — Горе будет, сказал.
И настал ужас.
Хлынул на деревню бешеный поток с гор и унес в море всех, кто не успел бежать. Обезумел богатый Белли. Клялся все вернуть, что отнял у соседа, — и дом и сад, если найдется дочь. Старый Муслядин умолял помочь ему, — все долги простить. И было чистое сердце у них. И вспоминали имя Аллаха, даже кто никогда не произносил его. Ибо было горе кругом, и не надеялись на себя.
Молились в мечети; ждали, что скажет Кемал-бабай.
Как в арабской книге читал Кемал-бабай в их сердцах; знал, что думали и, казалось ему, что стала близка правда.
Вышел на крыльцо, посмотрел туда, где завернулся в облако Карадаг. Чудился ему свет зеленый, как чалма Пророка.
Смотрели люди — не видели.
Прислушался Кемал-бабай. Сверху, с неба ли, с гор, — неслись радостные голоса.
Слушали люди — не слышали.
А через день там, куда смотрел Кемал-бабай, засверкал солнечный луч.
Прошла беда, пришли в себя люди.
Многих не стало. Взяли себе соседи их землю и благодарили Аллаха, что не их постигла гибель.
Почувствовал Кемал-бабай, что убегает правда и начал корить людей.
Больше всех обидел бедных коктебельский мурзак, больше всех корил его; запретил деревенским ходить к нему.
А когда некоторые пошли тайком, — отвернулся от них в мечети.
— Кто с вороном пирует, у того не бывает чистого клюва!
Растерялся мурзак, не знал, что делать. Достал из сундука кисет с червонцами и понес ночью к Кемал-бабаю.
— Не срами только.
Швырнул червонцы Кемал-бабай.
— Уходи!
Упал мурзак перед стариком на колени, стал просить.
— Скоро умрешь, на всю деревню сделаю поминки, на могиле столб с чалмой поставлю; много денег дам имамам; скажут имамы: — Кемал-бабай был святой, Кемал-бабай — азиз. Все сделаю, похвали людям меня.
Понял Кемал-бабай слова мурзака, отвернулся от него. Закипел гневом мурзак, как ужаленный бросился на старика и начал бить его.
— Скажи, что сделаешь, как я хочу. Или убью тебя.
— Убей, — хрипел Кемал-бабай, переставая дышать.
Пришли на утро люди и увидели, что умирает Кемал-бабай. Ничего не сказал, что случилось с ним. Знал, что не нужно больше корить мурзака. Знал, что ночью занемог мурзак и больше жить не будет.
Спросили люди: не надо ли чего и где схоронить его.
— Там, где упадет моя палка.
— Вероятно, бредит старик, — думали.
Но, собрав последние силы, поднялся Кемал-бабай, перешагнул порог, бросил кверху свою палку, зашатался и испустил дух.
А палка высоко взвилась к небу и полетела на Карадаг.
Побежали за ней люди и нашли ее у ручья.
Там и схоронили святого.
И, схоронив, сосчитали, сколько было зарубок на дереве.
— Девяносто девять…
Решили, что было Кемал-бабаю сто лет и сделали сотую.
Настало хорошее время. Горы покрылись зеленой травой. Быстро оправились тощие стада. Не возвращались на ночлег домой, ночевали в горах, и по ночам чабаны видели зеленый свет на могиле Кемал-бабая. Посылал мулла проверить, — сказали, что правда.
— Уже не в самом ли деле азиз Кемал-бабай?
Ждали чудес.
И случились чудеса.
Из Отуз, Коз и Капсихора привозили больных. Многим помогало.
Тогда имамы объявили Кемал-бабая азизом.
И немощные стали приходить со всех сторон Крыма.
Приходят и теперь. Привозят больных из Алушты и Ускюта, из Акмечети и Бахчисарая. Говорят, всем помогает, кто приходит с чистой душой.
Всю жизнь искал правды Кемал-бабай; кто придет к нему с правдой, тому поможет он.
Потому что Кемал-бабай — азиз, святой.
Кохтебель, быстро растущий курорт, на пути из Феодосии в Отузы, лет сорок назад представлял из себя болгаро-татарскую деревушку, а до переселения сюда болгар находился в руках татар. Последних в настоящее время осталось всего несколько семейств, и они уже не в силах поддержать разрушающуюся мечеть. Кохтебель лежит у подножия Карадага, на одной из вершин которого указывают святую могилу. Об этой могиле упоминает академик Паллас в путешествии по Крыму в 1793—94 годах. Он говорит и о поклонении этой могиле со стороны татар. И в наши дни привозят сюда больных, даже из дальних деревень в надежде на исцеление у могилы праведного человека — азиза.
Признание азизом совершается обыкновенно после того, как несколько почтенных лиц удостоверят, что видели на могиле зеленоватый свет, и что чудеса исцеления имели место в действительности.
Мурза — сокращенное и несколько видоизмененное арабско-персидское эмир-задэ, эмирович. Популярный титул мирзадэ пережил все другие почетные приставки к именам татар знатного происхождения и дошел до нашего времени как мурза или мурзак. По переходе в русское подданство мурзаки были признаны потомственными дворянами. Еще в 70-х годах в Кохтебеле жили местные помещики — мурзаки.
Имам — священник.
Легенда о Кемал-бабае хорошо известна всем татарам.
Тихий звон
Сказание о Карадагском монастыре, не имевшем по бедности колоколов, и звоне св. Стефана, который услышали с моря, когда правитель страны — Анастас освободил невинно осужденного, — живет поныне среди рыбаков.
Отвесными спадами и пропастями надвинулся Карадаг на беспокойное море, хотел задавить его свой тяжестью и засыпать тысячью подводных камней.
Как разъяренная, бросается волна в подножью горного великана, белой пеной вздымается на прибрежные скалы и, в бессилии проникнуть в жилище земли, сбегает в морские пучины.
Дышит мощью борьбы суровый Карадаг, гордой песней отваги шумят черные волны, красота тихой глади редко заглянет в изгиб берегов.
Только там, где зеленым откосом сползает ущелье к заливу, чаще веет миром покоя, светлей глубина синих вод, манит негой и лаской приветливый берег.
Обвил виноград в этом месте серые камни развалин древнего храма, желтый шиповник смешался с пунцовым пионом и широкий орех тенит усталого прохладой в знойный день.
В светлые ночи встают из развалин виденья давних лет; церковная песня чудится в легком движении отлива; точно серебрится в лунных лучах исчезнувший крест.
Из ущелья, в белых пятнах тумана, выходят тени людей; в черных впадинах скал зажигает светлячок пасхальные свечи; шелестят по листве голоса неясною сказкой.
Мир таинственных грез подходит к миру видений, и для чистой души, в сочетаниях правдивых, исчезает грань мест и времен.
Колыхаясь, огромный корабль отделяется от скал и идет в зыбь волны. На корме у него, в ореоле лучей, уходящий на мученический подвиг святитель Стефан; отразились лучи по волне серебристым отсветом.
Оглянулся святитель на землю: затемнилась гора. Черной мантией укрыл Карадаг глубины пропастей, черной дымкой задернулись воды залива. Молился Стефан. Легкий бриз доносил до земли святые слова и внимали им тени у развалины храма.
Из толпы отделилась одна; свет звезды побежал по мечу правителя Фул Анастаса. Со скалы взвил крылами мощный орел; содрогнулся рой видений.
Из пещеры вылетела сова. Раздалось погребальное пение оттуда, и плачевной волной понеслось. Догорающий свет, отголосок костра рыбаков, по тропинке скользнул и на ней промелькнула тень старца.
Плакал старец, — в Светлую ночь совершилось в Фулах убийство, — на кровавый искус осудил Анастас неповинных.
Оборвались откуда-то камни, долго бежали по кручам оврага; в шорохе их был слышен неявственный ропот.
Над скалой загорелась красным светом звезда, отразилась багрянцем в заливе, упала тонким лучом на шип диких роз и кровинкой казалась в пионе.
И вздрогнула тень Анастаса, опустила свой меч; скатилась с пиона кровинка; взвилась белая чайка с утеса; понеслась над горой: видно откроются двери Фулской тюрьмы.
Зажглась в небесах звездная сеть, белым светом обвила луна Карадаг, оделась гора в ризу блеска от отсвета звезд.
Заискрилось море миллионом огней.
По зыби морской, от развалин старинного храма, развернулся ковер бриллиантов и над ним хоровод светлых душ, в прозрачном венце облаков, пел пасхальный канон:
— Христос анэсти!
На мгновение мелькнул в уходящей дали Стефанов корабль и оттуда, где он исчез, понесся волной тихий пасхальный звон.
Радость светлого дня доносил тихий звон до земли; перекатами эха был подхвачен в горах Карадага, перекинут на север неясной мечтой; у костра пробудил рыбаков.
И исчез мир видений.
Карадаг — суровая горная вершина, которой замыкаются на восток крымские горы. Это древний вулканический очаг, не раз испытавший на себе смену вулканических и нептунических сил. Образование складки крымских гор и последующие смывы и разрушения придали Карадагу какой-то хаотический вид, и забредший в эти места путник невольно останавливается, пораженный суровой красотой массива, его сбросами и сдвигами, выброшенными в море скалами, перспективой морской синевы и зелеными склонами внутренней долины. По преданию и судя по развалинам, по склонам Карадага ютилось несколько церквей и монастырей. По поводу одного их них, основанного св. Стефаном, епископом Сугдейским (Судак), среди рыбаков-греков держится сказание о тихом звоне в пасхальную ночь. Как известно из жития св. Стефана, он управлял Сугдея-Фульской епархией в период иконоборства (под Фулами некоторые исследователи предполагают теперешнюю д. Отузы). Св. Стефан, горячий защитник иконопочитания, много претерпел в Константинополе, куда был вызван византийским правительством. Легенда приурочена ко времени отправления епископа на его религиозный подвиг. В приложении к настоящему выпуску легенд Крыма приведена Сурожская легенда о походе на Сурож (Судак) русского князя Бравлина, относящаяся к прославлению св. Стефана, имя которого и до сих пор чтимо среди местного христианского населения.
Христос анэсти — Христос воскресе.
Рассказано Илларионом Павловичем Жизневским — местным греком.
Чершамбе
Бедный Сеит-Яя. Я помню его доброе лицо в глубоких морщинах, седеющую бороду, сгорбленный стан и необыкновенную худобу, и как он подзывал, бывало, меня, когда я проходил, мальчиком, мимо его сада, чтобы выбрать мне самый крупный бузурган или спелую сладкую рябину.
— Ничего, кушай.
И начинал напевать свою грустную песенку — Чершамбе-Чершамбе.
Все знали эту Чершамбе и отчего поет ее Сеит-Яя, бедный Сеит-Яя, который давно уже не в своем уме.
Не помнили, когда пришел Сеит-Яя в деревню. Говорили только, что еще тогда замечали за ним странное.
Трудно было найти, кто бы лучше его сделал прищеп, положил катавлак, посадил чубуки.
Он был всегда в работе, редко заходил в кофейню, казался тихим, безобидным. Но кто ближе был к нему, хорошо знал, как умеет Сеит-Яя подметить все смешное, и потому многие не любили его.
Вспоминали, как срамил он почтенного Пурамета, который, когда выходил из дому, всегда трогал угол: — Тронь два раза на всякий случай.
Отворачивался сотский Абляз, когда встречал Сеит-Яя, потому что, когда умерла его тетка, он рассказал в кофейне, как выли накануне на верхней деревне собаки. Все знали, что после этого бывает, но Сеит-Яя сказал громко:
— Умного в сотские выбрали!
У Муртазы пала лошадь. Поздравляли Муртазу. Народ верит, что пожалел Аллах человека, если вместо него взял лошадь. Ворчал Сеит-Яя:
— Мало у Аллаха дела, чтобы заниматься вашими делами. Скоро бублики печь вам будет.
Качал головой мулла:
— Плохо Сеит-Яя кончит, не знает язык, что болтает.
И назвал его дурнем, когда услышал, что посмеялся Сеит-Яя над пятницей.
В пятницу шли пожилые в мечеть и позвали с собой Сеит-Яя. Усмехнулся Сеит-Яя.
— Идите, идите, я в среду приду.
— Плохо его дело, — сказали старики, — видно, Аллах отнял у него разум совсем. Дурень Сеит-Яя.
И стали люди, кто сторониться, кто потешаться над ним, и никто не хотел отдавать свою дочь за него замуж.
А время пришло Сеит-Яя жениться, и многие заметили, что стал тосковать он.
Заметила это и хозяйка, у которой Сеит-Яя служил в работниках, и решила посватать одну вдовушку из казанских.
Не любят наши татары чужих. У тех девушки ходят открытыми, не стыдятся разговаривать с мужчинами, городское платье начинают носить.
Но Сеит-Яя согласился. — Хотя и казанская, а женщина. Большой огурец, малый огурец, — все огурец.
— Сватай, — сказал он хозяйке, и вечером пошел к дому, где жила вдовушка.
Сидела вдовушка на пороге и жевала мастику. Посмотрел на нее из-под рукава Сеит-Яя.
— Хороша, жаль, что не закрывается. Спокойней было бы.
Постоял еще, облокотившись о косяк.
— Когда будет ночь, приходи в хозяйкин сад.
Присвистнул и ушел к себе.
Не спал в эту ночь Сеит-Яя, не спала и вдовушка. Ворочалась на войлоке, вздыхала; ястык жаркой казалась. И когда смолкли голоса на деревне, накинула платок и пошла под орешину.
Под орешиной свадьбу можно устроить, не то что маленькой женщине спрятаться; однако скоро нашел ее Сеит-Яя.
— Буду тебя сватать, пойдешь за меня?
Колебалась ответить. Пожалуй, люди засмеют, пошла замуж за дурня.
Но Сеит-Яя умел хорошо ласкать; к тому же принес целый платок сладкой, с орехом баклавы и не боялся шепнуть на ухо стыдное слово.
И согласилась вдовушка.
— Пойду.
Веселым стал Сеит-Яя, двойную работу хозяйке делал. И думала хозяйка:
— Наверное, поладил.
А по пятницам, когда все татары отдыхали, устраивал свое хозяйство; складывал соба на дворе, чтобы печь хлеб; мастерил сарайчик для коровы.
— Сено где возьмешь? — спрашивала хозяйка.
— Накошу на Юланчике.
Дивилась хозяйка:
— Да ты в уме ли?
Потому что все знали, какое место Юланчик. Недаром люди назвали его Змеиным гнездом. В камышах жила змея, которая, свернувшись, казалась, копной сена, а когда шла полем, делала десять колен и больше. Правда, убили ее янычары. Акмслизский хан выписал их из Стамбула. Но остались от нес детеныши. Потому что, когда принесли в деревню голову убитой, то она кишела змеенышами. И когда перепуганные люди разбежались в стороны, полетели змееныши в свое гнездо и обратились в джиннов. Таракташский джинджи видел их в пьяном хороводе.
И никто не ходил на Юланчик.
Но Сеит-Яя не побоялся.
— Это люди все об Юланчике выдумали. Никаких джиннов нет и шайтана нет, может, ничего нет.
— Тогда коси себе, дурень. И пошел Сеит-Яя на Юланчик.
Оттого, что не ходили люди туда, стояла трава по пояс, а из-под косы выскакивали зайцы, выпархивали птицы.
— Накошу сена, приду охотиться, — подумал Сеит-Яя. И только подумал, как вдруг увидел через балку на бугре черную собаку с хвостом вверх.
Завыла собака. Передразнил ее Сеит-Яя.
— Вой, вой, я тоже умею.
И не увидел ее больше. Но нашла черная туча, закрыла солнце, погнала по земле серую тень.
Сеит-Яя решил отдохнуть и прилег под дикой грушей.
— На половину зимы накосил; зайцев набью — шубу жене сделаю; дичи набью — хозяйке отнесу; хозяйка свадьбу поможет справить.
И заснул Сеит-Яя, не слышал, как налетел из Бариколя пыльный вихрь, как закрутил скошенную траву, как завыл голодною собакой. Показалось только ему, что вдали играет музыка.
Открыл глаза и застыл от ужаса.
Летела на него козлиная свадьба. Впереди три горбатых козла, с человечьим лицом, дудели на камышовых дудках; за ними старый козел с вывернутыми рогами бил в бумбало коровьей ногой. Целым стадом скакали черные козлы и среди них на верблюде сидела, вертелась, с бубном в руке, его невеста. Хотел броситься к ней Сеит-Яя, но заметила она это и скрылась в горб верблюда. И завизжали, запрыгали по всему камышу голые цыплята, и почернело от них окрестное поле, и понеслась свадьба дальше.
Помутилось в глазах Сеит-Яя. Вспоминал он потом только, что позади всех бежал горбатый урод, кланялся ему и кричал поворачиваясь:
— Чершамбе, чершамбе!..
Прибежал обезумевший Сеит-Яя в деревню и не нашел своей невесты. Ушла куда-то и больше не возвращалась.
* * *
Целых двадцать лет жил после того Сеит-Яя в хозяйкином саду и только по пятницам приходил в деревню спросить, не видели ли его невесты; подходил к мечети и ждал, когда выйдет мулла. В плохой одежонке, скорбный и исхудалый, Сеит-Яя становился перед ним на колени и молил:
— Сделай так, чтобы пятница средой была, тогда найду невесту. Ведь горбатый джинн на свадьбе кричал: чершамбе, чершамбе.
И, возвращаясь к вечеру в свой сад, грустный и сгорбившийся, Сеит-Яя глухим голосом напевал свою печальную песенку:
— Чершамбе, Чершамбе.
Легенду рассказали проживавшие в Отузах поселянин Аблеким Амит-оглы и помещица Жанна Ивановна Арцеулова. Герой легенды Сеит-Яя жил в Отузах лет сорок назад. У него было доброе, грустное лицо. Чершамбе — среда. Недельный праздник у татар — пятница. Гибель лошади или другого животного в то время, как в доме кто-нибудь болен, считается в нашей местности благоприятным для заболевшего знамением. Говорят, что Аллах в этом случае щадит человеческую жизнь, довольствуясь душой животного. Суеверие дотрагивания до угла существует еще во многих местах. Уходя из дому, нужно непременно, незаметно для других, дотронуться до угла, чтобы в ваше отсутствие в доме все было благополучно. При этом можно передать эту тайну лишь одному человеку, иначе дотрагивание до угла теряет свою волшебную силу.
Соба — печь.
Ястык — головная подушка.
Балахур-сипет — корзинка-улей.
Юланчик по-татарски — гнездо змей. Так называется местность на пути из Отуз в Старый Крым. Отсюда вытекает р. Юланчик, впадающая в Кохтебельский залив.
Курбан-кая — жертвенная скала
По долине отовсюду видна эта скала. Она отвернулась от деревни и склонилась к старокрымскому лесу. Точно задумалась.
А если подойти к ней на восходе солнца с той стороны, станет видно, как на скалу взбирается огромный человек, одной рукой ухватился за ее вершину, а другой упирается в расщелину, и весь прижался к серому камню, чтобы не свалиться в пропасть.
Говорят, то окаменелый пастух, чабан.
Так говорят, а правда ли, нет, кто знает.
Когда наступает праздник жертв, Курбан-байрам, наши старики смотрят на Курбан-кая и вспоминают о чабане.
Чабанов прежде много было; каждый зажиточный татарин имел свою атару. Только лучше Муслядиновой не было в долине, потому что чабаном у Муслядина был Усеин, а такого чабана не знали другого. Знал чабан Усеин каждую тропинку в горах, каждую прогалину в лесу, каждый ключ в лощине.
И Муслядин был так доволен им, что обещал ему свою дочь.
Но Эмнэ была одна у Муслядина, а, когда имеешь одну дочь, чего не сделаешь ради неё.
В сердце же Эмнэ жил давно другой, молодой Рефе-джан, Арык-Рефеджан, как звали его в деревне за тонкий стан.
Узнал об этом чабан Усеин, разозлился на Рефеджана, а через неделю так случилось, что упал Рефеджан со скалы и разбился на месте.
Настал Курбан-байрам, принес чабан Усеин хозяину жертвенного барана и, когда рассказали ему, что убился Рефеджан, только усмехнулся.
— Каждому своя судьба.
И когда зарезал курбана, омыл в его крови руки, усмехнулся еще раз.
— От отцов дошло: кто сам упадет, тот не плачет.
Понравилось мудрое слово Муслядину и подмигнул он чабану, когда проходила по двору Эмнэ.
Тогда послал чабан старуху, которая жила в доме, поговорить в Эмнэ.
— Хочет, чтобы ты полез на ту скалу, где убился Рефеджан. Влезешь, — пойдет за тебя, — сказала старуха
Почесал голову Муслядин.
— Никто туда не мог влезть.
— А я влезу.
— Хвастаешь.
Обиделся чабан Усеин и поклялся:
— Если не влезу, пусть сам стану скалой.
И видела Эмнэ, как на закате солнца стал взбираться чабан по скале, как долез почти до самой вершины и как вдруг оторвался от нее огромный камень и в пыльной туче покатился вниз.
Пошли люди туда, думали разбился чабан, но не нашли его, а когда на восходе солнца пришли снова, то увидели чабана, превратившегося в огромный камень.
Говорят, когда долез чабан до вершины скалы, то увидел тень Рефеджана и окаменел от страха.
И сказали наши татары, что на Курбан-байрам принес чабан сам себя в жертву Аллаху, и назвали скалу — Жертвенной скалой, Курбан-кая.
Так говорят, а правда ли, нет, — кто знает!
Курбан-кая, напоминающая издали сахарную голову, замыкает один из гребней в верхней части Отузской долины. Если подойти к скале по дороге в лес, то можно различить теневые очертания человеческой фигуры, ползущей по скале.
Курбан-байрам — праздник жертв — празднуется в 62-й день после рамазан-байрама, как то было установлено Магометом. Праздник этот установлен в память жертвоприношения Авраама и взамен человеческих жертв. Праздник продолжается четыре дня, причем в первый день каждый зажиточный татарин закалывает курбанного барана. Принося таким образом жертву, жертвователь произносит дува (молитву); если же он не знает слов молитвы, то произносит кто-нибудь другой, держа жертвователя за ухо. Шкура курбана и лучшая часть его жертвуется мулле, часть раздается бедным, остальное съедается в кругу близких людей.
Арык — оса.
Легенду рассказали отузские татары в разных вариантах. Эта наиболее интересная.
Антарам
Когда Седрак-начальник, Седрак-Бахр-баш, решил жениться, все говорили: не будет толку. Человеку за шестьдесят, а невеста не поднимала еще глаз на мужчину. И жалели Антарам.
Но Седрак-начальник нашел горный цветок, лучше которого не видел, и не хотел, чтобы он достался другому.
А что решал Седрак-начальник, от того никогда не отступал.
И Седрак-начальник женился на Антарам.
Чалкинцы поздравляли:
— Послал Бог счастье.
Но между собой говорили:
— Запрет старик бедную Антарам. К чему и богатство!
И запер Седрак-начальник молодую жену в своем чалкинском балате, где били фонтаны и ломились под тяжестью плодов фруктовые деревья, но куда никто не проникал кроме старух и стариков.
Так не видели чалкинцы Антарам целый год, а когда увидели на празднике Сурп-хача в Эскикрымском монастыре, не узнали ее. Не улыбалась больше Антарам и стала похожа на святую Шушанику.
Благословил ее после службы старый архимандрит и, так, чтобы не услышали другие, сказал:
— Не грусти. Все в воле Божьей.
И избрал ее, чтобы раздавала награды борцам, которые пришли из Эски-Крыма, Карадага и Чалков показать свою удаль и силу.
Узнали борцы, кто будет раздавать награды, и в кругу собравшегося народа началась борьба молодежи, какой давно не видели.
Не жалели себя молодцы. Как тигры бросались друг на друга, и напряженные мускулы их казались выкованными из железа.
Особенно восхищал всех Георгий из Чалков. Он в миг укладывал на землю неопытного противника и, подняв его на вытянутых руках, долго держал над головой.
Загорелись глаза у Антарам и отдала она ему первую награду — арабский диргем и шелковую ткань для праздничного наряда. Преклонился пред нею Георгий и чуть слышно вымолвил:
— Имис окис, сердце мое!
Кивнул на поклон небрежно головой Седрак-начальник, отплюнулся небрежно в сторону.
— Молодость только на то и годится, чтобы хвастать своими мускулами, оттого что нечем больше.
И поспешил увезти Антарам в свои Чалки.
Потянулся второй год хуже первого. Тосковала Антарам, и от тоски стала еще прекраснее.
Мускус бронзового тела ее пьянил старика, а тени думки на лице затемняли у него рассудок.
Жизнь бы отдал за нее Седрак-начальник, умер бы, обняв ее колени, и мучил ее без конца безумной ревностью, и ненавидел всех людей, на которых она могла посмотреть.
Чтобы не оставлять жены без себя, он редко выходил из балата и оттого казался чалкинцам еще больше неприступным и суровым.
И вдруг дошла весть, что на Коктебель напали арнауты, вырезали армян, сожгли церковь, убили священника.
Взволновались Чалки, и все, кто мог, стали отправлять жен и детей в дальние деревни. Пришлось и Седраку-начальнику расстаться с Антарам. Окружив всадниками, он отправил ее к старому другу, в которого верил, и стал ждать вестей.
Писала Антарам. Но письма не глаза, — не прочтешь в них, что прочтешь в глазах.
И мучился Седрак-начальник от ревности еще больше, чем прежде. Переменил людей при Антарам, послал старуху следить, с кем она больше говорит, на кого охотно смотрит.
Вернулась старуха.
— Напрасно оставил при ней Георгия. Сам себе беду делаешь.
В ту же ночь полетел гонец за Георгием, а наутро прибыл Георгий с письмом от Антарам.
Прочел Седрак-начальник письмо и стал белее стены. В первый раз упрекала его Антарам, в первый раз жаловалась на судьбу.
— Зачем не веришь людям, зачем отозвал Георгия? Он самый верный слуга. Зачем обидел меня?
Сверкнул злобой косой глаз Седрака-начальника, и приказал он Георгию отвезти письмо в стан арнаутов. Знал, чем кончится дело.
И вернул Антарам в Чалки.
Не посмотрел на нее, когда она вошла в дом; запер в глухую башню, а ключ швырнул в пропасть.
— Теперь люби своего Георгия.
Целые ночи неслись стоны из башни, и рвал седые волосы Седрак-начальник, и боялись люди подходить к нему.
А на третью ночь затихли стоны и показалось Седраку-начальнику, что подошла к нему тень Антарам и стала гладить его больную голову.
— Я умерла, — шептала тень, — и скоро уйду отсюда, и пришла к тебе только, чтобы успокоить тебя. Антарам не изменила тебе и, когда другие люди не любили тебя, Антарам берегла твою старость. Хотел Георгий убить тебя, Антарам сказала: Искупи грех своей мысли. Если любишь, отдашь жизнь за него. И поклялся Георгий сделать так. Невинна Антарам. Клялась она быть верной тебе, такой и умерла.
Бросился Седрак-начальник к башне, разбудил людей, велел взломать двери.
Вбежали люди в башню и увидели Антарам мертвой.
Три дня не пил и не ел Седрак-начальник, стоял у остывшего тела; сам положил его в могилу, сам засыпал землей и своими руками построил часовню на могиле, хотя и не был каменщиком. А когда окончил работу, тут же и умер.
И была на часовне высечена надпись:
“Построил часовню на могиле жены начальник крепости Седрак. Замучил бедную напрасно. Господи, прости ему тяжкий грех”.
* * *
Лет тридцать назад работавшие в Чалках инженеры нашли у источника Бахр-баш-чокрак, под Эчкидагом, развалины часовни и камень с высеченной надписью на старо-армянском языке.
Прочли:
“Построил часовню на могиле жены начальник крепости…”
Время стерло остальные слова.
Видно, простил Господь Седраку его тяжкий грех.
Чалки — долина, смежная с отузской. По преданию, в Чалках существовало некогда значительное армянское поселение, а развалины часовни у источника Бахр-баш-чокрак (источник Медной головы), сохранились и доселе. Найденную у источника плиту с надписью на староярмянском языке прочел местный палеограф Степан Никитич Лазов, который и рассказал легенду об Антарам. Детали легенды сообщила проживавшая в Отузах Александра Лазаревна Батаева. Часть армян, по завоевании Армении татарами в 1262 г., была переселена в районы Астрахани и Казани, но затем переселенцам разрешили перейти в Крым. (Зап. Одесс. Общ. ист. и древ. Т. IV, стр. 92). Следы их поселений сохранились на протяжении от Старого Крыма до Коз. В Карадаге полуистертая надпись на развалинах церкви св. Стефана свидетельствует, что эта церковь была построена армянами в 1400-м году (ibid. Т. X., ст. 446). В Старом Крыму (Эски-Крым) сохранились развалины шести армянских церквей и монастырь Сурп-Хач (Святого Креста). В храмовый праздник сюда стекалась масса народа со всех окрестностей монастыря, совершалось торжественное богослужение, происходила борьба, закалывались в жертву бараны. Воспоминания об арнаутах живут среди татар, как о народе жестоком и беспощадном. — У них была железная душа, — говорят татары.
Арнауты-албанцы — потомки древних пеласгов, некогда составляли цвет турецкого войска.
Деликли-кая
Разве есть на свете черешня вкуснее козской и где найдется сари-армут более нежный и сочный!
В Крыму не встретишь тоньше стана у юноши, и не знают другие земли девушек, которые умеют ходить так легко, как козские, по скалам и обрывам.
Смотрит поседевший Эльтиген на детей долины, на солнечном луче любуется ими, а когда к вечеру побежит от гор в деревне синяя тень, прислушивается к голосу стариков, которые собираются посидеть у кофейни.
— Лучше прежде было.
— Лучше было, — твердит девяностолетний Муслядин, сидя на корточках рядом с имамом.
— Когда нужно — дождь был; когда не нужно — не был; червяк лист не ел; пчелы — да, были; козы — да, были; по две пары буйволов у каждого было. Хорошо было.
Слушают Муслядина козские татары и вздыхают.
— Прежде лучше было.
В наступивших сумерках вспыхивают там и сям огоньки у курящих, и белесоватые клубы табачного дыма застилают по временам сосредоточенные, серьезные лица.
— Воды много было, — замечает кто-то.
— А? — не слышит его Муслядин.
— Дыры в Деликли-кая, говоришь, не было. Не было, не было. Потом сделалась, когда Кыз-буллаги открылся.
— Говори, — просит кефеджи, наклоняясь к самому уху старика. — Люди послушать хотят.
Сдвигает Муслядин на затылок тяжелую барашковую шапку, чтобы облегчить шишку, которая выросла над ухом, как арбуз на баштане.
Сверху, по шоссе над деревней, у Деликли-кая, звенит почтовый колокольчик.
Затих колокольчик, точно, чтобы не мешать Муслядину вести свой рассказ.
— Ну?
Слушали его не раз деревенские и все же хотят послушать. Хочется слушать о чудесном в этот тихий летний вечер, когда сошла на землю прохлада, а загоревшиеся на глубоком небе без числа звезды отвлекают мысль от забот трудового дня.
Не торопясь, с остановками, покуривая из длинной черешневой трубки, говорит Муслядин о том, что слышал от отца и деда.
Задумываются слушатели; увел их Муслядин в какой-то другой мир, и в воображении их незаметно оживают три серые скалы Эльтигена. Чудится, что в средней из них, Деликли-кая, нет больше сквозной щели, и живут в ней по-прежнему три сказочных духа. И каждый поет свою песню, а людям кажется, что шумит гора. Если гулко — ждут дождя, если стонет — бури. Предупреждают духи людей, потому что, как в давние времена, любят свою деревню.
Тогда прислушивались люди к голосу их и чтили своих покровителей.
Тогда духи приходили к людям и любили их. От любви росло блаженство духа, передавалось сердцу человека. Добрее делались люди.
Звенит снова почтовый колокольчик у Деликли-кая и, оторвав на минуту слушателей от мира грез, замирает где-то в лесной чаще.
Когда самому хорошо, хочешь, чтобы было и всем хорошо. Так устроена душа. И в былое время козские люди не пропускали нищего и странника, чтобы не приютить и не накормить его. А когда уходили вниз, в сады, на работу, оставляли кого-нибудь, чтобы было кому принять прохожего.
И вот как-то раз ушли все на работу; остались старухи и мальчуганы, да три девушки, которые спешили шить приданое, чтобы было готово к месяцу свадеб.
Было жарко и девушки, захватив работу, ушли в лес искать прохлады. Притих Эльтиген. Покинули духи свои скалы, и, превратившись в нищих, подошли к девушкам.
Увидели девушки слепого, хромого и горбатого, поклонились им.
— Если голодны, накормим вас.
Под широким дубом, который стоит и теперь, развязали узелки с таранью, чесноком и лепешками и стали угощать бедняков.
— Кушайте.
Ели нищие, благодарили, а когда кончили, — в узелках не стало меньше.
— Кушайте хорошенько, — говорили девушки, и отдали нищим желтые сариармуты, которые оставили было для себя.
Улыбнулись странники.
— Велик Аллах в своих творениях. Да исполнит сердце Ваше радостью.
И спросили странники девушек, нет ли у них каких-либо тайных желаний. Задуманное в хорошую минуту может исполниться.
— Подумайте.
Посмеялись между собою девушки, и одна сказала:
— Хотелось бы скорее дошить свое приданое.
— Вернешься домой и увидишь, что сбылось твое желание, — улыбнулся горбатый.
— А я бы, — захохотала другая, — хотела, чтобы бабушка на меня не ворчала.
— И это устроится, — кивнул головой хромой.
— Ну, а ты? — спросил слепой третью.
— Ты что бы хотела?
Задумалась третья.
— Все равно не сделаешь.
— Все-таки. Скажи.
И сказала девушка:
— Хотела бы, чтобы в горе открылся источник, чтобы бежала в деревню холодная ключевая вода; чтобы путник, испив воды, забывал усталость, а наши деревенские, когда настанет жара, освежаясь в источнике, славили милость Аллаха.
— Ну, а для себя чего хотела бы? — спросил слепой.
— А мне, мне ничего не надо. Все есть.
Открыл от удивления глаза слепой и отразились в них глаза голубого неба.
— Скажи имя твое.
— Феррах-ханым, — отвечала девушка.
— Случится так, как пожелала, и имя твое долго будет помнить народ.
Повернулся слепой к Деликли-кая, высоко поднял свой посох и ударил им по утесу.
С громом треснула Деликли-кая, дождем посыпались каменные глыбы, темным облаком окуталась гора. А когда разошлось облако, увидели в ней сквозную щель и услышали, как вблизи зашумел падающий со скалы горный поток.
Добежали первые капли ручья до ног Феррах-ханым и омыли их.
А нищие исчезли, и поняли девушки, кто были они.
Сбылось слово нищего. Народ долго помнил Феррах-ханым, и когда она умерла, могилу ее огородили каменной стеной.
Лет шестьдесят назад Муслядин еще видел развалины этой стены и читал арабскую надпись на камне.
— Не прилепляйся к миру, он не вечен, один Аллах всегда жив и вечен.
* * *
Уже давно замолчал старый Муслядин, а никому из слушателей не хотелось уходить из мира сказки жизни. Поднялся, кряхтя, Муслядин, чтобы идти домой.
— Пора.
Поднялся и имам.
— Шумит Деликли-кая. Может быть, дождь будет.
— Нужен дождь, воды нет, — заметил кефеджи.
— Нужен, нужен, — поддержали его, поднимаясь татары.
— Опять Феррах-ханым нужна, — улыбнулся молодой учитель.
Но на него строго посмотрели старики.
— Когда Феррах-ханым была — было много воды; теперь мало стало, хуже люди стали, хуже девушки стали. Когда дурными станут — совсем высохнет Кызлар-хамамы.
Деликли-кая — щелистая скала, средняя из трех скал, составляющих группу Эльтигена (по-татарски значит стекающийся). Она находится в верхней части Козской долины, на пути из Отуз в Судак. Предполагают, что в древности долина была заселена греками. Это подтверждают остатки греческих церквей. Одна из них, св. Ильи, ныне восстановлена.
Козы — теплая, богатая садами долина, дает прекрасное, крепкое вино и вкусные сладкие фрукты.
Кыз-буляги — источник девушек, называют также Девичьей баней — Кызлар хамам.
Буйвол — древнейшее животное Крыма, отличающееся большой, по сравнению с быком, силой, за последние годы совсем исчезает из наших мест.
Легенду о Деликли-кая рассказал козский грек Егор Ставрович Цирули.
Поход Бравлина
В наших старых рукописных сборниках, минеях и торжественниках встречается рассказ, как вскоре после кончины св. Стефана Сурожского, стало быть в конце VIII или в начале IX века, на Сурож, теперешний Судак, напал русский князь Бравлин. Он пришел из Новгорода, и, прежде чем осадить Сурож, опустошил все побережье Черного моря, от Корсуня до Керчи. Десять дней продолжалась осада Сурожа, но на одиннадцатый, когда удалось взломать Железные ворота, город пал и был предан грабежу. С мечом в руке сам Бравлин бросился к св. Софии, где покоились в драгоценной раке мощи святого Стефана, рассек двери храма и захватил его сокровища. Но тут случилось чудо. У раки святого постиг князя паралич. Поняв кару свыше, Бравлин вернул храму все награбленное, и, когда это не помогло, приказал своим воинам очистить город, отдал святому Стефану всю награбленную в Крыму церковную утварь и, наконец, решил креститься. Преемник святого Стефана архиепископ Филарет, в сослужении местного духовенства, тут же совершил крещение князя, а затем и его бояр. После этого Бравлин почувствовал облегчение, но полное исцеление получил лишь тогда, когда, по совету духовенства, дал обет освободить всех пленных, захваченных на крымском побережье. Внеся богатый вклад святому Стефану и почтив своим приветом местное население, князь Бравлин удалился из Сурожских пределов.
Таково содержание легенды, которая представляет для нас, русских, несомненный интерес.
В самом деле, Сурожская легенда говорит об историческом факте, не известном нам ни по летописи, ни по другим источникам. Она называет имена действующих лиц и место действия, устанавливает приблизительную дату события, и всем этим проливает некоторый свет на эпоху, на полстолетия предшествующую той, с которой мы привыкли связывать выступление русских на историческую арену.
Сам по себе факт отвечает возможностям времени. Ныне окончательно установлено, что поход русских на Царьград времен Аскольда и Дира, отнесенный летописью к 866-му году, имел место в действительности в 860-м году, то есть ранее официальной даты бытия Руси. Но если в половине девятого века мог быть совершен морской поход на дальний Царьград, то мысль о более ранних походах на более близкие крымские колонии напрашивается сама собой.
Пусть перед нами только легенда, носящая яркую религиозную окраску, но если ее показания не противоречат исторической обстановке, то нет оснований отвергать иллюстрируемый ею факт. Ведь, как показал обнародованный отрывок из жизни Василия Нового, самые фантастические произведения агиографической литературы передают иногда безусловно точно отчет о событии.
Наша Сурожская легенда связана с именем Стефана Сурожского. Св. Стефан - лицо историческое, и память о нем закреплена минологием (месяцесловом) Василия конца Х века. По этому минологию св. Стефан пострадал за иконы при царе Константине Копрониме (741-775 гг.), и нет никакого сомнения, что это его подпись дошла до нас в протоколе пятого заседания на седьмом вселенском Никейском соборе 787-го года («Стефан, недостойный епископ города Сугдайского, охотно принимая все вышеописанное, подписался». Сугдею или Сугдаю - русские называли Сурожем).
То обстоятельство, что греческая церковь не празднует памяти этого святого, не должно смущать исследователя, так как Стефан Сурожский был местный святой; и чествование его могло не выходить за местные крымские пределы. А что в Крыму, и именно в Суроже, он был почитаем, - доказывает Сугдейский синаксарий ХII века, найденный в сороковых годах прошлого столетия в библиотеке греческой богословской школы на острове Халки (близ Константинополя).
В нем помещено краткое житие Стефана Сурожского и на полях сделаны пометки последующими обладателями рукописи ХIII и ХV веков, пометки, относящиеся к интересам и событиям местной сурожской жизни. Из этих пометок можно заключить, что память св. Стефана праздновалась, как у нас теперь, 15-го декабря, что мощи его покоились на алтаре св. Софии, и что в Суроже в честь него была построена церковь, которую, вместе с св. Софией, разрушил в 1327-м году некий Агач Пасли. Уцелели ли, при этом мощи св. Стефана и сохранились ли они после того в Суроже до времени окончательного разгрома города турками в конце XV века, не выяснено.
Но если мы не знаем ни одного подробного греческого жития Стефана Сурожского с приведением посмертных чудес и в том же числе чуда с русским князем Бравлиным, то такие жития святого в древнерусской литературе XV-XVI веков не составляют исключения.
Еще в начале XV века в Москву прибыл из Сурожа Стефан Васильевич Сурожский (родоначальник Головиных и Третьяковых), и, может быть, он-то и завез на Русь жизнеописание св. Стефана, как остроумно догадывается В. Васильевский в своем известном труде «Житии св. Георгия Амостридского и Стефана Сурожского». Вероятно, переводом на русский язык он и популяризировал привезенное житие.
Для успеха такой популяризации почва была вполне подготовлена постоянными торговыми связями русских с сурожцами. Шелковые сурожские товары были в большом ходу, а в Новгороде был особый Сурожский двор. Русские жили в Суроже, как сурожане на Москове, и имя сурожанина недаром запечатлено в наших былинах.
Из пометок на полях сурожского синаксария мы знаем, что сурожане чествовали память новоявленных русских святых, князей Давида и Романа, тем понятнее было чествование на Руси греческого сурожского святого.
Надо думать, что русское житие Стефана появилось именно в XV веке, а не раньше, так как в состав его вошло заимствование из жития Петра митрополита, а митрополит Петр умер в начале XV века. Такое житие от XV века дошло до нас в сборнике Румянцевского музея №435, и страницы этого сборника, относящиеся к походу Бравлина, мы приводим ниже.
С этого же времени на житие Стефана начинают делаться посылки. Так, в жизнеописании преп. Дмитрия Прилуцкого, составленном во второй половине XV века, как отметил В.О. Ключевский, приведен рассказ из Стефанова жития.
В XVI веке житие Стефана Сурожского рассматривается уже как важный исторический документ, и приведенный в нем рассказ о походе князя Бравлина принимается как факт. Так Степенная книга царского родословия говорит:
«Иже и прежде Рюрикова пришествия в словенскую землю, не худа бяша держава словенского языка; воинствоваху бо и тогда на многие страны, на Селунский град и на Херсон и на прочих тамо, якоже свидетельствует нечто мало от части в чудесах великомученика Дмитрия и святого архиепископа Стефана Сурожского».
Однако в последующее время доверие к исторической ценности жития падает, и эпизод с князем Бравлиным не входит ни в печатный пролог 1642-го года, ни в Минеи-Четьи Димитрия Ростовского. Постепенно легенда о походе на Сурож ускользает из историко-литературного кругозора, и забывается настолько основательно, что только благодаря найденному Востоковым одному рукописному сборнику с легендами, наши историки снова вспомнили о ней с половины XIX века.
Разбирая и оценивая достоверность этой легенды, приходили к самым различным заключениям. Одни принимали, другие отрицали ее, третьи приурочивали сообщаемый в легенде факт к более поздним временам. Составилась целая литература предмета. Куник и Гедеонов, Иловайский, Макарий, Филарет и Порфирий, Соловьев и Бестужев-Рюмин посвятили легенде свои строки. Но особенно обстоятельно, с полной тщательностью разобрал вопрос В. Васильевский. Анализируя материал, Васильевский заключает, что русский излагатель легенды несомненно кое-что добавил от себя сверх того, что было в греческой рукописи, не той, которая дошла до нас с кратким житием Стефана, а другой, содержавшей житие с посмертными чудесами, до нас не дошедшей. Так, приспособляясь к тогдашним литературным вкусам русского общества, он внес добавления из жития Иоанна Златоуста и Петра Митрополита. Однако автор славяно-русской редакции Стефанова жития в отношении фактической стороны строго держался греческого источника. Он не сделал промаха ни в наименовании храма, где почивали мощи, ни в других случаях и сохранил имя Бравлина, не пытаясь даже пояснить русскому читателю это малопонятное для него имя.
Такие попытки, впрочем, делались позднее переписчиками русского Стефанова жития. Так, в сборнике Румянцевского музея №434 - XVI века вместо: князь Бравлин - написано: князь бранлив. Конечно, если бы в начальной редакции стояло бранлив, то это слово, не вызывая недоразумений, удержалось бы переписчиками и не перешло в непонятное имя Бравлина. (К тому же заключению приводит сопоставление текстов Торжественников Румянцевского Музея №434 и 435.)
Итак, у нас нет основания допускать, что легенда о походе Бравлина сочинена автором русского жития Стефана Сурожского, а не почерпнута им из греческого источника. Если вспомнить, что кроме жития св. Стефана в русский церковный обиход вошла и служба святому с двумя канонами, что в одной из стихир службы Стефан величается защитником сурожан и хранителем града, что там же воспевается факт, когда нападавшие на Сурож потерпели неудачу и посрамление и что служба святому была, очевидно, составлена в Суроже, где покоились его мощи, где был в честь его построен храм и где праздновалась его память, - то все это только подтверждает, что в полном греческом житии должны были заключаться посмертные чудеса святого и в том числе и чудо с князем Бравлиным, напавшим на Сурож.
Автор этого полного греческого жития св. Стефана, вероятно, жил в относительно близкое к нему время, потому что до него дошли все подробности его жизни и народный рассказ о посмертных чудесах, с сохранением в точности имен и названий, исторически правильных.
И нельзя сомневаться, что передавая посмертное чудо с князем Бравлиным, он имел в виду известный ему исторический, а не вымышленный факт нападения русских на Сурож.
На Сурож, как и на все побережье Крыма, в те времена не раз нападали варварские отряды, грабили и опустошали богатые берега. Об этом свидетельствует, например, итальянская легенда о перенесении мощей св. Климента, исторический характер которой не подлежит сомнению; а житие Георгия Амастридского, которое дошло до нас в греческой рукописи, устанавливает, что нападения русских на черноморское побережье имели место ранее 842 года.
Таким образом, следует признать, что какой-то русский князь Бравлин в конце VIII или в начале IX века, сделав успешный набег на побережье Крыма, действительно осадил и взял Сурож, и вполне допустимо, что, под непосредственным впечатлением своего соприкосновения с христианским миром, приобщился и сам к нему.
Кого же автор грек той эпохи мог иметь в виду под именем русских или россов?
Греческий писатель Х века Лев Диакон в одном месте говорит, что император Никифор послал Калокира к тавро-скифам, называемым обыкновенно россами, и что Калокир, пришедший в Скифию, понравился начальнику тавров (Святославу). Надо думать, что и автор Стефанова жития, говоря о русских, имел в виду тех же тавро-скифов, обитавших в Приднепровье, в Тмутаракани и в Тавриде.
Над этими тавро-скифскими племенами господствовали хазары, но господство хазар было непрочное, так что подвластные им народы имели возможность действовать в иных случаях вполне самостоятельно.
В 839 году, по словам Бертинской летописи, в Ингельгейм к Людовику Благочестивому прибыл через Константинополь, вместе с послами Императора Феофила, послы от имени какого-то Хакана и заявили, что их зовут русскими.
Хакан? Был ли то их прямой государь или хазарский каган - верховный властитель, трудно сказать.
Но и это посольство отчасти говорит за то, что сообщаемые сурожскою легендою сведения о походе русского князя Бравлина на Крым и Сурож - не выдумка, а исторически вполне допустимый факт.
Само непонятное имя Бравлина не носит ли вестготского отпечатка? (Известен, например, вестготский епископ Брулинен).
Легенда указывает и место, откуда пришел наш Бравлин; это - Новгород. Одни догадываются, что русский излагатель сам от себя добавил в греческое сведение о походе название русского города, где был особый Сурожский двор; другие допускают, что писатель-грек имел в виду не русский Новгород, а тот Неаполис (Новгород), который упомянут в декрете Диофанта и который находился вблизи нынешнего Симферополя.
Мы решили привести сурожскую легенду в том ее освещении, в котором она представляется современными нам исследователями, имея в виду, что в широких кругах русского общества легенда эта мало известна и что знакомство с научными трудами исследователей не всем доступно.
Память о св. Стефане и доселе чтима в Судакском округе. Верстах в пятнадцати от Судака, в Кизильташских горах, ютится монастырь его имени, русский монастырь пятидесятых годов прошлого столетия, но монахи уверяют, что монастырь построен на том именно месте, где во времена, близкие к Стефану, был построен храм в честь этого святого. Имя Стефана распространено и в русском и в инородческом населении общины, но народ не сохранил памяти ни о св. Софии, где покоились мощи святого, ни о храме его имени в Судаке; остались памятны лишь Железные ворота. Неподалеку от немецкой колонии, в сторону Нового света, выход из ущелья и доселе носит имя железных ворот, а вблизи можно найти остатки старинных построек.
Не здесь ли нужно предположить местоположение Сурожа времен св. Стефана и похода на Сурож русского князя Бравлина?


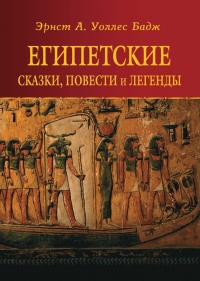
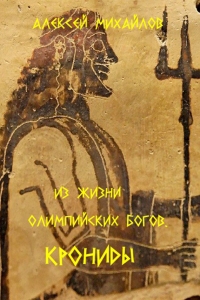
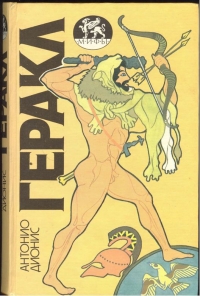



Комментарии к книге «Легенды Крыма», Автор неизвестен -- Эпосы, мифы, легенды и сказания
Всего 0 комментариев