Пролог к читателю
Мне очень хотелось бы, любезнейший читатель, обойтись по возможности без всякого пролога, потому что предисловие, написанное мною для «Дон Кихота», прошло не настолько гладко, чтобы оставить во мне желание повторять недавний опыт. А во всем виноват один мой приятель, из числа тех, которых в течение жизни я приобретал скорее своим характером, чем литературным даром. Что бы ему стоило, в самом деле (как это у нас в обычае и в порядке), нарисовать или выгравировать меня на первом листе этой книги. Тем более, что знаменитый дон Хуан де Хауреги[1], наверное, предоставил бы ему для этой цели мой портрет. Этим он удовлетворил бы и мое самолюбие и любопытство лиц, интересующихся тем, каковы черты и какова внешность человека, дерзающего всенародно, на площади мира, выступать со своими бесконечными замыслами.
Под портретом мой друг мог бы написать: «Человек, которого вы здесь видите, с овальным лицом, каштановыми волосами, с открытым и большим лбом, веселым взглядом и горбатым, хотя и правильным, носом; с серебристой бородой, которая, лет двадцать тому назад, была еще золотая; длинными усами, небольшим ртом; с зубами, сидящими не очень редко, но и не густо, потому что у него их всего-навсего шесть и притом очень неказистых и плохо расставленных, ибо соответствия между ними нет; роста обыкновенного, ни большого, ни маленького; с хорошим цветом лица, скорее светлым, чем смуглым; слегка сутуловатый и тяжелый на ноги, — есть не кто иной, как автор Галатеи и Дон Кихота Ламанчского, сочинивший в подражание Чезаре Капорали[2] Перуджийскому Путешествие на Парнас и другие произведения, которые ходят по рукам искаженными, а иной раз и без имени сочинителя. Зовут его в просторечии Мигель де Сервантес Сааведра. Не один год служил он солдатом и пять с половиной лет провел в плену, где успел научиться терпеливо сносить несчастия. В морской битве при Лепанто выстрелом из аркебузы у него была искалечена рука, и хотя увечье это кажется иным безобразным, в его глазах оно — прекрасно, ибо он получил его в одной из самых знаменитых битв, которые были известны в минувшие века и которые могут случиться в будущем, сражаясь под победными знаменами сына «Грозы войн»[3] — блаженной памяти Карла V.
Если бы мой друг, на которого я сейчас жалуюсь, не смог припомнить обо мне ничего, кроме только что приведенных сведений, то я сам охотно бы собрал о себе дюжину-другую справок и сообщил ему их по секрету, а он прославил бы потом повсюду мое имя и превознес мое дарование. И в самом деле, думать, будто подобного рода восхваления содержат только строгую истину, — большое заблуждение, ибо ни для осуждения, ни для похвал не существует никакой твердой мерки.
Поскольку удобный случай уже упущен и я остался, так сказать, без образа и подобия, мне остается прибегнуть к своему собственному языку, и хоть я вообще и заикаюсь, но правду я буду говорить без запинки, к тому же для того, чтобы выразить ее, достаточно бывает даже знаков. Вот почему я и заявляю тебе (уже не в первый, а во второй раз), любезный читатель, что тебе ни в коем случае не удастся подцепить мои Новеллы на удочку, потому что ты не найдешь в них для этого ни головы, ни ног, ни туловища или еще чего-нибудь в том же роде; я хочу этим сказать, что любовные дела, которые там иногда изображаются, до такой степени приличны и согласованы с христианским образом мыслей, что не могут навести на другую мысль неосмотрительного или щепетильного читателя.
Я назвал их назидательными, и действительно, если как следует посмотреть, среди них нет ни одной, из которой нельзя бы было извлечь полезное назидание, и если бы не боязнь распространиться, я, пожалуй, тебе показал бы, какого рода полезную и вкусную пищу можно извлечь как из всех новелл, взятых вместе, так и из каждой в отдельности.
Моей задачей являлось вынести на широкую площадь нашего отечества своего рода шарокатный стол, к которому каждый мог бы подойти и развлечься без всякого вреда (или, вернее сказать, без вреда для души и тела), поскольку пристойные и приятные упражнения скорее полезны, чем вредны.
Ведь не всегда же мы ходим в храмы, не всегда посещаем часовни, не всегда занимаемся делами, как бы важны они ни были. Наступает час и для развлечений, когда наш удрученный дух отдыхает. С этой целью люди насаждают аллеи, ищут источники, сносят холмы и разбивают затейливые сады. Я беру на себя смелость сказать, что если чтение этих Новелл каким-нибудь образом наведет моего читателя на дурные желания и мысли, то я охотнее согласился бы отсечь руку, написавшую их, чем выпустить их в свет. Я уже в таком возрасте, что мне не приходится шутить шутки с загробною жизнью, ибо к моим пятидесяти пяти годам я успел уже прибавить целых девять лет.
Вот какую задачу поставил я своему дарованию, вот к чему я испытывал особое влечение, а кроме того, я еще полагаю (и так оно на самом деле и есть), что я первый, кто начал писать новеллы по-кастильски, ибо все печатающиеся у нас многочисленные новеллы переведены с иностранных языков, в то время как мои новеллы — моя полная собственность; сочиняя их, я никому не подражал и никого не обкрадывал: они зародились в моей душе, произведены на свет моим пером, а ныне им предстоит расти и расти в ломе печатного станка. Вслед за ними, если я буду жив, обещаю тебе выпустить Странствия Персилеса — книгу, посмевшую соперничать с Гелиодором[4], если только за подобную дерзость ей не придется поплатиться головой, а еще раньше, т. е. в самом непродолжительном времени, выйдут подвиги Дон Кихота и шутки Санчо Пансы, за которым последуют Недели в саду.
Я много беру на себя при своих слабых силах, но кто властен наложить узду на мысли? Мне хочется еще обратить твое внимание на то обстоятельство, что если я дерзнул посвятить эти Новеллы великому графу Лемосскому, — значит, они заключают в себе какую-то тайную, возвышающую их силу.
Но довольно; да сохранит тебя господь, и да поможет он мне терпеливо снести все дурное, что будут говорить обо мне наши тонкие и привередливые критики.
Vale.
Посвящение
дону Педро Фернандесу де Кастро,
ГРАФУ ЛЕМОССКОМУ,
Андрадскому и Виляльбскому, маркизу Саррийскому, дворянину свиты его величества, вице-королю, губернатору и генерал-капитану королевства Неаполитанского, командору командорства Сарсийского ордена Алькантары.
Лица, посвящающие свои произведения какому-нибудь вельможе, почти неизменно впадают в две ошибки. Во-первых, в своем так называемом посвятительном письме, которому надлежит быть кратким, сжатым, отвечающим случаю и уместным, они — в увлечении искренности или лести — не в меру распространяются и приводят на память своему благодетелю не только подвиги его отцов и предков, но и деяния его родичей, друзей и покровителей. Во-вторых, они заявляют, что сочинение свое поручают его опеке и охране для того, чтобы недоброжелательные и злоречивые люди не смели его порочить и оскорблять.
Не желая повторять те же самые промахи, я обойду здесь молчанием величие и титулы древнего и королевского дома вашей светлости и неисчислимые ваши достоинства, как природные, так и благоприобретенные, предоставляя новейшим Фидиям и Лисиппам найти мрамор и бронзу, для того чтобы их запечатлеть и изваять и тем самым позволить им состязаться в вечности с временем.
Не стану я также умолять вашу светлость опекать мою книгу, ибо знаю, что если она окажется плохой, то хотя бы я поместил ее на крылья Гиппогрифа, Астольфа или под сень Геркулесовой палицы, все равно наши Зоилы, циники, Аретины и Берни[5] не преминут поточить языки ей в осуждение, отнюдь не стесняя себя уважением к лицам. Молю вашу светлость только об одном: обратить внимание, что я — не делая из этого никакого шума — посылаю вам двенадцать повестей таких достоинств, что, не будь они сработаны в мастерской моего собственного разума, они могли бы потягаться с самыми замечательными произведениями. Но каковы бы они ни были, они направляются к вам, а я остаюсь здесь, чрезвычайно довольный сознанием, что я хоть чем-нибудь могу выказать свое желание послужить вашей светлости, как своему истинному господину и благодетелю. Да сохранит вас господь и т. д.
Мадрид, четырнадцатого июля тысяча шестьсот тринадцатого года.[6]
Слуга вашей светлости
Мигель де Сервантес Сааведра.
Посвятительные стихи
Маркиз де Альканьисес[7] Мигелю Сервантесу
Когда, Сервантес, — в правде поучений Высокой лиры, в стиле столь счастливом, — Ваш острый смысл зовет читатель дивом И отраженьем райских наслаждений; Пусть он поймет, что пожелал Ваш гений Восстановить искусством в мире лживом Ту истину, что пламенным порывом Стремится в высь незыблемых велений. Творению венец свой величавый Приносит время; в этой малой чаше Все совершенства совместились щедро; И благородный признак Вашей славы В том, что ее перо стяжало Ваше И громкое величье дона Педро[8].Фернандо Бермудес-и-Каравахаль[9],
камерарий герцога Сесского, Мигелю Сервантесу
Вековечной славе предал Гений свой трудом бесценным. Лабиринтом несравненным, Хитроумный оный Дедал; Если б имя Ваше ведал Крит, где вьется страшный ход, Он бы Вам воздал почет, Увидав двенадцать новых Лабиринтов образцовых, Хитроумнее, чем тот. Если мир нас учит ясно, Что разнообразье в нем — Ключ всего, чем мы живем, Что изящно и прекрасно; Должен он хвалить всечасно Дар Сервантеса живой, Схожий с пестрою весной, Чье разнообразье любит Слава быстрая и трубит, Что он каждый миг иной.Дон Фернандо де Лоденья[10] Мигелю Сервантесу
Покиньте, Нимфы, стройные громады, Из хрусталя воздвигнутые стены Под легкой кровлей беспокойной пены, Где редкостный коралл прельщает взгляды; Дубрав никем не ведомых Дриады, Оставьте лес, где мрак царит без смены; И вы, о знаменитые Камены, Покиньте струи, полные прохлады; Несите все живую ветвь от древа, В котором скрылась Дафна молодая, Гонимая влюбленным Аполлоном; Не будь от века стройным лавром дева, Она б им ныне стала, обвивая Чело Сервантеса венцом зеленым.Хуан де Солис Мехия[11],
столичный дворянин, читателям
О ты, что эти повести читаешь! Коль ты проник в их сокровенный разум, То истина тебе сверкнет алмазом; Под этой ризой ты ее узнаешь. Сервантес, ты глубоко постигаешь Сердца людские, если даришь разом Приятное с пристойным и рассказом Своим и души и тела питаешь. Ты, нравственность, вознесена высоко; Да, любомудрие, в такой одежде Тебя хула и зависть не заденет. А если ты и ныне одиноко, То, значит, смертный род вовек, как прежде. Твоей высокой силы не оценит.Цыганочка
Похоже на то, что цыгане и цыганки родились на свете только для того, чтобы быть ворами: от воров они родятся, среди воров вырастают, воровскому ремеслу обучаются и под конец выходят опытными, на все ноги подкованными ворами, так что влечение к воровству и самые кражи суть как бы неотделимые от них признаки, исчезающие разве только со смертью.
И вот одна из этого племени, старая цыганка, которая могла бы справить юбилей в науке Кака, воспитала под видом своей внучки девушку, которой дала имя Пресьосы и которую обучила всем цыганским ухваткам, обманным приемам и воровской сноровке.
Стала эта Пресьоса такой замечательной танцовщицей, какой даже в таборах не сыщешь, и такой красивой и умной, какой, пожалуй, не найти не то что среди цыган, но и среди всех красавиц и умниц, возвеличенных славой.
Ни солнце, ни ветры, ни непогода, которым больше, чем кто-нибудь другой, подвержены цыгане, не смогли испортить ее лицо и ошершавить руки; мало того: полученное ею грубое воспитание почти совсем в ней не сказывалось; напротив, казалось, что родилась она не в цыганской, а в лучшей доле, ибо была весьма учтива и рассудительна.
За всем тем была она несколько свободна в обращении; не так, однако, чтобы в этом было что-нибудь нескромное, нисколько: будучи вострушкой, она держалась, однако, так скромно, что в ее присутствии ни одна цыганка — ни старая, ни молодая — не отваживалась петь зазорные песни или говорить нехорошие слова.
Под конец бабушка поняла, каким сокровищем владела она в лице своей внучки, и тогда-то старый орел решил учить летать своего подлетка и обучать его жить трудами рук своих.
Пресьоса выучила множество вильянсиков, куплетов, сегидилий, сарабанд и других стихов, главным же образом романсов[12], так как они ей особенно удавались; ее пройдоха бабушка сообразила, что такие безделки и пустячки, при молодости и большой красоте ее внучки, являлись прекрасной приманкой и соблазном и могли обогатить их обеих, а потому она добывала и разыскивала эти стихи всеми возможными способами. И не мало было поэтов, которые давали свои сочинения; ибо существуют поэты, входящие в соглашение с цыганами и продающие им свои труды, подобно тому как есть поэты у слепцов, для которых они сочиняют чудеса, а потом принимают участие в выручке.
Всяко бывает на свете, — ну, а голод иной раз толкает сочинителей на такие вещи, которые не во всякой книге написаны.
Пресьосу воспитывали в различных местностях Кастилии, а когда ей исполнилось пятнадцать лет, бесстыжая ее бабушка вернулась с нею в столицу, в старый табор, — то есть туда, где обычно располагаются цыгане: на луга св. Варвары, — рассчитывая продать свой товарец в столице, где все продается и покупается. Первое появление Пресьосы в Мадриде состоялось в день св. Анны, заступницы и покровительницы юрода, в одним танце, который исполняли восемь цыганок — четыре старухи и четыре девушки — и один цыган, прекрасный танцор, бывший их вожаком; и хотя все пришли опрятными и принаряженными, щеголеватость Пресьосы была такова, что она мало-помалу очаровала взоры всех, кто на нее смотрел. Среди суеты танца, звуков кастаньет и тамбурина поднялся хвалебный ропот, превозносивший красоту и прелесть цыганочки, так что и стар и млад поспешили увидать ее и посмотреть на нее. Но когда они услышали, как она поет (так как это был танец с пением), тогда-то все и началось! Это, собственно, и решило славу цыганочки; с общего согласия распорядителей празднества ей немедленно присудили награду и подарок за лучший танец; а когда пляску повторили в церкви св. Марии перед образом святой Анны, то после того, как протанцевали все вместе, Пресьоса взяла бубен и под его звуки, делая по кругу большие и быстрые повороты, запела следующий романс:
Древо драгоценное,[13] Что в бесплодье скудном Столько лет плачевных Одевалось грустью, Не спеша ответить Чаяньям супруга И его надеждам, Поневоле смутным, Промедленьем долгим Удручая душу, Уводя от храма Праведного мужа; Пресвятая нива, Из неплодной глуби Вынесшая миру Урожай цветущий; Славный двор монетный, Где чекан задуман Богу, давший образ, Что носил он в людях; Мать пречистой девы, Той, кем бог могучий Неземную славу Свету обнаружил; Ею я собою Стала ты приютом, Анна, где целятся Скорби и недуги. В некотором смысле, Верно, и над внуком Ты имеешь силу Истинно благую. Горние чертоги Для тебя доступны, И с тобою сродных Сонм единодушен. Слава, слава зятю, Дочери и внуку! Ты по праву можешь Песнь воспеть, ликуя. Ты была, смиренно, Школой многомудрой, Дочери подавшей Скромную науку. Ныне, с нею рядом, Возле Иисуса, Ты причастна выси, Непостижной чувствам.Пение Пресьосы было таково, что восхитило всех слушавших. Одни говорили: «Дай тебе бог счастья, девушка!», другие: «Как жаль, что девушка эта — цыганка! Поистине, годилась бы она в дочери важному сеньору».
Были и другие люди, более грубого склада, которые говорили: «Дайте подрасти этой девчонке: она себя покажет! Верное слово, готовит она хороший невод для улова сердец!» А был еще один совсем уж грубый и простой неотеса: увидев, как быстро идет она в танце, он сказал: «Правильно, красотка, правильно! Танцуй, милочка, но не сгуби цветочек, милый голубочек!» А она ему ответила, не переставая танцевать: «Что жалеть цветок, молвил голубок!»[14]
Прошел канун и самый праздник святой Анны, и Пресьоса почувствовала себя несколько усталой; но зато такого шуму наделали ее красота, бойкость, ум и танцы, что только о них и говорили по всей столице.
Две недели спустя она снова появилась в Мадриде с тремя девушками, с бубном, с новым танцем, с запасом романсов и веселых, но вполне скромных песенок, ибо Пресьоса не позволяла, чтобы ходившие с ней девушки пели непристойные песни, да и сама никогда их не пела, что обращало на себя внимание многих и за что ставили ее очень высоко.
Ни на минуту не отлучалась от нее старуха цыганка, ставшая как бы ее Аргусом, из опасения, что девушку сманят или увезут; она называла ее внучкой, а та ее — бабушкой.
Стали как-то танцевать в тени на Толедской улице, и сейчас же из лиц, следовавших за ними, составилась целая толпа; пока шли танцы, старуха просила милостыню у окружающих, и на нее, словно из мешка, сыпались очавы и куарто[15], ибо красота имеет свойство пробуждать дремлющую щедрость.
Окончив танец, Пресьоса сказала:
— Если мне дадут четыре куарто, я одна пропою вам премиленький романс о том, как госпожа наша королева Маргарита отправилась на послеродовую мессу в Сан-Льоренте в Вальядолиде[16]; уверяю, романс замечательный: автор его — один из тех поэтов, что у нас наперечет, все равно как батальонные командиры[17].
Едва она это сказала, как почти все, кто стоял вокруг, стали кричать:
— Пой, Пресьоса, вот мои четыре куарто!
И так посыпались на нее куарто, что у старухи рук не хватало подбирать. Собрав таким образом обильную жатву, Пресьоса тряхнула своим бубном и на особенно щегольской и шальной лад запела следующий романс[18]:
Вышла с сыном к первой мессе Та, что всех славней в Европе, Та, что именем и блеском[19] Драгоценней всех сокровищ. Чуть она подымет очи, Души всех она уводит, Всех, кто смотрит, очарован Благочестьем и красою. В знак того, что в ней мы видим Часть небес, сошедших долу, — Рядом с нею — солнце Австрии,[20] Рядом — нежная Аврора. А за нею следом — светоч, Засиявший ночью поздно, Тою ночью, о которой И земля и небо стонут.[21] Если в небе колесницам Звезды яркие подобны, — И в ее чудесном небе В колесницах блещут звезды. Вот Сатурн, летами ветхий, Гладит бороду и холит, И легко идет, хоть грузен: Радость лечит от ломоты. За Сатурном — бог болтливый В языках идет влюбленных; Купидон — в эмблемах разных, Где рубин и жемчуг спорят. Дальше Марс идет свирепый, Восприявший стройный образ Многих юных, чью отвагу Тень ее сменяет дрожью. Возле Солнца — сам Юпитер[22]; Оттого что все возможно Для того, чей сан высокий На премудрости основан. Свет луны горит в ланитах Не одной богини дольной, Венус скромная — в обличье Тех, кто это небо создал. Маленькие Ганимеды[23] Кружат, вертятся и бродят В златоубранном окружье Этой сферы бесподобной. И чтоб каждый взгляд дивился, Всё не только здесь роскошно, Всё доходит до предела Расточительности полной. Вот Милан в богатых тканях, Пышно убранный, проходит, Индия с горой алмазов, А Аравия с бензоем. Там идет грызунья-Зависть С теми, кто замыслил злое; В сердце Верности испанской — Безбоязненная доблесть. Всеобъемлющая Радость, Разлученная со Скорбью, По путям и стогнам мчится. Буйной и простоволосой. Для немых благословений Отверзает рот Безмолвье, И молоденькие дети Песнопенью взрослых вторят. Тот поет: «Лоза благая, Возрастай, тянись и плотно Обвивай счастливый ясень, Вознесенный над тобою. Возрастай себе на славу, На защиту церкви божьей, На добро и честь Кастильн, Магомету на невзгоду». А другой язык взывает: «Здравствуй, белоснежный голубь, Даровавший жизнь орлятам, Венчанным двойной короной. Чтоб изгнать из поднебесья Стая хищников голодных, Чтобы осенить крылами Добродетель с сердцем робким». Третий, тоньше и разумней, Изощренней и ученей, Молвит, источая радость Как устами, так и взором: «Перламутр Австрийский![24] Жемчуг, Нам подаренный тобою, Сколько замыслов рассеял! Сколько обезвредил козней! Сколько рушил упований! Сколько ковов уничтожил! Сколько создал опасений! Сколько хитростей расстроил!» Между тем она подходит К храму феникса святого,[25] Что, испепеленный в Риме, Для бессмертной славы ожил. Перед ликом вечной жизни, Перед госпожою горней, Перед той, что за смиренье Ныне шествует по звездам; Перед матерью и девой, Перед дочерью господней И невестой на коленях Маргарита произносит: «Я твой дар тебе вручаю, Расточающая помощь; Там, где нет твоей защиты, Изобилуют недоли. Я несу тебе сегодня Первый плод мой, матерь божья; Пусть тобой он будет принят, Защищен и приумножен. Об отце его помысли, Об Атланте, удрученном Тяжким гнетом царств столь многих И владений столь далеких. Знаю, сердце властелина Навсегда в руках господних. И от бога ты получишь Всё, о чем его попросишь». По свершении молитвы В новом гимне, ей подобном, Хор величит божью славу, Ныне явленную долу. По свершении служенья, В блеске пышных церемоний Вспять вернулось это небо Вместе с сферой бесподобной.Как только окончила Пресьоса свой романс, вся почтенная аудитория и строгий трибунал, ее слушавшие, слились в одном общем крике, гласившем: «Пой еще, Пресьоса, в куарто недостатка не будет!»
Больше двухсот человек смотрело тогда на танцы и слушало пение цыганки, и в самый разгар веселья случилось пройти теми местами одному из городских приставов. Заметив, что собралось столько народу, он спросил, в чем дело; ему ответили, что слушают, как красавица цыганка поет песни.
Подошел любопытный пристав, послушал минутку и, дабы не ронять своего достоинства, не дослушал романса до конца; а так как ему показалось, что цыганочка была выше всяких похвал, он велел одному из пажей сказать старухе цыганке, чтобы та вечером явилась вместе с цыганками к нему на дом; хотелось ему, чтобы послушала их жена его, донья Клара. Паж выполнил поручение, и старуха ответила, что придет.
Окончились танцы и пение, и перешли было на другое место, как вдруг к Пресьосе приблизился какой-то очень хорошо одетый паж и, протянув ей сложенную бумагу, сказал:
— Выучи, Пресьоса, вот этот романс. Он весьма недурен; а я тебе буду давать время от времени еще и другие, так что пойдет о тебе слава как о лучшей на всем свете исполнительнице романсов!
— Выучу, и с большим удовольствием! — ответила Пресьоса. — Только смотрите, сеньор, не забудьте принести обещанные романсы, конечно, при условии, что они будут приличны! Если вам угодно получить плату, сговоримся на дюжины: спели дюжину — и заплатили за дюжину; если же вы думаете, что я буду платить вперед, это дело невозможное!
— Если вы мне заплатите за бумагу, сеньора Пресьоса, — ответил паж, — я и на том скажу спасибо, и кроме того, если романс окажется нехорошим или нескромным, считать его не будем!
— Пусть за мной останется право выбора! — сказала Пресьоса.
После этого цыганки пошли дальше по улице. Из-за решетки одного окна их позвали какие-то кавальеро. Прижалась Пресьоса к решетке, находившейся невысоко, и увидела в хорошо убранной и прохладной комнате нескольких кавальеро: одни занимались тем, что прохаживались по комнате, другие играли в разные игры.
— Не хотите ли вы, сеньоры, дать мне магарыч? — спросила Пресьоса, говорившая как и все цыганки пришепетывая, причем это у них не от природы, а особая повадка.
При звуке голоса Пресьосы и при виде ее лица игравшие оставили игру, а ходившие — свое хождение, те и другие поспешили к решетке посмотреть на цыганочку — Ибо все уже о ней слышали — и сказали:
— Заходите, заходите, цыганочки: получите магарыч!
— Не выйдет ли только дорого, — возразила Пресьоса, — если нас тут станут щипать?
— Нет, вот тебе слово кавальеро! — сказал один из них, — Можешь быть спокойна, малютка, что никто у тебя ремешка на башмаке не тронет; ничего не будет, клянусь знаком ордена, который у меня на груди. — И он положил руку на крест Калатравы.
— Если хочешь войти, Пресьоса, — сказала одна из трех бывших с ней цыганок, — иди себе на здоровье, а я не хочу идти туда, где столько мужчин!
— Нет, Кристина, — ответила Пресьоса, — если чего и нужно бояться, так это одного мужчины и наедине, а не большого общества; потому что одно то, что их много, исключает страх и опасение обиды. Заметь, Кристина, и знай: если женщина захочет быть честной, то останется таковой среди целой армии солдат. Правда, всегда следует избегать опасных случайностей; но под ними следует разуметь тайные, а не явные.
— Ну, идем, Пресьоса, — ответила Кристина, — ты ведь у нас ученей ученого.
Старая цыганка их ободрила, и они пошли. Едва только Пресьоса успела войти, как кавальеро со знаком ордена заметил лист бумаги, находившийся у нее на груди; он подошел и выхватил его. Пресьоса ему заметила:
— Не отбирайте его у меня, сеньор; это романс, который мне только что подарили, я его еще не читала.
— А ты, красавица, умеешь читать? — спросил кто-то.
— И писать, — сказала старуха. — Я воспитала свою внучку как дочь какого-нибудь стряпчего.
Кавальеро развернул бумагу и, увидев, что в ней лежит золотой эскудо, воскликнул:
— Ай да Пресьоса!.. К письму приложена плата за доставку; получай эскудо, который находится при романсе!
— Ловко! — воскликнула Пресьоса. — Поэт принял меня за нищую. Честное слово, не то удивительно, что я
получаю эскудо, а удивительно то, что его дает мне поэт! Если все его романсы будут с подобным приложением, что бы ему переписать весь Romancero general[26] и давать мне каждый раз по стихотворению! Уж я бы «пощупала» пульс его золотым и, как бы ни трудно ему было с ними расставаться, принимать их я буду очень легко!
Все слушавшие цыганочку пришли в восторг от ее ума и ее острых слов.
— Читайте же, сеньор, — сказала она, — да погромче; посмотрим, так ли умен этот поэт, как щедр.
И кавальеро прочел следующее:
С красотою несравненной Все сравненья будут тщетны: Словно камень самоцветный, Ты зовешься Драгоценной.[27] Этой мысли справедливость На тебе узнать могли мы: Никогда неразлучимы Красота и горделивость. Если ты казнить решилась Нас надменностью своею, Я поистине жалею Век, в который ты родилась. Ведь а тебе растет, хитана, Василиск, разящий взором, Нежный властелин, в котором Мы предчувствуем тирана. Как же мог шатер походный Дать такое чудо свету? Как взлелеял прелесть эту Мансанарес мелководный? Потому затмит он славой Золотого Тахо волны; Перед ним, смиренья полный, Ганг померкнет величавый. Всем сулишь благословенья, А сама приносишь горе; У тебя в жестоком споре Красота и помышленья. В страшный миг, когда предстанешь Тем, кто ждет тебя, мечтая, В помышленьях ты святая, Красотою — насмерть ранишь. Говорят у вас в народе, Что ни женщина — колдунья; Колдовство твое, плясунья, Не совсем в таком же роде. Для того, чтобы невольно Всех кругом лишить рассудка, Всякий раз тебе, малютка, Колдовских очей довольно. Власть твоя что день — чудесней; Танцем манишь нас летучим, Убиваешь взглядом жгучим, Зачаровываешь песней. Ты на сто ладов колдуешь: Словим, взглядом, пляской, пеньем, Приближеньем, удаленьем Ты огонь любви волнуешь. Над свободною душою Ты царишь желанной мукой; В том моя душа порукой, Покоренная тобою. Страсти камень драгоценный! Тот, кто эти строки пишет, Лишь тобой и мертв и дышит, Пленник бедный и смиренный.— Бедный стоит в последнем стихе, — сказала на это Пресьоса: — плохой признак! Влюбленные никогда не должны говорить о своей бедности, потому что в начале любви бедность, сдается мне, — большой порок.
— Кто тебя учит всему этому, милочка? — раздался голос.
— А кто же меня должен учить? — возразила Пресьоса. — Разве в теле моем нет души? Или мне не пятнадцать лет? Я ведь не сухорукая, не кривобокая и не повреждена в разуме! Цыганский ум работает совсем иначе, чем у всех остальных людей: всегда он зрелее своих лет; цыган дураком не бывает, не найдется и цыганки простофили; для того чтобы заработать себе на хлеб, нужно быть острым, хитрым и плутоватым, — вот они и пускают в ход смекалку на каждом шагу, не позволяя ей лежать под спудом… Посмотрите на девушек, моих товарок: они молчат и кажутся дурочками; а ну-ка, доложите им палец в рот да пощупайте, где у них зуб мудрости, так и увидите, что они такое! Нет! У нас любая двенадцатилетняя девочка стоит иной двадцатипятилетней, потому что учитель их и наставник — дьявол и сама жизнь, которая в один час научает тому, чему нужно целый год учиться!
Словами своими цыганочка произвела впечатление на всех слушающих, так что магарыч ей дали не только те, кто играл, но даже и не игравшие.
Схватила жадная старуха тридцать реалов и, просияв и возликовав, точно светлое христово воскресенье, соврала своих овечек и направилась в дом сеньора пристава, уговорившись, что на следующий день вернется со своей ватагой позабавить столь щедрых господ.
Донья Клара, жена пристава, уже была предупреждена, что цыганки собираются к ней на дом, а потому поджидала их словно майского дождика, и не только она, но и ее девушки и дуэньи, а также челядь другой сеньоры, ее соседки; все сбежались посмотреть на Пресьосу. И едва только вошли цыганки, как Пресьоса засияла среди них, словно свет факела среди других малых огней; все подбежали к ней: одни ее обнимали, другие рассматривали, те превозносили, эти хвалили. Донья Клара приговаривала:
— Вот это, можно сказать, действительно золотые волосы! Вот это так изумрудные глазки!
Соседка же разбирала всю ее по кусочкам и подробно разглядывала каждую ее частичку и связочку. И, начав хвалить маленькую ямку на подбородке у Пресьосы, сказала:
— Ну и ямочка! Об эту ямку споткнется всякий, кто на нее взглянет!
Услышал это лакей доньи Клары, стоявший тут же, человек старый и с большой бородой, и сказал:
— Ваша милость сеньора называет это ямочкой? Ну так или я в ямках ничего не смыслю, или же это не ямка, а просто-таки могила живых желаний! Такая, ей-богу, славненькая эта цыганочка, что, будь она серебряная или из пряника, она не могла бы быть краше!.. Умеешь ворожить, малютка?
— Знаю три или четыре способа, — ответила Пресьоса.
— Ах, ты еще и гадалка? — сказала донья Клара. — Ну, так клянусь жизнью моего благоверного, ты мне погадаешь! Ах ты, золотая моя девушка! Ах ты, серебряная! Ах ты, жемчужная! Ах ты, рубиновая! Ах ты, небесная — лучше я уже и сказать не сумею.
— Вот, дайте ей ладонь да еще дайте, чем сделать крест, — сказала старуха, — тогда увидите, что она вам расскажет; знает она побольше, чем иной доктор медицины!
Опустила жена пристава руку в кошель и увидела, что не было у нее ни бланки[28]. Она попросила куарто у девушек, — и ни у одной не нашлось; не было ничего и у соседки. Увидев это, Пресьоса сказала:
— Что до крестов, все кресты, конечно, хороши, но золотой или серебряный куда лучше; а если сделать крест на ладони медной монетой, то имейте в виду, что это портит удачу… мою по крайней мере; а потому мне бы хотелось сделать первый крест золотым эскудо или хотя бы осьмерным, или в крайнем случае четверным реалом; я ведь все равно, что ризничий; когда есть хорошие приношения, бываю радехонька!
— Остра ты, девушка, бог с тобою! — сказала соседка.
И, повернувшись к лакею, сказала:
— А у вас, сеньор Контрерас, не найдется под рукой четверного реала? Одолжите мне; когда придет доктор, мой муж, я вам отдам.
— Да, есть, — ответил Контрерас, — да только он у меня заложен за двадцать два мараведиса, которые я заплатил вчера вечером за обед, — одолжите мне их, так я мигом за ним слетаю.
— У нас у всех нет ни одного куарто, — заметила донья Клара, — а вы просите двадцать два мараведиса! Что вы, в самом деле, Контрерас, какой вы всегда дерзкий!
Одна из присутствовавших девушек, видя такой неурожай в доме, сказала Пресьосе:
— Скажи, малютка, а ничего, если сделать крест серебряным наперстком?
— Напротив, — ответила Пресьоса, — самые лучшие кресты делаются серебряными наперстками, если только их много.
— У меня всего-навсего один, — ответила служанка, — если его довольно, — вот он, но с уговором, что ты мне тоже погадаешь.
— За один наперсток стольким гадать? — вставила старуха цыганка. — Кончай скорей, внучка, уже становится поздно.
Взяла Пресьоса напересток и руку жены пристава и заговорила:
Ты красотка, ты красотка, Ты серебряные лапки, Муж тебя нежнее любит, Чем властитель Альпухарры.[29] Ты смиреннее голубки, Хоть порой приходишь в ярость Как оранская тигрица Или львица из Оканьи. Но едва взглянуть успеешь, — И прошла твоя досада, И опять ты, как овечка, Или как миндальный сахар. Споришь много; ешь ты мало; И ревнива сплошь да рядом; Потому что пристав — ветрен, Часто посох прислоняет. Ты была еще девицей, Одному мила красавцу; Пусть неладны будут люди, Разрушающие счастье! Если б приняла ты постриг, Ты б игуменьей уж стала; У тебя для черной бабки На ладони линий двадцать. Говорить бы не хотелось; Все равно, скажу, пожалуй; Овдовеешь ты, и дважды; Оба раза выйдешь замуж. Ты не плачь, моя сеньора; Не всегда же ведь цыганкам Как евангелию верить; Перестань же, полно плакать. Так как суждено, чтоб пристав Пережил тебя, то значит, Нечего и сокрушаться О вдовстве, тебе грозящем. Скоро ждет тебя наследство Крупное, и очень даже; Будет сын у вас, каноник; Хоть собор не обозначен; Только вряд ли что Толедский. Будет дочка-светлоглазка; Если примет постриженье, Настоятельницей станет. Если муж твой в этот месяц Не скончается внезапно, Будет он коррехидором В Бургосе иль в Саламанке. У тебя еще есть прелесть — Родинка, что месяц ясный; Он незримые долины Антиподам озаряет. Чтоб ее увидеть, дал бы И слепец четыре бланки. Вот, теперь ты улыбнулась; Ну, и прелесть же ты, право! Будь внимательна, не падай, И в особенности навзничь; Это может быть опасным Для такой почтенной дамы. Много есть еще сказать мне: Хочешь — в пятницу узнаешь; Кое-что приятно будет, А иное неприятно.Пресьоса кончила гадание, и у присутствующих разгорелось желание узнать свою судьбу. Все стали просить ее погадать, но она отложила это до будущей пятницы, причем все пообещали, что у них будут серебряные реалы для делания крестов. В эту минуту вошел сам пристав, которому уже рассказали чудеса про гадалку. Он заставил цыганок немного потанцевать и признал истинными и заслуженными похвалы, расточаемые Пресьосе. Затем он опустил руку в кошель с видом человека, желающего подарить деньги, и хоть он его и обшарил, и встряхнул несколько раз, и поскреб, а все-таки вынул пустую руку и сказал:
— Клянусь богом, у меня нет ни бланки! Подарите вы, донья Клара, реал Пресьосе. Я вам потом отдам.
— Хорошее дело, сеньор, нечего сказать! Так вот и выложили вам реал! У всех нас не нашлось даже куарто, чтобы поставить знак креста на руке, а вы хотите, чтобы у нас оказался целый реал?!
— Ну, так дайте ей один из ваших валлонских воротников или какую-нибудь другую вещицу. Когда Пресьоса зайдет к нам в следующий раз, мы ее лучше одарим.
На это донья Клара заметила:
— Вот для того, чтобы она еще раз зашла, я и не хочу теперь ничего дарить Пресьосе!
— Положим, если мне ничего не дадут, — вставила Пресьоса, — я и вовсе не приду! Ну, да нет, приду: ублажу столь важных сеньоров! Однако на носу себе зарублю, что мне тут получать нечего, и тем освобожу себя от труда ожидания!.. Взятки брать надо, ваша милость сеньор пристав, берите взятки, тогда и деньги будут! И не заводите никаких новых порядков, а не то вы умрете с голоду!.. Знаете, сеньора, довелось мне тут слышать (хоть я и молода, а понимаю: нехорошие это речи), что, состоя на службе, следует наживать деньги, а иначе нечем будет оплатить злоупотребления и не будет средств для обеспечения себе другой должности.
— Так говорят и поступают люди бессовестные! — произнес пристав. — Если чиновник хорошо сдаст отчетность, ему не приходится платить никаких взысканий, а то, что он не злоупотреблял по должности, послужит ему основанием для получения новой.
— Вы, ваша милость сеньор пристав, говорите совсем как святой, — заметила Пресьоса, — так и запишем и будем с вас тряпочки резать для реликвий.
— Умная ты очень, Пресьоса! — ответил пристав. — Постой, я так устрою, чтобы король с королевой тебя увидели: вот при ком тебе бы следовало состоять!
— Определят они меня к себе в шутихи, — сказала Пресьоса, — а я для этого не гожусь, и, значит, дело не выйдет! Вот если бы они меня за мой ум взяли, я бы пошла; а то ведь в ином дворце шуты ценятся выше умных. Я нахожу, что неплохо быть бедной и цыганкой — и пусть ведет судьба, куда небу будет угодно!
— Эй, девушка! — сказала старуха цыганка. — Довольно болтать; ты уже много говорила и знаешь больше, чем я тебе показывала; не пускайся в тонкости, а не то споткнешься; говори только о том, что к твоим летам больше подходит, и не залезай в высокие вопросы: ведь с больших высот и упасть нетрудно.
— Черт, должно быть, в них сидит, в этих цыганках! — сказал на этот раз пристав.
Цыганки стали прощаться, а когда они уходили, девушка, давшая наперсток, сказала:
— Пресьоса, или ты мне сейчас погадаешь или отдавай обратно наперсток, а то мне шить нечем.
— Милая моя, — сказала ей Пресьоса, — лучше считай, что я тебе уже погадала, и заведи себе другой наперсток или же не шей мелких складочек до пятницы. Я снова приду и нагадаю тебе столько приключений и происшествий, сколько в рыцарском романе не сыщешь!
Ушли они и присоединились к толпе поселянок, которые в вечерний час обычно выходят из Мадрида и расходятся по своим деревням. Среди них находились также и те, с которыми ходили наши цыганки, и всегда благополучно. Дело в том, что старая цыганка жила в постоянной тревоге, как бы у нее не украли ее Пресьосу. И вот случилось, что однажды утром, когда они вместе с другими цыганками шли в Мадрид «собирать дань», в небольшой долине, находившейся примерно в пятистах шагах не доезжая до города, увидели они статного юношу в богатом дорожном платье. Шпага его и кинжал блестели, словно червонное золото; шляпа с дорогим убором была украшена перьями разных цветов. Приостановились цыганки при виде его и пристально на него уставились, даваясь диву, с чего бы это оказаться столь пригожему юноше в такой час и в таком месте пешему и одному.
Между тем юноша приблизился к ним и, обратившись к старой цыганке, сказал:
— Послушайте, голубушка, вы мне сделаете большое одолжение, если вместе с Пресьосой выслушаете меня тут в стороне; всего два-три слова, которые вам будут весьма полезны.
— Если только не нужно отходить далеко от дороги и если мы не задержимся, — в час добрый! — ответила старуха.
И, подозвав Пресьосу, она отошла в сторону от остальных шагов на двадцать. Все трое остались стоять, как и раньше, и юноша начал так:
— До такой степени пленили меня ум и красота Пресьосы, что, сделав над собой немало усилий, дабы не позволить делу зайти далеко, я в конце концов почувствовал себя еще более очарованным и еще более бессильным бороться с собой. Я, сеньоры мои (и всегда буду так величать вас, если только небо окажет покровительство моему исканию), кавальеро, как это может подтвердить этот орденский знак, — и, распахнув на груди плащ, он показал им знак одного из самых почитаемых орденов Испании: — я сын такого-то (из весьма понятного почтения не будем называть его имени) и состою под его опекой и покровительством. Я — единственный сын в семье и ожидаю в наследство приличный майорат… Отец мой находится здесь, в столице, хлопоча о должности; он уже имел аудиенцию и почти уверен в успехе своего дела. И хотя у меня есть, как я вам уже сказал, и родовитость, и знатность, и притом такие, что они и для вас очевидны, я хотел бы быть грандом Испании, для того чтобы поднять до большей высоты скромное звание Пресьосы, сделав ее своей ровней и женой. Добиваюсь я ее не для того, чтобы потом насмеяться, — да и с серьезностью моей любви к ней несовместимо никакое легкомыслие; все, чего я хочу, — это служить ей так, как она сама того пожелает: ее воля — моя воля! Для нее душа моя — воск, на котором она может запечатлеть все, что ей будет угодно, в твердой уверенности, что я сберегу этот оттиск в такой сохранности, словно он не из воска, а из мрамора, прочность которого может поспорить с силою времени! Если вы поверите истине моих слов, моя надежда укрепится; если же нет, недоверие ваше будет томить меня вечной тревогой. Меня зовут… — и он назвал себя, — имя моего отца я уже вам сказал; дом, где он живет, находится на такой-то улице, и приметы дома такие-то и такие-то; соседи его отлично знают, но вы можете осведомиться о нем не только у соседей: ибо не такого уж захудалого рода отец мой и я, чтобы нас не знали во дворце, да, наконец, и во всей столице… Сейчас я принес с собой сто эскудо золотом, как бы в залог, и в ознаменование щедрот, которыми я вас осыплю впоследствии, ибо не подобает скупиться на деньги человеку, отдающему свою душу.
В то время как кавальеро говорил это, Пресьоса внимательно разглядывала его, и несомненно, что ни речи его, ни его стан не должны были показаться ей неприятными; повернувшись к старухе, она сказала:
— Прости меня, бабушка, если я возьму на себя смелость ответить этому влюбленному сеньору.
— Отвечай, что тебе угодно, внучка, — ответила старуха, — ведь я знаю, что у тебя ума на все хватит.
И Пресьоса ответила:
— Хоть я и цыганка, сеньор кавальеро, и родилась в простоте и бедности, но в душе у меня сидит некий своенравный бесенок, который толкает меня на великие дела. Обещания меня не трогают, не могут склонить подарки, не подкупает покорность, не пронимают любовные ухищрения, и хотя мне и пятнадцать лет (по счету моей бабушки мне исполнится пятнадцать в день святого Михаила), а я уже старуха по своим мыслям и понимаю больше, чем это естественно в мои годы: по прирожденной способности, конечно, а не по опыту! По тому ли, по другому ли, — я знаю, однако, что любовная страсть в человеке, недавно влюбившемся, есть неразумный порыв, который выводит волю из равновесия, и она, попирая препоны, неразумно устремляется вслед желанию и, думая обрести райское блаженство, находит мучения ада. Едва человек достигает желаемого, как желание его хиреет, и оттого, должно быть, что у него снова открываются очи разума, ему кажется вполне законным ненавидеть то, что обожал он раньше. Этого я больше всего боюсь, и это порождает во мне такую осторожность, что никаким словам и никаким делам я не поверю! Есть у меня одно сокровище, которое для меня дороже самой жизни: это моя непорочная девственность, и не следует мне ее продавать ни за обещания, ни за подарки, ибо все-таки это — продажа; если ее вообще можно купить, значит, невелика ей цена, но не возьмут ее у меня ни уловками, ни обманами, скорее я унесу ее с собою в могилу (а если сподоблюсь рая, то и в рай), но не допущу, чтобы ее совратили с пути и опозорили несбыточные мечтания и бредни.
Цветок девственности есть дар, на каковой, если возможно, даже мысленно не следует посягать. Стоит только срезать розу с куста, и она легко и быстро увянет! Один вдохнет ее аромат, другой ее тронет, третий ощиплет, глядь — и погибла она в грубых руках! Если вы, сеньор, пришли сюда за этим сокровищем, то получите его только после того, как свяжете себя узами брака; ибо девственность может склониться перед одним этим священным игом; тогда для нее не будет потери, ибо она будет обращена в дело, приносящее богатый доход! Если вы пожелаете стать для меня мужем, я буду вашей женой; но для этого я должна с вами о многом уговориться и кое-что проверить.
Прежде всего я должна установить, являетесь ли вы в действительности тем лицом, за которое вы себя выдаете; затем, когда я увижу, что это правда, вы должны будете покинуть родительский дом и променять его на наши кибитки. Надев цыганское платье, вы должны два года провести в нашей «школе»; за этот срок я постараюсь изучить ваш характер, а вы разберетесь в моем. Если по истечении положенного срока вы останетесь довольны мной, а я — вами, я сделаюсь вашей женой; до этого времени я буду вести себя с вами как сестра и услужать вам как прислужница.
Вы должны принять также во-внимание, что за время этого послушничества у вас, может статься, откроются глаза (которые сейчас, конечно, ослеплены или, во всяком случае, отуманены), и вы увидите, что вам следует бежать от того соблазна, за которым вы ныне с таким упорством следуете; а когда люди, возвращая себе утраченную свободу, приносят чистосердечное покаяние, им отпускаются всякие грехи.
Если вы согласны на этих условиях поступить в солдаты нашего воинства, — ваше дело; но если вы нарушите хотя бы одно из них, то не видать вам и пальца моей руки!
Юноша был ошеломлен речами Пресьосы и стоял словно зачарованный, опустив глаза в землю, в позе человека, обдумывающего свой ответ. Заметив это, Пресьоса снова заговорила:
— Вопрос этот — дело очень серьезное, которое нельзя, да и не следует решать в те немногие минуты, которые мы имеем сейчас в распоряжении; вернитесь обратно в город, сеньор, и обдумайте на досуге, что вам, на ваш взгляд, больше подходит; на этом самом месте вы можете переговорить со мной в любой праздник по дороге в Мадрид или на обратном пути оттуда.
На это молодой дворянин ответил:
— О Пресьоса! В ту самую минуту, когда небо определило мне любить тебя, я решил сделать для тебя все, что тебе будет угодно приказать, — хотя мне никогда в голову не приходило, чтобы ты могла попросить то, чего просишь! Но если тебе хочется, чтобы моя воля во всем совпадала и согласовалась с твоей, — считай меня отныне цыганом и делай надо мной все опыты, какие пожелаешь: — всегда найдешь ты меня таким, как я являюсь ныне! Слушай, ты хочешь, чтобы я надел цыганское платье? Так сделаем это поскорее! Под предлогом поездки во Фландрию я обману своих родителей и достану денег, чтобы было чем жить на первое время; около недели уйдет у меня на приготовление к отъезду. Тех, кто меня будет сопровождать, я сумею провести и добьюсь исполнения своего плана. Об одном прошу (если только я могу уже просить и умолять тебя о чем-либо): не ходи больше в Мадрид! Разве только сегодня, чтобы разузнать там обо мне и происхождении моих родителей. Я не хочу, чтобы одна из бесчисленных опасностей, которые тебя там подстерегают, лишила меня моего драгоценного счастья.
— Нет, этого не будет, сеньор! — сказала Пресьоса. — Знайте: я всегда должна быть совершенно свободна, я не хочу огорчаться и страдать от подозрений ревности, но я никогда не переступлю положенных границ, и всякому за сто миль видно будет, что свобода обращения соединяется у меня с невинностью. Первая обязанность, которую я возлагаю на вас, — это обязанность оказывать мне доверие. Имейте также в виду, что поклонники, начинающие с того, что ревнуют, либо неумны, либо самоуверенны.
— Сатана в тебе сидит, девушка! — оказала в это время старуха цыганка. — Ведь ты говоришь вещи, которых иной саламанкский ученый не скажет! Ты толкуешь о любви, рассуждаешь о ревности, о доверии, — что же это такое? Ты меня с ума сведешь! Я тебя слушаю как какую-нибудь одержимую, которая говорит по-латыни, сама того не ведая.
— Молчи, бабушка! — сказала Пресьоса. — И знай, что все тобой слышанное, — просто шутки и пустяки; немало У меня есть вещей посерьезнее, которые я держу про себя.
Говорить все то, что говорила Пресьоса, и выказывать при этом так много ума, значило подливать масло в огонь, пылавший в груди влюбленного кавальеро.
В заключение они условились, что через неделю увидятся на этом же месте, куда он явится сообщить ей о состояний своих дел. Тем самым цыганки будут иметь время проверить истинность его слов.
Юноша вынул парчовый кошелек, где, по его словам, находилось сто золотых эскудо, и отдал его старухе; однако Пресьоса ни за что не соглашалась, чтобы та взяла их.
На это старуха ей заметила:
— Молчи, дитя! Лучшее доказательство любви, данное сеньором, — это сдача оружия в знак покорности. Всякий же дар, при каких бы обстоятельствах он ни имел место, всегда является доказательством благородного сердца. Не забывай также и пословицу, гласящую: «богу молись, а сам молотком стучи». А затем не хочу я, чтобы из-за меня цыганки утратили славу корыстолюбивых и жадных, которую они с незапамятных пор себе стяжали. Ты, Пресьоса, хочешь, чтобы я отказалась от ста золотых, а их отлично можно зашить в складки юбки, не стоящей двух реалов, и чувствовать себя так, словно ты владелец пожизненного права на эстремадурские пастбища![30] А что, если один из сыновей наших внуков или родственников попадет, упаси боже, в руки правосудия?! Найдется ли тогда покровитель, которому ухо судьи и писца станет внимать охотнее, чем этим самым червонцам, когда они очутятся у них в кармане? Три раза, и каждый раз за особое преступление, видела я себя уже на осле и готовилась принять плети[31], и выручил меня в первый раз серебряный кувшин, во второй — нитка жемчуга, а в третий — сорок осьмерных реалов, которые я разменяла на куарто, приплатив еще двадцать реалов за размен. Заметь, малютка, что мы занимаемся ремеслом опасным, полным заковырок и больших трудностей, и ни один защитник не охранит и не спасет нас так, как непобедимый герб великого Филиппа, — незачем ходить дальше его «plus ultra».[32] Один «двухголовый» дублон[33] сразу развеселит сердитое лицо прокуратора и всех прислужников смерти, — а для нас, бедных цыганок, это сущие гарпии: им куда приятнее грабить нас и драть с нас шкуру, чем обобрать разбойника с большой дороги! Какими бы рваными и обтрепанными они нас ни видели, никогда они не считают нас нищими, говоря, что мы все равно что куртки гасконцев, попадающих в Бельмонте; хоть они и грязны и засалены, а набиты червонцами.[34]
— Умоляю тебя, бабушка, замолчи! Ты способна привести столько «законов» в пользу удержания при себе денег, что и всего римского права не хватит! Оставь их себе, и пусть они пойдут тебе на пользу, и помоги тебе бог упрятать их в такую могилку, откуда бы им уж никогда обратно не выбраться, да чтобы и нужды в том не было! Следовало бы только дать что-нибудь нашим спутницам: они давно нас ждут и, должно быть, уже сердятся.
— Не увидать им отсюда, — возразила старуха, — ни одной монеты, как не видать сейчас турецкого султана! Добрый сеньор посмотрит, не осталось ли у него какой-нибудь серебряной монеты или нескольких куарто, и оделит ими девушек: они и малому будут рады.
— Да, у меня есть, — сказал кавальеро и, вынув из кошеля три осьмерных реала, разделил их поровну между тремя цыганочками, после чего они сделались так же веселы и довольны, как содержатель театра, когда, назло сопернику, про него пишут на всех углах: «Виват! Виват!»
В заключение уговорились, как уже было сказано, о встрече через неделю и о том, что юноша, сделавшись цыганом, будет называться Андрес Кавальеро, ибо как раз такое же прозвище встречалось среди цыган.
У Андреса (ибо так мы будем отныне называть его) не хватило смелости обнять Пресьосу, а потому, послав ей во взгляде душу, он простился с цыганками, так сказать, «без души» и направился в Мадрид, а они в отличнейшем настроении духа сделали то же самое.
Пресьосе, почувствовавшей расположение, — скорее по доброте сердца, чем от любви, — к изящной внешности Андреса, очень хотелось узнать, тот ли он самый, что сказал. Она пришла в Мадрид и, пройдя несколько улиц, встретилась с пажом, автором стихов со вложением эскудо; едва он ее увидел, как подошел к ней со словами:
— Добро пожаловать, Пресьоса. Ты уже, наверное, прочла стихотворение, которое я тебе дал вчера?
Пресьоса ответила:
— Прежде чем я скажу вам хоть слово, вы должны мне ответить всю правду: заклинаю вас тем, что вам дороже всего на свете!
— Это такое заклятие, что если бы сказать истину, стоило жизни, я и тогда ни за что бы не отрекся от нее!
— Правда, которой я от вас добиваюсь, — сказала Пресьоса, — следующая: ведь вы, кажется, поэт?
— Будь я поэт, — ответил паж, — это было бы, конечно, счастьем! Но нужно тебе знать, Пресьоса, что весьма немногие достойны этого имени, а потому я и не поэт, а всего только любитель поэзии! Для своих личных нужд я не прошу и не ищу чужих стихов; те, что я тебе дал, — мои, и эти, что сейчас даю, — тоже; но по одному этому я еще не поэт, да и у бога того не прошу.
— Так плохо быть поэтом? — спросила Пресьоса.
— Не плохо, — сказал паж, — но быть поэтом и ничем больше, думаю, не очень хорошо! С поэзией надо обращаться, как с богатейшей драгоценностью, которую владелец не должен надевать каждый день и показывать всем и каждому при первом удобном случае: ее следует показывать только тогда, когда это разумно и уместно. Поэзия — это прекраснейшая девушка, целомудренная, скромная, умная, живая и любящая уединение, никогда не преступающая границ, установленных благоразумием. Ей нравятся пустынные места, ее забавляют ручьи, поля ей приносят отраду, ее умиляют деревья, радуют цветы, — одним словом, она восхищает и поучает всех, кто с нею общается!
— За всем тем, — вставила Пресьоса, — приходилось мне слышать, что она очень бедна и смахивает на нищенку.
— Скорей наоборот, — возразил паж, — нет такого поэта, который бы не был богачом, ибо все они довольны своим положением, — мудрость, доступная немногим! Но что заставило тебя, Пресьоса, задать такой вопрос?
— Дело в том, — ответила Пресьоса, — что я считаю всех или, по крайней мере, большинство поэтов бедными и поэтому очень удивилась золотому эскудо, вложенному вами в стихи; теперь же, когда я знаю, что вы не поэт, а всего только любитель поэзии, вы, пожалуй, можете быть и богаты. Впрочем, сильно сомневаюсь… и по той причине, что то самое свойство, которое склоняет вас писать стихи, должно вас делать расточительным, ибо, говорят, нет поэта, умеющего сохранить то, что у него есть, и нажить то, чего у него нет.
— В таком случае, я не из их числа, — возразил паж. — Я пишу стихи и вместе с тем не богат и не беден. Без сожаления и без «высчитывания» (как это делают генуэзцы со своими гостями) я свободно могу дать один-два эскудо, кому пожелаю. Возьмите же, драгоценная жемчужина, этот второй лист и эскудо, в него вложенный, и не утруждайте себя размышлениями, поэт я или не поэт! Хотелось бы только, чтобы вы знали и верили, что дающий вам эти деньги желал бы обладать богатствами Мидаса, чтобы предоставить их вам!
С этими словами он протянул ей бумагу. Пощупав ее и заметив, что внутри находится эскудо, Пресьоса сказала:
— Много лет будет жить эта бумага — в ней ведь две души: одна — из золота, другая — из стихов, которые всегда бывают полны «душ» и «сердец». Только знайте, сеньор паж, не хочу я для себя так много душ, а если вы не берете назад одну, не пугайтесь, если я верну вам другую. Я в вас люблю поэта, а не ваши подарки: только так установится у нас прочная дружба; к тому же каждому человеку скорее пригодится лишний эскудо, чем написанный романс.
— Ну, если ты, Пресьоса, хочешь, — сказал паж, — сделать меня во что бы то ни стало бедняком, не отвергай, по крайней мере, души, которую я посылаю тебе в этой бумаге, и давай обратно эскудо. Так как ты прикоснулась к нему рукой, я буду хранить его как талисман в течение всей моей жизни.
Пресьоса вынула из листа эскудо, а бумагу оставила при себе, но не захотела читать ее на улице. Паж откланялся и ушел предовольный, думая, что Пресьоса им очарована, ибо она разговаривала с ним весьма приветливо.
Так как танцами задерживать себя она нигде не хотела, а глаза ее были заняты розысками дома отца Андреса, то очень скоро она очутилась на хорошо ей известной улице, где находился этот дом. Пройдя по ней почти до половины, она подняла глаза на балкон из золоченого железа (так было обозначено в приметах) и увидела на нем кавальеро лет пятидесяти, со знаком красного креста на груди, почтенного и важного с виду. Когда он, в свой черед, заметил цыганочку, то сказал:
— Заходите, малютки! Здесь вам дадут денег.
При звуке его голоса на балкон поспешили выйти еще три кавальеро, в их числе и влюбленный Андрес, который, увидев Пресьосу, изменился в лице и чуть-чуть не лишился чувств: таково было потрясение, которое он испытал при виде ее. Все цыганки вошли в дом, за исключением старухи, оставшейся внизу, чтобы проверить с помощью слуг истинность слов Андреса.
При входе цыганок в комнату старый кавальеро спросил, обращаясь к присутствующим:
— Это, должно быть, и есть та красивая цыганочка, которая, говорят, ходит по Мадриду?
— Да, это она, — сказал Андрес, — и, несомненно, это самая красивая девушка на свете.
— Так люди говорят, — вставила Пресьоса, услышавшая этот разговор при входе в комнату, — но, сказать по правде, ошибаются, по меньшей мере, наполовину. Охотно допускаю, что я могу быть славненькой, но до красавицы (как иные болтают) мне очень далеко.
— Ну, так клянусь тебе сыном моим, доном Хуанико, — произнес старик, — что ты еще красивее, чем рассказывали, милая цыганочка!
— А где же он, этот ваш сын, дон Хуанико? — спросила Пресьоса.
— А вот этот молодец, что стоит рядом с тобой, — ответил кавальеро.
— Сказать правду, я думала, — сказала Пресьоса, — что ваша милость поклялась именем какого-нибудь двухлетнего младенца. Подумаешь, какой крошка дон Хуанико! По мне, он мог бы быть уже женатым, а если верить некоторым линиям на лбу, не пройдет и трех лет, как это случится — и произойдет самым приятным для него образом, если только за это время его вкусы не переменятся.
— Недурно! — произнес один из присутствующих. — Оказывается, цыганочка умеет разбираться в линиях!
Тем временем три цыганки, сопровождавшие Пресьосу, отошли в угол комнаты, стали тесней и начали шептать друг другу на ухо, чтобы их не было слышно.
Кристина сказала:
— Девушки, а ведь это тот самый кавальеро, который дал нам сегодня утром три осьмерных реала!
— Совершенно верно, — отвечали те. — Но не будем показывать этого и ни слова ему не скажем раньше, чем он сам не заговорит: почем знать, может быть, он скрывается?
Пока они были заняты этим разговором, Пресьоса ответила на замечания о линиях:
— Я ведь что глазами увижу, то и пальцем наворожу. Я и без линий знаю про сеньора дона Хуана, что он довольно влюбчив, горяч, быстр на решения и любит обещать вещи почти невероятные; дал бы бог, чтобы он только не привирал, — это было бы хуже всего! Предстоит ему вскоре дальняя дорога! Ну, да одно думает гнедой, а другое тот, кто его седлает; человек предполагает, а бог располагает! Соберется ехать в Оньес, а приедет в Гамбоа.[35]
— Правду сказать, цыганочка, ты многое угадала в моем характере; но, думая, будто я лгун, ты ошибаешься, ибо говорить правду при всяком случае я почитаю для себя за честь. Что до дальней дороги, ты угадала: без сомнений, дней через пять-шесть я, с божьей помощью, поеду во Фландрию. Напрасно только ты меня стращаешь, что я сверну с дороги; мне не хотелось бы, чтобы в пути случилась какая-нибудь неудача и мне помешала.
— Стоит ли об этом говорить, сеньорите? — ответила Пресьоса. — Поручи себя богу, и все устроится! Пойми, я ведь ничего не знаю о событиях, про которые тебе говорю, и ничего нет удивительного в том, если, говоря много и неопределенно, я кое-что и отгадаю. Мне очень бы хотелось убедить тебя не уезжать, а одуматься, остаться с родителями и скрасить их старость; не одобряю я эти путешествия во Фландрию, особенно же когда это делают молодые люди твоих лет. Подрасти немного, дабы быть в состоянии нести тяготы войны, тем более что довольно с тебя войны и дома: довольно с тебя любовных боев, сотрясающих твою грудь! Одумайся, одумайся, непоседа! Семь раз примеряй — один раз отрежь, а затем подай нам что-нибудь от твоих милостей во славу господню, да и родни твоей тоже: ибо, сказать правду, думаю я, что человек ты родовитый, А если к этому присоединить еще правдивость, — тогда просто хоть в колокола звони от радости, что я так хорошо тебе нагадала!
— Я уже говорил тебе раньше, малютка, — ответил дон Хуан (иначе говоря, будущий Андрес Кавальеро), — что ты все правильно отгадала; напрасно только ты подозреваешь, что я не люблю правды; в этом ты безусловно ошибаешься: слово, данное мною в поле, исполню я и в городе и где угодно, — просить меня о том не нужно; человек, позорящий себя ложью, недостоин звания кавальеро. Милостыню во славу божию и мою подаст тебе мой отец: к сожалению, сегодня утром все бывшие у меня деньги я отдал одним дамам, с чем, однако (если они столь же льстивы, как и прекрасны, особенно же одна из них), я себя не поздравляю.
Услышав это, Кристина с такими же предосторожностями, как и в первый раз, сказала остальным цыганкам:
— Ох, девушки, убейте меня, если только он говорит не о трех осьмерных реалах, подаренных нам сегодня утром!
— Не может быть! — возразила одна из двух. — Ведь он сказал, что то были дамы, а мы вовсе не дамы; и так как он сам здесь заявил, что любят правду, то неужели же он станет врать?
— Ну, это не бог весть какая ложь, — вставила Кристина, — если говорится она никому ие в обиду, а на пользу и славу того, кто ее произносит! За всем тем, однако, я вижу, что нам здесь и денег не дают и танцевать не просят.
В эту минуту явилась старуха цыганка и сказала:
— Ну, торопись, внучка: уже поздно, а многое еще надо сделать и о многом нужно поговорить.
— А что случилось, бабушка? — спросила Пресьоса. — Мальчик или девочка?
— Мальчик, и прехорошенький! — отвечала старуха. — Идем, Пресьоса: услышишь подлинные чудеса!
— Дай бог, чтобы он от родимчика не умер! — сказала Пресьоса.
— За всем будем смотреть превосходно, — произнесла старуха, — тем более что роды были правильные и младенец — что твое золото.
— Что, родила какая-нибудь сеньора? — спросил отец Андреса Кавальеро.
— Да, сеньор, — ответила цыганка, — только роды были такие тайные, что о них знаем только я, Пресьоса да еще одно лицо; а потому мы не можем открыть, кто такая.
— Да мы и сами знать не хотим! — вставил один из присутствующих. — Ох, горе женщине, доверившей вашим языкам свою тайну и спасающей свою честь с вашей помощью!
— Не все же мы плохие! — заметила Пресьоса. — Может статься, найдется среди нас и такая, что умеет молчать и говорить правду не хуже самого чванного из всех находящихся в этой комнате… Идем, бабушка, а то здесь о нас плохо отзываются! Мы же, честное слово, не воровки и ни у кого ничего не просим!
— Не сердись, Пресьоса! — сказал отец. — Я полагаю, что о вас лично, во всяком случае, нельзя подумать ничего дурного; ваши милые черты говорят за себя и ручаются за ваши добрые нравы… А ну-ка, Пресьоса, потанцуйте немножко с вашими подругами! Есть тут у меня золотой дублон «о двух головах», но ни одна из них не чета вашей, хотя обе они королевские!
Услышав это, старуха сказала:
— Эй, малютки, приготовьтесь и повеселите сеньоров!
Взяла Пресьоса бубен, и они закружились, сплетая и расплетая фигуры танца с такой свободой и изяществом, что все смотревшие стали следить за их ногами, особенно же Андрес, чьи глаза так и бегали за ножками Пресьосы, смотреть на которые было для него райским блаженством. Однако судьба повернула все таким образом, что счастье это стало для него адом. Случилось так, что среди суеты танца Пресьоса обронила данный ей пажом лист, и едва он упал, как его поднял сеньор, плохо отзывавшийся о цыганках, быстро развернул его и сказал:
— Вот как! Оказывается, это сонет! Перестанем-ка танцевать и послушаем: судя по первому стиху, сонет, надо сознаться, совсем-таки не плох!
Пресьосе стало неприятно от того, что она не знает, какого содержания эти стихи, а потому она попросила, чтобы их не читали и возвратили ей обратно; но проявляемое ею упорство как шпорами подстегивало желание Андреса прослушать сонет. Наконец кавальеро прочел его вслух. Стихи были следующие:
Когда Пресьоса тамбурин берет И легкий воздух оглашают звуки, То горсть жемчужин рассыпают руки, То дождь цветов роняет нежный рот. Молчит душа, и разум не живет, Внимая чарам неземной науки. Когда, чиста, не зная зла и муки, Ее судьба касается высот. Ее тончайший волос цепью нежной Сковал сердца, она стопой небрежной По стрелам купидоновым идет; Огонь двух солнц, слепя, дарует зренье, Ей Купидон их дал в вознагражденье И от нее невиданного ждет.— Черт побери! — воскликнул читавший, — этот поэт пишет весьма изящно.
— Сеньор, он не поэт, а щеголеватый паж и очень порядочный человек, — ответила Пресьоса.
Думайте о своих словах, Пресьоса, и о том, что вы захотите сказать! Слова ваши отнюдь не похвала пажу — это копья, пронзающие сердце слушающего вас Андреса. Хотите посмотреть на него, малютка? Обернитесь, и вы увидите, что он лишился чувств в своем кресле; с него катится смертельный пот! Не думайте, красавица, что Андрес любит вас несерьезно и что его не задевает и не мучает даже самый невинный ваш промах. Подойдите к нему, ради бога, и шепните ему на ухо несколько слов, чтобы они дошли ему прямо до сердца и вывели его из забытья! А не то, так приносите ему каждый день по сонету в вашу честь, и увидите, во что он тогда обратится!
Так оно и произошло в действительности, ибо по прослушании сонета Андресом овладели тысячи ревнивых мыслей. Он не впал в забытье, но побледнел до такой степени, что отец, заметив это, спросил:
— Что с тобой, дон Хуан? Судя по тому, как ты изменился в лице, тебе, должно быть, дурно?
— Погодите, — сказала в это время Пресьоса, — позвольте мне сказать ему несколько слов на ухо, и вы увидите, что это пойдет ему на пользу!
И, подойдя к нему, она сказала, почти не разжимая губ:
— Хороша же у тебя выдержка для цыгана! Разве ты сможешь, Андрес, выдержать «пытку с холстом»[36], если у тебя не хватает сил «на пытку с листом бумаги»? — И, перекрестив ему пять-шесть раз место над сердцем, она отошла от него; тогда Андрес слегка вздохнул и дал понять, что слова Пресьосы ему помогли. В заключение дублон «о двух головах» был отдан Пресьосе, и она сказала своим подругам, что разменяет его и честно поделится со всеми.
Отец Андреса попросил цыганочку оставить ему на записке слова, сказанные ею Хуану, дабы знать их на всякий случай. Пресьоса ответила, что скажет их с большой охотой, и просила заметить, что, хотя они кажутся вздорными, однако обладают особым свойством, заговаривать сердечную боль и головокружение. Слова были следующие:
Ты, головушка, держись, Не шатайся, не кружись! Из терпенья две колодки Состругай и подоткни. Ночи, дни, Не усни, Хлопочи насчет красотки. Не тужи, Мысли черные сдержи; Будет скоро Сто чудес От небес И святого Христофора.— Если сказать половину этих слов и сделать шесть крестов над сердцем человека, страдающего головокружением, — сказала Пресьоса, — он станет здоровым, как яблоко.
Когда старуха цыганка услыхала этот заговор и весь обман, она невольно обомлела, а еще больше смутился Андрес, увидевший, что все это было измышлением находчивой девушки.
Сонет сеньоры оставили у себя, так как Пресьоса не стала его просить обратно, дабы не доставлять нового огорчения Андресу: ибо она без посторонней указки отлично поняла, что значит причинять муки, терзания и волнения ревности влюбленным поклонникам.
Цыганки откланялись, и при прощании Пресьоса обратилась к дону Хуану с такими словами:
— Слушайте, сеньор! Любой день этой недели будет благоприятен для дороги: ни одного нет плохого! Торопитесь выезжать как можно скорее, ибо вас ожидает жизнь раздольная, свободная и радостная, если только вы захотите приноровиться к ней.
— Не так уж привольна, на мой взгляд, жизнь солдата, — ответил дон Хуан: — ведь стеснений в ней гораздо больше, чем свободы. Ну да, во всяком случае, я поступлю так, как видно будет.
— А видно будет больше, чем вы думаете, — сказала Пресьоса, — и да защитит вас и сохранит вас бог так, как того заслуживает ваш приятный облик.
Последние слова доставили Андресу удовольствие; цыганки тоже ушли предовольные. Они разменяли дублон я разделили его между всеми поровну, хотя руководившая ими старуха всегда получала полторы доли от всех подачек как по праву старшинства, так и потому, что она служила как бы компасом, которым руководились цыганочки в великом море своих нескончаемых танцев, острых слов, а подчас и обманов.
Наступил наконец день, когда однажды утром Андрес Кавальеро появился на месте первой своей встречи с цыганками, верхом на наемном муле и без единого слуги. Там он застал Пресьосу с бабушкой; узнав его, они встретили его с большою радостью. Из опасения, что родные станут его искать, он попросил доставить его в табор раньше, чем яркий солнечный свет явственно обозначит для каждого его приметы. Женщины, прибывшие из предосторожности без спутников, повернули обратно и в скором времени подъехали к своим кибиткам. Андрес вошел в один из шалашей, самый большой в таборе, и тотчас же поспешили навестить его десять — двенадцать цыган (все молодые, статные и хорошо сложенные), которым старуха уже успела сообщить об их новом товарище, не вдаваясь в особые разговоры о необходимости тайны, ибо, как уже было сказано, цыгане умеют ее сохранять с ловкостью и точностью необыкновенными. Они сразу же обратили внимание на мула, и один Из них сказал:
— В четверг его можно будет продать в Толедо!
— Ну, нет! — возразил Андрес. — Этот мул наемный, и тем самым он отлично известен всем погонщикам, разъезжающим по Испании.
— Господи, сеньор Андрес! — сказал один из цыган. — Да будь у этого мула больше примет, чем сколько их должно предшествовать страшному суду господню, и то мы его так разделаем, что его не признает ни мать родная, ни хозяин, взрастивший его!
— За всем тем, — заметил Андрес, — я прошу принять и одобрить мое решение. Мула этого нужно убить и похоронить, да так, чтобы потом и костей не было видно.
— Вот грех-то! — воскликнул другой цыган. Это невинного-то лишать жизни?! Не говори так, друг Андрес, а сделай вот что: всмотрись в него нынче так, чтобы у тебя в памяти запечатлелись все его приметы, а потом позволь мне его забрать, и если два часа спустя ты его узнаешь, пусть меня обольют кипящим жиром, как беглого негра!
— Ни за что не соглашусь! — заявил Андрес. — Мул должен погибнуть, как бы меня ни уверяли в возможности его превращения: я боюсь быть узнанным, если мул не будет предан земле. Если же дело идет о выручке, которую можно получить от продажи, то не таким уж голышом явился я в ваше братство, чтобы я не мог заплатить за «вступление» побольше, чем стоят четыре мула!
— Ну, раз этого хочет сеньор Андрес Кавальеро, — сказал другой цыган, — пусть эта невинная душа умирает. Одному богу известно, как мне его жаль: и потому, что он молод, — он ведь еще не «закусывает» (вещь просто неслыханная для наемного мула!), — и потому, что он, наверное, ходкий, так как на боках у него нет ни струпьев, ни ран от шпор.
Было решено не убивать мула до ночи; в остальную часть этого дня торжественно праздновали вступление Андреса в цыганское сословие, и состояло это в том, что немедленно освободили лучшую в таборе кибитку и разукрасили ее ветвями и ситовником; Андрес был посажен на дубовый обрубок, в руки ему дали молот и щипцы, и под звук двух гитар, на которых играли два цыгана, велено ему было сделать два скачка; затем обнажили ему руку, принесли новую шелковую ленту и «гарроте»[37] и осторожно сделали ими два поворота.
При всем этом присутствовали Пресьоса и много других цыганок, старых и молодых, причем одни смотрели на него с удивлением, а другие — с любовью; такоза была бравая внешность Андреса, что даже цыгане почувствовали к нему искреннее расположение.
После того как были выполнены указанные обряды, один старый цыган взял за руку Пресьосу и, остановившись перед Андресом, произнес:
— Мы даем тебе эту девушку, цвет и красу всех цыганок, живущих в Испании, — бери ее себе в любовницы или в жены; в этом отношении ты волен сделать то, что тебе больше понравится, ибо свободная и привольная жизнь наша не связана предрассудками и ненужными стеснениями. Разгляди ее хорошенько и посмотри, нравится ли она тебе и не находишь ли ты в ней чего-нибудь, что тебе будет не по вкусу; если она нехороша — выбирай среди девушек, стоящих перед тобою, самую для тебя подходящую: которую ты выберешь, ту мы тебе и дадим; но ты должен знать, что, однажды избрав ее, ты не можешь ни бросить ее ради другой, ни бесстыдничать и заводить шашни с замужними или девушками. Ненарушимо соблюдаем мы закон дружбы; никто из нас не станет покушаться на чужую избранницу; мы живем, не ведая горькой чумы ревности, и хотя много среди нас бывает кровосмешений, но никогда не бывает прелюбодеяния; а когда его совершает законная жена или когда нас обманывает любовница, — мы не ходим в суд просить о наказании: сами мы судьи и палачи жен и любовниц наших; мы с такою же легкостью убиваем их и хороним в горах и пустынях, как если бы то были дикие звери: у нас родичи не занимаются делами мести и родители не привлекают к ответу за убийство! Боязнь и страх заставляют наших женщин хранить целомудрие, и мы, как я сказал, живем безмятежно. Почти все, что мы имеем, — у нас общее, за исключением только жен и любовниц, ибо мы хотим, чтобы каждая из них принадлежала тому, кто ей достался по жребию. У нас развод в такой же степени обусловлен старостью, как и смертью; тот, кто, будучи молодым, пожелал бы покинуть старую жену, может выбрать себе другую, более ему подходящую по возрасту.
Благодаря этим и другим еще законам и уставам живем мы и остаемся всегда веселыми; мы — владыки полей, пашен, лесов, гор, источников и рек: горы нам дают даром дрова, деревья — плоды, лозы — виноград, огороды — овощи, источники — воду, реки — рыбу, заповедные рощи — дичину, скалы — тень, ущелье — прохладный ветер, пещеры — убежище. Непогода для нас — дуновенье ветерка, снег — легкое освежение, дождь — купанье, гром — музыка, а молния — факелы; твердая земля для нас — мягкая перина; дубленая кожа наших тел служит нам непроницаемой защитной броней; быстрого бега нашего не стеснят оковы, не задержат рытвины, не остановят стены; мужества нашего не поколеблют веревки, не запугают блоки, не устрашат «холсты», не укротит «кобыла»! Мы не делаем разницы между «да» и «нет», когда нам это выгодно, и всегда похваляемся быть «мучениками», а не «исповедниками»[38]; для нас люди выращивают вьючный скот на полях, для нас обрезаются в городах кошельки. Нет орла или другой такой хищной птицы, которая бы быстрее бросалась на попадающуюся ей добычу, чем бросаемся мы на случай, представляющий для нас известную выгоду, — одним словом, много у нас есть разных ухваток, и все они приводят к счастливому концу: ибо в тюрьме мы поем, на пытке молчим, работаем днем и воруем ночью, или, лучше сказать, учим людей быть всегда настороже и смотреть, куда они кладут свое добро.
Нас не смущает страх потерять свою честь, и честолюбие не побуждает нас приумножать ее; мы не враждуем друг с другом; мы не встаем до зари для того, чтобы подавать прошения, ухаживать за магнатами и хлопотать о милостях. Золоченые потолки и пышные дворцы наши — это лачуги и кочевые таборы; наши картины и фламандские ландшафты — те самые, которыми дарит нас природа среди высоких скал, снежных вершин, стелющихся кругом лугов и густых лесов, на каждом шагу открывающихся нашим глазам.
Мы астрономы-самоучки, ибо почти всегда мы спим под открытым небом и во всякое время можем определить, какой час дня и какой час ночи; мы видим, как рассвет вытесняет и сметает с неба звезды, как появляется он вместе со своей спутницей-зарей, наполняя радостью воздух, остужая воду и увлажняя землю, и сейчас же следом за ним показывается солнце, «вершины золотя и скаты гор лаская», как выразился один поэт; мы не боимся замерзнуть и окоченеть, когда Лучи его падают на нас косо, не боимся и обжечься, когда они падают на землю отвесно; одинаковую встречу оказываем мы зною и холоду, лишениям и изобилию. Одним словом, мы — люди, живущие своей смышленостью и сноровкой, и, не считаясь со старинной поговоркой: «церковь, море или дворец», мы имеем все, чего хотим, ибо довольствуемся тем, что имеем.
Я вам рассказал все это, благородный юноша, для того, чтобы вы знали, в какую среду вы попали и какого обращения должны держаться, причем я изобразил это сейчас вкратце, ибо еще бесконечное множество других вещей, не менее достойных внимания, чем все слышанные, откроете вы со временем сами.
Этими словами старый красноречивый цыган закончил свою речь, а новопоступающий заявил, что он был счастлив ознакомиться с таким почтенным уставом и готов поступить в орден, покоящийся на столь разумных и нравственных основах, и что ему досадно только, как это он раньше не знал о столь привольной жизни; отныне он отрекается от звания кавальеро и тщеславия своего знатного рода и подчиняет себя игу или, вернее сказать, законам, по которым они живут, ибо они столь высокой наградой ответили на его желание стать цыганом, что вручили ему божественную Пресьосу, ради которой отказался бы он от корон и царств и желал бы таковых единственно для того, чтобы почтить ее.
На это Пресьоса заметила:
— Хотя эти сеньоры законодатели и постановили на основании своих законов, что я твоя, и как таковую меня тебе вручили, — я на основании закона своего сердца, который сильнее всех остальных, заявляю, что стану твоей не иначе, как после выполнения тех условий, о которых мы с тобой уговорились еще раньше, чем ты явился сюда. Два года обязан ты провести в нашей общине и только тогда удостоишься моей близости, дабы не раскаяться тебе в своем легкомыслии, а мне не оказаться обманутой из-за своей поспешности.
Оговорки отменяют законы; условия мои ты знаешь; если ты пожелаешь соблюдать их, возможно, что я стану твоей, а ты — моим; если же нет, то ведь и мул еще не убит, и платье твое цело, и из денег не тронуто ни гроша; отлучка твоя не длится еще и одного дня, так что остающуюся его часть ты можешь использовать для размышлений и обсудить, что тебе выгоднее. Эти сеньоры могут, конечно, вручить тебе мое тело, но не душу мою, которая свободна, родилась свободной и будет свободной, пока я того желаю. Если ты останешься — я буду глубоко уважать тебя; если вернешься обратно — буду уважать не менее; на мой взгляд, люди в порыве влюбленности несутся, закусив удила, пока не повстречаются с разумом и разочарованием; и не хочу я, чтобы ты поступил со мной как охотник, который, нагнав преследуемого им зайца, сначала его схватит, а потом выпустит, чтобы погнаться за другим, убегающим от него. Бывает, что глаза обманываются и что с первого взгляда сусальное золото кажется столь же хорошим, как и настоящее; но немного погодя они отлично поймут разницу между поддельным и настоящим. Так и красота моя, которой, по твоим словам, я обладаю и которую ты почитаешь краше солнца и превозносишь выше золота: почем знать, может быть, вблизи покажется тебе тенью и после проверки обнаружится, что она поддельная!
Я даю тебе два года сроку, чтобы взвесить и обдумать, что тебе лучше выбрать или что естественно будет отвергнуть; ибо если вещь такова, что, однажды купив ее, никто уже не может отделаться от нее до самой смерти, то вполне законно уделить как можно больше времени на ее осмотр и освидетельствование, для того чтобы высмотреть в ней недостатки и достоинства, ей свойственные; ибо я не признаю варварского и дерзкого своеволия, усвоенного моими родичами, — бросать женщин или наказывать их, когда это им вздумается; и так как я не имею в виду делать вещи, достойные наказания, то и в мужья себе не хочу того, кто по своему произволу может меня покинуть.
— Ты права, Пресьоса, — сказал на это Андрес, — и если ты хочешь, чтобы я рассеял твои опасения и успокоил твою подозрительность клятвой, что ни на шаг не отступлю от установленных тобою предписаний, — говори, какой клятвы ты хочешь от меня или какое другое ручательство я могу тебе дать, ибо я на все для тебя согласен!
— Клятвы и обещания, даваемые пленником для получения свободы, в редком случае потом исполняются, — сказала Пресьоса, — а ведь таковы, по-моему, клятвы влюбленного; ибо для осуществления своего желания он охотно пообещает крылья Меркурия и молнии Юпитера, как пообещал мне их однажды один поэт и поклялся при этом Стигийской лагуной. Не хочу я клятв, сеньор Андрес, не хочу и обещаний; все будет зависеть от исхода вашего «послушничества»; себе же я вменяю в обязанность охранять себя в случае посягательства с вашей стороны.
— Да будет так! — вскричал Андрес. — Об одном лишь прошу этих сеньоров и товарищей, а именно: пусть они не принуждают меня ни к каким кражам в продолжение хотя бы месяца; у меня есть основания думать, что я смогу сделаться вором только после длинного ряда уроков.
— Молчи, брат! — сказал старый цыган. — Мы тебя тут так обучим, что ты выйдешь орлом в своем деле, а когда выучишься, то так его полюбишь, что пальцы себе станешь облизывать. Шуточное ли дело выйти по утру налегке, а ночью вернуться в табор обремененным ношей?!
— Обремененными… плетями видел я многих из этих «ловкачей»! — вставил Андрес.
— Нельзя наловить форелей, не замочив штанов, — возразил старик. — Все в жизни сопряжено с разными опасностями, а воровские деяния — с галерами, плетями и виселицей; но разве оттого, что один корабль пострадал от бури или затонул, все другие корабли перестают плавать? Хорошее дело, если бы оттого, что война губит людей и лошадей, перевелись на свете солдаты! Ведь каждый цыган, высеченный властями, получает в наших глазах особый орденский знак на спину, и этот знак ничуть не хуже самого почетного из всех знаков, которые ваши кавальеро носят на своей груди. Вся суть заключается в том, чтобы человека не угораздило «взболтнуть ногами в воздухе» в самом расцвете молодости и после первых же преступлений. Терпеть же плети на спине и месить воду на галерах — это для нас зерна какао не стоит!.. Братец Андрес, отдыхай пока что в гнездышке под нашим крылышком, а в свое время мы поведем тебя летать и в такое место, откуда без добычи не возвращаются, и что сказано — сказано; ты себе после каждой кражи пальцы будешь облизывать!
— В таком случае, — заговорил Андрес, — в возмещение того, что я мог бы украсть за время, которое мне теперь прощают, я сейчас распределю двести золотых эскудо среди всего табора.
Едва он произнес эти слова, как к нему подскочило множество цыган и, подняв его на руки и на плечи, запели ему: «Виват, виват, доблестный Андрес! — прибавляя: — и да здравствует Пресьоса, его дорогая возлюбленная!»
То же самое сделали цыганки с Пресьосой, не на малую зависть Кристине и другим цыганочкам, стоявшим поблизости; ибо зависть так же хорошо уживается в кочевых таборах и в пастушеских хижинах, как и в княжеских хоромах: видеть, как идет в гору сосед, у которого, на мой взгляд, заслуг не больше моего, — всегда досадно. Вслед за этим они обильно поели, честно и справедливо поделили пожертвованные деньги, еще раз пропели хвалу Андресу и до неба превознесли красоту Пресьосы.
Настала ночь; мула зарезали и закопали таким образом, что Андрес успокоился. Вместе с мулом были закопаны его пожитки (то есть седло, уздечка и подпруга), что, как известно, в обычае у индейцев, погребающих вместе с покойником самые драгоценные его вещи. Подивившись всему виденному и слышанному и большой смышлености цыган, Андрес порешил продолжать начатое им дело, но отнюдь не держаться цыганских нравов и, во всяком случае, избегать их обычаев всеми возможными способами. Он полагал, что с помощью денег он освободит себя от обязанности беспрекословно исполнять разного рода преступные поручения.
На другой день Андрес попросил цыган переменить стоянку и отойти подальше от Мадрида: он боялся быть узнанным, оставаясь на месте; ему ответили, что уже было постановлено отправиться к Толедским горам, где им будет удобно рыскать и «собирать дань» по всем окружным землям.
Они снялись с табора и предоставили в распоряжение Андреса осла, но он не пожелал ехать и отправился пешком, состоя на положении слуги при Пресьосе, ехавшей на ослике, причем она была в восторге от зрелища своей власти над таким красивым пажом, а он был безмерно счастлив видеть рядом с собою владычицу своих помыслов.
О могучая сила бога, именуемого сладостным божеством наших горестей (название, данное ему по праздности и беспечности нашей), поистине ты делаешь нас вассалами и обращаешься с нами без всякого почтения! Ведь Андрес — кавальеро и юноша весьма и весьма разумный, почти всю жизнь свою проживший в столице и воспитанный богатыми родителями, а со вчерашнего дня произошла с ним такая перемена, что он одурачил своих слуг и друзей, обманул надежды, возлагавшиеся на него родителями, прервал путешествие во Фландрию, где должен был проявить личную доблесть и умножить честь своего рода, и предпочел броситься к ногам одной девушки и стать ее слугой, а она хоть и прекрасна, но все же простая цыганка! Вот оно, преимущество красоты, которая, несмотря на все препоны и препятствия, увлекает к своим ногам самые свободные души!
Четыре дня спустя они прибыли в деревню в двух милях от Толедо, где и разбили свой табор, вручив предварительно несколько серебряных вещей алькальду деревни в залог того, что ни в ней, ни во всей ее округе они ничего не будут красть.
Когда это было сделано, все старые цыганки, кое-кто из молодых женщин и цыгане рассыпались по всем или почти по всем местностям, отстоящим на четыре-пять миль от той, где находилась их стоянка. Андрес отправился вместе с ними брать свой первый воровской урок, и хотя в этот выход ему было дано много уроков, — ни один из них к нему не привился: наоборот, он остался верен своей благородной крови: при каждой краже, совершаемой его учителями, у него переворачивалась душа, и иной раз случалось так, что он, тронутый слезами потерпевших, своими деньгами платил за кражи, учинявшиеся товарищами; цыгане приходили в отчаяние, говоря, что это идет наперекор их уставу и установлениям, не разрешающим, чтобы в души их имело доступ сострадание, ибо в противном случае они должны были бы вовсе не быть ворами — вещь, никоим образом для них не подходящая.
На основании этого опыта Андрес заявил, что он желает воровать в одиночку и ходить без спутников, ибо у него есть проворство, чтобы убежать от опасности, и не будет недостатка в мужестве, если придется пойти на риск; при таком уговоре все выгоды и неудачи воровского дела падут на него одного.
Попробовали было цыгане отклонить его от такого намерения, указывая на то, что сплошь и рядом происходят случаи, когда спутник бывает необходим как для нападения, так и для защиты, и что один человек не может набрать много добычи. Однако, сколько они ни говорили, а Андрес пожелал быть вором в одиночку, имея в виду отставать от спутников и на свои деньги покупать ту либо иную вещь, про которую можно было бы сказать, что она украдена, и таким образом как можно меньше обременять грехом свою совесть.
Применив эту уловку, он скорее чем в месяц принес общине больше пользы, чем четверо ее самых важных воров, чему не мало радовалась Пресьоса, видя своего нежного поклонника таким лихим и искусным вором. За всем тем она постоянно опасалась, как бы не вышло какого-нибудь несчастия; ибо за все сокровища Венеции она не хотела бы увидеть его позор, и к такому доброму отношению ее обязывало множество одолжений и подарков, сделанных ей Андресом.
Немного больше месяца пробыли они в округе Толедо, где они справили свой «август»[39] (хотя это было в сентябре месяце), а потом отправились в Эстремадуру, область богатую и жаркую. Андрес вел с Пресьосой пристойные и умные любовные речи, и она мало-по-малу стала увлекаться умом и хорошим обхождением своего поклонника, да и он тоже все более влюблялся (если только могла еще увеличиваться его любовь): таковы были скромность, ум и красота его Пресьосы. Куда бы они ни приезжали, за быстрый бег и высокие прыжки брал он, как никто другой, награды и ставки; в кегли и в «пелоту» он играл удивительно; «барру» метал с большой силой и необыкновенной ловкостью, так что в короткое время слава его облетела всю Эстремадуру, и не было такого селения, где бы не говорили о молодецкой внешности цыгана Андреса Кавальеро, о его искусстве и сноровке, а наравне с его славой росла также слава цыганочки, и не было местечка, села или деревни, куда бы их не звали для участия в церковных празднествах и в других исключительных торжествах. Таким образом, табор их богател, благоденствовал и радовался, а влюбленные наслаждались уже одним тем, что смотрели друг на друга.
И вот случилось, что, разбив свой табор среди дубов, несколько в стороне от большой дороги, как-то позднею порою, почти в полночь, они услышали, что их собаки лают с большим ожесточением и сильнее обыкновенного; несколько цыган вместе с Андресом вышли посмотреть, на кого они лают, и увидели, что от собак отбивается человек, одетый в белое, которого две собаки схватили за ногу. Они подошли, освободили его, и один из цыган спросил:
— Какой черт занес вас сюда, сеньор, в такой час и совсем в сторону от дороги? Вы, может быть, шли воровать? Ну, так поистине в самое подходящее место попали!
— Нет, я шел не на кражу, — ответил пострадавший, — и не знаю, в какой стороне от дороги я теперь нахожусь, хоть отлично вижу, что сбился с пути. Однако скажите мне, сеньоры, есть тут какой-нибудь постоялый двор или место, где я мог бы укрыться на ночь и полечить раны, нанесенные мне вашими собаками?
— Здесь нет ни подходящего места, ни двора, куда бы можно было вас направить, — ответил Андрес, — но для лечения ваших ран и приюта на ночь вы найдете все что нужно в наших кибитках; ступайте за нами: ибо хоть мы и цыгане, а милосердием своим на них не похожи.
— Да окажет его вам господь! — сказал незнакомец. — Ведите меня, куда хотите: боль в ноте очень меня беспокоит.
Андрес и другой добрый сердцем цыган (ибо даже среди демонов одни бывают хуже других и среди толпы злодеев попадаются хорошие люди) подошли к нему и повели его с собою.
Ночь была светлая, лунная, так что можно было видеть, что незнакомец молод и красив лицом и сложением; он был одет в белое полотно, а через плечо, по спине у него был перетянут завязанный на груди дорожный мешок или рубаха.
По приходе в палатку Андреса, поспешили зажечь огонь, и сейчас же явилась бабка Пресьосы лечить раненого, о котором ей уже дали знать. Она взяла немного собачьей шерсти, поджарила ее в масле и, промыв предварительно вином два укуса, находившиеся на левой ноге, приложила к ним шерсть с маслом, а сверху немного зеленого жеванного розмарина; перевязав все это тщательно чистою тканью, она благословила раны и сказала:
— Спи, дружок; даст бог, все обойдется благополучно!
Пока ухаживали за раненым, Пресьоса находилась тут же и все время пристально в него всматривалась; то же самое делал и раненый, так что Андрес заметил, с каким вниманием смотрел на нее юноша; однако он приписал это необычайной красоте Пресьосы, приковывавшей к себе все взгляды. В заключение, после оказания помощи, юношу оставили одного на ложе, сделанном из сухого сена, и нарочно не стали расспрашивать ни про путешествие, ни про какие-либо иные дела.
Когда все отошли от раненого, Пресьоса отозвала Андреса в сторону и сказала:
— Андрес, помнишь ли ты о листе бумаги, выпавшем у меня в твоем доме, когда я танцевала с товарками, и который, сдается мне, заставил тебя пережить пренеприятную минуту?
— Да, помню, — ответил Андрес. — Это был сонет в твою честь, и к тому же очень недурной.
— Ну, так знай, Андрес, — продолжала Пресьоса, — что автором этого сонета является раненый юноша, лежащий у нас в кибитке; я, безусловно, не ошибаюсь, так как два или три раза он разговаривал со мною в Мадриде и подарил мне, кроме того, один премиленький романс. Тогда, по моему мнению, он был пажом, и не простым, а из числа тех, каких приближают к себе обычно вельможи. И, сказать правду, Андрес, он юноша неглупый, рассудительный и в высшей степени скромный; не знаю, что и подумать о его появлении у нас, да еще в таком странном костюме.
— Что подумать, Пресьоса? — спросил Андрес. — А вот что: та же самая сила, которая сделала меня цыганом, заставила его переодеться мельником и разыскать тебя. О Пресьоса, Пресьоса! Как это ясно, что тебе любо похваляться целой сворой поклонников! А раз так, то прикончи сначала меня, а затем уже срази и его, но не приноси нас одновременно в жертву на алтаре твоих обманов, чтобы не сказать — твоей красоты!
— Помилуй бог, Андрес! — воскликнула Пресьоса. — Какой ты, право, щепетильный! Самому тонкому волоску готов ты доверить свои надежды и мое доброе имя! С какой легкостью пронзила тебе душу жестокая шпага ревности! Скажи мне, Андрес: будь тут какая-нибудь уловка или обман, неужели же я не сумела бы промолчать и скрыть, кто такой этот юноша?! Неужели же я так глупа, чтобы давать тебе повод сомневаться в моей добродетели и добрых нравах?! Молчи, Андрес, заклинаю тебя!.. и постарайся к утру разузнать у этого твоего пугала, куда он направляется и зачем пришел: может статься, подозрение твое окажется ошибочным; ну, а только я не ошибаюсь: он тот самый, что я сказала! А для большего своего успокоения (ибо в самом главном я уже тебя успокоила) распрощайся с ним немедленно и выпроводи его независимо от того, каким способом и с какими намерениями он пожаловал: ведь все в нашем стане тебя слушают, и никого не найдется, кто бы вопреки твоему желанию дал ему приют в своей кибитке; если же это не удастся, даю тебе слово, что я не выйду из шалаша и не буду показываться ни ему, ни всем тем, кому, по твоему мнению, не следует меня видеть. Заметь, Андрес, не то мне досадно, что я вижу тебя ревнивым, мне будет досадно убедиться в твоем неразумии!
— Пресьоса, до тех пор, пока ты не увидишь меня сумасшедшим, всех объяснений будет недостаточно и ничто не даст тебе представления о том, как далеко заходят и как терзают меня горькие и жестокие подозрения ревности. За всем тем, однако, я сделаю все, что ты велишь, и разузнаю, если будет возможно, что такое угодно сеньору пажу и поэту, куда он идет и чего ищет: может быть, по какой-нибудь неосторожно показанной ниточке я размотаю весь тот клубок, которым, боюсь, он хочет меня опутать.
— Ревность, поскольку я понимаю, — сказала Пресьоса, — никогда не оставляет разум настолько свободным, чтобы он мог видеть вещи такими, как они есть; ревнивцы вечно смотрят в подзорную трубку, которая вещи малые превращает в большие, карликов — в гигантов, догадку — в истину. Твоей и собственной жизнью заклинаю тебя, Андрес, поступай в этом отношении и во всем, касающемся нашего уговора, умно и разумно, и если ты будешь так делать, — знай, ты сам присудишь мне пальму первенства за скромность, пристойность и исключительную правдивость!
Тут она рассталась с Андресом, и он с душой, переполненной волнениями и тысячами противоречивых помыслов, стал поджидать наступления дня, дабы расспросить раненого. Думать он мог только одно: паж явился сюда, привлеченный красотой Пресьосы, — ибо всякий вор думает, что все тоже воруют! С другой стороны, успокоения Пресьосы имели над ним, казалось, такую силу, что обязывали жить безмятежно и поручить всю свою судьбу ее добродетели.
Настал день; он навестил раненого, спросил, как его зовут, куда он направляется и зачем он шел так поздно, свернув с проезжей дороги, — хотя предварительно осведомился о его здоровье и о том, чувствует ли он боль от укусов. Юноша ответил, что он чувствует себя лучше, что боли у него никакой нет и что он снова в состоянии пуститься в дорогу. На вопрос об имени и о том, куда он направляется, он ответил только, что зовут его Алонсо Уртадо и что шел он к святилищу богоматери, находящемуся в Пенья де Фраясья, по одному делу; что в видах быстроты он путешествовал ночью и что вчера он сбился с пути и случайно наткнулся на их табор, где сторожевые псы отделали его так, как это Андрес видел. Признание это показалось Андресу нечистосердечным и неискренним, отчего ему снова стали щемить душу подозрения, и он сказал ему так:
— Друг, если бы я был судьей и вы попались мне в руки за какое-нибудь преступление, требовавшее постановки вопросов, мною вам заданных, ответ ваш заставил бы меня потуже затянуть вам веревки. Мне неважно знать, кто вы такой, как вас зовут и куда вы идете; однако замечу, что если вам необходимо врать про свое путешествие, то врите так, чтобы это было больше похоже на истину. Вы говорите, что идете в Пенья де Франсья, а оставляете ее с правой руки, позади селения, где мы находимся, на хороших тридцать миль; вы держите путь ночью в видах скорости — и идете стороной от дороги, среди леса и дубняка, где и тропинок-то почти нет, не то что дорог!.. Друг, поднимайтесь-ка, научитесь врать — и идите с богом! Впрочем, не откроете ли вы мне одну правду за доброе указание, мною вам только что сделанное? Конечно, откроете: ведь вы совсем не умеете врать!.. Скажите, не вы ли случайно тот самый человек, которого я много раз видел в столице: он был не то паж, не то кавальеро, пользовался славой хорошего поэта и написал романс и сонет одной цыганочке, которая в прежнее время ходила по Мадриду и слыла там замечательной красавицей? Ответьте мне на этот вопрос; я же заверяю вас словом цыгана-кавальеро, сохраню всякую тайну, какую вам будет нужно. Но имейте в виду, что отрицать очевидность, то есть будто вы не тот, о ком я говорю, было бы совершенным бессмыслием: лицо, на которое я сейчас смотрю, то самое, что я видел в Мадриде. Без сомнения, громкая слава вашего ума заставляла меня много раз в вас всматриваться как в человека особенного и знаменитого, а потому у меня в памяти сохранилось ваше лицо, и я узнал вас, хотя нынче вы носите другое платье, чем когда я вас видел прежде. Не смущайтесь; ободритесь и не думайте, что вы попали в разбойничий стан: это — убежище, где вас сумеют уберечь и защитить от всего на свете. Послушайте: у меня есть одна догадка, и если дело обстоит так, как я думаю, то, встретившись со мной, вы повстречались со своим счастьем. Я думаю, что вы влюблены в Пресьосу (в ту самую красивую цыганочку, для которой вы писали стихи) и поэтому отправились на ее поиски. Знайте, что за это я буду уважать вас не меньше, а, пожалуй, даже еще больше, ибо хоть я и цыган, а опыт показал мне, как далеко простирается могучая сила любви и каковы могут быть превращения, совершаемые теми, кто попадает под ее власть и командование. Если это так (а я думаю, что это, без сомнения, так), то да будет вам известно, что цыганочка ваша — здесь!
— Да, она здесь, я ее видел вчера ночью, — сказал раненый.
От замечания этого Андрес обмер, и ему показалось, что он получил наконец полное подтверждение своих подозрений.
— Вчера ночью я ее видел, — снова заговорил юноша, — но не отважился открыть ей, кто я такой, ибо мне это было неудобно.
— Итак, — произнес Андрес, — вы тот самый поэт, о котором я вам говорил?
— Да, он самый, — ответил юноша, — я не могу и не стану отрицать этого: ведь весьма возможно, что я еще выиграю там, где счел было себя погибшим, — если только в лесах есть верность, а в горах — сердечный прием.
— Без сомнения, есть, — сказал Андрес, — а среди нас, цыган, есть еще и величайшая в свете тайна. При такой поруке вы можете, сеньор, открыть мне ваше сердце, а в моем вы найдете только то, что там есть, то есть одну только искренность. Цыганочка эта — моя родственница и подчинится всему, чего я ни пожелаю: если вы хотите ее себе в жены, — я и все родственники будем весьма этому рады; если же в наложницы, мы тоже не станем ломаться, при том, однако, условии, что у вас будут деньги, ибо корысть неразлучна с нашими кибитками.
— Деньги у меня есть, — сказал юноша, — в рукавах рубахи, которая перетянута у меня на груди, находятся четыреста золотых эскудо.
Это было вторым смертельным ударом для Андреса, вообразившего, что юноша захватил столько денег не иначе, как с намерением добыть или купить себе возлюбленную, и поэтому он, уже дрогнувшим голосом, заметил:
— Сумма хорошая, — остается только открыться, и дело в шляпе! Ну, а девушка далеко не промах: сама поймет, как хорошо ей быть за вами!
— Ах, друг мой! — сказал на это юноша. — Знайте: обстоятельством, заставившим меня переменить одежду, является не любовь, как вы думаете, и не влечение к Пресьосе, ибо есть в Мадриде красавицы, могущие и умеющие похищать сердца и покорять души ничуть не хуже, а то и получше, чем самые красивые цыганки, хотя, сознаюсь, красота вашей родственницы превосходит все, что я до сих пор видел. Причина, из-за которой я очутился в этом платье, пешим и искусанным собаками, — совсем не любовь, а мое несчастие!
По мере того как юноша произносил эти слова, Андрес снова обретал потерянное было присутствие духа и начал склоняться к мысли, что они объясняются совсем не тем, о чем он думал; желая выйти из замешательства, он стал снова заверять юношу в безопасности открыться; тогда тот продолжил свой рассказ и сказал:
— В Мадриде я состоял при доме одного вельможи, которому я служил; но он был мне, однако, не господин, а родственник. Он имел единственного сына-наследника, который, отчасти вследствие родства, отчасти же потому, что оба мы однолетки и сходны характерами, обращался со мной запросто и вполне дружески. Случилось этому кавальеро влюбиться в одну знатную девушку, которую он с великою радостью взял бы себе в жены, если бы только как хороший сын не подчинил он своего выбора воле родителей, желавших для него более высокой партии; за всем тем, однако, он ухаживал за нею тайком от соглядатаев, которые могли разболтать про его вздохи, — одни мои глаза были свидетелями его замыслов. Однажды ночью, — которую выбрало, должно быть, само несчастье для случая, о котором я сейчас вам расскажу, — мы, проходя по улице мимо дверей этой сеньоры, увидели, что у входа стоят два человека, с виду довольно статных; моему родичу захотелось их рассмотреть, но едва только он к ним направился, как они с большою поспешностью схватились за шпаги и за щиты и двинулись на нас; мы сделали то же самое и сразились одинаковым оружием. Но недолго длилась схватка, ибо жизнь обоих противников окончилась очень скоро: они потеряли ее после двух ударов, направленных ревностью моего родича, которого я прикрывал, — случай редкий и мало когда виденный. И вот, победив тех, о ком мы вовсе не думали, мы вернулись домой и, захватив тайно все деньги, какие могли собрать, убежали в монастырь святого Хербнимо, чтобы дождаться там наступления дня, когда должно было обнаружиться происшествие, а заодно и догадки относительно убийц. Узнав, что никто на нас не показывает, мы, по совету благоразумных монахов, решили возвратиться домой, дабы не создавать и не вызывать своим отсутствием никаких подозрений; но когда мы окончательно склонились к этой мысли, нас известили, что столичные алькальды арестовали как родителей девушки, так и самую девушку и что с домашних слуг были сняты показания, причем служанка юной сеньоры рассказала, как мой родич увивался за ее госпожой днем и ночью. По этому показанию бросились было нас искать, и когда по многочисленным признакам искавшие заключили о нашем бегстве, по всей столице пронесся слух, что мы являемся убийцами упомянутых двух кавальеро (а таковыми они действительно были, и из числа весьма знатных). В конце концов, после того, как мы две недели прятались в монастыре, мой родственник-граф и монахи посоветовали моему товарищу надеть монашескую одежду и отправиться вместе с одним иноком в Арагон, и проехать сначала в Италию, а потом во Фландрию, покамест не видно будет, как обернется дело.
Я почел за благо разделить и разъединить наши судьбы, дабы не подчинить наших жребиев общей доле, и, избрав другую дорогу, чем мой товарищ, в одежде монастырского служки вышел из Мадрида пешком в обществе монаха, покинувшего меня в Талавере. Оттуда я один добрался сюда, двигаясь стороной от дороги, пока ночью не попал в этот дубняк, где со мной случилось то, что вы уже знаете. О дороге на Пенья де Франсья я заговорил для того, чтобы ответить что-нибудь на расспросы, ибо, по правде сказать, я не знаю, где находится Пенья де Франсья, хотя знаю, что расположена она где-то за Саламанкой.
— Совершенно верно, — сказал Андрес, — вы оставили ее направо, милях в двадцати отсюда; так что теперь вы сами видите, какой вы сделали крюк, если вы действительно туда направлялись.
— Дорога, которой я хотел держаться, — заговорил юноша, — это дорога в Севилью, там у меня есть один генуэзский кавальеро, большой друг графа, моего родича, часто отправляющий в Геную большие партии серебра; я хочу, чтобы он меня пристроил к людям, перевозящим серебро, в качестве одного из приказчиков; с помощью этой хитрости я, наверное, смогу доехать до Картахены, а оттуда и до Италии, ибо очень скоро туда должны прибыть две галеры для погрузки серебра.
Вот, милый друг, какова моя история. Сами посудите, прав ли я, говоря, что в основе ее лежат горькие несчастья, а не сладостные дела любви. Если же сеньоры цыгане позволят мне проехать вместе с ними до Севильи (буде они сами тоже туда направляются), я им за это хорошо заплачу, ибо вполне очевидно, что в их обществе я буду чувствовать себя в полной безопасности, не зная никаких страхов.
— Они, несомненно, согласятся на это, — ответил Андрес, — и если вы не пойдете с нашим табором (ибо мне пока что неизвестно, собираются ли они в Андалусию), вы отправитесь с другим, который, надо думать, повстречается нам дня через два; уделив цыганам кое-что из своих денег, вы победите с их помощью самые трудные препятствия.
Затем Андрес покинул своего собеседника и отправился передать остальным цыганам рассказ юноши, его просьбу и обещание хорошего вознаграждения. Все были того мнения, чтобы юноша оставался в таборе; одна Пресьоса стояла на другом, а бабка ее сказала, что не может ехать ни в Севилью, ни в ее окрестности по той причине, что несколько лет назад одурачила в Севилье одного шапочника по фамилии Тригильос, хорошо там известного, которому она велела раздеться, опуститься по самую шею в глиняный чан с водой, надеть на голову кипарисовый венок и ожидать, когда будет ровно полночь, для того чтобы выскочить из чана и идти откапывать большой клад, который, как она уверяла, находится в определенном месте его дома.
Рассказала она далее, что простак-шапочник, едва заслышав звон к утрене, побоялся пропустить случай и с такой поспешностью выскочил из чана, что опрокинул его и самого себя, больно ушибся о черепки и о землю и набил себе синяков; вода разлилась, и он стал в ней плавать, крича, что тонет.
Прибежала жена и соседи с огнем и увидели, что он, двигаясь, словно пловец, сопит и ползет брюхом по земле, с большой скоростью перебирая руками и ногами, приговаривая громким голосом: «Спасите, сеньоры, — тону!» Его обуял такой страх, что он вполне серьезно считал себя утопающим. Его подхватили и освободили от опасности. Он пришел в себя, рассказал про проделку цыганки и за всем тем прорыл в указанном месте на сажень в глубину, не обращая внимания на всех, кто говорил, что все это мои плутни; и если бы ему не помешал сосед (ибо он добрался уже до фундамента чужого дома), он подкопал бы оба здания; по счастью, ему не позволили копать, сколько хотелось.
Слух об этом разнесся по всему городу, и даже мальчишки указывали на него пальцами, толкуя про его легковерие и мои плутни.
Вот что рассказала старуха-цыганка в объяснение того, почему она не может ехать в Севилью. Цыгане же, узнав от Андреса Кавальеро, что у юноши были большие деньги, с радостью приняли его в свое общество и предложили оберегать и укрывать его столько времени, сколько он сам пожелает. Они согласились свернуть с дороги влево и вступить в Ламанчу и в королевство Мурсию. Позвав юношу, они объявили ему, как с ним решили поступить; он их поблагодарил и подарил им сто золотых эскудо, прося поделить деньги между собой. От этого подарка все цыгане стали мягкими, словно куницы; одна Пресьоса совсем не радовалась тому, что дон Санчо (юноша назвал себя этим именем) остается. Цыгане переделали его в Клементе и так его впредь и величали.
Андресу тоже было не по себе; казалось, он был не очень доволен, что Клементе оставили: по его мнению, юноша, без достаточного основания, изменил свои первоначальные планы, а Клементе, как бы читая в его мыслях, заметил, между прочим, какое это для него счастье попасть в королевство Мурсию, так как это недалеко от Картахены, откуда, — если только придут галеры, которые, по его расчетам, должны прибыть, — ему нетрудно будет добраться до Италии.
В заключение Андрес решил сделать Клементе своим товарищем, дабы иметь его чаще на виду, наблюдать его поступки и вникать в его мысли, — и Клементе почел эту дружбу за великую для себя честь. Они всегда ходили вместе, много тратили, сыпали золотом, состязались в прыжках и беге, танцевали и метали «барру» лучше, чем кто бы то ни было из цыган, причем цыганки их очень любили, а цыгане в высокой степени почитали.
Покинув наконец Эстремадуру, они вступили в Ламанчу и понемногу выехали на дорогу в королевство Мурсию. Во всех деревнях и селах, попадавшихся на пути, устраивались состязания в пелоте, фехтовании, беге, прыжках, метании «барры» и в других проявлениях силы, ловкости и быстроты, причем победителями постоянно оказывались Андрес и Клементе, подобно тому как раньше это бывало с одним Андресом.
За все это время — а было это полтора месяца — на долю Клементе ни разу не выпадал случай — сам он его не искал — побеседовать с Пресьосой, и так продолжалось до того дня, когда наконец Пресьоса и Андрес его не позвали, после чего он вступил в разговор. Пресьоса сказала:
— С той самой минуты, как ты появился в нашем таборе, я узнала тебя, Клементе, и сразу вспомнила о стихах, которые ты мне подарил в Мадриде; тем не менее, я тебе не сказала ни слова, ибо не знала, какие намерения привели тебя в нашу стоянку. Когда мне стало известно твое несчастье, я от души тебя пожалела, но потом успокоила свою тревогу и подумала: если существует на свете Хуан, переделанный в Андреса, то почему бы не существовать и Санчо, переделанному на какой-нибудь иной лад? Я говорю с тобой вполне откровенно, основываясь на словах Андреса, который уже объяснил тебе, кто он такой и почему он превратился в цыгана. (Так оно в действительности и было, потому что Андрес рассказал ему свою историю, дабы установить с ним тесное общение.) Имей, однако, в виду, что, узнав тебя, я принесла тебе немало пользы. Уважение ко мне и к моему отзыву облегчило твое вступление в нашу общину, в которой да ниспошлет тебе господь столько добра, сколько ты сам себе пожелаешь! Хорошо было бы, если бы ты отплатил как следует за мое доброе пожелание и не укорял Андреса за низменность его выбора, не убеждал его, что ему стыдно оставаться в таком положении; ибо, как я ни уверена в том, что его воля опутана цепями моей любви, мне все-таки было бы тяжело обнаружить в нем хотя бы ничтожное проявление чего-либо похожего на раскаяние.
Клементе на это ответил:
— Не подумай, прелестная Пресьоса, что дон Хуан легкомысленно открыл мне, кто он такой! Раньше всего разгадал его я, а еще раньше его собственные глаза открыли мне его помыслы; сначала открылся ему я, и сначала для меня выяснилось пленение его воли, о котором ты только что говорила; он же, удостоив меня доверия, которым естественно было меня удостоить в ответ на мое признание, поверил мне свою тайну, и пусть он сам откровенно скажет, одобрил ли я или нет его решение и сделанный им выбор. Не так уж я слаб умом, Пресьоса, чтобы не понять, как далеко может зайти власть красоты; твоя же красота, переступившая все границы и все высшие пределы совершенства, есть достаточное оправдание для любого заблуждения, если позволительно будет назвать заблуждением то, что вызвано причинами, столь повелительными. Я очень признателен, сеньора, за твои слова, сказанные в мою пользу; я хочу отплатить за это пожеланиями, чтобы ваши любовные приключения завершились счастливым исходом и чтобы ты утешилась со своим Андресом, а Андрес со своей Пресьосой, с согласия и одобрения родителей, и чтобы от такой прекрасной четы явились на свет самые прелестные отпрыски, какие способна создать благодетельная природа! Только этого я и буду желать, Пресьоса, и всегда повторю то же самое твоему Андресу, не прибавляя ни единого слова, которое могло бы его отвлечь от столь похвального выбора.
Клементе с таким чувством произнес приведенные выше слова, что Андрес невольно поддался сомнению: а что, если это говорит влюбленный, а что, если это не только учтивость? Ведь адская болезнь ревности отличается такой тонкой чувствительностью, что даже к пылинке в солнечном луче может придраться, и если одна из них коснется любимой, поклонник претерпевает мучения и терзается.
Тем не менее Андрес не утвердился в своей ревности, что объяснилось, однако, уверенностью в добродетели Пресьосы, а не уверенностью в своем счастье, ибо всегда все влюбленные считают себя несчастными до тех пор, пока не получат желаемого. Но все же Андрес и Клементе оставались товарищами и большими друзьями, чему много способствовала добрая воля Клементе, а также сдержанность и благоразумие Пресьосы, никогда не дававшей Андресу повода ревновать.
Клементе был немного поэт, как он доказал это стихами, поднесенными Пресьосе; были на то некоторые данные и у Андреса; к тому же оба любили музыку. И вот случилось, что однажды ночью, когда табор стоял в долине, в четырех милях от Мурсии, они, желая развлечься, уселись — Андрес у корней пробкового дерева, а Клементе под дубом, — каждый с гитарой в руках, и, вдохновляясь молчанием ночи, запели следующие стихи, причем Андрес начинал, а Клементе отвечал:
А н д р е с
Клементе, посмотри на полог звездный, Которым сумрак ночи, Как день, ласкает очи, На светочи, висящие над бездной; И в них ищи сравнений. Когда дерзнет твой вдохновенный гений. Чтоб описать ланиты, Где совершенства красоты сокрыты.К л е м е н т е
Где совершенства красоты сокрыты. И где благословенья Прелестного смиренья Всем совершенством доброты повиты; Столь несказанным чарам Нельзя служить обыкновенным даром, Но разве лишь небесным, Высоким, редким, мудрым и чудесным.А н д р е с
Высоким, редким, мудрым и чудесным, Еще не сотворенным, К высотам устремленным, Сладчайшим стилем, миру неизвестным, Должно молвы хваленье Твое прославить имя, восхищенье И ужас порождая, И вознести его к пределам рая.К л е м е н т е
И вознести его к пределам рая — Достойная награда, Чтоб небо было радо, Его сладчайшей музыке внимая; И на земле повсюду Узнают все, кто только внемлет чуду, Очарованье слуха, Блаженство чувств, успокоенье духа.А н д р е с
Блаженство чувств, успокоенье духа Сулит сирены пенье, Дарующей забвенье И тем, чье сердце безответно глухо. Прасьоса красотою Гордится лишь как малою чертою. О, милая услада, Венец созданья, восхищенье взгляда!К л е м е н т е
Венец созданья, восхищенье взгляда, Ты хороша, хитана, Ты свежая поляна, Ты в летнем зное нежная прохлада, Ты молния, чья сила И снеговое сердце бы спалила, Ты непонятной властью Зовешь к блаженной гибели и к счастью.По всему было видно, что еще не скоро кончили бы влюбленный и невлюбленный поэты, если бы за спиной у них не прозвенел голос Пресьосы, слушавшей пение. Они насторожились, услыхав ее, и, недвижимые, перейдя в восторженное внимание, стали ее слушать. Она же (не знаю, было ли это внезапное вдохновение или давно уже ей известные стихи) с удивительной находчивостью пропела следующие строки, представлявшие собою как бы ответ певцам:
В этой распре шаловливой, Где любовь идет закладом, Не безумно ль ставить рядом Участь скромной и красивой? Самый скромный колос хлеба, Зреющий легко и просто, Благодатной силой роста Может вознестись до неба. И моей невзрачной меди, Так как ей эмаль — смиренье, И в богатстве и в значенье Позавидуют соседи. Я не сетую, не плачу, Если кто не мил со мною; Я сама себе устрою В жизни счастье и удачу. Мне бы лишь развить свободно, Что меня к добру склоняет; Пусть потом определяет Так судьба, как ей, угодно. Там увидим, есть ли сила У красы моей такая, Чтоб она, меня венчая, Мне и голову вскружила. Если души смертных равны, Может и душа цыгана Одного достигнуть сана И с такими, что державны. То, что о себе я знаю, Мне дает на это право; Ведь любовь знатней, чем слава, И садится выше к краю.На этом Пресьоса закончила свое пенье, а Андрес и Клементе поднялись ей навстречу. У них состоялась беседа, причем Пресьоса обнаружила в своих словах столько ума, скромности и остроты, что Клементе вполне оправдал выбор Андреса: ибо до самой последней минуты он все еще колебался, относя скорее за счет молодости и неразумия его чересчур смелое решение.
Наутро табор снялся с места, и цыгане отправились на стоянку в одно селение, приписанное к Мурсии и находившееся в трех милях от этого города; здесь-то и приключилось с Андресом несчастье, едва не стоившее ему жизни.
Вышло так, что, уплатив властям обычный в таких случаях залог, состоявший из серебряных сосудов и вещей, Пресьоса, ее бабка, Кристина с двумя цыганочками, Андрес и Клементе поместились на постоялом дворе одной богатой вдовы, у которой была дочь лет семнадцати-восемнадцати, скорей распущенная, чем красивая; для большей ясности прибавим, что звалась она Хуана Кардуча.
После того как она увидела танцы цыган и цыганок, ее опутал дьявол, и она влюбилась в Андреса, да так страстно, что решила открыться ему и взять его — если он того пожелает — в мужья, пусть даже наперекор всей родне. И вот была выбрана минута для объяснения. Произошло это во дворе, куда Андрес зашел осмотреть осликов. Подойдя к нему, она поспешно, из страха, чтобы ее не застали, проговорила:
— Андрес (она уже знала его имя), я девица и к тому же богата; у матери моей нет других детей, кроме меня; постоялый двор этот — наш; кроме того, есть много виноградников и два дома. Ты мне приглянулся; если хочешь меня в жены, — бери! Отвечай скорей! Если ты не глуп, оставайся, и увидишь, какая у нас пойдет жизнь!
Андрес подивился образу мыслей Кардучи и с поспешностью, как она просила, ответил:
— Дорогая сеньора, я уже дал слово жениться; мы, цыгане, женимся только на цыганках. И да воздаст тебе господь бог за милость, которой ты вздумала меня подарить, но которой я недостоин!
Кардуча едва не упала замертво от такого сурового ответа, и она, наверное, ответила бы Андресу, если бы не заметила, что во двор входят цыганки. Она убежала пристыженная и посрамленная и с превеликой охотой отомстила бы, если б могла.
Андрес благоразумно решил поскорее скрыться и уехать подальше от этой девушки, подсунутой ему дьяволом, ибо он ясно прочел в глазах Кардучи, что и без брачных уз она отдалась бы в полное его распоряжение, но ему не улыбалась такая «схватка лицом к лицу и в одиночку», а потому он стал просить, чтобы цыгане покинули ночью эту местность; те, послушавшись его, как всегда, привели это немедленно в исполнение: в тот же вечер взяли обратно залог и уехали.
Кардуча поняла, что с отъездом Андреса уходит половина ее души и что ей не представится больше случая просить об удовлетворении ее желания, а потому она задумала задержать Андреса силой, поскольку нельзя было настоять на своем мирными средствами: уступая внушениям злостного умысла, она ловко, хитро и незаметно подложила в вещи Андреса, которые она хорошо заприметила, несколько ниток дорогих кораллов и две серебряные патены вместе с другими своими безделушками.
Едва цыгане отъехали от постоялого двора, как она подняла крик и заявила, что они украли у нее драгоценности; на крики ее сбежались власти и народ со всего села. Цыгане остановились и дали клятву в том, что никаких краденых вещей у них нет и что они готовы показать все мешки и коробы своего табора. Это обстоятельство очень взволновало старуху цыганку, испугавшуюся, как бы не обнаружились при розысках драгоценности Пресьосы и одежда Андреса, сберегаемая ею с большою заботою и осторожностью; однако разбитная Кардуча очень быстро обделала это дело, и после того как был кончен осмотр второго узла, велела спросить, где находятся вещи того цыгана, который так прекрасно танцует; она, мол, видела, как он два раза проходил в ее комнаты, а потому возможно, что он их и взял.
Андрес догадался, что она говорит это про него, и, засмеявшись, сказал:
— Дорогая сеньора, вот моя кладовая и вот мой ослик; если вы найдете пропавшие вещи, я вам заплачу за них любую цену, а кроме того, буду готов принять наказание, определяемое ворам по закону.
Сейчас же подошли представители власти обыскать ослика и, копнув два-три раза, нашли украденное, отчего Андрес так обомлел и оцепенел, что принял вид бессловесной каменной статуи.
— Что, не хорошо отгадала? — сказала в эту минуту Кардуча. — Посмотрите, какое невинное лицо сделал этот бессовестный вор!
Находившийся тут алькальд начал сыпать тысячами ругательств на Андреса и на всех цыган, обзывая их публичными ворами и разбойниками с большой дороги. Андрес молчал, ошеломленный и задумчивый, не будучи в состоянии догадаться о подлости Кардучи.
В это время подошел к нему щеголеватый солдат, алькальдов племянник, с такими словами:
— Посмотрите, какую рожу состроил окаянный цыганский вор! Бьюсь об заклад, что он будет ломаться и отрицать свою кражу, хотя его накрыли с поличным. Ох, загубит свою душу человек, не сославший еще вас всех на галеры! Подумайте, ну не лучше ли этому мошеннику грести «а галерах, на службе у его величества, чем ходить с танцами из села в село и красть направо и налево? Клянусь словом солдата, я дам ему сейчас такую затрещину, что он повалится к моим ногам!
Сказав это, он недолго думая поднял руку и дал Андресу такую оплеуху, что тот сразу вышел из своего нелепого состояния и вспомнил, что он был не Андрес Кавальеро, а дон Хуан и настоящий кавальеро; в страшном гневе и с необычайной быстротой он набросился на солдата, выхватил у него из ножен шпагу и всадил ее ему в тело, так что тот упал на землю мертвым.
Среди народа раздался крик; дядя-алькальд пришел в неистовство, Пресьоса лишилась чувств; Андрес, видя ее без чувств, растерялся; все взялись за оружие и бросились к убийце. Смятение возросло, крики увеличились; Андрес, поглощенный обмороком Пресьосы, перестал заботиться о своей защите, а судьба устроила так, что Клементе не оказалось при этом злополучном событии: вместе с покладью он уже выехал из селения; под конец на Андреса напало столько народу, что его удалось схватить и заковать в две толстые цепи. Алькальду очень хотелось тут же его и повесить, но у него не было на это власти: преступника следовало отправить в Мурсию, ибо это дело подлежало городскому суду. Отправка была отложена до следующего дня, и за время, проведенное в селении, Андрес претерпел много поношений и мук, нанесенных ему взбешенным алькальдом, его помощниками и всеми местными жителями. Алькальд велел схватить всех цыган и цыганок, какие только нашлись, ибо большинство из них бежало, и в том числе Клементе, боявшийся, что его заберут и узнают. В заключение с донесением о происшедшем и с громадной ватагой цыган, алькальд в сопровождении помощников и толпы вооруженных людей въехал в Мурсию; в середине шествия находились Пресьоса и несчастный Андрес, закованный в цепи, верхом на муле, в поручнях и с подпоркой на шее.
Вся Мурсия высыпала смотреть на арестованных, ибо в городе уже получили известие о смерти солдата. И Пресьоса смотрела такой красавицей в этот день, что не было никого среди жителей, кто бы ее не хвалил, и слух о ее красоте дошел до ушей жены коррехидора, которая, горя любопытством посмотреть на девушку, попросила, чтобы коррехидор, ее муж, отправил в тюрьму всех, кроме цыганочки. Андреса поместили в самый тесный застенок, причем темнота и отсутствие его светлой Пресьосы его очень опечалили, и он сразу решил, что отсюда для него один только выход — могила.
Пресьосу и ее бабушку повели на показ жене коррехидора, которая при первом же взгляде на цыганочку сказала: «За красоту тебя хвалят недаром!» — и, притянув ее к себе и нежно обняв, не могла вдоволь на нее наглядеться; затем она спросила у бабки, сколько лет ее внучке.
— Ей пятнадцать, — ответила цыганка, — а может быть, на два месяца меньше или больше.
— Столько же было бы теперь моей несчастной Костансе! Ах, милые мои, как сильно оживила эта девушка мои страдания! — произнесла жена коррехидора.
В эту минуту Пресьоса схватила руки дамы и, покрывая их поцелуями и обливая слезами, заговорила:
— Сеньора моя, цыган, находящийся под арестом, невинен; его оскорбил солдат: обозвал его вором, а он не вор; он ударил его по лицу, по тому самому лицу, которое ясно свидетельствует о его порядочности. Христом-богом и именем вашим заклинаю вас, сеньора: сделайте так, чтобы он дождался суда и чтобы сеньор коррехидор не спешил с совершением казни, которой грозит ему закон. Если вам доставила радость моя красота, то сохраните же ее, сохранив жизнь пленнику, ибо с концом его жизни придет конец я моей. Он должен был вскоре стать моим мужем; честные и чистые преграды были причиной того, что мы до сих пор не обручились. Если для того, чтобы удовлетворить противную сторону, понадобятся деньги, мы продадим весь наш табор с публичных торгов и заплатим больше, чем с нас спросят! Сеньора моя, если вы знаете, что такое любовь, если вы когда-нибудь сами любили и если теперь вы любите вашего супруга, то сжальтесь надо мною, ибо я нежно и чисто люблю своего суженого!
В продолжение этой речи девушка все время не выпускала рук сеньоры и, не отрывая от нее глаз, пристально на нее глядела, проливая в изобилии горькие и жалостные слезы.
Жена коррехидора тоже держала Пресьосу за руки и так же упорно и пристально смотрела на нее, заливаясь горькими слезами. В то время как все это происходило, вошел коррехидор и, застав свою жену и Пресьосу в слезах и крепко обнявшимися, был поражен как слезами девушки, так и ее красотой. Он осведомился о причине такого горя, на что Пресьоса ответила тем, что, выпустив руки сеньоры, обхватила ноги коррехидора и воскликнула:
— Сжальтесь, сжальтесь, сеньор! Если мой суженый умрет, то и я умру. Он невиновен, а если виновен, так пусть я понесу за него наказание! Если же это невозможно, то приостановите, по крайней мере, судопроизводство на такое время, чтобы можно было изыскать и добыть все нужные средства для его спасения; ибо может случиться, что тому, кто не погрешил злостным образом, небо чудесным образом пошлет прощение.
Снова подивился коррехидор, слушая разумные речи цыганочки, и если бы не боялся выказать слабость, то, наверное, тоже присоединился бы к ее слезам.
Наблюдая происходившее, старуха цыганка обдумывала про себя много важных и разнообразных вещей и, после долгого выжидания и размышлений, сказала:
— Погодите минутку, сеньоры мои; я устрою так, что ваш плач обратится в радость, хотя бы это стоило мне жизни. — И быстрым шагом она вышла оттуда, где была, ошеломив присутствующих своими словами. А пока старуха ходила, Пресьоса ни на минуту не прекращала своего плача и просьб приостановить дело ее жениха, имея в виду известить тем временем отца Андреса и вызвать его на судебное разбирательство.
Цыганка вернулась с маленьким сундучком под мышкой и попросила коррехидора и жену его выйти с ней в другой покой, так как ей нужно было секретно сообщить им важные вещи. Коррехидор, полагая, что она хочет раскрыть какую-нибудь цыганскую кражу, дабы расположить его в пользу пленного, тотчас же удалился с ней и с женой в уединенную комнату, где цыганка, упав перед обоими на колени, заявила:
— Сеньоры, если приятные вести, которые я вам сообщу, не побудят вас даровать мне в награду прощение за один мой великий грех, — я готова принять от вас какую угодно кару; однако, прежде чем повиниться, я хочу, чтобы сеньоры мне раньше сказали, знакомы ли им эти драгоценности.
И, отомкнув сундучок, где находились вещи Пресьосы, она вручила его коррехидору, который открыл его и увидел детские безделушки; но он не мог сообразить, что бы это такое значило. Жена его тоже посмотрела на них и тоже ничего не поняла и сказала только:
— Это украшения какого-то маленького ребенка.
— Так оно и есть! — ответила цыганка. — А какого ребенка — про это говорит содержание этой сложенной бумаги.
Коррехидор поспешно развернул ее и прочел следующее:
«Девочка называлась донья Костанса де Асеведо-и-де-Менесес, мать ее — донья Гьомар де Менесес, а отец — дон Фернандо де Асеведо, кавалер ордена Калатравы. Похитила я ее в день вознесения господня, в восемь часов утра, года тысяча пятьсот девяносто пятого. На ребенке были надеты вещи, хранящиеся в этом сундучке».
Едва только сеньора прослушала содержание бумаги, как сразу же признала вещицы, поднесла их к губам и, покрывая их бесчисленными поцелуями, упала без чувств. Коррехидор бросился к ней, не успев даже спросить цыганку про дочь; а как только сеньора пришла в себя, то спросила:
— Милая женщина, ангел, а не цыганка, да где же, где же собственница, то бишь девочка, которой принадлежали эти драгоценности?
— Где она, сеньора? — повторила цыганка. — Она у вас в доме; та сама цыганочка, которая вызвала на ваши глаза слезы, является собственницей безделушек и тем самым она — ваша родная дочь; ибо я украла ее в Мадриде, из вашего дома, в день и в час, указанные в бумаге.
Когда взволнованная сеньора это услышала, она скинула высокие туфли и словно на крыльях полетела в комнату, где находилась Пресьоса; она застала ее окруженной девушками и служанками и все еще в слезах. Она подбежала к ней и, не говоря ни слова, с большой поспешностью расстегнула ей платье и посмотрела, находится ли у нее под левою грудью небольшой знак, вроде белой родинки, с которым она появилась на свет, и увидела, что он уже большой, так как с годами он увеличился. Затем с такой же быстротой она разула ее, обнажив белоснежную, будто выточенную из слоновой кости, ножку, и нашла то, чего искала: а были это два последних пальца на правой ноге, соединенных посредине кусочком кожи, которую родители никак не решались удалить, боясь сделать девочке больно.
Грудь, пальцы, драгоценные вещицы, указанный цыганкою день кражи, ее признание, наконец, потрясение и радость, испытанные при виде девочки родителями, окончательно убедили жену коррехидора в том, что Пресьоса — ее дочь, а потому, подхватив ее на руки, она вернулась туда, где находился коррехидор и цыганка.
Пресьоса смутилась, не понимая, с какою целью производился этот осмотр; еще больше смутило ее то, что она находится на руках у сеньоры, которая осыпает ее поцелуями. Наконец донья Гьомар предстала с драгоценной ношей на глаза мужу и, передав ее с рук на руки коррехидору, сказала:
— Примите вашу дочь Костансу; это безусловно она; сомневаться в этом не приходится: я видела и соединенные пальцы, и знак на груди, а кроме того, мне подсказывала это душа с той самой минуты, как ее увидели мои глаза.
— Я в этом не сомневаюсь, — ответил коррехидор, держа на руках Пресьосу, — ибо в моей душе шевельнулось такое же чувство, как и в вашей; а кроме того, столько совпадений сразу нельзя было бы объяснить иначе, как чудом!
Вся домашняя челядь ходила, недоумевая и спрашивая друг у друга, что бы это такое значило, но никак не могла напасть на правильный след; и в самом деле, кому же могло в голову прийти, что цыганочка не кто иная, как родная дочь их сеньоров?
Коррехидор попросил свою дочь и старуху цыганку сохранить происшествие в тайне до тех пор, пока он сам его не огласит; равным образом он сказал старухе, что прощает ей обиду, нанесенную похищением дочки, ибо она загладила свою вину, возвратив девушку обратно, что само по себе заслуживает великой награды; одно только его огорчало: как это, зная про родовитость Пресьосы, она обручила ее с цыганом, да еще с вором и убийцей!
— Ах, сеньор, — вырвалось тогда у Пресьосы, — хотя он и убийца, но он совсем не цыган и не разбойник! А убил он того, кто его обесчестил, и ему ничего не оставалось делать, как показать, кто он такой, и убить обидчика.
— То есть как же это так не цыган, дитя мое? — спросила донья Гьомар.
Тогда старуха цыганка вкратце изложила историю Андреса Кавальеро, сообщив, что он сын дона Франсиско де Кàркамо, кавалера ордена Сант-Яго; что настоящее имя его — Хуан де Кàркамо и что он член того же самого ордена; что, наконец, она сохранила одежду, которую он в свое время сменил на цыганскую. Она рассказала также про условие, заключенное Пресьосой и доном Хуаном, — испытывать друг друга в течение двух лет, раньше чем повенчаться, выставив в должном свете выдержку обоих и приятный нрав дона Хуана. Родители подивились этому не меньше, чем возвращению дочки. Коррехидор велел цыганке сходить за одеждой дона Хуана, что та и исполнила, вернувшись в сопровождении цыгана, принесшего вещи.
Пока она ходила туда и обратно, родители осыпали Пресьосу нескончаемыми вопросами, на которые она отвечала с таким умом и приятностью, что если бы она была для них совсем чужая, то и тогда они, несомненно, остались бы ею очарованными. Спросили ее, чувствует ли она какую-нибудь склонность к дону Хуану. Она ответила, что расположение это ничуть не больше того, чего требует признательность к человеку, который пошел ради нее на унижение и сделался цыганом, но что чувство это никогда не переступит границ, угодных ее родителям.
— О чем тут разговаривать, милая Пресьоса, — сказал отец (я хочу, чтобы имя Пресьосы за тобой сохранилось навсегда в воспоминание твоей пропажи и обнаружения), — я как отец считаю своим долгом подыскать тебе такого человека, который тебя не опорочит.
При этих словах Пресьоса вздохнула, а мать, будучи женщиной чуткой, поняла, что та вздохнула от любви к дону Хуану, и сказала мужу:
— Сеньор, если дон Хуан де Кàркамо так знатен и так любит нашу дочь, мы ничего не потеряем, выдав ее за него замуж.
Тот ответил:
— Подумайте, мы только сегодня нашли свою дочь, а вы уже хотите потерять ее снова?! Порадуемся на нее некоторое время: ведь если мы выдадим ее замуж, она будет не наша, а своего мужа!
— Правда ваша, сеньор, — сказала жена. — Однако распорядитесь выпустить дона Хуана: он, наверное, сидит в застенке.
— Конечно, — вставила Пресьоса, — вору, убийце, а главное еще и цыгану, вряд ли отведут лучшее помещение.
— Я сейчас схожу к нему, тем более что мне необходимо снять с него показание, — ответил коррехидор, — и еще раз напоминаю вам, сеньора, чтобы об этом случае никому не было известно до тех пор, пока я сам того не захочу.
И, обняв Пресьосу, он тотчас же отправился в тюрьму и, не пожелав иметь при себе спутников, вошел в застенок, где находился дон Хуан.
Ноги пленника были прикованы к колодке, на руках находились кандалы, и даже подпорку у него не сняли с шеи.
Помещение было темное. Коррехидор велел открыть наверху отдушину, откуда стал проникать свет, хотя и очень скудный; едва увидев заключенного, он сказал:
— Ну, каково тебе тут, мошенник? Вот посадить бы на такую же цепь всех цыган, живущих в Испании, и покончить с ними в один день, подобно тому как Нерон хотел поступить с Римом, уничтожив его в один раз! Знай, закоренелый злодей, что я — коррехидор этого города и пришел лично удостовериться, правда ли, что у тебя есть невеста, одна цыганочка, которая ходит вместе с вами.
Услыхав эти слова, Андрес вообразил, что коррехидор, должно быть, влюбился в Пресьосу (ибо ревность, как известно, есть некое невесомое тело и легко проникает в другие тела, не разрушая их, не дробя и не разделяя); тем не менее он ответил ему:
— Если она говорит, что я ее жених, — это несомненная правда; если же она отрицает это, то и тогда говорит правду, ибо Пресьоса не умеет лгать.
— Такая она правдивая? — спросил коррехидор. — Для цыганки это не так уже мало. А теперь вот что, молодец: она заявила, что она ваша невеста, хотя еще с вами не обручилась. Узнав, что за совершенное преступление вас ожидает смерть, она попросила меня повенчать ее перед вашей кончиной, ибо хочет удостоиться чести остаться вдовой столь знаменитого вора, как вы.
— В таком случае, сеньор коррехидор, поступите так, как она просит; пусть только я с ней обвенчаюсь, и я радостно отойду в лучшую жизнь, сделавшись здесь, на земле, ее мужем.
— Вы, должно быть, очень ее любите, — заметил коррехидор.
— Так люблю, — вскричал пленник, — что умей это я выразить словами, — грош цена была бы моей любви! Тем не менее, сеньор коррехидор, дело мое пора кончать; я убил того, кто посмел меня обесчестить; я обожаю эту цыганку и с радостью умру, если она меня любит; я уверен, что бог взыщет нас своей благодатью, потому что мы оба честно и в точности сдержали все, что друг другу пообещали.
— Ну так сегодня ночью я пришлю за вами, — ответил коррехидор. — Вы обвенчаетесь с Пресьосой в моем доме, а завтра в полдень вы будете на виселице: таким образом я исполню требования правосудия и ваше общее желание.
Андрес выразил ему благодарность, а коррехидор вернулся домой и сообщил жене, о чем он говорил с доном Хуаном, а также и о других задуманных им вещах.
За то время, что его не было дома, Пресьоса рассказала матери про свою прошлую жизнь, о том, как она все время думала, что она — цыганка и внучка старухи, и как все это время держала себя гораздо строже, чем полагалось простой цыганке.
Мать попросила ее сказать правду, любит ли она дона Хуана де Кàркамо. Та, застыдившись и опустив глаза в землю, ответила, что в бытность свою цыганкой она, пожелав улучшить свою судьбу браком с кавалером ордена, да еще таким родовитым, как дон Хуан де Кàркамо, а также убедившись на опыте в его добрых нравах и честном поведении, поглядывала на него иной раз неравнодушными глазами, но в общем она уже сказала раньше, что у нее нет иной воли, кроме благоусмотрения ее родителей.
Настала ночь. Около десяти часов Андреса вывели из тюрьмы без ручных кандалов и шейной подпорки, но все же закованным в цепь, обвивавшую его с ног до головы. Он прибыл таким образом в дом коррехидора, не замеченный никем, кроме стражников, которые его сопровождали; тихо и осторожно ввели они его в комнату и оставили там одного. Минуту спустя туда вошел священник и велел Андресу исповедаться, ибо завтра ему надлежало умереть. На это Андрес ответил:
— Я с превеликой охотой исповедаюсь, но почему же меня раньше не венчают? А если это — подготовка к венцу, то, видно, невеселая свадьба меня ожидает.
Донья Гьомар, знавшая обо всем, сказала мужу, что страхи, которыми пугает он дона Хуана, не в меру сильны и что лучше их несколько поубавить, а то он, чего доброго, и жизни от них лишится.
Совет показался коррехидору хорошим, а потому он вызвал к себе исповедника и сказал ему, что сначала нужно повенчать цыгана с цыганкой Пресьосой, а потом совершить исповедь; и пусть, мол, цыган от всего сердца поручит себя господу, ибо часто бывает так, что дождь его милосердия проливается в такое время, когда надежда совсем иссякает.
Между тем Андрес вошел в залу, где находились только донья Гьомар, коррехидор, Пресьоса и еще двое домовых слуг. Когда Пресьоса увидела дона Хуана, закованного и оплетенного большою цепью, причем лицо у него было бледное, а по глазам видно, что он плакал, то сердце у нее похолодело, и она припала к руке матери, стоявшей рядом, а та, прижав дочку к себе, проговорила:
— Приди в себя, малютка; все, что ты сейчас видишь, пойдет тебе на радость и пользу.
Она же, ничего не понимая, не знала, как успокоиться; старуха цыганка была расстроена, а присутствующие нетерпеливо ожидали развязки событий. Коррехидор начал:
— Сеньор священник, прошу вас повенчать этого цыгана и цыганку.
— Я могу это сделать только после соблюдения порядка, требующегося в подобных случаях. Где было сделано оглашение? Где находится разрешение настоятеля, дабы можно было на основании документа совершить таинство?
— Тут, конечно, моя оплошность, — сказал коррехидор, — однако я устрою так, что викарий его даст.
— В таком случае, до тех пор пока я сам не увижу разрешения, — сказал священник, — я ничем не могу быть вам полезным.
И, не сказав больше ни слова, дабы не создавать никаких неприятностей, он вышел из дому и оставил всех в некотором замешательстве.
— А священник поступил хорошо, — произнес в это время коррехидор, — весьма возможно, что это перст провидения, заставляющий повременить с казнью Андреса; поскольку ему необходимо повенчаться с Пресьосой, постольку венчанию должно предшествовать оглашение, а на это, конечно, потребуется время, которое обычно приводит к сладостному исходу самые горькие испытания. Но мне все-таки хотелось бы узнать от самого Андреса: а что, если судьба устроила бы его брак с Пресьосой без всяких тревог и потрясений, будет ли он тогда счастлив, независимо от того, кто он: Андрес ли Кавальеро или дон Хуан де Кàркамо?
Как только Андрес услышал, что его назвали настоящим именем, он сказал:
— Значит, Пресьоса пожелала преступить границы молчания и открыть, кто я такой; в таком случае я скажу, что застань меня это великое счастье хотя бы даже повелителем вселенной, я бы так его оценил, что сразу положил бы предел всем своим желаниям и не стал бы желать себе никакого иного счастья, кроме небесного.
— За высокий дух, выказанный вами, дон Хуан де Кàркамо, я в свое время устрою так, что Пресьоса станет вашей законной женой, а теперь я передаю ее вам как будущую спутницу вашей жизни и как богатейшее сокровище моего дома, моей жизни и души моей; цените ее так, как вы говорили, ибо в ее лице я даю вам донью Костансу де Менесес, единственную мою дочь, которая, не уступая вам в силе любви, нисколько не опорочит вас своим родом.
Как громом пораженный, стоял Андрес, тронутый зрелищем любви, которую ему выказали. В нескольких словах донья Гьомар рассказала ему о том, как пропала и была найдена ее дочь, и о том, как достоверны все признаки, данные старухой цыганкой относительно похищения, после чего дон Хуан окончательно остолбенел и застыл, но вместе с тем и возликовал выше всякой меры: он обнял тестя и тещу, назвал их своими родителями и сеньорами; он стал целовать руки Пресьосе, со слезами просившей, чтобы он дал ей также свои.
Тайна была оглашена; слух о событиях разнесся повсюду, едва только челядь вышла из дому; а когда об этом узнал дядя убитого, он сразу понял, что пути для его мести были отрезаны, ибо поступить по всей строгости закона с зятем самого коррехидора было бы трудно.
Дон Хуан надел свое дорожное платье, которое принесла цыганка; заключение и железные цепи уступили место свободе и золотым цепям, а грусть заключенных цыган сменилась радостью, потому что на следующий день их выпустили на поруки. Дяде убитого предложили выплатить две тысячи дукатов, в случае если он откажется от своей жалобы и простит дона Хуана.
Последний, помня о товарище своем Клементе, попробовал его разыскать; однако его не нашли и ничего о нем не узнали, и только через четыре дня прибыли достоверные известия о том, что он погрузился на одну из двух генуэзских галер, стоявших в порту Картахены и уже отплывших по назначению.
Коррехидор сообщил дону Хуану полученное им из верных рук сведение о назначении отца его, дона Франсиско де Кàркамо, коррехидором вышепоименованного города и прибавил, что хорошо было бы подождать его и с его соизволения и согласия отпраздновать свадьбу. Дон Хуан ответил, что охотно послушается его совета, но что в первую очередь его все-таки следует обручить с Пресьосой.
Архиепископ дал свое согласие на то, чтобы оглашение ограничить одним только разом. Город задал празднество — ибо коррехидора очень там любили — с иллюминацией, быками и «каруселью» в день обручения; старуху цыганку оставили в доме, ибо она не захотела расстаться со своей внучкой Пресьосой.
Слухи об этом событии и свадьбе цыганочки дошли до столицы. Дон Франсиско де Кàркамо узнал, что цыган — это его сын, а та цыганочка, которую он в свое время видел, — Пресьоса. Красота ее оправдала в его глазах легкомыслие сына, которого он считал уже погибшим, с тех пор как установил, что тот не поехал во Фландрию; а кроме того, отец понял, что сын его только выиграет от того, что женится на дочери столь важного и богатого кавальеро, каким был дон Фернандо де Асеведо. Он поспешил с отъездом, чтобы поскорей увидеть новобрачных, и через двадцать дней был уже в Мурсии; с прибытием его все еще больше развеселились, была отпразднована свадьба, рассказаны приключения, а поэты города — их было несколько и очень хороших — взяли на себя труд воспеть это удивительное событие, а заодно и беспримерную красоту цыганочки. При этом описание, сделанное знаменитым лиценциатом Посо[40], отличалось таким блеском, что стихи его сохранили память о Пресьосе на вековечные времена.
Я забыл упомянуть о том, что влюбленная владелица постоялого двора открыла правосудию лживость обвинения против Андреса, призналась в своей любви и в преступлении, за что ей не последовало, однако, никакой кары, ибо на радостях, что молодые люди отыскались, мысли о мести были «преданы земле» и была «воскрешена» милость.
Великодушный поклонник
О жалостные развалины несчастной Никосии[41], омытые еще не высохшей кровью доблестных, но злополучных защитников! Если бы вы, бесчувственные, вдруг стали чувствительными, мы смогли бы тогда вместе в печальном одиночестве оплакать свои злоключения. Возможно, что, объединившись в страдании, мы тем самым облегчили бы свою муку. Но у вас, разрушенные башни, остается все же надежда, что когда-нибудь (пусть даже не для столь правой защиты, как та, из-за которой вас разрушили) вы снова подниметесь ввысь, а я, несчастный, на что могу я надеяться в нынешнем бедственном положении, даже если бы вернулся опять в свое прежнее состояние? Несчастие мое таково, что если не видел я радостей на свободе, то не получу и не найду их и в плену.
Так говорил невольник-христианин, смотря со склона холма на разрушенные стены уже завоеванной Никосии. Он обращался к ним со словами и сравнивал их бедствия со своими собственными, как если бы стены могли его услышать: странность, отличающая всякого страдающего человека, смятенные помыслы которого побуждают его говорить и делать вещи, несогласные с разумом и здравым смыслом. В эту минуту из одного из четырех шатров, или палаток, стоявших в поле, вышел молодой статный и бравый турок. Он подошел к христианину и сказал:
— Бьюсь об заклад, друг Рикардо, что в эти места привела тебя твоя неизменная задумчивость.
— Ты прав, — ответил Рикардо (таково было имя пленника). — Но что поделаешь: куда бы я ни пошел, я все равно нигде не могу найти от нее ни отдыха, ни покоя, а виднеющиеся отсюда развалины способны еще больше ее увеличить.
— Ты говоришь о развалинах Никосии? — спросил турок.
— Только о них я и могу говорить, — возразил Рикардо, — ведь отсюда, насколько может охватить взор, других не видно?
— Да, от такого вида невольно заплачешь, — отвечал турок. — Кто видел два года тому назад спокойствие и величие богатого и славного острова Кипра и его обитателей, наслаждавшихся всем, что может даровать людям земное счастье, а теперь видит их или изгнанниками или жалкими рабами своей страны, тот не может не скорбеть об их бедствиях и невзгодах. Но зачем говорить о том, чему все равно не поможешь; перейдем лучше к твоим делам и посмотрим, нельзя ли будет найти какого-либо облегчающего средства. Заклинаю тебя моим дружеским расположением, именем нашей общей родины и проведенным вместе детством, открой мне причину своей необычайной печали. Правда, уже одного плена достаточно, чтобы опечалить самое веселое сердце на свете; но все же мне кажется, что злоключения твои начались еще до него; к тому же такие благородные души, как твоя, не поддаются заурядным несчастьям в такой мере, чтобы проявлять из-за них признаки крайнего огорчения. Я склоняюсь к этой мысли потому, что, по моим сведениям, ты ведь располагаешь достатком и в состоянии внести требуемый за тебя выкуп; кроме того, тебя не содержат в башнях Черного моря, в числе пленников особой важности, которые очень не скоро, а то и никогда, не добиваются желанной свободы. Итак, следовательно, злая судьба не отняла у тебя надежды снова оказаться на воле, и, несмотря на это, ты обнаруживаешь недостойные тебя признаки горя; нет ничего удивительного, если я начинаю думать, что причиной твоей скорби является не один только плен. Прошу тебя, открой мне эту причину, и я помогу тебе, как смогу и сумею. Чего доброго, для того лишь и заставила меня судьба облечься в это ненавистное одеяние, чтобы я мог оказать тебе услугу? Ты знаешь, Рикардо, что мой господин — кади этого города (а это то же самое, что быть его епископом);[42] ты знаешь, какая у него власть и в каком я у него почете. Вместе с тем, тебе известно также и мое пламенное желание не умереть в том исповедании, которого я наружным образом придерживаюсь. В случае если мне нельзя будет поступить иначе, я всенародно исповедаю и провозглашу свою веру в Иисуса Христа, оставленную мною вследствие моего незрелого возраста и еще более незрелого разума, хотя я знаю, что подобное признание будет стоить мне жизни. Но я охотно пожертвую жизнью тела, лишь бы только не погубить жизнь души. Мне хотелось бы, чтобы ты задумался над этим и понял, что моя дружба может для тебя оказаться полезной, а для выяснения того, чем можно поправить или облегчить твое несчастье, тебе необходимо будет им со мною поделиться, подобно тому как больному всегда бывает необходимо рассказать о болезни врачу. Обещаю тебе скрыть твою тайну под покровом молчания.
Все это время Рикардо оставался безмолвным. Но дружеские чувства говорившего и необходимость ответить заставили его сказать:
— Если бы тебе, мой друг Махамуд (ибо так звали турка), с такой же легкостью, как ты распознал мое горе, удалось найти и исцеление от него, я счел бы благом самую потерю свободы и не променял своих невзгод на величайшее счастье, какое только можно себе представить. Но мое горе таково, что если бы все на свете знали его причину, все равно ни один человек не мог бы указать средство не то что для исцеления, а хотя бы только для облегчения его. А чтобы убедить тебя в этом, я изложу тебе свою историю с наивозможной краткостью. Но прежде чем мы углубимся в запутанный лабиринт моих бедствий, открой мне, почему мой господин, Асам-паша, разбил палатки и шатры в этой долине, вместо того чтобы вступить в Никосию, куда он назначен вице-королем, или пашой, как турки называют вице-королей.
— Я в нескольких словах удовлетворю твое любопытство, — отвечал Махамуд. — Знай, что, по обычаю турок, вице-король, получивший новую провинцию, не въезжает в ставку своего предшественника до тех пор, пока тот не выедет оттуда и не даст ему возможности беспрепятственно произвести расследование о его управлении. В то время как новый паша производит дознание, прежний властитель, в ожидании разбора поступающих на него жалоб, живет вне города и тем самым не может оказывать никакого давления на ход дела посредством подкупов и дружеских связей, если только он не прибегнул к ним заранее. По окончании расследования пергамент, содержащий постановление, закрытый и запечатанный, вручается тому, кто покидает должность. С ним он должен явиться в государеву Порту, то есть ко двору, и предстать перед верховным советом султана. Визирь-паша с четырьмя подчиненными ему пашами (по-нашему — это председатель и члены королевского совета), рассмотрев дело, награждает или наказывает смещенного пашу, в зависимости от содержания бумаги. Впрочем, если в ней содержится обвинение, он может откупиться деньгами от наказания; если же вины за ним никакой не оказывается и его вместе с тем не представляют к награде (а такие случая особенно часты), то с помощью взяток и подарков он обыкновенно добивается любой должности, так как назначения и места даются там не за заслуги, а за деньги; все продается и все покупается; те, от кого зависят назначения, грабят и обирают назначаемых; купленные должности доставляют средства для приобретения новых, еще более выгодных. Так обстоит дело в этой империи, где все основано на насилии, — верный признак того, что она недолговечна. Держится она, думается мне (и я, должно быть, недалек от истины), исключительно грехами человеческими, грехами людей, бесстыдно и безудержно оскорбляющих господа, вроде того, как это делаю я, — да не забудет он меня во славе своей! Итак, вот объяснение, почему твой господин Асам-паша уже несколько дней находится в этой долине; и если паша Никосии еще не выехал из города согласно порядку, так это потому, что он тяжко болен. Теперь ему уже лучше, и не сегодня-завтра он, несомненно, покинет город и будет жить в палатках, находящихся за этим холмом и отсюда незаметных; тогда твой господин тотчас же вступит в Никосию. Вот все, что я могу сказать в ответ на твой вопрос.
— Выслушай же теперь меня, — сказал Рикардо. — Не знаю только, смогу ли я сдержать обещание и сократить рассказ о своих несчастьях, ибо они столь велики и необъятны, что вряд ли их выразишь словами. Но все же я сделаю все, что смогу, если позволит время, Прежде всего ответь мне, знал ли ты в нашем городе Трапани девушку, которую молва прозвала прекраснейшей женщиной всей Сицилии; девушку, о которой все изысканные и тонкие люди говорили, что подобной красоты не ведали минувшие века, не знает нынешний и не увидят будущие; девушку, которую поэты воспевали в стихах, заявляя, что ее волосы — золото, глаза — два блистательных солнца, ланиты — пурпурные розы, зубы — жемчужины, губы — рубины, шея — алебастр и что все части в целом и целое с частями образуют дивную и непогрешимую гармонию, которую природа наделила такой естественной и совершенной нежностью красок, что сама зависть не умудрилась бы найти в ней ни единого, самого легкого пятнышка… Но как же так, Махамуд, ты до сих пор еще не сказал, кто она и не назвал ее по имени? Я склонен думать, что ты или не слушал меня, или же был бесчувственным камнем в то время, когда жил в Трапани.
— По правде сказать, Рикардо, — отвечал Махамуд, — если та красавица, которую ты восторженно описал, не Леониса, дочь Флоренсио, я не знаю, кто это может быть, ибо только она пользовалась у нас подобной славой.
— Да, это она, Махамуд, — отвечал Рикардо, — одна она, дружище, является единственным источником всех моих радостей и печалей; из-за нее, а не из-за утраченной свободы глаза мои проливали, проливают и прольют еще бесчисленные слезы; из-за нее мои вздохи испепеляют воздух окрест и вдали, а жалобы мои утомляют внимающие им небеса и уши всех моих слушателей; из-за нее ты был склонен принять меня за безумца или, пожалуй, за маловера и труса; это она, Леониса, она, львица для меня и кроткая овечка для другого, довела меня до такого состояния. Знай, что с самого юного возраста или, во всяком случае, с тех пор, как я начал пользоваться разумом, я не только любил ее, но поклонялся ей и служил так ревностно, как если бы ни на земле, ни на небе не было другого божества, которому я мог бы служить и поклоняться. Ее родные знали о моей страсти и ни разу не обнаружили ни малейшего признака неудовольствия, уверенные в чистоте и благородстве моих намерений. Напротив, мне известно, что много раз они говорили о них Леонисе и, принимая в соображение мое положение и родовитость, пробовали убедить ее выбрать меня себе в супруги. Но ее глаза остановились на Корнелио, сыне Асканио Ротулио, которого ты отлично знаешь (щеголеватый изнеженный юноша, с холеными руками, завитыми локонами, сладким голосом и нежными речами, этакой сахар медович, пропитанный амброй, разряженный в шелка и парчу). Она не удостаивала взглядом мое лицо, увы! не столь нежное, как лицо Корнелио, не удостаивала благодарности мои бесчисленные и постоянные знаки внимания, платя за мою преданность презрением и отвращением. Но я пылал к ней такой любовью, что почел бы за счастье пасть жертвой ее презрения и бесчувственности, лишь бы только она не проявляла открыто (правда, очень невинно) свое расположение к Корнелио. Можешь себе представить, что творилось в моей душе, когда к мукам, порожденным ее презрением и отвращением, присоединилось страшное и неистовое бешенство ревности. Родители Леонисы смотрели сквозь пальцы на ее увлечение Корнелио, не без основания полагая, что молодой человек, плененный ее несравненной и лучезарной красотой, возьмет ее себе в жены и что, таким образом, в его лице они приобретут зятя, более богатого, чем я. Возможно, что если бы это случилось, последнее соображение оказалось бы верным, но скажу без похвальбы, что вряд ли все-таки их зять оказался бы человеком такой души, такого высокого образа мыслей и такой отваги, как я. Но вышло так, что в то время как я добивался любви Леонисы, как-то раз в мае месяце прошлого года (то есть год, три дня и пять часов тому назад) я узнал, что Леониса вместе со своими родителями и Корнелио со своими близкими предприняли увеселительную прогулку в сопровождении всех своих слуг и домочадцев в сад старика Асканио, расположенный на берегу моря по дороге в солеварни.
— Я отлично знаю этот сад, — сказал Махамуд, — можешь его не описывать, так как не один раз, слава богу, проводил я там приятные минуты.
— Стоило мне узнать об их отъезде, — продолжал Рикардо, — как в ту же минуту неистовая, бешеная, адская ревность с такой силой и жестокостью овладела моей душой, что я, как это станет ясно из того, что я сделал, совсем потерял голову. Я отправился в сад, где, по моим сведениям, они находились, и увидел, что большая часть гуляющих развлекается, а в тени орешника сидят рядом Корнелио и Леониса, на некотором расстоянии друг от друга. Как они отнеслись к моему появлению, я не знаю, но на меня их вид произвел такое впечатление, что в глазах у меня помутилось и я оцепенел, как статуя, безмолвный и неподвижный. Но вскоре огорчение перешло в гнев, гнев — в кровь моего сердца, кровь пробудила ярость, а ярость вывела из оцепенения руки и язык. Если руки мои были связаны уважением, неотъемлемым, как мне казалось, от прекрасного образа, который находился передо мной, то язык нарушил молчание следующими словами: «Теперь, о смертельный враг моего покоя, ты должна быть счастлива тем, что глаза твои безмятежно покоятся на лице, обрекшем мои глаза на вечные слезы и страдания. Прильни же, прильни к нему поближе, жестокая, и обвейся, как плющ, вокруг этого влекущего тебя бесплодного ствола; расчесывай и завивай кудри своего нового, небрежно тебя обольщающего Ганимеда; отдай себя целиком непостоянству юноши, которым ты так любуешься, и тогда я, потеряв надежду добиться тебя, расстанусь с жизнью, мне уже ненавистной! Надменная и безрассудная девушка! Неужели же ты думаешь, что ты властна отменить и нарушить законы и обычаи, управляющие миром в такого рода делах? Неужели ты думаешь, говорил я, что этот юноша, гордый своим богатством, кичащийся своей красотой, неразумный по молодости лет и щеголяющий своей родовитостью, захочет, сможет или сумеет хранить постоянство в любви, ценить неоценимые дары и постичь то, что открывается только опыту зрелого возраста? Одумайся, если ты действительно в этом уверена, потому что если на свете и есть что-нибудь хорошее, то, пожалуй, один тот закон, по которому явления мира протекают всегда совершенно одинаковым образом, так, что обманывать себя может только невежда. Юность всегда бывает исполнена непостоянства, богатство — гордости, суетность — кичливости, красота — презрительности, а люди, соединяющие в себе все эти качества, обыкновенно исполнены глупости, которая есть мать всех пороков. А ты, юноша, мечтающий без особого труда получить награду, более подобающую моим искренним чувствам, чем твоим праздным прихотям, почему бы тебе не встать сейчас с усыпанного цветами ложа, на котором ты покоишься, и не вырвать из моей груди ненавидящее тебя сердце? Я ненавижу тебя, и не потому, что ты оскорбляешь меня своим поведением, а потому, что ты неспособен оценить благо, посланное тебе судьбой; о, ты, несомненно, его мало ценишь, так как не хочешь шевельнуть пальцем для его защиты из страха нарушить безупречный порядок своего изящного платья! Если бы Ахилл обладал твоим миролюбием[43], то Одиссею было бы не под силу удачно справиться со своей задачей, как бы он ни выставлял напоказ блестящие доспехи и вороненую сталь клинков. Ступай лучше забавляться с девушками своей матери и оберегай там свою прическу и руки, годные на то, чтобы разматывать мягкий шелк, а не держать жесткую шпагу». Я говорил, а Корнелио даже не двинулся с места, где он сидел; он оставался неподвижным и смотрел на меня не шевелясь, как ошалелый. Но так как слова мои были сказаны громко, то на шум мало-помалу сбежались люди, гулявшие в саду, и стали вслушиваться в оскорбительные выражения, которыми я продолжал осыпать Корнелио. А он, собравшись с духом, при виде этих людей, так как все они были его родные, слуги или близкие, сделал вид, что собирается встать. Но прежде чем он успел подняться, в моих руках уже оказалась шпага, и я обратил ее не только против него, но и против всех присутствующих. Леониса, увидев, как сверкнул мой клинок, тотчас же впала в глубокий обморок, что еще больше увеличило мой гнев и мою ярость. Не знаю, потому ли, что мои многочисленные противники думали только о самозащите, как люди, отбивающиеся от буйнопомешанного, потому ли, что причиной всего было мое усердие и счастье, или, наконец, потому, что небо хранило меня для более горьких испытаний, но я успел ранить семерых или восьмерых людей, подвернувшихся мне под руку. Что же касается Корнелио, то ему тоже помогло усердие… с которым он изо всех сил заработал ногами, благодаря чему ускользнул из моих рук.
В то время как я подвергался величайшей опасности, окруженный врагами, спешившими отомстить мне за нанесенные раны, судьба послала мне такого рода помощь, что лучше бы я лишился жизни в этой схватке, чем, сохранив ее совсем неожиданным образом, ежечасно терял ее потом многие тысячи раз. Внезапно в сад ворвалась шайка бизертских корсаров, сошедших в ближайшей бухте с двух галиотов и ускользнувших от внимания башенных часовых и береговых скороходов-перехватчиков. Едва заметив врагов, мои противники тотчас же со всех ног бросились бежать, и я остался один. Из граждан, гулявших в саду, турки смогли захватить только трех человек и Леонису, все еще находившуюся в беспамятстве. Меня они одолели только после того, как я получил четыре тяжелых раны, за которые мне заплатили жизнью четыре турка, бездыханными трупами лежавшие на земле. Набег свой турки произвели с обычной для них быстротой; недовольные своими успехами они погрузились на суда, поспешно вышли в море и на веслах и парусах доплыли в короткое время до острова Фабианы. Там они сделали перекличку, чтобы выяснить, кого не хватает. Установив, что убито четверо лучших и наиболее ценных солдат из числа так называемых левентцев, они решили отомстить за их смерть. Арраис старшего галиота приказал спустить грот-рею, чтобы меня повесить.
Все это видела Леониса, уже очнувшаяся от обморока. Сообразив, что она во власти корсаров, красавица роняла частые прекрасные слезы, ломала свои нежные руки и, ни слова не говоря, старалась угадать, о чем говорили турки. Один гребец-христианин сказал ей по-итальянски, что арраис приказал повесить пленного христианина (причем он указал на меня) за то, что он в схватке убил четырех лучших солдат на галиоте. Когда Леониса услыхала и поняла, в чем дело, она первый раз в жизни проявила ко мне сострадание и попросила невольника сказать, чтобы турки меня не вешали, иначе они потеряют большой выкуп, и ехали бы обратно в Трапани, где за меня немедленно внесут деньги. Это был первый и, думается мне, последний знак участия, виденный мною от Леонисы; но и он только усугубил мое горе. Турки, выслушав слова итальянца, охотно поверили ему, и корысть взяла верх над гневом. На другой день утром, выкинув флаг мира, они вернулись в Трапани. Всю ночь накануне я провел в невообразимых мучениях, терзаясь, однако, не ранами, а мыслью об опасностях, которым повергается у этих варваров моя бессердечная красавица.
Приблизившись к городу, один галиот вошел в гавань, а другой остался в море. Тотчас же весь порт и берег усеяли христиане, среди которых находился и неженка Корнелио, издали смотревший на то, что происходило на галиоте. Мой управляющий тотчас же явился для переговоров о выкупе; я сказал ему, что хлопоты об освобождении нужно начать не с меня, а с Леонисы и что я готов отдать за ее свободу все мое состояние. Кроме того, я велел ему вернуться на берег и просить родителей Леонисы, чтобы они поручили ему вести переговоры о выкупе дочери и не хлопотали сами. По возвращении управляющего главный арраис, греческий ренегат по имени Юсуф, запросил за Леонису шесть тысяч эскудо, а за меня — четыре тысячи, прибавив, что не отпустит одной без другого. Он запросил такую огромную сумму потому, что (как я это узнал впоследствии) он сам полюбил Леонису и вначале не хотел доводить дело до ее выкупа. Состоя в половинной доле с арраисом другого галиота, он рассчитывал уступить ему меня за четыре тысячи эскудо, что с приплатой одной тысячи наличными составило бы пять тысяч, то есть такую же точно сумму, за которую он оставлял себе Леонису. Вот почему он оценил нас теперь в десять тысяч эскудо. Родители Леонисы, рассчитывая на предложение, сделанное от моего имени управляющим, со своей стороны не дали ничего; Корнелио, конечно, не открыл рта в ее пользу. Наконец, после длинных переговоров, мой управляющий условился, что он даст пять тысяч за Леонису и три тысячи за меня.
Юсуф вынужден был пойти на это соглашение под давлением второго арраиса и своих солдат. Но так как мой управляющий не имел при себе нужной суммы, он попросил три дня сроку и приготовился, в случае нужды, заведомо все продешевить, но зато выручить столько, сколько потребуется для выкупа. Юсуф обрадовался этой отсрочке, надеясь придумать за это время какой-либо предлог и расстроить сделку. Он снова уехал на остров Фабиану, сказав, что по истечении трех дней явится за деньгами. Но преследующий меня неизменно злой рок пожелал, чтобы часовой, поставленный турками на самом высоком месте острова, высмотрел в море шесть треугольных парусов и решил (как это и было на самом деле), что это либо мальтийский флот, либо одна из сицилийских эскадр. Часовой бегом сбежал вниз и передал известие. В одно мгновение все турки, занявшиеся было на берегу кто приготовлением обеда, кто стиркой белья, вскочили на суда, с необыкновенной быстротой подняли якорь, налегли на весла, подняли паруса и, взяв направление на Берберию, менее чем через два часа потеряли из вида галеры. Будучи скрыты островом и надвигавшейся ночной темнотой, они скоро оправились от охватившего их страха.
Я не стану тебе описывать, друг Махамуд, что было у меня на душе во время этого переезда, доставившего меня совсем не туда, куда бы мне хотелось. Не буду говорить и о том, чтó я пережил на следующий день, когда, по прибытии обоих галиотов к южному берегу острова Пантаналея[44], турки сошли на землю, чтобы «нарубить дров и мяса», как они выражаются, и когда я увидел, что оба арраиса, очутившись на берегу, принялись делить добычу; каждый отдельный торг был для меня медленной смертью. Когда дело дошло до раздела меня и Леонисы, Юсуф отдал Фетале (так звали арраиса второго галиота) шестерых человек — четырех гребцов и двух редкой красоты юношей, корсиканцев по происхождению, прибавив еще и меня, а себе он оставил Леонису. Фетала этим вполне удовлетворился. Хотя я присутствовал при дележе и знал, чем они занимаются, тем не менее я никак не мог уяснить себе смысл их беседы и, вероятно, не понял бы, на чем они наконец сговорились, если бы Фетала не подошел ко мне и не сказал по-итальянски: «Христианин, ты принадлежишь мне; ты обошелся мне в две тысячи эскудо; если ты хочешь получить свободу, то должен заплатить мне четыре тысячи; в противном случае ты умрешь в рабстве». Я спросил его, отошла ли к нему также христианка. Он ответил, что нет, а что Юсуф оставил ее себе, желая обратить ее в мусульманство и сделать своей женой. Что это было так, подтвердил один гребец-невольник, хорошо говоривший по-турецки и слышавший, о чем беседовали Юсуф и Фетала. Я посоветовал моему господину оставить за собой христианку и посулил ему за нее выкуп в десять тысяч золотых эскудо. Турок ответил, что это невозможно, но что он сообщит Юсуфу о большой сумме, предложенной мною за христианку; быть может, тот, поддавшись корысти, изменит свое намерение и пойдет на выкуп. Он переговорил с товарищем, а затем приказал всем своим людям грузиться на галиот, так как он собирался ехать в Триполи Берберийский, откуда он был родом. Юсуф, со своей стороны, решил направиться в Бизерту. Они совершили посадку с той поспешностью, которую они обнаруживают при виде неприятельских галер или судов, служащих им добычей. Они заторопились с отъездом, потому что почуяли перемену погоды и близость бури.
Леониса находилась на берегу, но в таком месте, что я не мог ее видеть до той самой минуты, когда мы сошлись на берегу при посадке. Ее вел за руку ее новый хозяин, неожиданно ставший ее поклонником. Ступив на мостки, перекинутые с галиота на берег, она остановила на мне свой взор; я тоже не отрываясь смотрел на нее с великой нежностью и скорбью, и вдруг какое-то облако затуманило мне глаза, все потемнело, и я упал на землю без чувств. То же самое, как мне передавали впоследствии, случилось и с Леонисой: она свалилась с мостков в воду; Юсуф бросился за ней в воду и вынес ее на руках. Все это мне рассказали уже на галиоте моего хозяина, куда меня перенесли еще до того, как ко мне вернулось сознание. Но когда, очнувшись от обморока, я увидел, что я на галиоте один и что второе судно, взяв другое направление, удаляется далеко в сторону, унося с собой половину моей души или, вернее, всю мою душу, — сердце мое сжалось, и я стал клясть свою судьбу, громко призывая смерть. Жалобы мои были так неистовы, что хозяин, которому надоели мои стоны, пригрозил прибить меня толстой палкой, если я не замолчу. Я сдерживал слезы и подавлял вздохи, в надежде, что, не давая им воли, я придам им под конец такую силу, что, прорвавшись наружу, они откроют выход моей душе, страстно желавшей расстаться с немощной плотью. Но судьба, не довольствуясь тем, что поставила меня в столь безвыходное положение, пожелала доконать меня и отнять всякую надежду на скорое облегчение. В одно мгновение ока разразилась буря, которой опасались при отплытии. Ветер, дувший с юга, прямо навстречу, начал возрастать с такой силой, что заставил нас подставить ему корму и позволить судну носиться по воле волн.
Арраис предполагал обогнуть остров и найти убежище на северном побережье. Но вышло совсем не так. Ветер гнал нас с такой яростью, что в четырнадцать часов с небольшим мы проделали путь, пройденный перед этим в два дня, и оказались в шести или семи милях от того острова, откуда мы выехали. Нас несло прямо на него, и не на низкий песчаный берег, а на высокие скалы, видные с корабля и грозившие нам неминуемой смертью. В стороне показался сопровождавший нас прежде галиот, на котором находилась Леониса. Мы видели, как ехавшие на нем турки и невольники-гребцы изо всех сил налегали на весла, чтобы задержаться и не налететь на скалы. То же самое делал и наш экипаж, но, по-видимому, с большим усердием и успехом, чем люди второго судна. Эти последние, выбившись из сил и уступив бешенству ветра и бури, бросили весла, пали духом и на наших глазах пустили галиот прямо на скалы. Галиот наскочил на них с такой силой, что разлетелся вдребезги. Начинало смеркаться. Крики погибающих и ужас нашего экипажа, боявшегося такой же участи, были настолько сильны, что приказания нашего арраиса заглушались и оставались без исполнения. Думали только об одном: ни на минуту не выпуская весел из рук, повернуть корабль носом к ветру и спустить оба якоря, для того чтобы на несколько мгновений отсрочить гибель, казавшуюся неизбежной. И хотя все на корабле были объяты страхом смерти, я один ее не боялся. Я баюкал себя обманчивой надеждой свидеться в ином мире с той, кого я только что потерял, а потому каждое мгновение, задерживающее гибель или крушение судна, казалось мне целым веком мучительной агонии. Я всматривался в высокие валы, перекатывающиеся через корабль над моей головой, в надежде увидеть среди них труп несчастной Леонисы.
Я не буду подробно останавливаться, Махамуд, на пережитых мною в эту долгую и мучительную ночь тревогах, страхах, терзаниях, на всем том, что было мною передумано и перечувствовано, дабы не нарушать данного тебе обещания соблюсти краткость в рассказе о своих злоключениях. Достаточно будет сказать, что если бы смерть явилась за мной в эту минуту, ей пришлось бы употребить очень мало усилий для того, чтобы отнять у меня жизнь.
Наступил день и принес с собой предвестие еще большей бури, чем вчерашняя, но мы увидели, что судно изменило курс и, удалившись на значительное расстояние от скал, достигло оконечности острова. Обогнуть остров было делом жизни и смерти, а потому и турки и христиане обрели в новой надежде новые силы, и по прошествии шести часов мы объехали мыс. Море за ним было тише и спокойнее, так что нам нетрудно было воспользоваться веслами; чувствуя себя под защитой острова, турки решили сойти на землю и отправиться на поиски следов разбившегося ночью о скалы галиота. Небо не пожелало послать мне утешение, которое я мог бы получить, видя в своих объятиях тело Леонисы; о, какое было бы счастье смотреть на нее, хотя бы мертвую и искалеченную скалами, и победить тем самым тяготеющую надо мной невозможность соединиться с ней, чего вполне заслуживала моя благородная страсть. Я попросил ренегата, собиравшегося ехать на остров, тщательно обыскать берег и посмотреть,
Для того чтобы мое описание бури не вышло таким затяжным, какой была эта упрямая буря, скажу, что, выбившись из сил, умирая от голода и измучившись от этого огромного обхода (нам пришлось обогнуть почти всю Сицилию), мы прибыли в Берберийский Триполи. Там моего хозяина (прежде чем он успел поделиться добычей со своими левентцами и отсчитать им их долю, уплатив при этом, согласно обычаю, пятую часть султану) скрутила жестокая боль в боку, от которой он через три дня угодил в преисподнюю.
Тотчас же вице-король Триполи совместно с «алькайдом усопших»[45], уполномоченным Великого Султана (а султан, как тебе известно, наследует всем тем, кто, умирая, ничего ему не отказывает), завладели всем его имуществом, причем я достался вице-королю Триполи. Две недели спустя его назначили вице-королем Кипра, вследствие чего я прибыл сюда вместе с ним, нисколько не стараясь о том, чтобы выкупить себя из плена. Много раз мой господин заговаривал со мной о выкупе, так как солдаты Феталы сообщили ему о моей родовитости, но я не только не поддерживал его предложения, а, напротив, объявил ему, что люди, говорившие ему о моем громадном состоянии, его обманули. Если ты желаешь, Махамуд, чтобы я открыл тебе свою душу, — знай, что я не хочу возвращаться в те места, где я мог бы найти какое-нибудь утешение; пусть лучше воспоминания и сетования о смерти Леонисы, которыми я полон, соединившись с горестями моей подневольной жизни, отнимут у меня всякое желание жить. Если правда, что непрерывные страдания должны либо неминуемо кончиться, либо доконать самого страдальца, то скорбь моя не преминет сделать это, так как я намерен предаться ей всецело, дабы в короткое время она положила конец жалкой жизни, влачащейся помимо моего желания.
Вот каковы мои печальные приключения, возлюбленный Махамуд! Вот причины моих вздохов и слез: суди теперь сам, разве недостаточное это основание для того, чтобы из глубины моего сердца вырывались первые и чтобы иссохшая пустыня истерзанной груди порождала вторые? Умерла Леониса, а вместе с ней умерла у меня всякая надежда, которая и при жизни красавицы висела на тонком волоске, но все же… все же…
При этом «все же» язык перестал ему повиноваться, и он не мог выговорить больше ни слова. Слезы ручьями хлынули из его глаз и пролились в таком изобилии, что увлажнили землю у его ног. Махамуд тоже не мог удержаться от рыданий; но когда Рикардо справился со страданием, пробужденным воспоминаниями его печального рассказа, Махамуд попробовал утешить товарища всеми хорошими словами, какие он знал. Но тот прервал его и сказал:
— Друг мой, теперь твоим долгом является дать мне совет, каким образом мне следует вести себя и как попасть в немилость к своему господину и к тем лицам, с которыми мне придется иметь дело, дабы, ненавидимый, терзаемый и преследуемый всеми, я, нагромождая горе на горе и страдание на страдание, поскорее достиг желанной цели и скончал свои дни.
— Теперь я убедился, — воскликнул Махамуд, — в истинности изречения, что тот, кто умеет страдать, умеет и говорить, хотя иной раз страдание и заставляет умолкать язык! Но как бы то ни было, Рикардо, соответствует ли твое горе твоим словам или же твои слова превосходят твое горе, ты во всяком случае найдешь во мне истинного друга, готового подать тебе помощь и совет. Хотя мой юный возраст и неразумие, сказавшееся в том, что я надел на себя это платье, и вопиют о том, что нельзя полагаться и надеяться ни на один из моих посулов, — я приложу все усилия, чтобы снять с себя это подозрение и опровергнуть такого рода взгляд. Даже если ты не пожелаешь от меня ни совета, ни помощи, я все равно буду делать все для тебя необходимое и поступать, как поступают с больными, когда, не считаясь с их собственными желаниями, им делают только то, что им нужно. Во всем этом городе нет никого, кто пользовался бы большим влиянием и могуществом, чем мой повелитель кади; даже твой господин, приехавший сюда в качестве вице-короля Никосии, не будет иметь такой власти. А если дело обстоит таким образом, то тем самым я оказываюсь самым влиятельным лицом во всем городе, так как от господина своего я могу добиться всего, чего захочу! Я говорю это к тому, что, при случае, мне можно будет попытаться убедить кади купить тебя; а когда мы будем вместе, время само нам подскажет, что нам предпринять: тебе — чтобы утешиться, если только ты пожелаешь и сможешь найти утешение; а Мне — чтобы переменить свой образ жизни на лучший или чтобы попасть в такие края, где после такой перемены я буду чувствовать себя в безопасности.
— Благодарю тебя, Махамуд, — ответил Рикардо, — за предложение дружеских услуг, хотя уверен, что, несмотря на все старания, тебе не удастся сделать ничего, что послужило бы мне на пользу. Но оставим этот разговор и вернемся обратно к палаткам; я вижу, что из города выходит толпа народу; видимо, старый вице-король едет устраивать свою ставку в равнине, для того чтобы позволить моему господину вступить в Никосию и начать расследование об управлении своего предшественника.
— Да, это он, — сказал Махамуд. — Пойдем, Рикардо; ты посмотришь на церемониал встречи. Я уверен, что это будет для тебя интересно.
— Ладно, идем, — ответил Рикардо; — быть может, ты окажешься мне полезен, если смотритель невольников моего господина случайно обнаружит мое отсутствие: это ренегат, родом из Корсики, человек не особенно благодушный.
На этом они прекратили беседу и подошли к палаткам в то самое время, когда старый паша приближался к шатру, а новый вышел, чтобы встретить его у входа.
Али-паша (так звали смещенного правителя) прибыл в сопровождении всех янычар, составляющих гарнизон Никосии с тех пор, как ею завладели турки. Их было около пятисот; они двигались двумя отрядами или колоннами, из которых одна была вооружена аркебузами, а другая — обнаженными ятаганами. Они подошли к дверям шатра нового паши — Асама, построились вокруг, и Али-паша, склонившись до земли, отдал поклон Асаму. Последний ответил ему, но поклонился не так низко. Затем Али вошел в шатер Асама, которого турки посадили на мощного, богато разукрашенного коня и поехали вокруг палаток по равнине, выкрикивая на своем языке: «Да здравствует Сулейман[46] и его наместник Асам-паша!» Они много раз, все громче и громче, повторяли эти клики и приветствия, а затем возвратились к шатру, где находился Али-паша. Оба паши вместе с кади заперлись там и пробыли наедине в течение часа. Махамуд объяснил Рикардо, что они заперлись для совещания относительно работ, начатых в городе Али-пашой. Вскоре в дверях шатра показался кади и громко прокричал на языках турецком, арабском и греческом, что все желающие подать жалобу или какое-нибудь заявление на Али-пашу могут свободно входить, ибо в шатре находится Асам-паша, назначенный Великим Султаном в наместники Кипра, готовый оказать им суд и милость. После этого разрешения янычары отошли от дверей шатра и стали пропускать всех желающих. Махамуд велел Рикардо войти туда вместе с ним, а так как Рикардо был невольником Асама, его пропустили беспрепятственно. Явились жалобщики — греки-христиане наравне с турками, — но все дела оказались очень несерьезными, так что большинство из них кади рассмотрел, не прибегая к записи, бумагам и перекрестным допросам. Все дела, за исключением брачных, разрешаются тут же, на месте, причем судья руководствуется скорее здравым смыслом, чем законами. У этих варваров (если только позволительно назвать их в данном случае варварами) кади — полноправный судья во всякого рода делах; он разрешает их в один миг и в одну минуту изрекает приговор, не подлежащий обжалованию перед другим судом. В это время вошел чаус (нечто вроде альгуасила[47]) и сказал, что у дверей палатки находится еврей, явившийся продавать красавицу-христианку. Кади приказал ввести его. Чаус удалился и вскоре вернулся вместе с евреем почтенной наружности, который вел за руку женщину, одетую по-берберийски. Она была наряжена и разукрашена с таким вкусом, что с ней не сравнялись бы и богатейшие мавританки Феца или Марокко, хотя женщины обоих этих городов умеют одеваться лучше всех других африканок, не исключая и жительниц Алжира, щеголяющих обилием жемчуга. Ее лицо было завешено малиновой тафтой; на ногах, открытых повыше щиколоток, виднелись каркаджи (так называются у арабов браслеты) из чистого золота; на руках, просвечивающих сквозь рубашку тончайшего шелка, были тоже золотые каркаджи, осыпанные жемчугом, — одним словом, она была одета как нельзя более богато и пышно. Кади и оба паши, очарованные с первого взгляда, не вступая в разговоры и расспросы, велели еврею откинуть чадру христианки. Он исполнил приказание, и на них глянуло лицо, вид которого слепил глаза и наполнял радостью сердца всех присутствовавших, точно солнце, показывающееся после глубокой темноты из-за густых туч взору тех, кто его поджидает: так велика была красота христианки, ее изящество и благородство. Но сильнее всех подействовал явленный ею дивный свет на несчастного Рикардо, так как ему он был известен лучше, чем кому бы то ни было. То была его жестокая и нежно им любимая Леониса, которую он много раз считал погибшей и несчетными слезами оплакивал как мертвую. Неожиданное зрелище несравненной красоты христианки пронзило и покорило сердце Али; сердце Асама получило не менее глубокую рану; не избежало любовной порчи и сердце кади, который был ослеплен еще более других и не мог отвести взора от прекрасных очей Леонисы. Для того чтобы в достаточной мере подчеркнуть могущественную силу любви, нам следует сказать, что в одну и ту же минуту эти три сердца были охвачены одной и той же сладостной надеждой завладеть христианкой и насладиться ее красотой. Не спрашивая, когда, где и как попала она в руки еврея, они осведомились, какую цену желает он за нее получить. Алчный еврей запросил четыре тысячи дублонов, что составляет две тысячи эскудо. Едва он назвал свою цену, как Али-паша заявил, что он дает за христианку столько же и что еврей тотчас же может прийти в его палатку за деньгами. Но Асам-паша, решивший не упустить христианки, хотя бы даже с опасностью для собственной жизни, воскликнул:
— Я тоже даю за нее четыре тысячи дублонов! Я не сделал бы своего предложения и не стал бы состязаться с Али, если бы меня не понуждало к тому одно соображение, которое он сам, несомненно, признает всесильным и справедливым. Эту прелестную рабыню негоже иметь никому из нас: она будет принадлежать самому Великому Султану, а потому я покупаю ее от его имени. Посмотрим, найдется ли такой, кто осмелится оспаривать ее у меня!
— Я осмелюсь, — ответил Али, — так как и я покупаю ее с той же самой целью. И мне особенно удобно сделать этот подарок Великому Султану, так как я имею возможность сейчас же отвезти ее в Константинополь и приобрести себе этим благоволение султана. В качестве человека, оставшегося без должности (а это тебе отлично известно, Асам), мне необходимо обеспечить себе новое назначение; тебе же не придется думать об этом в течение трех лет, ибо ты только что приступил к управлению богатейшим кипрским королевством. Поэтому, и еще потому, что я первый предложил цену, спрошенную за невольницу, справедливость требует, Асам, чтобы ты уступил ее мне.
— Тем больше получу я благодарности, если я ее приобрету и отправлю султану, не руководствуясь при этом никакими корыстными соображениями; что же касается до способа доставить ее в Константинополь, то я снаряжу для этого галиот и посажу на него лично мне принадлежащих гребцов и невольников.
При этих словах Али вскипел, вскочил на ноги, схватился за ятаган и сказал:
— Так как намерения наши одинаковы, Асам, и мы оба желаем подарить эту христианку Великому Султану, причем я являюсь еще первым покупателем, то разум и справедливость требуют, чтобы ты предоставил ее мне. Если ты думаешь иначе, то этот ятаган защитит мое право и накажет твою дерзость.
Кади, присутствовавший при этой сцене, не менее их обоих пылал желанием обладать христианкой и в то же время боялся ее упустить; поэтому он придумал средство, которое могло бы не только прекратить разгоревшуюся ссору, но и удержать за ним невольницу, не возбуждая никаких подозрений относительно его коварных замыслов и предательских планов. Поднявшись с места, он стал между обоими пашами, которые тоже стояли, и сказал:
— Успокойся, Асам; не горячись и ты, Али: здесь нахожусь я; я сумею примирить ваши разногласия таким образом, что вы оба исполните свое намерение, а Великий Султан, удостоившись чести, которой вы ему желаете, останется в одинаковой степени признателен и благодарен вам обоим.
Они тотчас же послушались слов кади и сделали бы это даже в том случае, если бы он потребовал от них чего-нибудь более трудного: так почитают седины своих старцев люди этой проклятой веры. Кади продолжил свою речь и сказал:
— Ты, Али, говоришь, что хочешь приобрести эту христианку для Великого Султана; ты, Асам, утверждаешь то же самое. Первый ссылается на то, что он раньше предложил назначенную цену и потому христианка должна остаться за ним; второй оспаривает это, и хотя он плохо обосновывает свое притязание, мне думается все же, что у вас совершенно одинаковые права; все дело только в намерении, а намерение приобрести рабыню для подарка, несомненно, возникло у вас одновременно. Твое единственное преимущество, Али, заключается в том, что ты сказал первое слово, но из этого еще не следует, что благое пожелание должно остаться втуне. Мне кажется, что вы можете столковаться следующим образом: пусть рабыня принадлежит вам обоим; а так как назначение ее зависит от воли Великого Султана, для которого она покупается, то ему и надлежит распорядиться ею. А пока что ты, Асам, уплатишь две тысячи дублонов, а ты, Али, — две остальные тысячи; рабыня же будет находиться у меня, и от имени вас обоих я отправлю ее в Константинополь. Таким образом, я тоже не останусь без награды, хотя бы за то, что присутствовал при ее продаже. Я, со своей стороны, предлагаю отправить девушку за свой счет, со всей пышностью и великолепием, приличествующими высокому положению особы, для которой она предназначается. Я напишу при этом Великому Султану обо всем, что здесь произошло, и о вашем обоюдном желании оказать ему услугу.
Оба влюбленных турка не сумели, не смогли и не захотели ничего ему возражать. Хотя они и видели, что при таком положении вещей их страсть не будет удовлетворена, все же они были вынуждены уступить мнению кади. Но каждый из них затаил в глубине души робкую надежду, сулившую им исполнение их пламенных желаний. Асам, в качестве вице-короля Кипра, намеревался осыпать кади такими дарами, которые склонят и даже обяжут его отдать ему невольницу. Али, со своей стороны, тоже придумал способ, внушавший ему полную уверенность в том, что он добьется своего, а так как каждый из них полагался на свой план, оба легко согласились на предложение кади. С общего согласия, они тотчас вручили ему невольницу и уплатили еврею каждый по две тысячи дублонов. Тогда еврей заявил, что он не может отдать вместе с христианкой ее одежды, так как она тоже стоит две тысячи дублонов. Купец сказал правду, так как в волосах у нее (частью распущенных по плечам, частью заплетенных и окаймлявших ее чело) виднелись нити жемчуга, красиво перехваченные локонами; браслеты на ее ногах и руках были осыпаны крупными жемчужинами, а кроме того, на ней была мавританская туника из зеленого шелка, богато расшитая золотыми нитями. Одним словом, все порешили, что еврей спросил еще умеренную цену за ее одежду, и кади, желая выказать себя не менее щедрым, чем оба паши, заявил, что он заплатит эти деньги еврею, дабы христианка предстала перед султаном в этой же самой одежде.
Оба соперника остались этим очень довольны, рассчитывая про себя, что добро это попадет к ним в руки.
Но до сих пор мы ничего еще не сказали о том, какие чувства и мысли овладели Рикардо, увидевшим, что его возлюбленную продают с публичных торгов; мы не сказали также, какой страх он испытал от сознания, что он нашел свое сокровище для того, чтобы утратить его снова навеки. Он долго не понимал, во сне все это или наяву, он не верил собственным глазам, он никак не мог допустить, что перед ним вдруг опять явилась она, Леониса, по его мнению, уже навсегда смежившая свои очи. Он подошел к своему другу Махамуду и спросил:
— Друг мой, ты знаешь ее?
— Нет, она мне незнакома, — отвечал Махамуд.
— Да будет тебе известно, — сказал Рикардо, — что это — Леониса!
— Что ты говоришь, Рикардо?! — воскликнул Махамуд.
— То, что ты слышишь, — ответил Рикардо.
— Молчи же и не открывай, кто она; судьба тебе благоприятствует, так как Леониса остается в распоряжении моего господина.
— Как ты полагаешь, — спросил Рикардо, — хорошо будет, если я сделаю так, чтобы она меня увидела?
— Нет, — отвечал Махамуд, — пожалуй, ты ее взволнуешь или взволнуешься сам и как-нибудь покажешь, что ты ее знал или видел прежде; это может повредить успеху моего плана.
— Я последую твоему совету, — сказал Рикардо.
И он всеми способами стал избегать встретиться взглядом с Леонисой, а та в течение всего этого времени стояла, опустив глаза долу, и по щекам ее катились слезы, которые могли бы поспорить ценой с восточными жемчужинами. Кади подошел к ней и, взяв за руку, передал ее Махамуду, приказав ему отвести ее в город и передать его жене, Алиме, с наказом заботиться о Леонисе как о рабыне Великого Султана. Махамуд повиновался и оставил Рикардо одного. Последний провожал взором свою звезду до тех пор, пока ее не сокрыли, как облаком, стены Никосии. Тогда он подошел к еврею и спросил, где он купил невольницу-христианку и каким образом она попала к нему в руки. Еврей отвечал, что купил ее на острове Пантаналея у потерпевших кораблекрушение турок, но продолжение рассказа было прервано, так как еврея позвали к пашам, пожелавшим расспросить его о том же, о чем хотелось узнать Рикардо; поэтому еврей его покинул.
По дороге от палаток до города Махамуд спросил Леонису по-итальянски, откуда она родом; она ответила, что из Трапани. Тогда Махамуд осведомился, не знала ли она там богатого и знатного дворянина по имени Рикардо. Услыхав это имя, Леониса глубоко вздохнула и ответила:
— Да, знала, к несчастью.
— Почему к несчастью? — спросил Махамуд.
— Потому, что он узнал меня себе на горе, а мне на беду, — сказала Леониса.
— Может быть, — спросил Махамуд, — вы знали там также другого дворянина, красавца собой, сына богатых родителей, человека мужественного, щедрого и большого умницу по имени Корнелио?
— Да, знаю и его, — ответила Леониса, — и могу сказать, что это — большее горе, чем знать Рикардо. Но кто вы такой и почему вы их так хорошо знаете и о них спрашиваете?
— Я, собственно, уроженец Палермо, — сказал Махамуд, — но обстоятельства заставили меня переодеться в это, необычное для меня в прежнее время платье. Обоих этих дворян я знаю потому, что сравнительно очень недавно оба они находились в моем ведении. Корнелио был захвачен в плен маврами из Берберийского Триполи и продан ими одному турку, приезжавшему вместе с ним к нам на остров продавать товары; турок этот — купец из Родоса — спокойно доверял Корнелио все свое достояние.
— О, Корнелио, наверное, его сбережет, — сказала Леониса. — Во всяком случае, он очень хорошо умеет беречь свое собственное добро… Но скажите мне, когда и с кем приезжал на этот остров Рикардо?
— Он прибыл сюда, — ответил Махамуд, — вместе с корсаром, похитившим его во время прогулки в одном прибрежном саду возле Трапани. По словам Рикардо, этот корсар похитил вместе с ним одну молодую девушку, имени которой он мне, однако, не назвал. Он находился здесь в течение нескольких дней вместе со своим хозяином, желавшим посетить гробницу Магомета, в городе Альмедина; когда нужно было уезжать, Рикардо тяжко заболел, и хозяин его поручил мне, как земляку, лечить и опекать больного до его возвращения; на тот случай, если бы турок сюда не вернулся, я обязался отослать Рикардо в Константинополь, откуда я должен был получить хозяйское приказание. Но небо распорядилось иначе, ибо несчастный Рикардо, без всякого осложнения болезни, вскоре скончал дни своей жизни, постоянно призывая шепотом имя некоей Леонисы, которую он любил, по его словам, больше души своей и жизни. Эта Леониса, как он говорил мне, утонула при крушении галиота у берегов острова Пантаналея. О смерти ее он неизменно скорбел и беспрестанно ее оплакивал, до тех пор, пока эта скорбь не свела его в могилу, так как я не примечал у него никакого телесного недуга, а одни только душевные страдания.
— Скажите мне, — спросила Леониса, — не случалось ли тому первому юноше[48] в беседах с вами (по всей вероятности, их было у вас немало, так как вы были земляками) упоминать имя Леонисы в связи с рассказом о том, каким образом она и Рикардо попали в плен?
— Да, бывало, — отвечал Махамуд. — Он все спрашивал меня, не заезжала ли сюда на остров христианка этого имени, и называл мне ее приметы. Он говаривал, что был бы не прочь ее увидеть и выкупить; ведь могло статься, что ее хозяин, убедившись в ошибочности своих расчетов на ее богатство или успев уже с нею пожить, сбавил ей цену, а в таком случае, если бы за нее запросили каких-нибудь триста-четыреста эскудо, он охотно бы их заплатил, так как одно время питал к ней определенную склонность.
— Надо думать, что склонность была не очень большая, — сказала Леониса, — раз он оценил ее не свыше четырехсот эскудо; Рикардо был щедрее, благороднее и учтивее. Пошли, господи, прощение тому, кто явился причиной его смерти, а причиной этой была я. Да, это я — та несчастная, которую он оплакивал как мертвую. Богу известно, с какой радостью узнала бы я о том, что Рикардо находится в живых! Своим состраданием к его несчастьям я отплатила бы ему за проявленную им обо мне скорбь. Да, я — та самая, кого так мало любил Корнелио и так горячо оплакивал Рикардо. Многочисленные и разнообразные испытания довели меня до нынешнего печального положения, но хотя оно и чревато опасностями, я все же по милости неба сохранила в неприкосновенности свою честь, что утешает и радует меня в моих бедствиях. Сейчас я не знаю, где мой дом, кто мой господин и куда ведет меня враждебная мне судьба! Заклинаю вас кровью христианина, текущей в ваших жилах, помогите мне в несчастье советом; хотя неисчислимые мои бедствия многому меня научили, но меня ежечасно постигают новые горести, и я не знаю, как с ними справиться.
Махамуд ответил, что он сделает для нее все, что только может, и готов служить ей своим советом и помощью в меру своих способностей и сил. Он рассказал ей о споре из-за нее между двумя пашами и о том, каким образом она осталась в распоряжении кади, его господина, который собирается отправить ее в Константинополь, в подарок султану Селиму. Но он высказал также надежду, что, прежде чем этот план будет выполнен, истинный бог, в которого он верит (хотя сам он и плохой христианин), распорядится иначе. Он посоветовал ей снискать расположение Алимы, жены кади, его хозяина, под призором которой она будет находиться до выезда в Константинополь и нрав которой он ей описал. К этому он прибавил много других полезных советов и, наконец, довел ее до дому и сдал на руки Алиме, не забыв изложить ей хозяйский наказ.
Мавританка приняла рабыню[49] очень ласково, увидев, что она очень нарядна и красива. А Махамуд вернулся назад к палаткам сообщить Рикардо, о чем он толковал с Леонисой. Он встретил его и все подробно ему пересказал, а когда он описывал, как Леониса горевала при известии о смерти Рикардо, у того на глазах выступили слезы.
Махамуд упомянул, как, желая испытать Леонису, он сочинил рассказ о плене Корнелио и с какой холодностью и насмешливостью она о нем отозвалась; все это было бальзамом для израненного сердца Рикардо.
— Мне вспоминается, друг Махамуд, — сказал он, — один рассказ, слышанный мною от отца. Тебе известно, что это был очень интересный человек, и, по всей вероятности, ты слышал, какой почет ему оказывал император Карл Пятый, при котором он неизменно занимал видные военные должности. Он рассказывал, что во время похода на Тунис, при осаде Голеты, в лагерную палатку императора привели однажды мавританку, отличавшуюся необычайной красотой. В ту самую минуту когда ее ввели, в палатку пробились солнечные лучи и заиграли в ее золотистых кудрях, соперничавших в блеске с самим солнцем; этот цвет волос редко встречается у мавританок, гордящихся своими черными локонами. В ту пору в палатке находилось много кавальеро, и среди них два испанца: один — андалусец, другой — каталонец. Оба были люди неглупые, и оба владели стихом. Когда андалусец увидел мавританку, он тотчас в восхищении начал слагать стихи, называемые у них coplas с очень трудными рифмами, и, дойдя до пятого стиха строфы, остановился, не окончив ни строфы, ни мысли, так как не мог сразу подыскать нужные ему созвучия; тогда второй дворянин, стоявший рядом и слушавший поэта, заметив, что тот запнулся, сделал вид, будто он подхватывает на лету его слова, продолжив и закончив стихи теми же самыми рифмами. Я вспомнил про этот случай, когда увидел, как в палатку паши входила прелестнейшая Леониса, способная затмить не только солнечные лучи, если бы они ее коснулись, но и самое небо со всеми его светилами.
— Остановись, друг Рикардо, — сказал Махамуд, — сдержи себя: мне все время делается страшно, что ты зайдешь так далеко в восхвалении прекрасной Леонисы, что, невзирая ни на что, из христианина превратишься в идолопоклонника! Прочти мне, пожалуйста, эти стихи или coplas, как ты их называешь, а потом мы поговорим о других, еще более приятных и, пожалуй, более полезных предметах.
— С удовольствием, — сказал Рикардо. — Я напомню только, что первые пять строк сочинены одним, а остальные пять другим лицом, причем оба они говорили без подготовки. Вот эти стихи:
Как над взгорьями востока Солнце, вставшее из праха, Нас пленяет издалека, Поражая наше око Блеском радости и страха; Как рубин садов Аллаха, Не имеющий порока, Так прекрасен лик твой, Аха, Мощное копье пророка, Грудь разящее с размаха.— Они очень приятно звучат, — сказал Махамуд, — но еще приятнее для меня то, что ты сейчас в настроении читать стихи, ибо для того, чтобы сочинять или читать их, необходимо, чтобы у человека душа была спокойна.
— Тем не менее, — возразил Рикардо, — в элегиях полагается плакать, а в гимнах — ликовать, а ведь и то и другое стихи. Но оставим это, и скажи мне лучше, как ты думаешь приступить к нашему делу. Хоть я и не понял, о чем в палатке толковали паши, но пока ты отводил Леонису, мне все объяснил ренегат моего хозяина, венецианец по происхождению, хорошо понимающий по-турецки и присутствовавший при этой сцене. Раньше всего необходимо изыскать способ, каким образом можно помешать Леонисе попасть в руки султана.
— Прежде всего нужно постараться, — отвечал Махамуд, — устроить тебя на службу к моему хозяину; когда это будет сделано, мы найдем время сговориться о том, что нам следует предпринять.
Но в эту минуту появился надсмотрщик за невольниками-христианами, принадлежавшими Асаму, и увел с собой Рикардо.
Кади вернулся в город вместе с Асамом, который в несколько дней закончил расследование и вручил Али закрытую и запечатанную бумагу для представления в Константинополь. Али тотчас же уехал, настоятельно попросив кади не медлить с отправкой невольницы и письма к Великому Султану в благоприятном для его хлопот смысле. Кади обещал ему это, затаив измену в своем сердце, пылавшем любовью к невольнице. Когда Али отправился в путь, лаская себя несбыточными надеждами, которые не переставали также занимать мысли Асама, Махамуд устроил так, что Рикардо попал в рабы к его хозяину.
Дни шли за днями, а желание видеть Леонису так мучило Рикардо, что он не находил ни минуты покоя. Теперь он стал называть себя Марио, для того, чтобы имя его не достигло ушей Леонисы прежде, чем он с ней свидится. Но увидеть ее было очень трудно, так как мавры чрезвычайно ревнивы и прячут от всех мужчин лица своих женщин, хотя и не считают предосудительным, если те показываются христианам, — быть может, потому, что они не считают невольников настоящими людьми.
Случилось однажды, что сеньора Алима встретила своего невольника Марио; она так долго и внимательно в него всматривалась, что образ его запечатлелся в ее сердце и задержался в ее памяти. Возможно, что, не удовлетворяясь холодными ласками своего старого мужа, она легко поддалась преступному желанию, а потому и не замедлила открыть свою тайну Леонисе, уже снискавшей ее любовь своею обходительностью и благоразумием. К тому же она относилась к Леонисе с большим почтением, так как та предназначалась в наложницы Великому Султану. Алима рассказала, что кади взял в дом такого статного и видного невольника-христианина, что ни разу в жизни она не видела еще подобного красавца; говорят, будто он чилиби, то есть кавальеро, и что он земляк Махамуда, их ренегата; но она, к сожалению, не знает, каким образом известить христианина о своей склонности и повести себя так, чтобы он не стал презирать ее. Леониса спросила, как зовут невольника; Алима назвала имя Марио, и тогда невольница сказала:
— Если бы он был кавальеро и из тех самых мест, о которых вам говорили, я, наверное, его бы знала, но в Трапани нет никого, кто носил бы имя Марио. Но все же, сеньора, устрой так, чтобы я его увидела и переговорила с ним; я скажу тебе тогда, кто он и чего можно от него ожидать.
— Хорошо, — сказала Алима. — В пятницу, когда кади будет совершать молитву в мечети, я введу Марио сюда, и ты сможешь переговорить с ним наедине. Если ты сочтешь удобным сообщить ему о моей склонности, сделай это как можно искуснее.
Так сказала Алима Леонисе. Не прошло после этого и двух часов, как кади призвал к себе Махамуда и Марио, и с не меньшей пылкостью, чем Алима открыла свое сердце Леонисе, влюбленный старец открыл свою страсть обоим невольникам. Он просил у них совета, как ему поступить, чтобы овладеть христианкой, не нарушая долга перед Великим Султаном, чьей собственностью она была. Он заявил, что предпочтет тысячу раз умереть, но не уступит Леонису султану. Благочестивый мусульманин с таким жаром описывал свою страсть, что в сердцах обоих невольников тоже вспыхнули страсти, но только думали они совсем не о том, о чем думал старик. Было решено, что Марио, земляк невольницы (хотя он тут же оговорился, что ее не знает), будет убеждать ее и откроет ей желания своего хозяина; в случае если бы этим путем от нее не удалось ничего добиться, оставалась возможность прибегнуть к силе, так как пленница находилась в их власти; потом можно было бы сказать, что она умерла, и тем самым не пришлось бы отправлять ее в Константинополь.
Кади пришел в восторг от плана своих невольников и, предвкушая наслаждение, тотчас даровал свободу Махамуду и завещал ему половину своего состояния; Марио он также пообещал, в случае осуществления своих желаний, свободу и денег, с которыми тот сможет вернуться на родину богатым, уважаемым и счастливым. Если старец был щедр в своих обещаниях, то не скупились на них и оба невольника, которые были готовы посулить ему луну с неба, а не только Леонису, но при непременном условии, что он позволит с ней переговорить.
— Марио получит какое угодно позволение, — ответил кади. — Я устрою так, что Алима уедет на несколько дней к своим родителям, грекам-христианам, а когда ее здесь не будет, я велю привратнику пропускать Марио в дом всякий раз, как он того пожелает, и передам Леонисе, что она может беседовать со своим соотечественником сколько ей будет угодно.
Таким образом, ветер Фортуны переменился и начал благоприятствовать Рикардо, ибо хозяева его сами не знали, что делали.
После того как они втроем выработали эту уловку, первым человеком, испробовавшим ее на деле, оказалась Алима, как это естественно для женщины, которая от природы легко и охотно поддается своим желаниям. В тот же день кади сказал жене, что она может, когда захочет, отправиться к своим родителям и развлекаться там столько времени, сколько она пожелает. Но так как Алима была взволнована надеждами, пробужденными в ней Леонисой, она не согласилась бы отправиться не то что в родительский дом, но и в лживый рай Магомета. Она ответила мужу, что сейчас ей ехать не хочется, а когда она туда соберется, она ему скажет, но при этом она возьмет с собой и невольницу-христианку.
— Ну нет, — отвечал кади, — будущей супруге Великого Султана не годится никому показываться на глаза. К тому же, ей не следует общаться с христианами, так как ты хорошо знаешь, что тотчас же по прибытии по дворец Великого Султана ее запрут в серале и заставят ее отуречиться.
— Раз она поедет со мной, — ответила Алима, — то не велик грех, если она. поживет в доме моих родителей и будет с ними общаться. Я ведь общаюсь с ними постоянно и не перестаю от этого быть доброй турчанкой. К тому же, я рассчитываю провести у них не более четырех или пяти дней, так как моя любовь к вам не позволит мне пробыть в отсутствии очень долго и не видеться с вами.
Кади не стал возражать, не желая подавать ей повод заподозрить его намерения. Наступила пятница, и кади отправился в мечеть, откуда он не мог вернуться раньше чем через четыре часа. Едва Алима увидела, что он переступил порог дома, она тотчас же велела позвать Марио. Христианин-корсиканец, охранявший ворота, ведущие во внутренний двор, несомненно, не пропустил бы его, если бы Алима не велела дать дорогу невольнику. Тот вошел, дрожа и трепеща, как если бы ему предстояло сразиться с целым вражеским войском.
Леониса, одетая в тот самый наряд, который был на ней в палатке паши, сидела у подножия большой мраморной лестницы, ведущей в галереи верхнего этажа. Она склонила голову на ладонь правой руки, опиравшейся на колени; глаза ее глядели в сторону, противоположную той, откуда появился Марио, так что, хотя он и приблизился к ней, она его не заметила. Рикардо вошел, обвел комнату взглядом и не мог в ней открыть ничего, кроме немого, сосредоточенного молчания, пока взор его не упал в ту сторону, где сидела Леониса. В то же мгновение на него нахлынули тысячи разнообразных мыслей, наполнивших сердце влюбленного Рикардо страхом и радостью: он думал о том, что только двадцать шагов или немного более отделяют его от его счастья и радости, и вместе с тем вспоминал, что сам он невольник, а возлюбленная. его находится в чужой власти. Занятый своими думами, он медленным шагом, со страхом и надеждой, с радостью и грустью, то робея, то смелея, начал было подходить к земному образу своего блаженства, как вдруг Леониса внезапно повернула голову, и взгляды их встретились; оба они не одинаковым образом выразили переживания своей души: Рикардо остановился и не мог ступить ни шагу далее; Леониса, со слов Махамуда считавшая Рикардо покойником и увидевшая его скова живым, была охвачена страхом и ужасом. Не спуская с него глаз и не поворачиваясь к нему спиной, она отступила на четыре или пять ступенек лестницы и, сняв висевший у нее на груди маленький крестик, поцеловала его несколько раз, часто-часто крестясь, как если бы перед ней стоял призрак или выходец с того света.
Рикардо очнулся от своего оцепенения и понял по движениям Леонисы истинную причину ее страха.
— Прекрасная Леониса, — сказал он, — я горько сожалею, что сообщенное тебе Махамудом известие о моей смерти не оказалось истинным, так как, будь это так, я тем самым избавил бы себя от страшной мысли, что ты во всей полноте и неприкосновенности сохранила ко мне свою прежнюю суровость. Успокойся, сеньора, и сойди вниз; стоит тебе осмелиться на то, на что ты никогда еще не осмеливалась, приблизиться ко мне, и ты увидишь, что я не призрак. Я Рикардо, Леониса, — Рикардо, счастье которого зависит единственно от того, в какой мере ты пожелаешь сделать меня счастливым.
При этих словах Леониса приложила палец к губам, и Рикардо понял, что ему следует молчать или говорить тише. Собравшись с духом, он подошел к ней настолько, что мог расслышать следующие слова:
— Говори тише, Марио (ведь теперь ты, кажется, так называешься), и не касайся других предметов, кроме тех, о которых я буду говорить. Прими во внимание, что если нас подслушают, то мы, пожалуй, никогда уже больше не увидимся. Алима, наша хозяйка, видимо, следит сейчас за нами: она открыла мне, что тебя обожает, и избрала меня своей наперсницей. Если ты склонен отвечать ей взаимностью, то от этого тело твое выиграет больше, чем душа; но если ты к этому не склонен, тебе придется все же притвориться влюбленным, хотя бы только потому, что я прошу тебя об этом, а кроме того, и потому, что этого заслуживает женщина, сама открывающая свою любовь.
Рикардо ответил на это:
— Я никогда не думал и не мог себе представить, Леониса, что какая-либо просьба твоя может остаться неисполненной; но нынешнее твое пожелание показывает, что я был не прав. Разве любовь наша так легковесна, что ею можно управлять и располагать по собственной прихоти? Прилично ли честному и порядочному человеку притворяться в вещах столь серьезных? Если тебе кажется, что можно и должно вообще поступать таким образом, — приказывай, что тебе будет угодно, так как ты госпожа моей души. Но я вижу, что и в этом я заблуждаюсь, так как ты никогда не знала моей души и сама не знаешь, что с ней делать. Но все же, дабы ты не сказала, что я отказываюсь от исполнения твоего первого приказания, я готов поступиться своим убеждением, исполнить твое желание и притворно разделить чувства Алимы, если только этой ценой я добьюсь счастья видеть тебя. А потому можешь придумать для нее ответ, какой пожелаешь, ибо с ним будет заранее согласна моя притворная любовь. Но в отплату за то, что я делаю для тебя и больше чего, как мне кажется, я не мог бы сделать (даже если бы снова отдал тебе свою душу, которую я столько раз уже тебе отдавал), прошу тебя, расскажи мне вкратце, каким образом ты вырвалась из рук пиратов и попала в руки еврея, продавшего тебя сюда.
— Повесть о моих бедствиях потребовала бы больше времени, чем сколько его у нас сейчас есть, но я все-таки попробую кое-что рассказать. Тебе, конечно, известно, что на следующий день после нашей разлуки корабль Юсуфа был пригнан сильным ветром к острову Пантаналея, где мы увидели также и ваш галиот; мы не могли удержать своего судна, и оно разбилось о скалы. Наш хозяин, увидев, что его ждет неизбежная гибель, поспешно опорожнил два бочонка, наполненных водой, хорошо их закупорил и связал друг с другом веревками. Он прикрепил меня к ним и, раздевшись, обхватил руками третий бочонок, не позабыв обвязать предварительно свое тело веревкой, привязанной одним концом к моим бочонкам. Затем с большим мужеством он бросился в море и увлек меня за собой. У меня не хватило бы решимости броситься вниз с корабля, но какой-то турок толкнул меня и сбросил в море вслед за Юсуфом. В воду я упала уже без сознания, и когда я пришла в себя, то находилась на суше, в руках двух турок, державших меня лицом вниз, для того чтобы я освободилась от большого количества проглоченной мною воды. Я открыла глаза, пораженная ужасом, и увидела возле себя Юсуфа с размозженной головой. Как я узнала впоследствии, он разбился о прибрежные скалы и скончал там свои дни. Турки рассказали мне также, что, притянув к себе веревку, они вытащили меня на берег полуживой. Только восемь человек уцелело от всего несчастного галиота.
Около недели оставались мы на этом острове, причем турки обращались со мной так хорошо, что и к родной сестре вряд ли относятся лучше. Мы скрывались в пещере, так как турки боялись, чтобы христиане не вышли из находящейся посреди острова крепости и не захватили нас в плен. Питались мы мокрыми сухарями с галкота, выбрасываемыми морем на берег, и выходили собирать их по ночам. На беду мою, крепость в то время осталась без коменданта, так как он скончался незадолго до нашего прибытия, и жили там — в количестве двадцати человек — одни лишь солдаты. Это мы узнали от мальчика, вышедшего из крепости на берег собирать ракушки и захваченного турками. Через неделю в виду берега показалось мавританское судно, так называемый карамусаль; завидев его, турки выскочили из своего убежища и стали подавать сигналы кораблю, находившемуся так близко от острова, что экипаж его опознал в зовущих турок. Когда эти последние рассказали о своих несчастьях, мавры приняли их на корабль, на котором ехал один еврей, богатейший купец; почти весь груз этого судна принадлежал ему: он состоял из сукна, шерсти и других товаров, доставляемых из Берберии в Левант. На этом корабле турки добрались до Триполи и по дороге сторговали меня еврею, выложившему им две тысячи дублонов, — цена огромная, но еврея сделала щедрым любовь, в которой он мне потом открылся.
Высадив турок в Триполи, корабль продолжал свой путь, и еврей стал дерзко меня домогаться. Я оказала ему прием, достойный его постыдных желаний. Потеряв надежду удовлетворить свою страсть, он решил отделаться от меня при первом удобном случае. Узнав, что двое пашей, Али и Асам, находятся здесь, на Кипре, где он мог с таким же успехом распродать свои товары, как и на Хиосе, куда он первоначально отправлялся, еврей приехал сюда с намерением продать меня кому-либо из пашей, почему он и нарядил меня в платье, которое сейчас на мне, чтобы успешнее подбить их на сделку. Мне сказали, что я куплена здешним кади, собирающимся отправить меня в подарок султану, от чего мне сделалось очень страшно; потом я получила ложное известие о твоей смерти, которое, должна сказать, — надеюсь, ты мне поверишь, — страшно меня огорчило, но при этом я, пожалуй, больше завидовала, чем жалела, и не потому, чтобы желала тебе зла (ибо я хоть и равнодушна к тебе, но совсем не бесчувственная и не каменная), а потому, что ты раньше меня успел покончить с трагедией своей жизни.
— Ты была бы права, сеньора, — ответил Рикардо, — если бы смерть не обозначала для меня потерю счастья снова тебя увидеть. Сейчас я дороже ценю одно мгновение восторга, охватывающего меня при виде тебя, чем всякое иное блаженство (за исключением, правда, вечного), уготованное — где бы то ни было — моим желаниям. Кади, мой господин, в руки которого меня привели не менее разнообразные приключения, чем твои, питает к тебе такие же чувства, как Алима ко мне. Он избрал меня поверенным своих чувств; я принял его поручение, но не для того, чтобы исполнять его прихоть, а для того, чтобы иметь возможность говорить с тобой. Ты видишь, Леониса, в какое положение поставила нас несчастная судьба: ты выступаешь посредницей, прося меня о заведомо невозможном; я делаю то же и добиваюсь того, чего отнюдь не желаю. Я с радостью отдал бы жизнь, лишь бы только исполняемое мною поручение не увенчалось успехом, а между тем сейчас я ценю свою жизнь так же высоко, как и высокое счастье тебя видеть.
— Не знаю, что тебе сказать, Рикардо, — ответила Леониса. — Я не знаю выхода из того лабиринта, в который, как ты сказал, привел нас наш горький жребий. Скажу одно: теперь нам придется воспользоваться средствами, самая мысль о которых при других обстоятельствах была бы несогласима с нашим достоинством, а именно: к обману и притворству. От твоего имени я передам Алиме какой-нибудь ответ, способный породить в ее сердце скорее надежду, чем отчаяние. От меня же ты можешь сообщить кади все, что ты сочтешь нужным, дабы обеспечить неприкосновенность моей чести и в то же время поддержать в нем обман. И поскольку я поручаю тебе свою честь, ты можешь спокойно верить, что я сохранила ее во всей непорочности и чистоте, хотя на нее и могли набросить тень мои бесчисленные скитания и те посягательства, которым я подвергалась. Возможность разговаривать друг с другом у нас будет, и это доставит мне величайшее удовольствие при условии, что ты никогда не будешь открыто домогаться меня; а если бы это случилось, я в ту же минуту перестану с тобой видеться, ибо я не хочу давать тебе основание думать, будто добродетель моя столь непрочна, что рабство может принудить ее к тому, к чему не могла принудить свобода. Мне хотелось бы — с божьей помощью — уподобиться золоту, которое делается чище и ярче от того, что его долго держат в горниле. Довольствуйся моим признанием, что вид твой не будет отныне вызывать во мне отвращения, как прежде. Должна сказать тебе, Рикардо, что я всегда считала тебя резким и заносчивым и полагала, что ты воображаешь о себе больше, чем следовало бы. Вижу, что я ошибалась и что если бы я теперь стала тебя узнавать, моим искушенным очам открылась бы истина, и тогда, прозрев, я, не изменяя добродетели, стала бы к тебе более мягкой. Теперь иди с богом; я боюсь, что нас подслушивает Алима, кое-как разбирающаяся в языке христиан или, вернее, в том смешении языков, которое здесь в ходу и которое всем нам понятно.
— Ты права, сеньора, — сказал Рикардо. — Я бесконечно тебе благодарен за сделанное наставление и ценю его не менее, чем милостивое разрешение тебя видеть. Быть может, как ты сама уже сказала, опыт тебе откроет мой прямой и кроткий характер и ты поймешь, как я тебя обожаю. Тебе не придется ставить мне условия и ограничения: мое отношение к тебе будет всегда таким почтительным, что большего внимания ты от меня не потребуешь. Что касается одурачивания кади, то положись в этом на меня и старайся, со своей стороны, провести Алиму. Знай, сеньора, что с тех пор, как я с тобой снова увиделся, мне стало определенно казаться, что мы скоро обретем желанную свободу. А теперь да хранит тебя господь; в другой раз я расскажу тебе, какие пути привели меня к моему нынешнему положению после того, как я простился с тобой, или, вернее, после того, как нас с тобой разлучили.
На этом они простились. Леониса осталась очень довольна прямодушным поведением Рикардо, а он был в восторге услышать из уст Леонисы ласковое слово.
Алима заперлась у себя в комнате, воссылая мольбы Магомету, чтобы Леониса принесла ей благоприятный ответ, а кади молился в мечети, и желания его были такого же рода, как и у его жены, ибо он с нетерпеливым беспокойством ожидал ответа от невольника, которому он поручил переговорить с Леонисой, вполне основательно предполагая, что Махамуд сумеет устроить им встречу даже в том случае, если Алима будет дома.
Леониса сумела еще сильнее возбудить преступные желания и любовь турчанки, уверив ее, что Марио сделает все, что ей нужно; она указала, однако, что ему необходимо выждать два месяца, прежде чем приступить к тому, чего он сам желает не менее своей хозяйки, а отсрочки этой он просит по причине епитимьи и обета, наложенных им на себя в надежде на дарование от господа свободы. Алима удовлетворилась этим объяснением и ответом своего ненаглядного Марио, которого она охотно отпустила бы на свободу еще до истечения обета, если бы он сполна ответил ее желаниям. Она уговорила Леонису попросить Марио поторопиться и сократить срок, поскольку она готова предложить ему столько денег, сколько спросит кади за его выкуп.
Рикардо, прежде чем снести ответ своему господину, спросил у Махамуда совета, как ему разговаривать с кади. Вдвоем они порешили, что старику не следует подавать надежд, а нужно предложить ему следующее: как можно скорее везти Леонису в Константинополь и во время дороги добиться от нее (в крайнем случае даже насилием) удовлетворения своей страсти; так как после этого кади будет трудно исполнить свой долг перед Великим Султаном, пусть он купит какую-нибудь рабыню и в дороге сделает вид, будто Леониса тяжко заболела; после этого они в одну прекрасную ночь бросят в море купленную рабыню и объяснят, что это скончалась Леониса, невольница Великого Султана. Все можно будет устроить таким образом, что истинная правда никогда не откроется, и кади, ничем не провинившись перед Великим Султаном, удовлетворит в то же время свое желание, а для продления его счастья на будущее время будут придуманы подходящие и удобные способы.
Несчастный старик-кади был так ослеплен своею страстью, что если бы ему рассказали еще тысячу разных нелепостей, он охотно бы им поверил, лишь бы они имели отношение к осуществлению его надежд. К тому же ему казалось, что этот план ведет по правильному пути и обещает верный успех. Так бы оно, конечно, и было, если бы оба советчика не имели тайного намерения взбунтовать экипаж корабля, а кади предать смерти в наказание за его безумные бредни. Но кади смущало иное затруднение, казавшееся ему самым серьезным из всех, связанных с этим предприятием: мысль о том, что Алима не отпустит его в Константинополь, если он не возьмет ее с собой. Но он мигом устранил это препятствие, порешив, что роль рабыни, которую они собирались купить и убить вместо Леонисы, может выполнить сама Алима, тем более, что старику хотелось избавиться от нее, как от смерти.
С такой же легкостью, с какой сложился у него этот замысел, Махамуд и Рикардо изъявили на него свое согласие. Уговор состоялся, и кади в тот же день сообщил Алиме, что он задумал путешествие в Константинополь, отвезет невольницу султану, от щедрот которого будет зависеть назначение его великим кади Каира или Константинополя. Алима, думая, что старик оставит Марио дома, ответила, что одобряет этот план; но когда кади ей объявил, что он возьмет с собой Марио, а заодно и Махамуда, она сразу переменила мнение и стала разубеждать его в том, о чем только что сама просила. В конце концов она пригрозила, что если он не возьмет ее с собой, она ни за что не позволит ему уехать. Кади согласился исполнить ее прихоть в надежде, что он скоро навсегда сбросит с плеч свою тягостную обузу.
Между тем Асам-паша не переставал упрашивать кади отдать ему рабыню, сулил старику груды золота, уступил ему даром Рикардо, которого сам ценил в две тысячи эскудо, и подбивал произвести передачу рабыни с помощью той же уловки, о которой думал кади: рассказать посланцам султана, что невольница умерла. Все эти подарки и посулы привели лишь к тому, что заставили кади поторопиться с отъездом. И вот, подгоняемый своей страстью и домогательствами Асама и Алимы, носившейся все время со своими собственными воздушными замками, он в три недели снарядил тридцативесельную бригантину, снабдив ее хорошими моряками из мавров и греков-христиан. Он погрузил на нее все свои богатства, а Алима, со своей стороны, не оставила в доме ни одного ценного предмета. Она упросила мужа разрешить ей взять с собой своих родителей, желавших посмотреть Константинополь. У Алимы было такое же намерение, как и у Махамуда: с помощью этого последнего и Рикардо она рассчитывала поднять на бригантине восстание; но она не находила нужным посвящать их в свой план до тех пор, пока она не будет на корабле. Ей хотелось уехать в христианские земли, вернуться к прежней религии и после этого выйти замуж за Рикардо. Увозимые ею несметные сокровища и принятие христианства должны были, по ее мнению, склонить юношу к браку.
Тем временем Рикардо успел еще раз переговорить с Леонисой и сообщить ей свой план. Она, в свою очередь, рассказала ему о замыслах Алимы, которая ей во всем открылась. Пообещав друг другу строго соблюдать тайну, они, поручив себя богу, стали ожидать дня отъезда. Когда он, наконец, наступил, Асам во главе всего гарнизона проводил уезжающих до берега и расстался с ними только после поднятия паруса; да и потом он не отрывал глаз от бригантины до тех пор, пока она не скрылась из вида, и казалось, что от вздохов влюбленного мавра все сильнее и сильнее надувались паруса, увозившие в даль его душу. Но поскольку любовь уже с давних пор лишила его покоя, Асам, задумавшийся было, о том, что ему делать, дабы не умереть от мучений страсти, решил пустить в ход твердо и тщательно обдуманное им на досуге намерение: он посадил на заготовленный им в другом порту тридцатичетырехвесельный корабль пятьдесят лично ему известных и преданных солдат, задобренных щедрыми дарами и посулами, и приказал им перехватить корабль кади и завладеть всеми его богатствами, перерезав всех, кто там был, за исключением невольницы Леонисы, так как ее он почитал добычей куда более важной, чем все сокровища, находившиеся на бригантине. Он велел им потопить корабль, для того чтобы ничто не могло навести на следы его гибели. Корыстное желание пограбить окрылило солдат и вселило мужество в их сердца, тем более, что они знали, какое слабое сопротивление они встретят на бригантине, экипаж которой был не вооружен и не подготовлен для подобного рода нападения.
Бригантина находилась в пути два дня, но они показались кади двумя веками, так как уже в первый же день ему страшно хотелось привести свой план в исполнение, но невольники посоветовали разыграть картину смерти с возможно большим правдоподобием, а для этого Леонисе следовало притвориться больной и несколько Дней не вставать. Кади предпочел бы распустить слух о скоропостижной смерти рабыни и, покончив с делом сразу, отделаться от жены и погасить огонь, пожиравший его душу; но ему пришлось все-таки уступить мнению своих советчиков.
К этому времени Алима открыла свой план Махамуду и Рикардо, которые взялись привести его в исполнение где-нибудь около Александрии или при входе в укрепление Анатолии.
Но кади все время их торопил, и они решили воспользоваться первым удобным случаем. На шестой день их плавания, когда кади показалось, что болезнь Леонисы тянуть больше нечего, он приказал своим невольникам покончить на следующий день с Алимой и, завернув ее в саван, сбросить в море под видом рабыни Великого Султана.
Но на рассвете того дня, когда, по замыслу Махамуда и Рикардо, они должны были либо исполнить свой план, либо навсегда расстаться с жизнью, в море был обнаружен корабль, гнавшийся за ними на всех парусах. Все, кто был на бригантине, пришли в ужас при мысли, что это могут быть пираты-христиане, от которых никто не мог ожидать ничего доброго, так как маврам предстояло попасть в плен, а христиане хотя и получили бы свободу, но подверглись бы грабежу и разбою. Махамуд и Рикардо ничего не имели против такого рода освобождения для себя и Леонисы, но их заранее устрашали возможные бесчинства, так как люди, занимающиеся разбойничьим ремеслом, к какой бы вере или нации они ни принадлежали, всегда жестоки сердцем и нравом. Они стали готовиться к обороне, не переставая, однако, грести и налегая на весла изо всех сил. Но вскоре выяснилось, что их нагоняют с такой быстротой, что менее чем в два часа они окажутся от врага на расстоянии пушечного выстрела. Убедившись в этом, они спустили паруса, бросили весла, схватились за оружие и стали ждать неприятеля, хотя кади и уговаривал их ничего не бояться, так как нагонявший их корабль был турецкий и, следовательно, не внушал никаких опасений. Он приказал немедленно выкинуть на бизань-pee белый флаг мира для оповещения тех, кого самая грубая алчность вела в атаку на беззащитную бригантину. В эту минуту Махамуд повернул голову и увидел, что с запада приближается, насколько можно было разобрать, сорокавесельный галиот. Он сообщил об этом кади, а гребцы-христиане объявили, что считают показавшийся вдали корабль христианским. Все это еще больше усугубило ужас и смятение на бригантине; произошло замешательство; все потеряли голову и, не зная, что делать, со страхом ожидали развязки, какую угодно будет даровать богу.
По всей вероятности, кади в этот момент охотно пожертвовал бы всеми сладострастными надеждами, лишь бы только снова оказаться в Никосии: так велико было его смущение; но из этого состояния его вскоре вывел первый корабль. Без всякого уважения к флагу мира и к своим единоверцам турки напали на бригантину кади с таким бешенством, что едва не пустили ее ко дну. Кади тотчас же узнал в нападавших солдат гарнизона Никосии и, сообразив, в чем дело, счел себя уже погибшим и мертвым. Надо думать, что на бригантине никто не остался бы жив, если бы солдаты, стремясь как можно больше награбить, не позабыли о враге. Но в то время, когда они с остервенением и пылом отдались грабежу, один из турок закричал: «К оружию! На нас нападает христианский корабль!»
И это была правда, так как корабль, замеченный с бригантины кади, шел под христианским флагом. Развив полный ход, он устремился на корабль Асама, но прежде, чем произошло столкновение, с его кормы спросили по-турецки, что это за корабль.
— Асам-паши, вице-короля Кипра, — был ответ.
— Если вы мусульмане, — возразил турок, — то почему же вы атакуете и грабите корабль, на котором, как вам известно, находится кади Никосии?
Солдаты Асам-паши ответили, что им было приказано захватить этот корабль, а остальное их не касается, и что они в качестве солдат и подчиненных обязаны выполнить приказание паши.
Удовлетворившись полученным ответом, капитан галиота, шедшего под христианским флагом, прекратил атаку на корабль Асама и двинулся на бригантину кади. Первым залпом было убито около десяти находившихся на ней турок, и вскоре атакующие с большой отвагой и проворством проникли на бригантину. Но едва они ступили на палубу, как кади понял, что его атаковал не христианин, а влюбленный в Леонису Али-паша. С таким же расчетом, как и Асам, он караулил в этих видах бригантину и, не желая быть узнанным, переодел своих солдат христианами, надеясь, что благодаря этой хитрости его разбой будет труднее раскрыть. Кади, разобравшись в изменнических планах обоих влюбленных, начал громко изобличать их злодеяние и сказал:
— Что же это такое, Али-паша? Как смеешь ты, будучи мусульманином (а это все равно, что турок), нападать на меня под видом христианина? А вы, изменники, солдаты Асама, какой демон побуждает вас совершать столь великое преступление? Неужели же ради удовлетворения похотливого желания вашего начальника вы поднимете руку против вашего природного государя?
При этих словах все опустили оружие, переглянулись и узнали друг друга, так как все они были солдатами одного вождя и сражались под одним знаменем. Смущенные словами кади и сознанием собственного злодейства, они почувствовали, как притупляются лезвия их ятаганов и утихает ожесточение их сердец. Один Али закрыл глаза и уши на все и, бросившись на кади, нанес ему такой удар саблей по голове, что, без всякого сомнения, рассек бы ее надвое, если бы она не была защищена сотнями складок обвивавшего его тюрбана. И все-таки он сбил его с ног этим ударом. Кади, падая между скамей для гребцов, воскликнул:
— О жестокосердый отступник, враг моего пророка! Возможно ли, чтобы не нашлось никого, кто наказал бы тебя за твою великую дерзость? Как, проклятый, ты осмелился поднять вооруженную руку на своего кади, служителя Магомета?!
Эти слова еще сильнее подчеркнули смысл его первого возгласа. Услышав их, солдаты Асама из опасения, что солдаты Али отнимут у них захваченную было добычу, решили рискнуть всем. Стоило одному начать, как все ринулись на солдат Али с такой быстротой, стремительностью и яростью, что в короткое время мало кто из них остался жив, несмотря на то, что они значительно превосходили численностью солдат Асама. Но оставшиеся в живых, придя в себя после первого замешательства, отомстили за своих товарищей так, что из солдат Асама уцелело всего четверо, да и те оказались тяжело раненными.
Рикардо и Махамуд следили за событиями, время от времени высовывая голову через трап кормовой каюты и наблюдая, к какому исходу приводит звон оружия, раздающийся на палубе. Видя, что почти все турки перебиты, а оставшиеся в живых тяжело ранены, вследствие чего их нетрудно было одолеть, Махамуд кликнул двух племянников Алимы, которых она взяла с собой в расчете на захват корабля, и вместе с ними и их отцом выбежал на палубу с криком: «Свобода, свобода!» С помощью гребцов из греков-христиан они без труда перерезали всех турок, причем никто из нападавших не получил ни одной раны. Перейдя на галиот Али, оставшийся беззащитным, они захватили его и завладели всем, что там находилось; во время второй схватки одним из первых пал Али-паша, которого зарубил саблей турок, отомстивший за кади. По совету Рикардо победители стали тотчас же переносить все ценные предметы со своей бригантины и с корабля Асама на галиот Али, так как это было большое судно, годное для всякого рода поездок и обслуживаемое гребцами-христианами. Радуясь полученной свободе и щедрым подаркам, распределенным между ними Рикардо, гребцы вызвались доставить его в Трапани, а если понадобится, то хоть на край света.
Затем Махамуд и Рикардо, ликуя от удачного исхода своего предприятия, отправились к мавританке Алиме и сказали, что если она желает возвратиться на Кипр, они снарядят для нее ее прежний корабль, снабдят его хорошими гребцами и отдадут ей половину его сокровищ. Но Алима, среди всех своих потрясений не утратившая любви и нежности к Рикардо, заявила, что поедет вместе с ними в христианские земли, чему родители ее чрезвычайно обрадовались.
Кади пришел в себя, и ему была оказана посильная врачебная помощь. Ему предложили выбрать одно из двух: или его увезут в христианские земли, или же он вернется на своем корабле в Никосию. Он отвечал, что раз уж судьба довела его до такой крайности, он, благодаря их за даруемую ему свободу, просит отправить его в Константинополь, чтобы пожаловаться там Великому Султану на нанесенные ему Асамом и Али оскорбления. Когда он узнал, что Алима его покидает и хочет обратиться в христианство, он едва не лишился рассудка. В конце концов для него снарядили его собственный корабль, снабдили старика всем необходимым для путешествия и вручили ему несколько цехинов из его собственной казны. Простившись со всеми и порешив ехать в Никосию, он попросил, чтобы Леониса поцеловала его перед отъездом, и сказал, что этот поцелуй заставит его позабыть о пережитых несчастьях. Все начали уговаривать Леонису оказать эту милость человеку, пламенно ее любившему, тем более, что, сделав это, она ничем не погрешит против пристойности и добродетели. Леониса уступила общему желанию, причем кади попросил ее еще возложить ему на голову руки, дабы он тем самым унес с собой надежду на исцеление от своей раны; все это Леониса исполнила. Вслед за тем они потопили корабль Асама и, воспользовавшись свежим попутным ветром, так: и рвавшимся вздуть паруса, распустили их и через несколько часов потеряли из виду бригантину. Кади стоял на ее палубе и полными слез глазами смотрел, как ветер уносил его состояние, его любовь, его жену и его душу.
Рикардо и Махамуд пустились в плавание с гораздо более приятными мыслями, чем кади. Не желая нигде приставать к берегу, они пронеслись, как вихрь, мимо острова Александрии и, не убавляя парусов, без помощи весел, достигли укрепленного острова Корфу, где запаслись водой. Затем, не останавливаясь, они миновали опасные рифы Акрокеравнии и на следующий день заметили вдали Пакино — мыс плодородной Тинакрии, в виду которой и орденского острова Мальты они пролетели как на крыльях, ибо с не меньшей быстротой мчался по волнам их счастливый корабль. Наконец миновав Мальту, они через четыре дня проехали мимо Лампадосы, а вскоре затем различили тот остров, где они потерпели кораблекрушение. Вид его заставил содрогнуться Леонису, напомнив ей о пережитых здесь опасностях. На следующий день они увидели перед собой желанную и горячо любимую родину. Веселье снова заиграло в их сердцах; новое, неиспытанное блаженство потрясло их души, ибо выйти после долгого плена живым и здоровым на берег своего отечества — одна из самых больших радостей нашей жизни. Если и есть блаженство, которое с ней может сравниться, то, пожалуй, только радость победы над врагом.
На галиоте нашли ящик, наполненный разноцветными шелковыми флагами и вымпелами. Рикардо приказал разукрасить ими галиот. Вскоре, по наступлении утра, они оказались не больше чем в миле от города. Тихим ходом, время от времени испуская радостные клики, они подъезжали к гавани, куда тотчас же собралась громадная толпа народа; во всем городе не оказалось никого, кто не поспешил бы к морю при виде красиво разукрашенного корабля, приближавшегося к берегу.
Тем временем Рикардо убеждал Леонису переодеться в то самое платье, в котором она вошла в палатку пашей, так как он хотел сыграть веселую шутку с ее родителями. Она согласилась и, присоединяя великолепие к великолепию, жемчуга к жемчугам и красоту к красоте (так как последняя возрастает вместе со счастьем), оделась так, что снова возбудила всеобщий восторг и восхищение. Рикардо тоже оделся по-турецки, равно как и Махамуд вместе с гребцами-христианами, ибо платья убитых турок хватило на всех. Когда они прибыли в порт, было около восьми часов, и утро стояло такое ясное и тихое, что казалось, будто оно с великою благосклонностью смотрит на это радостное возвращение. Перед входом в гавань Рикардо приказал дать залп из орудий галиота, на котором была одна пушка и два фальконета. Город ответил таким же количеством выстрелов.
Все люди, толпившиеся на берегу, волновались в ожидании прибытия нарядного корабля. Но когда они рассмотрели, что это турецкий корабль, и заметили белые тюрбаны людей, переодетых маврами, они в страхе схватились за оружие, опасаясь какого-нибудь подвоха. Немедленно весь гарнизон города прибыл в гавань, и кавалерия рассыпалась вдоль берега. На все это с величайшим наслаждением глядели подъезжавшие путники, постепенно входившие в гавань и бросившие якорь вблизи берега. Перекинув мостки на набережную и сложив весла, один за другим, как в процессии, они стали сходить на землю, многократно целуя ее со слезами радости на глазах, чем ясно всем показали, что они не турки, а христиане, захватившие вражеский корабль. Следом за ними прошли отец и мать Алимы с двумя ее племянниками, тоже в турецкой одежде. Шествие замыкала прекрасная Леониса, помещенная между Рикардо и Махамудом и закрывшая свое лицо малиновой тафтой. Это зрелище привлекло взоры всей многочисленной толпы, смотревшей с берега. Сходя на берег, они, подобно прочим, падали ниц и целовали землю.
В это время прибыл генерал-губернатор города, сразу сообразивший, кто тут самые важные люди. Едва приблизившись, он тотчас узнал Рикардо и с распростертыми объятиями, в величайшей радости, бросился его обнимать. Одновременно с губернатором прибыл Корнелио со своим отцом, родители и родственники Леонисы и родители Рикардо. Все они были именитыми лицами в городе. Рикардо обнял губернатора и ответил на все обращенные к нему приветствия и поздравления. Затем он взял за руку сначала Корнелио (побледневшего и почти задрожавшего от страха при виде Рикардо), а потом Леонису и произнес:
— Я обращаюсь к вам, сеньоры, с покорнейшей просьбой выслушать несколько слов, которые я хочу вам сказать еще до того, как мы войдем в город и отправимся в храм вознести должные благодарения господу богу за великие милости, ниспосланные нам в наших несчастьях.
На это губернатор ответил, что он может свободно говорить и что все в глубоком молчании и с удовольствием его послушают. В ту же минуту все знатные люди города столпились вокруг Рикардо, и он, возвысив несколько голос, сказал так:
— Вы, должно быть, хорошо помните, сеньоры, о несчастье, случившемся со мной несколько месяцев тому назад в саду вблизи солеварен, и о произошедшем там похищении Леонисы. Вы не забыли, должно быть, и моих стараний добиться ее освобождения, когда, не заботясь о собственной свободе, я предложил за ее выкуп все мое состояние; впрочем, такого рода великодушие отнюдь не заслуживает похвалы, так как, выкупая ее, я тем самым выкупал свою собственную душу. Рассказ о том, что случилось с нами впоследствии, потребовал бы много времени, другой обстановки и более красноречивого изложения, чем мое. Достаточно будет сказать, что после целого ряда необыкновенных происшествий, когда мы тысячи раз теряли надежду на избавление от несчастий, милосердное небо, без всякой с нашей стороны заслуги, вернуло нас обратно на желанную родину ликующими и осыпанными сокровищами. Но сейчас моя несказанная радость объясняется не этим богатством и не получением свободы, а тем удовольствием, которое, несомненно, испытывает она — мой сладостный недруг в войне и в мире, почувствовав себя на воле и увидевшись снова с кумиром своей души; правда, меня радует также и общее веселье моих товарищей по несчастью.
Хотя бедствия и печальные события обычно меняют и потрясают самые твердые души и характеры, но она, палач моих нежных надежд, осталась по-прежнему непреклонной, так как с твердостью и непоколебимостью, превосходящей всякие описания, она претерпела бремя своих несчастий и отвела мои пылкие, хотя и честные притязания. Это доказывает, что человек может переменить климат, но не глубоко укоренившийся характер. Из всего вышесказанного вытекает, что за выкуп Леонисы я предложил свое состояние, что, обуреваемый любовью, я отдал ей свою душу, что во имя ее свободы я пошел на все и что, конечно, для нее, а не для себя, я не побоялся рискнуть собственной жизнью. Такое поведение могло бы наложить известные обязательства на иное признательное существо, но сам я никому не стану о них напоминать; мне хотелось бы, чтобы ты считала себя обязанной мне лишь за то, что я сейчас сделаю.
С этими словами он поднял руку, с деловитой учтивостью сбросил чадру с лица Леонисы (а это было равносильно тому, чтобы вдруг отодвинуть облако, скрывавшее прекрасное сияние солнца) и сказал так:
— Смотри, Корнелио, я вручаю тебе сокровище, которое ты должен ценить превыше всех благ, почитаемых на свете, а тебе, Леониса, я отдаю того, чей образ был неизменно запечатлен в твоей душе. Такой поступок поистине следует назвать великодушным, и по сравнению с ним что значит принести в жертву жизнь, состояние и честь? Прими же ее, о счастливый юноша! Прими ее, и если у тебя хватит разума оценить столь великое благо, считай себя величайшим счастливцем на свете. Вместе с ней я отдаю тебе также всю долю богатств, посланных мне небом, что превысит, я думаю, тридцать тысяч эскудо. Всем этим ты можешь пользоваться по своему усмотрению, спокойно, свободно и беззаботно, и дай бог тебе прожить долгие счастливые годы. Я же, несчастный, лишая себя Леонисы, хочу остаться бедным, так как для человека, у которого нет Леонисы, жизнь — не больше как ненужная роскошь.
После этого он сразу умолк, точно язык вдруг перестал его слушаться; но немного погодя, прежде чем кто-нибудь успел взять слово, он произнес:
— Боже правый! До какой степени мучительные страдания помрачают наш разум! Я, сеньоры, хотя и хотел поступить хорошо, но не взвесил как следует своих слов, ибо никто не властен выказывать свое великодушие за счет другого. Разве я имею право отдать Леонису другому? Как могу я распоряжаться тем, что мне не принадлежит? Леониса сама располагает собой и является в такой мере самостоятельной, что если бы она потеряла родных (да живут они долгие и счастливые годы!), то для свободы ее сердца не было бы никаких преград, а если бы она, всегда строгая к себе, вдруг решила, что ее связывают обязательства в отношении меня, то я сам их уничтожаю, снимаю и объявляю недействительными. Итак, я отказываюсь от своих слов: я не вручаю Корнелио никого, ибо это не в моих силах; я подтверждаю, однако, передачу своего состояния Леонисе и прошу у нее только одной награды: пусть она верит искренности моих чистых помыслов и знает, что никогда они не направлялись и не стремились к цели, несовместимой с ее редкой добродетелью, высокими достоинствами и несказанной красотой.
Больше Рикардо ничего не сказал, а Леониса ответила ему следующим образом:
— Рикардо, если я и оказывала, по твоему мнению, некоторые знаки внимания Корнелио в то время, когда ты был влюблен в меня и меня ревновал, сознайся все же, что в них не было ничего предосудительного, поскольку они отвечали желаниям и воле моих родителей; они полагали, что мое внимание склонит Корнелио взять меня себе в жены, а потому и не стесняли моего поведения. Если ты согласен с моими доводами, то ты, несомненно, согласишься и с тем, что я тебе на опыте доказала свою добродетель и осмотрительность. Я говорю это, желая уяснить тебе, Рикардо, что мое сердце было всегда свободно и не подчинялось никому, кроме родителей, которых я ныне, со всем подобающим смирением, прошу позволить мне распорядиться свободой, которую мне даровали твоя великая доблесть и великодушие.
Родители ответили, что охотно дают ей это разрешение, ибо вполне полагаются на ее испытанное благоразумие и думают, что она воспользуется им так, что от этого только выиграют ее честь и ее интересы.
— Получив это разрешение, — продолжала разумная Леониса, — я боюсь, как бы сейчас меня не упрекнули в разнузданности, подобно тому как недавно упрекали в неблагодарности. Итак, доблестный Рикардо, мое сердце, до сих пор осторожное, нерешительное и колеблющееся, ныне высказывается в твою пользу. Пусть знают мужчины, что не все женщины неблагодарны, так как я выказываю себя во всяком случае признательной. Я твоя, Рикардо, и останусь твоей до гроба, если только какое-нибудь особое соображение не побудит тебя отказать мне в руке, которой я прошу у тебя, как у своего супруга.
При этих словах Рикардо пришел в неописуемую радость и был в состоянии ответить ей только тем, что упал перед ней на колени и покрыл поцелуями ее руки, силою овладевая ими несколько раз и омывая их слезами нежности и любви. Корнелио плакал от досады, родители Леонисы — от счастья, а все стоявшие кругом — от восхищения и радости. Тут же находился епископ или архиепископ города; он благословил их и проводил в храм, где, не считаясь с обычными сроками, тотчас же их обвенчал. Радость охватила весь город, о чем свидетельствовали в ту ночь в несметном числе зажженные плошки. Много дней тянулись празднества и увеселения, устраиваемые родными Рикардо и Леонисы. Махамуд и Алима были снова приняты в лоно церкви. Алима, убедившись в невозможности исполнить свое желание и стать женой Рикардо, удовлетворилась тем, что вышла замуж за Махамуда. Родителям и племянникам Алимы Рикардо, с обычной для него щедростью, уступил из своих богатств долю, достаточную для того, чтобы жить безбедно. Все остались довольны, свободны и радостны, а слава Рикардо, выйдя за пределы Сицилии, распространилась по всей Италии и многим другим странам, где он стал известен под именем Великодушного поклонника. Эта слава живет еще и поныне в многочисленных сыновьях его и Леонисы, явившейся редким образцом благоразумия, добродетели, осмотрительности и красоты.
Ринконете и Кортадильо
В постоялом дворе Молинильо, расположенном на окраине знаменитых Алькудийских полей, по дороге из Кастилии в Андалусию, в один жаркий летний день случайно сошлись два подростка лет четырнадцати-пятнадцати; ни одному из них нельзя было дать больше семнадцати; несмотря на свой молодцеватый вид, оба были в лохмотьях, оборванные и потрепанные. Плащей у них не было вовсе; штаны были из холста, а чулки из собственной кожи. Правда, одеяние это скрашивала обувь: на одном были изношенные и протоптанные сандалии, а на другом — башмаки, хотя и узорные, но без подошв, так что они служили скорее ножными колодками, чем башмаками. Один из мальчиков был в зеленом охотничьем берете, другой — в широкополой шляпе с низкой тульей и без ленты. У одного была закинута за плечо и завязана спереди вощеная рубаха цвета верблюжьей шерсти, другой шел без всякой клади, хотя на груди у него виднелся большой ком, который, как потом выяснилось, оказался так называемым валлонским воротником, густо-прегусто засаленным и до того поношенным, что обратился в одну бахрому. В воротнике были завернуты истрепанные овальные карты; от употребления углы карт износились, и для сохранности пришлось их обрезать, отчего и получили они свою нынешнюю форму. Лица мальчиков были обожжены солнцем, ногти с черной каймой, руки очень нечистые. Один из них был вооружен тесаком, другой — ножом с желтым черенком, так называемым мясницким. Оба мальчика вышли провести сьесту под навес или галерею, какие обыкновенно устраивают перед постоялыми дворами, сели друг против друга, и тот, кто казался постарше, спросил у младшего:
— Откуда вы родом, благородный сеньор, и куда держите путь?
— Родины своей, сеньор кавальеро, — ответил Другой, — я не знаю; не знаю также, куда и путь держу.
— По правде сказать, — возразил старший, — не похоже на то, чтобы вы, ваша милость, упали с неба, а этот постоялый двор — не такое место, чтобы располагаться здесь надолго; так что волей-неволей придется следовать дальше.
— Совершенно верно, — ответил младший, — и тем не менее все, что я вам сказал, — сущая правда. Родина моя для меня не родина, так как дома у меня нет никого, кроме отца, не признающего меня сыном, да мачехи, которая обращается со мною, как с пасынком; сейчас я бреду куда глаза глядят и остановлюсь только там, где отыщу человека, который даст мне необходимые средства для моей горемычной жизни.
— А знаете ли вы, ваша милость, какое-нибудь ремесло? — спросил старший.
Младший ответил:
— Нет у меня никакого ремесла, кроме умения бегать как заяц, прыгать как серна, да еще очень ловко резать ножницами.
— Все это очень хорошо и даже выгодно, — сказал старший, — так как всегда найдется на свете ризничий, который отдаст вам приношения ко дню всех святых, лишь бы вы ему нарезали к страстному четвергу бумажных розеток для монумента.
— Нет, я вырезываю иначе, — ответил младший. — Мой отец — божьей милостью портной и гамашник; он научил меня кроить гетры, которые, как вы сами хорошо знаете, представляют собою особые чулки с подъемом, называемые обыкновенно «полайнас». Я крою их так хорошо, что, право, мог бы сдать экзамен на мастера, если бы не злая судьба, которая держит меня в неизвестности.
— Еще и не такие напасти случаются с хорошими людьми, — ответил старший. — Не раз мне доводилось слышать, что редкие способности чаще всего пропадают даром. Однако вы еще в таком возрасте, что успеете исправить свою судьбу. Впрочем, если я не ошибаюсь и если глаз меня не обманывает, ваша милость обладает другими скрытыми талантами, но, видно, не желает их выказывать.
— Да, обладаю, — согласился младший, — но они не для широкой огласки, как вы сами это отлично заметили.
На это старший ответил:
— В таком случае могу вам сказать, что лучшего человека для сбережения тайны вряд ли вы где еще сыщете, и, чтобы обязать вас открыть свою душу и быть со мною откровенным, я начну с того, что открою вам сначала свою. Мне сдается, что не без тайного умысла свела нас здесь судьба, и вполне возможно, что мы с вами до последнего дня нашей жизни останемся настоящими друзьями. Я, сеньор идальго, уроженец Фуэнфриды[50], селения, известного и прославленного именитыми путешественниками, которые через него постоянно проходят. Имя мое — Педро Ринкон; мой отец — видная персона, ибо служит делу крестовых походов: я хочу сказать, что он разносчик папских булл, или булдыга, как выражается простонародье. Одно время я помогал ему в этом занятии и изучил его так, что наиболее опытному человеку не дал бы себя превзойти в продаже булл. Но однажды, увлекшись деньгами, получаемыми за буллы, гораздо больше, чем самыми буллами, я сжал в объятиях мешок и доставил его и самого себя в Мадрид, и там по милости разных удовольствий, которые всегда можно получить в столице, я в несколько дней так его выпотрошил, что он весь покрылся у меня складками, как платок у новобрачного. Владелец денег поспешил мне вслед — меня арестовали; особенной поддержки у меня не было, но судьи, посмотрев на мою юность, удовольствовались приказом привязать меня к столбу и этак… согнать плетями с моих плеч несколько мух, а затем изгнать меня на четыре года из столицы. Набравшись терпения и выгнув спину, я подчинился необходимости, снес наказание, а потом с такой быстротой отправился в изгнание, что не успел даже подыскать себе осла или лошади. Из своих пожитков я захватил все, что мог и что показалось мне особенно нужным; захватил, между прочим, и эти карты (тут он вытащил из своего воротника карты, о которых уже было сказано выше); ими я зарабатывал себе на жизнь, играя в «двадцать одно» во всех гостиницах и постоялых дворах, сколько их наберется от Мадрида до этого места. И хотя, как вы видите, карты эти засаленные и потрепанные, но они наделены чудесной силой для того, кто умеет ими пользоваться: стоит только снять — и снизу окажется туз, который сразу выходит в козыри и дает одиннадцать; пусть только предложат сыграть в «двадцать одно», как, имея туза на руках, ты сохраняешь все деньги в кармане. А если вы хоть немного играете в «двадцать одно», вы поймете, какое это преимущество, если наверняка знаешь, что в первой карте получаешь туза. Кроме того, у повара одного посланника я обучился кое-каким уловкам для игры в «пятки» и в «банк», который иначе называется еще «андавова», и выходит, что я могу стать маэстро по части игры в карты, совершенно так же, как вы можете сдать экзамен по кройке гамаш. Таким образом, я с голода не умру, потому что в любой усадьбе всегда найдется человек, желающий сыграть в картишки. Сейчас мы можем проверить это на опыте. Расставим силки и посмотрим, не попадутся ли в них какие-нибудь пташки, вроде находящихся тут погонщиков мулов. Мы будем с вами играть в «двадцать одно», как будто и вправду, а если кто захочет быть в нашей игре третьим, то быть ему первым, кто расстанется со своим капиталом.
— В добрый час! — ответил другой. — Вы, ваша милость, оказали мне большую честь, рассказав мне про свою жизнь; этим вы заставляете и меня открыть вам свое прошлое, которое в общих чертах сводится к следующему. Я родился в богоспасаемом селении, расположенном между Саламанкой и Медина дель Кампо. Мой отец — портной — обучил меня своему ремеслу, а благодаря своим способностям я быстро перешел от этой работы к отрезыванию кошельков. Мне наскучила бедная деревенская жизнь и дурное обращение мачехи; покинув родное село, я отправился в Толедо промышлять ремеслом, в котором я творил чудеса, ибо ни разу еще к токе не подвешивали такой ладанки и никто еще так не прятал своего кошелька, чтобы их не прощупали мои пальцы и не обрезали мои ножницы даже тогда, когда вещи эти сторожились глазами Аргуса. За четыре месяца пребывания в этом городе меня ни разу не приперли к стене, ни разу меня не накрыли и не обнаружили полицейские, а также ни разу не донес на меня ни один человек; правда, около недели тому назад какой-то криводушный сыщик дал знать о моих ловкачествах коррехидору, который заинтересовался было моими талантами и захотел меня увидеть; но я, по свойственной мне скромности, не люблю иметь дело со столь важными лицами и поэтому постарался избежать встречи с коррехидором, покинув город с такой поспешностью, что не успел раздобыть себе ни лошади, ни денег, ни обратной кареты или хотя бы только телеги.
— Оставим эти шутки, — заметил Ринкон, — ведь мы с вами уже познакомились: к чему нам важничанье и похвальба? Сознаемся чистосердечно, что сейчас у нас нет ни денег, ни пары башмаков.
— Да будет так! — ответил Дьего Кортадо (ибо так называл себя младший мальчик). — А если наша дружба, как вы, сеньор Ринкон, изволили сами заметить, должна быть вечной, то положим ей начало святым и прекрасным обрядом.
Тут Дьего Кортадо встал и обнялся с Ринконом нежно и крепко, а затем они принялись играть в «двадцать одно», пользуясь упомянутыми уже выше картами весьма чистой работы, но довольно-таки засаленными и вероломными, причем после нескольких партий Кортадо так же хорошо снимал туза, как и его учитель.
В это время один из погонщиков мулов вышел на галерею подышать свежим воздухом и изъявил желание войти третьим в игру. Его охотно приняли и менее чем в полчаса обставили на двенадцать реалов и двадцать два мараведиса, что поразило беднягу, как двенадцать ударов копьем и двадцать две тысячи несчастий. Погонщик мулов хотел было отнять у мальчиков свои деньги, думая, что они, по молодости лет, не сумеют их отстоять. Но мальчики, схватившись один за тесак, другой за нож с желтым черенком, поставили его в столь затруднительное положение, что, если бы не выбежавшие товарищи, погонщику, без сомнения, пришлось бы плохо.
Как раз в это время по дороге случайно проезжало несколько всадников, которые собирались провести сьесту на постоялом дворе Алькальде, в полумиле дальше; заметив ссору погонщика с мальчиками, всадники их умиротворили и предложили юнцам ехать вместе, если только целью их путешествия была Севилья.
— Туда-то мы и направляемся, — сказал Ринкон, — и постараемся услужить вашим милостям всем, что от нас потребуется.
И, недолго думая, мальчики одним прыжком очутились перед мулами и отправились со всадниками, оставив погонщика мулов обиженным и разгневанным, а хозяйку постоялого двора в изумлении от ловкого обхождения обоих плутов, разговор которых она незаметно для них подслушала. Когда хозяйка сообщила погонщику, что карты мальчиков, как она слышала, были крапленые, погонщик стал рвать себе бороду и пожелал было ехать вслед за ними на постоялый двор, чтобы получить обратно свое достояние, так как усмотрел величайшее оскорбление и унижение в том, что два мальчугана провели такого великовозрастного мужчину, как он. Товарищи его удержали и посоветовали не ездить, чтобы, по крайней мере, не разглашать своей оплошности и глупости, причем привели ему разные доводы, которые, правда, его не утешили, но заставили все же остаться.
Тем временем Кортадо и Ринкон с. таким рвением принялись услуживать путешественникам, что те большую часть пути везли их на крестце своих мулов; и хотя мальчикам не один раз представлялся случай пощупать чемоданы своих господ, они им не воспользовались, не желая терять приятной возможности попасть в Севилью, куда им очень хотелось добраться. Тем не менее, когда при вечернем благовесте стали они въезжать в город через Таможенные ворота, Кортадо — во время осмотра вещей и уплаты пошлины — не удержался и вспорол чемодан или, вернее, дорожную сумку, которую вез на крупе своего мула француз, входивший в число путешественников; он нанес своим желтым ножом такую широкую и глубокую рану сумке, что внутренности ее сразу выступили наружу, а потом ловко извлек оттуда две отличных рубашки, солнечные часы и памятную книжку — вещи, не доставившие мальчикам особенного удовольствия. Приятели рассудили, что поскольку француз держал свою сумку неотлучно при себе, она была наполнена не такими пустяковыми предметами, как те, которые им достались, а потому решили было пощупать ее вторично, но не привели этого в исполнение, полагая, что путешественники, пожалуй, уже спохватились и позаботились спрятать в надежное место все остальное.
Еще до совершения кражи мальчики простились со своими хозяевами и кормильцами. На следующий день они продали рубашки на рынке, находящемся за воротами Ареналь, и выручили за них двенадцать реалов. Покончив с этим, они отправились осматривать город и подивились величине и великолепию собора, а также большому стечению портовых рабочих, собравшихся по случаю гружения флота. На реке стояло шесть галер, и, глядя на них, мальчики загрустили и даже содрогнулись при мысли о том дне, когда в наказание за преступления их заставят переехать сюда навсегда. Им сразу бросилось в глаза множество мальчиков-носильщиков, которые там расхаживали. У одного из них они спросили про его ремесло: не очень ли оно трудно и много ли дает дохода. Мальчуган-астуриец, которому они задали вопрос, ответил, что занятие это спокойное и налога за него платить не надо; что иной раз он выручает по пять или шесть реалов в день, на которые ест, пьет и веселится как король, так что и хозяина ему искать не надо и поручительств представлять не приходится, и всегда он знает, что пообедает в любой час, когда захочет, потому что он во всякое время может получить еду даже в самой захудалой харчевне города, а тут их немало и все они хорошие.
Оба друга не без удовольствия выслушали рассказ астурийца, ремесло которого не показалось им плохим, ибо на их взгляд оно, обеспечивая свободный вход во все дома, было словно создано для того, чтобы дать им возможность безопасно и тайно заниматься своим делом при доставке на место порученных им кладей и вещей. В ту же минуту они порешили закупить все принадлежности, необходимые носильщику, работа которого не требовала сдачи предварительного испытания. Они спросили астурийца, что им следует купить, и получили в ответ, что каждому нужно приобрести небольшой мешок, чистый и новый, и три плетеные корзинки, две побольше и одну маленькую; в корзины полагается класть мясо, рыбу и фрукты, а в мешок — хлеб. Астуриец свел их туда, где эти вещи продаются, и они приобрели все на деньги, вырученные от продажи пожитков француза. Через два часа они имели такой вид, что могли бы получить звание мастера своего нового ремесла — так ловко были прилажены корзинки и хорошо подвешены мешки. Их вожатый указал им места, где следовало стоять: по утрам около Мясного ряда и на площади Сан Сальвадор; в постные дни — около Рыбного ряда и на площади Костанилья; после полудня — на берегу реки, по четвергам — на Ярмарке.
Мальчики твердо выучили наизусть весь этот урок и на следующий день с раннего утра выстроились на площади Сан Сальвадор. Едва они пришли, как их окружили другие носильщики, которые по свежим мешкам и корзинкам узнали в них новичков. Им задали тысячу вопросов, на которые они ответили умно и вежливо. В это время к ним подошел какой-то человек, похожий на студента, и солдат; оба, видимо, соблазнились чистотою корзинок обоих новичков. Человек, походивший на студента, кликнул Кортадо, а солдат — Ринкона.
— Ну, бог в помощь! — сказали мальчики.
— С вашей легкой руки начать бы работать, — проговорил Ринкон. — Я, ваша милость, вышел в первый раз.
На это солдат ответил:
— Начало не плохо, потому что я в выигрыше, влюблен и хочу устроить пирушку приятельницам моей возлюбленной.
— В таком случае валите на меня сколько угодно, так как есть у меня достаточно усердия и сил, чтобы снести на себе всю эту площадь. А если потребуется помощь в стряпне, я сделаю это весьма охотно.
Солдату пришлась по сердцу приветливость мальчика, и он сказал, что в случае желания его поступить на службу он поможет ему оставить это низкое занятие. Ринкон ответил, что он только сегодня начал заниматься новым делом, а потому не хочет бросать его слишком скоро, не узнав предварительно его плохих и хороших сторон; если же оно его не удовлетворит, то он дает слово, что охотнее пойдет на службу к солдату, чем к канонику.
Солдат посмеялся, основательно нагрузил носильщика и указал ему дом своей дамы, для того чтобы он его знал на будущее время и чтобы освободить себя тем самым от необходимости сопровождать мальчика при следующей посылке. Ринкон пообещал быть честным и добросовестным, получил от солдата три куарто и в ту же минуту вернулся на площадь, чтобы не потерять нового случая; такого рода старательности обучил его все тот же астуриец, не позабывший еще упомянуть, что при доставке мелкой рыбы, вроде сардинок, не возбраняется взять себе несколько штук на пробу, хотя бы в таком количестве, сколько нужно для пропитания на день. Однако это следует производить ловко и осмотрительно, дабы не лишиться доверия, которое для носильщика важнее всего.
Как ни быстро вернулся обратно Ринкон, он застал уже Кортадо на прежнем месте. Кортадо подошел к Ринкону и осведомился, как его дела. Ринкон разжал руку и показал три куарто. Кортадо засунул руку за пазуху, вытащил туго набитый кошелек, столь старый, что он совсем уже утратил запах амбры, и сказал:
— Вот этим кошельком да еще двумя куарто рассчитался со мной его преподобие господин студент. На всякий случай, Ринкон, кошелек вы оставьте у себя.
Едва только кошелек был незаметно передан, как вдруг прибежал студент, весь в поту и до смерти перепуганный. Увидев Кортадо, студент спросил, не видел ли он случайно потерянного кошелька с такими-то приметами, в котором было пятнадцать дукатов золотом, три двойных реала и несколько мараведисов, умоляя Кортадо сознаться, что он стащил кошелек в то время, как они вдвоем ходили за покупками. На это Кортадо с необыкновенным самообладанием, ничуть не изменившись в лице, ответил:
— Вот что я могу сказать о вашем кошельке: если вы, ваша милость, положили его в надежное место, потеряться он никак не мог.
— В том-то и дело, черт бы меня подрал, — воскликнул студент, — что я, несомненно, положил кошелек в ненадежное место; потому-то его у меня и украли!
— То же самое и я говорю, — заметил Кортадо. — Однако все на свете поправимо, кроме смерти, а сейчас для вашей милости первое и главное средство — терпение, потому что «из ничего люди выходят», «день на день не приходится», а «где потеряешь, там и выиграешь». Пройдет время, и человек, стащивший ваш кошелек, раскается и вернет вам его обратно, да еще надушенным.
— Ну, на духах я не очень настаиваю, — заметил студент.
А Кортадо продолжал трещать:
— Кроме того, существуют на свете папские отлучения за кражу и наша собственная настойчивость, которая всего достигает; и, по правде сказать, не хотел бы я быть на месте похитителя вашего кошелька: ведь вы, ваша милость, состоите, кажется, в священном сане, а если так, то выходит, что я совершил бы в данном случае страшное кровосмешение или, вернее, святотатство!
— Да как же не святотатство! — воскликнул пригорюнившийся студент. — Хоть я и не священник, а ризничий женского монастыря, а все же деньги, бывшие в кошельке, — это треть капелланского дохода, собранного мною по поручению моего приятеля священника; деньги эти святые и благословенные.
— Ну, тогда этот хлеб впрок вору не пойдет, — ответил на это Ринкон, — завидовать ему не приходится; придет день страшного суда, всех тогда выведут на чистую воду; узнаем мы тогда этого христопродавца, этого наглеца, посмевшего взять, похитить и смешать с грязью треть капелланского дохода! А скажите мне, ради бога, сеньор ризничий, сколько это приносит в год?
— Шлюхина выродка это приносит!.. Стану я сейчас разговаривать с вами о доходе! — ответил почти что вскипевший ризничий. — Если вы, братец, что-нибудь знаете, так говорите, а если нет, так проваливайте с богом, потому что я пойду объявить о краже через глашатая.
— Пожалуй, это будет неплохо, — сказал Кортадо, — постарайтесь, однако, не забыть примет кошелька и точной суммы находившихся в нем денег, потому что, если вы ошибетесь хоть на полушку, — никогда он у вас не объявится, вот вам и весь мой сказ.
— Бояться мне нечего, — ответил ризничий, — сумму эту я помню лучше, чем счет колокольного звона, а потому не ошибусь ни на йоту.
Тут ризничий вынул из кармана кружевной платок, чтобы стереть им пот, капавший у него с лица, как из крана змеевика, в котором перегоняют воду. Едва только Кортадо увидел платок, как тотчас же решил им завладеть. Когда ризничий ушел, Кортадо отправился за ним следом, догнал его на Соборной площади, окликнул и отозвал в сторону. Тут он начал рассказывать ему всякие пустяки и понес такие турусы на колесах относительно пропажи и отыскания кошелька, всячески обнадеживая своего собеседника и не договаривая до конца начатых фраз, что бедняга ризничий заслушался и ошалел окончательно, а так как он не понимал слов своего собеседника, то все время просил его по два и по три раза повторять то же самое. Кортадо внимательно смотрел ему в лицо, не спуская с него глаз, а ризничий точно так же глядел на Кортадо, ловя каждое его слово. Такого рода искусный прием сделал то, что Кортадо довел свое дело до конца и весьма ловко вытащил у него платок из кармана, а на прощание попросил, чтобы ризничий после полудня непременно повидался с ним на этом самом месте; у него, мол, есть подозрение, что кошелек украден одним мальчиком, тоже носильщиком и его однолеткой, который был слегка вороват, и при этом Кортадо пообещал рано или поздно выяснить, в чем тут дело.
Это несколько утешило ризничего; он распрощался с Кортадо, а тот возвратился обратно к Ринкону, который стоял неподалеку, все это наблюдал; чуть-чуть подальше находился еще один носильщик, который видел все, что произошло, равно как и то, что Кортадо передал Ринкону платок. Он подошел и сказал:
— Скажите мне, господа кавалеры, не из полупочтенных ли будут ваши милости?
— Мы не принимаем вашего вопроса, господин кавалер, — ответил Ринкон.
— А ну-ка, почешите темя, сеньоры мурсияне! — продолжал тот.
— Мы вам не из Мурсии, да и не из Тевы тоже, — сказал Кортадо. — Если вам что-нибудь нужно, — говорите, а если нет, так ступайте с богом.
— Ах, вы не понимаете? Так я вам это растолкую и даже в рот серебряной ложечкой положу. Я хочу спросить, сеньоры мои, не из воров ли будут ваши милости? Впрочем, сам не знаю, к чему мне об этом спрашивать: ведь мне и так известно, что вы воры. Но скажите, как же это вы не побывали на таможне сеньора Мониподьо?
— А что, в ваших краях воры платят налоги? — спросил Ринкон.
— Налогов не платят, — ответил носильщик, — но зато, во всяком случае, записываются у сеньора Мониподьо, который является их отцом, учителем и защитником. По этому я советую вам сходить со мною на поклон к сеньору Мониподьо, а без его указки и думать не смейте воровать, иначе это обойдется вам не дешево.
— Я полагал, — ответил ему Кортадо, — что воровство есть свободное звание, не знающее ни податей, ни налогов, а если кого и притянут к уплате, то люди платятся оптом, и выручают их либо шея, либо плечи. Но коль скоро выходит так, что в каждой деревне живут по-своему, подчинимся вашему обычаю, который, надо думать, наимудрейший из всех, ибо Севилья — лучший город в мире. Итак, ведите нас туда, где находится кавальеро, о котором вы говорите. Я уже догадался из ваших слов, что он человек весьма почтенный, благородный и, кроме того, знаток своего дела.
— Это он-то почтенный, это он-то знаток и мастер своего дела?! — воскликнул носильщик. — Да он у нас такой, что за все четыре года, что он состоит нашим отцом и начальником, только четверо из наших угодили на перекладину, человек тридцать попали к заплечным, да еще около шестидесяти двух сели на плавучие доски.[51]
— По правде сказать, сеньор, — заметил Ринкон, — мы столько же смыслим в этих словах, как в искусстве летать по воздуху.
— Ну, пойдем, — сказал носильщик, — а по дороге я вам объясню эти слова и еще некоторые другие, которые вам необходимо знать как свои пять пальцев.
И затем он стал им объяснять и толковать разные слова из числа тех, которые воры называют «херманеско» или «хермания», и беседа вышла довольно длинная, потому что путь у них был не короткий; на ходу Ринкон спросил у своего вожатого:
— А может быть, и вы, ваша милость, тоже из воров?
— Да, — ответил тот, — я вор, — и делом своим служу богу и добрым людям, но я еще не очень опытный и отбываю пока что год послушничества.
— В первый раз слышу, что бывают на свете воры, которые служат богу и добрым людям! — вставил Кортадо, на что их юный спутник ему заметил:
— Сеньор, углубляться в богословие — не мое дело, но я все-таки знаю, что каждый из нас своим трудом может восхвалить господа, особливо же при том уставе, который Мониподьо ввел для всех своих приемышей.
— Какое же может быть сомнение, — сказал Ринкон, — в том, хорош ли или свят этот устав, если он заставляет воров служить богу!
— Он до того свят и хорош, — продолжал собеседник, — что для нашего дела лучше и не надо. Мониподьо постановил, чтобы часть украденного мы отчисляли на масло для лампады одной высокочтимой в нашем городе иконы. И поистине великие последствия имело для нас это доброе дело. Не так давно одного рогача под три страсти поставили за то, что он двух ревунов замотал, и хоть хилый был и лихорадка его каждые четыре дня трясла, а все перенес и не запел ни разу: как будто бы с ним ничего и не делали. Все наши мастера приписывают это его редкой набожности, потому что его собственных сил вряд ли хватило, чтобы только первые нелады от палача принять. Я знаю, вы сейчас спросите о значении некоторых попавшихся у меня слов; поэтому-то я хочу предупредить вас и объяснить их прежде, чем вы зададите вопрос. Знайте, что рогачом называется тот, кто ворует скот; страстями — пытка; ревунами, с вашего позволения, — ослы; первые нелады — это первый взмах плети палача. Да то ли еще: мы молимся по четкам, которые у нас размечены по дням недели, и многие из нас не воруют по пятницам, а по субботам не вступают в разговор с женщинами, носящими имя Марии.
— Все это одна красота, — молвил Кортадо; — но скажите мне, ваша милость, вы, может быть, помимо прочего налагаете еще на себя возмещения или пени?
— О возмещении, конечно, говорить не приходится, — возразил носильщик, — это дело невозможное, потому что каждая краденая вещь делится на множество частей и каждый член или участник братства получает свою часть, так что вор, совершивший кражу, ничего возвратить не может; а кроме того, никто и не побуждает нас к такому усердию, потому что мы никогда не исповедуемся, а если нас отлучают от церкви, то мы никогда об этом не знаем, так как ходим в церковь не в те дни, когда читаются отлучения, а все больше в дни всеобщего отпущения грехов, принимая в расчет добычу, которая бывает при большом стечении народа.
— И не делая ничего, кроме этого, — осведомился Кортадо, — все вы считаете свою жизнь святой и хорошей?
— А что же в ней плохого? — спросил носильщик. — Разве не хуже быть еретиком, ренегатом, убить отца своего и мать или, наконец, быть содомиком?
— Вы, ваша честь, хотели, должно быть, сказать содомитом? — заметил Ринкон.
— Вот именно — содомитом, — подтвердил носильщик.
— Конечно, плохо, — сказал Кортадо; — но поскольку судьбе нашей было угодно, чтобы мы определились в ваше братство, то давайте прибавим шагу, потому что я умираю от желания повидать сеньора Мониподьо, о котором рассказывают такие чудеса.
— Ваше желание вскоре исполнится, — ответил носильщик, — потому что дом виден уже отсюда. Вы пока постойте у дверей; я схожу узнать, свободен ли сейчас Мониподьо, потому что как раз в это время он обычно принимает.
— В час добрый! — сказал Ринкон.
Забежав на несколько шагов вперед, носильщик юркнул в дом, не только не роскошный, а просто-напросто
захудалый; мальчики стали дожидаться у дверей. Вскоре их провожатый вышел и пригласил их войти; он велел им подождать на крошечном дворе, который был вымощен кирпичом и так чисто вымыт и выскоблен, что казалось, будто его смазали кармином самого лучшего качества. С одной стороны стояла скамейка о трех ножках, с другой — кувшин с отбитым носом, покрытый сверху крышкой, такой же неблагополучной, как и кувшин; чуть-чуть подальше лежала камышовая циновка, а посредине дворика стоял горшок (или, как говорится в Севилье, — масета) с базиликой.
Мальчики, ожидая выхода сеньора Мониподьо, внимательно рассматривали обстановку дома. Видя, что хозяин запаздывает, Ринкон рискнул пройти в нижнюю комнату — одну из двух, выходивших на двор, — и увидел там две рапиры и два пробковых щита, висевших на четырех гвоздиках, большой ларь без всякой покрышки и три камышовых циновки, разостланных на полу. К стене напротив было приклеено изображение богоматери, очень плохо награвированное; пониже его висела плетеная корзинка, а в стену был вделан беленький тазик, из чего Ринкон заключил, что корзинка служила кошелем для сбора приношений, а тазик предназначался для святой воды; так оно на самом деле и было.
Тем временем в дом вошли два молодых человека лет двадцати, одетые как студенты, а немного погодя — двое носильщиков и один слепец; не говоря ни слова друг другу, они стали прохаживаться по двору. Через несколько минут появились два старика в байковых плащах, с очками на носу, которые придавали им весьма почтенный и достойный уважения вид; у каждого в руках были четки из маленьких погремушек. Следом за ними показалась старуха в длинном платье, которая молча прошла в комнату, захватила там святой воды, с большим благоговением опустилась на колени перед иконой и после долгого промежутка времени, поцеловав перед этим три раза землю и воздев столько же раз очи и руки к небу, поднялась, опустила в корзину милостыню и тоже присоединилась к ожидавшим. Вскоре на дворе собралось человек четырнадцать в самых разнообразных одеждах и самых разнообразных званий. Последними вошли два бравых, щеголеватых и длинноусых молодца в широкополых шляпах, валлонских воротниках, цветных чулках с замысловатыми подвязками, со шпагами длиннее установленной меры, причем у каждого был вместо кинжала пистолет, а кроме того, щит, подвешенный к поясу. Войдя, они уставились на Ринкона и Кортадо как на лиц посторонних, которых они не знали, подошли к ним и спросили, состоят ли они членами братства. Ринкон ответил, что да и что мы, мол, покорные слуги ваших милостей.
Между тем настала минута, когда появился наконец сеньор Мониподьо, весьма нетерпеливо поджидавшийся и очень радостно встреченный всем этим почтенным обществом.
Это был человек лет сорока пяти — сорока шести, высокого роста, лицом смуглый, со сросшимися бровями, с черной, очень густой бородой и глубоко посаженными глазами.
Он вышел в рубашке, сквозь прореху которой виднелся целый лес: столько у него было волос на груди. На нем был накинут большой плащ, доходивший почти до ступней, обутых в башмаки с продавленными задками; ноги были покрыты широкими полотняными шароварами по самую щиколотку, голову украшала бандитская шляпа с высокой тульей и широкими полями. На перевязи, проходившей по спине и груди, висела широкая, короткая шпага, вроде тех, что бывают помечены клеймом «собачки»; руки у него были короткие и волосатые, пальцы толстые, ногти огромные и крючковатые; ног нельзя было рассмотреть из-за одежды, но ступни казались просто страшными, такие они были широкие и с такими громадными костяшками. Одним словом, у него был вид косолапого и безобразного варвара. Вместе с ним показался провожатый обоих мальчиков, который взял их за руку и представил сеньору Мониподьо со словами:
— Это те добрые ребята, о которых я говорил вашей милости, сеньор Мониподьо; благоволите сделать им испытание, и вы увидите, что они достойны вступить в нашу общину.
— С превеликим удовольствием, — ответил Мониподьо.
Я забыл упомянуть, что при появлении Мониподьо все ожидавшие его тотчас отвесили ему низкий поклон, за исключением обоих молодцов, которые, едва приподняв шляпы, продолжали прохаживаться по одной стороне двора, а по другой стороне стал ходить Мониподьо, задавший новичкам вопрос относительно рода их занятий, родины и родителей.
На это Ринкон ответил:
— Род занятий наш ясен уже из того, что мы явились сейчас к вашей милости; что касается родины, то я не считаю нужным ее называть, равно как и родителей: ведь дело сейчас идет не об установлении родословной на предмет получения какого-нибудь почетного звания.
Мониподьо ответил так:
— Вы, сын мой, совершенно правы. Совсем не глупо скрывать подобные веши, ибо если судьба сложится не так, как бы хотелось, не следует, чтобы в судебных книгах, за подписью секретаря, значилось: такой-то, мол, сын такого-то, уроженец такой-то местности, в какой-то день повешен, наказан плетью или еще что-нибудь в этом роде, столь же оскорбительное для всякого нежного уха; а поэтому, повторяю еще раз, весьма полезно бывает умолчать о своей родине, скрыть своих родителей и переменить собственное имя. Но между нами не должно быть никаких тайн, и только для первого раза я хочу узнать ваши имена.
Ринкон назвал себя; то же самое сделал Кортадо.
— Итак, на будущее время, — ответил Мониподьо, — я хочу, и такова моя воля, чтобы вы, Ринкон, назывались Ринконете, а вы, Кортадо, — Кортадильо[52], потому что эти прозвания подходят как нельзя лучше к вашему возрасту и нашим обычаям; они-то и предписывают нам узнавать имена родителей членов нашего братства, так как мы имеем обыкновение ежегодно совершать особые мессы за упокой наших покойников и благодетелей и отчисляем для оплаты священника особую влепту[53] из награбленного; дело в том, что мессы, отслуженные и оплаченные таким образом, приносят большую пользу, ибо идут они на души чистильщика. В число наших благодетелей входят: повытчик, который нас отстаивает, «крючок», который извещает об опасности, грозящей со стороны полиции; палач, если он нас щадит, и, наконец, тот самый человек, который, когда одного из наших гонят по улице и бегут за ним с криком: «Вор, вор! Держи его, держи!», станет посреди дороги один против толпы преследующих и скажет: «Оставьте беднягу, довольно с него и собственного горя! Бог с ним, пусть лучше виновного его грех накажет!» Защитой нашей являются и наши старательницы, которые в поте лица на нас стараются, когда нас назначают в казенный дом или в плавание[54]; сюда же относятся отцы и матери, рождающие нас на свет божий, равно как и судебный писец, потому что, если бывает на то его добрая воля, никакая вина не признается за преступление и ни за одно преступление суровой кары не полагается. За всех этих благодетелей, которых я перечислил, наше братство ежегодно совершает моление и дрызну со всем попом и братом, каких только мы можем себе позволить.
— Поистине, — сказал Ринконете, который отныне уже был окрещен этим именем, — установление это достойно глубокого и светлого ума, которым, как мы слышали, вы, сеньор Мониподьо, обладаете. Однако родители наши еще здравствуют, если же мы их переживем, то немедленно сообщим об этом вашему богоспасаемому и искупительному братству, дабы души покойных сподобились либо чистильщика, либо метельщика или же этой дрызны (о которой вы, ваша милость, говорили), с приличествующими в таких случаях помпой и аппаратом, если только не лучше будет с попом и братом, как вы это тоже в своих словах отметили.
— Так ему и быть надлежит, пропади я на этом месте, — заключил Мониподьо и, подозвав вожатого наших мальчиков, сказал ему:
— Послушай, Ганчуэло, часовые на местах?
— Точно так, — ответил вожатый, имя которого было Ганчуэло, — трое часовых глядят в оба, и поэтому бояться нечего: врасплох нас не застанут.
— Однако вернемся к делу, — сказал Мониподьо. — Я хотел, дети мои, познакомиться с вашими знаниями и определить вам должность и занятия, соответствующие природным влечениям и способностям.
— Я, — ответил Ринконете, — смыслю кое-что в науке Вилана[55], умею делать накладку; набил глаза на крапинки; передергиваю одной, двумя, четырьмя и восемью; не провороню тебе ни начеса, ни бородавки, ни клычка, в волчью пасть попадаю, как к себе домой; третьего играю, что твой третейский судья, и даже самому обстрелянному вставлю перо прежде, чем он успеет попросить в долг два реала.
— Это пустяки, — сказал Мониподьо. — Все это старая труха, столь известная, что нет новичка, который бы ее не знал; она может провести только такого простака, который после полуночи, можно сказать, сам на нож просится. Однако поживем — увидим. При такой подготовке достаточно будет полдюжины уроков, а там, даст бог, выйдет из вас отличный работник, а может быть, даже и мастер.
— Рад буду угодить вашей милости и сеньорам сочленам, — ответил Ринконете.
— А каковы ваши познания, Кортадильо? — спросил Мониподьо.
— Мне известно, — ответил Кортадильо, — искусство, которое называется «два вложи, пять тяни»; я умею еще ловко и чисто отрезать кошелек.
— А еще что? — спросил Мониподьо.
— К стыду своему, больше ничего, — ответил Кортадильо.
— Не печальтесь, сын мой, — сказал Мониподьо, — вы достигли гавани, где вы не утонете; вы попали в школу, откуда вас не выпустят, не обучив предварительно всему, что вам подобает узнать… А как обстоит у вас дело в отношении мужества, дети мои?
— Совсем не как-нибудь, а очень даже хорошо, — проговорил Ринконете. — Мы достаточно храбры, чтобы рискнуть на любое предприятие, имеющее отношение к нашему ремеслу и званию.
— Прекрасно, — сказал Мониподьо. — Однако мне бы хотелось, чтобы вы в случае нужды сумели выдержать полдюжины «страстей», не разжав губ и не проронив ни единого слова.
— Мы уже здесь узнали, сеньор Мониподьо, — сказал Кортадильо, — что такое «страсти», и ничего не испугаемся; не так уж мы глупы, чтобы не понять, что за язык расплачивается шея. Не малую милость оказал господь бог нашему брату, дерзающему (скажу так, чтобы не говорить другого слова), поставив и жизнь и смерть нашу в зависимость от нашего языка; каждому из нас следует помнить, что слово «да» не длиннее слова «нет».
— Довольно, разговаривать больше не о чем! — воскликнул вдруг Мониподьо. — Один этот ответ убеждает, обязывает, заставляет и принуждает меня немедленно же принять вас в число полноправных членов братства и освободить от года послушничества.
— И я того же мнения, — сказал один из молодцов.
Этот отзыв был единогласно поддержан присутствующими, которые слышали эту беседу и попросили Мониподьо сегодня же разрешить обоим мальчикам пользоваться льготами братства, так как Ринконете и Кортадильо вполне того заслужили своей приятной наружностью и разумными речами. Мониподьо ответил, что не откажет им в этом удовольствии и сейчас же дарует все льготы; он подчеркнул, однако, что юноши должны их очень ценить, потому что права они получают следующие: не платить половину дохода с первой кражи; в течение всего года быть свободными от послушнических обязанностей, иначе говоря, от доставки в тюрьму или дома терпимости передач, посылаемых кому-либо из старшей братии; принимать внутрь «некрещеного турка»[56]; устраивать пирушки, не спрашивая разрешения начальника; с первого же дня иметь долю полноправного члена при разделе добра, награбленного старшими, и многие другие преимущества, которые новички приняли как великую честь и за которые, кроме того, искренне поблагодарили в самых учтивых выражениях.
В это время прибежал, запыхавшись, какой-то малый и сказал:
— Сюда идет дозорный альгуасил! Он один, без спутников!
— Не волнуйтесь, — сказал Мониподьо, — это наш друг; он никогда не приходит, чтобы делать нам неприятности. Успокойтесь, я выйду с ним поговорить.
Присутствующие стали успокаиваться, а то все было порядком вструхнули. Мониподьо вышел за дверь, увидел алыуасила, поговорил с ним немного, потом вернулся обратно и спросил:
— Кому была поручена сегодня площадь Сан-Сальвадор?
— Мне, — ответил Ганчуэло.
— В таком случае, — спросил Мониподьо, — почему до сих пор не представлен амбровый кошелек, который утром подгрифили на площади вместе с пятнадцатью золотыми эскудо, двумя двойными реалами и несколькими куарто?
— Правда, — сказал Ганчуэло, — кошелек сегодня пропал, но я его не брал и не могу понять, кто его стибрил.
— Я не позволю себя обманывать! — крикнул Мониподьо. — Кошелек должен быть возвращен, потому что его просит наш друг альгуасил, который делает нам в год тысячи одолжений!
Юноша стал клясться, что он ничего не знает о кошельке. Мониподьо распалялся гневом, и когда он заговорил, то глаза его, казалось, метали пламень:
— Никто не смеет шутить даже с самыми мелкими правилами нашего братства, а не то поплатится жизнью!.. Кошелек должен быть предъявлен! Если кто его укрывает, не желая платить налога, я ему выделю его долю, а остальное добавлю из своего кармана, ибо альгуасил должен быть удовлетворен во что бы то ни стало.
Юноша стал снова клясться и поминать черта, уверяя, что он не брал кошелька и никогда его не видел. Слова эти еще пуще разожгли неистовство Мониподьо и взволновали все собрание, усмотревшее тут нарушение устава и добрых правил.
Когда ссора и волнение не в меру разрослись, Ринконете решил, что лучше будет уважать и успокоить свое начальство, готовое лопнуть от бешенства; посоветовавшись со своим другом Кортадильо и получив его согласие, он вынул из кармана кошелек ризничего и сказал:
— Прекратите спор, господа. Вот кошелек, в котором столько денег, сколько было обозначено альгуасилом. Сегодня мой приятель Кортадильо украл его вместе с платочком, который он стащил у этого же самого человека.
Кортадильо тотчас вынул платок и предъявил его. Мониподьо посмотрел на вещи и сказал:
— Кортадильо Примерный (это прозвание и титул мы закрепим за тобой на будущее время) удержит в свою пользу платок, причем я беру на себя наградить его за оказанную услугу, а кошелек мы отдадим альгуасилу. потому что он принадлежит его родичу ризничему, и таким образом исполним пословицу, гласящую: «Он тебе — целую курицу, а ты его куриной ножкой отблагодари». Этот добрый альгуасил в один день покрывает столько наших грехов, что мы и в сто дней столько добра ему не сделаем.
Все присутствующие единогласно одобрили благородство обоих новичков и заодно решение и приговор своего начальника, который пошел вручить кошелек альгуасилу. Кортадильо окрестили с тех пор прозвищем «Примерный» и приравняли ни больше, ни меньше, как к Алонсо Пересу де Гусману Примерному, бросившему со стен Тарифы нож для убиения своего единственного сына.[57]
Мониподьо возвратился назад в сопровождении двух девиц с нарумяненными щеками, размалеванными губами и сильно набеленною грудью; они были в коротких саржевых плащах и держались с необыкновенной развязностью и бесстыдством. Ринконете и Кортадильо, на основании этих красноречивых признаков, сразу смекнули, что перед ними женщины из дома терпимости, — так оно действительно и было. Едва они успели войти, как одна из них бросилась с распростертыми объятиями к Чикизнаке, а другая — к Маниферро (так звали двух упомянутых выше молодцов, причем кличка Маниферро[58] объяснялась тем, что у ее обладателя одна рука была железная, так как настоящую ему отрубили по приговору суда). Кавалеры весело обняли своих дам и осведомились, не найдется ли у них чем промочить глотку.
— Для моего-то героя да не найдется! — ответила одна из них, по имени Ганансьоса. — Твой слуга Сильватильо вскоре доставит сюда бельевую корзину, наполненную чем бог послал.
И действительно, в ту же минуту вошел мальчик с корзиной, прикрытой простыней.
Все обрадовались приходу Сильвато, а Мониподьо немедленно распорядился принести и растянуть посредине двора одну из камышовых циновок, находившихся в комнате. Затем он велел всем усесться в кружок, чтобы за угощением удобнее было толковать о своих делах. В это время старуха, давеча молившаяся перед иконой, сказала:
— Сыне Мониподьо, мне сейчас не до пиршества, потому что уже два дня я страдаю головокружениями, которые сводят меня с ума, а кроме того, еще до полудня я должна сходить помолиться и поставить свечечки богоматери и святому распятию в церкви св. Августина, — а потому не задержат меня тут ни снег, ни буйный ветер. Пришла я к вам потому, что прошлою ночью Ренегадо и Сентопьес принесли ко мне корзину побольше, чем ваша, полнехонькую белья, и вот вам святой крест, была она еще с подзолом, потому что они и убрать его не успели; пот катил с них градом, запыхались так, что смотреть было жалко, а лица такие мокрые, хоть выжми, — никак иначе не скажешь, как ангелочки… Рассказали они мне, что бегут сейчас выслеживать одного скотовода, только что весившего на весах баранов в мясной лавке, и хотят приласкать его огромного кота[59], набитого реалами. Белья они не вынимали и не считали его, положившись на мою честность, И пусть так исполнятся мои желания и пусть мы так же верно ускользнем от руки правосудия, как верно то, что я и не дотронулась до корзины, которая так же цела и невинна, как если бы она только что родилась!
— Верю всему, матушка, — сказал Мониподьо, — пусть корзина останется у тебя, а ночью я зайду к тебе посмотреть, что она в себе заключает, и каждому выделю его долю, рассчитав все честно и точно, как я всегда это делаю.
— Пусть будет так, как вы прикажете, сыне, — ответила старуха. — А так как я уже замешкалась, то дайте мне глоточек вина, если у вас самих найдется, чтобы подкрепить свой совсем ослабевший желудок.
— И еще какого вина мы вам отпустим, мать моя! — воскликнула Эскаланта (так звали подругу Ганансьосы) и, приоткрыв корзину, вытащила оттуда кожаную бутыль величиною с бурдюк, вмещавшую доброе ведро вина, и ковш из древесной коры, куда легко и свободно могло войти до четырех бутылок. Наполнив сосуд вином, Эскаланта передала его богомольной старухе которая взяла ковш обеими руками, дунула на пену и сказала:
— Ты много налила, дочь моя, но с божьей помощью все преодолеть можно.
Затем, приложив сосуд к губам, она залпом, не набирая дыхания, перелила вино из ковша в живот и сказала:
— Это — Гуадальканаль, и есть в нем, в голубчике, самая капелька гипсу. И да утешит тебя господь, дочь моя, так, как ты меня сейчас утешила! Однако боюсь, как бы оно мне не повредило, потому что я еще не завтракала.
— Не повредит, матушка, — сказал Мониподьо, — это вино двухлетнее.
— Буду надеяться на пречистую деву, — ответила старуха и затем прибавила:
— Послушайте, девушки, не дадите ли вы мне одного куарто на свечки, а то заторопилась я к вам с известием о корзине с бельем и впопыхах забыла дома свой кошелек.
— У меня найдется, сеньора Пипота (так звали старуху), — ответила Гананьсьоса. — Берите, вот вам два куарто; купите мне, пожалуйста, на один куарто свечку и поставьте ее святому Мигелю, а если хватит на две свечи, то вторую поставьте святому Власу; это — мои заступники. Хотелось бы еще поставить свечку святой сеньоре Лусии, которую я в отношении глаз почитаю, да нет у меня сейчас мелкой монеты; ну, да в другой раз мы со всем управимся.
— Хорошо сделаешь, дочь моя; и смотри, не будь скаредной. Пока жив человек, надо, чтобы он ставил за себя свечки сам, не дожидаясь, что их поставят за него наследники и душеприказчики.
— Хорошо сказано, тетка Пипота! — воскликнула Эскаланта и, сунув руку в кошель, дала от себя старухе еще один куарто, поручив ей поставить две свечки по своему выбору тем святым, которые оказывают больше всего покровительства и милости.
После этого Пипота собралась уходить и сказала:
— Веселитесь, дети, пока не поздно; настанет старость, и будете вы плакать, что пропустили золотые деньки своей молодости, как я теперь о них плачу; да еще помяните меня в ваших молитвах, а я пойду помолиться за себя и за вас, дабы избавил нас бог в нашем опасном промысле от внезапного появления полиции.
С этими словами Пипота удалилась.
Когда старуха ушла, все уселись вокруг циновки; Ганансьоса разостлала вместо скатерти простыню и вынула из корзины сначала пучок редиски и около двух дюжин апельсинов и лимонов, затем большую кастрюлю, наполненную ломтиками жареной трески, вслед за ними показались полголовы фламандского сыра, горшок великолепных оливок, тарелка креветок, целая куча крабов с острой приправой из капорцев, переложенных стручками перца, и три каравая белоснежного гандульского хлеба[60]. Закусывающих собралось человек четырнадцать; все они извлекли ножи с желтыми черенками, за исключением Риаконете, обнажившего свой тесак. Старикам в байковых плащах и носильщику Ганчуэло пришлось распределять вино с помощью упомянутого ковша из древесной коры, величиною с улей. Но едва только общество набросилось на апельсины, как оно было напугано сильными ударами в дверь. Мониподьо призвал всех к порядку, удалился в нижнюю комнату, снял со стены щит, взял шпагу и, подойдя к двери, глухим и страшным голосом спросил:
— Кто там?
— Это я, а не кто-нибудь, сеньор Мониподьо; я — Тагарете, часовой, поставленный утром; я прибежал сказать, что сюда идет Хулиана Карьярта, простоволосая и в слезах, — по всему видно, что стряслась какая-то беда.
В это время к дому с рыданиями подошла пострадавшая, о которой шла речь. Заметив ее, Мониподьо отворил дверь и приказал Тагарете снова занять свой пост и сообщать свои известия, не подымая гама и шума. Тагарете ответил, что постарается это исполнить. Наконец появилась и Карьярта, девица того же разбора и такого же рода занятий, что и прежние. Волосы ее были растрепаны, лицо распухло; едва ступив на двор, она без сознания повалилась наземь. Ганансьоса и Эскаланта поспешили на помощь: они расстегнули ей платье на груди и увидели, что все тело в кровоподтеках и ссадинах. Брызги холодной воды привели Карьярту в себя.
— Пусть господь бог и король покарают этого смертоубийцу и живодера, — голосила она, — этого трусливого воришку, этого вшивого бродягу, которого я столько раз спасала от виселицы, что у него волос в бороде больше не наберется! О я несчастная! Посмотрите, ради кого я загубила свою молодость и лучшие годы жизни — ради бессовестного негодяя, неисправимого каторжника!
— Успокойся, Карьярта, — сказал в это время Мониподьо: — не забывай, что тут нахожусь я и что я разберусь в твоем деле. Расскажи нам про свою обиду; и знай, что больше времени уйдет у тебя на рассказ, чем у меня на расправу. Скажи мне, не вышло ли у тебя чего с твоим хахалем? А если что-нибудь вышло и нужна на него управа, тебе достаточно будет слово сказать.
— Какой он хахаль?! — воскликнула Хулиана. — Пусть лучше со мной целый ад хахалится, чем этот «молодец против овец, а против молодца и сам овца». Чтобы я стала с таким хлеб-соль водить и делить с ним свое ложе!.. Пусть прежде шакалы растерзают это тело, которое он разукрасил так, как вы это сейчас увидите.
И, подобрав в одну минуту юбки до самых колен, а то, пожалуй, и немного повыше, она показала, что тело ее было всюду покрыто синяками.
— Вот как, — продолжала Карьярта, — отделал меня изверг Реполидо, несмотря на то, что обязан мне больше, чем родной матери. Нет, вы послушайте только, за что он меня искалечил! Иной еще подумает, будто я сама дала ему какое-нибудь основание!.. Так нет же, нет! — искалечил он меня так потому, что, продувшись в карты, прислал ко мне своего служку Каврильяса за тридцатью реалами, а я могла дать ему только двадцать четыре, и притом заработанных таким трудом, что терзания и мучения мои сам господь бог во искупление грехов моих примет. И вот в награду за мою учтивость и ласку он, порешив, что я утаила от него часть бывших у меня денег, вывел меня сегодня утром в поле, за Королевский сад, и там, в оливковой роще, раздел меня донага, взял пояс, не подобрав и не сняв с него железа (самого бы его, черта, в кандалы да железо заковать), я так меня отстегал, что я еле жива осталась, — а истину моих слов подтвердят синяки, которые вы все видите.
Тут Карьярта стала опять кричать и требовать правосудия. Мониподьо стал ее защищать, а все остальные бандиты единодушно его поддержали.
Ганансьоса бросилась утешать Карьярту и клялась, что она готова пожертвовать любой драгоценной вещью, лишь бы только у нее с ее дружком случилась такая же история.
— Я хочу, — сказала она, — чтобы ты, наконец, узнала, сестрица Карьярта (если ты этого еще не знаешь), что милый бьет — значит любит, и когда эти паршивцы нас дубасят, стегают и топчут ногами, тогда именно они нас и обожают. Разве это не правда? Скажи по совести, неужели Реполидо по окончании трепки не сказал тебе ни одного ласкового слова?
— Какое там одно! — воскликнула плакавшая. — Он мне сто тысяч ласковых слов наговорил и не пожалел бы пальца своей руки, если бы я сразу вместе с ним пошла домой. Мне даже показалось, что у него слезы из глаз брызнули после того, как он меня выпорол.
— Тут и сомнения быть не может, — заметила Ганансьоса: — ясное дело, он прослезился, когда увидел, что здорово тебя отодрал. Стоит только проштрафиться этим мужчинам, как они сейчас же и раскаиваются, и попомни мое слово: еще прежде чем мы отсюда уйдем, он сам к тебе приплетется смиренной овечкой и будет умолять простить ему прошлое.
— Даю слово, — сказал Мониподьо, — что этот каторжный трус не переступит моего порога, если не принесет публичного покаяния в своем преступлении! Как смел он дотронуться руками до лица и тела Карьярты, которая может поспорить своим блеском и заработком с самою Ганансьосой, стоящей здесь перед вами, а уж это ли, скажите, не похвала?!
— Ах! — воскликнула в ответ Хулиана. — Сеньор Мониподьо, не браните вы его, окаянного. Как бы он ни был плох, а я люблю его от всей глубины сердца; у меня сразу душа на место стала после слов, которые подруга моя Ганансьоса привела в его оправдание; честное слово, я пойду сейчас его разыскивать.
— Вот этого я тебе не посоветую, — возразила Ганансьоса: — ведь он тогда так разойдется и раскуражится, что изрешетит тебя, как фехтовальное чучело. Успокойся, сестрица, погоди немного; попомни мое слово, он сам тебе принесет повинную. А если не придет, то мы напишем ему в письме такие куплеты, что ему солоно придется.
— Вот это отлично! — воскликнула Карьярта. — Я ему тысячу вещей могу написать.
— Если понадобится секретарь, то им буду я, — сказал Мониподьо, — и хоть я не поэт, а вот закатаю рукава да и отмахаю в один присест две тысячи стихов, а если выйдут нехороши, есть у меня один знакомый цирюльник, прекрасный поэт, который нам в любое время наворотит их целую кучу… Ну, давайте кончать начатый нами завтрак, а потом все устроится.
Хулиана с удовольствием подчинилась приказу своего начальника. Все снова накинулись на еду и вскоре заметили, что в корзине осталось только дно, а в бурдюке — одна гуща. Старики пили sine fine[61], молодые — сколько влезет, а дамы прикладывались до девяти даже крат. Когда старики попросили разрешения встать из-за стола, Мониподьо их немедленно отпустил, снабдив их наказом осведомлять его со всею возможною точностью обо всем, что может оказаться полезным и выгодным для общины и способствовать безопасности и преуспеянию братства. Ответив, что обо всем этом они неустанно заботятся, старики удалились. Ринконете, отличавшийся от природы необыкновенным любопытством, предварительно извинившись за свой вопрос, осведомился у Мониподьо, для чего нужны братству два таких седых, важных и представительных человека. На это Мониподьо ответил, что люди эти называются на воровском языке «шмелями» и обязаны ходить днем по всему городу и высматривать, в каких домах можно ночью совершить кражу; они обязаны также следить за теми, кто получает деньги на Бирже или на Монетном дворе, и узнавать, куда деньги отнесены и где они спрятаны; получив сведения, они измеряют толщину стен нужного им дома и намечают место, где всего удобнее сделать «гуспатары», то есть отверстия, через которые можно проникнуть внутрь. Одним словом, по отзыву Мониподьо, они были в такой же, а может быть, даже и в большей степени полезны братству, как и все остальные. От каждой кражи, совершаемой с их помощью, им полагается пятая часть, — ни дать, ни взять, как его величеству, отчисляющему свою долю с доходов государства. Следует заметить, что это люди высокой правдивости, весьма почтенные, нравственные и уважаемые, богобоязненные и совестливые, с редким благоговением слушающие свою ежедневную мессу. Среди них попадаются такие приличные, — в том числе и эти два старика, которые только что вышли отсюда, — что довольствуются значительно меньшим, чем им полагается по нашей росписи. Кроме них, есть у нас еще два крючника, которые, каждый день помогая людям переезжать с квартиры на квартиру, отлично изучили входы и выходы всех домов в городе и знают, в каком из них может быть пожива и в каком нет.
— Да это прелесть что такое! — воскликнул Ринконете. — Мне бы тоже хотелось оказаться чем-нибудь полезным для вашего удивительного братства.
— Небо всегда благоприятствует добрым намерениям, — ответил Мониподьо.
Во время этого разговора раздался стук в дверь. Мониподьо вышел посмотреть, кто там; на его оклик стучавший ответил:
— Откройте, сеньор Мониподьо, это я, Реполидо.
Едва Карьярта услышала его голос, как вдруг изо всех сил завыла:
— Не открывайте ему, сеньор Мониподьо; не впускайте этого тарпейского нырка, этого оканьского тигра![62]
Тем не менее Мониподьо открыл дверь, а Карьярта, заметив это, бросилась бежать, укрылась в той комнате, где висели щиты, и, замкнув за собою дверь, стала громко кричать оттуда:
— Уберите прочь эту образину, палача невинных младенцев, пугало кротких голубиц!
Маниферро и Чикизнаке удерживали Реполидо, а он так и рвался войти туда, где находилась Карьярта, и кричал ей со двора:
— Ну ты, обиженная, перестань! Да успокойся ты ради бога; шла бы ты лучше замуж, вот что!
— Чтобы я шла замуж, прохвост?! — ответила ему Карьярта. — Вот ты на какой струне заиграл! Чего доброго, захочешь, чтобы я за тебя вышла?! Да я скорей за смертный шкелет пойду, чем за тебя!
— Ну ты, глупая, — сказал Реполидо, — пора кончать: время не раннее. Эй, не заносись, видя, что я с тобою кротко и нежно разговариваю, а не то, если гнев мне вскочит в голову, второй раз будет похуже первого. Смирись, смиримся оба, и нечего нам кормить обедами дьявола![63]
— Не только обедом, ужином бы я его накормила, — вставила Карьярта, — лишь бы он тебя убрал так, чтобы глаза мои тебя больше не видели!
— А что, разве я вам не говорил?! — крикнул Реполидо. — Ну, госпожа Походная Кровать, ей-богу, выходит так, что придется мне заломить цену повыше, а уж какая будет продажа — смотреть не стану!
Тут вмешался Мониподьо.
— В моем присутствии все должно быть в порядке. Карьярта выйдет, но не из-за угроз, а по любви ко мне, и все устроится. Когда милые ссорятся, от примирения бывает только больше радости! Эй, Хулиана! Эй, детка! Эй, милая Карьярта! Из уважения ко мне выдь-ка сюда наружу. Я устрою так, что Реполидо на коленях попросит у тебя прощения.
— Если он это сделает, — сказала Эскаланта, — то мы все будем на его стороне и будем просить Хулиану выйти.
— Если это от меня требуется в знак повиновения и унижения достоинства, — сказал Реполидо, — то я не покорюсь целому полчищу швейцарцев[64]; а если для того, чтобы доставить удовольствие Карьярте, то я не только стану на колени, но даже гвоздь себе в лоб всажу ей на утеху.
На это Чикизнаке и Маниферро засмеялись; Реполидо, порешив, что те над ним издеваются, страшно рассвирепел и произнес с выражением крайнего гнева в голосе:
— Тот, кто станет хихикать или вздумает хихикать по поводу слов, которые мы с Карьяртой сказали или еще скажем друг другу, тот подлец и будет, как я уже раньше сказал, подлецом всякий раз, как хихикнет или только вздумает хихикнуть!
Косой и скверный взгляд, которым обменялись Чикизнаке и Маниферро, дал понять Мониподьо, что если он не вмешается, то дело кончится очень плохо, а поэтому он тотчас же стал между ними и сказал:
— Кавальеро, довольно, и никаких страшных слов! Прикусите язык, а так как только что сказанные слова к вам не относятся, то нечего вам принимать их на свой счет.
— Мы и сами вполне уверены в том, — ответил Чикизнаке, — что нам таких рацей никогда не читали и читать не будут, а если кто заберет себе в голову, что читали, так есть у нас в руках такой бубен, что будет чем поиграть!
— И у нас тоже при себе бубен имеется, сеньор Чикизнаке, — возразил Реполидо, — а если понадобится, так и звоночками позвонить сумеем. Я сказал: тот, кто будет надо мной потешаться, — подлец, а если он думает иначе, так, пожалуйста, выйдем отсюда вместе… мужчина сумеет постоять за свое слово, даже если шпага у него короче на целую четверть…
С этими словами Реполидо пошел было к выходной двери.
Когда Карьярта, слышавшая все происходившее, поняла, что Реполидо разозлился и уходит, она вышла из комнаты и сказала:
— Не пускайте, держите его, а то он себя покажет! Разве вы не видите, что он рассердился, а уж он такой вояка, что Иуде Макарелу[65] под стать. Вернись сюда, вояка мой всесветный, отрада моих очей!
И, подскочив к Реполидо, она с силою схватила его за плащ; подоспел Мониподьо, и вдвоем они удержали уходившего. Чикизнаке и Маниферро не знали, сердиться им или нет; они сохраняли спокойствие, выжидая, что сделает Реполидо; а тот, поддавшись уговорам Карьярты и Мониподьо, вернулся назад и сказал:
— Друзья никогда не должны сердить своих друзей и смеяться над друзьями, в особенности же тогда, когда они видят, что друзья их сердятся.
— Здесь нет такого друга, — ответил Маниферро, — который хотел бы сердить или высмеивать своего друга, а поскольку мы все друзья, то и пожмем друг другу руки как друзья.
На это Мониподьо с своей стороны добавил:
— Все вы, государи мои, говорили сейчас как добрые друзья, а если вы такие друзья, то должны дать друг другу руки как друзья.
Все тотчас это исполнили, а Эскаланта сняла с ноги чапин и начала бить в него как в бубен; Ганансьоса схватила случайно попавшуюся ей новую пальмовую метлу, и от частых ударов руки по листьям у нее получился глухой и резкий звук, вполне подходивший к звуку чапина. Мониподьо разбил тарелку, сделал себе два черепка, и они быстро-быстро застрекотали у него в пальцах, попадая в такт чапину и метле.
Ринконете и Кортадильо страшно удивились столь неожиданному применению метлы, ибо до сих пор ни разу еще не видели ничего подобного. Маниферро заметил их удивление и сказал:
— Вас удивляет метла? Что же, есть чему подивиться: ведь до такой легкой, удобной и дешевой музыки еще никто в мире не додумался! Честное слово, я недавно слышал от одного студента, что ни Негрофей, который вывел из ада Араус, ни Марион[66], севший на дельфина и прикативший на берег так, словно ехал верхом на наемном муле, ни тот великий музыкант, который основал город в сто ворот[67] и столько же калиток, не в силах были додуматься до такой замечательной музыки, чтобы было не трудно научиться удобно играть и чтобы не требовалось ни ладов, ни колков, ни струн и, само собой разумеется, настройки, а ведь, ей-богу, люди говорят, что изобрел его один кавалер нашего города, который хочет сойти за Гектора по музыкальной части.
— Охотно этому верю, — ответил Реполидо. — Однако послушаем, что нам споют сейчас наши музыканты. Ганансьоса, кажется, сплюнула, а это значит, что она собирается петь.
Так оно и было на самом деле, потому что Мониподьо попросил Ганансьосу спеть несколько сегидилий, которые тогда вошли в моду; однако первой начала Эскалсчнта, которая высоким переливчатым голосом запела следующее:
Из-за севильянца, рыжего, как бритт, У меця все сердце пламенем горит.Ганансьоса подхватила:
А из-за брюнета да зеленой масти Всякая красотка пропадет от страсти.Затем Мониподьо стал еще быстрее перебирать своими черепками и продолжал:
Милые бранятся, примирятся вновь; Чем свирепей склока, тем сильней любовь.Карьярта не захотела обойти молчанием своей собственной радости, а потому тоже схватила чапин и пустилась в пляс, подпевая:
Не дерись, сердитый, положи-ка плеть, Сам себя ты хлещешь, если посмотреть.— Пойте попроще, — сказал в это время Реполидо, — и не поминайте старого, потому что нужды в этом нет никакой; старое уже миновало, перейдем на новую дорожку, да и все тут!
Певцы не скоро бы еще окончили пение, если бы вдруг не послышались частые удары в дверь. Мониподьо поспешно вышел посмотреть, кто там; то был часовой, доложивший, что в конце улицы показался алькальд, в сопровождении Тордильо и Серникало — полицейских, соблюдавших нейтралитет. Когда оставшиеся во дворе услышали, в чем дело, то так перепугались, что Карьярта и Эскаланта перепутали свои чапины, Ганансьоса бросила метлу, Мониподьо — черепки, и музыка сменилась тревожным молчанием. Чикизнаке онемел, Реполидо остолбенел, Маниферро замер, и все — кто направо, кто налево — стали забираться на плоские накаты и на крыши, чтобы удрать и выбраться на другую улицу. Неожиданный выстрел из аркебузы или внезапный удар грома не мог бы с большей силой испугать стаю беспечных голубей, чем была испугана и встревожена теплая компания всех этих добрых людей вестью о приближении полицейского алькальда. Оба новичка, Ринконете и Кортадильо, не зная, что делать, остались на месте и ожидали конца этой внезапной бури. Закончилась она появлением часового, сообщившего, что алькальд проследовал дальше, ясно показав, что ничто не вызвало в нем ни малейшего подозрения.
В то время как часовой докладывал обо всем Мониподьо, к дверям приблизился молодой человек, судя по одежде, один из так называемых «лоботрясов»; Мониподьо пропустил его в дом и, велев позвать Чикизнаке, Маниферро и Реполидо, остальным приказал не показываться. Так как Ринконете и Кортадильо стояли по-прежнему на дворе, они прослушали весь разговор между Мониподьо и пришедшим гостем, жаловавшимся на небрежное выполнение его просьбы. Мониподьо ответил, что сам ничего не может сказать по этому делу, но что мастер, которому был поручен заказ, — налицо и представит подробный отчет. В это время показался Чикизнаке, и Мониподьо справился у него, покончено ли с заказанной ему раной в четырнадцать стежков.
— Какой раной? — переспросил Чикизнаке. — Не тому ли купцу, что живет на перекрестке?
— Да, да, ему, — подтвердил кавальеро.
— Дело обстоит следующим образом, — отвечал Чикизнаке. — Вчера вечером я поджидал купца у дверей его дома; он пришел еще до молитвы. Подхожу, прикинул глазом лицо, и оказалось, что оно очень маленькое; совершенно невозможно было уместить рану в четырнадцать стежков; и вот, будучи не в состоянии сдержать свое обещание и выполнить данную мне деструкцию, я…
— Ваша милость, вероятно, хотели сказать инструкцию, — поправил кавальеро.
— Совершенно верно, — согласился Чикизнаке. — Увидев, что на таком непоместительном и крошечном личике никак не уложить намеченное число стежков, не желая терять время даром, я нанес одному из слуг этого купца такую рану, что, по совести сказать, первый сорт!
— Семь стежков раны хозяина, — сказал кавальеро, — я всегда предпочту четырнадцатистежковой ране его слуги. Одним словом, вы не сделали того, что было нужно; впрочем, что тут разговаривать: не такой уж большой расход те тридцать эскудо, которые я вам дал в задаток. Имею честь кланяться, государи мои!
С этими словами кавальеро снял шляпу, повернулся и собрался было уходить, но Мониподьо захватил рукою его пестрый плащ и сказал:
— Не угодно ли будет вашей милости подождать и сдержать свое слово, так же как мы вполне честно и с большой для вас пользой сдержали наше. С вас следует еще двадцать дукатов, и вы не уйдете отсюда, не представив денег или соответствующего залога.
— Так это, по-вашему, сеньор, называется исполнением обещанного, — спросил кавальеро: — ранить слугу, вместо того чтобы ранить хозяина?!
— Нечего сказать, хорошо рассуждаете, сударь! — воскликнул Чикизнаке. — Видно, что вы забыли пословицу: «Кто Бельтрана любит, тот и Бельтранова пса приголубит».
— Но при чем тут эта пословица? — спросил кавальеро.
— Да ведь это почти то же самое, — пояснил Чикизнаке, — что сказать: «Кто Бельтрана не любит, тот и Бельтранова пса не приголубит». Так что, Бельтран — это купец; ваша милость — лицо, которое его не любит; слуга купца — это его пес, а когда попадает псу, попадает и Бельтрану; следовательно, обещание наше исполнено и дело кончено; поэтому вам не остается ничего другого, как немедленно и без всяких рассуждений платить.
— Что я и подтверждаю, — прибавил Мониподьо, — все, что вы сейчас сказали, друг Чикизнаке, вертелось у меня на языке. Сеньор кавальеро, нечего вам препираться с вашими слугами и друзьями, последуйте лучше моему совету и немедленно же оплатите работу; а если вам угодно, чтобы хозяину была нанесена другая рана, величиной своей соответствующая размерам его лица, так можете считать, что он уже от нее лечится!
— Если так, — ответил кавальеро, — то я с превеликой охотой и удовольствием уплачу вам за обе раны полностью.
— Сомневаться в этом деле так же странно, как сомневаться в том, что вы христианин, — сказал Мониподьо. — Чикизнаке пропишет вашему купцу такую рану, что чего доброго подумаешь, будто она у него природная.
— Имея такую поруку и обещание, — ответил кавальеро, — я оставлю вам эту цепь в виде залога за причитающиеся с меня двадцать дукатов и за те сорок монет, которые я предлагаю за новую рану. Цепь стоит тысячу реалов, но, возможно, что я ее вам отдам целиком; мне, пожалуй, очень скоро потребуется еще одна рана в четырнадцать стежков.
При этих словах кавальеро снял с шеи цепь из очень мелких колечек и вручил ее Мониподьо, который по цвету и по весу ясно увидел, что она не поддельная. Мониподьо принял цепь с большим удовольствием и большою любезностью, потому что был человеком весьма и весьма обходительным. Исполнение заказа было поручено Чикизнаке, который взялся покончить с делом в ту же самую ночь. Кавальеро ушел очень довольный, а Мониподьо тотчас же созвал отсутствующих и перетрусивших своих сочленов. Когда все собрались, Мониподьо, расставив их в кружок, вынул из капюшона плаща памятную книжку и передал ее Ринконете, так как сам был неграмотный. Ринконете открыл книжку и на первой странице прочитал следующее:
«Запись ран, подлежащих выполнению на этой неделе».
«Во-первых, купцу, живущему на перекрестке. Цена — пятьдесят эскудо. Тридцать получены сполна. Исполнитель — Чикизнаке».
— Мне кажется, сыне, что ран больше нет, — сказал Мониподьо, — читай дальше и ищи место, где написано: «Запись палочных ударов».
Ринконете перелистал книгу и увидел, что на следующей странице значилось: «Запись палочных ударов».
А несколько ниже стояло:
«Трактирщику с площади Альфальфы двенадцать основательных ударов, по эскудо за каждый. Восемь оплачены сполна. Срок исполнения — шесть дней. Исполнитель — Маниферро».
— Этот пункт можно свободно вычеркнуть, — сказал Маниферро, — потому что сегодня ночью я с ним покончу.
— Есть еще что-нибудь, сыне? — спросил Мониподьо.
— Да, — ответил Ринконете, — есть еще запись, гласящая: «Горбатому портному, по имени Сильгеро, шесть основательных ударов согласно просьбе дамы, оставившей в залог ожерелье. Исполнитель — Десмочадо».
— Удивляюсь, — заметил Мониподьо, — почему заказ до сих пор не выполнен. Десмочадо, должно быть, болен, так как прошло два дня сверх положенного срока, а он все еще не приступил к делу.
— Я вчера встретился с Десмочадо, который сказал, что не мог исполнить данного ему поручения, так как горбун по болезни не выходил из дому, — пояснил Маниферро.
— Охотно этому верю, — сказал Мониподьо, — так как считаю Десмочадо отличным работником, и, если бы не это вполне понятное затруднение, он прекрасно управился бы с самым трудным делом… Есть еще что-нибудь, мальчуган?
— Нет, сеньор, — ответил Ринконете.
— Тогда читай дальше, — сказал Мониподьо, — и посмотри, где находится «Запись мелких оскорблений».
Ринконете, полистав книжку, нашел на одной из страниц следующее:
«Запись мелких оскорблений, как-то: обливание из горшка, смазывание древесной смолой, прикрепление к воротам рогов или санбенито, осмеяние, пугание, подготовка скандалов, мнимые покушения, распространение пасквилей и т. п.»
— А что дальше? — спросил Мониподьо.
— Дальше написано, — прочел Ринконете: — «Вымазать смолой дом»…
— Какой дом, читать не надо; я отлично знаю, где этот дом, — ответил Мониподьо: — я же и исполнитель этой безделки, за которую внесен один эскудо, а всего за нее следует восемь.
— Правильно, — сказал Ринконете, — здесь так и написано; а еще ниже стоит: «Прибить рога»…
— Дома и адреса читать тоже не надо, — сказал Мониподьо, — достаточно того, что наносится оскорбление, а разглашать его публично не следует, иначе мы возьмем грех на свою душу. Я, во всяком случае, предпочту прибить сто рогов и столько же санбенито (конечно, получив за работу деньги), чем рассказать об этом один-единственный раз, хотя бы даже своей родной матери.
— Исполнителем назначен, — продолжал Ринконете, — Наригета.
— Дело это уже сделано, и деньги получены, — сказал Мониподьо. — Посмотри, нет ли еще чего; если я не ошибаюсь, там должен быть заказ «напугать», ценою в двадцать эскудо, — половина уплачена; в затее этой участвует все братство, времени дается весь этот месяц; поручение должно быть исполнено на славу и так, чтобы каждая запятая была на своем месте; это будет такая тонкая штука, каких наш город с самых давних пор и по сие время не видывал. Подай сюда книгу, мальчик; я знаю, что там ничего больше нет; знаю я также, что наши дела идут неважно, но недалек тот день, когда у нас работы будет больше, чем мы пожелаем; однако без соизволения божия даже лист не шелохнется на дереве, а потому нам самим никоим образом не следует подбивать людей на мщение, тем более что каждый человек в делах, касающихся его лично, обычно бывает храбр и не хочет платить за работу, которую он может сделать своими руками.
— Правильно, — заметил в ответ Реполидо. — Но скажите, сеньор Мониподьо, какой нам от вас будет приказ: солнце уже высоко, и жара, можно сказать, не шагом плетется.
— Остается распорядиться, — ответил Мониподьо, — чтобы все оставались на прежних местах и не покидали их до воскресенья, когда мы снова соберемся на этом месте и, никого не обижая, разделим все, что у нас наберется. Ринконете Примерному и Кортадильо мы назначим до воскресенья участок, начиная от Золотой Башни по всей заречной части, вплоть до калитки Алькасара, где они смогут заседать и «дергать картишками»; мне известно, что ребята, менее шустрые, чем они, с одной колодой, в которой не хватало к тому же четырех карт, ежедневно выручали свыше двадцати реалов мелочью, не считая серебра. Участок вам покажет Ганчосо, а если вы прихватите еще монастырь св. Себастьяна и храм св. Эльма, то и это ничего, хотя, собственно, никто не должен залезать в чужие владения.
Оба мальчика поцеловали начальнику руку за оказанную милость и обещали исполнять свою работу точно, честно, старательно и осторожно.
Между тем Мониподьо вынул из капюшона плаща сложенную бумагу, на которой были записаны все члены братства, и велел Ринконете внести туда свое имя вместе с именем своего товарища. Но так как чернильницы не оказалось, то Мониподьо отдал бумагу мальчику и велел ему в первой же аптеке вписать туда следующее: «Ринконете и Кортадильо, сочлены; послушничество — не нужно; Ринконете — картежник; Кортадильо — ученик», а затем поставить год, месяц, число, без указания родителей и родины.
Тут вошел один из двух старых «шмелей» и сказал:
— Я пришел сообщить, государи мои, что сегодня у соборной паперти я повстречал Ловильо де Малага, доложившего мне, что он сильно преуспел в своем искусстве и некраплеными картами сможет обыграть самого сатану; его, видимо, где-то помяли, вследствие чего он не явился нынче на поверку и отступил от заведенного порядка, но в воскресенье он явится сюда во что бы то ни стало.
— Мне всегда казалось, — заметил Мониподьо, — что наш Ловильо станет большим докой по своей части, так как у него такие подходящие руки, что лучше не сыщешь, а для того чтобы быть мастером своего дела, хорошие инструменты так же важны, как и природная смекалка, которая помогает усвоить самое искусство.
— В гостинице, что на улице Красильщиков, — прибавил старик, — я повстречал, кроме того, нашего Иудея, переодевшегося в духовное платье. Он поселился там после того, как его известили, что в доме проживают два перуанца, которых он решил втянуть в игру, сначала по маленькой, а потом, если можно будет, и по большой. Он сказал еще, что не пропустит воскресного собрания и представит отчет о работе.
— Этот Иудей — тоже тонкая штучка и крупного ума человек. Давненько он ко мне не показывался, и это с его стороны нехорошо. Если он не исправится, я, ей-ей, намылю ему тонзуру, ибо такой же у него священный сан, как и у турецкого султана, а в латыни он смыслит не больше моей родной матери… Есть еще что-нибудь новое?
— Нет, — ответил старик, — по крайней мере, мне ничего не известно.
— Ну, тогда в час добрый! — сказал Мониподьо. — Не угодно ли будет вашим милостям принять эти пустяки? — Тут Мониподьо разделил между присутствующими около сорока реалов. — А в воскресенье все должны быть налицо, потому что добыча поступит к нам полностью!
Все поблагодарили. Реполидо с Карьяртой, Эскаланта с Маниферро и Ганансьоса с Чикизнаке еще разок крепко обнялись и условились, что сегодня ночью, после окончания урочных работ, все сойдутся в доме Пипоты (куда для принятия бельевой корзины хотел сходить и Мониподьо), откуда они отправятся выполнять заказ, касавшийся смолы. Мониподьо обнял и благословил Ринкоиете и Кортадильо, строго-настрого наказав им при прощании во имя общего блага никогда не иметь определенного и постоянного логова. Ганчуэло отправился вместе с ними, чтобы показать отведенные им места, и посоветовал ни в коем случае не пропускать воскресенья, потому что, по его предположениям и домыслам, Мониподьо собирался в этот день прочесть основательную лекцию, касающуюся их ремесла. На этом он с ними простился, а оба приятеля остались в глубоком изумлении от всего ими виденного.
Несмотря на свои юные годы, Ринконете был очень неглуп и обладал некоторыми способностями; к тому же, помогая отцу продавать буллы, он несколько освоился с правильной речью, — вот почему наш юнец помирал со смеху, припоминая выражения, слышанные им в обществе Мониподьо и других сочленов богоспасаемого братства, особенно же такие, как: на души чистильщика, что значило на души чистилища, или отчисляем особую влепту из награбленного вместо лепту из награбленного ; очень насмешили его слова Карьярты, назвавшей Реполидо тарпейским нырком и оканьским (а не гирканским) тигром, равно как и тысячи других не менее забавных нелепостей. Чрезвычайно развеселила его ссылка на то, что «мучения, с которыми она заработала двадцать четыре реала, сам господь бог во искупление грехов его примет», причем он очень подивился уверенности и спокойствию, с которыми эти люди рассчитывали попасть в рай за соблюдение внешней набожности, невзирая на все свои бесчисленные грабежи, убийства и преступления против бога. Похохотал он также и над почтенной старушкой Пипотой, которая была способна укрыть у себя на дому корзину с краденым бельем, а потом ставить свечи перед иконами, в твердой уверенности, что за это она, можно сказать, обутою и одетою отправится на небо. Немало поразили его послушание и уважение, которым все окружали Мониподьо, человека грубого, невежественного и бессовестного. Задумался он также над записями в памятной книжке и над делами, которыми промышляли все эти лица, и под конец горько посетовал, что в таком знаменитом городе, как Севилья, совсем бездействует полиция, благодаря чему живет на виду у всех этот люд, столь опасный и пагубный для самого естества человеческого! Он решил даже посоветовать своему приятелю не предаваться особенно долго столь беспутной, порочной, беспокойной, развратной и разнузданной жизни. За всем тем, однако, Ринконете прожил так еще несколько месяцев, в течение которых с ним приключались события, требующие более подробного описания, а потому мы отложим до более удобного случая рассказ о жизни и чудесах Ринконете и учителя его Мониподьо, равно как и изложение деяний их гнусной общины, ибо все эти вещи достойны самого серьезного внимания и способны послужить назиданием и предостережением каждому, кто о них прочитает.
Английская испанка
Некто Клотальдо, английский кавальеро, начальник отряда кораблей, вместе с добычей, захваченной англичанами в городе Кадисе[68], увез в Лондон девочку лет семи. Случилось это против воли и без ведома графа Лейстера[69], который отдал приказ произвести самый тщательный розыск и возвратить девочку родителям, жаловавшимся ему на похищение своей дочери. Они указывали, что поскольку граф довольствуется одним лишь имуществом и дарует свободу людям, он не должен допустить, чтобы они, лишившись своего достояния, потеряли еще и дочь, свет их очей, прекраснейшее во всем городе создание. Граф опубликовал по всему флоту распоряжение, чтобы человек, завладевший девочкой, кто бы он ни был, возвратил ее под страхом смертной казни. Но ни угрозы, ни страх наказания не могли принудить к повиновению Клотальдо, укрывшего девочку на своем корабле: так привязался он (и в привязанности этой не было ничего недостойного) к несравненной красоте девочки, имя которой было Исабела. В конце концов безутешно опечаленные родители остались без дочери, а Клотальдо с безмерной радостью вернулся в Лондон и, как какое-нибудь богатейшее сокровище, отдал девочку своей жене.
По воле благой судьбы все домашние Клотальдо были тайными католиками, хотя и делали при людях вид, будто следуют исповеданию королевы. У Клотальдо был двенадцатилетний сын Рикаредо; родители научили его любить и бояться бога и быть непоколебимым в истинах католической веры. Супруга Клотальдо, Каталина, богобоязненная знатная и разумная сеньора, так полюбила Исабелу, что воспитывала, баловала и обучала ее как родную дочь; а девочка обладала столь хорошими природными способностями, что легко усваивала все, чему ее учили. С течением времени эти ласки заставили ее позабыть о благодеяниях, оказанных ей когда-то настоящими родителями, и тем не менее она не переставала часто с тоскою вспоминать о них. Усваивая английский язык, она не забывала и испанского, так как заботливый Клотальдо тайком приглашал к себе в дом испанцев для того, чтобы они с ней разговаривали: таким образом, она не забывала родного языка и вместе с тем говорила по-английски, словно уроженка Лондона. Обучившись всякого рода рукоделиям, которые может и даже обязана знать благородная девица, Исабела научилась также весьма прилично читать и писать. Особенно же поражала она своим даром играть на всех инструментах, на каких только полагается играть женщине, достигая в этой области высокой степени совершенства; к тому же небо одарило ее чудесным голосом, и она очаровывала людей, сопровождая свою музыку пением. Все эти качества, благоприобретенные и природные, мало-помалу зажгли сердце Рикаредо, которого Исабела любила и уважала как сына своего господина. Сначала любовь проявилась в том, что для Рикаредо сделалось отрадой и наслаждением смотреть на несравненную красоту Исабелы и созерцать все ее бесконечные добродетели и прелести; он любил ее как сестру, и желания его не преступали пределов, которые устанавливают честь и добрые нравы. Но по мере того, как Исабела росла (когда Рикаредо полюбил ее, ей уже было двенадцать лет), первоначальное расположение, отрада и удовольствие, которые Рикаредо испытывал от одного созерцания, превратились в пламенно-страстное желание обладать и наслаждаться любовью Исабелы. Достигнуть этого мечтал он не иначе как в браке, так как от несравненной добродетели Исабелы нельзя было ожидать чего-либо иного, да он и сам не допустил бы никакой вольности, потому что благородство его характера и уважение, с которым он относился к Исабеле, не позволяли дурным мыслям укореняться в его душе. Тысячи раз давал он себе слово рассказать о своем чувстве родителям и столько же раз осуждал свое намерение, зная, что они его прочат в мужья одной богатой и знатной девице из Шотландии, такой же, как и сами они, тайной католичке. Рикаредо казалось очевидным, что родители не пожелают уступить рабыне (если можно так назвать Исабелу) своего сына, которого они уже предназначили для знатной сеньоры. Волнуемый этими мыслями и сомнениями, Рикаредо не знал, какую избрать дорогу для осуществления своего благого намерения, и жизнь его стала столь тяжела, что она чуть было не покинула его вовсе. Но было бы чересчур малодушно умереть, не испробовав какого-либо средства против своего горя, а потому, укрепившись духом, он отважился открыть свои мысли Исабеле.
Все домашние были опечалены и смущены болезненным состоянием Рикаредо: его любили все, не говоря уже о родителях, обожавших его до крайности, так как у них не было другого сына; к тому же Рикаредо заслужил эту любовь своей высокой добродетелью, благородством характера и умом. Врачи не смогли определить болезнь Рикаредо, а сам он не смел и не хотел открыть им ее причину. Наконец он решил побороть созданные его воображением препятствия, и однажды, когда Исабела явилась ему услужить, он, оставшись с нею наедине, заговорил с ней упавшим и смущенным голосом:
— Прекрасная Исабела, в твоих достоинствах, в твоей возвышенной добродетели и великой красоте — причина того состояния, в котором ты меня видишь. Если ты не хочешь, чтобы я потерял жизнь в самых тяжких страданиях, какие только можно себе представить, ответь на мое чистое желание своим согласием; а желание мое — тайком от моих родителей избрать тебя моею супругой; иначе я боюсь, как бы они, не зная так хорошо, как я, твоих достоинств, не отказали нам в счастье, которое мне столь необходимо. Если ты дашь мне слово стать моей, то и я как истинный христианин-католик обещаю принадлежать тебе. Даже если мне и не суждено будет насладиться твоей любовью — а достигну я этого не иначе, как с благословения церкви и родителей, — все-таки мысль о том, что ты несомненно моя, вернет мне здоровье и будет поддерживать во мне веселость и радость впредь до наступления желанной счастливой минуты.
Пока Рикаредо говорил это, Исабела слушала его, опустив глаза, всем своим поведением показывая, что стыдливость ее равна ее красоте, а скромность — рассудительности. Заметив, что Рикаредо умолк, стыдливая, прекрасная и умная Исабела ответила ему следующим образом:
— Сеньор Рикаредо, с тех пор как небо, суровое или милостивое (сама не знаю, как его лучше назвать), пожелало разлучить меня с моими родителями и отдать вашим, я решила из благодарности за оказанные мне вашими родителями благодеяния никогда не перечить их воле. Поэтому ту неоценимую милость, которую вы мне без их согласия намерены оказать, я считаю не радостью, а несчастьем. Если же я буду столь счастлива, что они признают меня достойною вас, тогда пусть они объявят о своем позволении, и я отдам вам свою любовь. А если все это придется отложить или если это и вовсе не осуществится, тогда да послужит поддержкой вашей любви сознание, что я вечно и бескорыстно буду желать вам всех благ, уготованных вам провидением.
На этом окончилась скромная и разумная речь Исабелы, и с этой минуты началось выздоровление Рикаредо, а у родителей его снова появилась надежда, исчезнувшая было за время его болезни.
Рикаредо и Исабела учтиво расстались: он — с глазами, полными слез, а она — в восторге от того, в какой мере пылал к ней любовью Рикаредо. Поднявшись с постели (что показалось чудом его родителям), он не пожелал более таить своих мыслей и в один прекрасный день открылся во всем матери. Свою длинную речь он закончил словами (сказанными на случай, если его не захотят женить на Исабеле), что остаться без нее и умереть — для него одно и то же. Он с таким пылом превозносил добродетели Исабелы, что матери стало казаться, будто та, выходя замуж за ее сына, оказывается еще в проигрыше. Она уверила сына, что добьется от отца полного согласия на то, на что сама она уже согласилась. И действительно, повторив мужу те доводы, которые ей приводил сын, она легко расположила его в пользу замыслов Рикаредо и тут же изобрела разные предлоги для того, чтобы расстроить почти уже решенный брак его с шотландкой. В ту пору Исабеле было четырнадцать лет, а Рикаредо — двадцать; но, несмотря на свои юные и цветущие годы, они проявляли ум и твердое благоразумие, достойные вполне зрелых людей.
Четверо суток оставалось до наступления того дня, когда по воле родителей Рикаредо должен был склонить голову пред священными узами брака; родители считали, что они поступают разумно и правильно, избирая себе в дочери пленницу; они дороже ценили приданое, заключавшееся в добродетелях Исабелы, чем большие богатства, которые давались за шотландкой. Свадебные наряды были уже изготовлены, родные и друзья приглашены. Оставалось только известить королеву о сговоре, потому что без ее согласия нельзя заключать брак между людьми знатного рода. Но сомнения в ее согласии не было, а потому обращение к королеве с просьбой все откладывалось. И, вот, когда дело обстояло таким образом и до свадьбы оставалось четыре дня, однажды после полудня всю их радость омрачил гонец королевы, передавший Клотальдо распоряжение ее величества, чтобы на следующий день он ей представил свою пленницу, испанку из Кадиса. Клотальдо ответил, что с большой готовностью исполнит приказание ее величества. Гонец ушел, оставив всех в смущении, волнении и страхе.
— Горе нам, — говорила сеньора Каталина, — если королева узнает, что я воспитала нашу девочку в католической вере, и догадается, что все мы в этом доме католики. Ведь если королева ее спросит, чему она училась за восемь лет своего плена, то, несмотря на весь свой ум, она, бедненькая, не сможет ответить так, чтобы не вовлечь нас в беду.
Услышав эти слова, Исабела сказала:
— Сеньора Каталина, не мучайтесь этими страхами. Я уповаю на небо, — а оно, по божественному милосердию своему, внушит мне в ту минуту слова, которые не только не будут вам в осуждение, но, напротив, обратятся во благо.
Рикаредо трепетал, точно предчувствуя какое-то несчастье. Клотальдо изыскивал способы совладать со своим страхом и находил утешение только в великом уповании на бога и на благоразумие Исабелы. Он усиленно наказывал ей всеми мерами оберегать всех домашних от подозрения в том, что они католики: хотя душой они и были готовы принять мученичество, тем не менее немощная плоть восставала против столь горькой участи. Исабела неоднократно заверяла их, что она не навлечет на них тех бед, которых они так страшатся и опасаются: она, правда, не знает еще, как ей отвечать на вопросы, которые ей будут заданы, но все же она питает твердую Надежду, что ответы ее, как она уже говорила, явятся для них наилучшим отзывом. О многом переговорили они В эту ночь и, в частности, толковали о том, что если бы королева знала о тайне их исповедания, то не прислала бы им такого милостивого приказа; а из этого можно было заключить, что ей захотелось всего-навсего увидеть Исабелу, после того как слухи о несравненной красоте и достоинствах девушки стали известны ей наравне со всеми жителями города. При этом муж и жена винили себя в том, что не представили в свое время королеве юной пленницы, но тут же решили сослаться в виде оправдания на то, что немедленно по прибытии к ним в дом Исабелы они остановили на ней свой выбор и предназначили ее в супруги своему сыну Рикаредо. Но и тут они чуяли за собой вину, так как брак был задуман без согласия королевы; причем, это упущение не казалось им заслуживающим строгого наказания.
На этом они успокоились и порешили, что Исабелу не следует одевать скромно, как пленницу, а нужно одеть так, как подобает невесте знатного жениха, каким является их сын. Уговорившись на этом, они одели ее поутру на испанский лад — в светло-зеленое платье с шлейфом и с прорезами, в которые была вставлена дорогая парча; прорезы были вышиты узорами из жемчуга, а кроме того, все платье было тоже украшено драгоценнейшими жемчужинами; ожерелье и пояс были из бриллиантов; ей дали и веер, согласно моде, принятой у испанских дам. Головным убором Исабеле служили собственные волосы, пышные, белокурые и длинные; они были усеяны и оплетены бриллиантами и жемчугом. В этом богатом наряде, стройная и удивительно красивая, Исабела появилась в тот день в изящной карете на улицах Лондона. Своим видом она пленяла глаза и души всех, кто на нее смотрел. Вместе с ней ехали в карете Клотальдо, его жена и Рикаредо, а верхом их сопровождала целая толпа знатных родственников. Клотальдо решил оказать своей пленнице все эти почести для того, чтобы побудить королеву обращаться с ней как с невестой его сына.
И вот они прибыли во дворец и вошли в зал, где находилась королева. Исабела своим появлением произвела самое выгодное впечатление, какое только можно представить. Зал был очень больших размеров; спутники Исабелы подались на два шага назад, а она выступила вперед. Стоя поодаль одна, она казалась похожей на звезду или светлую дымку, движущуюся по небу в светлую и тихую ночь, а также на солнечный луч, прорывающийся с наступлением дня между двумя горами. Была она еще похожа на комету, предвещавшую близкий пожар многим среди присутствующих; недаром они загорелись любовью при виде прекрасных, как солнце, глаз Исабелы. А она, исполненная скромности и учтивости, опустилась на колени перед королевой и сказала по-английски:
— Ваше величество, позвольте поцеловать вашу руку рабыне, которая впредь будет считать себя сеньорой, ибо она удостоилась лицезрения вашего величия.
Королева, не произнося ни слова, очень долго смотрела на нее. Она говорила потом своей придворной даме, что ей показалось, будто перед нею стоит само звездное небо: звездами были у Исабелы бесчисленные бриллианты и жемчужины, солнцем — ее прекрасные глаза, луною — ее лицо, а вся она была невиданным чудом красоты. Находившиеся при королеве дамы охотно бы превратились целиком в зрение, чтобы ничто в Исабеле не ускользнуло от них. Одна хвалила в Исабеле живость глаз, другая — цвет лица, третья — изящество фигуры, четвертая — изысканность речи; нашлась и такая, которая сказала из зависти: «Хороша собой эта испанка, только не нравится мне ее платье».
Когда изумление королевы несколько улеглось, она велела Исабеле встать и сказала ей:
— Девушка, говорите со мной по-испански: я хорошо понимаю ваш язык; он доставит мне удовольствие. — И обратившись к Клотальдо, она прибавила: — Клотальдо, вы меня обидели, скрывая от меня столько лет это сокровище; впрочем, оно столь драгоценно, что, должно быть, пробудило в вас жадность. Вы обязаны вернуть его мне, так как по закону оно — мое.
— Сеньора, — ответил Клотальдо, — вы совершенно правы, и я готов признать себя виновным, если только можно усмотреть вину в том, что я хранил у себя это сокровище до тех пор, пока оно не достигло совершенства, достойного предстать перед лицом вашего величества; а сейчас мне хотелось бы еще больше увеличить ценность этого сокровища, испросив у вашего величества разрешения на брак Исабелы с сыном моим Рикаредо. В лице этих обоих молодых созданий я хочу предложить вам в дар все, что я могу дать.
— Даже имя ее мне нравится, — сказала королева. — Ей не хватает только титула «Исабела Испанская», для того чтобы ее совершенства не оставляли желать ничего большего. Но имейте в виду, Клотальдо: мне известно, что вы сосватали ее своему сыну без моего разрешения.
— Это правда, сеньора, — ответил Клотальдо, — Я поступил так в уверенности, что многочисленные и немаловажные услуги, оказанные вашему престолу мною и моими предками, дают мне право на получение больших милостей, чем подобного рода разрешение. К тому же сын мой еще не женился.
— Да он и не женится на Исабеле, — сказала королева, — пока сам ее не заслужит; вернее сказать, мне не хочется, чтобы он воспользовался для этого заслугами своего отца и предков. Пусть он сам послужит мне и окажется достойным такой награды, как эта девушка, на которую я смотрю как на свою родную дочь.
Едва услышав произнесенные ею слова, Исабела бросилась на колени перед королевой и воскликнула по-кастильски:
— Светлейшая сеньора, не несчастьем, а великою радостью следует считать всякое горе[70], если оно приносит нам такие дары! Вы назвали меня своей дочерью; раз я осчастливлена такой милостью, какого зла могу я бояться и на какое благо не посмею надеяться!
Она выражалась так изящно и приятно, что королеве это чрезвычайно понравилось, и она велела ей остаться жить при дворе; ознакомить Исабелу с придворными обычаями было поручено старшей придворной даме.
Рикаредо чуть было не лишился ума. Ему казалось, что, отнимая у него Исабелу, люди отнимают у него жизнь. Дрожа от волнения, он опустился перед королевой на колени и сказал:
— Для служения вашему величеству меня не надо соблазнять иными наградами, кроме тех, которые получали в свое время мои предки, служа своим королям; но если вашему величеству угодно, чтобы я служил вам в ожидании новых милостей, то позвольте мне узнать, каким образом и на каком поприще я могу выполнить возложенные на меня вашим величеством обязательства.
— Сейчас, — ответила королева, — готовятся к отплытию два корабля: их адмиралом я назначила барона де Лансак, а капитаном одного из них я делаю вас. Я уверена, что недостатки юного возраста вы восполните благородством своего происхождения. Цените милость, которую я вам оказываю: я даю вам возможность выказать на службе моему престолу свои дарования и доблесть и вместе с тем добиться самой высокой награды, какой вы сами можете себе пожелать. Я буду лично оберегать для вас Исабелу, хотя, впрочем, и так видно, что лучшей ее хранительницей будет ее собственная добродетель. Отправляйтесь с богом. Вы полны любовью, а потому, думается мне, я в праве ожидать от вас великих подвигов. Счастлив воюющий король, если в войске его находится десять тысяч влюбленных воинов, ожидающих в награду за победу обладания своими возлюбленными! Встаньте, Рикаредо, и подумайте, не нужно ли вам сказать чего-нибудь Исабеле, потому что завтра вам предстоит отправиться в путь.
Рикаредо поцеловал королеве руку, ибо высоко оценил оказанную ему милость, а затем бросился на колени перед Исабелой. Он не нашел в себе сил заговорить: что-то сжимало ему горло и связывало язык, и на глазах его выступили слезы, которые он старался скрыть как можно лучше, но они не утаились от взора королевы, и она сказала:
— Не стыдитесь плакать, Рикаредо, и не презирайте себя за то, что в несчастии вы обнаружили свое нежное сердце. Ведь сражаться с врагами — одно дело, а прощаться с тем, кого любишь, — другое. Исабела, обнимите Рикаредо и благословите его: его печаль вполне этого заслуживает.
Исабела растерянным и потрясенным взглядом смотрела на покорность и горе Рикаредо, которого она любила так, как жена любит своего мужа. Она не поняла смысла приказания королевы и стала проливать обильные слезы; недвижная, бездумная, ко всему бесчувственная, она имела вид плачущей статуи. При виде столь нежного и чувствительного прощания влюбленных многие из присутствующих прослезились. А Рикаредо все не мог говорить и не сказал Исабеле ни слова, которая тоже не произнесла ни звука. Клотальдо и его домашние поклонились королеве и вышли из залы в слезах, исполненные сострадания и сокрушения.
Исабела чувствовала себя точно сирота, только что похоронившая родителей, и очень боялась, что ее новая госпожа заставит ее изменить правилам, в которых ее воспитывала сеньора Каталина. И все же ей пришлось остаться.
Два дня спустя Рикаредо отправился в плавание. Две мысли особенно мучили его и не давали покоя: он думал, во-первых, о том, что ему надлежит совершить подвиги, достойные Исабелы, а во-вторых, ему приходило в голову, что при точном следовании голосу совести, запрещавшему обнажать меч против католиков, ему нельзя будет совершить ни единого подвига. Если же он не обнажит против них своего меча, то солдаты сочтут его либо католиком, либо трусом, а в результате ему будут грозить смерть и крушение всех надежд. В конце концов он решил подчинить свои католические убеждения чувству любви и молил в душе небо даровать ему случай заслужить Исабелу и удовлетворить королеву, соединив доблестные деяния с исполнением христианского долга.
Оба корабля плыли шесть дней с попутным ветром, держа курс на остров Терсейру, где всегда бывает много португальских кораблей, плывущих из Индии, или судов, возвращающихся из Америки. По истечении шести дней поднялся сильнейший ветер, который на Средиземном море называется полуденным; на океане его зовут иначе. Дул он с такой силой и продолжительностью, что не дал им возможности добраться до острова и заставил направиться к берегам Испании. У испанского побережья, возле Гибралтарского пролива, они заметили на горизонте три корабля: один из них был весьма внушительных размеров, остальные — поменьше. Чтобы узнать от адмирала, намерен ли тот напасть на появившуюся флотилию, корабль Рикаредо стал приближаться к адмиральскому судну; но не успел он еще подойти, как вдруг на адмиральской формачте взвился черный флаг, а на более близком расстоянии стали слышны глухие звуки труб и кларнетов. Это был верный знак, что на корабле умер адмирал или какое-то важное лицо. Встревоженные этим, моряки приблизились к кораблю на расстояние человеческого голоса (с момента отплытия из гавани они еще ни разу не переговаривались. С адмиральского судна послышались голоса, сообщившие капиталу Рикаредо, что он должен перейти к ним, потому что в минувшую ночь адмирал скончался от удара. Все опечалились, а обрадовался один только Рикаредо: обрадовался он, конечно, не смерти начальника, а тому, что получил возможность командовать обоими кораблями. Дело в том, что, по приказу королевы, замещать адмирала в случае его смерти должен был Рикаредо. Он тотчас же перешел на адмиральский корабль и увидел, что одни плакали по умершему, другие радовались новому адмиралу. И те и другие признали власть Рикаредо и с соблюдением краткой церемонии провозгласили его адмиралом: на большее у них не хватило бы времени, потому что два корабля замеченной ими флотилии отделились от большого судна и стали к ним подплывать.
Теперь по полумесяцам на флагах они рассмотрели, что это были турецкие галеры. Рикаредо обрадовался: выходило так, что если небо позволит ему овладеть ими, в его руках окажется внушительная добыча и при этом не будет нанесено ущерба ни одному католику. Турецкие галеры подъезжали, чтобы выяснить, какие это корабли, — а суда шли не под английским, а под испанским флагом, для того чтобы вводить в заблуждение встречных и не походить на корсарские. Турки полагали, что пред ними корабли, едущие из Америки, и что поэтому их легко будет взять в плен. Они стали медленно подходить. Рикаредо нарочно подпустил их под обстрел своей артиллерии. Он так удачно открыл огонь, что пять снарядов с страшною силою попали в середину одной из галер, и она, накренившись, стала идти ко дну; ей уже нельзя было помочь. Увидев такое несчастье, вторая галера поспешила подать первой канат и поставила ее под прикрытие большого судна. Но корабли Рикаредо действовали быстро и ловко, точно у них были весла; он опять приказал зарядить пушки и, пока турки подъезжали к большому судну, преследовал их градом снарядов. Когда пробитая галера подошла к большому кораблю, экипаж покинул ее, пытаясь поскорей перебраться на большое судно. Увидев, что уцелевшая галера подает помощь пострадавшей, Рикаредо бросился на нее с своими двумя кораблями и поставил в безвыходное положение, лишив возможности маневрировать и работать веслами. Экипажу ее пришлось тоже искать убежища на большом корабле, но не для того, чтобы продолжать сопротивление, а единственно в целях спасения собственной жизни. Находившиеся на галерах христиане сорвали с себя оковы и цепи и, смешавшись с турками, точно так же стали перебираться на большой корабль; в то время как спасавшиеся поднимались на борт, аркебузы английских кораблей стреляли по ним как в цель, но намечали себе исключительно турок, так как Рикаредо отдал приказ никоим образом не стрелять в христиан.
Таким образом большинство турок было перебито; тех из них, которые успели попасть на большое судно и оказались в общей толпе, христиане перебили их же собственным оружием: ибо всякий раз, когда сильные падают, сила их переходит к слабым, если эти последние восстают; так и христиане, воодушевленные ошибочной мыслью, будто английские корабли — испанские, творили теперь чудеса в борьбе за свою свободу. Наконец, когда почти все турки были убиты, несколько испанцев подошли к борту корабля и стали громко окликать англичан, принимая их за своих и приглашая воспользоваться трофеями победы. Рикаредо по-испански спросил, что это за корабль; ему ответили, что он плывет из португальской Индии с грузом пряностей и большим количеством жемчуга и бриллиантов, ценностью больше чем в миллион золотом. Буря загнала его в эту сторону, причинив ему много вреда и лишив артиллерии, которую больной и изнемогавший от голода и жажды экипаж принужден был сбросить в море; что до галер, то они — собственность корсара, арнаута Мами, который без всякого сопротивления и только накануне захватил корабль в плен. Путники слыхали, что корсары не были в состоянии перенести все богатства на свои суда, и потому вели португальский корабль на буксире к находящейся поблизости реке Лараче[71]. Рикаредо заметил, что они ошибочно принимают его корабли за испанские, так как они посланы ее величеством королевой английской. Услыхав эту новость, испанцы испугались, что из одной беды они теперь попали в другую; но Рикаредо заверил их, что бояться нечего и что они могут спокойно рассчитывать на свободу, если только не вздумают сопротивляться.
— У нас нет возможности защищаться, — ответили испанцы: — мы уже указывали, что на корабле нет ни артиллерии, ни оружия, а поэтому приходится искать спасения в благородстве и великодушии вашего адмирала. И поистине, тот, кто освободил нас от жестокого турецкого плена, должен довести до конца свое великое благодеяние, тем более что это прославит его имя везде, куда только дойдет весть о его достопамятной победе и великодушии, на которое мы без страха рассчитываем.
Речь испанца понравилась Рикаредо. Созвав на совещание офицеров своего корабля, он спросил у них совета, как отправить всех христиан в Испанию, не подвергая себя опасности бунта, что легко могло прийти в голову пленникам ввиду их многочисленности. Было высказано мнение, что испанцев следовало бы поодиночке перевозить на английский корабль, и по мере того как они будут прибывать, казнить их на нижней палубе; после того как все будут перебиты, можно будет без всяких опасений и хлопот угнать большой корабль в Лондон. На это Рикаредо ответил:
— Так как бог даровал нам великую милость и послал нам богатую добычу, я не хотел бы выказать себя жестоким и неблагодарным; да и не следует прибегать к мечу в тех случаях, когда можно поступать разумно. Я того мнения, что ни один из этих католиков, не должен умереть, и не потому, чтобы я их любил, а потому, что я себя люблю и не хочу, чтобы сегодняшний подвиг закрепил за мною и моими соратниками прозвище людей храбрых, но жестокосердых: жестокость не может быть спутницей доблести. Итак, все артиллерийские орудия с одного из наших кораблей придется перенести на большое португальское судно, а на малом корабле мы не оставим ни оружия, да и вообще ничего, кроме припасов. Переправив матросов на большой корабль, мы поведем его в Англию, а на маленьком испанцы отправятся к себе, в Испанию.
Никто не посмел возражать Рикаредо. Одни сочли его за это решение человеком разумным, доблестным и великодушным; другие же подумали про себя, что он слишком благоволит к католикам. Порешив на этом, Рикаредо отправился с пятьюдесятью стрелками на португальское судно; осторожно, с зажженными фитилями в руках вошли они на корабль и нашли там триста человек спасшихся с галер. Рикаредо потребовал корабельные бумаги. Тот самый испанец, который вначале говорил с Рикаредо с борта корабля, ответил, что бумаги эти взяты начальником корсаров, утонувшим вместе с галерой. Рикаредо тотчас же занялся перегрузкой: англичане подвели свой второй корабль к большому судну и с поразительной быстротой, пользуясь сильными рычагами, перенесли орудия малого корабля на большой. Тогда Рикаредо обратился с краткой речью к христианам и приказал им перейти на опустевшее судно, где они нашли такое изобилие съестных припасов, что даже большему числу людей хватило бы более чем на месяц. Когда испанцы грузились на корабль, Рикаредо подарил каждому по четыре золотых испанских эскудо (деньги велел он привезти со своего корабля), чтобы хоть чем-нибудь помочь им в нужде, когда они высадятся на берег, — а земля была так близко, что с палубы видны были высокие горы Авилы и Кальпе.
Все без конца благодарили Рикаредо за его великодушие, а последний высадившийся с корабля, тот самый испанец, что говорил от лица всех остальных, сказал:
— Доблестный кавальере, вместо того, чтобы ехать в Испанию, я почел бы для себя за великое счастье отправиться вместе с вами в Англию. Хотя Испания — моя родина, и прошло всего шесть дней, как я ее покинул, меня ждут там одни горести и одиночество. Дело в том, что пятнадцать лет тому назад, во время разграбления Кадиса, я потерял дочь: англичане, должно быть, увезли ее в Англию; в ней я утратил и утешение в старости и свет очей моих: ничто уж меня не радует с тех пор, как я не вижу своего дитяти. Потеря дочери, а равно и имущества, повергла меня в столь глубокое отчаяние, что я не захотел, да и не был бы больше в состоянии заниматься торговлей, благодаря которой я достиг было такого положения, что меня считали богатейшим купцом нашего города; так оно, конечно, и было, потому что, помимо кредита на сотни тысяч дукатов, одного имущества в моем доме было свыше чем на пятьдесят тысяч дукатов. Все это я потерял; но ничто еще не было бы потеряно, если бы не потерялась моя дочь. После того как разразилось над нами это неустранимое и, в частности, так сильно задевшее меня несчастье, я не нашел в себе сил бороться с нуждой и вместе с женой (вот этой самой опечаленной женщиной, сидящей сейчас в стороне) решил уехать в Америку, убежище всех обедневших благородных людей. Вот уже шесть дней, как мы сели на корабль; сейчас же по отплытии из Кадиса нам повстречались две корсарские галеры, которые нас взяли в плен, что еще больше усугубило наши несчастья, и горькая судьба наша стала бы еще хуже, если бы корсары не захватили португальского корабля, который всецело занимал их внимание до той минуты, когда произошло то, что вы сами знаете.
Рикаредо спросил испанца, как зовут его дочь; тот назвал имя Исабелы. Это окончательно утвердило Рикаредо в возникшем у него предположении, что рассказчик — не кто иной, как отец его возлюбленной. Не сообщая ему о ней ни слова, он ответил, что охотно возьмет их обоих в Лондон, где они, надо думать, получат необходимые сведения о дочери. Он отправил их на адмиральское судно и вместе с этим отдал приказ оставить достаточное число матросов и солдат на португальском корабле. В ту же ночь они подняли паруса и поспешили отъехать от берегов Испании. Кстати, среди освобожденных пленников на корабле оказалось около двадцати турок, которым Рикаредо даровал свободу, желая показать, что его великодушный поступок вызван одной добротой и благородством, а не особым пристрастием к католикам; он попросил испанцев при первой возможности отпустить турок на свободу, за что последние были ему очень благодарны.
Ветер, вначале обещавший быть устойчивым и попутным, стал понемногу затихать, и затишье это вызвало целую бурю страхов среди англичан, осуждавших Рикаредо за его великодушие и предсказывавших, что освобожденные им пленники расскажут в Испании о приключении, и если в порту случайно окажутся военные корабли, то возможно, что они отправятся в погоню, настигнут их и погубят. Рикаредо хорошо понимал, что это правда, но он все-таки сумел успокоить и убедить их разумными доводами; окончательно же успокоились они тогда, когда ветер так посвежел, что, не имея нужды убавлять и приноровлять паруса, они через десять дней оказались уже в виду Лондона. День их победоносного возвращения был тридцатым со времени отплытия.
Вследствие смерти адмирала Рикаредо не пожелал входить в порт с излишним ликованием и поэтому велел соединить радостные сигналы с печальными. Попеременно раздавались веселые звуки кларнетов и хриплые завывания труб; бодрое трещание барабанов, удалые военные сигналы сменялись жалостными и грустными звуками флейт: на одной мачте висел перевернутый флаг, усеянный полумесяцами, а на другой — виднелось длинное черное знамя, концы которого касались воды. Сопутствуемый такими противоречивыми сигналами, Рикаредо въехал с своим кораблем в реку города Лондона; но для большого корабля русло реки оказалось недостаточно глубоким, и он остался в море.
Глядевшие с набережной бесчисленные толпы народа были смущены такими не согласующимися друг с другом сигналами. По некоторым признакам они догадались, что малое судно — адмиральский корабль барона де Лансак, но не могли понять, каким образом вместо второго корабля появилось оставшееся на море огромное судно. Их сомнениям положен был конец, когда с корабля сошел в лодку доблестный Рикаредо в богатом и блестящем вооружении; не имея при себе другой свиты, кроме следовавших за ним толп народа, он пешком направился во дворец, где королева уже поджидала в одной из галерей известий о кораблях; вместе с другими дамами при королеве находилась и Исабела, одетая по английской моде, которая была ей к лицу не меньше, чем кастильская. Еще до появления Рикаредо вошел вестник, доложивший королеве о его прибытии. Услыхав имя возлюбленного, Исабела переполошилась, одновременно страшась и надеясь, ожидая сразу и дурного и хорошего от его возвращения.
Рикаредо был высокого роста, красив собою и хорошо сложен, а так как он вошел в золоченых, крашенных фацетами и резьбой миланских латах, покрывавших его грудь, спину, бедра и руки, то всем зрителям он показался необычайно прекрасным. Вместо шлема на голове у него была большая желтая шляпа с широкими полями, отделанная по валлонской моде множеством перьев. Он был в швейцарских шароварах и при широкой сабле на богатой перевязи. В этом наряде смелой походкой прошел он в зал; одни сравнивали его с богом войны Марсом, другие, пленившись красотой его лица, говорили, что он похож на переодевшуюся — ради какой-нибудь шутки над Марсом — Венеру.
Остановившись перед королевой, Рикаредо опустился на колени и сказал:
— Ваше величество! После того как адмирал де Лансак умер от удара, я, согласно вашему милостивому разрешению, занял его место. Волею благосклонного к вам рока и во исполнение моего желания, мне повстречались две турецкие галеры, которые вели на буксире прибывшее теперь сюда большое судно. Я напал на них. Ваши солдаты сражались как всегда, и корсарские корабли потонули. На одном из наших кораблей я отпустил спасшихся из турецкого плена христиан: я даровал им свободу от имени вашего королевского величества. Взял я с собой лишь одного мужчину и одну женщину, испанцев, которые сами изъявили желание увидеть ваше величие. Захваченный мною корабль — один из тех, которые поддерживают сообщение с португальской Индией; он попался во время бури туркам, которые без особого или, вернее, без всякого труда завладели им. Как говорили некоторые плывшие на этом корабле португальцы, на нем более чем на миллион пряностей, бриллиантов и жемчуга. Я не дотронулся до этого богатства, да и турки до него не добрались; оно целиком предназначено небом вашему величеству, и я приказал хранить его для вас. Если я получу одну только драгоценность, то мне придется отплатить вам еще десятком таких же кораблей. Эта обещанная мне вашим величеством драгоценность — моя милая Исабела. Какою бы ни была оказанная мною вашему величеству услуга, обладание Исабелой меня щедро вознаградит за нее, впрочем не только за нее, но и за все, что я когда-либо еще совершу, дабы хоть чем-нибудь отплатить вашему величеству за бесконечное благо, которое вы мне даруете, жалуя мне это сокровище.
— Встаньте, Рикаредо, — сказала в ответ королева. — Если вы в виде награды просите отдать вам Исабелу, то знайте, что я ее очень высоко ценю, и ни богатствами, которые везет наш корабль, ни всеми сокровищами, еще остающимися в Индии, вы не могли бы заплатить за нее. Я даю вам ее потому, что обещала, и потому еще, что вы достойны друг друга. Вы заслужили ее исключительно своей доблестью. Если вы сохранили для меня драгоценности, бывшие на корабле, то и я сберегла для вас вашу драгоценность. Вам, пожалуй, покажется, что не великое дело — возвратить то, что уже и так ваше; но, по-моему, я оказываю вам этим великую милость. Ведь собственной своею душой платят за сокровище, если оно соответствует нашим желаниям и если цену ему назначило наше сердце: другой платы не найти на всем свете. Вот перед вами Исабела; она ваша, и когда вы только пожелаете, вы можете вступить в полное обладание ею. Я уверена, что это будет для нее радостью: она ведь умна и сумеет оценить оказываемое ей вами расположение; я говорю — расположение, а не милость, так как сама хочу гордиться тем, что милости ей оказываю я одна… Идите отдохнуть, Рикаредо, и приходите ко мне завтра: я хочу подробнее выслушать рассказ о ваших подвигах. И приведите ко мне тех двух путников, которые, как вы говорите, сами пожелали увидеть меня: я хочу их за это поблагодарить.
Рикаредо поцеловал королеве руку в благодарность за ее великую милость. Королева удалилась в одну из зал, а Рикаредо окружили ее дамы. Одна из них, сеньора Танси, которую считали самой умной, живой и изящной среди придворных дам и которая очень подружилась с Исабелой, сказала ему:
— К чему все это, сеньор Рикаредо? К чему все это оружие? Не думали ли вы, чего доброго, отправляясь сюда, что идете сражаться с врагами? Ведь все мы здесь, поверьте, ваши друзья, кроме одной только Исабелы: ей как испанке приходится вас ненавидеть.
— Сеньора Танси, — ответил Рикаредо, — пусть она постарается хоть чуточку полюбить меня; я уверен, что она легко это сделает, если только еще помнит обо мне; к тому же чудовищная бесчувственность как-то не вяжется с такой редкой красотой, с такими достоинствами и умом.
Исабела сказала на это Рикаредо:
— Поскольку мне суждено быть вашей, Рикаредо, вы имеете право требовать от меня самой высокой награды в благодарность за высказанные мне похвалы и за ту честь, которую вы намерены мне оказать.
Так учтиво протекала беседа Рикаредо с Исабелой и другими дамами. Среди них находилась совсем маленькая девочка, не сводившая глаз с Рикаредо все время, пока он там был. Она приподнимала его латы, чтобы посмотреть, что под ними находится, трогала его шпагу, и, наконец, с наивностью ребенка обращалась с его доспехами как с зеркалом, стараясь разглядеть в них свое лицо; когда же Рикаредо ушел, она воскликнула, обращаясь к дамам:
— Война кажется мне теперь восхитительной, сеньоры! Ведь даже в обществе дам вооруженные мужчины имеют очень красивый вид.
А Танси прибавила:
— Еще бы, еще бы! Стоит только посмотреть на Рикаредо! Ведь вид у него такой, как будто он солнце, спустившееся на землю и шествующее в наряде по улицам.
Всех дам рассмешили слова девочки и потешное сравнение Танси, но тут же отыскались и завистники, которые сочли бестактностью со стороны Рикаредо явиться во дворец в латах; впрочем, другие находили для него извинение и говорили, что ему как человеку военному хотелось блеснуть своим мужественным видом.
С радостью и любовью встретили Рикаредо его родители, друзья, родные и знакомые. Вечером по случаю военных удач Рикаредо в Лондоне было устроено народное празднество. Родители Исабелы находились уже в доме Клотальдо; Рикаредо открыл отцу, кто они такие, но просил его ни слова не говорить про Исабелу до тех пор, пока он сам этого не сделает. Просьбу эту он повторил своей матери, Каталине, и всем слугам и служанкам дома. В тот же вечер стали разгружать большой корабль с помощью флотилии баркасов, шлюпок и лодок в присутствии толпы глазеющих людей. Более восьми дней разгружали находившиеся в трюме корабля пряности и другие дорогие товары.
На следующий день Рикаредо отправился во дворец и взял с собою отца и мать Исабелы, нарядив их в новое английское платье и сказав, что королева хочет их видеть. Они прибыли вместе в зал, где королева в обществе своих дам ожидала прихода Рикаредо. Желая выказать Рикаредо свою милость и внимание, она велела поместить возле себя Исабелу, одетую в то самое платье, в котором она появилась здесь в первый раз, причем и сейчас казалась она не менее прекрасной, чем тогда. Родители Исабелы были изумлены и восхищены при виде такой роскоши и такого великолепия. Они остановили было глаза на Исабеле, но не узнали ее, и однако сердце-вещун, чуявшее близкое счастье, стало прыгать у них в груди и не грустно, а скорее радостно, хотя они и не могли понять, отчего.
Королева не позволила Рикаредо стоять на коленях, а велела ему встать и усадила на поставленный около нее табурет. Это была необычайная милость со стороны королевы, отличавшейся высокомерием. Придворные говорили: «Нынешнее почетное положение Рикаредо объясняется не столько табуретом, сколько привезенным им перцем». Другие прибавляли: «Вот уж действительно подтвердилась поговорка, что перед подарками и камень не устоит: разве Рикаредо не смягчил доставленными богатствами суровое сердце нашей королевы?» Иные замечали: «Да, теперь он крепко сидит в седле, и многим, пожалуй, захочется выбить его оттуда».
Таким-то образом необычная почесть, оказанная королевой Рикаредо, явилась причиной того, что у многих из присутствующих в душе зародилась зависть. Всякая милость повелителя по отношению к своему любимцу пронзает словно копьем сердце завистника.
Королева пожелала подробно узнать от Рикаредо о сражении его с корсарскими кораблями, и он повторил свой рассказ, приписывая заслуги победы богу и доблести своих солдат. Он восхвалял их всех, но подробнее останавливался на подвигах тех, которые особенно выделились. Этим он побудил королеву наградить всех вообще, а некоторых пожаловать большою милостью. Когда он стал рассказывать, как именем ее величества им была дарована свобода туркам и христианам, то прибавил, указывая на родителей Исабелы:
— Находящиеся тут мужчина и женщина, как я вчера докладывал, пожелали видеть ваше величество и горячо просили меня взять их с собой. Они из Кадиса, судя по тому, что они мне сказали; люди именитые и достойные, что, впрочем, и я сам увидел и отметил.
Королева велела им подойти поближе, а Исабела подняла глаза, чтобы взглянуть на людей, называвших себя испанцами, да еще из Кадиса; а что, если они случайно знают ее родителей? В ту же минуту взглянула на нее ее мать и стала внимательно ее рассматривать. Между тем в памяти Исабелы начали оживать смутные образы, подсказывавшие ей, что она когда-то видела стоящую перед ней женщину. В таком же волнении находился и ее отец, не смея верить открывшейся его глазам истине. Рикаредо тщательно следил за тревожным поведением этих трех людей, души которых в сомнении и нерешительности колебались между «да» и «нет». Королева тоже обратила внимание на волнение обоих испанцев и на беспокойство Исабелы: она заметила, что на лице последней показалась испарина и что она то и дело поднимала руку и оправляла волосы.
Исабеле хотелось, чтобы женщина, казавшаяся ей матерью, заговорила и чтобы слух вывел ее таким образом из заблуждения, в которое вводило ее зрение. Но королева велела ей самой спросить испанца и испанку на их родном языке, почему они не захотели воспользоваться предоставленной им Рикаредо свободой: ведь свободу ценят превыше всего не одни одаренные разумом люди, но и лишенные разума звери. Исабела обратилась с этим вопросом к своей матери, но та, не отвечая ни слова, не обращая ни на что внимания, чуть-чуть не споткнувшись, бросилась к Исабеле и, не смущаясь придворными правилами, приличиями и этикетом, поднесла руку к ее правому уху и увидела там темное родимое пятнышко, окончательно подтвердившее ее предположение. Убедившись воочию, что Исабела — ее дочь, она громко воскликнула: «О дитя моего сердца! Сокровище души моей!» — и, не будучи в состоянии сделать шага, в обмороке упала на руки Исабелы. Отец ее столь же нежно, как и сдержанно, выразил свои чувства не словами, ко слезами, обильно оросившими его почтенное лицо и бороду. Исабела припала к своей матери и в то же время смотрела на отца, глазами давая ему понять испытываемые ею радость и удовольствие. Удивленная этой сценой, королева сказала Рикаредо:
— Я, думаю, что встреча эта произошла с вашего ведома; надо сознаться, вас озарила не очень счастливая мысль: все мы знаем, что внезапная радость может так же убить человека, как и внезапное горе.
С этими словами она повернулась к Исабеле и отстранила ее от матери. Эту последнюю привели в чувство, брызнув ей в лицо водой, и тогда, немного придя в себя, она бросилась на колени перед королевой:
— Ваше величество! Простите мне мою забывчивость; ко вполне естественно все же упасть от радости в обморок, когда неожиданно находишь свое любимое дитя!
— Вы правы, — ответила ей королева с помощью переводившей ее слова Исабелы.
Именно так, как мы это сейчас рассказали, Исабела узнала своих родителей, а родители узнали ее. Королева приказала им остаться во дворце, для того чтобы они могли вдоволь наговориться с Исабелой, наглядеться на нее и натешиться. Рикаредо это очень порадовало, и он опять стал просить королеву исполнить свое обещание и отдать ему Исабелу, если он ее заслужил, а если нет, то пусть его сейчас же отправят на новые подвиги, которые сделают его достойным цели своих желаний.
Королева хорошо понимала, что Рикаредо выказал с лучшей стороны и себя и свою доблесть и что нет больше нужды в испытаниях его достоинства, а потому она дала слово Рикаредо через четыре дня с величайшим почетом вручить ему его невесту. Рикаредо удалился в радостной надежде, что в скором времени будет обладать Исабелой, не мучаясь страхом потерять ее: в этом ведь и состоит высшее желание влюбленных.
Время шло, но совсем не так быстро, как хотелось бы Рикаредо. Людям, живущим надеждой на исполнение обещанного, всегда кажется, что время не летит, а еле-еле ползет вперед самым ленивым шагом. Но вот наступил тот день, в который Рикаредо мечтал наряду с сохранением всех своих прежних упований открыть в Исабеле еще новые прелести и под их обаянием полюбить ее, если можно, еще сильнее. Однако в этот краткий промежуток времени, когда он думал, что корабль его счастья мчится с попутным ветром в желанную гавань, вдруг по воле враждебного рока на море его судьбы поднялась такая жестокая буря, что он тысячу раз в ужасе ожидал смерти.
Дело в том, что у старшей придворной дамы королевы, на попечении которой находилась Исабела, был двадцатидвухлетний сын, граф Арнесто. Высота занимаемого положения, знатность рода, благосклонное отношение королевы к его матери — все это делало его непомерно гордым, заносчивым и самоуверенным. Этот Арнесто воспылал горячей любовью к Исабеле, и от блеска ее глаз зажглась у него душа. Хотя он в отсутствие Рикаредо сумел случайными намеками открыть ей свою страсть, она все время уклонялась от его признаний. Когда на первые попытки к сближению отвечают холодно и недоброжелательно, влюбленные обыкновенно отказываются от своих притязаний; но совсем обратное действие возымели многократные и ясные знаки пренебрежения, которые выказала Арнесто Исабела, ибо верность ее его разжигала, а от целомудрия ее он загорался пламенем. Заключив на основании отзыва королевы, что Рикаредо уже заслужил Исабелу и что вскоре она будет выдана за него замуж, он решил было наложить на себя руки. Но прежде чем прибегнуть к столь бесславному и позорному выходу, он обратился к матери и велел ей просить для него у королевы руки Исабелы; в противном случае он грозил ей наложить на себя руки. Мать была ошеломлена речью сына: зная его суровый и запальчивый характер, зная упорство, с которым страсти укоренялись в его душе, она испугалась, что любовь эта кончится каким-нибудь несчастьем. Тем не менее она пообещала Арнесто переговорить с королевой: ведь матери свойственно желать счастья своим детям и устраивать его осуществление. Она не надеялась на невозможное и не собиралась вырвать у королевы отказ от данного ею слова, но хотела, как это делается в опасных случаях, испробовать последнее средство.
В то утро по приказанию королевы Исабела была так богато одета, что никакое перо не дерзнуло бы ее описать. Королева собственноручно надела ей на шею ожерелье из лучших жемчужин, находившихся на корабле, — оно было оценено в двадцать тысяч дукатов; руку Исабелы она украсила кольцом с бриллиантом стоимостью в шесть тысяч дукатов.
Дамы заранее волновались в ожидании празднества по случаю столь близкой свадьбы. Вдруг к королеве вошла старшая дама и на коленях стала умолять ее отложить бракосочетание еще на два дня: если ее величество окажет ей одну эту милость, то она будет считать, что получила уже от королевы все награды, которых она была бы вправе ожидать за свою службу.
Королева пожелала было узнать причину, по которой ее с таким жаром просят отложить брак и поступить наперекор данному ею обещанию. Но старшая дама отказалась представить свои объяснения до тех пор, пока ей не было наконец обещано исполнение просьбы; видно, королеве очень уж не терпелось узнать, в чем дело. Добившись своего, старшая дама рассказала ее величеству про любовь своего сына и про свои опасения, что он наложит на себя руки или решится на какое-нибудь безумство, если его не женят на Исабеле. О двух днях отсрочки просила она для того, чтобы дать ее величеству время обдумать удобное и подходящее средство для успокоения Арнесто. Королева ответила, что она могла бы найти выход из этого запутанного лабиринта, если бы тут не было замешано ее королевское слово; но ни за что на свете не согласится она нарушить его и обмануть надежды Рикаредо.
Старшая дама передала этот ответ сыну, а тот ни минуты не медля, охваченный горячкой ревнивой любви, надел на себя полное вооружение и верхом на сильной и красивой лошади отправился к дому Клотальдо. Громким голосом кликнул он Рикаредо, приглашая его выглянуть в окно; в эту минуту Рикаредо, одетый в нарядный костюм, готовился идти во дворец в сопровождении необходимой для брачной церемонии свиты. Услышав зов и выяснив, кто его зовет и с какими намерениями, Рикаредо в волнении подошел к окну. Когда Арнесто увидел его, то воскликнул:
— Рикаредо! Выслушай внимательно, что я тебе скажу. Моя повелительница и королева отправила тебя служить ей и совершить деяния, которые сделали бы тебя достойным несравненной Исабелы. Ты пошел и вернулся с кораблями, нагруженными золотом; золотом этим, по твоему мнению, ты купил и заслужил Исабелу. Королева, государыня наша, пообещала ее тебе, очевидно, предполагая, что при дворе не найдется никого, кто бы мог послужить ей лучше тебя и кто имел бы больше прав на Исабелу; в этом, она, пожалуй, ошиблась. Я утверждаю, что ты не совершил ни одного подвига, достойного Исабелы, да и никогда не совершишь ничего, что смогло бы удостоить тебя такого счастья. Если тебе не угодно согласиться с тем, что ты недостоин Исабелы, я вызываю тебя на смертный поединок.
Тут граф замолчал, а Рикаредо сказал ему следующее:
— Не мое дело отвечать на ваш вызов, граф, так как, по моему скромному мнению, не только я, но и ни один человек на свете недостоин Исабелы; и так как я признаю истинность ваших слов, то, повторяю вам, вызов ваш меня не касается. И тем не менее я принимаю его ввиду дерзости, с которой он был сделан.
После этого он отошел от окна и поспешно потребовал свое оружие. Родители Рикаредо и все гости, собравшиеся провожать его во дворец, встревожились. В огромной толпе зрителей, видевших вооруженного Арнесто и слышавших его громкий вызов, нашлись люди, отправившиеся доложить обо всем королеве, которая тут же велела капитану гвардии пойти и арестовать графа. Капитан поспешил исполнить приказание и успел явиться в ту самую минуту, когда Рикаредо, в том самом вооружении, в котором он высадился на берег, верхом на прекрасной лошади выезжал из дому. Увидев капитана гвардии, граф сразу догадался о цели его прибытия и решил было не сдаваться. Обратившись к Рикаредо, он вскричал:
— Ты видишь, Рикаредо, нам помешали! Если тебе хочется наказать меня, можешь искать со мною встречу, сам же я очень желаю проучить тебя и потому буду тебя разыскивать; если же мы оба будем стремиться увидеть друг друга, нам легко будет встретиться. Поэтому отложим на время исполнение наших желаний.
— Согласен, — отвечал Рикаредо.
В эту минуту явился капитан со своим отрядом и сказал графу, что он арестован именем ее величества королевы. Арнесто подчинился, поставив условием, что его сразу отведут к самой королеве. Капитан согласился и, окружив Арнесто стражей, увел его во дворец. Королева уже была извещена о великой любви Арнесто к Исабеле своей старшей дамой, которая теперь со слезами молила ее простить графа. Когда Арнесто явился, королева, не вступая с ним в разговор, велела отобрать от него шпагу и заключить в башню.
Все эти происшествия мучили сердце Исабелы и ее родителей: столь неожиданной была для них буря, поднявшаяся на безмятежном море их жизни. Во избежание осложнений, которые могли бы произойти между родней Арнесто и Рикаредо, старшая дама посоветовала отправить Исабелу в Испанию: с устранением самой причины прекратятся и следствия, которых теперь приходится опасаться. К этим доводам она прибавила, что Исабела — католичка, и к тому же столь ревностная, что никакими увещаниями (а их было немало) ей не удалось хоть сколько-нибудь поколебать ее веру. Королева ответила, что Исабела еще больше выросла в ее глазах оттого, что умеет охранять веру, которой ее обучили родители; а об отправлении ее в Испанию вообще не может быть речи, потому что ее величеству доставляют великое удовольствие красота, изящество и достоинство испанки: если не сегодня, то в другой раз Исабела, согласно её обещанию, будет отдана Рикаредо в жены.
Старшая дама пришла в такое отчаяние от решения королевы, что не ответила ей ни слова. Она по-прежнему видела в удалении Исабелы единственное средство сломить упорство своего сына и заставить его помириться с Рикаредо. И вот она решила совершить величайшую жестокость, какая только может прийти в голову столь знатной женщине: она решила извести Исабелу ядом. А так как женщины в большинстве случаев бывают по природе своей быстры и решительны, то она в тот же вечер отравила Исабелу сладким компотом, заставив ее съесть эту еду как средство, помогающее от замирания сердца.
Немного спустя после этого у Исабелы стали распухать язык и горло, почернели губы, охрип голос, помутились глаза и сдавило грудь, что является верным признаком отравления. Придворные дамы бросились к королеве, рассказали ей о случившемся и уверяли, что это дело рук их начальницы. Она немедленно отправилась навестить почти умиравшую Исабелу и приказала поскорей вызвать врачей, а в их отсутствие велела дать Исабеле большое количество порошка единорога и разных других противоядий, которые правители обычно имеют в запасе для подобных случаев. Пришли врачи, усилили дозу лекарства и попросили, чтобы королева велела старшей даме открыть, какого рода яд она дала Исабеле, — а что она отравила ее, в этом не было никакого сомнения. Старшая дама назвала яд, и врачи, узнав это, применили столько удачных средств, что, благодаря им и с помощью всевышнего, Исабела осталась в живых, или, вернее, получила надежду выжить.
Королева распорядилась арестовать старшую даму и заключить ее под стражу в одну из дворцовых темниц, намереваясь примерно наказать ее за совершенное преступление, хотя та пыталась оправдаться и доказывала, что, убивая католичку, она совершала дело, угодное небу, и вместе с тем устраняла причину бедствий для сына. Когда печальное известие дошло до Рикаредо, он чуть было не лишился разума: таким безумствам он стал предаваться и так безутешно жаловался на свою судьбу, В конце концов Исабела не умерла, но, благополучно избегнув смерти, несчастная осталась без волос, бровей и ресниц, с распухшим бледным лицом, воспаленной кожей и слезящимися глазами. Она сделалась до того страшной, что если до сих пор она была чудом красоты, то теперь стала воплощением безобразия. Люди, знавшие прежде Исабелу, находили, что для нее было бы лучше умереть от яда, чем подвергнуться такому несчастью. Несмотря на это, Рикаредо продолжал все-таки просить у королевы руки Исабелы и добивался позволения взять ее к себе в дом: любовь, которую он к ней питал, перешла теперь с тела на душу Исабелы, утратившей, правда, свою красоту, но сохранившей все свои неисчислимые достоинства.
— Хорошо, Рикаредо, — сказала королева. — Берите ее себе и знайте, что вы получаете сейчас драгоценнейший камень, заключенный в оболочку из грубого дерева. Богу известно, что мне хотелось бы отдать вам ее такою, какою я ее от вас получила. Простите, если это оказывается невозможным. Надеюсь, что ваше желание мести будет хоть сколько-нибудь удовлетворено тем наказанием, которому я подвергну виновницу преступления. Рикаредо долго беседовал с королевой, оправдывая старшую даму и настаивая на ее прощении: высказанные ею основания вполне достаточны для того, чтобы объяснить еще большее преступление. В конце концов Исабела и ее родители были сданы с рук на руки Рикаредо, и он увез их в свой дом, или, лучше сказать, в дом своих родителей. К дорогим бриллиантам и жемчужинам, подаренным Исабеле, королева прибавила еще другие драгоценности и платья, доказав ей этим всю свою любовь. Два месяца Исабела оставалась обезображенной, и не было ни малейшей надежды, что к ней вернется ее прежняя красота. Но по истечении этого срока началось шелушение, и у нее стал появляться прекрасный цвет лица.
Тем временем родители Рикаредо, полагая, что Исабела никогда уже больше не оправится, решили послать за шотландской девицей, которую они сосватали Рикаредо задолго до его обручения с Исабелой.
Сделали они это без ведома Рикаредо, рассчитывая, что сын их, пленившись цветущей красотой новой невесты, забудет исчезнувшие прелести Исабелы; ее же они порешили отправить вместе с родителями в Испанию и щедро одарить, дабы вознаградить таким образом за понесенные потери.
Не прошло и полутора месяцев, как совершенно неожиданно для Рикаредо к нему в дом, блистая такой красотой, что в прежнее время во всем Лондоне затмить ее могла бы только одна Исабела, въехала новая невеста в сопровождении почетных спутников. Рикаредо был ошеломлен, увидев вдруг эту девицу. Он боялся, что волнение, вызванное ее прибытием, убьет Исабелу, и, желая предупредить опасность, бросился к постели больной. Он застал девушку за беседой с родителями и в их присутствии обратился к ней со следующей речью:
— Исабела, душа моя! Несмотря на великую любовь, которую питают ко мне отец и мать, они плохо знают, как сильно я тебя люблю: они пригласили в наш дом девицу из Шотландии, на которой хотели меня женить задолго до того, как я узнал твои достоинства. Приглашая ее, они, по-видимому, думали, что великая красота этой девицы изгладит запечатленный в моей душе твой дивный образ. Но с тех пор как я полюбил тебя, Исабела, любовь моя не ставила себе конечной целью удовлетворения плотского влечения. Правда, твоя телесная красота пленила мои чувства, но добродетели твои оковали цепями мою душу, так что, если я любил тебя, когда ты была прекрасной, то обожаю и теперь, когда ты безобразна. Дай мне руку в подтверждение истинности моих слов.
Она подала ему правую руку; он взял ее и продолжал:
— Клянусь католической верой, которой научили меня мои благочестивые родители, а если она недостаточно чиста, то клянусь верой, охраняемой римским первосвященником, которую я исповедую и храню в своем сердце, клянусь слышащим нас истинным богом и обещаю тебе, Исабела, половина души моей, что женюсь на одной лишь тебе, и готов стать твоим мужем теперь же, если ты только удостоишь меня чести называться твоим!
Исабела была поражена речью Рикаредо; удивлены и ошеломлены были и ее родители; не зная, что ей говорить и что делать, она только часто-часто целовала руку Рикаредо, повторяя, что считает его своим мужем и отдает ему себя в рабыни. Рикаредо поцеловал ее безобразное лицо, — никогда не имел он такой смелости в то время, когда лицо это было прекрасно. Помолвка эта была освящена слезами умиления родителей девушки. Рикаредо заявил, что расстроит свой брак с шотландкой, приехавшей к нему в дом, а каким образом — это они вскоре увидят; если отец его пожелает отправить их втроем в Испанию, пусть они не возражают и едут к себе на родину и там в течение двух лет дожидаются его, Рикаредо, в Кадисе или в Севилье. Он дал им слово явиться к этому сроку, если только небо пошлет ему столько лет жизни; если же он не вернется, то это будет означать, что какое-то непреодолимое препятствие, а вернее всего, смерть, стало на его пути. Исабела ответила, что будет ждать его не два года, а всю свою жизнь, до тех пор, пока не узнает, что Рикаредо нет больше в живых; и минута, когда она получит это известие, будет минутой ее кончины.
При этих нежных словах у всех опять на глаза навернулись слезы, и Рикаредо отправился сказать своим родителям, что ни в коем случае не женится на шотландке, не съездив предварительно для успокоения совести в Рим. Он привел столь убедительные доводы своим родителям и прибывшим вместе с Клистерной (так звали шотландку) ее родственникам, что все они охотно ему поверили, так как сами тоже были католиками. Клистерна согласилась остаться в доме своего будущего свекра до возвращения Рикаредо, который выговорил себе для путешествия один год. Когда все было решено, Клотальдо сообщил Рикаредо о своем намерении отправить Исабелу вместе с родителями в Испанию, если королева изъявит на это свое согласие: родной климат, говорил он, наверное, облегчит и ускорит начинающееся выздоровление Исабелы. Не желая обнаруживать своих планов, Рикаредо спокойно посоветовал отцу поступить, как ему кажется лучше, и просил его ни в коем случае не отбирать у Исабелы подаренных королевой драгоценностей. Клотальдо дал ему свое слово и в тот же день стал просить королеву о разрешении женить сына на Клистерне и отправить Исабелу вместе с родителями в Испанию.
Королева согласилась на все и одобрила решение Клотальдо. В тот же день, не советуясь с юристами и не отдавая старшей придворной дамы под суд, королева приговорила ее к лишению должности и к уплате в пользу Исабелы десяти тысяч эскудо, а графа Арнесто за вызов на дуэль изгнала на шесть лет из Англии.
Четыре дня спустя Арнесто отправился в изгнание, а указанная сумма была уплачена сполна. Королева вызвала к себе купца-француза, который жил в Лондоне, и имел сношения с Францией, Италией и Испанией. Она передала ему десять тысяч эскудо и попросила выдать документ, на основании которого деньги могли бы быть выплачены отцу Исабелы в Севилье или другом порту Испании. По учете прибылей и процентов, купец сказал королеве, что он составит требуемые бумаги и удостоверения на имя другого французского купца, проживающего в Севилье и поддерживающего с ним сношения. Сделает он это следующим образом. Он напишет в Париж, чтобы там составили бумагу на имя севильского купца и пометили ее Францией, а не Англией, так как последняя не поддерживает сношений с Испанией. Достаточно иметь на руках его уведомительное письмо, без указания места, но за его подписью для того, чтобы по предъявлении его севильский купец немедленно же произвел уплату, так как он своевременно получит предупреждение из Парижа. Королева получила, таким образом, от купца ручательство, не оставлявшее сомнения в надежной пересылке денег. Не ограничившись этим, она пригласила к себе владельца фламандского судна (собиравшегося на следующий день выехать во Францию, для того только, чтобы получить там, в одном из портов, документы, дающие право на въезд в Испанию и удостоверяющие, что он едет не из Англии, а из Франции) и обратилась к нему с настоятельной просьбой взять на корабль Исабелу и ее родителей и в полной безопасности и в наилучших условиях доставить их в ближайшую испанскую гавань, в которой он остановится. Владелец корабля, желавший угодить королеве, ответил, что исполнит ее просьбу и высадит пассажиров в Лисабоне, Кадисе или Севилье.
Затем, получив заверительные расписки купца, королева велела передать Клотальдо, чтобы он не отбирал у Исабелы подаренных ею драгоценностей и платьев. На следующий день Исабела с родителями отправилась проститься с королевой, и та приняла их с большою любезностью. Она вручила им письмо купца, наградила деньгами и осыпала самыми разнообразными подарками, нужными для дороги. Исабела в таких выражениях засвидетельствовала свою глубокую признательность, что королева еще более расположилась в ее пользу и решила всегда ей покровительствовать. Затем состоялось прощание с придворными дамами; эти последние не хотели, чтобы Исабела уезжала, ибо с тех пор как она стала безобразной, их больше не мучила зависть, которую они питали к ее красоте, а наслаждаться ее душевной прелестью и умом им было очень приятно. Королева обняла всех троих, поручила путников их доброй судьбе и капитану корабля, распрощалась с ними и попросила Исабелу через французского купца известить ее о своем благополучном прибытии в Испанию, а кроме того, постоянно писать о своем здоровье. В тот же день они сели на корабль, оплакиваемые Клотальдо, его женой и всеми домочадцами, чрезвычайно любившими Исабелу. Рикаредо не было при расставании: не желая выказывать своих нежных чувств, он устроил так, что в этот день друзья пригласили его на охоту. Сеньора Каталина сделала Исабеле на дорогу множество подарков. Провожающие без конца обнимали путников, в изобилии проливали слезы, бесчисленное число раз просили Исабелу писать; и на все это Исабела и ее родители отвечали благодарностью. Таким образом, несмотря на слезы, все расстались довольными.
В тот же вечер корабль поднял паруса. Достигнув с попутным ветром Франции и получив там необходимые документы на право въезда в Испанию, он через тридцать дней подошел к Кадису. Там Исабела и ее родители высадились. Все жители города знали их и встретили с большой радостью. Родители Исабелы получили тысячи поздравлений по случаю отыскания дочери и освобождения от мавританского плена, а заодно и от англичан (приключения их были повсюду разглашены пленниками, великодушно отпущенными на свободу Рикаредо).
К этому времени у родителей стала складываться уверенность, что к Исабеле вернется ее прежняя красота. Больше месяца они провели в Кадисе, отдыхая после утомительного плавания, а затем отправились в Севилью, чтобы выяснить на месте, будут ли им выплачены десять тысяч эскудо, причитавшиеся с французского купца. Через два дня по прибытии в Севилью они его разыскали, а разыскав, представили ему бумагу французского купца из Лондона. Купец признал документ, но заявил, что не может выдать денег до тех пор, пока из Парижа не придут справки и уведомительное письмо; извещения этого он ждал с минуты на минуту. Родители Исабелы сняли большой дом напротив монастыря св. Паулы ввиду того, что в этой святой обители состояла монахиней одна их племянница, обладавшая голосом исключительной красоты. С одной стороны, им хотелось жить поближе к ней, но было тут еще и другое: в свое время Исабела условилась с Рикаредо, что для розысков ее он придет в Севилью и там у ее двоюродной сестры, монахини монастыря св. Паулы, узнает, где она живет; для того же, чтобы найти двоюродную сестру, ему достаточно будет спросить в монастыре монахиню, которая поет лучше всех; такого рода приметы, как известно, очень легко запоминаются.
Бумаги из Парижа не приходили еще в течение сорока дней. А через два дня по их получении французский купец выплатил Исабеле десять тысяч эскудо, и она отдала их родителям. С этими деньгами, к которым были прибавлены суммы, вырученные от продажи кое-каких драгоценностей Исабелы, отец ее, к удивлению людей, хорошо осведомленных о его недавних потерях, снова начал вести торговые дела. Немного месяцев спустя он восстановил свой погибший кредит, а вместе с тем к Исабеле снова вернулась ее прежняя красота, так что когда заходила речь о красавицах, то все отдавали пальму первенства «английской испанке»; вследствие этого прозвания, как и вследствие своей прекрасной наружности, она пользовалась известностью во всем городе.
Через проживавшего в Севилье французского купца Исабела и ее родители известили королеву о своем прибытии в Испанию, выразив ей при этом свою благодарность и преданность за все великие милости, которые они от нее получили. Написали они также Клотальдо и его жене Каталине, причем Исабела именовала их в письме отцом и матерью, а ее родители — своими сеньорами. Ответа от королевы они не получили; от Клотальдо же и его жены пришло письмо с поздравлением по случаю счастливого прибытия и с известием о том, что сын их, Рикаредо, на следующий день после отплытия Исабелы выехал во Францию, а оттуда в другие страны, где ему надлежало побывать для успокоения своей совести; за этим сообщением в письме следовали выражения великой любви и благорасположения. В ответ им было послано второе письмо, в такой же мере исполненное учтивости и преданности, как и благодарности.
Исабела подумала тогда, что Рикаредо уехал из Англии для того, чтобы отправиться на ее розыски в Испанию. Эта надежда ободрила ее, и, чувствуя себя счастливее всех на свете, она старалась вести такой образ жизни, чтобы по прибытии в Севилью слух о ее добродетели дошел до Рикаредо раньше, чем ему укажут, где ее жилище. Почти никогда она не выходила из дому, разве только что пройти в монастырь, причем никаких праздников, кроме церковных, она не признавала. Не покидая дома или молельни, она мысленно присутствовала на службах, совершаемых по пятницам великого поста, в день святейшего моления кресту и семи даров св. духа.
Она никогда не посещала реки и не ходила в Триану; не бывала она и на народных гуляньях, устраиваемых при благоприятной погоде в день св. Себастиана на лугу Таблада и у Хересских ворот, где в это время собираются несметные толпы народа. Одним словом, в Севилье ее не соблазняло ни одно народное торжество, ни один праздник. Все свое время она, в ожидании Рикаредо, проводила в уединении, молитвах и думах о женихе.
Вследствие столь замкнутого образа жизни Исабела возбуждала пламенные чувства не только у молодых щеголей своего квартала, но и у всех, кто хотя бы только раз ее видел, так что на улице, где она жила, по вечерам стали давать серенады, а днем устраивали конные состязания. Учитывая эту нелюдимость и постоянные домогания влюбленных, посредницы стали накидывать цены, заявляя, что они сотворят чудо, превзойдут самих себя и уговорят Исабелу. Нашлись люди, прибегнувшие даже к помощи так называемых чар, в действительности представляющих собой сплошное надувательство и обман. Но пред лицом всего этого Исабела оставалась непоколебимой, как стоящая среди моря скала, которую задевают, но не двигают с места ни волны, ни ветры.
Прошло уже полтора года, и сердце Исабелы билось все беспокойнее в ожидании конца двухлетнего срока, назначенного ей Рикаредо. И в то время, когда ей все чаще представлялось, что ее жених уже приехал и стоит тут у нее перед глазами, что она расспрашивает его о задержавших его так долго препятствиях, слышит его извинения, прощает его и принимает в свои объятия, как лучшую часть своей души, она вдруг получила из Лондона от сеньоры Каталины письмо, отправленное пятьдесят дней тому назад. Написано оно было по-английски и в переводе на испанский гласило следующее:
«Возлюбленная дочь моя! Ты хорошо помнишь нашего слугу Гильярте. Рикаредо взял его с собой в путешествие, о котором я тебя уже извещала, и на следующий день после твоего отплытия выехал вместе с ним во Францию и в другие страны. Вчера, после шестнадцати месяцев безвестного отсутствия нашего сына, этот Гильярте вернулся домой и сообщил, что Рикаредо предательски убит графом Арнесто во Франции. Представь себе, дочь моя, что должны были пережить я, муж и невеста Рикаредо, получив это безрадостное известие, после которого не приходится даже сомневаться в своем горе! Клотальдо и я просим тебя, возлюбленное дитя, искренне помолиться богу за душу Рикаредо; ибо, поистине, он (который, как ты знаешь, сильно тебя любил) достоин этого благодеяния. Попроси господа бога нашего послать нам побольше терпения и хорошую смерть; мы же будем просить и молить его даровать тебе и твоим родителям много-много лет жизни».
Почерк и подпись не вызывали никаких сомнений: смерть жениха была вполне очевидной. Она отлично помнила слугу Гильярте и отлично знала, что он заслуживает доверия и что ему не могло прийти в голову выдумать эту смерть, тем более что к этому не было никакого повода. Не могла бы этого сделать и сеньора Каталина, мать Рикаредо, ибо у нее не было никаких оснований сочинять для Исабелы столь грустное известие. Одним словом, ни размышления, ни долгие думы не могли поколебать ее убеждения в том, что известие о несчастии — истина.
Окончив чтение письма, она без ненужных слез и без внешних признаков сердечного сокрушения встала с помоста, на котором сидела, и прошла в молельню со спокойным лицом и с вполне умиротворенным по внешности видом. Опустившись на колени перед изображением особо почитаемого распятия, она дала обет стать монахиней, что было, впрочем, естественно, так как она себя считала вдовой. Родители ее благоразумно скрыли печаль, причиненную этой горестной новостью, считая, что так им будет легче утешать дочь в постигшем ее испытании.
Исабела, как бы насытившись своим горем и смягчив его святым и христианским решением, сама стала утешать родителей и говорить с ними о своем намерении. Они посоветовали ей повременить с пострижением до тех пор, пока не истечет назначенный Рикаредо двухлетний срок: за это время окончательно подтвердится истинность известия о смерти, и Исабела со спокойным сердцем отрешится от связи с миром. Исабела так и сделала и провела недостававшие до двух лет шесть с половиной месяцев в соблюдении монашеского устава, подготовляя свое вступление в обитель; она наметила себе тот самый монастырь св. Паулы, где находилась ее двоюродная сестра.
Прошло два года, и наступил день пострижения. Известие о нем распространилось по всему городу; монастырь и небольшое пространство между ним и домом Исабелы наполнились людьми, знавшими ее лично или только понаслышке. Отец Исабелы пригласил своих друзей; те, в свою очередь, — других знакомых, и таким образом у Исабелы составилась такая почетная свита, какие редко приходится видеть в Севилье при подобного рода событиях. При священнодействии присутствовали наместник города, заместитель архиепископа, викарий и все знатные дамы и видные лица города: вот как сильно всем захотелось посмотреть на Исабелу, на это прекрасное солнце, в течение долгих месяцев находившееся в заточении! У девиц, принимающих пострижение, в обычае одеваться как можно красивее и изящнее: в эту минуту они, отрешаясь от суетных нарядов, в последний раз их показывают. Исабела тоже пожелала одеться как можно лучше. Она надела то самое платье, в котором когда-то отправились к английской королеве, — как богато и красиво оно было, об этом мы уже рассказывали. Снова появились на свет жемчужины, замечательный бриллиант, ожерелье и столь же драгоценный пояс.
В этом наряде Исабела гордо вышла из дому, и красота ее побуждала народ прославлять за нее величие творца. Она шла пешком, потому что монастырь был близко и кареты и экипажи оказывались лишними. Но стечение народа было таково, что они не имели возможности приблизиться к монастырю и пожалели, что не воспользовались экипажем. Одни превозносили родителей Исабелы, другие восхваляли небо, одарившее ее такой красотой; одни поднимались на цыпочки, чтобы взглянуть на нее, а другие, посмотрев на нее, забегали вперед, чтобы посмотреть еще раз. Особенно усердствовал (до того, что многие стали обращать на него внимание) какой-то человек, одетый так, как одеваются выкупленные из плена, и носивший на груди знак тринитариев, свидетельствовавший о том, что незнакомец был выкуплен на деньги монахов этого ордена. Когда Исабела уже вступала в ворота монастыря, куда, по обычаю, ее вышли встретить с крестом настоятельница и монахини, человек этот громко воскликнул:
— Остановись, остановись, Исабела! Пока я жив, ты не можешь постричься в монахини!
При этом крике Исабела и ее родители оглянулись и увидели, что выкупленный из плена человек проталкивается к ним сквозь толпу. Круглая синяя шляпа упала у него с головы, открыв растрепанную копну вьющихся золотых волос и лицо, белое и румяное, словно снег с пурпуром, — по этим приметам все сразу признали в нем иностранца. И вот, падая и поднимаясь, он дошел до места, где стояла Исабела, и, схватив ее за руку, сказал:
— Ты узнаешь меня, Исабела? Взгляни, ведь я Рикаредо, твой жених.
— Да, узнаю, — отвечала Исабела, — если только ты не видение, пришедшее смутить мой покой.
Ее родители бросились к нему и, внимательно вглядевшись, убедились, что пленник — действительна Рикаредо. Он бросился на колени и со слезами умолял Исабелу признать его, несмотря на необычный костюм: да не послужит его несчастная судьба препятствием к исполнению данного ими друг другу слова! Несмотря на впечатление, произведенное на Исабелу письмом матери Рикаредо и на известие о его смерти, она предпочла поверить открывшейся перед ее глазами правде, а потому, обнявши пленника, сказала:
— Сеньор, поистине вы тот единственный человек, который в силах воспрепятствовать моему христианскому решению, вы поистине мой настоящий супруг и часть души моей. Вы запечатлены в моей памяти, и я сохранила ваш образ в своей душе. Известие о вашей смерти, сообщенное мне сеньорой вашей матушкой, не лишило меня, правда, жизни, но побудило меня избрать монашеское звание; сейчас я собиралась вступить в затворническую жизнь; но если бог этим справедливым препятствием показывает, что ему угодно иное, то я, со своей стороны, не могу и не должна ему противиться. Теперь, господин мой, идите в дом моих родителей (он вместе с тем и ваш дом), и тогда я предам вам себя в полную вашу власть, с соблюдением установлений нашей святой католической веры.
Стоявшие вокруг люди, а также наместник, викарий и заместитель архиепископа, услыхав эти слова, были крайне изумлены и озадачены и сейчас же стали просить объяснения этой истории, спрашивая, что это за человек и о каком браке здесь идет речь. Отец Исабелы ответил, что для рассказа потребуется продолжительное время и другое место. Поэтому он обратился ко всем, желавшим узнать эту историю, с просьбой отправиться к нему в дом, находящийся по соседству, где все им будет рассказано таким образом, что истина события доставит им удовольствие, а необычайность его их немало удивит. В это время один из присутствующих сказал:
— Сеньоры! Этот юноша — известный английский корсар; я его знаю: он тот самый, который около двух лет тому назад отнял у алжирских пиратов португальское судно, плывшее из Индии. Сомнения быть не может: я его узнал; он отпустил меня на свободу и дал денег, чтобы ехать в Испанию; точно так же поступил он не только со мною, но и с тремястами других пленников.
Слова эти всех заинтересовали, и от них еще сильнее разгорелось у всех желание узнать и уяснить себе столь запутанные происшествия. Под конец самые знатные лица вместе с наместником и обоими сановниками церкви отправились провожать Исабелу домой, оставив в слезах опечаленных и смущенных монахинь, — а они потеряли немало, лишившись общества прекрасной Исабелы. Придя к себе, она пригласила гостей расположиться в одной из больших комнат.
Сначала Рикаредо хотел было сам рассказать свою историю, но потом, не доверяя своим силам, предпочел довериться уму и красноречию Исабелы: он не очень бегло говорил по-кастильски.
Все присутствующие умолкли и с напряженным вниманием стали слушать Исабелу, начавшую свой рассказ. Я буду краток в его передаче: она изложила все, что с ней случилось с того дня, когда Клотальдо похитил ее из Кадиса, и до ее возвращения обратно; она рассказала о битве Рикаредо с турками и о его великодушном отношения к христианам; рассказала о том, как оба они дали друг другу слово стать мужем и женою, и о назначенном ими двухлетнем сроке; описала, как она получила известие о смерти Рикаредо, показавшееся ей вполне достоверным и (как все теперь знают) чуть было не заставившее ее постричься в монахини. Она превознесла великодушие королевы, отметила, что Рикаредо и его родители — правоверные католики, и в заключение заметила, что теперь его черед рассказать о его приключениях со дня выезда из Лондона, и по настоящую минуту, когда все увидели его в платье пленника, со знаком, указывающим на то, что он выкуплен на деньги монахов.
— Хорошо, — отвечал Рикаредо, — я в кратких словах изложу свои тяжкие злоключения. Я уехал из Лондона для того, чтобы избежать невозможного для меня брака с Клистерной, той шотландкой-католичкой, на которой, как уже говорила Исабела, хотели меня женить мои родители. С собой я взял слугу Гильярте, который, согласно письму моей матери, привез в Лондон известие о моей смерти. Через Францию я отправился в Рим; там возрадовалась моя душа и укрепилась вера. Я облобызал стопы верховного первосвященника, исповедал грехи великому исповеднику[72], очистился от них и получил необходимые записи, свидетельствующие о моем покаянии и возвращении в лоно нашей соборной матери — церкви. Исполнив это, я посетил неисчислимые святыни этого священного города. Из находившихся при мне двух тысяч эскудо золотом я доверил тысячу шестьсот одному меняле, который перевел эти деньги в Севилью на имя флорентинца Роки. С остальными деньгами я выехал в Геную, намереваясь отправиться в Испанию: у меня были известия, что туда собираются отплыть две местные галеры. В сопровождении своего слуги Гильярте я прибыл в местность, называемую Аквапенденте, — последнее владение папы по дороге из Рима во Флоренцию.
В гостинице или постоялом дворе, где я остановился, я повстречал своего смертельного врага графа Арнесто; он был переодет и ехал с четырьмя слугами в Рим, скорее из любопытства, чем из религиозных побуждений. Будучи уверен, что он меня не узнал, я вдвоем со слугой заперся у себя в комнате, и, приняв меры предосторожности, решил с наступлением ночи переехать в другой дом. Однако я не сделал этого, так как чрезвычайно беспечное поведение графа и его слуг укрепило меня в мысли, что меня не узнали. Я поужинал в своей комнате, запер дверь, надел шпагу, поручил себя богу, но не захотел ложиться в постель. Слуга мой заснул, а я остался на стуле в полудремотном состоянии. Вскоре после полуночи меня разбудили (с тем чтобы погрузить меня в вечный сон) четыре пистолетных выстрела, выпущенных в меня — как я впоследствии узнал — графом и его слугами. Считая меня убитым, они ускакали на лошадях, которые были заранее приготовлены; хозяину постоялого двора они велели похоронить меня, объяснив, что я человек знатный. Как мне позже сообщил хозяин, слуга мой, проснувшись от шума, в ужасе выпрыгнул через окно, выходившее во двор, и покинул гостиницу с криком: «О, я несчастный! моего господина убили». По всей вероятности, он так испугался, что ехал не останавливаясь до самого Лондона; это он принес родителям известие о моей смерти.
Сбежались слуги гостиницы и увидели, что я ранен четырьмя пулями и очень крупной дробью, но все выстрелы пришлись так счастливо, что ни одна из них не оказалась смертельной. Я, как истинный христианин, потребовал исповеди и совершения таинств. Мою просьбу исполнили; затем меня стали лечить, и в течение двух месяцев я не мог двинуться в путь.
Потом я отправился в Геную, но не нашел там никаких судов, кроме двух фелюг. Я и двое знатных испанцев их сговорили: одна из них должна была ехать впереди и производить разведки, на другой находились мы сами. Приняв меры предосторожности, мы тронулись в путь, держась берега и намеренно не забираясь в открытое море. Когда мы подплывали к расположенной на французском побережье местности, именуемой «Три Марии», и наша первая фелюга была на разведке, из одной бухты на нас внезапно выехали два турецких галиота; один из них отрезал нас с моря, другой — со стороны земли, а когда мы бросились к берегу, они настигли нас и захватили в плен. Переведя на свой галиот, турки нас раздели донага; все, что было на фелюгах, они разграбили; самые фелюги они не потопили, а выбросили на берег, сказав, что они им пригодятся в другой раз для перевозки награбленной у христиан добычи.
Вы легко мне поверите, если я скажу, что мне было тяжело пережить плен, особенно же потерю бумаг, полученных мною в Риме; вместе с распиской на тысячу шестьсот дукатов они хранились у меня в железной шкатулке. По счастью, эта шкатулка попалась в руки одному пленному испанцу, который сохранил документы у себя; если бы они попали в руки неприятелей, то, установив их собственника, турки потребовали бы с меня выкуп по меньшей мере в размере суммы, проставленной на расписке. Нас доставили в Алжир, где я встретился с монахами-тринитариями, выкупавшими пленных. Я заговорил с ними, объяснил, кто я такой, и они из сострадания выкупили меня, хотя я и чужеземец. Сделали они это следующим образом: дали за меня триста дукатов, из коих сто внесли немедленно, а двести обещали уплатить, когда возвратится корабль с подаяниями, предназначенными для выкупа одного из монахов ордена, оставшегося в Алжире под залог в четыре тысячи дукатов, издержанных им сверх своих наличных денег. Милосердие этих отцов сочетается с таким состраданием и такою щедростью, что они сами отдают себя в плен, лишь бы только выкупить других пленников. Помимо счастья вернуть себе свободу, я разыскал еще и потерянную шкатулку с бумагами и распиской. Я показал ее благочестивому отцу, который меня выручил, и предложил ему, помимо суммы своего выкупа, еще пятьсот дукатов в целях погашения его собственного залога.
Корабль с подаяниями не приходил около года. Если бы я стал сейчас рассказывать мои приключения в течение этого года, то составилось бы отдельное повествование. Скажу только, что меня узнал один из тех двадцати турок, которых, как упоминалось выше, я отпустил на свободу вместе с христианами; человек этот оказался таким благодарным и добрым, что не пожелал меня выдать, а ведь узнай турки, что я потопил у них две галеры и захватил большой корабль из Индии, они лишили бы меня жизни или отдали султану — и тогда я навеки лишился бы свободы. В конце концов я прибыл в Испанию вместе с освободившим меня святым отцом и с полутысячей выкупленных пленников. В Валенсии мы прошлись в общей процессии, а затем все (в таком же платье, как я, и со значком, свидетельствующим об освобождении из плена) разошлись в разные стороны. Сегодня я прибыл в ваш город с таким горячим желанием увидеть мою невесту Исабелу, что, отложив все свои дела, стал искать монастырь, в котором должен был получить о ней известия.
Вы видели, что со мной там произошло. Вам остается только взглянуть на мои записи, дабы убедиться в истинности моей истории: она столь же чудесна, как и правдива.
С этими словами он вынул из железной шкатулки записи, о которых упоминал, и передал их в руки заместителя архиепископа; тот рассмотрел их вместе с наместником и не нашел в них ничего, что могло бы навести на сомнение в правдивости рассказа Рикаредо. Для окончательного подтверждения его слов волею неба тут же в комнате оказался тот самый флорентийский купец, на которого была составлена расписка в тысячу шестьсот дукатов. Он попросил представить ее и, признав документ действительным, тотчас же его принял, так как извещение по этому делу было им получено много месяцев тому назад. Таким образом, удивление сменялось удивлением и одно чудо — другим. Рикаредо заявил, что он вновь подтверждает свое намерение внести обещанные пятьсот дукатов. Наместник обнял Рикаредо, родителей Исабелы и ее самое и в самых учтивых выражениях засвидетельствовал им свое уважение.
То же самое сделали оба сановника церкви, попросив при этом Исабелу письменно изложить эту историю, для того чтобы ее мог прочесть владыка архиепископ[73], что она и пообещала.
Глубокая тишина, которую соблюдали все присутствующие, внимая удивительным событиям, была нарушена: все от мала до велика прославили бога за его великие чудеса, поздравили Исабелу, Рикаредо и родителей и наконец, разошлись. Исабела и Рикаредо попросили наместника почтить своим присутствием их бракосочетание, которое решили совершить через восемь дней. Наместник с радостью откликнулся на эту просьбу и восемь дней спустя явился на свадьбу в сопровождении знатнейших жителей города.
Такими-то запутанными путями и при таких именно обстоятельствах родители Исабелы разыскали свою дочь и вернули свое состояние, а Исабела, с помощью неба и своих добродетелей, несмотря на многочисленные препятствия, нашла себе мужа в лице такого знатного человека, как Рикаредо. Думаю, что и до сего дня она еще живет вместе с ним в доме, который они сняли напротив монастыря св. Паулы; впоследствии они даже купили этот дом у наследников одного бургосского идальго по имени Эрнандо де Сифуэнтес.
Настоящая новелла может подтвердить нам, какую силу имеют добродетель и красота, ибо и вместе и порознь они способны вызвать к себе любовь даже со стороны наших врагов; а кроме того, новелла эта ясно показывает, каким образом небо из самых великих бедствий умеет извлекать для нас величайшие выгоды.
Лиценциат Видриера
Во время прогулки по берегам Тормеса[74] два кавальеро, учившихся в Саламанке, нашли под деревом спящего мальчика лет одиннадцати, одетого по-крестьянски. Они велели слуге разбудить его, — тот проснулся; тогда они спросили, откуда он родом, что делает и почему спит в таком пустынном месте. На это мальчик ответил, что своей родины он не помнит, а сейчас идет в город Саламанку искать хозяина, которому готов служить, если только его отдадут учиться. Его спросили, умеет ли он читать; он ответил, что умеет, умеет даже и писать.
— В таком случае, — заметил один из кавальеро, — не по слабости памяти забыл ты название своей родины!
— По тому ли, по другому ли, — ответил мальчик, — а никто не узнает ее названия, как и имени моих родителей раньше, чем я не прославлю их и ее!
— А каким же образом думаешь ты прославить их? — спросил кавальеро.
— Своею ученостью и славой, — сказал мальчик, — ибо приходилось мне слышать, что «не святые горшки лепят».
Ответ этот побудил обоих кавальеро взять его к себе, что они и сделали, отдав его учиться на тех же условиях, на каких обыкновенно содержат в этом городе слуг, состоящих при господах.
Мальчик сказал, что его зовут Томас Родаха, а потому хозяева на основании его имени и одежды заключили, что он, должно быть, сын какого-нибудь бедного крестьянина.
Через несколько дней его одели во все черное, а несколько недель спустя Томас доказал, что обладает редкими способностями, причем своим хозяевам он служил с такой верностью, точностью и усердием, что, ни на йогу не поступаясь занятиями, производил впечатление, будто он ничего, кроме службы, не делает; и так как добрая служба раба склоняет сердце господина обращаться с ним милостиво, Томас вскоре стал не слугой, а товарищем своих хозяев. По истечении восьми лет, проведенных у них, он приобрел такую славу в университете благодаря значительным способностям, что самые разные люди его любили и уважали. Занимался он главным образом законами, но с особенным блеском проявил себя в гуманитарной науке. Была у него такая счастливая память, что все диву давались. К тому же он украшал ее своим тонким умом и не менее славился им, чем своей памятью.
Случилось так, что хозяевам его настало время окончить свое ученье и вернуться к себе домой, в один из лучших городов Андалусии. Они взяли с собой Томаса и прожили вместе с ним некоторое время; но его так мучило желание вернуться к своим занятиям в Саламанку (а она заколдовывает желанием приехать обратно волю всех, кто вкусил от приятностей тамошней жизни), что он попросил у хозяев позволения вернуться. Эти последние по учтивости и щедрости своей ему не отказали и обеспечили Томаса таким образом, что на данные ему средства можно было прожить три года.
Он расстался с ними и, выразив в учтивых словах свою признательность, уехал из Малаги (она именно и была родиной его господ). На спуске с холма Ла Самбра, по дороге в Антекеру он встретился с одним дворянином, ехавшим на коне в пышном дорожном платье; при нем было двое слуг верхами.
Он присоединился к нему и узнал, что им предстоит одинаковый путь; они познакомились, поболтали о разных вещах, и с первых же шагов Томас выказал свой редкий ум, а кавальеро — свой блеск и тонкое обращение. Он рассказал, что служит капитаном в пехоте его величества и что его поручик набирает сейчас отряд в области Саламанки; он расхвалил солдатскую жизнь, живо расписал красоты города Неаполя, утехи Палермо, изобилие Милана, празднества Ломбардии, пышные яства гостиниц, точно и тонко изобразил разные «Acconcia, patron[75]; passa acá manigoldo, venga la macarella, li pollastri e li maccaroni!», превознес до небес свободную солдатскую жизнь и привольное житье в Италии, но ничего не сказал про холод стояния на часах, про опасности штурмов, про ужасы битв, про голод осад, про разрушительную силу мин и про другие вещи в том же роде, которые иными считаются как бы привеском в тяготе солдатчины, а в сущности, они-то и являются основным ее бременем.
В общем, он столько вещей ему рассказал, да к тому же еще так хорошо, что благоразумие нашего Томаса Родаха стало спотыкаться, а воля пленилась этой жизнью, от которой так недалеко до смерти.
Капитан, назвавший себя доном Дьего де Вальдивья, пришел в восторг от приятной внешности, ума и лоска Томаса и стал просить его отправиться вместе в Италию, хотя бы только из любопытства посмотреть страну, предлагая ему свой стол, а если окажется нужным, то и место знаменосца, так как поручик скоро его освободит.
Немного потребовалось для того, чтобы Томас принял предложение, ибо в один миг он проделал про себя краткое рассуждение, что недурно, мол, проехаться в Италию, Фландрию и разные другие земли и страны, так как продолжительные странствования делают людей умными, а кроме того, на все это, в самом крайнем случае, могло уйти три-четыре года, что при его большой молодости составит немного и не помешает ему вернуться к своим занятиям; а потому, полагая, что все произойдет так, как ему хочется, он сказал капитану, что охотно поедет в Италию, при том, однако, условии, что его не зачислят в отряд и не внесут в солдатские списки, иначе он будет обязан всюду следовать за отрядом.
И хотя капитан его убеждал, что состоять в списке еще ничего не значит, что таким образом он мог бы пользоваться пособиями и жалованьем, выплачиваемыми полку, а кроме того, получать отпуск всякий раз, как того попросит. «Это значило бы, — сказал Томас, — поступить наперекор своей совести и совести сеньора капитана, а поэтому я хочу быть свободным и независимым».
— Такая щепетильность, — заметил дон Дьего, — скорей под стать иноку, чем солдату; ну, да во всяком случае мы с вами товарищи!
В ту же ночь они приехали в Антекеру; через несколько дней благодаря большим перегонам они прибыли к месту, где находился полк, уже пополненный набором и вполне готовый к тому, чтобы выступить в направлении Картахены. Остановки на постой они вместе с другими четырьмя полками должны были делать в местностях, расположенных по пути.
Там-то и увидел Томас, что такое власть войсковых комиссаров, строптивость сеньоров капитанов, происки квартирмейстеров, хитрости и уловки казначеев, жалобы селений, выкупы за постойные билеты, наглость рекрутов, драки постояльцев, требование в обоз больше скота, чем нужно, а в заключение на собственном опыте убедился в том, как нужда поневоле заставляет проделывать все то, что он видел и что он безусловно осуждал. Вырядился Томас попугаем[76], снял с себя студенческую одежду и настроился на лад — «хоть святых вон выноси!» Все множество книг, у него бывших, он сократил до двух: Молитвослов богородицы и Гарсиласо[77] без комментариев, — причем носил их в своих фальдрикерах[78].
В Картахену они приехали даже скорее, чем сами хотели, ибо жизнь на постоях привольна и разнообразна и почти ежедневно наталкиваешься там на вещи новые и приятные.
Они погрузились на четыре неаполитанских галеры, и тогда же Томас Родаха обратил внимание на своеобразную жизнь этих морских домов, где большую часть времени донимают клопы, обворовывают каторжники, злят матросы, грызут мыши и истомляет качка. Его очень напугали сильные штормы и бури, особенно же в Лионском заливе, и было их две; одна прибила их к Корсике, а другая отбросила обратно в Тулон, во Францию.
Наконец невыспавшиеся, мокрые, с кругами под глазами, прибыли они в красивый и чудесный город Геную. Высадившись в ее искусно построенной гавани, все сходили в церковь, а после этого капитан со своими товарищами отправился в харчевню, где прошедшие бури были преданы забвению и где помнили только о настоящем. Там узнали они нежность Требианского, достоинство Монте Фрасконе, крепость Асперино, благородство двух «греков» — Кандии и Сомы, доблесть Пятилозного, сладость и приятность сеньоры «Гуарначи», грубоватость Чентолы, причем среди всех этих сеньоров даже показаться не смело убогое романеско.
Произведя смотр такому множеству самых разнообразных вин, хозяин предложил еще выставить, и не только напоказ, а в чистом и беспримесном виде, Мадригаль, Кока, Алаэхос и Имперьяль, то бишь Реаль Сьюдад, подлинное убежище бога смеха; он включил сюда также Эскивью, Аланис, Касалью, Гуадальканаль и Мембрилью, не позабыв ни Рибадавьи, ни Дескаргамарьи. Одним словом, хозяин назвал и подал им столько вин, сколько не сыщешь и в погребах самого Бахуса.
Простодушного Томаса очень поразили белокурые волосы генуэзок, лихая и бравая внешность мужчин, замечательная красота города, дома которого были, казалось, вставлены в скалы, подобно алмазам, оправленным в чистое золото.
На другой день высадились на берег все полки, которым надлежало отбыть в Пьемонт; но Томас наметил себе другой путь, имея в виду из Генуи проехать сухим путем в Рим и в Неаполь; утвердившись в своем решении, он пообещал капитану, что после посещения великой Венеции и Лорето он приедет в Милан и Пьемонт, где и разыщет капитана Вальдивья, если только его не отправят с полком во Фландрию, как о том тогда поговаривали.
Два дня спустя Томас расстался с капитаном, а через пять дней прибыл во Флоренцию, заглянув предварительно в Лукку, город небольшой, но отлично построенный, где лучше, чем в остальных местностях Италии, принимают и потчуют испанцев. Флоренция ему чрезвычайно понравилась как своим выгодным местоположением, так и своей нарядностью, пышностью зданий, прохладной рекой и приятными улицами. Он провел в ней четыре дня и немедленно отправился в Рим, царицу городов и владыку мира.
Он посетил его храмы, поклонился мощам и поразился его величию; и подобно тому, как по когтям льва распознают его величину и свирепость, так и он заключил о громаде Рима по мраморным развалинам, по целым и разбитым статуям, по обрушившимся аркам и развалившимся, но великолепным портикам и огромным амфитеатрам, по знаменитой и святой его реке, вечно наполняющей водой свои берега и освящающей их неисчислимыми мощами мучеников, нашедших в ней свою могилу; по мостам его, которые, казалось, переглядывались друг с другом, и по улицам, которые одним своим именем берут верх над всеми улицами других городов мира, — виа Аппиа, виа Фламиниа, виа Юлия и другие в этом же роде.
Не менее поразило его разделение холмов внутри города: Целийский, Квиринский, Ватиканский с четырьмя остальными[79], названия которых свидетельствуют об августейшем величии Рима. Он отметил также могущество коллегии кардиналов, величие первосвященника римского, стечение и разнообразие племен и народов.
Все это он рассмотрел, на все обратил внимание и все оценил как следует.
Совершив обход семи церквей, исповедавшись у великого исповедника и поцеловав ногу его святейшества, увешанный «агнусами» и четками, он решил съездить в Неаполь, а так как стояла жаркая пора, вредная и опасная для всех едущих в Рим и выезжающих из Рима, — если только они путешествуют сушей, — то наш странник отправился в Неаполь морем и к восхищению, оставшемуся от посещения Рима, прибавил восторг, вызванный видом Неаполя, города — по его и всех видевших Неаполь мнению — лучшего в Европе да, пожалуй, и во всем мире.
Оттуда он поехал в Сицилию, где увидел Палермо, а затем и Мессину. Палермо ему понравился расположением и красотой, Мессина — гаванью, а весь остров — плодородием, за что его справедливо и верно называют житницей Италии.
Проехав еще раз через Неаполь и Рим, он отправился к Аоретской богоматери, в святом храме которой нельзя было рассмотреть ни перегородок, ни стен, ибо все они были увешаны костылями, саванами, цепями, кандалами, поручнями, париками, восковыми бюстами, поясными портретами и иконами, ясно свидетельствовавшими о бесчисленных милостях, полученных многими людьми от руки господа по заступничеству его божественной матери, которая захотела возвеличить и прославить святой и преславный свой образ множеством чудес, в награду за почитание, оказываемое теми, кто украсил подобным пологом стены ее храма.
Он увидел также ту горницу или покой, где состоялось высочайшее и наиважнейшее из всех посольств, которое созерцали, но не уразумели все небеса, все ангелы и все жители вековечных жилищ.
Оттуда, сев на корабль в Анконе, он выехал в Венецию, город, которому — не родись на свет божий Колумб — во всем мире не сыскалось бы равного. Возблагодарим же небо и великого Эрнандо Кортеса, завоевавшего великий Мехико, дабы великой Венеции было, так сказать, с кем соперничать!
Оба эти знаменитых города сходны улицами, которые все из воды, причем европейский город является чудом всего Старого, а американский — всего Нового света!
У Томаса осталось впечатление, что богатства Венеции безмерны, правительство ее — разумно, местоположение — неприступно, изобилие всего — превеликое, окрестности — веселые; одним словом — вся она сама по себе и в частях своих достойна славы, превозносящей ее достоинства во всех концах света; причем особое основание верить этой истине дает ее знаменитый Арсенал, иначе говоря — место, где сооружаются галеры и несчетное количество других судов.
Утехи и развлечения, полученные в Венеции нашим любознательным путником, мало чем уступали чарам Калипсо, ибо они едва не заставили его забыть о своем первоначальном намерении.
Однако, пробыв там месяц, через Феррару, Парму и Пьяченцу он проследовал в Милан — кузницу Вулкана, предмет зависти французского королевства, город, про который, во всяком случае, можно сказать, что он «всем взял»: ибо громада его и тамошнего собора, а также удивительное изобилие всего необходимого для жизни делают его великолепным.
Оттуда он отбыл в Асти и приехал в такое время, что на следующий день его полк выступал во Фландрию. Он был отлично встречен другом своим капитаном и в качестве его спутника и товарища отправился во Фландрию и прибыл в Антверпен, город, поражающий не менее, чем города Италии.
Он осмотрел Гент и Брюссель и увидел, что вся страна готовится к войне, собираясь выступить в поход следующим летом.
Удовлетворив таким образом свое желание посмотреть чужие страны, Томас решил возвратиться в Испанию и закончить в Саламанке свое учение. Сказано — сделано, и он собрался в путь, к величайшему огорчению своего товарища, который во время расставания просил друга известить его о своем здоровье, прибытии и делах.
Пообещав исполнить его желание, Томас через Францию возвратился к себе в Испанию, не повидав Парижа, потому что он был охвачен войной.
И вот он снова в Саламанке, где его очень хорошо встретили друзья, и благодаря заботам, которыми они его окружили, он продолжил свои занятия и получил степень лиценциата прав.
Случилось, что в это время приехала в этот город одна весьма искушенная в свеем деле жрица любви.
На эту приманку и пищик поспешили пташки со всей округи, и не было такого vademecum[80], который не навестил бы даму. Томасу передали, что дама эта бывала в Италии и во Фландрии. Он явился к ней посмотреть, но знакомая ли. После этого посещения и встречи выяснилось, что она влюбилась в Томаса, а он не обратил на нее внимания и — если товарищи его насильно не приводили — не желал даже заходить к ней в дом. Под конец она открыла ему свое сердце и предложила свои богатства. А так как он гораздо больше тяготел к книгам, чем к каким бы то ни было развлечениям, он не ответил вовсе на желания сеньоры. Увидев, что ею пренебрегают и, по-видимому, даже гнушаются и что обычными и естественными средствами нельзя было сломить каменной воли Томаса, куртизанка решила изыскать иные приемы, на ее взгляд более действительные и достаточные для осуществления своих желаний. И вот, по совету одной крещеной мавританки, она дала Томасу в толедском мембрильо[81] какого-то приворотного зелья, думая, что дает средство, способное склонить его волю к любви. Но увы! — на свете не существует ни трав, ни заговоров, ни слов, влияющих на свободу нашей воли, а потому все женщины, прибегающие к любовным питьям и яствам, являются просто-напросто отравительницами, ибо на самом-то деле оказывается, что люди, попадающиеся на эту удочку, неизменно получают яд, как то подтвердил опыт во множестве отдельных случаев.
В недобрый час съел Томас этот мембрильо, ибо сейчас же стало ему сводить руки и ноги, как у больных родимчиком. Он провел несколько часов, не приходя в сознание, по истечении которых стал как обалделый и, заикаясь, заплетающимся языком рассказал, что его погубил съеденный им мембрильо, причем указал того, кто его ему дал.
Власти, узнав о случившемся, отправились разыскивать злодейку; а та, увидев, что дело плохо, скрылась в надежное место и никогда уже больше не появлялась.
Шесть месяцев пролежал Томас в постели и за это время иссох и обратился, как говорят, «в одни кожу да кости»; по всему было видно, что все чувства у него не в порядке и, хотя ему была оказана всяческая помощь, его вылечили только от болезни тела, а не от повреждения разума: после выздоровления он остался все же сумасшедшим, причем сумасшествие это было одним из самых удивительных.
Несчастный вообразил, что он сделан из стекла, а потому, когда к нему подходили, кричал страшным голосом, прося и умоляя вполне разумными словами и доводами к нему не приближаться, иначе он разобьется, ибо он действительно и на самом деле был не как все люди, а от головы до пят из стекла.
Дабы вывести его из этого странного заблуждения, многие, невзирая на крики и моления, подскакивали и обнимали его, прося убедиться и посмотреть, что он не разбивается.
Однако добивались они этим только того, что бедняга бросался на землю, испуская бесконечные крики, и немедленно впадал в забытье, продолжавшееся часа по четыре, а когда приходил в себя, то снова начинал свои просьбы и увещания в другой раз к нему не подходить.
Он предлагал разговаривать с ним издалека и задавать ему любые вопросы: он, мол, на все ответит, так как сделан не из мяса, а из стекла — а в стекле, веществе тонком и хрупком, душа работает гораздо быстрее и лучше, чем в теле, землистом и тяжелом.
Некоторые пожелали проверить, правду ли он говорит, и стали задавать ему вопросы относительно многих трудных предметов, «а что он отвечал охотно и чрезвычайно находчиво — обстоятельство, вызывавшее удивление у самых ученых университетских людей и у преподавателей медицины и философии, видевших, что человек, страдающий поразительным помешательством и воображающий себя стеклянным, обладает столь тонким разумом, что остро и точно отвечает на каждый вопрос.
Томас попросил подарить ему чехол, чтобы облечь в него хрупкий сосуд своего тела: он боялся, что узкая одежда его искалечит; ему дали серое одеяние и очень широкую рубаху, которую он надел с большой осторожностью и опоясался веревкой из хлопка; башмаков он не пожелал вовсе.
Для того чтобы получать пищу с значительного расстояния, он завел такой порядок: к концу палки он прикреплял соломенный футляр для урыльника, в который клали какие-нибудь плоды, бывающие в данное время года, — ни мяса, ни рыбы он не любил, пил только из ручья или реки и то рукой; а когда шел по улице, то всегда держался середины и косился на крыши, опасаясь, как бы сверху случайно не свалилась черепица и не разбила его.
Летом он спал в поле, под открытым небом, зимой забирался на постоялый двор и зарывался на сеновале по горло, говоря, что это самое подходящее и надежное ложе, которое могут пожелать для себя стеклянные люди. Когда гремел гром, он дрожал, как человек, отравленный ртутью, убегал в поле и не возвращался в город до окончания грозы.
Долгое время друзья держали его под замком; однако, видя, что болезнь не проходит, уступили его просьбам и разрешили ему ходить на свободе. Очутившись на воле, он стал бродить по городу, вызывая удивление и жалость у всех тех, кто его знал.
Сейчас же его обступили мальчишки; однако он сдерживал их палкой и просил разговаривать с ним издали, чтобы не разбить его, так как, будучи стеклянным, он, мол, весьма нежен и хрупок. Мальчишки, самый проказливый народ на свете, несмотря на его просьбы и крики, стали бросать в него тряпками и даже камнями, желая удостовериться, действительно ли он стеклянный или нет. Однако несчастный так кричал и доходил до таких крайностей, что прохожие невольно принимались бранить мальчишек и приказывали им больше не бросать. Впрочем, однажды, когда его особенно доняли, он обернулся и сказал:
— Мальчишки, что вам от меня нужно?.. У, назойливые мухи, грязные клопы, блохи нахальные! Или я, по-вашему, Черепичная гора в Риме, чтобы бросать в меня столько черепков и черепицы?
Слушая, как он бранится и всем отвечает, за ним следовала всегда толпа народу, и ребятишки избрали за благую честь слушать его и не швыряться.
Когда он проходил однажды по лоскутному ряду Саламанки, к нему обратилась одна продавщица платья:
— Вот вам крест святой, сеньор лиценциат, у меня душа болит, глядя на ваше несчастье. Только что поделаешь: плакать не могу!
Тот повернулся к ней и мерно проговорил:
— Filiae Hierusaletn, plorate super vos et super filios vestros.[82]
Муж тряпичницы понял соль этого ответа и воскликнул:
— Друг мой, лиценциат Видриера[83] (это имя сочинил для себя безумный), да вы, я вижу, скорее плут, чем сумасшедший!
— А мне это все равно, лишь бы я только дураком не был, — отрезал тот.
Проходил он как-то мимо «злачного» заведения, сиречь публичного дома; увидев, что у дверей стоит множество его обитательниц, он заметил, что это — лошадки из армии самого сатаны, сделавшие привал на адском постоялом дворе.
Некто спросил его, какой совет или какое утешение может он дать его другу, весьма огорченному тем, что жена его убежала с другим. На это Видриера ответил:
— Скажи ему, чтобы он возблагодарил господа за позволение удалить из дома врага своего.
— Значит, и искать не нужно? — спросил собеседник.
— Ни под каким видом, — сказал Видриера, — найти ее — значило бы найти вечного и неподкупного свидетеля своего позора.
— Допустим, что это так, — сказал тот. — А что мне делать, чтобы жить в мире с женой?
И получил ответ:
— Предоставь ей все, что ей надо, и позволь ей командовать над всеми домашними; не допускай только, чтобы она тобой командовала.
Один мальчик ему сказал:
— Сеньор лиценциат, я хочу удрать от отца: он все время меня сечет.
Видриера ответил:
— Запомни, дитя, что отцовская розга — еще не бесчестье, а вот розга палача — та действительно позорит.
Стоя как-то у церковных дверей, Видриера увидел, что мимо проходит крестьянин из числа вечно похваляющихся своим «старинным христианством»[84], а следом за ним идет другой, не имевший столь лестной славы; поглядев на них, лиценциат громко крикнул крестьянину:
— Эй, воскресенье, посторонись: дай место субботе!
О школьных учителях он говорил, что они счастливы уже потому, что всегда имеют дело с прелестными ангелами, и могли бы стать еще счастливее, если бы ангелочки эти не были сопливы.
Некто спросил, каково его мнение о сводницах. Он ответил, что сводничают обыкновенно не чужие, а свои же знакомые.
Слух о его безумии, ответах и остроумных словцах разнесся по всей Кастилии и дошел до одного вельможи и важного сеньора, проживавшего в столице и пожелавшего с ним поближе познакомиться. Он обратился к знакомому кавальеро, своему другу, жителю Саламанки, прося препроводить к нему чудака. Повстречав однажды нашего героя, тот сказал:
— Вы знаете, сеньор лиценциат, одно видное лицо в столице желает вас видеть и приглашает вас к себе.
На это Видриера ответил:
— Простите меня, ваша честь, но для дворца я не гожусь: я человек робкий и льстить никому не умею.
Тем не менее кавальеро удалось отправить его в столицу с помощью следующей хитрости: он поместил чудака в одну из двойных корзин, в каких обычно перевозят стекло, наполнив для равновесия вторую ее половину камнями и подложив в солому несколько стеклянных вещей, чем дал Видриере понять, что его перевозят как стеклянный сосуд.
Прибытие в Вальядолид[85] состоялось ночью. Из корзины Видриеру выгрузили в дом сеньора, пославшего за ним. Тот его ласково встретил и сказал:
— Добро пожаловать, сеньор лиценциат! Как вы чувствовали себя в пути? Как ваше здоровье?
— Всякая дорога хороша, когда она оканчивается, кроме разве дороги на виселицу. Состояние моего здоровья всегда среднее, ибо шалости пульса и мозга у меня как-то уравновешиваются.
На следующий день, увидев великое множество соколов, кречетов и других ловчих птиц, сидевших на своих насестах, он сказал, что для каждого вельможи и знатного сеньора соколиная охота, несомненно, является самым подходящим на свете занятием, но тем не менее им следует помнить, что в этом деле расход превышает приход по крайней мере в две тысячи раз. Травить зайцев, по его мнению, тоже очень занятно, но особенно хорошо это выходит, когда борзых вам ссужает сосед.
Кавальеро пришлось по вкусу такого рода безумие, и он позволил своему гостю ходить по городу под надзором и охраной человека, следившего за тем, чтоб его не обижали мальчишки. Эти последние и вся столица узнали его в шесть дней, и на каждой улице, на каждом шагу и углу приходилось ему отвечать на вопросы прохожих.
Между прочим, один студент спросил его, не поэт ли он: юноша, видимо, решил, что Видриера на все руки мастер. И вот какой он услышал ответ:
— До сих пор я не был ни настолько глуп, ни настолько счастлив.
— Не понимаю, при чем тут глупость и счастье, — заметил студент.
Видриера объяснил:
— Я не настолько глуп, чтобы сделаться плохим поэтом, но и не настолько счастлив, чтобы удостоиться чести быть хорошим.
Другой студент спросил, какого он мнения о поэтах.
— Искусство их я ценю высоко, — сказал он, — а самих поэтов ни в грош не ставлю.
— А почему? — спросили его.
— Да потому, что среди бесчисленного полчища поэтов хороших так мало, что и считать нечего; а потому и уважаю я их так, как если бы их вовсе не было! Но зато я весьма уважаю и почитаю поэтическую науку, включающую в себя все остальные науки: ибо всеми ими она пользуется и всеми себя украшает, отделывая и выпуская в свет свои чудесные создания, наполняющие весь мир пользой, восторгом и удивлением.
И прибавил далее:
— Я отлично знаю, какую высокую цену имеет хороший поэт, ибо твердо помню стихи Овидия, сказавшего:
Сurа ducum fuerunt olim regumque poetae: Praemiaque anliqui magna tulere chori.[86] Sanctaque majestas et erat venerabile nomen Vatibus: el largae saepe dabantur opes.Отнюдь не забываю я также о том, что это избранные натуры, ибо Платон величает их толкователями воли богов, а Овидий отозвался так:
Est deus in nobis: agitante callesscimus illo.[87]А кроме того он прибавил еще:
At sacri vates et divum cura vocamur.[88]Все это сказано про хороших поэтов, а про плохих, про стихоплетов, только и можно сказать, что они — воплощенное самомнение и невежество. — Он прибавил еще: — Очень советую вам поглядеть на одного из так называемых «прирожденных» поэтов, когда он желает прочесть своим слушателям сонет и поэтому испрашивает сначала разрешения: «Не прослушают ли сеньоры один сонетик, который я случайно сочинил вчерашнею ночью? На мой взгляд, он ничего, конечно, не стоит, но все-таки не лишен некоторой прелести»; при этом он кривит губы, сдвигает дугою брови, копается в фальдрикере и из тысячи разных засаленных и изорванных бумажонок, исписанных целой тысячью сонетов, извлекает, наконец, ту, которую хочет прочесть, и оглашает свой сонет медоточивым и сахарным голосом. Если случится, что слушатели по лукавству или по глупости его не похвалят, он заявляет: «Или вы, господа, не поняли моего сонета, или я плохо его прочел, а поэтому давайте повторим чтение еще раз; прошу слушателей уделить ему больше внимания, ибо сонет, клянусь честью, этого стоит!» И после этого снова начинается исполнение, с новыми жестами и новыми паузами.
А посмотрите, как они критикуют друг друга! Какими словами заклеймить лай современных щенят на древних и важных псов? Что сказать про хулителей знаменитых и редких людей, озаренных светом самой подлинной поэзии, в которой они находят облегчение И отраду среди многочисленных и серьезных своих трудов, блистая божественностью своего дарования и высотой мысли, наперекор и вопреки величавому невежде, рассуждающему о вещах, которых он не знает, и презирающему то, чего он не понимает? Что скажешь про человека, расписывающегося в своем уважении и преклонении перед глупостью, занимающей место под балдахином, и перед невежеством, восседающим у трона?
В другой раз его спросили: «По какой причине поэты по большей части бывают бедными?»
— А потому, что сами хотят, — отвечал Видриера, — ведь богатства сами плывут к ним в руки, и им следовало бы только использовать то, что у них каждую минуту находится перед глазами. Ведь они только и делают, что воспевают дам, буквально заваленных всякими богатствами: ибо волосы у них — из золота, лоб — из сверкающего серебра, глаза — из зеленого изумруда, зубы — из слоновой кости, губы — из коралла, шея — из прозрачного хрусталя; дамы эти плачут жидким жемчугом, а почва, по которой они ступают, будь она даже совсем сухая и бесплодная, мгновенно порождает жасмины и розы; дыхание их — чистейшая амбра и мускус. А все эти вещи неопровержимо и ясно указывают на большое богатство.
Наряду с этим еще много других вещей говорил Видриера относительно плохих поэтов; о хороших же он всегда отзывался хорошо и превозносил превыше рогов луны.
Однажды на паперти церкви св. Франциска он увидел несколько картин, писанных неумелой рукой, и высказал, что хороший художник природу «бережет», а плохой на нее блюет. В другой день он, приняв большие предосторожности, чтобы не разбиться, подошел к книжной лавке и сказал:
— Ремесло это мне очень по вкусу, не будь в нем, однако, одной заковырки.
Книгопродавец попросил оказать, какой именно. Тот ответил:
— А вот всех тех выкрутасов, которые вы проделываете, покупая у автора права на книгу, да еще ваших издевательств над ним в случае, если он печатает книгу на свой счет, так как вместо тысячи пятисот экземпляров вы печатаете три тысячи, и когда писатель думает, что в продажу поступают его книги, на самом деле продаются чужие.
Случилось так, что в этот же самый день на площадь были выведены шесть наказанных плетьми преступников, и когда глашатай выкликнул: «Тот, кто впереди, — вор!» — Видриера закричал соседям, за спинами которых стоял:
— Отойдите в сторону; ведь счет могут начать с кого-нибудь из вас!
А когда глашатай крикнул: «А этот задни…», — лиценциат сказал:
— Этот сеньор удивительно похож на «казенную часть» наших ребятишек.
Один мальчик сказал ему:
— Дружок Видриера, завтра будут сечь розгами сводника!
— Если бы ты сказал «сводницу», — ответил тот, — я мог бы подумать, что речь идет о… карете.
Стоявший поблизости носильщик ручных возков[89] спросил:
— А про нас, сеньор лиценциат, вы ничего не скажете?
— Могу сказать только то, — ответил Видриера, — что каждому из вас известно столько грехов, что ни одному исповеднику за вами не угнаться, но в то время как исповедники хранят свое знание в тайне, вы разносите его по всем тавернам.
Эти слова были услышаны погонщиком мулов (его постоянно окружали разного рода люди), который тоже полюбопытствовал:
— Ну, про нас, сеньор Графин, вы, наверное, ни единого слова не скажете: мы — люди порядочные и государству крайне необходимые.
На это Видриера заметил:
— По хозяину и слуга честен; скажи нам, кому ты служишь, и тогда сразу обнаружится, достоин ли ты почета. Вы, проводники, самые гнусные из всех тварей, живущих на свете. Однажды, когда я не был еще стеклянным, я сделал дневной перегон на наемном муле, и он оказался таким, что я в нем насчитал не менее ста двадцати недостатков, и притом крайне опасных и гибельных для рода человеческого. Все погонщики мулов — если не головорезы, то воры, а кроме того, еще и шуты гороховые: если их хозяева (так они величают своих седоков) — люди тихие, они подстраивают им столико каверз, сколько их у нас в городе за все минувшие годы не бывало; если это иностранцы — они их грабят; если студенты — проклинают; если монахи — чертыхаются; если солдаты — то дрожат и трепещут. Эти последние, а также матросы, ямщики и возчики кладей ведут самое странное и только одним им свойственное существование: ямщики большую часть своей жизни проводят на пространстве в полтора аршина, так как вряд ли можно больше насчитать от хомута до кузова телеги; одна половина времени у них уходит на пение, другая половина — на брань, все остальные свободные минуты — на орание: «Осади назад!», а если, паче чаяния, у них хватит досуга на то, чтобы вытащить из грязи колеса, то они охотнее прибегнут к помощи пары «проклятых дьяволов», чем к тройке мулов.
Матросы — народ безбожный и грубый; для них понятен только тот язык, которым пользуются на корабле. В хорошую погоду они прилежны, а во время шквала — лентяи; когда бывает буря, все они охотники командовать, а исполнять приказания не любят; у них один бот на свете: это — сундук и общий котел, а любимейшее их занятие — наблюдать, как укачивает пассажиров.
Возчики кладей — это существа, которые терпеть не могут простынь и кладут с собой спать только седла да сбрую; они всегда так усердствуют и так спешат, что душу свою погубят, а до перегона доедут вовремя; самой сладкой музыкой для них являются звуки ступки, приправой для всего — голод; утреня для них состоит в том, чтобы, вставши от она, задать скоту корм, а месса — в том, чтобы ее вовсе не слушать.
Всю эту речь Видриера произнес у самого входа в лавку одного аптекаря; повернувшись к хозяину, он вдруг сказал:
— Ремесло ваше могло бы принести великую пользу, не будь вы заклятым врагом своих ламп.
— Да какой же я враг своих ламп? — спросил аптекарь.
— Дело в том, — ответил Видриера, — что когда у вас не хватает какого-нибудь масла, вы заменяете его маслом от лампы, которая находится под рукой. А кроме того, ваше ремесло обладает еще одним свойством, способным подорвать славу самого искусного врача на свете.
В ответ на расспросы собеседника он рассказал историю про аптекаря, не имевшего смелости сознаться, что у него в лавке не было снадобий, которые прописывал доктор; вследствие этого он вместо одного средства клал какое-нибудь другое, обладавшее, по его мнению, теми же самыми свойствами и качествами; на самом же деле это было не так, и его негодная стряпня оказывала действие прямо обратное тому, которое должно было произвести правильно прописанное лекарство.
Некто спросил его, какого он мнения о врачах, и получил в ответ:
— Honora medicum propter necessitatem, et enim creavit eum altissimus. A deo enim est omnis medela, et a rege accipiet donationem. Disciplina medici exaltavit caput illius, et in conspectus magnatum collaudabitur. Altissimus de terra creavit medicinam et vir prudens non abhorrebit illam.[90] Так говорит Экклезиаст о медицине и хороших врачах; о плохих же следовало бы сказать совсем обратное, ибо они самые опасные люди для государства. В самом деле, судья может извратить или затянуть судопроизводство; стряпчий — поддержать из-за собственной выгоды несправедливое домогательство; купец — обобрать нас до нитки — одним словом, все лица, с коими мы по необходимости ведем свои дела, могут причинить нам известное зло, но никто не имеет права безнаказанно и с спокойным сердцем лишить нас жизни. Одни только врачи могут убивать и убивают нас, не испытывая ни страха, ни сокрушения, не обнажая при этом никакого меча, кроме меча рецепта; мало того, их преступления никогда не открываются, ибо пострадавших сию же минуту зарывают в землю!
Помню, что, когда я был еще человеком из мяса, а не из стекла, как теперь, — один лекарь получил однажды отказ от больного, который перешел лечиться к другому врачу; несколько дней спустя лекарь удосужился зайти в аптеку, куда посылал свои рецепты его соперник, и справился у аптекаря, как здоровье покинутого больного и не прописал ли ему новый врач какого-нибудь слабительного. Аптекарь ответил, что у него есть рецепт слабительного, которое больной должен принять на следующий день; тот попросил показать и, увидев, что в конце рецепта стояло: sumat diluculo[91], сказал: «все, что входит в состав слабительного, я одобряю, кроме этого diluculo, которое вызывает в теле неумеренную влагу».
Все эти и другие замечания по поводу разных ремесел и занятий были причиной того, что за чудаком всегда ходили люди, не причинявшие ему особенного зла, но зато и не оставлявшие его в покое; тем не менее он едва ли сумел бы защитить себя от мальчишек без охраны приставленного к нему сторожа.
Кто-то задал вопрос: «что нужно делать, чтобы никому не завидовать?» Видриера сказал:
— Спать; ибо до тех пор, пока не окончится твой сон, ты будешь ничем не хуже предмета своей зависти.
Другой спросил, как бы ему поудобней подъехать к должности комиссара, которой он добивается уже два года. Видриера посоветовал:
— Сядь на коня, высмотри человека, исполняющего эту должность, и постарайся прокатиться с ним рядом; вот тогда ты и подъедешь к цели своих желаний.
Случилось как-то, что мимо того места, где стоял Видриера, проехал следственный судья, отправлявшийся на уголовное дело в сопровождении толпы людей и двух альгуасилов.
Лиценциат опросил, кто это такой. Когда ему объяснили, он сказал:
— Бьюсь об заклад, что в груди у этого судьи копошатся гадюки, в чернильнице припрятаны пистолеты, а в руках находятся молнии, заготовленные для того, дабы разнести в пух и прах все, имеющее касательство к делу. Был у меня, помнится, один друг, тоже судья, который разбирал порученное ему уголовное дело и произнес исключительно строгий приговор, на много каратов перевесивший виновность преступников. Я спросил его, зачем он вынес столь беспощадное и явно несправедливое решение. И услыхал в ответ, что он хотел облегчить апелляцию и предоставить вместе с тем членам Совета полную свободу проявить свое милосердие, смягчив суровый приговор и ограничившись разумным взысканием. Я заметил ему, что было бы правильней произнести приговор таким образом, чтобы, не задавая советникам лишней работы, приобрести славу искусного и справедливого судьи.
В толпе слушателей, которые, как было сказано выше, всегда окружали безумца, находился один его знакомый, одетый в костюм ученого. Кто-то назвал его «сеньор лиценциат». Видриере было известно, что у этого человека нет даже степени бакалавра, а потому он сказал ему:
— Оберегай, дружище, свой титул от встречи с монахами, выкупающими пленных: отберут они его у тебя как бродягу!
На это его знакомый заметил:
— Не будем ссориться, сеньор Видриера; ведь вы же отлично знаете, что я человек высокой и глубокой учености.
Видриера вставил:
— Я знаю только то, что в отношении наук вы — Тантал[92], ибо по высоте своей они от вас ускользают, а по глубине своей — для вас недоступны.
Как-то раз, стоя близ лавки портного, он увидел, что тот сидит сложа руки, и сказал ему:
— Поистине, сеньор маэстро, вы скоро сподобитесь святости.
— А откуда это видно? — спросил портной.
— Откуда видно? — переспросил Видриера. — Да раз вы ничего не делаете, то, значит, и обманывать никого не будете! — И затем прибавил: — Плох тот портной, который не обманывает и работает в праздники! Удивительное дело! среди всех людей портновского звания вряд ли найдется один, умеющий сшить костюм «по-праведному», а у остальных все костюмы выходят великими «грешниками»
О сапожниках он говорил:
— Неудачных сапог они не шьют никогда: если на примерке сапог оказывается узким и тесным, то так и следует: щеголи ведь всегда носят обувь по мерке; а кроме того, стоит в обуви походить два часа, и она сделается шире, чем лапти; если же сапог оказывается широким, то и тогда они уверяют, что так, собственно, и должно быть, ибо каждому следует помнить о подагре.
Один бойкий молодой человек, служивший в областном управлении, страшно донимал Видриеру вопросами и расспросами и сообщал ему новости, ходившие по городу, так как лиценциат обо всем рассуждал и на все давал ответы. Сказал он ему как-то:
— Видриера, сегодня ночью в тюрьме отошел в лучшую жизнь ростовщик, осужденный на виселицу.
Тот ответил:
— И отлично сделал, что отошел, а попадись он в руки палача, пришлось бы ему лететь туда по воздуху.
На паперти церкви св. Франциска собралось несколько генуэзцев, и когда герой наш проходил мимо, один из них окликнул его и сказал:
— Пожалуйте сюда, сеньор Видриера; расскажите нам какие-нибудь анекдоты.
— Не хочу, — возразил тот, — а то вы их сию же минуту отправите в Геную!
Повстречал он однажды какую-то купчиху, впереди которой шла ее дочка, очень некрасивая, но пышно разодетая и осыпанная драгоценными камнями и жемчугом, и обратился к матери с такими словами:
— Как хорошо вы сделали, что ее вымостили: теперь ее рытвины и ухабы как рукой сняло!
Про пирожников он говорил, что они уже много лет безнаказанно развлекают себя игрой «в двойную ставку»: пирог, стоящий два мараведиса, продается у них за четыре; тот, что стоит четыре, — за восемь мараведисов, а тот, что стоит восемь, — за полреала, и все это делается по их собственному почину и усмотрению.
Содержателей кукольных театров он всячески поносил и при этом указывал, что они не только бродяги, но к тому же еще крайне легкомысленно обращаются с вещами божественными, ибо куклы, которых они показывают в своих ящиках, вместо набожных чувств возбуждают у зрителей смех. Случается, что, свалив в один мешок все фигуры Ветхого и Нового завета, они садятся на них сверху, когда едят и пьют в кабаках и харчевнях; одним словом, можно только удивляться, почему власти не заставят умолкнуть на веки вечные все эти кукольные ящики и почему этих бродяг не выгонят из государства.
Мимо того места, где стоял Видриера, однажды прошел актер, одетый как какой-нибудь князь. Видриера посмотрел на него и сказал:
— Помнится, я видел его на сцене с лицом, намазанным мукой, и в тулупе мехом наружу; за всем тем, однако, вне подмостков он всегда клянется честью идальго.
— Должно быть, он и есть дворянин, — вставил кто-то: — среди актеров часто попадаются люди хорошего рода и идальго.
— Это правда, — ответил Видриера, — хотя кому какое дело в театре до благородного происхождения? Там нужно быть статным, пригожим и обладать свободною речью! А вообще актеры в поте лица и с великим трудом зарабатывают свой хлеб: они всегда должны много учить наизусть, подобно цыганам они постоянно скитаются из одного селения в другое, из гостиницы на постоялый двор, мучая себя из-за чужого удовольствия, так как благополучие их зависит от угождения вкусу публики; а кроме того, ремесло их таково, что не заключает в себе никакого обмана, ибо они ежеминутно выносят свой товар на народную площадь, и всякий его видит и о нем судит. Содержатели трупп тоже трудятся до изнеможения: хлопоты их неисчислимы, ибо они обязаны всегда много зарабатывать, дабы к концу года не залезть в такие долги, из-за которых кредиторы вчиняют иски. А в заключение скажу, что актеры так же необходимы в государстве, как леса, рощи, приятные глазу виды и все вообще предметы, доставляющие нам благородное развлечение.
Он привел еще мнение одного своего знакомого, утверждавшего, что человек, ухаживающий за актрисой, ухаживает в ее лице сразу за многими дамами, а именно: за королевой, нимфой, богиней, судомойкой, пастушкой, бывает, что и за пажом и лакеем, ибо все эти и еще другие роли исполняют обыкновенно женщины.
Кто-то спросил его: «Кто самый счастливый человек в мире?» Видриера сказал, что Nemo, ибо — nеmo novit patrem, nemo sine crimine vivit, nemo sua sorte contentus, nemo ascendit in coelum.[93]
О фехтовальщиках он однажды заметил, что они учат такой науке или искусству, которых они, когда нужно, сами не знают: а происходит это потому, что, ослепленные собственной самоуверенностью, они хотят свести к математическим доказательствам — по существу своему непогрешимым — гневные движения и мысли своих противников.
Совершенно исключительную неприязнь Видриера испытывал к людям, красящим себе бороду. Однажды перед ним заспорили два человека, один из которых был португалец; этот последний, обращаясь к испанцу, сказал, схватив себя за сильно накрашенную бороду:
— Рór istas darbas que tenho no rostro![94]
Видриера вмешался и посоветовал:
— Olhay, homem, nâo digais tenho, sino tinho.[95]
У другого прохожего борода от плохой краски стала словно из яшмы: вся разноцветная. Ему Видриера сказал, что борода его красотой своей не уступит нежной навозной куче. У третьего борода была наполовину черная, наполовину белая, так как по небрежности он забывал подкрашивать новые волосы. Этому Видриера строго-настрого наказал ни с кем не ругаться и не ссориться, так как у него есть все данные, чтобы получить «подлеца» в самую середину своей великолепной бороды.
Однажды он рассказал историю о том, как одна смышленая и неглупая девушка, исполняя волю родителей, дала согласие на брак с седым стариком, который в ночь накануне брака вздумал омыться, но не в Иордане, — как любят выражаться старушки, — а в сосуде с острой водкой и серебром, и так подмолодил себе бороду, что лег спать седым как лунь, а проснулся чернее сажи.
Настало время обручения; «по крапу и по рубашке» девица сразу догадалась, какого рода перед нею «фигура», а потому заявила родителям, что никакого другого жениха, кроме того, которого ей показывали, она не желает. Те стали уверять, что именно его они ей и показывали как ее будущего мужа. Однако невеста заартачилась и привела свидетелей, удостоверивших, что прежний жених был почтенного вида и седой как лунь, а нынешний — человек совсем иного обличья, ничего общего с первым не имеет и обманным образом выдает себя за жениха. Девица уперлась на своем, крашеный старец оскандалился, и брак был расстроен.
Дуэний Видриера ненавидел в такой же мере, как и любителей крашеных бород. Он рассказывал чудеса про всякие их permafoy[96], про их накидки, похожие на саван, про их жеманство, прихоти и необычайную скаредность; они донельзя раздражали его своими вечными ссылками на нежность своего желудка и на головокружения, а заодно и своей речью, которую они пересыпают такими завитушками, каких даже у них на токах не сыщешь; возмущался он также их никчемностью и невозможным привередничаньем.
Кто-то спросил:
— Что бы это значило, сеньор лиценциат, что вы, критикуя разные звания, ни разу не отозвались дурно о нотариусах? А ведь поговорить есть о чем!
Видриера ответил:
— Хоть я и стеклянный, но у меня все-таки хватает твердости не признавать приговоров толпы, сплошь и рядом оказывающихся ошибочными. Мне думается, что для сплетников нотариусы являются чем-то вроде азов, с которых они всегда начинают, или той руладой, которую пускают вначале певцы, ибо, подобно тому как без азов нельзя осилить никакую науку, а певцу без рулады нельзя начать свою песнь, так и сплетник, желающий показать свой язык, обязан бранить нотариусов, альгуасилов и прочих служителей правосудия. А между тем звание нотариуса таково, что без него истине пришлось бы ходить по свету крадучись, пристыженной и посрамленной! Недаром и Экклезиаст говорит: In manu dei potestas hominis est, et super faciem scribae imponet honorem.[97]
Нотариус — это общественный деятель, и без него судья не в состоянии исполнить как следует свои обязанности. Ни рабы, ни дети рабов никогда не могут сделаться нотариусами; ими бывают только свободные и законорожденные граждане, не имеющие в крови примеси нечистой расы. Они присягают на тайну и верность и обязуются не составлять ростовщических записей, так что ни дружба, ни вражда, ни корысть, ни собственная невыгода не могут склонить их к недобросовестному и нехристианскому исполнению своего долга. А если звание это требует от своих носителей столь высоких качеств, то было бы странно предположить, что двадцать тысяч нотариусов, проживающих в Испании, угодили все как один человек в самые руки дьявола, точно они и впрямь его же поля ягода. Я в такую вещь никогда не поверю и не хочу, чтобы и другие верили! А в заключение еще раз повторю, что нотариусы — самые нужные люди в каждом благоустроенном государстве. Если же, взимая чрезмерно высокие пошлины, они и вправду творят неправду, то уже одно это обстоятельство может указать на спасительный выход и заставить их всегда быть настороже.
Относительно альгуасилов он заметил, что они волей-неволей всегда наживают себе врагов, ибо ремесло их состоит в том, чтобы хватать, ловить, вывозить чужое имущество, содержать людей под стражей и питаться на их счет. Он сурово осуждал нерадивость и невежество стряпчих и податных чиновников, сравнивая их с докторами, получающими плату независимо от того, поправится или не поправится их больной; совершенно так же ведут себя стряпчие и податные чиновники, которые живут себе припеваючи, не думая об исходе поручаемых их ведению дел.
Спросили его как-то, какие края ему больше нравятся. Он ответил, что скороплодные и урожайные.
— Вы меня не поняли, — возразил собеседник, — я спрашиваю вас о том, какой город лучше: Вальядолид или Мадрид?
Видриера сказал:
— В Мадриде хороши концы, а в Вальядолиде — середина.
— Не понимаю, — снова заметил собеседник.
Чудак пояснил:
— В Мадриде — земля и небо, а в Вальядолиде — дома.
Случилось лиценциату услышать, как один человек рассказывал другому о том, что жена его, переехав в Вальядолид, сразу же заболела. «Видно, новая земля ее „попробовала!“ — прибавил говоривший.
— Если жена ваша ревнивая, можно только пожалеть, почему ее земля сразу не съела! — вставил от себя Видриера.
О пеших почтарях и музыкантах он говаривал, что судьба и надежды их весьма ограниченны, ибо первые достигают предела своих желаний, когда под ними взыграет конь, а вторые — когда они играют для особы короля.
О дамах, именуемых куртизанками, он отозвался в том смысле, что среди них гораздо легче встретить учтивую, чем здоровую.
Стоя как-то в церкви, он заметил, что там собираются хоронить старика, крестить ребенка и венчать женщину. Томас заметил, что церкви — это поля сражений, на которых гибнут старики, побеждают дети и справляют триумфы женщины.
Однажды его ужалила в шею оса. Видриера не решался стряхнуть ее, опасаясь разбиться, и горько жаловался на боль. Кто-то заметил при этом, что стеклянное тело никак не может страдать от укуса.
— Эта оса, наверное, сплетница, — оказал Видриера, — а язык и жало сплетника поражают не только стеклянные, но и бронзовые тела!
Увидев проходившего мимо раскормленного монаха, один из слушателей нашего чудака воскликнул:
— От худобы святой отец еле ноги передвигает!
Видриера рассердился и вскричал:
— Никто не вправе забывать слова святого духа: Nolite tangere christos meos.[98]
И, распалившись гневом, сказал:
— Подумайте, и сами увидите, что в числе святых, которые за последние годы были канонизированы и причислены к лику блаженных, не значится ни одного капитана дона Такого-то или секретаря дона Такого-то и из Таких-то; не найдете вы там ни графа, ни маркиза, ни герцога, а просто-напросто: брата Дьего, брата Хасинто, брата Раймундо, то есть одних только братьев и монахов, ибо монашеские ордена — это небесные Аранхуэсы[99], плоды коих возлагаются на трапезу господню.
Он говорил еще, что язык сплетника — все равно что орлиные перья; положите их рядом с перьями других птиц, и они сразу же начинают их щипать и сокрушать.
О содержателях игорных домов и картежниках он сообщал чрезвычайно занятные вещи. Он доказывал, что содержатели игорных домов — это явные лиходеи, ибо, требуя вперед долю с каждого банкомета, они заинтересованы в том, чтобы каждый из них поскорей проигрался и передал карту следующему, и тогда они опять наживаются на новом счастливце. Он отозвался с большой похвалой о выдержке одного игрока, который целую ночь только и делал, что проигрывал, и, несмотря на свой бурный и вспыльчивый нрав, он, опасаясь ухода противника, не проронил ни единого слова и мучился как сатана. Одновременно Видриера не скупился на похвалы хозяевам таких игорных домов, где не разрешаются никакие другие игры, кроме пикета и «польи»; несмотря на это, они — медленно, но верно, — никого не боясь и не попадаясь на замечание доносчикам, выручают к концу месяца гораздо больше прибыли, чем иные пройдохи, заводившие у себя игру в «эстокаду», «репароло», «семь взяток» и «в свои записи».
Одним словом, Видриера высказывал такие суждения, что, не будь всех этих криков при первой же попытке подойти к нему или протянуть к нему руку, не будь этого странного одеяния, ограничений в еде, забавной манеры пить, желания летом спать под открытым небом, а зимой — на сеновале (о чем выше было нами сказано, и что явно свидетельствовало о его безумии), никто бы ни на минуту не усомнился в том, что лиценциат — один из самых умных людей на свете.
Два года с небольшим продолжалась эта болезнь, а потом один монах ордена св. Херонимо, с удивительным искусством и ловкостью учивший немых говорить и понимать чужую речь и излечивавший людей от сумасшествия, сжалился над несчастным и, приступив к делу, успешно и полностью достиг своей цели, вернув бедняге прежнюю силу суждения, разум и связность мыслей. Убедившись в выздоровлении Видриеры, монах велел ему надеть платье юриста и возвратиться в столицу, дабы проявить там свой ум в таком же блеске, в каком он прежде проявлял свое безумие, заняться своим делом и стяжать себе этим славу. Видриера послушался совета и, переменив фамилию Родаха на Руэда, отправился в столицу.
Но едва он показался в городе, как сию же минуту его признали мальчишки. Увидев, что платье на нем совсем не похоже на прежнее, они не стали ни кричать, ни задавать вопросы, а только ходили за ним следом и спрашивали друг у друга: «Разве это не безумный Видриера? Нет, это он. Только теперь он уже умный; а может быть, и нет, потому что сумасшедшие ходят и в плохих и в хороших костюмах. Давайте спросим у него что-нибудь и разрешим наше сомнение!»
Лиценциат все это слышал, молчал и испытывал гораздо больше смущения и стыда, чем в то время, когда он был сумасшедшим.
Вслед за мальчуганами узнали его и взрослые; не успел он дойти до площади Совета, как за спиной его собралось свыше двухсот человек самых разнообразных званий.
С таким количеством спутников, превосходившим аудиторию любого профессора, пришел он на площадь, где его окружили находившиеся там люди. Увидев вокруг себя целую толпу, он возвысил голос и сказал:
— Сеньоры! Я действительно лиценциат Видриера, но вместе с тем я отчасти и другое лицо, ибо теперь меня зовут лиценциат Руэда! Злоключения и несчастия, происходящие с нами по соизволению свыше, лишили меня разума; милосердный господь помог мне обрести его вновь. Основываясь на суждениях, которые я высказывал во время безумия, вы легко можете заключить о том, что я могу сделать и сказать в здоровом состоянии. Я имею степень лиценциата прав, полученную в Саламанке, где я учился в большой бедности и вышел в лиценциаты вторым; это последнее обстоятельство ясно показывает, что не высокая поддержка, а способности вывели меня в ученые люди. Я приехал в столицу — это великое море — для того, чтобы сделаться стряпчим и жить трудами своих рук, но если вы будете ходить за мной по пятам, я добуду и заработаю себе одну лишь погибель. Именем божиим заклинаю вас, не превращайте свое следование в прямое преследование и не лишайте здорового человека куска хлеба, который он зарабатывал себе во время болезни.
Обращайтесь ко мне по всем вопросам, и если раньше вы меня спрашивали на площади, то теперь прошу пожаловать ко мне на дом, где вы без труда убедитесь в том, что человек, недурно отвечающий без подготовки, может ответить еще лучше, когда подумает.
Все его внимательно выслушали, и кое-кто отошел после этого в сторону. Когда он отправился домой, число его спутников несколько поубавилось.
На следующий день с ним произошло то же самое. Он произнес еще одну речь — и никакого толку. Проживал он много, а заработка не имел никакого. Увидев, что вскоре ему придется помирать с голоду, он решил покинуть столицу, уехать во Фландрию и применить там свои телесные силы, поскольку таланты его здесь никому не понадобились.
Он привел свой план в исполнение и, покидая столицу, сказал:
— О столица, столица! Ты делаешь своими баловнями наглых попрошаек и губишь людей скромных и достойных; ты на убой откармливаешь бесстыдных шутов и моришь голодом людей умных и застенчивых.
После этого он отправился во Фландрию, и вышло так, что вместо научной славы, о которой он вначале мечтал, он покрыл себя славой военной, отличившись под командой своего друга, капитана Вальдивии, и оставив по себе память умного и доблестного солдата.
Сила крови
В теплую летнюю ночь старый идальго с женой, маленьким ребенком, шестнадцатилетней дочерью и служанкой возвращался в Толедо с прогулки по реке. Ночь выдалась ясная, было одиннадцать часов; они медленно шли по пустынной дороге, чтобы усталостью не испортить себе удовольствия, доставленного развлечениями на реке и в долине возле Толедо. Уверенный в безопасности, поддерживаемой строгим правосудием и добрыми нравами населения этого города, почтенный идальго и его мирная семья были далеки от мысли, что с ними может случиться какое-нибудь несчастье. Но в большинстве случаев никто никогда не ожидает грозящих ему бедствий, так что и с ними вопреки всяким ожиданиям произошло несчастье, смутившее их радость и заставившее их долгие годы проливать слезы.
В Толедо жил молодой кавальеро лет двадцати двух. Он был богат и принадлежал к знатному роду; но распущенный нрав, чрезмерная свобода и легкомысленные товарищи побуждали его совершать безрассудные поступки, не соответствовавшие его положению и закрепившие за ним прозвание дерзкого. Этот кавальеро (по уважительным причинам мы пока что умолчим о его полном имени и назовем его Родольфо) спускался по тому же склону, на который поднимался идальго; его сопровождали четверо друзей; все они были молоды, веселы и развязны. Обе стороны — а вернее было бы сказать: волки и овцы — встретились. Родольфо и его товарищи, прикрыв свои лица, с наглою вольностью заглянули в лицо матери, дочери и служанки. Старик возмутился и стал упрекать их за дерзость; те ответили кривлянием и насмешками, но больше ничего себе не позволили и пошли дальше. Однако необыкновенная красота лица, которое увидел Родольфо (речь идет о Леокадии; ибо этим именем будем мы называть дочь идальго) с такой силой запечатлелась в его памяти и пленила его волю, что в нем зародилось желание насладиться любовью девушки, несмотря на все неприятности, которые могут от этого произойти. В один миг сообщил он свою мысль товарищам, и они в ту же минуту решили вернуться и похитить девицу, чтобы доставить удовольствие Родольфо: у людей богатых, живущих широко, всегда находятся друзья, одобряющие их беззакония и оправдывающие их дурные замашки. Возыметь злое намерение, сообщить его товарищам, одобрить план похищения и похитить Леокадию — все это было делом одной минуты. Закрыв свои лица[100] платками, они обнажили шпаги, повернули обратно и очень скоро настигли семью идальго, не успевшую еще поблагодарить бога за избавление от дерзких рук. Родольфо бросился на Леокадию, схватил ее и пустился бежать; у девушки не было сил сопротивляться, так как испуг лишил ее голоса, а значит, и возможности звать на помощь; потеряв сознание, потеряла она и свет очей и не знала, кто и куда ее несет. Отец и мать стали кричать, маленький братец расплакался, служанка стала царапать себе лицо; но крики эти не были услышаны, плач не пробудил ни в ком сострадания, не помогло и самоистязание, ничто не нашло себе отклика в пустынной местности, безмолвной ночной тишине и в жестоких сердцах злоумышленников. В конце концов одни удалились довольными, а другие остались в печали. Родольфо беспрепятственно достиг своего дома, а родители Леокадии вернулись домой в тревоге, горе и отчаянии: слепыми, ибо они лишились света своих очей — глаз дочери; одинокими, ибо общество Леокадии было для них приятно и сладостно; смятенными, так как они мучились сомнением, следует ли доводить до сведения правосудия о несчастье; а главное, полными страха, что они сами окажутся орудием огласки своего позора. Они понимали, что им как бедным идальго следует искать покровительства, но не знали, на кого им жаловаться, если только не на злую свою судьбу.
А между тем Леокадия находилась уже в доме и в комнате ловкого и хитрого Родольфо; хотя он по пути заметил, что она лишилась чувств, тем не менее закрыл ей платком глаза, чтобы она не видела ни улиц, по которым ее несли, ни дома, ни покоя, в котором она очутилась. Прихода Родольфо никто не заметил, так как он занимал отдельное помещение в доме отца (последний был еще жив), а ключ от своей комнаты и от всего помещения он имел при себе, — великая непредусмотрительность со стороны родителей, желающих, чтобы их дети жили скромно! Еще прежде чем вернулось к Леокадии сознание, Родольфо удовлетворил свою страсть, ибо молодые люди, увлекаемые вожделением похоти, в редких случаях, а то и никогда, не ищут для себя особенных удобств и прикрас для большого возбуждения и соблазна. Лишенный света разума, Родольфо в темноте похитил у Леокадии ее драгоценнейшее сокровище; а так как греховная чувственность в большинстве случаев приходит к концу сейчас же по удовлетворении страсти, то и Родольфо в ту же минуту захотелось, чтобы Леокадии уже не было в его комнате. У него явилась мысль оставить в таком виде лишенную сознания девушку на улице; он уже собирался привести в исполнение свое намерение, как вдруг заметил, что Леокадия пришла в себя и заговорила:
— Где я, несчастная? Откуда эта темнота? Почему вокруг меня мрак? Что я, в раю невинности или в греховном аду? Иисусе! Кто-то трогает меня! Я в кровати? Разве я больна? Слышишь ли ты меня, сеньора матушка? Слышишь ли ты, возлюбленный отец? О, я, злосчастная! Вижу, вижу я, что родители меня не слышат и что касаются сейчас меня мои враги. О, какое было бы счастье, если бы темнота эта длилась вечно и если бы глазам моим не пришлось больше глядеть на свет божий! Пусть это место (каково бы оно ни было) послужит могилой моей чести, ибо неведомое бесчестие лучше, чем честь, опозоренная во мнении окружающих… Припоминаю (о, лучше бы никогда этого не помнить): еще недавно я шла вместе с родителями… помню, меня схватили… Да, теперь ясно, мне не следует больше показываться людям на глаза! Кто бы ты ни был, — ты, что находишься тут со мною! — она схватила Родольфо за руки, — умоляю тебя, если только сердце твое допускает хоть какую-нибудь просьбу: ты сразил мою добродетель, так срази же и самую жизнь и убей меня сию же минуту. Женщина, лишенная чести, не должна жить! Подумай: бессердечную жестокость, с которой ты меня опозорил, ты смягчишь милосердием, если убьешь меня: ты окажешься тогда одновременно и жестоким и милостивым.
Слова Леокадии смутили Родольфо; как неопытный юноша, он не знал, что ему сказать и что делать. Его молчание удивило Леокадию: ощупью попробовала она убедиться, не дух ли, не привидение ли это. Но, почувствовав тело и вспомнив про нападение, которому она подверглась, когда шла со своими родителями, она удостоверилась в том, что ее несчастье истинно. С этой мыслью девушка стала продолжать свою речь, прерванную было рыданиями и вздохами:
— Дерзкий юноша (по твоим поступкам я вижу, что ты еще молод), я прощаю тебе оскорбление, которое ты мне нанес, если только ты мне клятвенно пообещаешь никому не говорить о нем и скрыть его под покровом вечного молчания, подобно тому как это дурное дело ты совершил под покровом мрака. Малого вознаграждения требую я от тебя за столь великое поношение; но большего я не могу просить, да и ты не пожелаешь дать. Имей в виду, я никогда не видела твоего лица и не хочу его видеть; хотя я и помню свою обиду, но не желаю помнить обидчика, не желаю хранить в памяти образ виновника моего несчастья. Жалобы мои останутся между много и небом; я не хочу, чтобы их слышал свет, который судит о вещах как ему вздумается, не считаясь с обстоятельствами. Сама не знаю, каким образом я высказываю тебе подобные истины: обычно они открываются на основании долгого опыта и в очень зрелые годы, мне же не исполнилось еще и семнадцати лет. Из этого я заключаю, что горе в одинаковой мере может и связать и развязать язык страдающего, причем иной расписывает свои печали, желая, чтобы ему поверили, а другой не говорит с них из опасения, как бы ему не стали помогать. Что до меня, то стану ли я молчать или говорить, я все равно уверена, что я заставлю тебя или поверить мне или помочь мне, потому что не верить мне — явное безрассудство, а не помочь мне — значило бы лишить меня всякого утешения. Не буду приходить в отчаяние, так как облегчить мое положение тебе будет нетрудно. Вот что… Заметь, ты не должен думать и надеяться, что с течением времени смягчится справедливая злоба, которую я к тебе питаю! И не вздумай еще умножать мои обиды: чем меньше ты мною насладишься (а ты ведь уже насладился мною), тем меньше будет распаляться твоя похоть… Ты сам знаешь, что оскорбил меня случайно, не лав себе времени все здраво обсудить и обдумать; я же. буду знать, что я как будто и не рождалась на свет божий, а если и родилась, то для того только, чтобы быть несчастной… Выведи меня сейчас же на улицу или к Большому собору; оттуда я легко сумею найти дорогу домой. Но ты должен поклясться мне, что не последуешь за мною и не будешь узнавать, где мой дом, как зовут меня, моих родителей или родственников; о, если бы они были так же богаты, как благородны, их не постигло бы теперь подобное несчастье! Дай мне ответ на мою просьбу, а если ты боишься, что я смогу узнать тебя по голосу, то заметь, что я ни с кем из мужчин, кроме отца и исповедника, не разговаривала и мало кого слышала так близко и так часто, чтобы суметь отличить кого-нибудь по звуку речи.
На разумные речи опечаленной Леокадии Родольфо ответил было тем, что стал ее обнимать, желая снова добиться своего и усугубить бесчестие девушки. Тогда Леокадия с гораздо большей силой, чем можно было ожидать от ее нежного возраста, стала защищать себя ногами, руками, зубами и, наконец, языком, сказав следующее:
— Кто бы ты ни был, изменник и бессердечный человек, — знай: своей поживы ты добился от меня потому, что я была как дерево или бесчувственная колонна, и такого рода победа и торжество покрывают тебя позором и стыдом. А то, чего ты теперь домогаешься, ты не получишь иначе, как вместе с моей смертью. Ты меня втоптал в грязь и опозорил в состоянии беспамятном, но теперь, когда я пришла в себя, тебе легче будет убить меня, чем одолеть. Если бы я наяву уступила сейчас без сопротивления твоему гнусному желанию, ты мог бы подумать, что мой обморок, когда ты бесстыдно погубил меня, был притворным.
Леокадия отбивалась так смело и упорно, что силы и желания Родольфо ослабели, а так как причиной его вольного поступка с Леокадией была одна сладострастная похоть (а она никогда не порождает истинной любви, продолжающейся после того, как похоть проходит), то и ощутил он в себе если не раскаяние, то во всяком случае весьма слабое стремление повторить свое нападение; и вот, охладевший и утомленный Родольфо, не сказав ни слова, оставил Леокадию лежать в комнате на кровати и, закрыв дверь, отправился разыскивать друзей, чтобы посоветоваться, как ему быть. Увидев, что ее оставили одну и закрыли, Леокадия поднялась с постели и обошла всю комнату, ощупывая руками стены: она искала дверь, чтобы выйти, или окно, чтобы выпрыгнуть. Онa нашла дверь, которая оказалась на запоре; нащупав окно, она открыла его, и в комнату проник яркий лунный свет, столь сильный, что Леокадия могла различить краски цветных ковров, украшавших комнату. Она увидела также, что кровать была золоченая и так богато убрана, что скорее походила на ложе знатного сеньора, чем на кровать скромного кавальеро. Леокадия пересчитала столы и стулья и запомнила место, где была дверь. Она заметила, что на стенах висят картины, но не могла разглядеть, какие. Большое окно было снабжено толстой решеткой и выходило в сад, обнесенный высокими стенами; это обстоятельство помешало намерению Леокадии выпрыгнуть на улицу. По размерам комнаты и по ее роскошному убранству Леокадия могла заключить, что хозяин дома — человек чрезвычайно знатный и богатый. На стоявшем у окна письменном столике она заметила небольшое серебряное распятие, — она схватила его и спрятала в рукаве платья; поступок этот объяснялся не воровством, но и не набожностью: Леокадией руководило обдуманное, разумное намерение. Затем она затворила окно, легла опять на постель и стала ожидать конца так плохо начавшегося для нее приключения.
Не прошло, по расчету Леокадии, и получаса, как она услышала, что дверь отворяется; кто-то, не говоря ни слова, подошел к ней, завязал ей глаза платком, взял за руку, вывел из комнаты и опять замкнул за собой дверь. Это был Родольфо: он отправился было искать товарищей, но затем решил не делать этого, так как ему показалось, что будет неловко делать их свидетелями своего недостойного обхождения с девицей. Он предпочел сказать им, что, раскаявшись в своем поступке, он, растроганный слезами девушки, отпустил ее с полдороги. С этой мыслью он вернулся домой, чтобы, в согласии с ее просьбой, успеть довести Леокадию до Большого собора, прежде чем забрезжит утро и день помешает ему отделаться от своей спутницы, которую иначе пришлось бы держать взаперти до самой ночи, а в течение этого срока ему не хотелось подвергать себя соблазну нового насилия и рисковать тем, что она как-нибудь его узнает. Итак, Родольфо вывел Леокадию на площадь Городского Совета и тут, изменив голос, сказал ей на полукастильском-полупортугальском языке, что она может спокойно идти домой и что никто за ней не последует. Родольфо скрылся прежде, чем Леокадия успела сорвать платок с своего лица.
Оставшись одна, Леокадия сняла свою повязку и узнала место, куда ее привели; оглянувшись по сторонам, она никого не увидела. Тем не менее из опасения, что за нею издали следят, она останавливалась на каждом шагу по дороге к своему дому, который был недалеко; чтобы ввести в заблуждение возможных соглядатаев, она вошла в какой-то случайно незапертый дом и, подождав немного, отправилась к себе. Родителей она застала в отчаянии; они еще не раздевались и не могли даже подумать об отдыхе. Увидев дочь, они с распростертыми объятиями и со слезами на глазах бросились ей навстречу. Взволнованная и испуганная Леокадия попросила родителей пройти в другую комнату и там во всех подробностях рассказала им свое злополучное приключение, прибавив, что человек, который ее похитил и обесчестил, остался ей неизвестен. Рассказала она и про все виденное ею на месте, где разыгралась трагедия ее горестной судьбы: про окно, сад, решетку, про столик, кровать и ковры, а под конец показала им унесенное ею распятие, перед которым все снова залились слезами, изрекая проклятия и прося об отмщении и чудесной каре для преступника. Леокадия сказала, что хотя ей и не хочется знать своего обидчика, тем не менее, если родителям будет угодно, они с помощью распятия могут его найти. Пусть они попросят, чтобы ризничие объявили во всех приходах с кафедры, что утерявший означенное распятие может получить его у такого-то и такого-то монаха. Выяснив таким образом, кто владелец этого изображения, они откроют тем самым дом своего врага и установят его личность.
Но отец Леокадии возразил на это следующим образом:
— Ты правильно рассудила, дочь моя, если только гнусное коварство не опровергнет твоего разумного расчета. Дело в том, что сегодня же в том доме, про который ты нам рассказала, хватятся этого распятия. Его хозяин, несомненно, твердо уверен в том, что унесла его бывшая у него женщина; когда же он узнает, что распятие находится у названного ему монаха, то скорее всего он сам воспользуется этим сведением, для того чтобы выпытать, кто его ему вручил, не выдавая имени владельца и отправив вместо себя другого человека, которому он сообщит нужные приметы. В таком случае мы ничего не узнаем, а, напротив, сами будем введены в заблуждение, хотя, правда, мы сами можем прибегнуть к такой же хитрости и передать монаху распятие через третье лицо. Нет, дочь моя, ты должна сохранить это распятие и поручить себя его святому попечению: оно было свидетелем твоего несчастья и поможет тебе найти судью, который постоит за твою правду. Помни, дитя: гораздо тягостнее снести малую толику публичного позора, чем всю полноту бесчестия, остающегося в тайне, так что, если пред лицом бога и людей ты останешься честной, тебе нечего скорбеть о своем тайном бесчестии; истинное бесславие заключается в грехе, а истинная слава — в добродетели. Оскорбить бога можно словом, намерением и делом, а так как ты не оскорбила его ни словом, ни делом, ни помышлением, — считай себя в таком случае честной женщиной, каковой я тебя тоже считаю, причем всегда буду относиться к тебе так, как это и подобает твоему родному отцу.
Этими разумными словами отец утешил Леокадию; мать принялась обнимать ее и старалась тоже ее утешить. Леокадия опять застонала и зарыдала, а потом порешила скрыть свое горе и жить в уединении, под опекой родителей, скромной и честной жизнью.
Между тем Родольфо, вернувшись домой, обнаружил пропажу распятия. Он без труда догадался, кто его мог взять, но как человек богатый посмотрел на это сквозь пальцы и не обратил внимания на потерю. Не стали спрашивать распятия и родители Родольфо, когда он три дня спустя, уезжая в Италию, сдавал по счету горничной девушке своей матери все вещи, находившиеся в его комнате. К решению отправиться в Италию Родольфо пришел уже давно. К этому склоняли его и советы отца, служившего в свое время в Италии и утверждавшего, что не может быть настоящим кавальеро тот, кто слывет таковым лишь у себя на родине. Таким образом, Родольфо решил исполнить волю отца, который перевел на его имя большие суммы денег в Барселону, Геную, Рим и Неаполь. Родольфо отправился в путь в сопровождении двух товарищей. Он с наслаждением думал о роскоши французских и итальянских гостиниц и о свободе, которою пользуются там на постоях испанские солдаты: рассказы об этом приходилось ему слышать от военных. Музыкой звучали для него выкрики вроде: Eссо li buoni pollastri, piccioni, presciutto e salciccie[101] и другие фразы того же склада, о которых всегда вспоминают солдаты, возвращаясь из тех краев на родину и сталкиваясь со скудостью и неустроенностью испанских харчевен и постоялых дворов. Итак, Родольфо уехал, и о приключении с Леокадией он больше не вспоминал, словно его никогда и не было.
А между тем Леокадия жила в доме родителей в самом строгом уединении и никому не показывалась из опасения, что посторонние по ее лицу смогут узнать о ее несчастье. Сначала она поступала так по собственному желанию; но несколько месяцев спустя она поняла, что ей по необходимости придется жить в уединении и вдали от людей: она почувствовала себя беременной. Тут опять показались на глазах Леокадии позабытые было слезы, опять стали раздаваться напрасные вздохи и причитания, так что, несмотря на всю свою находчивость, мать Леокадии была не в силах ее утешить. Время летело, и наступил день родов, которые произошли в строжайшей тайне: даже без участия повивальной бабки; обязанности ее приняла на себя мать девушки. Родила она мальчика, краше которого трудно было бы себе что-нибудь представить. Без всякой огласки и в такой же тайне, в какой он родился, его увезли в деревню, где он рос в течение четырех лет. К концу этого срока дед привез его к себе в дом под видом племянника и стал воспитывать его, хотя и не в богатстве, но зато в правилах строгой добродетели. Мальчик (в честь деда его назвали Луисом) был красив лицом и отличался кротким нравом и острым умом. По всем поступкам, какие только он мог совершать в своем нежном возрасте, видно было, что он — сын благородного родителя. Своей красотой, прелестью и умом он так очаровал деда и бабушку, что они готовы были считать счастьем злоключение дочери, подарившей им такого внука. Когда он проходил по улице, со всех сторон на него сыпались тысячи благословений: одни благословляли его красоту, другие — мать, которая произвела его на свет; иные — отца, от которого он родился, иные — тех, кто его так примерно воспитывал. И вот, окруженный хвалами знакомых и незнакомых, мальчик достиг семилетнего возраста. Он умел читать по-латыни и по-испански, очень хорошо и красиво писал. Желанием деда и бабушки было сделать его человеком умным и добродетельным, так как не от них зависело сделать его богатым; хотя на самом деле знание и добродетель — богатство такого рода, что никакие воры и превратности Фортуны над ними не властны.
Но в одни прекрасный день произошло следующее событие. Отправившись по поручению бабушки к одной своей родственнице, мальчик случайно попал на улицу, на которой несколько кавальеро устроили конный бег. Заглядевшись на них и желая выбрать более удобное место, он стал переходить на другую сторону и угодил прямо под копыта лошади, несшейся таким бешеным ходом, что всадник не мог ее удержать. Лошадь свалила его; мальчик замертво упал на землю, и кровь обильно полилась из его головы. Увидев это, один пожилой кавальеро, глядевший на состязание, с большой поспешностью спрыгнул с лошади, бросился к тому месту, где находился мальчик, и, взяв его с рук какого-то человека, понес его сам. Позабыв о своих сединах и о своем высоком положении, он быстро направился к себе домой и велел слугам сходить за цирюльником для оказания помощи ребенку. Следом за стариком двинулось много других кавальеро, весьма опечалившихся при известии, что раненный конем ребенок — Луисико, племянник такого-то кавальеро (при этом было названо имя его деда). Слух об этом, передаваясь из уст в уста, дошел до матери мальчика и ее родителей. Убедившись в истинности печальной новости, они как безумные бросились на розыски своего любимца. Знатный кавальеро, взявший к себе Луиса, был хорошо известен в городе, и встречные, попадавшиеся на дороге родным мальчика, указали им его дом. Как раз в то время, когда Леокадия с родителями явились туда, Луиса осматривал цирюльник. Кавальеро и его жена (они решили, что старики — родители ребенка) попросили их не плакать и не причитать громким голосом, поскольку мальчику это все равно не поможет. Цирюльник, известный своими познаниями, искусно и умело оказал помощь мальчику и сказал, что рана совсем не смертельная, как он вначале боялся. Во время перевязки лежавший до сих пор без сознания Луис пришел в себя и развеселился, увидев около себя дядю и тетку. Они со слезами спросили его, как он себя чувствует; он ответил, что хорошо, только очень болит голова и все тело. Лекарь не позволил разговаривать с ребенком и велел ему отдыхать. Просьба его была исполнена, и дед мальчика стал благодарить хозяина за сочувствие к его племяннику, но кавальеро ответил, что благодарить его не за что; дело в том, рассказал он, что при виде мальчика, опрокинутого лошадью, ему почудилось лицо его нежно любимого сына; под этим впечатлением он взял мальчика на руки и понес в свой дом, с тем чтобы оставить там его на все время лечения и окружить необходимым уходом. Жена кавальеро, благородная сеньора, повторила то же самое и прибавила от себя еще большие любезности.
Дед и бабушка Луиса немало подивились такому христианскому обхождению, но еще больше была изумлена его мать: после того как слова цирюльника несколько успокоили ее взволнованное сердце, она стала внимательно рассматривать комнату, в которой находился ее сын, и вот по множеству примет она ясно увидела, что это та самая комната, где нашла свой конец ее честь и откуда повели свое начало ее несчастья. Хотя теперь комната не была украшена коврами, Леокадия все же узнала ее расположение и заметила окно с решеткой, выходившее в сад. Из-за больного оно было сейчас завешено, но на вопрос Леокадии, выходит ли это окно в сад, ей ответили утвердительно; но всего явственнее она признала кровать, которую считала могилой своей чести; а кроме того, и письменный стол, на котором находилось когда-то унесенное ею распятие, стоял на прежнем месте. Истинность догадок Леокадии нашла себе полное подтверждение в числе ступенек, которые она сосчитала в ту ночь, когда ее вывели из комнаты с завязанными глазами, — речь идет о ступеньках лестницы, ведущей из комнаты на улицу, предусмотрительно сосчитанных ею при выходе. Когда, покинув сына, она уходила домой, счет этот был ею проверен, и оказалось, что число ступенек точь-в-точь то же самое. Таким образом, сопоставив различные признаки, Леокадия выяснила, что ее предположение правильно. Она подробно рассказала об этом матери, а та как умная женщина навела справки о том, есть ли сын у приютившего ее внука кавальеро, оказалось, что да и что он — тот самый, которого мы здесь называли Родольфо, и что теперь он живет в Италии. Когда же мать Леокадии высчитала, на основании сообщенных ей сведений, сколько лет прошло с тех пор, как он покинул Испанию, то оказалось, что семь лет, то есть как раз столько, сколько было ребенку. Обо всем этом она сообщила мужу, и они вместе с дочерью решили ждать, каков будет исход болезни ребенка. Через две недели Луис был уже вне опасности, а через месяц поднялся с постели. Во все это время его постоянно навещали мать и бабушка, а хозяева дома баловали его как родного сына.
Разговаривая с Леокадией, донья Эстефания (так звали жену кавальеро) не раз повторяла, что мальчик необыкновенно похож на ее сына, живущего в Италии, и всякий раз, когда она на него смотрит, ей кажется, будто перед нею ее сын. Слова эти послужили Леокадии поводом для того, чтобы с своей стороны сказать наедине донье Эстефании (после предварительного уговора с родителями) такие приблизительно слова:
— Сеньора! В тот день, когда мои родители узнали про увечье, полученное их племянником, они подумали, что небо сомкнулось над ними и что на них обрушилась вся вселенная; им показалось, что, теряя этого мальчика, они лишаются света очей и опоры в старости, ибо они любят его несравненно сильнее, чем иные родители любят собственных детей. Но говорят, что вместе с недугом бог посылает нам и исцеление, и действительно, мальчик получил его в вашем доме; что до меня, то дом этот оживил в моей памяти одно воспоминание, которое я во всю свою жизнь не в силах позабыть.
Я, сеньора, родилась благородной, потому что родители и предки мои хорошего рода, и, несмотря на скромность посланного им Фортуной достатка, они умели с достоинством поддерживать свою честь во всех тех местах, где они жили.
Пораженная донья Эстефания с изумлением внимала словам Леокадии и, вопреки очевидности, не решалась верить, что такие разумные речи совместимы с столь молодыми годами, хотя по внешности она и давала Леокадии лет двадцать; не обращаясь к ней и не перебивая ее ни единым словом, сеньора слушала все, что девушка хотела сказать, а она рассказывала сеньоре про легкомысленный поступок ее сына, про свое бесчестие, про то, как ее похитили и с завязанными глазами привели в известную уже нам комнату, и про приметы, по которым она ее снова узнала, а в подтверждение своих слов Леокадия достала унесенное ею в свое время распятие и, обращаясь к нему, сказала:
— Ты, господи, был свидетелем содеянного надо мною насилия; будь же и судьей и присуди мне должное воздаяние. Я взяла твое изображение с письменного стола, чтобы всегда напоминать тебе об обиде, которую мне причинили. Я не хочу просить тебя о мести (нет, мести я не хочу), а молю лишь о ниспослании мне утешения и долготерпения в моем несчастии… Сеньора, этот мальчик, к которому вы проявили высшую степень сострадания, — ваш родной внук. По воле неба попал он под копыта лошади и затем очутился в вашем доме — для того, чтобы я нашла здесь если не исцеление от своих злополучии, то по крайней мере средство, которое мне поможет побороть их.
С этими словами Леокадия, обняв распятие, в беспамятстве упала на руки Эстефании, а та как благороднорожденная женщина, природе которой сострадание и милосердие свойственно в такой же мере, как жестокость — мужчине, заметив, что Леокадия лежит в обмороке, прильнула лицом к лицу Леокадии и в таком изобилии стала проливать слезы, что для приведения девушки в чувство не потребовалось даже брызгать на нее водой. Когда обе они находились в таком состоянии, в комнату случайно вошел кавальеро, муж Эстефании, держа за руку Луиса; увидев жену в слезах, а Леокадию в обмороке, он потребовал, чтобы ему сейчас же объяснили, в чем дело. Мальчик стал обнимать мать и бабушку (считая первую своей двоюродной сестрой, а вторую — всего только своей благодетельницей), и тоже спрашивал, почему они плачут. Эстефания ответила мужу:
— Мне нужно сообщить вам важную вещь, сеньор! Знайте, что лежащая в обмороке девушка — ваша дочь, а этот мальчик — ваш внук. Истину эту открыла мне она сама, а кроме того, ее еще раньше подтвердило, да и теперь подтверждает, личико этого ребенка, в котором мы с вами сразу увидели лицо нашего сына.
— Не понимаю вас, сеньора; объясните мне точнее, в чем дело! — сказал в ответ кавальеро.
В эту минуту Леокадия пришла в себя; крепко обхватив распятие, она изображала собою настоящее море слез. Все это чрезвычайно смутило кавальеро, и он пришел в себя только после того, как жена повторила ему рассказ Леокадии, которому он, послушный верховному велению неба, поверил так, как если бы за него ручалось множество достоверных свидетелей. Обняв и утешив Леокадию и поцеловав внука, он в тот же день отправил к сыну в Неаполь гонца с приказом немедленно приехать, так как его порешили, мол, женить на чрезвычайно красивой и достойной его женщине. Кавальеро и донья Эстефания не позволили Леокадии и ее сыну вернуться в дом родителей, а те были в восторге от счастья дочери и возносили за него бесконечные благодарения богу.
Гонец вскоре прибыл в Неаполь, и Родольфо, охваченный страстным желанием насладиться дивной красотой своей будущей жены, о которой писал ему отец, через два дня по получении письма использовал случай отправиться в Испанию, так как туда собирались в это время отплыть четыре галеры. Вместе с обоими своими неразлучными товарищами Родольфо сел на корабль и через двенадцать дней благополучно прибыл в Барселону; семь дней спустя почтовые лошади доставили его в Толедо, и он вошел в отцовский дом нарядным и статным, воплощая собою подлинное щегольство и изящество.
Родители порадовались, что сын их здоров и наконец приехал. В волнении глядела на него Леокадия, скрываясь в задней комнате, дабы не нарушать плана, задуманного доньей Эстефанией. Товарищи Родольфо собрались было направиться домой, но донья Эстефания их не отпустила, так как они были необходимы для осуществления ее намерения. Когда Родольфо приехал, уже вечерело. В то время, когда приготовлялся ужин, донья Эстефания отвела в сторону товарищей сына, — для нее не было никакого сомнения, что они находились в числе тех трех молодых людей, которые, по словам Леокадии, сопровождали Родольфо в ночь похищения; она обратилась к ним с горячей просьбой и спросила, не припоминают ли они, что ее сын в такую-то ночь, столько-то лет тому назад, похитил одну женщину; ей необходимо узнать всю истину, так как от этого зависят честь и душевное спокойствие всей родни. Донья Эстефания так убедительно добивалась от них ответа, заверяя, что раскрытие похищения никому из них не повредит, что молодые люди решили сознаться: действительно, однажды летнею ночью, прогуливаясь вместе с Родольфо и еще одним приятелем, они похитили какую-то девушку. Родольфо унес ее к себе, в то время как сами они удерживали ее домашних, которые кричали и пытались защищать девушку; на следующий день Родольфо сообщил им, что отпустил пленницу домой; больше они ничего не могли ответить на вопросы доньи Эстефании. Признания этого было довольно, чтобы положить конец всяким сомнениям, если только они вообще могли появиться, а потому донья Эстефания решила выполнить до конца свой разумный план, который оказался следующим. Незадолго до ужина мать осталась в комнате наедине с Родольфо и, подав ему какой-то портрет, сказала:
— Сын мой, Родольфо! Я хочу устроить тебе приятный ужин, на котором я покажу тебе твою будущую жену. Нужно тебе сказать, что если ей и недостает красоты, то она с избытком восполняет ее своей добродетелью. Она благородного происхождения, умна и довольно состоятельна. Будь уверен, что она достойна тебя, потому что выбирали ее для тебя твой отец и я.
Родольфо внимательно рассмотрел портрет и сказал:
— Обыкновенно художники чересчур щедро наделяют красотой тех, кого им приходится рисовать. Если и тут проявилась эта щедрость, то лицо, с которого написан этот портрет, очевидно, является воплощением безобразия. Сеньора мать! Конечно, вполне законно и справедливо, чтобы дети во всем исполняли волю своих родителей, но не менее естественно и справедливо, чтобы родители позволяли детям вступать в брак, соответствующий их желаниям; дело в том, что брак соединяет нас узами, которые развязывает одна смерть, а поэтому необходимо, чтобы петли их подходили одна к другой и были сделаны из одинакового материала. Добродетель, родовитость, ум и богатство могут радовать душу того, кому блага эти понравились вместе с женой, но чтобы глаза супруга могло радовать безобразие жены, это мне представляется невозможным. Я молод, но хорошо понимаю, что с таинством брака вполне согласимы законные и позволительные радости, которыми наслаждаются супруги, а когда их нет, то тогда брак не полон и не отвечает своему второму назначению.[102] А поэтому мысль, будто безобразное лицо может постоянно радовать человека и в гостиной, и за столом, и в постели, я нахожу совершенно неправильной. Заклинаю вас, сеньора мать, дайте мне такую подругу жизни, которая дарила бы меня радостью, а не докукой, и тогда, не делая сбоев ни вправо ни влево, по ровному и прямому пути мы повезем наше ярмо, куда небу угодно будет его направить. Что касается этой сеньоры, то если она, как вы говорите, знатна, умна и богата, у нее не будет недостатка в других женихах, с иными вкусами, чем я. Ведь один ищет в жене родовитости, другой — ума, третий — богатства, но есть и такие, которые ищут в жене красоты. Я принадлежу к числу этих последних; что мне в ее происхождении: родовитость я и так, слава богу, унаследовал от своих родителей и предков; или в ее уме: если женщина не дура, не простофиля и не разиня, то ум ей достаточен такой, чтобы от остроты своей он не ломался, а от тупости не вредил; не надо мне и богатства, потому что родители мои так богаты, что мне нечего бояться впасть в нищету. Мне нужна ее прелесть и красота, а в приданое буду просить добродетели и добрых нравов; если все это будет у моей жены, то я с радостью послужу господу богу и обеспечу спокойную старость своим родителям.
Мать Родольфо осталась очень довольна словами сына, так как теперь ей стало ясно, что все отлично согласуется с ее планом. Она ответила, что постарается его женить по его собственному вкусу, и пусть он не огорчается, так как расстроить брачные сговоры с неугодной ему сеньорой дело нетрудное. Родольфо поблагодарил мать; а когда наступило время ужина и за стол сели отец и мать, Родольфо и оба его товарища, донья Эстефания, спохватившись, сказала:
— Боже мой! Как я невежлива со своей гостьей! Подите, — обратилась она к слуге, — и попросите сеньору донью Леокадию почтить наш ужин своим присутствием; пусть она поступится на этот раз своими строгими правилами: все сидящие за столом — мои дети и ее покорные слуги.
Все это входило в план доньи Эстефании. Леокадия была уже извещена и предупреждена о том, что ей делать. Вскоре она вышла к столу и своим неожиданным появлением всех поразила и очаровала — так была она прекрасна и нарядна. По случаю зимнего времени она была одета в черное бархатное платье, усыпанное жемчугом и золотыми пуговицами, с бриллиантовым поясом и ожерельем. Головным убором Леокадия служили ее собственные волосы, длинные и темно-русые, причем затейливые повязки, завитки и блестки из бриллиантов, вплетенные в прическу, ослепили глаза присутствующих. Леокадия отличалась прекрасной фигурой и осанкой; она вошла, ведя за руку сына; за ней следовали две служанки с восковыми свечами, горевшими в серебряных подсвечниках. Все встали, приветствуя Леокадию, точно какое-то небесное существо, чудесным образом явившееся в этих местах. Никто из гостей, упивавшихся созерцанием девушки, не смог — видимо, от изумления — сказать ей ни слова. Леокадия с изысканным изяществом и тонкой учтивостью всем поклонилась, а донья Эстефания взяла ее за руку и усадила возле себя, напротив Родольфо. Ребенка поместили рядом с дедом.
Теперь Родольфо увидел ближе несравненную красоту Леокадии и подумал про себя: «Если бы женщина, избранная мне в жены матерью, обладала только половиной такой красоты, я почел бы себя счастливейшим человеком в мире. Боже! Что же это я вижу? Уж не ангела ли в облике человеческом?»
Прекрасный образ Леокадии постепенно завладевал сердцем Родольфо, проникая с помощью зрения в душу. Между тем и Леокадия, находясь во время ужина так близко от человека, которого она уже полюбила как свет очей своих, украдкой поглядывала на Родольфо, и в ее памяти стали проходить связанные с ним события ее жизни. И вдруг в душе ее стала слабеть надежда стать его женой, подсказанная его матерью; ей стало страшно, что обещание это не прочнее ее собственной хрупкой судьбы. Она понимала, что сейчас решится, будет ли она счастлива или несчастна навеки; раздумье это было таким напряженным, а мысли так стремительны, что сердце ее сжалось и на лице проступила испарина; внезапно побледнев, она в беспамятстве склонила голову на руки доньи Эстефании. Донья Эстефания в волнении подхватила падавшую Леокадию; все вскочили и бросились к ней на помощь. Но больше всех был потрясен Родольфо; он с такой поспешностью бросился к Леокадии, что оступился и дважды упал. Леокадии расстегнули платье и брызнули в лицо водой; но она не приходила в себя, а замирания груди и пульса, которого никак не удавалось найти, являлись, казалось бы, явными признаками смерти. Слуги и служанки дома, народ неразумный, заголосили и стали говорить, что Леокадия умерла. Эта горестная весть донеслась до слуха родителей Леокадии, которым, в ожидании счастливой минуты, донья Эстефания велела спрятаться, но теперь, вопреки приказу, они и находившийся вместе с ними священник вышли в залу. Священник поспешил подойти и посмотреть, не делает ли Леокадия каких-либо движений, показывающих, что она хочет исповедаться, и не нужно ли отпустить ей грехи. Но вместо одного он увидел пред собою два бесчувственных тела: Родольфо лежал в обмороке, припав лицом к груди Леокадии… Мать Родольфо позволила сыну приблизиться к принадлежавшей ему по праву Леокадии; но, увидев, что он лишился чувств, она, вероятно, тоже бы потеряла сознание, если бы в это время Родольфо не пришел в себя. Ему стало стыдно, что все видели его неумеренное отчаяние; но донья Эстефания, как бы угадывая чувства сына, сказала:
— Сын мой! Не стыдись своих чувств; но будет стыдно, если ты останешься спокойным после того, как я тебе открою все, что я скрывала до сих пор в ожидании одного радостного случая. Знай же, любезный сын, что девушка, лежащая без чувств в моих объятиях, — твоя настоящая, жена. Говорю «настоящая», потому что мы, твои родители, выбрали для тебя именно ее, а не ту сеньору, которую ты видел на портрете.
Когда Родольфо услышал это, охваченный горячим пламенем любви и не считаясь уже как нареченный супруг с запретами сдержанности и приличий, он прижался к лицу Леокадии и прильнул устами к ее устам, точно для того, чтобы принять отлетающее дыхание ее души. Но в то время, когда кругом все плакали от жалости и горестные рыдания раздавались все громче; когда родители Леокадии рвали на себе волосы, а крики ее маленького сына долетали до небес, — она вдруг пришла в себя и тем самым вернула в сердца, присутствующих покинувшие их веселье и радость. Леокадия увидела себя в объятиях Родольфо и с застенчивым усилием попыталась было освободиться от них, но Родольфо сказал:
— Нет, вы не должны противиться, сеньора! Вам незачем отстранять руки человека, душа которого полна вами.
При этих словах Леокадия окончательно пришла в себя. Донья Эстефания, отказавшись от своего первоначального намерения, попросила священника сейчас же обвенчать Родольфо и Леокадию. Он исполнил их просьбу, так как никаких препятствий к браку не было: дело в том, что описываемый случай происходил в те времена, когда бракосочетание совершалось по одному желанию брачущихся, без соблюдения справедливых я святых мер, принятых в наше время.[103]
А теперь, когда свадьба состоялась, пусть будет предоставлено другому, более талантливому перу, чем мое, описать общее ликование всех, кто на ней присутствовал; объятия, которых удостоили Родольфо родители Леокадии, и благодарения, которые они воссылали небу и его родне; любезности, которыми обменялись стороны, и изумление товарищей Родольфо, неожиданно, в самый день своего прибытия, оказавшихся на столь прекрасном торжестве. Они удивились еще больше, когда донья Эстефания объявила во всеуслышание, что Леокадия — не кто иная, как та самая девушка, которую они сообща похитили; известие это немало озадачило и самого Родольфо, так что он, желая в точности уяснить себе истину, обратился к Леокадии с просьбой указать ему какой-нибудь признак, для того, чтобы ему легче было разобраться в событиях, ибо никаких сомнений у него не могло уже быть после того, как родители все обстоятельно выяснили.
Она ответила:
— Сеньор! Когда в свое время я очнулась от своего первого обморока, я лежала в ваших объятиях обесчещенной. Но все к лучшему: потому что сегодня, когда я пришла в себя, меня обнимали те же руки, но честь моя вернулась ко мне снова. Если вам этого мало, взгляните на это распятие, которое никто, кроме меня, не мог у вас похитить, если только в то утро оно у вас действительно пропало и если оно походило на то, которое держит сейчас в своих руках ваша мать и моя госпожа.
— Это вы, вы, госпожа моей души, и останетесь ею, мое сокровище, столько лет, сколько господь нам назначит!
И Родольфо снова ее обнял, я снова посыпались на обоих поздравления и благословения. А затем приступили к ужину, и появились музыканты, заранее приглашенные для торжества. В своем сыне Родольфо, как в зеркале, узнал самого себя; оба деда и обе бабушки проливали радостные слезы; во всем доме не было уголка, где не царили бы счастье, радость и веселье. И хотя ночь быстро летела на своих черных крыльях, Родольфо казалось, что она не летит, а ползет словно на костылях, — так хотелось ему остаться поскорей наедине со своей супругой. Наступил наконец и этот желанный час, потому что для всякого желания он рано или поздно приходит. Все легли спать, и весь дом погрузился в молчание, но никому не удалось бы замолчать истинность рассказанного нами происшествия: этого не допустили бы многочисленные дети и потомки Родольфо и Леокадии, которых оставила (к которые и по сей день еще живы) в Толедо счастливая брачная пара, много-много счастливых лет наслаждавшаяся взаимной любовью, своими детьми и внуками. А устроилось все это соизволением) неба и силой крови, что была пролита на глазах доблестного, славного и благочестивого деда маленького Луиса.
Ревнивый эстремадурец
Несколько лет тому назад из одного эстремадурского селения уехал идальго, сын благородных родителей, который, подобно блудному сыну, расточал свои дни и имущество в различных городах Испании, Италии и Фландрии; наконец, после долгих скитаний (когда родители его уже умерли, а деньги были прожиты) он очутился в великом городе Севилье, где нашел более чем удобный случай окончательно спустить то немногое, что у него еще оставалось.
Увидев себя без денег и почти без друзей, он прибегнул к средству, к которому прибегают многие другие прометавшиеся люди этого города, а именно к поездке в Америку — пристанище и убежище для людей, потерявших последние надежды в Испании, спасение для бунтарей, вольный рай для убийц, укромное и удобное место для игроков, которых люди, сведущие в этом деле, называют «сиертос»[104], великий соблазн для распутных женщин, а вообще мало кому помогающее средство.
И вот, когда флотилии судов пришло время отправляться в Тьеррафирме[105], он сговорился с адмиралом, припас дорожные вещи и камышовую подстилку, погрузился на корабль в Кадисе, осенил крестным знамением берега Испании, и суда при общем ликовании распустивши паруса, под легким попутным ветром снялись с места, через несколько часов потеряли из виду землю и вышли на широкую, привольную гладь великого отца вод, Моря-Океана.
Наш путешественник погрузился в раздумье, припоминая все многочисленные и разнообразные бедствия, через которые он прошел за годы своих скитаний, и распущенность своего прошлого образа жизни; он строго отчитался перед собой и решил отныне изменить всю свою жизнь и совсем по-иному обходиться с тем достатком, который бог может послать ему в будущем, и гораздо скромнее, чем до сих пор, вести себя с женщинами.
Корабли чуть было не попали в полную тишь в то самое время, когда душевная буря терзала Фелипо де Каррисалеса (таково было имя того, кто является героем настоящей повести). Но ветер подул снова и с такой силой налег на корабли, что никому не позволил остаться на своем месте; тем самым и Каррисалесу пришлось прервать свои размышления и отдать всего себя заботам, неразлучным с путешествием, которое завершилось вполне счастливо, так что без всяких бед и несчастий все прибыли в гавань города Картахены.
Чтобы покончить со всем, что не имеет прямого отношения к нашему замыслу, скажу, что к тому времени, когда Фелипо прибыл в Америку, ему было сорок восемь лет, а за два десятилетия, которые он провел на чужбине, наш путник с помощью сноровки и усердия сумел нажить свыше ста пятидесяти тысяч «печатных» песо[106].
Оказавшись таким образом богатым и обеспеченным и поддавшись естественному для всякого человека желанию вернуться на родину, он решил пренебречь выгодными сделками, которые ему представлялись, покинул Перу, где он нажил свое состояние, перевел его в золотые и серебряные слитки, сдал их — во избежание неприятностей — по описи и поехал в Испанию.
После высадки в Сан Лукаре он прибыл в Севилью, отягощенный годами и богатствами, получил в полной исправности свое добро и стал было разыскивать друзей, но все они вымерли; тогда он пожелал уехать на родину, хотя, правда, имел известия, что ни одного его родственника в живых уже не осталось.
Когда он отправлялся в Америку, бедным и нуждающимся, его одолевали разного рода заботы, не давая ему ни минуты покоя в самой пучине морской, но и теперь, на мирной суше, заботы донимали его по-прежнему, хотя и совсем по другой причине. Если раньше он не мог заснуть от бедности, то теперь не спал от богатства, ибо богатство для того, кто к нему не привык и не умеет им распоряжаться, не меньшее бремя, чем бедность для человека, которого она никогда не покидает. Как сопутствуют хлопоты золоту, так неразлучны они и с неимением его; в одном случае помогает, если мы наживем себе некоторую его толику, в другом же — заботы только увеличиваются по мере того, чем больше мы приобретаем.
Каррисалес все поглядывал на свои слитки, и не потому, что был скрягой, — за годы солдатской службы он научился быть щедрым, — а потому, что соображал, как ему с ними поступить. Хранить их в чистом виде было крайне невыгодно, а держать дома — соблазн для попрошаек и приманка для грабителей. Поскольку в нем умерло всякое желание вернуться к беспокойному торговому делу и поскольку ему казалось, что при его возрасте ему с избытком хватит денег на жизнь, он хотел уехать на родину, принести ей в дань свое состояние и прожить там в мире и покое остаток своих лет, посвящая себя богу но мере сил, ибо земным делам он уделил больше, чем следовало. Но он учел при этом крайнюю нищету своей родины и великую бедность своих земляков; поехать туда — значило превратить себя в мишень всех тех неприятностей, которыми обычно докучают бедняки богатым соседям, особенно же когда поблизости нет никого, к кому можно было бы обратиться со своими нуждами. Ему захотелось также оставить свое состояние кому-нибудь после смерти; при этой мысли он произвел смотр своим силам и решил, что он еще в состоянии справиться с тяготами брачной жизни. Но едва он это подумал, как его охватил великий страх, от которого он заволновался и заметался, как туман от порывов ветра, ибо он от природы был самым ревнивым человеком на свете, хотя и не был женат, а при первой же мысли о женитьбе его сразу охватила ревность, одолели сомнения, переполнили домыслы и притом с такой силой и мощью, что он крепко-накрепко порешил было не жениться.
И вот, в то время как он остановился на этом, не выяснив еще окончательно, как ему наладить все остальные дела, судьба устроила так, что, проходя однажды по улице, он поднял глаза и увидел стоявшую у окна девушку на вид лет тринадцати-четырнадцати, чрезвычайно приятную лицом и такую красавицу, что, не находя в себе сил для защиты, наш добрый старичок Каррисалес со всем своим многолетием отдался во власть малолетки Леоноры (таково было имя этой прекрасной девушки). И в ту же самую минуту в нем роем закопошились мысли, и он стал разговаривать сам с собой следующим образом:
— Девушка эта красива и, если судить по наружному виду дома, не должна быть богатой; она — еще ребенок, и ее юные годы устраняют многие сомнения; если я женюсь на ней, я запру ее в дом, воспитаю по моему нраву, и у нее сложится такой характер, который я сам ей подскажу. Я не так уж стар и не теряю надежды иметь детей, которые станут моими наследниками. Дадут ли за ней приданое или нет, смотреть не станем, поскольку небо послало мне достатка на двоих; к тому же богатым людям следует искать в браке не богатство, а радостей, ибо радости удлиняют жизнь, а супружеские огорчения ее сокращают. Итак, довольно; жребий брошен; такова судьба, которую указало мне небо.
Повторив про себя эту речь не один раз, а целых сто, он через несколько дней переговорил с родителями Леоноры и, узнав, что они люди бедные, но благородные, объяснил им свои намерения, звание, средства и попросил выдать за него их дочь. Они пожелали иметь некоторое время, чтобы навести справки о его делах и чтобы он тоже проверил подлинность их благородного происхождения. Они расстались, навели друг о друге справки и убедились, что сказанное обеими сторонами — правда, и когда наконец Леонора была обещана Каррисалесу в жены, он тут же назначил ей приданое в двадцать тысяч дукатов: вот как пылало сердце ревнивого старика! А между тем едва только он произнес свое супружеское «да», как на него нахлынул поток бешеной ревности, и старик начал без видимой причины трепетать и терзаться заботами, каких до сих пор еще не ведал. Первым признаком ревнивого характера явилось то, что он не позволил портному снять с своей жены мерку для того вороха платьев, который он решил ей заказать; он долго выглядывал женщину, которая была бы такого роста и сложения, как Леонора, и нашел наконец одну, очень бедную, по мерке которой велел изготовить одно платье; когда оно было примерено его женой и вполне одобрено им самим, по той же мерке были заказаны остальные платья, а было их так много и все были такие богатые, что родители сочли превеликим счастьем, что на благо себе и своей дочери встретили такого знатного зятя.
Девочка была страшно поражена при виде великого множества нарядов, ибо за всю ее жизнь все ее наряды не шли дальше суконной юбки и корсажа из тафты. Вторым признаком ревности Фелипо был отказ его жить вместе с женой, прежде чем он отыщет особняк, который он оборудовал следующим образом: купив за двенадцать тысяч дукатов в одном из лучших кварталов города дом, снабженный проточной водой и садом с апельсинными деревьями, он велел закрыть все окна, выходящие на улицу, и повернуть их рамами к небу; то же самое было проделано со всеми остальными окнами дома. В крытых воротах, которые в Севилье называются «Касапуэрта», он устроил конюшню для мула, а над ней сеновал и каморку, где должен был проживать конюх, старый скопец-негр; стенки вокруг плоских крыш он поднял на такую высоту, что человек, входящий в дом, должен был смотреть прямо в небо и не видеть перед собой ничего. Он устроил также «вертушку»[107], соединявшую подворотню с внутренним двором. Он приобрел богатейшую обстановку для украшения дома: его ковры, помосты и балдахины могли бы поспорить с жилищем знатного вельможи. Он купил четырех белых рабынь, поставив им на лица клейма; кроме них, он держал еще двух плохо объясняющихся по-испански негритянок. Он договорился также с поставщиком о привозе и покупке пищи, потребовав, чтобы тот ночевал на стороне и вообще не входил в дом, а пользовался бы только «вертушкой», через которую ему полагалось передавать свои поставки. После этого одну часть своих богатств, а именно недвижимости, расположенные в разных доходных местах, он отдал в аренду, а другую поместил в банк, оставив себе кое-что на расходы. Он завел, кроме того, общий ключ для всего дома и сделал запасы — закупаемые как единовременно, так и по отдельным временам года — на целый год; а когда все это было устроено и налажено, он отправился в дом тестя и тещи за женой, которую отдали ему с большими слезами, видимо, считая, что девушку уводят в могилу.
Юная Леонора не понимала того, что случилось, и потому, поплакав вместе с родителями, попросила у них благословения и простилась с ними, а муж, окружив ее рабынями и служанками, взял ее за руку и повел домой. Вступив в дом, он произнес перед слугами целую речь, призывая их охранять Леонору и никогда и ни под каким видом не пропускать за вторую дверь никого, в том числе и скопца-негра. Особенно же строго наказал он хранить и ублажать Леонору одной весьма рассудительной и почтенной дуэнье, состоявшей в качестве нянюшки при Леоноре и являющейся как бы надзирательницей за всем, что творится в доме, а равно и за рабынями и еще двумя девушками, ровесницами Леоноры, нанятыми для того, чтобы та могла играть с однолетками. Он пообещал холить и содержать их всех таким образам, что они и не почувствуют своего заточения; а по праздникам все, как один человек, будут ходить слушать мессу, но не иначе, как самым ранним утром, так что взглянуть на них не удастся даже солнечному лучу.
Служанки и рабыни пообещали исполнять все, что им было приказано, с веселым видом, полной охотой и весьма добросовестно.
Новобрачная, понурившись я опустив голову, заявила, что у нее нет иной воли, кроме воли своего супруга и господина, которого она всегда готова слушаться. Приняв все меры предосторожности и уединившись в доме, наш мудрый эстремадурец стал наслаждаться в меру сил супружескими радостями, которые Леоноре, не имевшей еще никакого опыта, показались ни сладкими, ни горькими. Она проводила время с дуэньей, служанками и рабынями, а они, желая скрасить свои досуги, стали налегать на лакомства, и редкий день проходил без того, чтобы они не готовили тысячи разных вещей, приправляемых медом и сахаром. Все, что им было для этого нужно, они имели в избытке и в полном изобилии, и не менее изобильна была добрая воля отпускавшего им все это хозяина, полагавшего, что, будучи заняты и довольны, они тем самым не будут иметь времени задумываться о своем заточении. Леонора держалась запросто со своими служанками и забавлялась с ними одинаково интересными для обеих сторон забавами, заходя в своем простодушии вплоть до игры в куклы и в другие пустяки, что явно обнаруживало простоту ее нрава и ее крайне юный возраст.
Все это доставляло великую радость ревнивцу-мужу, и ему все казалось, что он сумел наладить себе такую жизнь, о которой трудно даже мечтать, и что никакие измышления и злые козни человеческие не в силах смутить его покой. А поэтому он заботился только о том, чтобы носить своей жене подарки и напоминать ей, чтобы она просила у него всего, что ей взбредет в голову, а он все это будет исполнять. В те дни, когда все ходили в церковь (а бывало это, как выше уже отмечено, еще в потемках), туда приходили отец и мать девушки и беседовали с ней в храме в присутствии мужа, который оделял своих родичей такими дарами, что хотя старики и жалели свою дочь, обреченную на затворничество, тем не менее жалость эта теряла свою остроту от множества подношений, получаемых ими от своего щедрого зятя Каррисалеса.
Эстремадурец вставал на рассвете и поджидал, когда явится поставщик, которого накануне ночью запиской, оставляемой в «вертушке», извещал о том, что следовало принести на следующий день. После прибытия поставщика Каррисалес уходил из дому, по большей части пешком, запирая на ключ обе двери, как наружную, так и внутреннюю, а посредине между обеими оставался негр. Он отправлялся по делам, которых у него было немного, и вскоре возвращался обратно. Замкнувшись в доме, он ублажал свою жену и баловал служанок, которые его очень любили за простой и приятный нрав, а главное — за щедрость, которую он выказывал.
Таким образом провели они целый год послушничества и приняли было здесь своеобразный постриг, готовясь вести такую жизнь до конца своих дней, что несомненно бы и случилось, если бы этому не помешал хитрый враг рода человеческого, как вы об этом вскоре услышите.
А теперь скажите, какой человек мог бы оказаться умнее и осторожнее эстремадурца и какие еще меры безопасности мог принять престарелый Фелипо, который не потерпел в своем доме даже зверей мужского пола! В доме его за мышами никогда не гонялся кот, там ни разу не было слышно песьего лая: все животные были только женского рода.
Днем старик думал, а по ночам бодрствовал: он был одновременно и ночным дозором и часовым своего дома, был Аргусом предмета своей любви: ни разу ни один мужчина не перешагнул еще двери, ведущей во внутренний дворик. Даже рисунки на коврах, украшавших его покои, изображали только самок, рощицы и цветы. Все в доме благоухало приятностью, уединением и осмотрительностью; здесь даже в сказках, которые в длинные зимние ночи сказывали у камелька служанки, никогда не было заметно ни единой нескромности. Серебристые седины старика сходили в глазах Леоноры за пряди чистейшего золота, ибо первая любовь, испытываемая девушками, запечатлевается в их душе точно печать на воске. Чрезмерно строгая охрана казалась ей заботливостью и осторожностью. Она думала и считала, что все с ней происходящее переживают все новобрачные на свете. Ее мысль не дерзала переступить за стены своего дома, а воля ее устремлялась только к тому, что являлось волей ее супруга; она видела улицы единственно в дни посещения церкви, но и это бывало в столь ранние часы, что только на обратном пути на нее мог взглянуть кто-нибудь, кроме солнца. И монастырей таких суровых еще не видывали, не бывало еще и столь строгих монахинь, даже золотые яблоки никогда еще так не охранялись, и тем не менее старик никакими способами не смог остеречься и избежать того, чего он больше всего боялся: во всяком случае, не избежал мысли, что он все же попался.
Есть в Севилье особая порода праздных и бездельничающих людей, обычно именуемая «лоботрясами»; это, собственно, шалопаи самых различных мастей, и о том, кто из них побогаче — о людишках вздорных, расфранченных и много болтающих, об их костюмах и нарядах, об их нравах и соблюдаемых в их среде обычаях — можно было бы рассказать очень многое, но ради соблюдения приличий обойдем их, однако, молчанием.
Один из таких кавалеров, который на принятом языке назывался «дротиком» (это значит — холостяк; молодых мужей они величают «платками»), стал заглядываться на дом недотроги Каррисалеса и, заметив, что особняк всегда на замке, возымел желание узнать, кто там живет, и с таким упорством и любопытством взялся за дело, что во всех подробностях выведал все, что ему требовалось. Узнал он про нрав старика, про красоту его жены и про способы ее охраны. Все это воспламенило в нем желание испробовать, нельзя ли будет хитростью или силой завоевать столь неприступную крепость. Посоветовавшись еще с двумя «дротиками» и одним «платком», своими друзьями, он порешил испытать план на деле, а для таких дел советчики и помощники всегда найдутся. Они долго ломали голову над тем, каким образом приступить к столь трудному предприятию, и после многократных обсуждений пришли вот к чему: Лоайса (таково было имя нашего «дротика») сделает вид, будто он на несколько дней уезжает из города, и таким образом скроется от глаз приятелей; так он в действительности и сделал, а потом, надев на себя чистые исподние и рубашку из холста, облачился сверху в такую рваную и заплатанную одежду, что подобного рода лохмотьев не найти было ни у одного нищего в городе. Он подстриг себе немного бороду, залепил один глаз пластырем, плотно подвязал одну ногу и с помощью пары костылей превратился в такого нищего-калеку, с которым трудно было бы сравниться самому настоящему увечному человеку.
В этом виде он каждый вечер приходил читать молитвы к воротам намеченного им дома, бывшего в этот час уже на запоре, причем негр, по имени Луис, оказывался запертым между двумя дверями. Придя на место, Лоайса доставал замусоленную гитару без нескольких струн и как человек, слегка искушенный в музыке, начинал наигрывать веселые и игривые арии, изменяя голос для того, чтобы его не узнали. При этом он старался петь на особый плутовской лад романсы о маврах и мавританках и делал это с таким искусством, что все прохожие на улице останавливались его послушать, и всякий раз, когда он пел, он был окружен мальчишками. Негр Луис тоже настораживал уши в своей надворотне, упиваясь музыкой «дротика», и не прочь был отдать руку на отсечение, лишь бы только ему было позволено открыть дверь и послушать музыку как следует — так сильна бывает у негров врожденная склонность к музыке. Когда Лоайсе хотелось, чтобы слушатели удалились, он переставал петь, прятал свою гитару и, опираясь на костыли, уходил прочь.
Четыре или пять раз угощал он музыкой своего негра: и пел он, собственно, именно для него, ибо был убежден, что только с помощью негра можно было начать ему подкоп под неприступную твердыню. Мысль эта оказалась правильной, ибо однажды ночью, когда он по своему обыкновению подошел к воротам и начал настраивать гитару, он почуял, что негр уже стоит настороже, и потому подошел поближе к воротам и произнес шепотом:
— Нельзя ли мне получить немножко воды? Я погибаю от жажды и совсем не могу петь.
— Нельзя, — отвечал негр, — потому что ключа от ворот у меня нет, да и кет тут никакой дырочки, через которую можно было бы передать.
— А кто же у вас держит ключи?
— Мой хозяин, — сказал негр, — а он — самый подозрительный человек на свете. Если бы он узнал, что я сейчас здесь с кем-то разговариваю, то мне бы здесь больше не жить! А кто вы-то такой, что у меня воды спрашиваете?
— Я, — ответил Лоайса, — бедный нищий, хромой на одну ногу, и зарабатываю себе на хлеб, прося милостыни у добрых людей, а кроме того, еще учу играть на гитаре негров и других бедных людей; а есть тут у меня три негра, живущих в рабах у троих наших «веинтикуатро»[108], так вот я их отлично обучил, и они теперь могут петь и играть на любых танцах в любой таверне, и за это они заплатили мне хорошие деньги.
— Я бы вам заплатил еще лучше, — заметил негр, — будь у меня возможность брать уроки; но этого никак нельзя, потому что хозяин, когда уходит из дому по утрам, запирает уличную дверь, а когда возвращается, делает то же самое, и я сижу тут запертый между дверями.
— Ей-богу, Луис, — сказал на это Лоайса, успевший уже узнать, как зовут негра, — если бы вы сумели устроить, чтобы я мог приходить к вам по ночам давать уроки, то меньше чем в две недели вы бы так овладели гитарой, что смело могли бы выступить на самой людной улице; должен вам сказать, что я умею очень искусно обучать, а кроме того, я слыхал, что у вас отличные способности, и, если я хорошо разобрался и верно определяю наш голос (а у вас сопрано), вы будете прекрасно петь.
— Да, пою я недурно, — ответил негр, — только какой в том прок, если я не знаю других песен, кроме «Звездочки Венеры», «На лужок зеленый» да еще одной, которая теперь в моде, на слова «Ухватясь шальной рукою за чугунную решетку».
— Все это — сущие пустяки, — сказал Лоайса, — по сравнению с теми вещицами, которым я мог бы вас научить; я ведь знаю все песни[109] про мавра Абиндарраэса и про его даму Харифу, а также всё, что поется об истории великого воина Томумбея, и все куплеты сарабанды «на священный лад», а они ведь такие, что на них не надивятся даже португальцы, причем всему этому я обучаю таким способом и с такой простотой, что даже если бы вы не прилагали никакого старания, то прежде чем вы успеете съесть три-четыре гарнца соли, вы будете уже заправским музыкантом на гитаре любого рода.
Негр на это вздохнул и пробормотал:
— Да какой во всем этом прок, если я не знаю, как пропустить вас в дом.
— Вот вам способ, — сказал Лоайса, — постарайтесь достать у вашего хозяина ключи, а я вам дам кусок воска, на котором вы их отпечатаете таким образом, чтобы на воске была видна бородка; я к вам чувствую такое расположение, что попрошу своего приятеля-слесаря сделать нам ключи, и таким образом я смогу приходить к вам по ночам и обучу вас так, как еще не учили у самого пресвитера Иоанна Индийского; ведь, право, жалко смотреть, что пропадает такой голос, как ваш, поскольку нет для него опоры в гитаре; а вам следует заметить, Луис, что самый красивый голос на свете теряет свои достоинства, если ему не подыгрывают на гитаре, цимбалах, органчике или арфе; но к вашему голосу лучше всего подходит не что иное, как гитара, поскольку это — самый заурядный и самый дешевый из всех инструментов.
— Все это мне очень нравится, — заметил негр, — но только ничего не выйдет, потому что ключей у меня никогда не бывает, и мой хозяин целый день не выпускает их из рук, а ночью они лежат у него под подушкой.
— Ну, тогда устройте следующее, Луис, — промолвил Лоайса, — но только в том случае, если вы действительно желаете стать искусным музыкантом, а если нет, то мне незачем утруждать себя советами.
— Это я-то действительно желаю? — спросил Луис. — Да я так желаю, что готов сделать любую вещь, если только она исполнима, лишь бы стать музыкантом.
— Вот в чем дело, — сказал ему «дротик», — я вам подсуну под дверь (а для этого вы должны предварительно вынуть немного земли около дверного столба) клещи и молоток, с помощью которых вы ночью легко снимете заклепки с замка, а потом с такой же легкостью мы опять прибьем щиток на прежнее место, так что никто и не заметит, что он был оторван; а когда я окажусь у вас на сеновале или в вашей каморке, я так приналягу на свою работу, что вы, пожалуй, получите больше, чем я говорил, отчего, конечно, возрастет не только ваша подготовка, но заодно и моя личная выгода. А относительно еды вы не хлопочите: я захвачу с собой харчей для двоих хоть на целую неделю, ибо есть у меня ученики и друзья, которые меня в этом деле выручат.
— Об еде, — сказал негр, — думать не стоит; пайка, который выдает мне хозяин, и остатков, приносимых рабынями, с избытком хватило бы и еще на двоих. Поспешайте же лучше с клещами и молотком, о которых вы говорили, а я проделаю у столба дырочку, куда можно будет их положить, а затем ее снова заделаю и засыплю землей; правда, мне придется сделать два-три удара, отбивая щиток, но хозяин мой спит так далеко, что было бы чудом или исключительной неудачей, если бы он нас услышал.
— Итак, в час добрый, — сказал Лоайса, — через два дня, Луис, вы получите все необходимое, чтобы привести в исполнение ваш почтенный план, и постарайтесь, кроме того, не принимать много влажной пищи, потому что она не только не укрепляет, а, наоборот, ослабляет голос.
— Ни от чего я так не хрипну, — ответил негр, — как от вина, но от него я не отстану за все голоса, какие существуют на свете.
— Я этого и не говорю, — ответил Лоайса, — упаси бог! Пейте, голубчик Луис, пейте себе на доброе здоровье; тому, кто пьет вино, зная меру, оно никогда еще не вредило.
— Меру-то я отлично знаю, — сказал негр, — тут у меня стоит кувшин, куда входит ровнехонько одна четверть; его мне наливают наши рабыни без ведома хозяина, а поставщик приносит мне потихоньку бутыль, куда умещаются целые две четверти, восполняющие недохватку, бывающую в кувшине.
— Ничего лучшего я и сам бы себе не пожелал, — поддержал Лоайса, — ведь с сухой глоткой не споешь и не крякнешь.
— Ступайте себе с богом, — ответил негр, — да смотрите не забудьте приходить сюда петь по вечерам, пока будут идти хлопоты по заготовке всего нужного для прихода к нам, а то у меня уже руки чешутся при одной мысли о гитаре.
— Конечно, приду, — пообещал Лоайса, — и еще с новыми песенками.
— За это спасибо, — ответил Луис, — а сейчас вы мне тоже спойте, чтобы мне веселей было спать, а что до платы, господин нищий, то знайте, что я заплачу вам не хуже любого богача.
— За деньгами я не гонюсь, — сказал Лоайса, — по мере того, как я буду вас учить, вы мне и заплатите, а теперь слушайте песенку; когда же я заберусь к вам наверх, натворим мы с вами чудес!
— В час добрый, — поддакнул негр.
В заключение своей долгой беседы Лоайса пропел потешный романсик и доставил этим негру такую радость и удовольствие, что тот не мог дождаться часа, когда можно будет открыть нищему дверь.
Отойдя немного от ворот, Лоайса с проворством, которого трудно было ожидать от человека, ходящего на костылях, отправился к своим советникам сообщить об удачном начале, заранее предвещавшем желанный счастливый конец. Разыскав их, он рассказал им все, о чем уговорился с негром; на следующий день были найдены такие инструменты, с помощью которых железные болты ломались словно деревянные.
«Дротик» не поленился еще раз сыграть для негра, а этот последний приложил всяческое старание, чтобы проделать дыру, в которую можно было бы уложить вещи, обещанные его учителем. Он прикрыл ее потом так хорошо, что если смотреть непредубежденным и спокойным глазом, то никак нельзя было догадаться об отверстии.
Еще через одну ночь Лоайса передал ему инструмент ты, Луис их испробовал и почти без всякого применения силы вывернул оба болта и со сломанным щитком в руках открыл дверь и впустил своего Орфея и учителя. Когда он рассмотрел его костыли, его рваное рубище и подвязанную ногу, он пришел в большое изумление. Лоайса уже снял с глаза пластырь за полной ненадобностью и, сделав первый шаг, бросился обнимать своего ученика, поцеловал его в лицо и в ту же минуту вложил ему в руки большую бутыль вина, коробку сухого варенья и еще другие сладости, которыми он туго набил свою сумку.
Отбросив в сторону костыли, точно совсем здоровый, он стал выделывать такие коленца, что поверг в немалое удивление своего негра, и потом сказал:
— Знайте, дружище Луис, что моя хромота и увечье объясняются не болезнью, а хитростью, помогающей мне зарабатывать на хлеб и просить милостыню; благодаря этой выдумке и своей музыке я веду самую беспечальную жизнь; в наше время человек, не отличающийся хитростью и плутовством, погибает от голода, — вы успеете еще убедиться в этом за время нашего содружества.
— Поживем, увидим, — промолвил негр, — а теперь давайте поставим щиток на прежнее место, для того, чтобы нельзя было заметить нашу проделку.
— Ладно, — сказал Лоайса и, достав из сумки болты, они собрали замок таким образом, что он снова приобрел свой первоначальный вид, от чего наш негр пришел в чрезвычайную радость. Затем Лоайса поднялся в каморку негра на сеновал и устроился там поудобнее. Луис поспешил зажечь восковой факел, и Лоайса, нимало не мешкая, вынул гитару и, заиграв на ней тихо и нежно, до такой степени очаровал негра, что тот был вне себя от исполненной музыки. Поиграв немного, он снова пустил в ход угощение и попотчевал своего ученика, и хотя тот закусывал сладким, но успел все же так приложиться к бутыли, что от вина пришел в еще более смятенное состояние, чем! от музыки. Покончив с этим, он потребовал, чтобы Луис немедленно приступил к уроку, а так как на мозги бедняги негра давило добрых четыре пальца вина, то он никак не мог нащупать ладов, и, невзирая на это, Лоайса все-таки убедил его, что он разучил уже две песенки. Самое забавное заключалось в том, что негр ему поверил и в продолжение ночи все время не переставая бренчал на расстроенной гитаре, на которой не хватало нескольких струн.
Остальную короткую часть ночи они проспали, а около шести часов утра спустился Каррисалес, открыл сначала внутреннюю дверь, потом уличную, дождался поставщика, который в скором времени прибыл, передал хозяину через «вертушку» припасы и снова удалился. Тогда старик крикнул негра, выдал ему овса для мула и его личный паек, а когда все было сделано, Каррисалес отправился по делам, замкнув за собой обе двери и не обнаружив проделки с замком у ворот, чему, понятно, очень обрадовались как ученик, так и его учитель.
Едва только хозяин сошел со двора, как негр выхватил гитару и начал так на ней наигрывать, что все служанки услышали и стали справляться через «вертушку».
— Что это значит, Луис? С каких это пор завелась у тебя гитара? Кто ее тебе дал?
— Кто мне ее дал? — переспросил Луис. — Мне дал ее лучший музыкант во всем мире, тот самый, который в каких-нибудь шесть дней научит меня шести тысячам разных арий.
— А где же этот музыкант? — осведомилась дуэнья.
— Совсем неподалеку отсюда, — ответил негр, — я если бы только не стыд и не страх перед хозяином, я бы вам его сейчас показал, и он, наверное, вам очень бы понравился.
— Где же он может быть и каким образом мы можем его увидеть, — изумилась дуэнья, — если к нам в дом никогда не входил ни один мужчина, кроме хозяина?
— Ну, ладно, — сказал ей негр, — больше я ничего не скажу, до тех пор, пока вы сами не увидите, каким докой я стал и чему я научился в тот короткий срок, который я вам назвал.
— Честное слово, — сказала ему дуэнья, — если твой учитель не дьявол, то я понять не могу, кто из тебя сделает музыканта в этакий короткий срок.
— Ладно, — ответил негр, — когда-нибудь вы сами его увидите и послушаете.
— Этого не может быть, — вставила другая служанка, — потому что у нас нет окон на улицу и никого мы отсюда не увидим и не услышим.
— Ничего, — возразил негр, — для всего можно найти лекарство, не бывает только лекарства от смерти; вся суть в том, чтобы вы сумели я захотели молчать.
— С великой радостью помолчим, голубчик Луис, — сказала одна из рабынь, — мы будем молчать как немые; уверяю тебя, дружок, что мне до смерти хочется послушать хороший голос; с тех пор, как нас здесь замуровали, мы даже пения пташек не слышали.
Лоайса с великою радостью следил за этими разговорами, ибо такого рода беседы, на его взгляд, способствовали увенчанию его желаний, и все они по соизволению судьбы совпадали с устремлением его воли.
Служанки распрощались с негром, и он им пообещал, что в то время, когда они меньше всего будут этого ожидать, он позовет их послушать превосходное пение; но из-за страха перед возвращением хозяина и опасения, как бы он его не застал за разговором с женщинами, негр их покинул и отправился в свою уединенную каморку. Он хотел было взять урок, но не отважился играть днем, остерегаясь тонкого слуха хозяина. Вскоре пришел старик, замкнул по своему обыкновению двери и заперся в доме. И вот, когда в этот же самый день негритянка передавала через «вертушку» пищу для негра, Луис ей шепнул, чтобы сегодня ночью, после отхода ко сну их хозяина, все они непременно собрались у «вертушки» послушать обещанное пение.
Правда, прежде чем это сказать, бедняге пришлось долго упрашивать учителя, чтобы тот согласился играть и петь сегодня ночью возле «вертушки» и помог ему тем самым сдержать данное служанкам обещание. Он даже уверял, что за его чудесное пение все они его засыплют подарками. Сначала учитель заставил себя попросить об исполнении этого страстного желания, но под конец заявил, что согласен удовлетворить просьбу дорогого ученика, главным образом, однако, для того, чтобы доставить ему удовольствие, а не из каких-нибудь иных соображений. Негр бросился к нему на шею и поцеловал его в щеку, выразив этим великую радость, которую вызвало в нем столь милостивое обещание. В тот же день он накормил Лоайсу таким обедом, какой тот обычно ел у себя дома, но возможно, что он и дома такого не имел. Спустился мрак, и часов в двенадцать ночи около «вертушки» стали слышаться тихие оклики, по которым Луис догадался, что вся ватага уже пришла. Он позвал своего учителя, спустился с ним с сеновала, настроил гитару и наладил на ней все струны. Луис справился, кто именно пожаловал и сколько всего было слушающих. Он получил в ответ, что налицо были все, за исключением хозяйки, почивавшей вместе с хозяином. Лоайса огорчился, но тем не менее решил положить начало своему замыслу и доставить удовольствие ученику. Он стал нежно наигрывать на гитаре и своим исполнением привел в восторг негра и совершенно очаровал женщин, явившихся его послушать. А стоит ли рассказывать, что с ними случилось, когда они услышали звуки «Pèsame dello»[110], сменившиеся дьявольскими наигрышами сарабанды, в то время только еще начинавшей входить в славу в Испании. Старухи пустились в пляс, молодежь танцевала до упаду, и все это — тайком и в полнейшей тишине, причем всюду были расставлены слухачи и часовые на случай, если старик неожиданно проснется. Лоайса спел им также куплеты сегедилий и этим довел до последнего предела наслаждение своих слушательниц, которые стали упорно требовать, чтобы негр им сообщил, кто такой его чудесный музыкант. Негр ответил, что это бедный нищий, самый обходительный и светский человек среди всей нищей братии Севильи. Служанки попросили, чтобы негр им позволил взглянуть на певца и чтобы он недели две не позволял ему выходить из дома: они, мол, будут его всячески угощать и приносить ему все, что потребуется. Полюбопытствовали они также узнать, каким образом удалось ему провести в дом своего учителя. На это негр ничего не ответил, а для того чтобы взглянуть на музыканта, посоветовал проделать в «вертушке» дырочку и потом залепить ее воском; сказал он также, что постарается держать своего гостя неотлучно в доме.
Лоайса тоже заговорил со служанками, и едва только он в самых учтивых выражениях предложил всего себя к их услугам, как они сразу поняли, что речи эти не могли исходить из уст бедного нищего. Они стали упрашивать его явиться сюда на следующую ночь, обещая к тому же привести с собою хозяйку, невзирая на то, что хозяин их спит очень чутко, а спит он так чутко не столько из-за своего преклонного возраста, сколько вследствие совершенно исключительной ревности. Лоайса в ответ ввернул, что если они желают его слушать без всякой помехи со стороны старика, то он охотно снабдит их особого рода порошком, который всыпается в вино и заставляет человека спать глубоким сном гораздо дольше, чем это бывает обыкновенно.
— Господи, боже мой, — вскричала одна служанка, — ведь если это правда, то, значит, к нам в дом привалило великое счастье, а мы его, можно сказать, не ждали и не гадали! Знайте, что это будут не сонные порошки, а настоящая живая вода для всех нас и для жены нашего старца, сеньоры Леоноры; ведь он ее ни на тень, ни на солнце не выпускает и не сводит с нее глаз ни на единую минуту. Ах, голубчик сеньор, принесите вы нам эти порошки, и пусть господь бог пошлет вам всего, чего вы сами себе желаете! Идите же скорей и не мешкайте! Вы их только, сеньор, принесите, а я уж беру на себя подмешать их в вино и предложу себя в виночерпии. Дал бы бог, чтобы старик спал подряд три дня и три ночи, а мы бы столько же дней и ночей утопали в блаженстве.
— В таком случае я их вам принесу, — произнес Лоайса. — Порошки эти не причиняют человеку никакого вреда, а только вызывают глубокий сон.
Служанки еще раз попросили принести порошок как можно скорее и, условившись, что на следующую ночь они проделают в «вертушке» с помощью бурава небольшую дырочку и приведут свою сеньору посмотреть и послушать музыканта, простились и вышли. Несмотря на предутренний час, негр пожелал взять у Лоайсы урок, который действительно состоялся, причем учитель внушил бедняге Луису, что ни один из его учеников никогда не обладал столь верным слухом, а между тем несчастный негр не умел да и не мог никак научиться взять самый простой аккорд!
Друзья Лоайсы подумали о том, чтобы ночью прийти послушать около наружной двери и выяснить, не передаст ли им чего их товарищ и не нуждается ли он в их помощи; подав условленный знак, они дали понять Лоайсе, что находятся у ворот, и тогда тот через отверстие, прорытое у столба, сделал им краткий доклад об успешном положении дела и настоятельно попросил их разыскать для Каррисалеса какое-нибудь снотворное средство: ему-де случалось слышать, что на этот предмет употребляются особого рода порошки. Друзья сообщили, что у них есть знакомый врач, который безусловно снабдит их наивернейшим средством, если только оно вообще существует. Благословив его на дальнейшее ведение дела и пообещав вернуться в ближайшую ночь со всеми необходимыми вещами, они поспешили проститься.
Наступила ночь, и стая голубок слетелась на приманку гитары. В их числе явилась и простодушная Леонора, дрожа и трепеща, как бы не проснулся муж; правда, терзаясь своими страхами, она долго не решалась выйти, но служанка, а особенно дуэнья, столько ей наговорили про нежную музыку и статную фигуру бедного музыканта (не видев его в глаза, они уже произвели его в Орфеи и даже в Авессаломы![111]), что бедная сеньора, послушавшись и отдавшись им на веру, отважилась наконец на то, до чего сама бы она не дошла и не додумалась. Для начала решено было пробуравить в «вертушке» отверстие, чтобы можно было посмотреть на музыканта. А тем временем тот уже сбросил с себя одежду нищего и нарядился в широкие шаровары из желтоватой тафты морского покроя, в колет из той же ткани с золотыми нашивками, в шляпу одного с костюмом цвета и в крахмальный воротник, украшенный сквозною строчкой и кружевами; все это было заранее уложено в сумку в расчете на то, что при благоприятном стечении обстоятельств ему придется переменить свой костюм.
Он был молод, недурно сложен и хорош собою; а так как всем женщинам с давних пор набил оскомину вид старика хозяина, то юноша показался им прекрасным, как ангел. У отверстия одна любопытная сменялась другой, а негр, для того чтобы было яснее видно, освещал музыканта, обводя его с ног до головы горящим восковым факелом. После того, как на него поглядели все, вплоть до негритянок, едва знающих по-испански, Лоайса взялся за гитару и пел этою ночью с таким блеском, что всех очаровал и обворожил, всех — и молодых и старых. Все стали умолять Луиса что-нибудь придумать и устроить, чтобы сеньору учителю можно было проникнуть внутрь дома и чтобы всем можно было увидеть и услышать его гораздо ближе, а не через дырочку какого-то морского компаса. К тому же было опасно отходить далеко от хозяина, который мог нагрянуть врасплох и застать их на месте преступления, чего наверное не случится, если маэстро будет укрыт где-нибудь в доме. Против этого восстала хозяйка, решительно заявившая, что она не допустит никаких проделок и укрывательств и что все это ей крайне неприятно, тем более, что музыканта можно было отлично видеть и слышать отсюда, в полной безопасности и без всякой помехи для чести.
— Для чести! — вскричала дуэнья. — Пусть ею наши короли занимаются. Оставайтесь себе, если хотите, взаперти с вашим Мафусаилом и позвольте нам повеселиться, как нам самим захочется. К тому же этот сеньор — такой порядочный человек, что не попросит у нас таких вещей, каких мы сами не пожелаем.
— Я, сеньоры мои, — произнес в эту минуту Лоайса, — явился сюда с единственным намерением жизнью своей и душой послужить вашим милостям, искренно потрясенный вашим неслыханным заточением и тем, что в этой жалкой тюрьме бесплодно теряется драгоценное время. Сам же я — клянусь жизнью моего батюшки — человек очень простой, кроткого и мягкого нрава; я так послушен, что буду делать только то, что мне прикажут. И если кто-нибудь из вас скажет: «Маэстро, подите сюда», «маэстро, идите туда», «маэстро, сядьте там», «маэстро, покажитесь тут», — я все буду выполнять, как ручной, ученый пес, скачущий во славу его величества, короля Франции.
— Ну, если так, — заявила неопытная Леонора, — то Каким же способом провести нам в дом сеньора маэстро?
— Вот что, — сказал Лоайса, — вы, ваши милости, постарайтесь отпечатать на воске ключ от средней двери, а я устрою так, что завтра вечером мы будем иметь совершенно такой же ключ, которым мы и воспользуемся.
— Заказать второй такой ключ, — заметила одна девушка, — то же самое, что заказать ключ от всего дома, потому что он для всех дверей общий.
— Что ж, и это неплохо, — заметил Лоайса.
— Все это так, — произнесла Леонора, — но сеньор этот должен прежде всего дать клятву, что, когда он окажется среди нас, он ничего себе не позволит и будет только петь и играть, когда мы ему прикажем, а кроме того, будет тихо сидеть там, куда мы его запрем.
— Клянусь, — воскликнул Лоайса.
— Нет, эта клятва не годится, — ответила Леонора, — он должен поклясться жизнью отца, должен поклясться на кресте и поцеловать его так, чтобы мы все это видели.
— Клянусь жизнью моего отца, — вскричал Лоайса, — и знамением креста, которое я лобызаю своими недостойными устами.
И, составив крест из двух пальцев, он троекратно его облобызал. Когда церемония была окончена, одна из девушек напомнила:
— Смотрите же, сеньор, не забудьте про порошки: ведь это, можно сказать, гвоздь всего предприятия.
На этом разговор в то время закончился, и обе стороны остались очень довольны состоявшимся договором. Судьба, которая вела от победы к победе все замыслы нашего Лоайсы, устроила так, что в этот час (а было два часа пополуночи) на улице оказались его друзья, подавшие ему условный знак, состоявший в игре на «парижской трубе». Лоайса побеседовал с ними, оповестив их, в каком положении находятся его дела, и осведомился, принесли ли они порошки или какое-нибудь другое снотворное средство для Каррисалеса; он рассказал им также про ключ от дверей.
Ему ответили, что на следующую ночь он получит порошки или, вернее, мазь, которой следует натереть запястья и виски, после чего человек погружается в такой глубокий сон, что может проспать больше двух суток, если не смочить намазанных мест винным уксусом; что до ключа, то пусть он только передаст слепок, и они быстро выполнят поручение. На этом друзья расстались; Лоайса и его ученик проспали остальную недолгую часть ночи, и герой наш стал нетерпеливо дожидаться следующего вечера в надежде, что обещанная передача ключа все же состоится. И если время иногда кажется чересчур медлительным и ленивым тому, кто ожидает срока, тем не менее оно способно все-таки тягаться в скорости с самою мыслью, и нужная минута наступает всегда, ибо время никогда не стоит и не бездействует.
Итак, снова наступила ночь и пробил час привычной встречи у «вертушки», куда собрались все служанки дома, старые и малые, черные и белые, так как всем хотелось увидеть в стенах своего сераля сеньора музыканта. Леонора, однако, не вышла; когда Лоайса справился о ней, ему ответили, что она находится сейчас при своем страже, который замкнул на ключ дверь своей спальни и положил ключ под изголовье; тем не менее сеньора сообщила, что, когда старик уснет, она постарается достать ключ и снять с него отпечаток с помощью заранее приготовленного мягкого воска; вскоре служанки должны были сходить посмотреть, не положен ли слепок в кошачий ход.
Лоайса немало подивился осмотрительности старика, но пыл его нисколько, однако, не охладел; в ту же самую минуту он услышал звук «парижской трубы». Подбежав к воротам, он застал там своих друзей, которые передали ему пузырек с мазью, обладавшей указанными выше свойствами. Лоайса взял пузырек и попросил друзей подождать, пока он сбегает за образцом для ключа. Он подошел к «вертушке» и велел дуэнье, которая, видимо, выказывала особенно настойчивое желание впустить Лоайсу, снести мазь сеньоре Леоноре и наряду со свойствами лекарства объяснить ей, что если ей удастся намазать старика незаметным для него образом, то снадобье произведет настоящее чудо. Дуэнья послушалась, направилась к кошачьему ходу и увидела, что Леонора ее уже ждет, лежа на полу и просунув лицо в дверную лазейку. Подойдя поближе, дуэнья тоже припала к земле, приставила губы к уху своей госпожи и шепотом рассказала ей про мазь и про способ, каким следовало испробовать ее на деле. Леонора взяла от дуэньи мазь и сообщила, что она не имела возможности вытащить у мужа ключ по той причине, что старик вопреки своему обыкновению положил его не под подушку, а под тюфяки и придавил его всей тяжестью тела; тем не менее она просит передать маэстро, что если мазь действует так, как он говорил, то будет чрезвычайно легко достать ключ всякий раз, когда он потребуется, и поэтому нет никакого смысла снимать восковой слепок. Она попросила дуэнью сию же минуту передать маэстро ее слова и затем вернуться, чтобы узнать про действие мази, потому что она, мол, собирается в самом непродолжительном времени приступить к натиранию спящего.
Дуэнья отправилась с вестью к Лоайсе, после чего он отпустил своих друзей, дожидавшихся от него ключа. Тихо-тихо, в великом трепете, почти не смея перевести дыхание, стала Леонора смазывать запястья ревнивого мужа, заодно натерев ему и ноздри, и как раз в эту самую минуту ей показалось, что он вздрогнул; бедняжка так и обмерла; ей почудилось, что ее поймал» на месте. Но вот, потрудившись изо всех своих сил, она наконец намазала, как ей было сказано, все необходимые места, что, по сути дела, было почти то же самое, что набальзамировать старика для могилы.
В самом скором времени усыпляющая мазь не замедлила проявить все признаки своего действия, ибо старик стал после этого так громко храпеть, что его можно было услышать на улице, — музыка, показавшаяся ушам супруги столь же сладкозвучной, как музыка нашего маэстро для негра. Не доверяя, однако, самой себе, она подошла к нему и встряхнула сначала потихоньку, потом немного сильнее, затем еще посильнее и, наконец, до того осмелела, что перевернула его с одного бока на другой, а старик все не просыпался! После этого она подошла к кошачьей лазейке и голосом, значительно более громким, чем в первый раз, позвала дуэнью, которая уже стояла на страже, и сказала ей:
— Можешь меня поздравить, голубушка: Каррисалес спит как мертвец.
— Что ж ты медлишь и почему не берешь ключа? — спросила дуэнья. — Не забывай, что музыкант ждет не дождется его, пожалуй, побольше часа.
— Погоди, голубушка; сейчас я за ним схожу, — ответила Леонора.
И, снова подойдя к постели, она подсунула руки под тюфяк и нечувствительно для старика вытащила оттуда ключ. Как только ключ оказался у нее в руках, она даже заплясала от удовольствия и, ни минуты не медля, отворила дверь и подала его дуэнье, которая приняла его с величайшей радостью. Леонора велела ей открыть дверь музыканту и провести его в верхнюю галерею, потому что уйти дальше этого места она не отваживалась, остерегаясь, как бы чего не случилось. И тут же она строго-настрого наказала, чтобы маэстро снова подтвердил данную им в первый раз клятву не делать ничего, кроме того, что ему прикажут; если же он не пожелает ее подтвердить и произнести заново, то ему ни в коем случае нельзя открывать.
— Быть по сему, — сказала дуэнья, — даю вам слово, что он не войдет сюда, прежде чем не повторит клятвы и не поцелует крест шесть раз подряд.
— Ты его не ограничивай, — возразила Леонора, — пусть он целует крест столько раз, сколько ему вздумается; следи только за тем, чтобы он поклялся жизнью родителей и всем, что ему особенно дорого; при этом условии мы можем вполне спокойно упиваться его музыкой и пением, а по этой части, откровенно говоря, он действительно дока. Ну, живей и не мешкай, а иначе у нас все время уйдет на переговоры.
Почтеннейшая дуэнья подобрала свои юбки и с совершенно исключительной быстротой прибежала к «вертушке», где ее уже поджидала вся собравшаяся дворня. Когда она показала им находившийся у нее ключ, всеобщее ликование дошло до того, что ее стали качать на руках под возгласы «виват, виват!», то есть совсем так, как качают профессоров. Когда же она заявила, что подделывать ключ не было никакого смысла, что старик от втирания мази впал в глубочайший сон и что они, таким образом, могут пользоваться домовым ключом всякий раз, когда им потребуется, восторгам не было конца.
— Да что там, родная, — крикнула ей одна девушка, — открывай поскорей дверь и впускай сюда этого сеньора (ведь он столько времени ждет!), потешим себя музыкой вволю: на кого нам еще смотреть!
— Нет, нам есть на кого смотреть, — возразила дуэнья, — мы обязаны взять с него клятву, как и в минувшую ночь.
— Да ведь он такой милый, — вставила одна служанка, — что за клятвами у него дело не станет.
В эту минуту дуэнья открыла дверь и, держа ее полуоткрытой, кликнула Лоайсу, слушавшего весь разговор через отверстие «вертушки»; маэстро, приблизившись к двери, хотел было сразу войти, но дуэнья, положив ему свою руку на грудь, сказала:
— Сеньор, я хочу, чтобы вашей милости было известно, что все мы, живущие в стенах этого дома, — клянусь, вам в том богом и своею совестью! — все, за исключением нашей сеньоры, являемся девственными, как… мать, которая нас родила! И хотя по внешнему виду мне дают сорок лет (на самом же деле мне двух с половиной месяцев до тридцати лет не хватает!), но и я, многогрешная, тоже невинная! Если я и кажусь пожилой, то потому, что лишения, страдания и огорчения прибавляют к числу наших лет, можно сказать, один, а то даже и два нуля, это уж как им заблагорассудится! А поскольку дело обстоит так, негоже будет, если из-за каких-нибудь двух, трех, четырех песенок мы поставим на карту всю заключенную здесь бездну невинности; и ведь подумать только, что даже негритянка наша по имени Гьомар — и та невинная! А поэтому, милейший сеньор, прежде чем проникнуть сюда, ваша милость обязана торжественно нам поклясться, что вы не станете делать с нами ничего такого, чего мы сами от вас не потребуем; если же вам кажется, что мы просим от вас слишком многого, подумайте, что сами мы тоже многим рискуем. Если вы действительно приходите к нам с честными намерениями, то клятва будет вам стоить недорого; ведь хорошему плательщику никакой долг не страшен.
— Что здорово, то здорово, сеньора Мариалонсо! — воскликнула одна из девушек. — Одним словом, сказано, как полагается говорить особе разумной и понимающей, как такие дела делаются; если же сеньор не захочет поклясться, пусть сюда и не суется.
Негритянка Гьомар, не вполне складно владевшая речью, в эту минуту решила высказаться:
— А по мне, пусть бы вовсе не клялся; пусть его входит ко всем чертям! Сколько он ни клянись, когда войдет, все позабудет.
Лоайса с необыкновенной важностью прослушал речь сеньоры Мариалонсо и с большой серьезностью и внушительностью произнес:
— Само собой разумеется, уважаемые подруги и приятельницы, что у меня не было, нет и не будет иного намерения, кроме желания доставить вам радость и удовольствие по мере собственных слабых сил, а потому испрашиваемая у меня клятва не встретит с моей стороны препятствий, хотя все-таки было бы гораздо приятнее, если бы вы отнеслись с большим доверием к моему слову, ибо, будучи дано такой особой, как я, оно тем самым является, так сказать, верительной грамотой; мне хотелось бы, кроме того, напомнить вам, сеньора дуэнья, что и «под сермягой люди бывают» и что «в дырявых плащах ходят добрые пьяницы». Но для того, чтобы все могли поверить чистоте моих помыслов, я согласен принести клятву как честный человек и как католик, а потому клянусь вам ничем не оспоримой достоверностью, как если бы она тут вся целиком и нерушимо лежала, а также всеми ходами и выходами святейшей горы Ливана, всем, что содержит в предисловии своем истинная история Карла Великого совокупно со смертью великана Фьерабраса, не преступать и ни в чем не отступать от ныне даваемой клятвы и от приказаний самой ничтожной и презренной из здесь предстоящих сеньор, а если бы я здесь что-нибудь такое учинил или же только замыслил учинить, то с того самого часа и по сей час, и с сего самого часа и по тот час будем почитать эту клятву неверной, несостоявшейся и недействительной.
Лоайса успел дойти только до этого места клятвы, как вдруг одна из девушек, которая все время внимательно его слушала, громко воскликнула:
— Да от такой клятвы даже камни и те прослезятся! Пропади я на этом месте, если я стану требовать от тебя еще новых клятв! Ведь той клятвы, которую ты нам дал, вполне достаточно для того, чтобы спуститься хоть в пропасть Кабра.
И, схватив его рукой за шаровары, она втащила его во двор, и в ту же минуту его обступили все остальные женщины. Одна из них мигом сбегала сообщить о событии своей сеньоре, которая в это время сторожила еще сон супруга, а когда вестница передала, что музыкант уже направляется наверх, Леонора сразу опечалилась и развеселилась, и потом справилась, дал ли он действительно клятву. Девушка подтвердила, что клятва была дана и притом в самой необычной и никогда ею не слыханной форме.
— Ну, если клятва дана, — сказала Леонора, — он в наших руках. Как я умно поступила, догадавшись взять с него клятву!
В это время к дому приблизилась вся ватага, причем музыкант находился в самой ее середине, а негр и негритянка Гьомар несли свет перед двигающимся шествием.
При виде Леоноры Лоайса хотел было опуститься на колени, чтобы поцеловать ей руки. Но она безмолвным знаком велела ему встать, и все после этого вели себя как немые, не смея слова сказать из опасения, что их услышит хозяин. Заметив это, Лоайса сказал, что они могут разговаривать громко, поскольку мазь, которой был натерт их хозяин, обладает свойством, не лишая человека жизни, превращать его почти в мертвеца.
— Я склоняюсь к такому же мнению, — ответила Леонора, — ведь если бы это было не так, он проснулся бы уже раз двадцать; ведь у него очень плохой сон от всех его бесчисленных недомоганий. Стоило мне, однако, натереть его мазью — и он храпит, как дикий зверь.
— А раз так, — проговорила дуэнья, — мы можем перейти в лицевую комнату, где нам можно будет послушать пение этого сеньора и немного повеселиться.
— Хорошо, — произнесла Леонора, — но только пусть Гьомар останется стоять на страже и известит нас в случае, если Каррисалес проснется.
В ответ на это Гьомар пробормотала:
— Я — черная, я останусь; белые идут; помилуй нас всех, боже!
Негритянка осталась, а все прочие отправились в залу, где находился богато украшенный помост; они поместили Лоайсу в середину и потом уселись сами. Почтенная Мариалонсо взяла светильник и стала разглядывать музыканта от головы до ног, причем одна девушка заметила: «Какой у него чубик, какой хорошенький и завитой!»; другая добавила: «А какие белые зубы! Чищенные орехи и те никогда не бывают такие чистые и белые!»; третья сказала: «А какие правильные и красивые глаза! Клянусь моей матушкой, они зеленые, ну ни дать ни взять настоящие изумруды!» Одна расхваливала рот, другая — ноги, и все вместе разобрали его, можно сказать, по частям и искрошили на мелкие кусочки. Одна лишь Леонора молча его рассматривала, и ей начинало казаться, что он, пожалуй, будет поинтереснее ее старика.
Teм временем дуэнья взяла у негра гитару и вложила ее в руки Лоайсы, попросив его сыграть и спеть куплеты, бывшие в то время в большой славе у севильянцев и начинавшиеся словами:
Матушка родная, Кто любовь стерег?Лоайса согласился. Все поднялись с мест и пустились в неистовый пляс. Дуэнья знала слова и не очень, правда, приятным голосом, но с большим удовольствием пропела следующие стихи:
Матушка родная, Кто любовь стерег? Не спасусь сама я — Не спасет замок. Говорят, что где-то Написал мудрец: Не унять сердец Силою запрета, Вдвое разогрета Запертая страсть, И дурная власть — Цепи да крючок; Не спасусь сама я — Не спасет замок. Страсть убережет Лишь сама себя же, Ей плохие стражи — Страх и знатный род. Напролом пойдет Вплоть до самой смерти И найдет, поверьте, Свой заветный рок; Не спасусь сама я — Не спасет замок. Та, кому влюбиться Наступает срок, Словно мотылек, На огонь помчится, Сколько ни случится Стражей на дороге И какой бы строгий Ни был им зарок; Не спасусь сама я — Не спасет замок. Чувство молодое Может в миг короткий Сделать из красотки Чудо неживое: Сердце восковое И рассудок глух, Руки — легкий пух, Ноги — ветерок; Не спасусь сама я — Не спасет замок.Пение и танцы хоровода дев, предводительствуемых почтенной дуэньей, близились уже к концу, как вдруг в страшном волнении вбежала стоявшая на страже Гьомар и, судорожно подергивая одною рукой и ногой, словно разбитая параличом, каким-то хриплым, невнятным голосом проговорила:
— Проснувшись сеньор, сеньора!.. Ой, сеньора, уже проснувшись сеньор и уже встает и ходит.
Кому случалось видеть, как беспечная стая голубок, клюющая в поле посеянное чужими руками зерно, вдруг пугается и срывается с места, оглушенная грохотом мушкетного выстрела; кто видел, как, позабыв о пище, она взволнованно и растерянно мечется в воздухе, тот легко себе может представить, во что превратилась испуганная и трепещущая стая хороводных девушек по прослушании столь неожиданного известия, принесенного Гьомар. И вот каждая из стремления обелить себя — а все вместе в поисках общего спасения — бросились кто туда, кто сюда — по чердакам и закоулкам дома, оставив в одиночестве музыканта, который не думал уже ни о гитаре, ни о пении, а страшно растерялся и не знал, что ему предпринять. Леонора заломила свои прекрасные руки, Мариалонсо стала (правда, совсем не сильно) хлестать себя по щекам, и все вокруг обратилось в смущение, испуг и переполох. Впрочем, дуэнья, особа хитрая и владевшая собой, попросила Лоайсу пройти прямо к ней в комнату, а сама вместе со своей госпожой порешила остаться в зале; не так уж трудно было бы подыскать оправдания и объяснить, почему они здесь. Лоайса поспешил спрятаться, а дуэнья стала внимательно слушать, действительно ли сюда идет хозяин. Не почуяв никакого шума, она собралась с духом и потихоньку, медленными шагами, стала приближаться к комнате, где спал старик, и услыхала, что он храпит по-прежнему. Удостоверившись, что старик спит, она подобрала юбки и побежала обратно к хозяйке поздравить ее с приятною вестью о сне хозяина, чему та действительно совершенно искренне обрадовалась.
Почтенная дуэнья не пожелала упустить возможности, дарованной ей судьбой, прежде всех остальных насладиться прелестями, которыми, по ее домыслам, должен был обладать музыкант. И вот, посоветовав Леоноре переждать в зале до тех пор, пока она его разыщет, дуэнья оставила свою хозяйку и пошла к себе в комнату, где в волнении и задумчивости сидел музыкант, ожидая известий о поведении усыпленного старца. Он проклинал ненадежность мази, обвинял в легковерии своих друзей, а самого себя в недостаточной осмотрительности, ибо, прежде чем давать ее Каррисалесу, ему следовало предварительно испробовать ее на ком-нибудь другом. В это время явилась дуэнья и сообщила, что старик заснул еще крепче, чем прежде. У него отлегло от сердца, и он стал прислушиваться к потоку нежных слов, срывавшихся с уст Мариалонсо и уяснявших ему ее гнусное намерение. Он тут же решил использовать ее в качестве удочки, на которую он поймает ее сеньору. Пока они были заняты своим разговором, все остальные служанки, попрятавшиеся было по разным углам, стали одна за другой собираться снова, стараясь разузнать, действительно ли проснулся хозяин. Заметив, что весь дом погружен в молчание, они пробрались в залу, где оставили свою госпожу, которая рассказала, в чем дело. На вопрос о том, где теперь музыкант и дуэнья, она указала на комнату Мариалонсо, а потому, по-прежнему сохраняя молчание, служанки отправились послушать через дверь, о чем они там говорили.
Среди любопытных была налицо и негритянка Гьомар; не хватало одного только негра; стоило ему услышать, что хозяин очнулся от сна, как он крепко прижал к груди гитару, спрятался у себя на сеновале и, закрывшись одеялом своей жалкой постели, обливался потом от страха; и, несмотря ни на что, он не переставал нащупывать рукой струны гитары; вот как сильна была (забодай его сатана!) страсть, которую он питал к музыке. Девушки сразу смекнули про любовные шашни дуэньи, и каждая при этом не поскупилась на крепкое словцо; но ни одна, не сказала просто «старая», а тут же в виде пояснения и примечания прибавила: ведьма, бородачка, ломака и разные другие слова, которые мы из приличия опустим; но особенно сильный смех вызвали у слушателей выражения негритянки Гьомар, ругательства которой благодаря португальскому выговору и ломаному языку показались необыкновенно забавными. В конце концов, в. заключение своей беседы обе стороны сговорились на том, что музыкант ответит на чувства дуэньи при условии, что она предварительно предоставит в его полное распоряжение свою сеньору.
Острым ножом было для дуэньи изъявить согласие на требования музыканта, но ради удовлетворения желания, которое успело уже завладеть ее душой и каждой косточкой и частицей тела, она готова была пообещать самые неисполнимые вещи. Оставив Лоайсу наедине, она отправилась беседовать с сеньорой; заметив, что у дверей толпятся служанки, она велела им разойтись по комнатам до следующей ночи, когда можно будет повеселиться без всякой помехи или подвоха для музыканта; что до сегодняшнего дня, то поднявшийся переполох успел уже всем испортить удовольствие.
Все отлично поняли, что старуха хочет остаться одна, но не решились все же ее ослушаться, потому что она всегда была их начальницей. Служанки удалились, а дуэнья поспешила в залу и стала уговаривать Леонору ответить на чувства Лоайсы в такой длинной и стройной речи, что невольно казалось, будто она подготовила ее много дней тому назад. Она превозносила его изящество, его достоинства, его остроумие и разные другие прелести; доказывала, почему объятия молодого человека должны были доставить сеньоре больше удовольствия, чем ласки старого мужа, обещала ей полную тайну и безнаказанность на будущее время и множество других вещей в том же роде, подсказанных ей, видимо, самим дьяволом, и все это с цветами красноречия, столь убедительно и сильно действующими, что они могли бы покорить не только юное и неискушенное сердечко легковерной и неосторожной Леоноры, но и сердце из самого бесчувственного мрамора. О дуэньи, рожденные и посланные на свет божий для того, чтобы губить тысячи самых осмотрительных добрых намерений! О длинные, складчатые «токи», заведенные для того, чтобы поддерживать благочиние в покоях и парадных комнатах знатных сеньор, не вы ли поступаете наперекор всему, что вы должны были бы в действительности делать в согласии со своим, казалось бы, почтенным званием! Одним словом, дуэнья столько наговорила, так хорошо и искусно убеждала, что Леонора сдалась, что Леонора стала жертвой обмана, что Леонора себя загубила и поставила крест над всеми предосторожностями Каррисалеса, который спал теперь сном, обозначавшим смерть его личной чести.
Мариалонсо взяла за руку свою сеньору и повела ее почти насильно, не обращая внимания на стоявшие в ее глазах слезы, в комнату, где находился Лоайса. Сказав им напутствие, она с особым, деланным, дьявольским смехом прикрыла за собой дверь, оставила их наедине и отправилась в залу прилечь в ожидании полагавшихся на ее долю остатков. Но на нее так подействовали последние бессонные ночи, что в зале она глубоко заснула. Если бы Каррисалес в это время не почивал, не дурно было бы его спросить, к чему привели все строгие меры предосторожности, его страхи, его заботы и увещания, его высокие стены, устранение из дома всего, что могло иметь отношение к мужчине, его узкая «вертушка», толстые стены, глухие окна, строгое затворничество, богатое приданое, справленное им для Леоноры, постоянные подарки, которые он ей носил, ласковое обхождение со служанками и рабынями, самое предупредительное внимание ко всему, в чем они, по его разумению, могли испытывать нужду или потребность? Но мы уже сказали, что спрашивать его, конечно, не стоило, так как он спал сейчас гораздо крепче, чем следовало. А если бы он и услышал и был в состоянии ответить, то ответ он мог бы дать нам только такой: пожать плечами, склонить голову и сказать «все пошло прахом вследствие очень хитрого (надо думать) плана юного испорченного повесы, развращенности лицемерной дуэньи и неразумия поддавшейся на уговоры и увещания девочки». Спаси нас бог от таких врагов, от которых не охранят нас ни щит благоразумия, ни острый меч осмотрительности.
И тем не менее мужество Леоноры оказалось не малым; в то самое время, когда это потребовалось, она сумела устоять против грубой силы своего хитрого соблазнителя. Во всяком случае, его силы было недостаточно, чтобы одолеть ее: музыкант, не достигнув успеха, утомился, Леонора осталась победительницей, и оба они крепко заснули. И как раз в это время, по соизволению небес, вышло так, что, невзирая на мазь, наш Каррисалес проснулся и по своему обыкновению со всех сторон ощупал кровать; не обнаружив на ней своей любимой жены, ошеломленный и перепуганный, он с быстротой и решительностью, совершенно неожиданными для его преклонных лет, соскочил со своего ложа; но после того, как, не найдя жены в своей спальне, он увидел, что комната открыта и что под тюфяком нет больше ключа, ему показалось, что он теряет разум; овладев понемногу своими чувствами, он прошел в коридор и оттуда, ступая на цыпочках во избежание шума, пробрался в залу, где спала дуэнья; потом он неслышно открыл перед собою дверь и увидел то, чего никогда не хотел бы увидеть; увидел картину, при виде которой он охотно бы согласился никогда не иметь глаз; он увидел Леонору в объятиях Лоайсы, спавшую таким непробудным сном, как если бы действию мази на деле подвергся не ревнивый старик, а они сами!
Каррисалес обмер при взгляде на это роковое для него зрелище: голос у него пресекся, руки беспомощно опустились, и он вдруг превратился в статую из холодного мрамора. И хотя гнев произвел в нем свое обычное действие и оживил его угасшие жизненные силы, скорбь его была столь велика, что он не мог рассвирепеть по-настоящему. Тем не менее он, наверное, учинил бы на месте расправу, которой требовало столь великое злодеяние, будь у него под рукой необходимое оружие; он даже решил вернуться назад в свою спальню, взять там кинжал и смыть порочившие его честь пятна не только кровью обидчиков, но и кровью всех своих домочадцев. Под влиянием этого почтенного и неотвратимого решения он так же тихо и осторожно, как пришел, вернулся обратно в спальню, но там сердце его охватили такая боль и тоска, что, не будучи в силах ничего с собою поделать, он без чувств повалился на ложе.
Между тем наступил день, заставший наших невинных прелюбодеев в объятиях друг друга. Проснулась и Мариалонсо, поспешившая было приступить к тому, что, по ее мнению, составляло ее собственную долю; но, увидев, что уже было поздно, она решила отложить это дело на будущую ночь. Леонора страшно разволновалась оттого, что час такой поздний, и прокляла свою и дуэньину беспечность; затем обе они в большом переполохе направили свои стопы в комнату мужа, мысленно моля небо о том, чтобы застать его по-прежнему храпящим. При виде Каррисалеса, безмолвно лежавшего на ложе, они подумали, что, поскольку старик спит, мазь все еще продолжает действовать, и на радостях обе они даже обнялись. Леонора подошла к мужу, взяла его за руку и переложила с одного бока на другой, желая посмотреть, не проснется ли он сам без намачивания уксусом, которое ей было указано как средство для прекращения сна. От движения Каррисалес очнулся, вздохнул и произнес жалобным и расслабленным голосом:
— О, я несчастный, к какому горестному концу привела меня судьба!
Леонора сразу не поняла слов мужа, но, увидев, что он проснулся и разговаривает, подивившись тому, что действие мази далеко не так продолжительно, как ее уверяли, подошла к нему, прижалась щекой к его лицу, крепко его обняла и сказала:
— Что с вами, мой господин? Мне показалось, будто вы на что-то пожаловались?
Несчастный старик, услышав голос своего нежного врага, открыл глаза и, точно ошарашенный или оцепенелый, медленно остановил на ней свей взгляд и с необычайным упорством, не мигая, долго-долго смотрел на нее и сказал:
— Будьте любезны, дорогая, пошлите сию же минуту кого-нибудь к вашим родителям и скажите, чтобы они сейчас шли ко мне; у меня что-то неладно с сердцем, мне очень неможется, к я боюсь, что жизнь моя приходит к концу; вот почему мне хочется увидеть их перед смертью.
Леонора была твердо уверена, что слова мужа вполне искренни, и прежде всего подумала об опасном действии мази, а, конечно, не о том, что старик ее утром видел. Она ответила, что немедленно даст распоряжение, и велела негру тотчас же сходить за ее родителями, а потом обняла своего мужа и, лаская его с такою нежностью, с какою ни разу еще не ласкала, стала расспрашивать его о здоровье в таких нежных и трогательных выражениях, как если бы он был для нее самым дорогим существом на свете.
А он по-прежнему смотрел на нее как оцепенелый, и каждое ее слово и ласка были для него ударом копья, пронзавшего всю душу.
Дуэнья успела уже сообщить всей дворне и Лоайсе о недомогании хозяина, заметив, что болезнь, должно быть, очень серьезная, поскольку старик позабыл отдать приказание замкнуть уличную дверь после негра, отправившегося за родителями сеньоры. Самое приглашение вызвало среди них большое удивление, ибо с тех самых пор, как дочь вышла замуж, никто из родителей ни разу еще не бывал в доме. И вот все ходили по дому молчаливые и недоумевающие, не будучи в состоянии понять истинную причину недомогания хозяина, который время от времени так глубоко и печально вздыхал, что казалось, будто с каждым вздохом душа его разрывается на части. Леонора заливалась слезами, видя его в таком состоянии, а старик только смеялся каким-то полубезумным смехом, считая ее слезы поддельными. В это время явились родители Леоноры; увидев, что уличная и внутренняя двери дома не заперты и что дом пустынен и погружен в молчание, они очень удивились и встревожились. Затем они прошли в спальню своего зятя и застали его в той же позе, о которой здесь уже говорилось: глаза его были неподвижно устремлены на жену, руки которой лежали в его руках, причем оба они заливались слезами: она оттого, что видела, как плачет ее муж, а он потому, что считал проливаемые ею слезы притворными.
Как только родители вошли, Каррисалес заговорил и сказал следующее:
— Садитесь, дорогие сеньоры, и пусть все посторонние удалятся отсюда, за исключением сеньоры Мариалонсо.
Просьба его была исполнена, в комнате осталось только пять человек. Прежде чем кто-нибудь заговорил, Каррисалес осушил свои глаза и спокойным голосом произнес следующее:
— Хочется думать, дорогие родители и сеньоры, что мне незачем представлять вам свидетелей в подтверждение истинности всего, что я вам сейчас скажу. Вы, должно быть, отлично помните (да и трудно поверить, что это изгладилось из вашей памяти), с какой любовью, с какими искренними чувствами один год, один месяц, пять дней и девять часов тому назад вы вручили мне вашу возлюбленную дочь в законные жены. Вам известно также, какое я выделил ей щедрое приданое; в самом деле, приданое было таково, что его с избытком хватило бы на троих девушек ее звания и все они могли бы считаться богатыми.
Надо думать, вы помните и о том, с какой заботливостью я ее одел и украсил всем, чего ей только хотелось и до чего я сам смог додуматься, желая ей угодить. Само собою разумеется, сеньоры мои, вы помните также, как, уступая природному нраву и во избежание зла, от которого мне, как видно, суждено умереть, а заодно и под влиянием опыта, умудрявшего меня в течение многих лет картинами самых странных и разнообразных случайностей, я порешил охранять полученное мною и врученное мне вами сокровище самым бережным образом, на какой я только способен: я велел надстроить стены дома, я убрал окна, выходившие на улицу, я сделал двойные замки для дверей, я устроил у себя «вертушку» словно в монастыре. Я настойчиво изгонял из дома все, что хотя бы отдаленно и случайно напоминало о мужчине, я нанял для услужения рабынь и служанок, и ни ей, ни им я не отказал ни в единой просьбе; я сделал ее своей ровней, я делился с нею своими сокровенными мыслями, я доверял ей все свое хозяйство. Все эти меры, если я правильно все рассчитал, были приняты для того, чтобы я спокойно и без всякой помехи мог насладиться самым драгоценным своим сокровищем и чтобы она со своей стороны постаралась не создавать поводов для возникновения у меня каких бы то ни было ревнивых мыслей и подозрений. Но поскольку никакими ухищрениями человеческими невозможно предотвратить наказание, назначаемое божественной волей всем тем, кто не возлагает единственно на нее всех своих помыслов и упований, нет ничего удивительного, что я просчитался и что я сам приготовил себе яд, от которого теперь умираю. Но я вижу, что вы находитесь в замешательстве и с напряжением следите за каждым моим словом, поэтому я закончу сейчас это длинное предисловие и постараюсь высказать в кратких словах то, чего не выразят и многие их тысячи. И вот, сеньоры мои, все мои слова и поступки привели к тому, что сегодня утром я застал эту женщину — видно, для того и родившуюся на свет божий, чтобы загубить мой покой и последние дни моей жизни, — в объятиях статного юноши, который в настоящую минуту прячется в комнате этой омерзительной дуэньи.
Едва только Каррисалес выговорил последние слова, как сердце у Леоноры замерло, и она упала без чувств на колени своего мужа. Мариалонсо страшно побледнела, а у родителей Леоноры подступил комок к горлу, не позволивший им произнести ни слова. Но Каррисалес снова заговорил и продолжал следующим образом:
— Месть, которою я хочу отплатить за содеянное оскорбление, не может и не должна походить на месть, применяемую людьми в сходных случаях. Поскольку я преступил в этом деле всякую меру, то пусть будет беспримерной и самая месть, причем мстить я буду одному лишь себе, как наиболее виновному во всем случившемся. Я отлично мог рассудить, что нельзя соединить и сочетать воедино пятнадцатилетнюю девочку и почти восьмидесятилетнего старца. Я сам, наподобие шелковичного червя, соткал себе кокон, от которого мне суждено умереть, а тебя я не виню, соблазнившаяся дурными советами девочка, — тут он наклонился и поцеловал в щеку лежавшую без чувств Леонору, — тебя я не виню, ибо уговоры бессовестных старух и улещивания влюбленных юношей легко могут одержать победу и взять верх над неразумием юного возраста. Но для того, чтобы все могли узнать, с какой силой и с какой искренностью я тебя полюбил, сейчас, перед лицом близкой смерти, я хочу оставить после себя в мире пример, но не добродетели, а всего только невиданной и неслыханной простоты! Приведите ко мне сюда нотариуса, и я перепишу заново свое завещание, в котором я велю увеличить вдвое приданое Леоноры и попрошу ее после моей смерти (она уже, видно, не за горами) согласиться — это она сделает добровольно — выйти замуж за юношу, которого ничем не оскорбили седины этого несчастного старика! Тогда она увидит, что если я при жизни ни разу не восставал против малейшего ее желания, то ни в чем не переменюсь к ней и после смерти, ибо я желаю ей радости в союзе с тем, кого она, по-видимому, очень любит. Остальное свое имущество я откажу на разные богоугодные дела; что же касается вас, сеньоры мои, то я оставлю вам вполне достаточно средств, чтобы безбедно прожить остаток дней вашей жизни. Нотариуса позовите немедленно; волнение, охватившее меня, так сильно сказывается, что если оно продолжится, это может ускорить мой конец.
В эту минуту с ним случился сильнейший обморок, и он скатился при этом так близко к Леоноре, что лица их теперь касались друг друга: какое грустное и необычное зрелище для родителей, глядевших на свою ненаглядную дочь и любимого зятя! Дуэнья не пожелала дожидаться упреков, которыми ее стали бы осыпать родители сеньоры, а потому она вышла из спальни, чтобы сообщить обо всем Лоайсе и посоветовать ему немедленно удалиться из дома. Потом, если будет нужно, она пришлет за ним негра, тем более что теперь ни двери, ни ключи служить помехой не будут. Лоайса был несколько озадачен этим известием; подумав немного, он решил снова переодеться нищим и отправиться сообщить друзьям о странном и неожиданном заключении своих любовных проказ.
Пока оба, и муж и жена, лежали в беспамятстве, отец Леоноры послал за нотариусом, его хорошим приятелем, который прибыл в то время, когда супруги очнулись от забытья.
Каррисалес составил завещание в том смысле, как он говорил, и не только не упомянул о проступке Леоноры, а, напротив, в самых учтивых выражениях упрашивал и убеждал ее после его смерти выйти замуж за того самого юношу, которого она будто бы назвала ему втайне. Когда Леонора услыхала эти слова, она бросилась в ноги к мужу и, кое-как справляясь со своим сердцем, проговорила:
— Живите многие лета, супруг мой и мое счастье! Вы имеете полное право не верить ни единому моему слову, но знайте, что я оскорбила вас только помышлением.
И, начав в оправдание себе излагать в подробностях все, что с ней приключилось, она не смогла докончить своих слов и потеряла сознание. Несчастный старик прижал к своей груди лежавшую в обмороке жену, родители тоже начали ее обнимать; и все они так горько рыдали, что невольно растрогали и даже заставили прослезиться нотариуса, составлявшего завещание. В завещании своем старик оставил на жизнь всем служанкам дома, даровал вольную рабыням и негру, но вероломной Мариалонсо не отказал ничего, кроме ее жалованья. Но в конце концов страдания его так истерзали, что на седьмой день его отнесли на кладбище.
Леонора осталась вдовой, оплакивающей мужа и при этом богатой; Лоайса приготовился было к тому, что она исполнит значившийся, по его сведениям, в завещании наказ покойного мужа, но вместо этого она постриглась в монахини одного из самых строгих монастырей города Севильи. Огорченный и почти оскорбленный этим, он уехал в Америку. Родители Леоноры впали в глубочайшую грусть, хотя их отчасти утешила доля, оставленная им по завещанию зятя. Служанки тоже утешились полученными дарами, а рабыни и негр — своей волей, зато мерзкая дуэнья осталась в бедности и просчиталась во всех своих гнусных замыслах.
Что до меня, то у меня осталось желание заключить наконец эту историю, живо и наглядно показывающую, как мало следует полагаться на ключи, «вертушки» и стены, когда самая наша воля — свободна, и что еще меньше следует полагаться на юные, несмышленые годы, когда в дело замешиваются уговоры наших дуэний, облаченных в черные пышные одеяния и в белые длинные «токи». Мне неясны, однако, причины, по которым Леонора не проявила достаточного упорства в своих объяснениях и не уяснила до конца своему ревнивому мужу, в какой мере она была чиста и невинна перед ним во всем этом событии; но от волнения язык перестал ей повиноваться, а короткий срок, в который скончался старик, не оставил ей времени для оправданий.
Высокородная судомойка
В славном и именитом городе Бургосе немного лет тому назад жили два знатных и богатых кавальеро: одного из них звали дон Дьего де Каррьясо, другого — дон Хуан де Авенданьо. У дона Дьего был сын, которому отец дал свое собственное имя, у дона Хуана — тоже сын, называвшийся дон Томас де Авенданьо. Обоих этих юных кавальеро, которые станут героями нашей повести, мы во избежание лишних и ненужных слов будем именовать просто-напросто Каррьясо и Авенданьо. Когда ему было лет тринадцать с небольшим, Каррьясо, увлекаемый соблазном бродяжничества, отнюдь не вследствие дурного обращения отца и матери, а исключительно по собственной прихоти и желанию, «вырвался», как выражаются дети, «из когтей родительского дома» и отправился гулять по белу свету, до такой степени довольный своей беспечальной жизнью, что, несмотря на невзгоды и лишения, которые она с собой приносит, он нисколько не жалел изобилия родного дома, не боялся ходить пешком и не страдал ни от жары, ни от холода. Все времена года были для него нежной и мягкой весной; на гуменных снопах спалось ему не хуже, чем на тюфяках, и он с таким удовольствием зарывался в солому где-нибудь на постоялом дворе, словно укладывался на голландские простыни. Одним словом, он так глубоко постиг всю суть бродяжничества, что мог бы прочитать лекцию с кафедры знаменитому Альфараче.
За три года (со времени ухода и до возвращения домой) он постиг искусство табы в Мадриде, изучил рентой в харчевнях Толедо и узнал, что такое преса-и-пинта[112] на земляных валах у Севильи; невзирая на подобного рода жизнь, неразлучную с бедностью и лишениями, Каррьясо выказывал себя во всем настоящим принцем: чуть ли не с расстояния мушкетного выстрела по тысяче признаков можно было догадаться о его знатном происхождении: так он был всегда щедр и так хорошо всем делился со своими товарищами. Он очень редко наведывался в «святилища» Бахуса, и хотя вообще пил кино, но так мало, что его никоим образом нельзя было зачислить в разряд так называемых «погибших», которым стоит только выпить лишнее — и лицо у них сразу становится таким, будто его смазали киноварью или красным мелом. Короче говоря, в лице Каррьясо мир впервые увидел пикаро[113] добродетельного и безупречного, пикаро вполне воспитанного и обладавшего далеко не заурядным благоразумием. Он последовательно прошел все ступени плутовской науки и удостоился наконец звания маэстро на тунцовых промыслах в Саáре[114], представляющих собою предельную ступень в жизненном пути пикаро.
Эй, вы, кухонные пикаро, грязные, жирные, лоснящиеся, вы, притворные нищие, мнимые калеки, воришки, обрезающие кошельки на Сокодовере и на площади Мадрида, вы, зрячие слепцы, носильщики Севильи, сочлены воровских банд, и вы, бесчисленные полчища людей, обозначаемых именем пикаро, — посбавьте спеси, не задирайте нос и не величайте себя пикаро до тех пор, пока вы не поучились годика два в академии тунцовых промыслов! Не где-нибудь, а именно там находится обитель труда, неразлучного с шалопайничеством! Только там не переводятся щеголи-замарашки, разъевшиеся толстяки, отличный аппетит, сытость до отвалу, выставленный напоказ порок, постоянная игра, непрекращающиеся ссоры, непрерывные убийства, неумолкаемое зубоскальство, танцы словно на свадьбах, сегедильи точно в печатной лавке и, наконец, романсы самых строгих и поэзия самых что ни на есть вольных правил! Вот где процветает свобода и кипит работа; вот куда ездят сами (или посылают вместо себя других) многие знатные родители за сбежавшими сыновьями, которых они там и находят, а когда беглецов везут обратно, то они так скорбят, как если бы их вели оттуда на казнь.
Но вся эта описанная мною сладость заключает в себе горький-прегорький сок, который ее отравляет: дело в том, что здесь никто спокойно не спит и каждый боится, что его в один миг перевезут из Саары в Берберию. Поэтому все укрываются на ночь в береговые башни, выставляя своих дозорных и часовых, и таким образом з уповании на чужие глаза отваживаются смежить свои собственные очи, хотя иной раз бывало и так, что дозорные часовые, пикаро, надсмотрщики, а заодно лодки, сети и вся ватага занятого на работе народа засыпали в Испании, а просыпались уже в Тетуане.
Но никакие страхи не помешали нашему Каррьясо прожить там в полное свое удовольствие целых три лета. В последнее лето судьба ему так улыбнулась, что он выиграл в карты что-то около семисот реалов, на которые он решил справить себе одежду и явиться в Бургос, на глаза своей матери, пролившей из-за него немало слез. Он попрощался с друзьями (а их у него было много, и все — отличные люди), пообещав им (если он за это время не заболеет или не умрет) вернуться на следующее лето. Он отдал им половину своей души, а все самые заветные помыслы — покидаемым им сухим пескам, представлявшимся его глазам не менее свежими и зелеными, чем Елисейские поля. Привыкнув путешествовать пешком, он «прибрал», как говорится, «дорогу к рукам» и на паре собственных сандалий, распевая «Три уточки, мама», доставил себя из Саары в Вальядолид. Он правел там две недели, чтобы спустить загар с лица, из мулата превратиться в голландца и из чумазого пикаро «перебелить» себя в опрятного кавальеро. Он выполнил все это, оставаясь в пределах пятисот реалов, с которыми он прибыл в Вальядолид, причем умудрился еще выделить из них сотню и нанять мула с погонщиком, благодаря чему мог вполне прилично и пристойно явиться к своим родным. Они встретили его с великою радостью, а все друзья и родственники поспешили поздравить их с благополучным возвращением домой их сына, сеньора дона Дьего де Каррьясо.
Следует, впрочем, заметить, что во время своих скитаний дон Дьего переменил свое имя на прозвище Урдьялес и просил величать себя так всех, кто не знал, как его по-настоящему зовут.
Среди лиц, явившихся посмотреть на новоприбывшего, был и дон Хуан де Авенданьо с своим сыном Томасом, с которым, как со своим сверстником и соседом, Каррьясо завязал и установил самую тесную дружбу. Родителям и гостям Каррьясо наплел целый ворох самых невероятных и пространных небылиц про все, что с ним случилось за три года отсутствия из дому, но он ни единым словом не обмолвился и даже не упомянул о тунцовых промыслах, хотя сам все время о них думал, особенно с той поры, когда увидел, что уже недалеко время обещанного возвращения к друзьям. Ни охота, которою его развлекал отец, ни многочисленные веселые пирушки, обычно устраиваемые у них в городе, не доставляли ему никакого удовольствия: всякое развлечение ему прискучало и даже самым интересным среди них не приходилось тягаться с тем, что бывало на тунцовых промыслах.
Его друг, Авенданьо, заметив у него частые приступы меланхолии и задумчивости, решил по дружбе расспросить его, в чем дело, и вызвался — если только это возможно и нужно — помочь ему хотя бы даже ценою собственной крови. Каррьясо не пожелал таиться от друга и изменять старинной дружбе, в которой они с ним состояли: он подробно рассказал ему про рыбные промыслы и о том, что его грусть и задумчивость объясняются желанием снова туда вернуться. Он так живо их изобразил, что Авенданьо, выслушав его до конца, не только не осудил, а вполне одобрил его увлечение. Одним словом, беседа эта закончилась тем, что Каррьясо склонил Авенданьо отправиться вместе с ним на одно лето испробовать радости этой блаженнейшей жизни; Каррьясо очень обрадовался, рассудив, что в лице своего друга он приобретает сообщника, способного оправдать его не совсем похвальное намерение. Они порешили собрать для дороги как можно больше денег и не нашли для этого лучшего способа, как нижеследующий: через два месяца Авенданьо предстояло отправиться в Саламанку, где он по собственному почину два года обучался греческому и латинскому языкам; теперь же его отец пожелал, чтобы сын продолжал занятия и выбрал себе факультет по собственному вкусу; деньги, которые выдаст отец, должны были пойти на задуманное дело.
Тем временем Каррьясо заявил своему отцу, что он тоже желает отправиться вместе с Авенданьо учиться в Саламанку. Отец этому очень обрадовался, переговорил со стариком Авенданьо, и они порешили поселить обоих юношей в Саламанке на общей квартире и сообща обставить их так, как это им подобало. Наступило время отъезда; юношам дали денег, а кроме того, приставили к ним для надзора дядьку, который был вполне порядочный, но крайне недалекий человек. Родители прочитали детям наказ о том, как им следует держаться и как вести себя для того, чтобы утвердиться в добродетели и в науках, ибо это, собственно, и есть тот плод, который должен извлечь из своих трудов и бдений каждый студент, а тем паче студент знатного рода. Мальчики держались скромно и почтительно; матери всплакнули; все присутствовавшие осыпали их благословениями, и вот наши путники отправились в дорогу, верхом на собственных мулах, в сопровождении двух, дворовых слуг и дядьки, отпустившего себе даже бороду, чтобы придать побольше весу исполняемой им обязанности.
По прибытии в Вальядолид мальчики объявили дядьке, что они желают провести здесь два дня и осмотреть город, который они ни разу не видели и не посещали. Дядька стал было их строго и важно отчитывать за эту задержку, ссылаясь на то, что людям, едущим изучать важные науки, нельзя тратить на осмотр пустяков не то что два дня, а даже единого часа, и что он возьмет большой грех на душу, если позволит им провести тут хотя бы только минуту, а потому, мол, они должны сейчас же ехать дальше, а иначе им несдобровать.
Только на это и хватило расторопности у почтенного дядьки, или майордома (смотря по тому, как нам заблагорассудится его назвать). Дело в том, что мальчуганы уже успели «снять богатый урожай с своих виноградников» и стащили у старика находившиеся у него четыреста золотых эскудо, а потому они отпросились у него только на день для того, чтобы съездить взглянуть на Аргальский ключ[115], который только тогда начали подводить к городу по высоким и очень длинным акведукам. Дядька дал им разрешение скрепя сердце, ибо ему очень хотелось использовать ночь на переезд в Вальдеастильяс и потом разбить на два перегона только восемнадцать миль (от Вальдеастильяс до Саламанки), а не все двадцать две мили, остававшиеся до конца пути; но «одно думает гнедой, а другое тот, кто его седлает», и поэтому все вышло совсем не так, как он ожидал.
Юноши в сопровождении одного слуги выехали на двух добрых домашних мулах посмотреть на Аргальский ключ, славящийся своею древностью и своими водами (несмотря на существование Каньо Дорадо и почтенной Приоры), не в обиду будь сказано для нашего Леганитос и великолепнейшего ключа Кастельяна, пред которым должны умолкнуть как Корпа, так и ламанчская Писарра. По прибытии в Аргалес Авенданьо стал рыться в карманах седельной сумки, и слуга порешил, что он достает сосуд для питья воды, но юноша извлек оттуда запечатанное письмо и велел слуге немедленно вернуться в город и вручить послание дядьке, после чего слуге надлежало дожидаться своих господ у ворот Поединка[116].
Слуга повиновался, взял письмо и поехал в город, а мальчуганы свернули в сторону и ближайшую ночь провели в местечке Мохадос, еще через две ночи очутились в Мадриде, а через четыре они уж продавали своих мулов на рынке, где им не только дали шесть эскудо задатка, но в конце концов расплатились с ними полностью и золотом. Они разыскали себе крестьянское платье, короткие куртки, шаровары и чулки из коричневого сукна. Помощь в этом деле оказал им один старьевщик, который утром купил их одежду, а к вечеру придал юнцам такой облик, что их не узнала бы и мать, родившая их на свет божий. Освободившись от ненужных вещей, по советам и указаниям Авенданьо, они пешим порядком и без шпаг пустились по дороге в Толедо (шпаги их приобрел все тот же старьевщик, хотя оружием он обычно не торговал).
Итак, пусть они путешествуют, бодро и весело подвигаясь вперед, а мы снова вернемся к рассказу о дядьке и о том, как он себя повел после вскрытия переданного ему слугою письма, в котором было написано следующее:
«Сеньор Педро Алонсо, потрудитесь, не теряя времени, вернуться обратно в Бургос и передать нашим родителям, что их дети по зрелом и здравом размышлении пришли к выводу, что оружие приличествует кавальеро гораздо больше, чем науки, а потому, они решили переменить Саламанку на Брюссель и Испанию на Фландрию. Четыреста эскудо мы забрали с собой; мулов мы намерены продать. Наше рыцарское намерение и предстоящий далекий путь в достаточной степени оправдывают этот проступок, хотя проступком! это может назвать только трус. В дорогу мы выезжаем немедленно, а вернемся обратно, когда это будет угодно господу богу. Да хранит он во всем вашу милость, как того искренне желают ваши почтительные питомцы. Писано у Аргальского ключа, в минуты, когда мы уже „вдели ногу в стремя“, собираясь ехать во Фландрию.
Каррьясо и Авенданьо».
Педро Алонсо оторопел, ознакомившись с содержанием письма; он сейчас же побежал к своему чемодану и, увидев, что он пуст, поверил наконец, что письмо — несомненная истина; ни минуты не мешкая, он сел на оставшегося у него мула и поехал в Бургос, чтобы возможно быстрее известить о случившемся своих хозяев и побудить их к быстрым мерам по снаряжению погони за беглецами. Но об этих событиях автор настоящей повести не говорит ни единого слова; усадив Педро Алонсо на мула, он сразу переходит к рассказу о том, что случилось с Авенданьо и Каррьясо при въезде в город Ильескас. Он сообщает, что у самых ворот этого города путники повстречали двух погонщиков мулов, смахивавших на андалусцев. На них были полотняные штаны, куртки с набивными прорезами, кожаные нагрудники, болтавшиеся на ремнях кинжалы и шпаги без портупей. Один из них, видимо, ехал из Севильи, а другой туда направлялся. Последний обратился к товарищу с такими словами:
— Если бы мои господа не отъехали так далеко, я, честное слово, остался бы тут и расспросил тебя о тысяче интересных для меня сведений. Очень ты меня удивил своим рассказом о том, что граф повесил Алонсо Хениса и Риверу, не позволив им даже подать апелляцию.
— Да, плохие пошли дела! — заявил севильянец. — Граф им устроил ловушку и предал их собственному суду как солдат, ослушавшихся приказа, так что Аудиенция ничего не могла с ним поделать. Нужно тебе заметить, дружок, что в графе Пуньонростро[117] сидит, очевидно, дьявол: ведь он, можно сказать, нашу жизнь заедает. Севилья и вся округа на десять миль кругом очищены от лихого люда; ни один вор там больше не показывается: все его боятся как огня. Впрочем, стали уже поговаривать, что вскоре он оставляет должность наместника, так как ему невмоготу на каждом шагу воевать с сеньорами из Аудиенции.
— Пошли им, господи, многие лета! — воскликнул в ответ погонщик, направлявшийся в Севилью, — ведь они — отцы беспризорных и оплот обездоленных! Подумать только, сколько горемык жуют землю на кладбище по милости какого-нибудь самодура-судьи или неосведомленного, пристрастного коррехидора! Сотня глаз всегда видит лучше, чем два глаза, и сотня сердец никогда не поддастся неправосудию с такою же легкостью, как одно-единое сердце.
— Ты что-то ударился в проповеди, — заметил на его слова товарищ, — и если судить по твоему настроению, ты не скоро кончишь, а задерживаться я никак не могу. Не останавливайся сегодня ночью на привычном месте и переночуй на дворе у Севильянца: ты увидишь там такую судомойку, какой отродясь не видывал; Маринилья из Техадской харчевни ей в подметки не годится; достаточно будет сказать, что, по слухам, сынок коррехидора потерял из-за нее голову. Я, чтобы оставить по себе память, успел уже ее ущипнуть и получил за это здоровенную затрещину. Она непреклонна, как мрамор, неприступна, как сайягезская крестьянка[118], жестока, как крапива; личико у нее — как светлое христово воскресенье или первый день нового года; на одной щечке у нее — солнце, на другой — луна; одна — сделана из роз, другая — из гвоздики, а на обеих вместе — лилии и жасмины. Одним словом, пойди посмотри, и сам увидишь, что все мои разговоры о ее красоте по сравнению с тем, что следовало бы сказать, ровно ничего не стоят. Если бы мне отдали ее в жены, я с великою радостью пожертвовал бы ей на приданое пару своих серых мулов, которых ты отлично знаешь; но мне ее никогда не отдадут, нет, такое сокровище берегут или для архипресвитера, или для какого-нибудь графа! Впрочем, еще раз повторяю: на месте все сам увидишь! А сейчас прощай, я еду!
На этом погонщики распрощались друг с другом, но их словоохотливая беседа чрезвычайно заинтересовала присутствующих при ней путников, в особенности же Авенданьо, в котором наивное описание красоты судомойки, сделанное парнем, возбудило страстное желание ее увидеть. Желание это возникло также и у Каррьясо, но тем не менее он по-прежнему рвался всей душой на тунцовые промыслы и от этой цели не отвлекли бы его ни пирамиды Египта, ни самое хваленое из «семи чудес света», да, наконец, и все эти чудеса, взятые вместе.
Припоминанием выражений обоих погонщиков мулов, воспроизведением их голоса и передразниванием движений, которыми те сопровождали свою речь, мальчуганы потешили себя в продолжение всей дороги до Толедо. По приезде в город Каррьясо, которому, раньше случалось здесь бывать, повел своего друга по улице Сангре де Кристо и разыскал гостиницу Севильянца[119]; просить себе там ночлег они все-таки не решились, поскольку их внешний вид для этого не подходил. Начинало темнеть и, хотя Каррьясо настойчиво уговаривал Авенданьо сходить в другое место и поискать себе там пристанища, он не мог увести его от ворот, ибо Авенданьо все время ожидал, что вот-вот пройдет его несравненная судомойка. Приближалась ночь, а судомойка все не показывалась; Каррьясо выходил из себя, а Авенданьо не двигался с места; наконец, упорствуя в своем желании, он под предлогом справок о каких-то кавальеро из Бургоса, якобы ехавших в Севилью, ухитрился пробраться до внутреннего дворика гостиницы.
Едва только он там очутился, как из одной комнаты, выходившей на двор, показалась девушка лет пятнадцати, одетая по-крестьянски, державшая в руках подсвечник с зажженной свечой.
Авенданьо не стал смотреть на платье и наряды девушки, а впился глазами в ее лицо, блиставшее, по его мнению, такой же красотой, как лица, бывающие у ангелов на картинах; он был озадачен в потрясен ее прелестью, он не успел даже задать какой-нибудь вопрос: так велико было его удивление и очарование. Девушка, заметив стоящего перед ней человека, спросила:
— Что вам нужно, голубчик? Вы, должно быть, слуга одного из наших постояльцев?
— Если я кому и слуга, то, конечно, слуга вашей милости, — ответил Авенданьо, охваченный волнением и замешательством.
Девушка, выслушав этот ответ, сказала:
— Ну, брат, проваливайте; трудящейся девушке никакие слуги не надобны.
И, кликнув хозяина, она прибавила:
— Спросите, сеньор, что нужно здесь этому малому.
Хозяин вышел и спросил у Авенданьо, в чем дело. Тот объяснил ему, что он ищет здесь знатных кавальеро из Бугоса, один из которых — его господин, отправивший его вперед с важным поручением в Алькала де Энарес и велевший ему дожидаться своего прибытия в Толедо, в гостинице у Севильянца, где он предполагал остановиться: господин его приедет сегодня ночью или, самое позднее, на следующий день. Авенданьо сумел так ловко расписать свою выдумку, что хозяин принял ее за чистую правду и сказал:
— Ладно, оставайтесь у нас; можете подождать здесь прибытия вашего господина.
— Чувствительно вас благодарю, сеньор хозяин, — поспешил ответить Авенданьо, — распорядитесь, ваша милость, отвести комнату для меня и заодно для товарища, едущего со мной и стоящего сейчас на улице; денег у нас достаточно, и мы расплатимся с вами как следует.
— Согласен, — произнес хозяин.
И, обратившись к служанке, хозяин прибавил:
— Костансика, вели Аргуэльо отвести этим молодцам угловую комнату и постлать им чистое белье.
— Слушаю, сеньор, — ответила Костанса (таково было имя девушки).
И, отвесив поклон хозяину, служанка пошла в другую сторону; при ее уходе Авенданьо пережил ощущения путника, видящего, что солнце вдруг закатилось и землю покрыла темная, зловещая ночь. Тем не менее он отправился к Каррьясо сообщить, что ему удалось увидать и сделать. Тот по тысяче разных признаков сообразил, что друг его одержим любовной чумой, но не пожелал с ним об этом разговаривать впредь до выяснения того, в какой мере заслуживает необыкновенных похвал и восторженных отзывов Костанса, красоту которой тот превозносил до небес.
После того как они вошли наконец в гостиницу, Аргуэльо, женщина лет сорока пяти, следившая за постельным бельем и обслуживанием комнат, провела их в помещение, не отводившееся обыкновенно ни для кавальеро, ни для слуг, а скорее для людей среднего между этими званиями положения. Приятели спросили ужин; Аргуэльо ответила, что у них в гостинице еды никому не подают, а если что стряпают и готовят, то исключительно из запасов, закупаемых самими постояльцами, но здесь, по соседству, есть немало заезжих домов и харчевен, где они без всякого стеснения могут спросить себе на ужин все, чего пожелают. Воспользовавшись указанием Аргуэльо, друзья отправились в заезжий дом, где Каррьясо подкрепил себя тем, что ему предложили, а Авенданьо тем, что принес с собой, то есть мечтами и размышлениями.
Каррьясо был очень удивлен, видя, что Авенданьо почти ничего не ест. Чтобы получше выпытать мысли своего друга, он на обратном пути в гостиницу сказал ему:
— Завтра нам придется пораньше встать; еще до наступления жары нам следовало бы приехать в Оргас.
— Я держусь другого мнения. — заметил Авенданьо, — прежде чем отсюда уехать, я хочу осмотреть достопримечательности города, а именно: Часовню богоматери, «Механику» Хуанело, гулянье св. Августина, Королевский огород и Вегу.[120]
— Ладно, — произнес Каррьясо, — это дело можно обделать в два дня.
— Говоря откровенно, я совсем не собираюсь это делать быстро; в самом деле, ведь не в Рим же мы поспешаем, чтобы занять какое-нибудь пустующее место.
— Эге, — вскричал Каррьясо, — убейте меня, но вам все-таки много приятнее засесть в Толедо, чем продолжать задуманное нами путешествие!
— Да, это так, — ответил ему Авенданьо, — мне так же трудно не видеть личика этой девушки, как отправиться на небо, не совершив добрых дел.
— Недурно сказано, — подшутил Каррьясо, — решение, можно сказать, вполне достойное такого знатного человека, как вы. Сочетание действительно подходящее: с одной стороны, дон Томас де Авенданьо, сын дона Хуана Авенданьо — кавальеро из хорошего дома, с хорошими средствами, молодой, веселый, большой умница, а с другой — юнец, влюбившийся и потерявший голову из-за судомойки в гостинице Севильянца!
— Мне сдается, — возразил Авенданьо, — это ничем не хуже того, когда дон Дьего де Каррьясо, сын отца того же самого имени (причем отец — кавальеро ордена Алькантара, а сын вскоре унаследует от него майорат!), одаренный блестящими внешними и внутренними качествами, несмотря на все свои прекрасные данные, взял да и полюбил… и как бы вы думали, кого? Королеву Джиневру? Не тут-то было: а самое Тунцеловлю Саарскую[121], которая своим безобразием не уступит, пожалуй, чудищам св. Антония![122]
— Итак, дружище, коса нашла на камень! — заметил Каррьясо. — Ты поразил меня тем оружием, которым я хотел тебя ранить. Прекратим лучше споры и пойдем спать, а завтра пораньше встанем и что-нибудь придумаем.
— Погоди, Каррьясо: ты ведь еще не видел Костансы; посмотри на нее сначала, а потом можешь меня бранить и отчитывать сколько хочешь.
— Я и так отлично вижу, чем все это кончится, — сказал Каррьясо.
— Чем же? — переспросил Авенданьо.
— А тем, что я отправлюсь на тунцовые промыслы, а ты останешься с судомойкой, — ответил Каррьясо.
— Для этого я недостаточно счастлив, — произнес Авенданьо.
— Ну, а я достаточно умен, чтобы не поддаться дурному примеру и твердо держаться своих добрых правил.
В это время они подошли к гостинице, где беседа их продолжалась еще добрую половину ночи; они проспали, по их мнению, никак не более часа, как вдруг их сон был нарушен звуками многочисленных гобоев, игравших на улице. Юноши привстали на своих кроватях, прислушались, и Каррьясо сказал:
— Бьюсь об заклад, что сейчас уже день и что гобои эти играют по случаю какого-нибудь празднества, устроенного в соседнем Кармелитском монастыре.
— Вряд ли это так, — заметил Авенданьо, — мы спали очень недолго: до дня еще далеко.
В эту минуту кто-то постучался к ним в дверь; на оклик «кто там?» им ответили:
— Послушайте, молодые люди, если вам хочется насладиться хорошей музыкой, встаньте и подойдите к выходящей на улицу решетке, которая у нас тут, в соседней комнате.
Юноши поднялись, и когда открыли дверь, то за ней никого уже не было; так они и не узнали, кто их сюда позвал.
Раздавшиеся поблизости звуки арфы подтвердили, что музыка, в самом деле, налицо. В одних рубашках они направились в комнату, у решетки которой находилось трое или четверо постояльцев.
Устроившись у окна, они вскоре услышали, как под сопровождение арфы и вигуэлы[123] чудесный голос запел следующий сонет, отчетливо запечатлевшийся в памяти Авенданьо.
О дивное и скромное творенье, Чья красота так царственно светла, Что в ней себя природа превзошла И даже небо терпит пораженье! Твои живые речи, смех и пенье, И ласковый и строгий вид чела (И в том и в этом ты равно мила) Для наших душ — волшебное мученье. Чтоб не была у мира отнята Не знающая равной красота И чтобы доблесть увенчалась славой, Не будь слугой: тебе служить должны Те, чье чело и длань озарены Сиянием короны и державы!Без всяких посторонних пояснений наши юноши сразу сообразили, что серенада была устроена в честь Костансы, как это с полною очевидностью явствовало из сонета. Пение так подействовало на Авенданьо, что он наверное бы предпочел — чтобы только его не слышать! — родиться и остаться глухим до самого конца своих дней: ибо с той самой минуты он стал жить жизнью человека, сердце которого безжалостно поражено копьем ревности. А самое плохое заключалось в том, что он не знал, к кому ему надлежало и следовало ревновать.
Впрочем, его довольно скоро вывели из затруднения слова одного из находившихся возле решетки постояльцев:
— Какой, однако, простофиля сын здешнего коррехидора! Задавать серенады в честь какой-то судомойки! Никто не говорит, она, несомненно, одна из самых красивых девушек, каких я видал на своем веку, а перевидал я их, надо сказать, немало. И все-таки ему не следует ухаживать за ней так открыто!
Второй из слушавших серенаду постояльцев прибавил:
— Даю вам честное слово, мне передавали, как вещь вполне достоверную, что она не обращает на него никакого внимания, словно его и на свете не существует! Бьюсь об заклад, что она сейчас мирно почивает за кроватью своей хозяйки (там ей обыкновенно стелют) и ничего не подозревает обо всех этих песнях и музыке.
— Так оно, безусловно, и есть, — заметил первый, — она самая честная девушка из всех, какие только бывают; просто диву даешься, как это она, живя в таком бойком доме, куда каждый день приезжают новые люди и где ей часто приходится заглядывать в комнаты постояльцев, ни разу еще не допустила ни одной самой ничтожной вольности.
Слова эти позволили Авенданьо немного передохнуть и набрать сил для того, чтобы прослушать, в сопровождении самых разнообразных инструментов, исполнение целого ряда новых песен, обращенных все к той же Костансе, которая, по словам постояльца, сейчас мирно и безмятежно спала. На рассвете певцы удалились и на прощание сыграли на гобоях. Авенданьо и Каррьясо возвратились в свою комнату, и каждый из них соснул сколько смог до утра; потом оба встали и оба почувствовали желание увидеть Костансу, но у одного из них это было простым любопытством, а у другого — влюбленностью. Но Костанса, можно сказать, угодила им обоим, ибо вышла из хозяйской половины такой красавицей, что, по мнению обоих юнцов, похвалы погонщика мулов были не только грубыми, но и не заключали в себе никакого преувеличения. Она была одета в юбку и корсаж зеленого сукна с обшивками из той же ткани. Корсаж был низкий, а рубашка была выпущена высоко, с отложным воротом и вырезом, обметанным черным шелком. Маленькое агатовое ожерелье стягивало, казалось, отрезок колонны из алебастра: такой белизной отличалась ее шея. Пояском ей служил францисканский шнурок, к которому с правой стороны был прикреплен ремень с огромной связкой ключей. Обута она была не в туфли, а в красные башмачки с двойными подметками; чулок ее почти не было видно: только сбоку удавалось заметить, что они тоже красные. Косы ее, заплетенные лентами из некрашеного шелка, были такие длинные, что по спине спускались ниже пояса. Цвет волос был средний между русым и каштановым, и при этом они отличались таким блеском, чистотою и гладкостью, что с ними не могли сравняться даже нити чистейшего золота. Уши были украшены двумя стеклянными подвесками, напоминавшими жемчужины. Пышные волосы служили ей и накидкой и «токой».
Едва выйдя из комнаты, она стала креститься и читать молитвы, а затем) благоговейно и серьезно склонилась перед образом богоматери, висевшим на одной из внутренних стен дворика. Случайно подняв глаза, она заметила, что на нее глядят двое неизвестных, и тотчас же повернулась и ушла обратно, после чего громким голосом приказала Аргуэльо вставать.
Нам остается еще отметить, какое впечатление произвела на Каррьясо красота Костансы, ибо о том, каково было ее первое действие на Авенданьо, мы уже говорили. Надо сказать, что Каррьясо девушка понравилась ничуть не меньше, чем его другу, но она его все-таки не обворожила; как-никак, а он не захотел больше здесь ночевать и порешил немедленно ехать на тунцовые промыслы.
Тем временем на призыв Костансы явилась сначала Аргуэльо, а затем две девки из Галисии, служившие тоже в доме. Держать столько служанок приходилось из-за множества проезжающих, останавливавшихся в гостинице Севильянца, одной из самых лучших и любимых во всем Толедо. Начали выходить и слуги проживавших в гостинице господ за утренней долей овса; хозяин дома стал на выдачу и принялся бранить служанок, из-за которых ему пришлось рассчитать отличного батрака, безукоризненно мерившего и отсыпавшего овес, так что у него никогда зернышко не пропадало. Авенданьо послушал его и сказал:
— Сеньор хозяин, не затрудняйте себя, принесите сюда счетную книгу, и все то время, что я здесь проведу, я буду с такою точностью выдавать овес и сено, что вы не пожалеете о слуге, которого отпустили.
— Поистине, вы меня очень одолжили, — ответил хозяин, — у меня совсем нет времени заниматься этим делом: все время приходится хлопотать и отлучаться из дома. Ступайте сюда, я вам сейчас принесу книгу, а вы держите ухо востро, ибо погонщики мулов — это сущие дьяволы, и селемин[124] овса они своруют у вас за милую душу; для них он ничем не лучше селемина соломы.
Авенданьо прошел на двор, получил книгу, и селемины посыпались у него как из ведра, причем он записывал их в таком безупречном порядке, что хозяин, следивший за его работой, остался очень доволен и сказал так:
— Недурно было бы, если бы ваш господин совсем не приехал, а вы бы надумали остаться у меня; даю вам слово, что тут для вас словно петушок запоет! Тот парень, которого я отпустил, явился ко мне восемь месяцев тому назад рваным и тощим, а ушел отсюда с двумя парами великолепного платья и раздобрел, что твоя выдра. Не забудьте, дружок, что у нас в доме бывают значительные доходы помимо жалованья.
— Если бы я и остался, — ответил на это Авенданьо, — то совсем не из-за наживы; я охотно удовольствовался бы малым, но зато мог бы жить в вашем городе, почитаемом, по-видимому, первым во всей Испании.
— Во всяком случае, — заметил ему хозяин, — это один из самых лучших и богатых городов нашей страны. Но сейчас я думаю о другом: дело в том, что от меня ушел еще один работник, который с помощью нашего крепкого ослика наполнял до краев водою чаны, так что дом наш превращался в сплошное озеро. Одной из причин, побуждающих погонщиков мулов направлять своих господ к нам в гостиницу, является изобилие воды, которой мы всегда запасаемся; ведь им не придется водить мулов на водопой, потому что скотина отлично может напиться из наших кадок.
Каррьясо прислушивался к разговору и, сообразив, что Авенданьо устроился на место, захотел тоже что-нибудь здесь подцепить, тем более, что он мигом сообразил, какое огромное удовольствие он доставит Авенданьо, если поддержит его затею. Вот почему он сказал хозяину:
— Ведите сюда вашего осла, сеньор хозяин; я буду вам его седлать и грузить не хуже, чем мой приятель записывает в книгу овес.
— Еще бы, — поддержал Авенданьо, — мой товарищ, Лопе Астурьяно, управится с водой так, что не ударит лицом в грязь и перед принцем. Я могу за него поручиться.
Аргуэльо, следившая с галерейки за происходившей беседой, услышав, что Авенданьо предлагает поручительство за своего приятеля, вдруг вмешалась:
— А скажите мне, голубчик, кто нам за вас-то поручится? По правде сказать, мне кажется, что вам прежде всего следовало бы подумать о своем поручителе, а потом уже ручаться за других.
— Замолчи, Аргуэльо, — сказал хозяин, — и не лезь, куда тебя не просят; я готов поручиться за обоих. И смотрите, чертовки, чтобы не было у меня больше ссор и перепалок с батраками, и так они от меня все уходят!
— Итак, значит, — вставила другая служанка, — пареньки остаются в доме? Ну, так знайте, что, окажись мне они попутчиками по дороге, я бы им своей бутыли не доверила!
— Оставь эти дурацкие разговоры, галисийка, — заметил хозяин, — займись своим делом и не приставай к моим батракам, а не то я тебя палкой отделаю.
— За что же это? — справилась галисийка. — Люди подумают, что я в самом деле позарилась на такое сокровище! А если дело пошло на чистоту, то не так уж часто уличали вы меня, сеньор хозяин, в заигрывании с чужими и нашими батраками, чтобы иметь обо мне такое мнение, какого вы держитесь! Все они — мошенники и уходят с мест, когда им вздумается, а мы тут решительно ни при чем! Такие они, действительно, чтоб их нужно было еще подзуживать задать на заре стрекача от хозяина, который ничего-то и не подозревает!
— Очень уж ты распустила язык, голубушка, — ответил хозяин. — Набери в рот воды и исполняй в точности свое дело.
Тем временем Каррьясо снарядил своего осла и, вскочив на него одним махом, отправился на реку, вызвав у Авенданьо восторг своей великодушной решимостью.
Таким-то образом наш Авенданьо сделался (надеемся, это только украсит нашу повесть) работником на заезжем дворе, по прозванию Томас Педро (такое он себе выдумал имя), а Каррьясо — водовозом, отзывавшимся на кличку Лопе Астурьяно: превращения, способные перещеголять вымыслы носатого поэта[125]!
Едва только Аргуэльо проведала о том, что оба приятеля действительно остаются в доме, как в ту же минуту сделала ставку на Астурьяно, облюбовала его для себя и порешила так его ублажить, чтобы, невзирая на возможную строптивость и замкнутость своего нрава, он стал бы у нее мягким, как перчатка. Такого же рода решение приняла и привередница-галисийка относительно Авенданьо, а так как обе они спали вместе, вместе проводили время и вместе все обсуждали, то одна из них немедленно поделилась с другой своими любовными замыслами, и тут же было решено повести сегодня ночью первую атаку на равнодушных поклонников. В первую очередь они надумали просить приятелей ни к кому их не ревновать, несмотря на ту свободу, с какой они будут распоряжаться своими особами: ведь никакая служанка не сможет угодить домашнему дружку, если не сделает своими данниками приезжих. «Молчите, братцы, — говорили они, воображая, будто те действительно стоят сейчас перед ними, — молчите и глаза себе завяжите! Позвольте бить в бубен тому, кто по этой части смекает; позвольте вести танец танцору, до тонкости знающему свое дело, и тогда вряд ли во всем городе сыщутся два каноника, которых бы холили так, как будем холить вас мы, ваши смеренные данницы».
В то же время как галисийка с Аргуэльо обменивались этими и другими еще мыслями, сходными по своему складу и содержанию, почтенный Лопе Астурьяно ехал к реке вверх по Кармелитскому косогору, размышляя о тунцовых промыслах и о внезапной перемене своего положения. По этой ли причине или по особому велению судьбы он, при спуске с косогора, наскочил на водовозного осла, шедшего с грузом; Лопе спускался с горы, и осел у него был шустрый и свежий, а потому он с такой силой налетел на тощего утомленного осла, ехавшего в гору, что сшиб его с ног, перебил кувшины и пролил всю воду. Увидев такую беду, настоящий водовоз в припадке досады и гнева подскочил к новоиспеченному водовозу, сидевшему верхом, и, прежде чем тот успел прийти в себя и слезть наземь, всыпал ему такую дюжину палок, от которой Астурьяно стало сразу не по себе. Он сошел с седла в самом скверном расположении духа, бросился на своего обидчика, схватил его обеими руками за горло и с силой швырнул головой о камень, так что голова чуть было не раскололась надвое, а обильно пролившаяся кровь заставила подумать о смерти.
Целая ватага находившихся поблизости водовозов, увидев товарища в опасности, напала на Лопе и, крепко в него вцепившись, кричала:
— Полицию сюда, полицию! Один водовоз убил человека.
Беспрестанно повторяя и приговаривая эти слова, работники тузили его кулаками и палками. Некоторые из них подошли к раненому и увидели, что голова у него пробита и он еле дышит. Из уст в уста вверх по косогору понеслись крики, дошедшие наконец на Кармелитской площади до ушей альгуасила, который, прихватив с собой двух полицейских, с молниеносной быстротой прибыл на место драки и увидел, что раненый уже на осле, что осел, принадлежавший Лопе, изловлен, а сам Лопе окружен двумя десятками водовозов, не подпускавших к нему никого и пересчитывавших ему ребра с таким усердием, что за жизнь его приходилось бояться не меньше, чем за жизнь раненого: так дружно работали кулаки и дубинки мстителей за чужое бесчестие.
Альгуасил подошел, растолкал народ, поручил надзору полицейских Астурьяно и, пропустив вперед незанятого осла, а следом за ним осла с раненым, направился в тюрьму в сопровождении целого полчища любопытных и гурьбы мальчишек, запрудивших всю улицу. На крики шумевшей толпы в дверях гостиницы показались Томас Педро с хозяином, любопытствуя узнать, какая тому была причина. Увидев, что Лопе ведут двое полицейских и что лицо его и рот в крови; заметив, что хозяйский осел в руках у какого-то третьего, подоспевшего тем временем стража, — они стали спрашивать, за что были задержаны потерпевшие. Им объяснили, в чем заключалось дело. Хозяин страшно встревожился из-за осла, испугавшись, что он пропадет или что за выкуп спросят дороже действительной стоимости.
Томас Педро поспешил было к своему приятелю, но его не подпустили и не позволили сказать ему ни слова: так много было толкавшихся всюду людей и так велика была строгость альгуасила и сопровождавших его стражников. И все же он не расстался с ним до тех пор, пока не увидел, как его отвели сначала в тюрьму, а оттуда, заковав в двойные кандалы, в темное подземелье; он заглянул также в больницу к раненому, присутствовал при перевязке и понял, что рана была очень опасная, как подтвердил ему также и лекарь. Оба осла были доставлены в дом альгуасила, прихватившего заодно и пять осьмерных реалов, найденных полицейскими у Лопе.
В глубоком смущении и грусти Томас возвратился в гостиницу, где застал своего «названного» хозяина почти в такой же тревоге, какую испытывал сам. Он рассказал о положении узника, о смертельной опасности, угрожавшей раненому, и о судьбе, постигшей осла. Он прибавил еще, что к одной беде у него присоединилась другая, не менее хлопотливая: ему случилось сегодня встретиться с близким другом своего господина и узнать, что тот, поспешая изо всех сил и желая скоротать две мили пути, из Мадрида проехал к Асекскому перевозу и сегодняшней ночью заночует в Оргасе; господин велел вручить Томасу двенадцать эскудо с приказанием ехать в Севилью и там его поджидать.
— И все-таки я отсюда никуда не уеду, — сказал Томас, — было бы позором покинуть своего друга и приятеля в тюрьме, да еще под угрозой серьезной опасности. Пусть мой господин меня простит; впрочем, он у меня такой добрый и ласковый, что не поставит мне на вид одного упущения, если я поведу себя достойно в отношении товарища. Ваша милость, сеньор хозяин, сделайте мне великое одолжение: возьмите эти деньги и похлопочите по нашему делу! Если же деньги выйдут, я напишу своему господину о происшедшем и могу сказать вам заранее, что денег его хватит на ведение самой сложной тяжбы.
Хозяин раскрыл от удивления глаза и пришел в восторг при мысли, что ему удастся хотя бы частично покрыть урон, нанесенный пропажей осла. Он принял деньги и стал успокаивать Томаса увереньями, что в Толедо он располагает большими связями, имеющими сильное влияние на полицию. Есть тут одна монахиня, родственница сеньора коррехидора, который у нее ходит по струнке, а у прачки, стирающей на монастырь этой самой монахини, есть дочь, состоящая в великой дружбе с сестрой монаха, близкого знакомого духовника упомянутой выше монахини; прачка же эта работает для нашей гостиницы…
— Так вот, если прачка попросит дочь (а она, конечно, попросит) переговорить с сестрой монаха о том, чтобы уговорить брата переговорить с духовником, а духовник переговорит с монахиней, и если монахиня напишет записку (а почему бы ей и не написать?) коррехидору и настоятельно попросит его обратить внимание на дело Томаса, то тогда, вне всякого сомнения, они смогут надеяться на успех. Конечно, все это может устроиться только в том случае, если водовоз не умрет и если у них хватит «мази», чтобы «подмазать» представителей полиции; если же их не «смазать», то скрипу от них будет больше, чем от самых скрипучих колес!
Томас очень развеселился, услыхав про замысловатое покровительство, которое предложил хозяин, и про необыкновенно запутанные ходы, по которым оно должно было устремиться; и хотя он сразу сообразил, что все это было сказано неспроста и заключало в себе явные плутни, тем не менее он поблагодарил его за сочувствие и вручил ему деньги, с обещанием сделать к ним значительную прибавку, поскольку доверие его к благосклонности своего господина по-прежнему безгранично.
Аргуэльо, увидевшая, в какую беду попался ее новый дружок, немедленно отправилась в тюрьму, чтобы передать ему пищу; но ее к нему не пропустили, и она вернулась домой огорченная и обиженная, но тем не менее не отказалась от своего однажды принятого намерения.
Через две недели оказалось, что раненый находится в безопасности, а еще через неделю лекарь объявил, что он совершенно здоров. Тем временем Томас, сделав вид, будто из Севильи ему прислали пятьдесят эскудо, достал их из собственных запасов и передал хозяину вместе с письмами и запиской своего воображаемого господина; хозяин нисколько не был заинтересован в том, чтобы проверить подлинность этих бумаг, а потому принял деньги и возликовал от души, ибо все было выплачено чистым золотом.
За шесть дукатов раненый согласился отказаться от суда; Астурьяно внес десять эскудо, потерял осла и взял на себя судебные издержки. Он вышел на свободу, но не пожелал опять поселиться с товарищем, объяснив это настойчивыми любовными домогательствами Аргуэльо в те разы, когда она навещала его в тюрьме: предложение столь тягостное и докучное, что он предпочел бы скорее виселицу, чем отвечать взаимностью этой скверной бабе! Каррьясо хотел устроить жизнь таким образом: ни в чем не меняя и продолжая играть однажды начатую затею, он приобретет на собственные средства осла и будет заниматься ремеслом водовоза в течение всего того времени, что они пробудут в Толедо. Имея такое прикрытие, он не рискует быть задержанным и угодить под суд за бродяжничество: у него будет только одна забота — возить воду, целые дни без стеснения гонять по городу да глазеть на дурех.
— Я думаю, что на глаза тебе будут попадаться скорее умницы, чем дурехи: недаром Толедо на всю Испанию славится примерными женщинами, у которых ум счастливо сочетается с миловидностью. Не веришь, взгляни на Костансу: избытков ее красоты свободно хватит не только на местных, но и на всех прекрасных женщин на свете.
— Полегче, сеньор Томас, — посоветовал Лопе, — соблюдайте все же некоторую меру в своих восхвалениях судомойки, а не то мне придется признать, что вы не просто безумец, а самый подлинный еретик[126].
— Ты назвал Костансу судомойкой, дружище Лопе? — спросил Томас. — Да простит тебе господь бог и да пошлет он тебе истинное понимание своей ошибки.
— Да разве она не судомойка? — удивился Астурьяно.
— До сих пор я все еще жду, когда она начнет мыть первое блюдо.
— Если ты не видел, как она моет первое блюдо, — заметил Лопе, — но видел, как она моет второе или сотое, то разница не так уж велика.
— А я тебе говорю, — возразил Томас, — что она ничего не моет, а занимается только своим рукоделием да еще присматривает за столовым серебром, которого так много в здешней гостинице.
— Но почему же тогда весь город величает ее высокородной судомойкой, — поддразнил Лопе, — если она в самом деле ничего не моет? Очевидно, потому, что она моет не фаянс, а столовое серебро, за ней и утвердилась подобного рода кличка. Впрочем, оставим это, Томас; расскажи мне лучше, в каком положении находятся твои надежды?
— В самом отчаянном, — ответил Томас, — ибо за все то время, что ты пробыл в тюрьме, мне не удалось ей сказать ни единого слова, а на все те речи, которые ей в изобилии расточают постояльцы, она отвечает только тем, что опускает глаза и плотно сжимает губы. При такой пристойности и сдержанности ее скромность действует на сердце не меньше, чем ее красота. Но что меня выводит из себя, так это сын коррехидора, юноша весьма пылкий и дерзкий, который сходит по ней с ума и соблазняет ее серенадами, устраиваемыми почти каждую ночь; он не делает из этого никакой тайны, так как в песнях называет ее по имени, восхваляет и прославляет. Впрочем, песен этих она не слушает и после наступления сумерек до самого утра не покидает комнаты своей хозяйки, и это является для меня своего рода щитом, не позволяющим жестокой стреле ревности поразить меня в самое сердце.
— Что же ты намерен предпринять в погоне за невозможной победой над этой Порцией, Минервой, над этой неслыханной Пенелопой[127], которая в образе служанки и судомойки кружит тебе голову и повергает тебя в смущение и робость?
— Потешайся надо мной, друг Лопе, сколько душе угодно; я твердо знаю одно: меня обворожило лицо такой красоты, какой еще не создавала природа, я пленен несравненною скромностью, какой напрасно было бы искать во всем свете! Ее зовут не Порцией, не Минервой, не Пенелопой, а просто Костансой; она служит на постоялом дворе — отрицать не стану; но скажи, что мне делать, если я чувствую, как тайная сила рока увлекает, а сознательно сделанный выбор даже понуждает меня считать ее божеством? Послушай, друг, — продолжал Томас, — я просто не в силах тебе объяснить, до какой степени любовь возвышает и возвеличивает презренное звание этой, как ты выразился, судомойки! Ибо я смотрю на нее — и не вижу; знаю ее — и не знаю. Для меня просто невозможно (даже если бы я и старался) хотя бы на короткий миг остановить свой взгляд на этом; ее — как-то странно сказать! — презренном звании, ибо сию же минуту эту мысль прогоняет ее красота, ее прелесть, ее спокойствие, сдержанность и скромность, сразу уясняющие человеку, что под этой грубой оболочкой скрываются и таятся великие по своей цене и достоинству драгоценные копи! Одним словом, как бы там оно ни было, а я ее сильно люблю, но не той заурядной любовью, которой прежде любил других: отныне любовь моя столь непорочна, что не знает другого желания, кроме желания служить и добиться того, чтобы Костанса меня полюбила и воздала мне своим чистым чувством все, что полагается моей столь же чистой любви.
В этом месте Астурьяно сильно возвысил голос и произнес нечто вроде своеобразного обращения:
— О платоническая любовь! О высокородная судомойка! О, в какие блаженные времена мы живем: пред нами ласковая красота, не ведающая коварства; блеск скромности, не обжигающей никого; прелесть, которая радует, не возбуждая соблазна; презренное и низкое звание, влекущее и направляющее к тому, чтобы вознести его на самый верх колеса Фортуны! О бедные, бедные мои тунцы! Так вы в этом году и не увидите столь влюбленного и столь преданного вам человека! Зато уж в следующем году я постараюсь исправиться и повести себя так, чтобы на меня больше не жаловались заправилы моих ненаглядных тунцовых промыслов!
В ответ на это Томас сказал:
— Я вижу, Астурьяно, что ты открыто издеваешься надо мной! Если хочешь, отправляйся себе с богом на свои промыслы, а я останусь сидеть дома; ты наверняка застанешь меня здесь на обратном пути. Деньги твои, если они тебе нужны, я тебе сейчас выдам; итак, в добрый час! И пусть каждый из нас изберет себе путь, который ему укажет судьба.
— Мне всегда казалось, что ты человек неглупый, — заметил ему на это Лопе. — Неужели ты не понимаешь, что все это — шутка? Но поскольку ты начал со мною разговаривать серьезно, я тоже вполне серьезно буду помогать тебе во всем, что тебе понадобится. Об одном только прошу — сделай это из внимания к услугам, которые я тебе буду оказывать: не подвергай меня риску и охрани от любовных покушений Аргуэльо, потому что я скорее изменю нашей дружбе, чем отважусь на какое бы то ни было сближение с нею. Ибо языком она трещит, что твой стряпчий, а винищем из ее рта разит на целую милю; все передние зубы у нее не свои; волосы, наверное, тоже, а, кроме того, стараясь чем-нибудь возместить и исправить свои недостатки, она, с тех пор как поведала мне свои гнусные замыслы, стала натираться свинцовыми белилами и ходит теперь белая, как гипсовое чучело.
— Все это — истинная правда, — согласился Томас, — видно, моя влюбленная галисийка будет все же чуть-чуть получше этой отвратительной бабы. Вот что, мне кажется, следовало бы сделать: проведи сегодня в гостинице еще одну ночь, а завтра приступи к задуманной тобою покупке осла и к подысканию другого пристанища: таким образом, тебе удастся уклониться от встреч с Аргуэльо, ну, а мне придется сносить галисийку и молнии очей моей всепобеждающей Костансы.
Сговорившись на этом, друзья направились в гостиницу, где Аргуэльо встретила Астурьяно проявлениями своей безмерной любви.
В ту же ночь у дверей гостиницы были затеяны танцы, устроенные погонщиками мулов, стоявшими частью здесь, частью на соседних дворах. На гитаре играл Астурьяно; из женщин, кроме двух галисиек и Аргуэльо, танцевали еще три служанки из ближайшей гостиницы. Среди зрителей было немало «прикрытых» мужчин[128], явившихся сюда не столько из-за пляски, сколько из-за Костансы, но она, однако, не вышла, и любопытные таким образом просчитались. Лопе владел гитарой с таким искусством, что, по общему отзыву, она говорила у него человеческим голосом. Служанки, а больше всего Аргуэльо, упрашивали его спеть какой-нибудь романс. Лопе ответил, что он споет, но при условии, если они будут плясать так, как это делается в театре, а во избежание возможных ошибок они должны исполнять в точности все те указания, которые он будет давать в своей песне. Среди погонщиков мулов нашлись люди, умеющие плясать, среди служанок тоже.
Сплюнув два раза, чтобы прочистить горло, Лопе успел заодно обдумать, что он споет, а так как он отличался живым и гибким умом, то без всякой подготовки он с большим подъемом сочинил такие слова:
Пусть выходит Аргуэльо, Девой бывшая в свой час, И с глубоким реверансом Отойдет на два шага; Пусть ее возьмет за ручку Андалусец Баррабас[129], Молодой погонщик мулов Рыцарь ордена Компáс. Из обеих галисиек, Проживающих у нас, Пусть выходит та, что ражей, Сняв передничек и плащ. Пусть ее ведет Тороте, И все четверо зараз, Балансируя попарно, Начинают контрапас.Дамы и кавалеры в точности выполняли все, что говорилось в песне Астурьяно, но когда он дошел до приглашения начать контрапас, то Баррабаса (это мерзкое имя принадлежало одному из плясавших погонщиков мулов) вдруг прорвало:
— Ты, брат музыкант, следи за своей песней и не величай, кого вздумается, шантрапой, потому что здесь у нас таких не водится и каждый из нас такой, каким его создал господь!
Хозяин, сразу разобравшийся в невежестве погонщика, сказал ему:
— Слушай, погонщик, ведь контрапас — это иностранный танец и к шантрапе отношения не имеет.
— А если так, — отвечал погонщик, — то незачем нас тут вводить в заблуждение; играл бы он лучше обычные сарабанды, чаконы и фолиас, да и собирал бы себе в кружку, сколько влезет, потому что здесь найдутся люди, сумеющие завалить его деньгами по горло!
Астурьяно, не отвечая ни слова, снова приступил к пению и продолжал так:
Пусть идет любая нимфа, Каждый пусть идет сюда: Поместительней чакона, Чем широкий океан! Пусть попросят кастаньеты И наклонятся, чтоб взять На руки песку немного Или этого дерьма. Все исполнено отлично, Попрекнуть ни в чем нельзя. Черту чертовых две фиги, Пусть дадут, перекрестясь. Пусть на негодяя плюнут, Чтоб он дал нам погулять, А не то он от чаконы Не отстанет никогда. Лад меняю, Аргуэльо; Ты прекрасней, чем чума; Ты должна, раз ты мне муза, Вдохновенье мне послать. Ах, в чаконе вся сполна Прелесть жизни нам дана! В ней находим упражненье, Драгоценное здоровью И от малодушной лени Очищающее кости. Пусть бурлит веселье в сердце Музыканта и танцора; Тех, кто видит, тех, кто слышит Музыку и пляс веселый. Пусть растает вся фигура, Ртутью сделаются ноги И на радость их владельцам Отрываются подошвы. Оживление и легкость В стариках вскипают снова, В молодежи возрастают И до крайности доходят. Ведь в чаконе вся сполна Прелесть жизни нам дана! Сколько раз уже пыталась Эта знатная сеньора Вместе с бойкой «Сарабандой», С «Мавританкой» и «Прискорбьем»[130], Крадучись, проникнуть в щели Монастырского затвора, Чтобы запертое в кельях Благочестье потревожить! Сколько раз ее чернили Те же, кто ее возносит! Ибо думает невежда И испорченность находит, Что в чаконе вся сполна Прелесть жизни нам дана! Эта смуглая мулатка, За которой много больше Числится богохулений И грехов, чем за Аробой[131], И которой платят подать Вереницы судомоек, Конюхов густые толпы И лакеев легионы, Рада клясться и божиться, Что она назло персоне Самохвала «Самбопало»[132] Лакомее всех кусочков, Что в чаконе вся сполна Прелесть жизни нам дана!Пока Лопе пел, ватага погонщиков и судомоек (а было их в общем до двенадцати человек) неистово плясала, но в то самое время, когда он собирался было перейти к другим песням, гораздо более основательным, серьезным и существенным, чем все предыдущие, один из толпы «прикрытых» зрителей, смотревших на пляску, вдруг крикнул, не отнимая от лица плаща:
— Замолчи, пьяница, замолчи, пропойца! Заткнись, винный бурдюк, поэт-лоскутник! Молчи, паршивый певец!
В ту же минуту подскочили еще другие зрители и разразились такими ругательствами и угрозами, что Лопе почел за благо умолкнуть; однако погонщики мулов взглянули на дело иначе, и не окажись под рукой хозяин, уговоривший их разумными доводами, тут бы завязалась свирепая склока. Впрочем, несмотря на это обстоятельство, они, наверное, пустили бы в ход руки, если бы не появившаяся полиция, которая всех их заставила разойтись.
И тотчас же после их ухода до слуха всех, кто еще не спал в округе, донесся голос юноши, сидевшего на камне напротив гостиницы Севильянца и певшего с таким чудесным и нежным выражением, что слушавшие пришли в восхищение и невольно прослушали его до конца. Но совершенно исключительное внимание выказал к пению Томас Педро, ибо ему больше, чем кому бы то ни было, подобало не только оценить музыку, но и разобраться в самых словах. Для него одного это была не песня, а подлинное провозглашение анафемы, от которого стыла душа, ибо музыкант исполнял романс такого содержания:
Где ты, что тебя не видно,[133] Сфера граций недоступных, Красота в бессмертной форме, Обнаруженная людям? Эмпирей любви небесной, Верным служащий приютом; Первый двигатель, собою Увлекающий все судьбы; Кристаллическая чаша, Где прозрачнейшие струи Охлаждают пламя страсти, Очищают и врачуют; Новый небосвод, откуда Два светила неразлучных Незаимствованным светом Землю и эфир чаруют; Радость, где противодейство Неопределенной грусти Прародителя, потомство Схоронившего в желудке; Скромность, где сопротивленье Высотам, к себе влекущим Олимпийца, благосклонность Ей дарящего большую; Сеть, невидимая взгляду, Заключающая в путы Бранного прелюбодея, Грозного в сраженьях бурных; Твердей твердь, второе солнце. Пред которым наше тухнет, Увидав тебя случайно; Только это редкий случай. Ты посланник, говорящий Столь неслыханно разумно, Что молчаньем убеждаешь В большем, чем желала в думах. Ты равна второму небу Только красотою чудной, А от первого взяла ты Только яркость ночи лунной: Эта сфера[134] вы, Костанса, Замкнутая волей судеб В этом недостойном месте, Что блаженство ваше губит. Выкуйте свою удачу, Согласясь, чтоб присягнули Непреклонность снисхожденью И надменность дружелюбью. И увидите, сеньора, Как завидовать вам будут: Родовитая гордыня И кичливая наружность. Если скромный путь вам кстати, Я вам предлагаю чувства, Коих чище и богаче Купидон не видел в душах.Едва только певец успел произнести последние строки, как в ту же минуту в него полетели два камня, и если бы они не упали поблизости от его ног, а угодили бы ему в голову, то они очень легко могли бы вытряхнуть из его черепа и музыку и поэзию. Бедняга перепугался и пустился бежать вверх по косогору с такою прытью, что его не догнала бы и борзая.
О горемычные музыканты, собратья летучих мышей и сов[135], неизменно удостоивающиеся подобного рода преследований и позора! Всем, кто слушал пение побитого камнями исполнителя, это пение очень понравилось, но особенно оно пришлось по вкусу Томасу Педро, который отдал должное и голосу и романсу, хотя все-таки втайне желал, чтобы повод для серенады был подан кем-нибудь другим, а не Костансой, и это несмотря на то, что до сих пор ни одна музыка такого рода ни разу не привлекала еще ее внимания.
Совсем иного мнения держался погонщик мулов Баррабас, внимательно слушавший пение, ибо тотчас же после бегства музыканта он сказал:
— Туда тебе и дорога, болван, Иудин ты трубадур! Чтоб тебе блохи глаза выели! И какой дьявол настрочил тебя петь судомойке о сферах, небесах, луне, боге Марсе и о колесах Фортуны! Сказал бы ты ей лучше (пропади ты заодно со всеми теми, кому понравилась твоя музыка!), что она худа, как спаржа, горделива, как перья на шляпе, бела, как молоко, непорочна, как монастырский послушник, дика и привередлива, как наемный мул, и непоколебима, как кусок цемента, — и тогда, прослушав тебя, она поняла бы и даже порадовалась, а называть то послом, то сетью, то двигателем, то высотою, то низменностью можно разве что премудрого школяра, но никак не судомойку! Ей-богу, у нас теперь завелись поэты, в писаниях которых сам дьявол толку не сыщет! Возьмем хотя бы меня: хотя я и Баррабас, а в стихах, которые пел музыкант, я ни бельмеса не смыслю. Не знаю, что в них разберет Костансика! Впрочем, она выбрала самое лучшее: завалилась в постель, и начхать ей на всех, хоть на самого пресвитера Иоанна Индийского! Думается, что этот музыкант не из числа певцов сынка нашего коррехидора: те ходят всегда гурьбой, и тех хоть изредка, а можно все-таки понять! Этот же, черт его побери, нагнал на меня докуку!
Все слышавшие слова Баррабаса получили от них немалое удовольствие и нашли, что его критика и оценка очень даже не плохи. После этого слушатели отправились спать, и едва только все кругом успокоилось, как Лопе послышалось, что в дверь его комнаты тихонько постучали; на вопрос его «кто там?» ему шепотом ответили:
— Это Аргуэльо и галисийка; откройте нам, мы умираем от холода.
— Вы лучше припомните, — сказал Лопе, — что сейчас у нас середина лета.
— Оставь свои шутки, Лопе, — ответила галисийка, встань с постели и открой нам, как заправским эрцгерцогиням!
— Эрцгерцогини — и в такой неурочный час? Ой, что-то не верится: мне кажется, что вы скорее ведьмы или просто-напросто большие мерзавки. Убирайтесь сию же минуту прочь, а не то — вот вам крест, что если я только встану, то пряжками своего кушака так нахлещу вас по задницам, что они станут краснее мака!
Посетительницы, получив суровую отповедь, совсем не похожую на то, что они первоначально ожидали, испугались ярости Астурьяно, а потому с разбитыми надеждами, обманутые в своих расчетах, печально и пристыженно возвратились обратно на свои ложа; впрочем, прежде чем отойти от дверей, Аргуэльо, приложив свою образину к замочной скважине, проговорила:
— Медовая сласть, да не про ослиную пасть.
И потом, с таким видом, как если бы она произнесла какое-нибудь мудрое изречение или примерным образом за себя постояла, возвратилась, как было сказано, обратно на свою печальную кровать.
Лопе, услыхав, что служанки ушли, сказал Томасу Педро, который тоже не спал:
— Слушай, Томас, если тебе понадобится, я готов померяться силами с парочкой великанов, в случае нужды я берусь своротить челюсти полдюжине, а то и целой дюжине львов и сделаю это с такой же легкостью, с какою можно выпить чашу вина, но если бы ты от меня потребовал вступить в единоборство с Аргуэльо, я на это не пойду, даже если меня изрешетят стрелами! Подумаешь, какими «датских земель девицами»[136] угостила нас сегодня судьба! Ну, да ладно: дождемся зари, утро вечера мудренее!
— Я уже тебе говорил, дружище, что ты волен устроиться по собственному усмотрению; хочешь — поезжай в свои странствования, а не то обзаведись ослом и поступи, как ты было решил, в водовозы.
— Намерение мое сделаться водовозом остается в силе, — ответил Лопе. — А теперь постараемся использовать для сна те немногие ночные часы, которые у нас остаются, потому что голова у меня разбухла, как винная бочка, и я не в силах вести сейчас с тобою беседу.
Они заснули; наступил день, оба приятеля встали, и Томас пошел выдавать овес, а Лопе отправился на ближайший скотный рынок, чтобы купить себе там осла получше.
Случилось однажды, что Томас, вдохновленный своими мечтаниями и свободой, предоставляемой спокойными сьестами, сочинил любовные стихи и написал их в той книге, где он отмечал свой овес, рассчитывая их со временем перебелить начисто, а занятые стихами листы вымарать или выбросить вон. Но прежде чем он успел это сделать, как раз в такое время, когда его не было дома, а оставленная им книга лежала на ящике с овсом, она попалась в руки хозяину, которому нужно было взглянуть на записи; увидев стихи, он прочел их и пришел в большое волнение и тревогу. Он понес их к жене, но, прежде чем приступить к чтению, кликнул Костансу и после настоятельных уговоров, перемежавшихся с угрозами, велел ей признаться, не приставал ли к ней Томас Педро, работник, выдающий овес, с какими-нибудь любезностями, вольными словами или признаниями.
Костанса поклялась, что обо всех этих вещах Томас не говорил с нею никогда ни единого слова и что даже в глазах его ни разу нельзя было прочесть каких-либо негодных намерений. Хозяева ей поверили, поскольку они привыкли слышать от нее одну правду всякий раз, когда ее о чем-либо спрашивали. Выслав девушку из комнаты, хозяин сказал жене:
— Не знаю, что и подумать обо всем этом; надобно вам сказать, сеньора, что Томас написал в нашей овсовой книге стишки, подсказывающие мне предосадную мысль, что он влюбился в Костансику.
— Прослушаем стихи, — ответила жена, — а потом я вам скажу, в чем дело.
— Сомневаться не приходится, — заметил хозяин, — раз вы дока по этой части, вы сразу во всем разберетесь.
— Я, конечно, не дока, — ответила жена, — но вам отлично известно, что у меня острый ум и что я читаю по-латыни целых четыре молитвы.
— Лучше бы вы читали их по-испански; сколько раз говорил вам ваш дядя-священник, что, когда вы молитесь по-латыни, вы произносите тысячи несусветных глупостей.
— Ну, эта стрела — из колчана его племянницы, которая пропадает от зависти, видя, как я беру себе в руки латинский часослов и шпарю по нем, как по выполотому винограднику.
— Пусть будет по-вашему, — согласился хозяин, — а теперь слушайте внимательно; стишки эти следующие:
Кто в любви всегда счастливый? Молчаливый. Кто ее осилит гордость? В ком есть твердость. Кто ее венца достоин? Кто спокоен. Значит, я могу, как воин, Уповать на лавр героя, Если буду в шуме боя Тверд, безмолвен и спокоен. Что питает в нас влюбленность? Благосклонность. Что источник охлажденья? Оскорбленье. Страсть в презренье возрастает? Увядает. Это ясно означает, Что моя любовь вечна, Ибо дева холодна И меня не оскорбляет. Что от мук избавит нас? Смертный час. Разве в смерти — мир невинный? В половинной. Значит, надо умирать? Нет, страдать. Потому что отрицать Было бы неправдой черной, Что за бурей непокорной Наступает тишь и гладь. Объяснюсь ли в страсти жгучей? Жди свой случай. Ждать за годом долгий год? Он придет. Той порой придет могила. Пусть твоей надежды сила Так высоко возрастет, Чтоб Костанса, в свой черед, Плач твой в радость превратила.— Это все? — спросила хозяйка.
— Да, — ответил ей муж. — Но что вы думаете об этих стихах?
— Прежде всего, — заметила хозяйка, — необходимо точно установить, что они написаны Томасом.
— Какие же могут быть сомнения? — возразил муж. — Рука, делавшая записи овса, и почерк стихов — одинаковы: отрицать не приходится.
— Послушай, муженек, — продолжала хозяйка, — несмотря на то, что в стихах упоминается имя Костансики, из чего можно было бы заключить, что они написаны для нее, мне кажется, мы не можем все-таки настаивать на этом с такой уверенностью, словно мы сами видели, как их писали; тем более, что на свете, помимо нашей, существуют и другие Костансы; но пусть даже стихи сочинены для нее, во всяком случае автор не пишет в них ничего для нее оскорбительного и не требует от нее ничего недозволенного. Будем же смотреть в оба и предупредим девушку: дело в том, что если он влюбился, то, наверное, сочинит еще другие стишки и захочет их ей передать.
— А не лучше ли будет, — ответил ей муж, — избавить себя от этих хлопот и прогнать его со двора?
— Это уж как вам угодно, — сказала хозяйка, — но, по правде сказать, да и сами вы на это указывали, работник служит примерно, и грешно было бы рассчитать его из-за подобного пустяка.
— Ну, ладно, — заключил хозяин, — будем же смотреть в оба, как ты советуешь, и время само покажет, как нам следует поступить.
На этом их беседа окончилась; хозяин положил книгу на то самое место, где он ее нашел. Томас, вернувшись домой, бросился искать книгу и, отыскав ее, во избежание дальнейших волнений, перебелил стихи, вырвал страницы и порешил при первом же удобном случае сделать попытку объяснить свои чувства Костансе. Но так как она всегда стояла на страже благоприличия и пристойности и никому не позволяла на нее засматриваться, а тем более пускаться с ней в разговоры, и так как в гостинице всегда бывало много народа и множество посторонних глаз, то завязать с нею беседу оказалось чрезвычайно трудно, отчего несчастный влюбленный пришел было в отчаяние. Но, после того как в этот же самый день Костанса вышла с подвязанной щекой и в ответ на расспросы объявила, что она надела повязку по причине сильной зубной боли, Томас проявил вдруг под влиянием страсти смышленость и мигом сообразил, что ему следовало теперь предпринять. Он сказал:
— Сеньора Костанса, я могу вам дать писаную молитву: стоит вам два раза ее прочесть — и вашу боль как рукой снимет.
— Хорошо, — ответила Костанса, — я охотно ее прочту, тем более, что я обучена грамоте.
— Но я поставлю следующее условие, — сказал Томас, — вы не должны ее никому показывать, ибо я ее очень ценю и не хочу, чтобы все ее знали, иначе она потеряет свою силу.
— Даю вам слово, Томас, — проговорила Костанса, — что я не покажу ее никому: только дайте мне ее поскорей, потому что боль не дает мне покоя.
— Я напишу ее по памяти, — ответил Томас, — и сию же минуту принесу.
Таковы были первые слова, которыми обменялись Томас с Костансой и Костанса с Томасом за все то время, что юноша находился в гостинице, а с тех пор прошло уже двадцать четыре дня.
Томас отправился к себе, написал молитву и изловчился так передать ее Костансе, что никто этого не увидел. С большой радостью и с великим благоговением сна уединилась в одной из комнат и, развернув лист, нашла там следующие слова:
«Сеньора души моей! Я — кавальеро из города Бургоса: по смерти отца я унаследую майорат, приносящий шесть тысяч дукатов. Привлеченный слухами о вашей красоте, разнесшимися на множество миль вокруг, я покинул свою родину, переменил платье и в том обличье, в котором вы меня знаете, нанялся к нашему хозяину. Если вы согласны стать моей повелительницей, то в той форме, которую вы сами найдете для себя подходящей, известите меня, какие вам хочется иметь доказательства для проверки истинности моих слов; если же они подтвердятся и если будет на то ваша добрая воля, я стану вашим мужем и сочту себя счастливейшим из людей.
Но сейчас я прошу вас не предавать широкой огласке моих чистых любовных помыслов, ибо если ваш хозяин о них узнает и не придаст им веры, он осудит меня на изгнание и лишит вашего лицезрения, что обозначало бы для меня подлинный смертный приговор. Разрешите же мне, сеньора, видеть вас все то время, что вы будете собирать обо мне сведения, и поймите, что жестоко было бы лишить вашего лицезрения человека, вся вина которого заключается только в преклонении перед вами. Вы можете ответить мне взглядом, укрывшись тем самым от бесчисленных глаз, которые всегда вами любуются; взгляды же ваши таковы, что гневом своим могут убить, а ласкою своею снова возвратить к жизни».
В течение того времени, которое, по соображениям Томаса, Костанса должна была посвятить чтению письма, сердце его трепетало опасениями и надеждой, и он то страшился смертного приговора, то надеялся на обретение жизни.
Но вот показалась и Костанса, блиставшая, несмотря на закрывавшую ее лицо повязку, такой редкой красотой, что если бы чары ее могли вообще увеличиться от каких-либо внешних причин, то, пожалуй, каждый бы решил, будто от волнения, порожденного в девушке чтением столь неожиданного для нее послания Томаса, красота ее действительно возросла. Она вышла, держа в руках разорванное на мелкие куски письмо, и обратилась к Томасу, едва стоявшему на ногах, с такими словами:
— Любезный Томас, твоя молитва больше смахивает на колдовство или обман, чем на подлинно святое слово, вот почему я ей не верю и ею не воспользуюсь; а изорвала я ее для того, чтобы ее не прочел кто-нибудь. более меня легковерный. Научись лучше другим молитвам, попроще, эта же молитва навряд ли принесет тебе пользу.
С этими словами она прошла обратно к хозяйке, а Томас остался весьма озадаченным; впрочем, он отчасти успокоил себя тою мыслью, что тайна его любви известна одной Костансе, а поскольку (рассуждал он про себя) она ничего не сказала хозяину, ему лично, во всяком случае, не грозит быть прогнанным со двора. Он пришел еще к тому выводу, что первый же шаг, предпринятый им для достижения своей цели, помог преодолеть целые горы препятствий и что во всяком сложном и неверном деле самая главная трудность всегда заключена в начале.
Пока все это происходило в гостинице, Астурьяно ходил по рынку и торговал осла; было их там немало, но ни один из них ему не нравился, несмотря на все усилия какого-то цыгана, старавшегося всучить ему осла, скакавшего, должно быть, вследствие ртути, влитой ему в уши[137], а совсем не от прирожденной прыти; к тому же если этот осел и мог понравиться своим ходом, зато не удовлетворял по другим статьям, так как он был очень мелок и совсем не такого склада и не тех размеров, какие нужны были Лопе, искавшему осла, на которого можно было бы сесть верхом, независимо от того, будут ли нагруженные на него кувшины пусты или наполнены водой.
В это время к нему вплотную подошел один парень и сказал ему на ухо:
— Кавальеро, если вы ищете животное, годное для водовозного дела, то у меня на соседнем лугу пасется осел, самый видный и самый рослый во всем городе; я вам не советую покупать животных у цыган, потому что у них ослы только по виду здоровые и хорошие, а на самом деле — одна подделка и надувательство; если вы хотите заполучить подходящего осла, идемте со мной и никому ни слова!
Астурьяно поверил парню и попросил свести его туда, где находился этот хваленый осел. Отправились они, как говорится, рука об руку и дошли до Королевского огорода, где в тени водокачки оказалось много водовозов, ослы которых паслись тут же на лугу. Вывел продавец своего осла, да такого, что Астурьяно он подошел в самый раз, а все присутствовавшие объявили осла сильным, выносливым и быстрым. Сговорились, и без всяких порук и справок, без всяких других посредников, кроме водовозов, Лопе выплатил шестнадцать дукатов за осла и за все полагающиеся к нему принадлежности. Всю сумму он отсчитал наличными в золотых эскудо. Водовозы, поздравив его с покупкой и со вступлением в дело, заверили Лопе, что он купил осла, приносящего большие доходы, потому что прежний его владелец, не изувечив и не заморив животное, заработал на нем меньше чем в год — хорошо прокармливая себя и свою скотину — две пары платья да еще шестнадцать дукатов, на которые он порешил возвратиться на родину, где для него уже наладили брак с одной его дальней родственницей. Кроме лиц, посредничавших при покупке осла, там присутствовали еще четыре водовоза, которые играли в «примэру», лежа на земле, заменявшей им таким образом стол (скатертью им служили собственные плащи). Астурьяно стал присматриваться и увидел, что играют они не как водовозы, а как какие-нибудь архиепископы, потому что у каждого оставалось в запасе по сто реалов с лишком, частью в куарто, частью в серебре. Дошел черед до того, чтобы ставить на карту все остатки, и если бы один из игроков не находился в доле с другим, то он мог бы забрать себе все деньги. В заключение, после этой партии, двое участников оказались без денег и встали. Заметив это, парень, продавший осла, сказал, что он не прочь поиграть, если только найдется четвертый, а втроем он никогда не играет. Астурьяно, который был человек покладистый и не любил «портить суп», как выражаются итальянцы, сказал, что он готов быть четвертым. Уселись — и дело пошло было полным ходом, но вследствие того, что Лопе больше хотелось выиграть время, чем деньги, он проиграл бывшие у него шесть эскудо, а когда увидел, что остался без денег, заявил, что если они пожелают играть на осла, то он охотно его поставит. Предложение было принято, и Лопе поставил на карту четвертую часть осла, объяснив, что намерен разыграть его по четвертям. Ему так не везло, что после четырех последовательных партий он проиграл все четыре четверти своего осла, а выиграл его тот самый парень, который его продавал. Он хотел было встать, чтобы увести его обратно, как вдруг Астурьяно попросил его принять во внимание, что на карту он ставил всего только четыре четверти осла, а что хвост, мол, ему следует вернуть, после чего пусть себе забирает на здоровье все остальное. Притязание на хвост возбудило всеобщий смех. Сейчас же нашлись законоведы, определившие, что такого рода просьба неосновательна, и указавшие, что в тех случаях, когда продается баран или какое-нибудь другое животное, хвост не отрубается, а естественным образом отходит к одной из задних четвертей. На это Лопе возразил, что в берберийских баранах обыкновенно считают пять четвертей, причем пятую четверть составляет хвост, и когда баранов этих режут, то хвост продают за такую же цену, как и остальные четверти: ясное дело, когда скотина продается живьем и не четвертуется, хвост отдается вместе с животным, однако его собственный осел не продавался, а разыгрывался, и сам он никогда в мыслях не имел отдавать даром хвост, а поэтому ему немедленно же должны вернуть хвост и все, что к нему относится и прикасается, то есть сплошную полосу позвонков и далее через все кости хребта, откуда хвост ведет свое начало и продолжение, вплоть до самых последних его волосков.
— Вы лучше представьте себе, — сказал один водовоз, — что все сделано так, как вы говорите, что хвост, о котором вы просите, вам уже отдан, а сами вы сидите рядышком с потрохами, что от осла остались.
— Ах, если так, — воскликнул Лопе, — подавайте мне хвост, а не то, клянусь богом, не отберут у меня осла все водовозы, сколько бы их ни собралось со всего света; вы не воображайте, что если вас здесь много, так вы меня проведете; я такой, что сумею подойти к любому человеку и запустить ему в брюхо кинжал вершков на шесть, так что тот и не догадается, кто это ему, когда и откуда; а кроме того, я не соглашусь, чтобы мне дали облыжный хвост, переведенный на деньги, а хочу получить хвост натурой, отрезанный от осла, и как раз такой, как я уже говорил.
Парню, выигравшему осла, и всем остальным показалось неразумным решать этот спор силой, тем более, что они сразу почуяли в Астурьяно человека задорного нрава, который не допустит издевательства; а тот, искушенный в нравах и обычаях тунцовых промыслов, где употребляются разные жульнические ухватки и подходы, чудовищные клятвы и вызовы, сорвал с себя шляпу, выхватил спрятанный под плащом кинжал и принял такую позу, что вся эта водовозная компания сразу почувствовала к нему страх и уважение. Дело кончилось тем, что один из них, казавшийся поумнее и порассудительнее, убедил других поставить на карту хвост против четверти осла. Все остались довольны; Лопе выиграл, водовоз обозлился, поставил вторую четверть и, наконец, сыграв еще три партии, остался без осла. Тогда он пожелал играть на деньги, но этому воспротивился Лопе; однако все к нему очень пристали, и нужно было уступить, после чего он так лихо обставил противника, что у того не оказалось ни единого мараведиса. Огорчение проигравшего было так велико, что он бросился на землю и стал биться об нее головой. Лопе, будучи человеком благородным, щедрым и сострадательным, поднял валявшегося на земле игрока, возвратил ему все выигранные деньга и шестнадцать дукатов, уплаченных за осла, а потом разделил остальные имевшиеся у него дукаты между присутствующими, изумив всех своей необычайной щедростью, так что, если бы это случилось во времена Тамерлана, водовозы тут же провозгласили бы Лопе своим королем.
Окруженный большой толпой, вернулся Лопе в город, где рассказал Томасу о случившемся, а Томас с своей стороны сообщил ему о своей собственной удаче. Не было такой харчевни, таверны или сборища «пикаро», где бы не стало известно о ставке на осла, о том, как разыгрывался хвост, о благородстве и щедрости Астурьяно; но так как толпа — очень вредное животное и по большей части бывает и злостной, и злой, и злоязычной, то запомнила она не щедрость, не благородство, не добрые качества доблестного Лопе, а один только хвост. И вот через каких-нибудь два дня после того, как Лопе стал возить по городу воду, многие начали указывать на него пальцами и говорить: «Это — тот водовоз, который хвост выдумал». Это донеслось до мальчишек, они разузнали, в чем дело, и стоило Лопе показаться где-нибудь в конце улицы, как со всех сторон, то там, то здесь начинали кричать:
— Астурьяно, отдай хвост! Отдай-ка хвост, Астурьяно!
Лопе, оказавшись жертвой этих бесчисленных языков и несчетных голосов, решил было отмалчиваться, думая, что таким образом он обуздает наглецов; но ничуть не бывало: чем больше он молчал, тем голосистее становились мальчишки; тогда он попробовал сменить терпение на гнев и, соскочив с осла, погнался за ними с палкой, что было равносильно тому, как если бы он вздумал толочь или поджигать порох или отрубать головы у гидры, так как на месте одной головы, которую он рубил (а вернее, на месте каждого отколоченного палкой мальчишки), в тот же миг вырастало не то что семь, а целых семьсот, и все они с еще большим нахальством и упорством требовали у него хвост. В конце концов он почел за благо укрыться на постоялом дворе, выбранном им поодаль от того, в котором жил его друг, благодаря чему он мог уклониться от встреч с Аргуэльо и выжидать там до тех пор, пока не кончится эта несчастная полоса и пока из памяти мальчишек не изгладится хвост, который они все время требовали.
Прошло шесть дней, в течение которых Лопе не показывался из дома иначе, как ночью, когда он ходил навещать Томаса и справляться, в каком положении его дела.
Томас рассказал, что после того, как он передал бумагу Костансе, ему ни разу не удалось сказать ей ни слова, причем ему думается, будто теперь она стала еще сдержаннее, чем прежде; дело в том, что однажды у него была возможность заговорить с ней, но, заметив его намерение, она предупредила его и сказала:
— Томас, сейчас у меня ничего не болит, так что я не нуждаюсь ни в словах твоих, ни в молитвах; радуйся, что я не донесла на тебя инквизиции, и не утруждай себя зря.
Но произнесла она эти слова без всяких признаков гнева или недовольства, что могло бы означать некоторую враждебность.
Лопе рассказал другу о назойливости мальчишек, пристававших к нему с хвостом, и все потому, что он потребовал хвост от осла и тем самым обеспечил себе свой знаменитый выигрыш. Томас посоветовал ему не выходить из дома и, во всяком случае, не показываться верхом на осле; а в случае крайней нужды всегда держаться пустынных и отдаленных улиц; если же и это не поможет, тогда придется ему бросить свой промысел, то есть пустить в ход последнее средство для прекращения этих бесстыдных приставаний.
Лопе осведомился еще у приятеля, не беспокоила ли его снова галисийка. Томас сообщил, что нет, но что она все время старается купить его чувство яствами и подарками, которые она крадет на кухне у хозяев. На этом Лопе возвратился в свою гостиницу, порешив, что не будет выходить из нее еще шесть дней и уж, во всяком случае, не будет ездить по улицам на осле.
Было около одиннадцати часов ночи, когда совершенно неожиданно на постоялом дворе появилось несколько представителей власти с коррехидором во главе. Хозяин переполошился, равно как переполошились и постояльцы, ибо, подобно тому как появление кометы вызывает опасения несчастий и злоключений, точно так же внезапный и ничем не объяснимый приход полиции смущает и устрашает даже невинные души. Коррехидор вошел в комнату и кликнул хозяина, гостиницы, который в страхе явился узнать, чего от него хочет коррехидор. Как только коррехидор его увидел, он с большой важностью спросил:
— Вы хозяин?
— Да, сеньор, я, — отвечал тот, — и готов служить вам во всем, что будет угодно вашей милости.
Коррехидор распорядился, чтобы из комнаты удалили всех присутствующих и оставили его наедине с хозяином. Все послушались, и когда они оказались вдвоем, коррехидор оказал хозяину:
— Хозяин, какую прислугу держите вы у себя в гостинице?
— Сеньор, — ответил тот, — есть у меня две служанки-галисийки, ключница и один батрак; он выдает овес и солому.
— А больше никого нет? — спросил коррехидор.
— Нет, — ответил хозяин.
— В таком случае объясните мне, — сказал коррехидор, — где находится девушка, которая, как мне сообщили, служит у вас в доме и отличается такой красотой, что по всему городу ее величают высокородной судомойкой ; причем до меня дошли слухи, будто мой сын Перикито в нее влюблен, так что не проходит ни одной ночи без того, чтобы он не задавал в честь ее музыки.
— Сеньор, — ответил хозяин, — высокородная судомойка, о которой все у нас говорят, действительно живет в моем доме, только она не из моих домашних, хотя никогда мне чужой не была.
— Не поймешь, что вы такое говорите, хозяин; каким образом судомойка эта — и домашняя ваша и не домашняя?
— Я правильно выразился, — заметил хозяин, — а если ваша милость позволит, я вам скажу, что это значит, хотя до сих пор я никогда еще никому об этом не рассказывал.
— Прежде чем слушать рассказы, я хочу повидать судомойку; позовите ее сюда, — приказал коррехидор. Хозяин высунулся из двери комнаты и крикнул:
— Жена, сеньора! Распорядитесь, чтобы сюда пришла Костансика.
Хозяйка, услыхав, что коррехидор требует к себе Костансу, встревожилась, заломила руки и застонала:
— О, я несчастная! Коррехидор вызывает Костансу для разговора наедине! Ох, видно, стряслось какое-то большое несчастье; красота этой девушки очаровывает всех мужчин.
Костанса, слышавшая ее слова, ответила:
— Не горюйте, сеньора; я сейчас схожу и узнаю, что угодно сеньору коррехидору, а если с нами и приключится какое-нибудь несчастье, то будьте уверены, сударыня, что оно произойдет не по моей вине.
И затем, не дожидаясь вторичного зова, она взяла свечу, горевшую в серебряном подсвечнике, и скорее с застенчивым, чем с испуганным, видом вошла туда, где находился коррехидор.
Едва увидев ее, коррехидор велел хозяину запереть двери комнаты; затем он поднялся с места, взял подсвечник, бывший у Костансы, и, приблизив его к самому ее лицу, стал рассматривать девушку с головы до ног; так как Костанса волновалась, на щеках ее вспыхнул румянец, и она стояла перед ним такой красавицей и такой скромницей, то коррехидору показалось, будто он созерцает красоту какого-то земного ангела. Внимательно разглядев ее, он сказал:
— Хозяин, для подобной жемчужины постоялый двор — оправа чересчур недостойная. Отныне я готов признать, что сын мой Перикито не глуп, ибо он прекрасно сумел выбрать! Я нахожу, девушка, что вас можно и должно назвать не просто высокородной, а высокороднейшей, только титул этот следовало бы прилагать не к слову «судомойка», а к титулу герцогини.
— Да она и не судомойка, сеньор, — сказал хозяин, — она всего только и делает у нас в доме, что хранит ключи от серебра, а оно у меня, славу богу, водится для услужения почетным гостям, которые у меня останавливаются.
— И все-таки, хозяин, — ответил коррехидор, — я нахожу, что не подобает и не приличествует этой девушке жить в гостинице. Что, она вам родственница или нет?
— Нет, она мне не родственница и не служанка; а если вашей милости угодно узнать, кто она такая, то, попросив ее удалиться, я расскажу вам вещи, которые вам не только понравятся, но и вызовут у вас удивление.
— Охотно, — сказал коррехидор, — пусть Костансика выйдет; и пусть она знает, что может надеяться на меня как на родного отца, ибо ее необычайная скромность и красота обязывают всех, кто ее увидит, быть во всем к ее услугам.
Ни слова не промолвила на это Костанса, а только очень чинно и низко поклонилась коррехидору и покинула комнату; потом она прошла к своей хозяйке, с трепетом дожидавшейся объяснений, почему коррехидор пожелал вызвать девушку. Костанса сообщила ей о том, что с ней случилось, и еще о том, что хозяин остался с коррехидором и рассказывает ему какую-то историю, которую, по словам хозяина, ей нельзя было слушать. Хозяйка не успокаивалась и продолжала причитать и молиться до тех пор, пока не удалился коррехидор и пока она не увидела своего мужа опять на свободе, а он в течение времени, проведенного вместе с коррехидором, изложил ему следующее:
— Сегодня, сеньор, по моему счету, исполнилось пятнадцать лет, три месяца и четыре дня с тех пор, как прибыла в эту гостиницу некая сеньора, одетая богомолкой; ее несли на ручном возке и при ней состояли четверо конных слуг, а кроме того, две дуэньи и служанка, ехавшие в карете. За ней двигались еще два осла, покрытых богатыми попонами, перевозивших роскошную постель и кухонную утварь; одним словом, весь поезд был великолепен, а сама путница имела вид знатной сеньоры; и хотя ей можно было бы дать лет сорок или немногим меньше, это все же не мешало ей быть в высшей степени красивой. Она чувствовала себя плохо и была так бледна и так измучена, что сию же минуту распорядилась приготовить постель, которую в этой самой комнате постелили ей ее слуги. Меня спросили, кто у нас в городе самый известный врач. Я ответил, что доктор Лафуэнте. За ним тотчас же послали, и он немедленно явился; она поведала ему наедине свою болезнь, и следствием их беседы было то, что врач приказал перенести ее постель в другое место, где не было бы беспокойства и шума.
Ее немедленно перенесли в другую комнату, расположенную наверху в стороне, и устроили со всеми удобствами, каких требовал доктор. Никто из наших слуг не входил к сеньоре; ей прислуживали только две дуэньи и служанка. Мы с женой спросили у челяди, кто такая эта сеньора, как ее зовут, откуда она приехала и куда направляется, замужем ли она, вдова или девица и по какой причине одета она в костюм богомолки. На все эти вопросы, задававшиеся нами много раз, слуги могли ответить только то, что богомолка эта — знатная и богатая сеньора из Старой Кастилии, что она вдова и не имеет детей-наследников, что, проболев несколько месяцев водянкой, она дала обет отправиться на богомолье к Гуадалупской богоматери, вследствие чего она и надела такую одежду. Что касается до имени, то им было приказано называть ее «сеньора-богомолка». Вот что они нам тогда сказали; но через три дня по прибытии больной сеньоры-богомолки в нашу гостиницу одна из дуэний позвала к ней меня и мою жену; мы пошли узнать, что ей угодно, и тогда при закрытых дверях, в присутствии своих служанок, со слезами на глазах она сказала нам, помнится, такие слова:
«Сеньоры мои, свидетель небо, что не по своей вине я нахожусь в прискорбных обстоятельствах, о которых сейчас скажу. Я беременна, и роды мои так близки, что меля уже начинают мучить боли. Ни один из слуг, сопровождающих меня, не знает о моем несчастье и горе, а что до женщин моих, то от них я не могу да и не хочу ничего скрывать. Чтоб оберечь себя от неприязненных взглядов у себя на родине и для того, чтобы этот час не застал меня дома, я дала обет съездить к Гуадалупской божьей матери, и ей было угодно, чтобы у вас в доме меня застигли роды; нынче вам следует прийти мне на помощь, сохраняя тайну, которая необходима женщине, предавшей свою честь в ваши руки. Вознаграждение за ту милость, которую вы мне окажете (иначе я назвать этого не могу), хотя и не сможет окупить великого благодеяния, которого я от вас ожидаю, явится, во всяком случае, голосом безгранично признательного сердца; и для начала мне хочется, чтобы чувства мои могли выразить эти двести золотых эскудо, находящиеся тут, в кошельке».
И вынув из-под подушки кошелек, шитый зеленым золотом, она положила его в руки моей жены, которая как женщина несообразительная и к тому же забывшаяся (она не могла оторвать ни взора, ни слуха от сеньоры-богомолки), взяла его, не сказав ей ни слова благодарности или ласки. Я, помнится, заметил, что нам, мол, этого не надо, потому что мы люди, которые не из корысти, а из сочувствия готовы делать добро, когда представляется для этого подходящий случай. Но сеньора снова заговорила:
«Необходимо будет, друзья мои, подыскать место, куда немедленно же придется отнести новорожденного, и придумать какие-нибудь небылицы для тех, у кого вы его поместите; вначале его можно будет устроить в городе, а потом я хочу, чтобы вы отвезли его куда-нибудь в деревню. О мерах, которые надлежит принять впоследствии, вы — если господу будет угодно просветить мой разум и помочь мне исполнить обет — узнаете по моем возвращении из Гуадалупе; время даст мне возможность подумать и выбрать то, что лучше всего подойдет. Повитухи мне не надо; другие, более почетные для меня роды, которые у меня были, позволяют мне быть уверенной, что с помощью одних моих служанок я справлюсь со всеми трудностями и тем самым избавлюсь от лишнего свидетеля моего горя».
Здесь закончила свою речь опечаленная путница и начала было сильно плакать, но ее несколько утешили ласковые слова, которые моя жена, уже пришедшая в себя, ей высказала. В заключение я немедленно же отправился выяснить, куда можно будет снести новорожденного, в какое бы время дня он ни появился на свет, а между двенадцатью и первым часом той же ночи, в ту пору, когда все люди в гостинице спали, добрая сеньора родила девочку, наикрасивейшую из всех, каких мои глаза когда-либо видели, ту самую, на которую вы только что смотрели. И мать не стонала при родах, и дочь родилась, не заплакав; обе были очень спокойны и соблюдали тишину, как нельзя лучше подходившую к тайне этого странного события. Еще шесть дней пролежала родильница в постели, и каждый день ее навещал врач, но истинной причины своей болезни она ему не открыла и лекарств, которые он прописывал, не принимала, — посещениями врача она хотела просто обмануть своих слуг. Все это она мне рассказала сама после того, как увидела себя вне опасности, а через неделю оправилась, и стан ее приобрел совсем такой же вид, какой был у нее, когда она слегла. Вскоре она съездила на богомолье и через три недели вернулась обратно почти что здоровой: вернее сказать, за это время она постепенно сняла с себя почти всю ту накладку, которая после родов позволяла ей изображать из себя больную водянкой. Ко времени ее возвращения я уже распорядился, чтобы девочка под видом моей племянницы была устроена на воспитание в деревню, расположенную в двух милях отсюда. При крещении ее, согласно желанию матери, назвали Костансой. Сеньора была очень довольна всем, что я для нее сделал, и при прощании вручила мне золотую цепь, лежащую у меня в сохранности и поныне, причем она вынула из нее шесть звеньев, объяснив, что они будут находиться у того лица, которое со временем явится за ребенком. Затем она разрезала лист белого пергамента особыми выемками и язычками, расположенными в том же порядке, в каком мы скрещиваем пальцы, когда желаем на них что-нибудь написать; пока пальцы скрещены — надпись читается, если же руки разнять — слово исчезает, потому что расходятся в стороны самые буквы; стоит, однако, пальцы соединить — и буквы снова собираются и составляют слова, которые можно читать подряд. Иначе говоря, один кусок пергамента служит как бы душой для другого, ибо когда они соединены — написанное читается, а когда одной части не хватает — тогда можно только строить догадки, основываясь на одной половине бумаги.
Итак, у меня на руках осталась почти цельная цепь и все остальное; я храню эти вещи по сей день в ожидании обещанных мне примет, так как сеньора уверила меня, что она через два года пришлет за дочкой, которую велела мне воспитывать, не считаясь с высоким происхождением, как простую крестьянскую девочку. Она велела мне также — в случае, если ей по какой-нибудь причине будет невозможно в скором времени прислать за дочкой — ни под каким видом не открывать ей тайны ее рождения даже в более или менее сознательные годы; госпожа эта просила не пенять на нее за умолчание своего имени и рода, которые она намеревалась нам открыть в более подходящее время. Вручив мне под конец дополнительно четыреста эскудо золотом, она, со слезами на глазах, поцеловалась с моей женой и тронулась в путь, очаровав нас своим умом, достоинством, скромностью и красотой.
Два года Костанса воспитывалась в деревне, после чего я взял ее к себе в дом и всегда, исполняя желание ее матери, водил девочку в крестьянском платье. Вот уже пятнадцать лет, один месяц и четыре дня как я тщетно дожидаюсь прихода лица, которое должно за ней явиться, и такое долгое промедление отняло у меня всякую надежду на его прибытие. Если в этом году никто за ней не придет, я решил удочерить ее и отписать ей все свое имущество, которое, милостью неба, составит около шести тысяч дукатов.
Сеньор коррехидор! Мне остается еще описать (если только я сумею с этим справиться) добродетели и достоинства нашей Костансы. Прежде всего, и это самое главное, она великая почитательница богоматери; каждый месяц она причащается и бывает у исповеди; она умеет читать и писать; во всем Толедо с ней не сравняется самая искусная кружевница; поет она за шитьем словно ангел; по части скромности за ней не угнаться никому, а что до красоты, то вы, сеньор, успели ее оценить сами. Дон Педро, сынок вашей милости, ни единого раза с нею не разговаривал; правда, он время от времени устраивал в ее честь серенады, но она и слушать их не желала. Многие знатные сеньоры останавливаются в моем доме исключительно для того, чтобы вдоволь полюбоваться на Костансу, задерживаясь иногда в пути на несколько дней, а между тем я отлично знаю, ни один из них не мог бы похвастаться, что она позволила ему при свидетелях или наедине сказать ей хотя бы единое слово. Сеньор, вот вам истинная история высокородной судомойки, не знающей, что значит мыть посуду; история, в которой я не погрешил против правды ни на единую йоту.
Хозяин замолчал, а коррехидор долгое время не мог сказать ни слова: так поразило его рассказанное хозяином происшествие. Он попросил наконец принести сюда цепь и пергамент для того, чтобы на них взглянуть. Когда хозяин подал ему вещи, коррехидор убедился, что все обстояло так, как говорил Севильянец; цепь была сделана из звеньев самой тонкой работы, а на пергаменте стояли, одна под другой, с промежутками, оставленными для заполнения второй половиной бумаги, следующие буквы:
В
Т
С
И
Н
Я
Р
М
Т
При взгляде на буквы стало ясно, что для получения смысла необходимо было соединить их с буквами другого куска пергамента. Самый способ узнавания коррехидор признал весьма остроумным и, кроме того, пришел к выводу, что сеньора-богомолка, оставившая хозяину такого рода цепь, была, несомненно, очень богата. Решив про себя взять из гостиницы эту прекрасную девушку, как только он присмотрит для нее подходящий монастырь, коррехидор на первых порах захватил с собой только пергамент и уговорился, что если за Костансой кто-нибудь явится, то хозяин немедленно известит его и даст сведения о личности посланца еще до того, как покажет приезжему хранящуюся в доме цепь.
После этого коррехидор удалился, будучи одинаково поражен и рассказом о высокородной судомойке и ее несравненной красотой.
Пока хозяин беседовал с коррехидором и вызывал к себе для объяснений Костансу, Томас Педро был сам не свой. Тысячи соображений владели его душой, и ни на одном из них он не мог успокоиться; заметив, однако, что коррехидор удалился, а Костанса осталась в доме, он снова воспрянул духом, и покинувшие его жизненные силы снова к нему вернулись. Он не рискнул, однако, справиться, для чего приходил коррехидор, а хозяин не открыл этого никому, кроме своей жены, которая по выяснении этого обстоятельства тоже воспрянула духом и возблагодарила господа за благополучное избавление от обуревавших ее страхов.
На следующий день, около часу, к гостинице в сопровождении четырех всадников прибыло два престарелых кавальеро, весьма почтенных по внешности, причем один из дворовых, следовавших за ними пешком, в первую очередь навел справки, действительно ли это гостиница Севильянца; получив утвердительный ответ, все приезжие въехали во двор. Конные люди спешились и помогли сойти на землю обоим старикам, из чего можно было заключить, что эти последние были их господами.
Костанса со свойственным ей изяществом вышла встретить новых гостей, и едва только один из стариков ее заметил, как тотчас же сказал своему спутнику:
— Я полагаю, сеньор дон Хуан, что мы с вами нашли то, чего искали.
Томас подбежал было к лошадям с предложением услуг, но сразу же узнал двух дворовых людей, а также своего отца и старика Каррьясо, иначе говоря, тех престарелых путников, к которым остальные приезжие относились со столь глубоким почтением. Он, конечно, удивился их приходу, но тут же рассудил, что они, несомненно, направляются на тунцовые промыслы разыскивать его и Каррьясо: видно, нашелся наконец человек, сумевший доказать, что не во Фландрии, а именно там найдут они своих сыновей! Однако Томас не посмел показаться отцу в батрацкой одежде, а потому, махнув на все рукой, прикрыл получше лицо, пробежал мимо приезжих и бросился искать Костансу. По воле благосклонной судьбы он застал ее одну и, боясь, что она не даст ему времени высказаться, поспешно, заплетающимся языком пробормотал:
— Костанса, один из этих почтенных кавальеро, приехавших к нам на двор, — мой отец; это тот, которого величают дон Хуан Авенданьо; опроси у слуг, есть ля у него сын по имени Томас Авенданьо, то есть я; таким образом ты сможешь навести справки и удостовериться, что я тебе сказал правду и что будет правдой все то, что я тебе обещал. Прощай! До тех пор, пока они не уедут, я сюда не вернусь!
Костанса не произнесла ни слова, а он, не дожидаясь ответа, вышел из комнаты так же, как и вошел, то есть с закрытым лицом, и побежал уведомить Каррьясо в гостиницу, что приехали их родителя. Хозяин стал было звать Томаса, прося его выдать овес, но батрак не показывался, и он отпустил овес сам.
Один из стариков отвел в сторону работницу-галисийку и спросил, как зовут ту прекрасную девушку, которую он видел, и как она приходится хозяину: дочерью, родственницей или женой?
Галисийка ответила:
— Девку эту зовут Костанса; хозяину она не родственница и не жена; кто она такая, не знаю; одно скажу: чтоб ее черти побрали! Уж не знаю, что в ней такое есть, но из-за нее все мы, девушки, работающие в доме, остаемся при пиковом интересе, хотя, правда, лица у нас такие, какие нам бог послал! Стоит только гостю приехать, как он уже спрашивает: «Кто такая эта красотка?» и сейчас же прибавит: «Она у вас премиленькая и прехорошенькая! Честное слово, недурна! От нее и записным красавицам не поздоровится!» Нам же все, как один, говорят: «Что это у них такое: какое-то чертово отродье, а не женщины!»
— Значит, эта девушка, — сказал кавальеро, — позволяет, чтобы гости ее ласкали и за ней ухаживали?
— Как же, — ответила галисийка, — попробуйте подержать ей ногу, даст она себя подковать! Нечего сказать, нашли такую! Клянусь богом, если бы она только позволила смотреть на себя, она вся была бы в золоте! Но она ведь, как еж, шершавая; все время шепчет свои «Ave Maria», целый день работает и молится. Ко дню, когда она начнет творить чудеса, выправить бы мне четки попышнее! Моя хозяйка говорит, что она носит власяницу на теле. Не очень-то тут, старичок!
Кавальеро, страшно обрадованный тем, что он услышал от галисийки, не дожидаясь, когда с него снимут шпоры, позвал хозяина и, уединившись с ним в одной из комнат, сказал:
— Я, господин хозяин, явился отобрать у вас одно свое сокровище, которым вы уже немало лет владели; а для того, чтобы отобрать его, я привез с собой тысячу золотых эскудо, вот эти кольца от цепи и пергамент.
С этими словами он извлек из кармана шесть колец от цепи, хранившейся у хозяина. Тот успел уже признать пергамент и, необычайно обрадовавшись обещанной ему тысяче эскудо, ответил:
— Сеньор, сокровище, которое вы собираетесь отобрать, — у меня дома, но сейчас нет налицо цепи и пергамента для подтверждения истины, интересующей вашу милость, а потому, прошу вас, вооружитесь терпением, я сию минуту вернусь.
И он тотчас же пошел уведомить коррехидора о том, что тут происходит, и сообщить, что в гостинице находятся два кавальеро, явившиеся за Костансой.
Коррехидор кончал обед, но, побуждаемый желанием узнать конец этой истории, немедленно сел на коня и отправился в гостиницу Севильянца, захватив с собой кусок пергамента. Едва увидев обоих кавальеро, коррехидор с распростертыми объятиями приблизился к одному из них и воскликнул:
— Бог ты мой! Чем объяснить эту счастливую встречу, сеньор дон Хуан де Авенданьо, двоюродный брат и сеньор мой?
Кавальеро тоже его обнял и сказал:
— Что и говорить, сеньор и двоюродный брат мой, встреча эта счастливая, потому что я вижу вас в добром здоровье, которого вам всегда желаю. Обнимите, брат мой, и этого кавальеро, так как это — дон Дьего де Каррьясо, знатный человек и большой мой друг.
— Я знаю сеньора дона Дьего, — ответил коррехидор, — и рад быть к его услугам.
Когда они расцеловались и обменялись выражениями большой любви и редкой учтивости, все трое прошли в комнату и остались там наедине с хозяином, который достал уже к этому времени цепь и сказал:
— Сеньор коррехидор уже знает, для чего ваша милость прибыли сюда, сеньор дон Дьего де Каррьясо; потрудитесь теперь вынуть кольца, снятые с этой цепи, а сеньор коррехидор предъявит пергамент, оставшийся у него на руках, и сделаем, наконец, проверку, которой я дожидаюсь уже несколько лет.
— Итак, — проговорил дон Дьего, — нам, очевидно, незачем скова рассказывать сеньору коррехидору о цели нашего приезда; по-видимому, он уже получил необходимые сведения из вашего прежнего рассказа.
— Кое-что он мне сообщил, но многое еще осталось для меня неясным. Что же до пергамента, то вот он!
Дон Дьего вынул другую половину пергамента, и когда обе части были соединены, они составили одно целое, причем буквам, стоявшим на пергаменте у хозяина (и которые, как мы уже отмечали, были
В Т С И Н Я Р М Т),
на другом куске соответствовали следующие буквы:
О И Т Н А П И Е А,
а все буквы вместе гласили: Вот истинная примета. Сравнили также кольца цепи и пришли к выводу, что это самые подлинные признаки.
— Ну вот, дело кончено! — сказал коррехидор. — Теперь остается еще выяснить, если только это возможно, кто такие родители этого прелестнейшего создания.
— Отцом, — ответил дон Дьего, — являюсь я, матери уже нет в живых; достаточно будет сказать, что была она так родовита, что я свободно мог бы быть у нее в услужении. А для того чтобы, подобно имени ее, остающемуся в неизвестности, не осталась необнародованной ее добрая слава и люди не стали бы ее обвинять в том, что на первый взгляд представляется очевидным проступком и несомненным преступлением, следует вам сказать, что мать этой красавицы, вдова одного знатного кавальеро, удалилась на житье в свою деревню и там в необычайной строгости и скромности вела среди своих слуг и вассалов спокойное и тихое существование. Судьба устроила так, что однажды, возвращаясь с охоты в пределах ее поместья, я захотел к ней заехать; был час послеобеденного отдыха, когда я прибыл в ее дворец (ибо вполне позволительно назвать так этот огромный дом); сдав лошадь своему слуге, я прошел, никого не встретив по дороге, в ту самую комнату, где на невысоком черном ложе она спала, справляя сьесту. Красоты она была необыкновенной, а тишина, уединение и удобный случай разбудили во мне желание скорее дерзкое, чем приличное; и вот, отбросив в сторону разумные соображения, я запер за собою дверь, приблизился к ней, разбудил и затем, крепко сжав ее в объятиях, сказал:
— Сударыня, сеньора моя, не кричите; крики ваши окажутся явным доказательством вашего бесчестья; никто не видел, как я прошел в этот покой, ибо судьба, пожелавшая, чтобы я мог счастливо насладиться вами, погрузила в сон всех ваших слуг; если они прибегут на ваши крики, то смогут всего только лишить меня жизни, и то не иначе, как в ваших объятиях, так что и самая смерть моя будет не в силах снять позор с вашего доброго имени.
Одним словом, я овладел ею помимо ее воли, пользуясь одной своей силой; утомленная, измученная, потрясенная, она не смогла или не пожелала сказать мне ни слова; а я, покинув ее в ошеломлении и дурмане, вышел тем же путем, как вошел, и проехал в деревню к одному своему другу, в двух милях оттуда. Сеньора эта переехала в другое место, а затем прошли два года, в течение которых я ни разу не видел ее да и не старался видеть; к концу этого срока я узнал, что она скончалась. И вот каких-нибудь двадцать дней тому назад я получил чрезвычайно настойчивое письмо от майордома этой сеньоры, приглашавшее меня явиться к нему по делу, близко касающемуся моего сердца и чести. Я поехал узнать, что ему от меня нужно; я застал его при смерти; не теряя лишних слов, он вкратце сообщил мне, как его госпожа, умирая, рассказала ему о том, что у нее со мной вышло, о том, как она забеременела после учиненного над нею насилия, каким образом она, желая скрыть свое положение, уехала на богомолье к Гуадалупской божьей матери и как родила у вас в гостинице девочку, которую назвала Костансой. Майордом вручил мне вещественные доказательства, по которым я могу разыскать свою дочь, то есть известные уже вам цепь и пергамент, а кроме того, передал мне тридцать тысяч эскудо золотом, оставленные госпожой на приданое своему ребенку. Он прибавил еще, что не отдал мне деньги немедленно после смерти своей госпожи и не сообщил мне открытого ему в глубочайшей тайне события исключительно из соображений корысти и желания попользоваться деньгами, но ныне ему вскоре предстоит отдать во всем отчет богу, а поэтому он для облегчения совести возвращает мне деньги с указанием того, где и как я могу найти свою дочь. Получив деньги и вещественные доказательства, я поделился своею новостью с сеньором доном Хуаном де Авенданьо и вместе с ним выехал в ваш город.
Едва только дон Дьего произнес эти слова, как до слуха присутствующих Донеслись через уличную дверь очень громкие крики:
— Передайте Томасу Педро, батраку, выдающему овес, что друга его, Астурьяно, взяли под стражу; пусть он торопится в тюрьму, где Астурьяно будет его поджидать.
При словах «в тюрьму» и «под стражу» коррехидор распорядился, чтобы арестованного с альгуасилом провели сюда. Когда альгуасила известили, что находящийся в доме коррехидор требует его к себе вместе с арестованным, он тотчас же явился.
Астурьяно вошел; рот его был в крови, он был сильно потрепан, и альгуасил крепко вцепился в него руками. Ступив в комнату, он сразу узнал своего отца и старика Авенданьо. Ему стало неловко, и, желая остаться в тени, он сделал вид, будто стирает с себя кровь, и спрятал лицо в платок.
Коррехидор справился о преступлении этого парня и о причинах его сильно помятого вида. Альгуасил объяснил, что арестованный — тот самый водовоз Астурьяно, за которым гоняются мальчишки, выкрикивая: «Отдай хвост, Астурьяно; отдай-ка хвост!», и тут же в коротких словах рассказал, почему мальчишки требуют с него хвост; присутствующих это очень развеселило. Он прибавил еще, что при выезде из Алькантарских ворот за Астурьно увязалась толпа мальчишек, толковавших ему о хвосте; в ответ на это водовоз соскочил с осла, погнался за ними, настиг одного и до полусмерти отколотил палкой; когда его попробовали задержать, он оказал сопротивление, и поэтому его сильно потрепали.
Коррехидор велел Астурьяно открыть лицо, но тот упорно отказывался исполнить приказание; тогда к нему подошел альгуасил и насильно отнял платок; после этого отец его сразу узнал и весьма взволнованным голосом спросил:
— Сын мой, Дьего, это тебя так отделали? Что означает эта одежда? Неужели ты до сих пор не оставил своего бродяжничества?
Каррьясо упал на колени и прижался к ногам отца, который со слезами на глазах долгое время держал его в своих объятиях. Дон Хуан де Авенданьо, памятуя, что дон Дьего уехал вместе с его сыном, доном Томасом, осведомился о нем и получил в ответ, что дон Томас де Авенданьо служат батраком и выдает овес и солому в этой гостинице. Ответ Астурьяно всех крайне изумил, и коррехидор велел хозяину доставить сюда батрака, выдающего овес.
— Его, кажется, нет дома, — ответил хозяин, — впрочем, я его поищу.
И сию же минуту пошел его разыскивать.
Дон Дьего попросил Каррьясо объяснить смысл этого переодевания и указать причины, заставившие его стать водовозом, а дона Томаса батраком в гостинице. Каррьясо ответил, что здесь, при всех, он затрудняется представить требуемые объяснения, но что наедине он ответит на все вопросы.
Между тем Томас Педро скрывался в своей комнатке, имея в виду незаметно подсмотреть, что такое здесь делают его отец и старик Каррьясо: очень уж его озадачило появление коррехидора и волнение, охватившее весь дом. Кто-то успел шепнуть хозяину, где прячется его батрак; хозяин прошел к нему и заставил его выйти оттуда почти насильно; впрочем, вряд ли бы он все-таки появился, если бы коррехидор не вышел на двор, не кликнул его по имени и не сказал:
— Да покажитесь же наконец сюда, любезный родич, здесь вас поджидают не львы и не дикие медведи.
Томас послушался и с потупленными долу глазами опустился в глубокой покорности на колени перед отцом, прижавшим его к груди с такою же исступленною радостью, с какою библейский отец встретил вернувшегося из отсутствия своего блудного сына.
В это время за коррехидором прибыла карета, в которой он пожелал уехать домой, потому что после столь великого ликования негоже было возвращаться верхом. Коррехидор велел позвать Костансу и, взяв ее за руку, подвел к отцу со следующими словами:
— Примите, сеньор дон Дьего, свое сокровище и знайте, что это самая роскошная драгоценность, о которой вы могли когда-либо мечтать. А вы, прекрасная девушка, поцелуйте отцовскую руку и возблагодарите господа за то, что он столь почетным образом изменил, возвысил и украсил ваше убогое положение.
Костанса, не ведая и не понимая того, что с нею случилось, от большого волнения и страха не нашла ничего лучше, как опуститься на колени перед отцом, и, взяв его руки, стала их нежно целовать, заливаясь бесчисленными слезами, катившимися из ее несравненных глаз.
Тем временем коррехидор стал упрашивать своего двоюродного брата, дона Хуана, отправиться вместе со всеми к нему в дом; и хотя дон Хуан отказывался, тем не менее увещания коррехидора возымели такую силу, что ему пришлось уступить и войти вместе со всеми в карету. Но когда коррехидор пригласил с собою Костансу, то сердце ее дрогнуло, она бросилась в объятия хозяйки, и обе стали так горько плакать, что у всех, кто их слышал, сердце разрывалось на части. Хозяйка причитала:
— Как же так, дорогое мое дитятко: ты едешь и меня покидаешь? Неужели же у тебя хватит сердца покинуть свою мать, которая так тебя любила и растила?
Костанса плакала и отвечала ей самыми нежными словами. Умиленный коррехидор велел хозяйке тоже поместиться в карету и вообще не разлучаться со своею дочерью (ведь так именно она величала девушку) до отъезда последней из Толедо.
Таким образом, все, включая хозяйку, уселись в карету и отбыли в дом коррехидора, где они были приветливо встречены его женой, весьма родовитой сеньорой. Там им был предложен отличный и пышный обед, а после обеда Каррьясо рассказал отцу, что дон Томас нанялся батраком в гостиницу из-за любви к Костансе к что влюбился он в нее свыше всякой меры, так что, если бы она не оказалась дочерью дона Дьего и знатной особы, он взял бы ее себе в жены как простую судомойку. Жена коррехидора поспешила нарядить Костансу в платье своей дочери, подходившей к ней как сложением, так и своими годами, и если Костанса казалась прекрасной в крестьянской одежде, то в столичном наряде она стала совсем как ангел: наряды эти были так ей к лицу, что невольно казалось, будто она родилась сеньорой и всегда носила самые лучшие платья, какие только полагаются по обычаю.
Впрочем, среди такого множества счастливых невольно нашелся и несчастный, которым оказался дон Педро, сын коррехидора, сразу же понявший, что Костанса для него навеки потеряна, и так оно, конечно, и вышло, ибо коррехидор с доном Дьего де Каррьясо и доном Хуаном де Авенданьо порешил, что дон Томас женится на Костансе и получит от ее отца тридцать тысяч эскудо, завещанных ей матерью; что водовоз дон Дьего де Каррьясо возьмет себе в жены дочь коррехидора, а сын его дон Педро — дочь дона Хуана де Авенданьо, причем старик вызвался исхлопотать разрешение на брак, необходимое ввиду близкого родства жениха и невесты.
Таким образом, все оказались веселы, счастливы и довольны, а когда весть о замужестве и счастье высокородной судомойки разнеслась по городу, целые толпы народа повалили глядеть на Костансу в ее новом обличье, в котором, как мы сказали, она имела вид самой важной сеньоры. Приходили смотреть и на Томаса Педро, батрака, выдававшего овес, превратившегося теперь в Томаса де Авенданьо и одетого тоже сеньором. Было отмечено, что Лопе Астурьяно сделался совсем молодцом с тех пор, как переменил платье и расстался с ослом и своими кувшинами, но тем не менее находились люди, желавшие, невзирая на все его великолепие, спросить юношу про хвост в то время, как он прогуливался по улице.
Месяц все жили в Толедо, а по истечении месяца дон Дьего де Каррьясо с женой и отцом, Костанса со своим мужем доном Томасом и сын коррехидора, поехавший познакомиться со своей родственницей и суженой, отбыли в Бургос.
Севильянец очень разбогател, когда Костанса подарила тысячу эскудо и целый ворох драгоценностей своей, как она ее называла, «сеньоре», воспитавшей девушку у себя в доме.
Приключение с высокородной судомойкой предоставило поэтам золотого Тахо удобный случай испробовать свои перья в славословиях и восхвалениях несравненной красавицы Костансы, которая все еще благополучно здравствует в браке с примерным своим батраком, служившим в гостинице; жив также и Каррьясо, имеющий уже троих сыновей, которые пошли не в отца и, не подозревая даже о существовании тунцовых промыслов, учатся теперь в Саламанке, а когда родному их батюшке случается увидать где-нибудь водовозного осла, в памяти его сейчас же воскресает тот самый осел, который был у него в Толедо, и его все время охватывает страх, что в самую для него неожиданную минуту кто-нибудь вдруг снова повторит язвительное слово:
— Отдай хвост, Астурьяно! Отдай-ка хвост!
Две девицы
В пяти милях от Севильи расположен городок по названию Кастельбланко. Когда начало смеркаться, к одному из его многочисленных постоялых дворов подъехал путник на прекрасном племенном коне. При нем не было слуги, и потому, не ожидая, чтобы ему подержали стремя, он проворно спрыгнул с седла. Тотчас же прибежал хозяин (человек услужливый и расторопный), но когда он подоспел, путник уже сидел на каменной скамье у входа и быстро расстегивал пуговицы у себя на груди; в ту же минуту руки его упали в разные стороны — было очевидно, что он теряет сознание. Хозяйка, у которой было доброе сердце, подошла к нему и, спрыснув ему лицо водою, привела его в чувство. Огорчившись тем, что его видели в таком состоянии, путник поспешно застегнулся и попросил, чтобы ему поскорее отвели комнату, в которой он мог бы расположиться и остаться, если возможно, наедине. Хозяйка ответила, что во всем доме есть только одна комната, но в ней стоят две кровати, так что в случае прибытия другого гостя придется устроить его на одной из них. В ответ на это путник сказал, что он готов заплатить за обе, независимо от приезда второго постояльца, и, вынув золотой эскудо, отдал его хозяйке под условием никому не уступать пустой кровати.
Хозяйка осталась довольна платой и обещала исполнить требование путника, хотя бы сам настоятель севильский прибыл этой ночью к ней в дом. Она спросила, не хочет ли он поужинать. Тот отказался, прибавив, что он просит хорошо позаботиться о его коне. Потребовав ключ от комнаты и захватив с собой большие кожаные сумки, он прошел к себе, запер дверь и даже (как оказалось впоследствии) прислонил к ней два стула.
Едва только он заперся, как хозяин, хозяйка, слуга, выдававший корм, и двое случайно оказавшихся здесь горожан собрались на совещание; все стали говорить о красоте и статности (нового гостя и пришли к заключению, что никогда еще не видели такой красы. Стали строить догадки о его возрасте и решили, что ему могло быть от шестнадцати до семнадцати лет. Судили и рядили, спорили и судачили, какая причина могла вызвать обморок, но так как они не сумели ее определить, то ограничились восторженными отзывами об изяществе путника. Горожане разошлись по домам, хозяин отправился присмотреть за конем, а хозяйка стала приготовлять ужин на случай приезда других гостей.
И действительно, немного времени спустя подъехал новый гость, чуть-чуть постарше первого и не менее красивый собой. Увидев его, хозяйка воскликнула:
— Господи боже! Что же это такое? Неужто сегодня ночью в моем доме останавливаются ангелы?
— Почему вы так говорите, хозяйка? — спросил кавальеро.
— Я это сдуру сказала, сеньор, — отвечала трактирщица, — но только пусть ваша милость не трудится слезать с коня: у меня сейчас нет кровати, которую можно было бы вам предложить; обе, которые были, занял один кавальеро, находящийся вон там, в той комнате. Он заплатил мне за две кровати, хотя ему нужна только одна, и не хочет, чтобы к нему входили. Ему, вероятно, нравится одиночество, но, клянусь богом и своей душой, я не вижу этому причины, потому что с его лицом и осанкой ему совсем не нужно прятаться, а, напротив, нужно, чтобы все на него смотрели и радовались.
— Неужели он так красив, сеньора хозяйка? — переспросил кавальеро.
— Какое там красив, — воскликнула она, — он прекрасен!
— Эй, слуга, — сказал кавальеро, — хотя бы мне пришлось спать на земле, я вce-таки хочу взглянуть на человека, которого так расхваливают.
С этими словами он дал подержать стремя сопровождавшему его погонщику мулов и, соскочив с коня, приказал тотчас же приготовить ужин, что и было исполнено. Пока он ужинал, явился местный альгуасил (как это обыкновенно бывает в небольших селениях) и завязал беседу с кавальеро, не забыв осушить за разговором три чарки вина и съесть ножку и грудь куропатки, которые тот ему предложил. За угощение он заплатил расспросами о столичных новостях, о фландрских войнах, о высадке турецкого десанта, а заодно и о приключениях Трансильванского властителя, которому он пожелал всяких благ. Но кавальеро ужинал и молчал, так как ехал он совсем из других краев и не мог удовлетворить любопытство своего собеседника.
В это время хозяин, задав корм коню, возвратился к гостям и подсел, чтобы принять участие в разговоре и отведать своего собственного винца. Он выпил не меньше, чем альгуасил, и при каждом глотке склонял голову на левое плечо и превозносил вино до облаков, не обременяя себя, однако, лишними словами, очевидно, из опасения, как бы от близкого соседства к облакам в вино не попало воды. Вскоре беседа снова перешла на похвалы по адресу закрывшегося на ключ гостя; стали говорить о его обмороке, о том, как он уединился и не пожелал ужинать. Они тщательно обсуждали его прекрасные сумки, качества коня, красоту его дорожного платья и порешили, что путнику этому следовало бы при себе иметь слугу.
Все эти разговоры снова вызвали у новоприехавшего кавальеро желание увидеть молодого человека, о котором шла речь, и поэтому он стал просить хозяина, чтобы тот каким-нибудь образом дал ему возможность переночевать на другой кровати, за что пообещал ему эскудо золотом. Однако, несмотря на то, что любовь к деньгам подстрекала хозяина уступить просьбе, он заявил, что это невозможно, так как дверь заперта изнутри, и он не осмеливается разбудить спящего, тем более, что тот заплатил за обе кровати.
Делу помог альгуасил.
— Единственно, что можно будет сделать, — сказал он, — это постучаться и сказать, что я, как представитель власти, явился по приказанию сеньора алькальда устроить здесь на ночь кавальеро, а так как другой кровати нет, то необходимо будет воспользоваться той, которая сейчас пустует. Хозяин, конечно, возразит и скажет, что это несправедливо, так как за кровать уже заплачено и нет основания отнимать ее у нынешнего постояльца. Таким образом, с хозяина будет снята ответственность, а ваша милость добьется того, чего желает.
План альгуасила всем показался прекрасным, и кавальеро дал ему за него четыре реала. Они тотчас же принялись за дело, и в конце концов первый гость открыл дверь представителю власти, выказав при этом, однако, большое неудовольствие. Новый постоялец, извинившись за причиненное беспокойство, начал располагаться на свободной кровати, но его сосед не проронил ни слова и даже не показал своего лица, так как, открыв дверь, сейчас же лег снова в постель и, чтобы не отвечать, притворился спящим. Второй гость тоже лег, надеясь удовлетворить свое любопытство утром, когда они будут вставать.
Стояли длинные ленивые декабрьские ночи; холод и усталость от путешествия манили к отдыху. Однако первый гость не мог заснуть и вскоре после полуночи начал так громко вздыхать, как если бы при каждом вздохе он прощался со своей жизнью. Его вздохи были настолько сильны, что новый постоялец, успевший уже заснуть, проснулся от этих жалобных звуков и, изумленный рыданиями, сопровождавшими вздохи, стал внимательно прислушиваться к тому, что шептал незнакомец. В комнате было темно, и кровати стояли далеко друг от друга, но, несмотря на это, ему удалось уловить следующие слова, произнесенные тихим и слабым голосом.
— О горе мне! Куда влечет меня непреодолимая сила судьбы! Какой путь мне избрать, где найти выход из запутанного лабиринта, в котором я нахожусь? О юный, неопытный возраст, когда человек не умеет хорошо рассуждать и не слушает советов! Где будет конец моим безвестным скитаниям? О опозоренная честь! О несчастная любовь! О попранное уважение к благородным родителям и родственникам! Горе мне тысячу раз! О, почему бы мне не удержать своих желаний? О притворные речи! Вы так меня убеждали, что заставили меня ответить делом! Но на кого я, несчастная, собственно жалуюсь? Разве не сама я захотела себя обмануть? Разве не сама взяла в руки нож, которым убила и повергла на землю свою честь вместе с добрым именем моих престарелых родителей? О неверный Марк Антоньо! Как мог ты примешать к своим нежным словам желчь неучтивости и презрения? Где ты, бесчувственный, куда бежал? Отвечай мне — я с тобой говорю; подожди меня — ибо я следую за тобой; поддержи меня — я падаю! Верни то, что ты мне остался должен, и помоги мне: ведь ты мне столь многим обязан!
Сказав это, путник замолчал, но по вздохам было ясно, что глаза его не переставали проливать нежные слезы. Выслушав все в спокойном молчании, второй гость решил на основании услышанного, что пред ним, несомненно, находится женщина — обстоятельство, еще больше усилившее его желание с ней познакомиться. Много раз он собирался подойти к ее кровати и, конечно, сделал бы это, если бы своевременно не услышал, как она встала и, открыв дверь комнаты, крикнула хозяину, чтобы он седлал лошадь, так как пора собираться в путь. На это через довольно долгий промежуток времени хозяин попросил гостя не тревожиться, ибо еще, мол, не пробило полночи и на дворе такая темень, что было бы безрассудством выезжать. Эти слова ее несколько успокоили, и, замкнув снова дверь, она с тяжелым вздохом бросилась на кровать. Незнакомцу, который все это слышал, показалось, что настала удобная минута для разговора и для того, чтобы предложить юному гостю свои скромные услуги. Таким путем он надеялся заставить его открыться ему и рассказать свою грустную историю. Поэтому он обратился к соседу со следующими словами:
— Благородный сеньор, если бы ваши вздохи и произнесенные вами слова не внушили мне сочувствия к вашему горю, вы, несомненно, имели бы право упрекнуть меня в отсутствии самой обыкновенной чувствительности и принять меня за человека с каменной душой и сердцем из твердой бронзы. Но если сочувствие, которое вы во мне вызвали, и появившаяся у меня готовность рискнуть своей жизнью для того, чтобы вам помочь (надеюсь, что страдания ваши излечимы), заслуживают в ваших глазах некоторого внимания, я прошу вас оказать мне его и открыть мне без утайки причину вашей скорби.
— Если бы скорбь меня вконец не измучила, — ответил жаловавшийся на свою судьбу кавальеро, — я мог бы легко сообразить, что я не один в этой комнате, и тогда я попридержал бы свой язык и умерил вздохи. Но, поскольку память изменила мне в то самое время, когда она была мне всего нужнее, я исполню вашу просьбу и сделаю это тем охотнее, что, переживая заново горькую повесть своих несчастий, я, быть может, не вынесу сожалений и умру. Но если вы хотите, чтобы ваша просьба была исполнена, вы должны обещать мне, как человек благородный (а о том, что вы благородны, свидетельствуют предложенные вами услуги и ваши слова), что как бы ни поразил вас мой рассказ, вы не покинете вашего ложа, не подойдете ко мне и не будете ничего спрашивать помимо того, что я захочу вам сообщить. Если же вы поступите иначе, то знайте, что в ту самую минуту, когда я услышу, что вы двинулись с места, я проколю себе грудь шпагой, лежащей у моего изголовья.
Второй кавальеро ответил, что он ни в чем не отступит от этих требований, и подтвердил свои слова многочисленными клятвами: он готов был обещать тысячу неисполнимых вещей, лишь бы удовлетворить свое любопытство.
— Теперь, получив нужные мне заверения, — сказал юноша, — я могу спокойно сделать то, чего до сих пор ни разу еще не делал — дать отчет о своей жизни. Итак, слушайте.
Вы должны знать, сеньор, что, несмотря на свое появление здесь (вам это, без сомнения, уже сказали) в мужской одежде, я на самом деле — несчастная девушка или во всяком случае была ею еще неделю тому назад; перестала же я ею быть по неразумию и неопытности, а также по излишней доверчивости к вкрадчивым и сладким речам вероломных мужчин. Меня зовут Теодосья, я происхожу из одного знаменитого города Андалусии, название которого я умалчиваю (ибо для вас узнать его менее важно, чем для меня скрыть). Родители мои благородны и обладают значительным) достатком. Они имели сына — их утешение и честь — и дочь, не принесшую им ни того, ни другого. Сына своего они отправили учиться в Саламанку, а меня воспитывали дома в скромности и уединении, как того требовали их добродетель и знатное происхождение. Не зная ни. забот, ни огорчений, я всегда и во всем беспрекословно их слушалась, подчиняя свою волю их желаниям, вплоть до того дня, когда по воле судьбы и вследствие моей собственной неосторожности я впервые увидела сына нашего соседа, более богатого, чем мои родители, и не менее благородного. Первый раз, когда я на него посмотрела. я не почувствовала ничего, кроме удовольствия, от того, что его увидела. В этом нет ничего удивительного, так как его наряды, изящество, лицо, нрав, редкий ум и учтивость всем нравились и всеми отмечались. Но к чему мне расхваливать своего врага и удлинять подробностями рассказ о моем несчастий или, вернее сказать, безумии? Скажу просто, что он много раз видел метя из своего окна, находившегося как раз напротив нашего дома; как мне казалось тогда, вместе со взглядами он посылал мне свою душу, а мне тоже было приятно смотреть на него, но совсем по-иному, чем прежде: теперь мои глаза побуждали меня верить в полную искренность того, что я читала в его движениях и в его лице. От взглядов он перешел к беседе, а от беседы — к признанию в любви, которая воспламенила мое желание и дала веру в его чувство; к этому присоединились обещания, клятвы, слезы, вздохи — словом, все то, что, на мой взгляд, должен делать верный любовник, желающий показать силу и стойкость своего чувства. Для меня, несчастной (ведь я еще никогда не видела себя в таких опасных обстоятельствах), каждое слово его было пушечным выстрелом, разрушавшим твердыню моей чести, каждая слеза — огнем, испепелявшим мое добронравие, каждый вздох — ураганом, раздувавшим пожар до тех пор, пока в нем, наконец, не погибла моя дотоле неприступная добродетель. В конце концов он обещал мне стать моим супругом, хотя бы против воли родителей (которые предназначали ему другую), и я, отбросив всякую скромность, сама не знаю каким образом отдалась ему тайно от своих родных, имея единственным свидетелем моего падения одного слугу Марка Антоньо (ибо так звали того, кто смутил мой покой). Но едва он овладел мною, как через два дня бесследно исчез из города, и никто, даже его родители, не могли понять, куда он скрылся.
Пусть тот, кому это под силу, опишет, в каком положении я очутилась: потому что тогда, как и теперь, я могла только терзаться угрызениями. Я рвала на себе волосы, словно они были повинны в моей ошибке; царапала лицо, которое мне казалось причиной моего несчастья; проклинала судьбу, кляла себя за опрометчивую решимость, пролила бесчисленные потоки слез и почти утонула в них и во вздохах, рвавшихся из моей горестной груди. Я молча жаловалась небесам и мысленно старалась найти какой-нибудь спасительный путь или тропинку. Я решила переодеться в мужское платье и, покинув родительский дом, отправиться на поиски этого второго предателя Энея этого жестокого и вероломного Бирено, обманувшего мои честные ожидания и справедливые надежды. Не углубляясь в рассуждения и раздобыв случайно дорожное платье моего брата, я оседлала отцовского коня и в темную ночь выехала из дома с намерением отправиться в Саламанку, где, по рассказам, мог находиться Марк Антоньо: он ведь тоже студент и, кроме того, товарищ моего брата, о котором я упоминала. Я не забыла захватить с собой побольше золота на случай, если бы со мной что-нибудь произошло во время моего непредвиденного путешествия. Больше всего меня беспокоит мысль, что мои родители, наверное, отправятся за мной следом и отыщут меня по приметам одежды и коня, а кроме того, я опасаюсь, как бы мой брат, находящийся в Саламанке, случайно меня не узнал. Если это случится, нетрудно будет представить, в какой опасности окажется моя жизнь: если даже он и выслушает мои оправдания, мои доводы будут все же бессильны в его глазах. Несмотря на это, я решила хотя бы ценою жизни разыскать моего бессердечного суженого, ибо он не посмеет, конечно, отречься от этого звания, так как его обличит полученное мною от него брильянтовое кольцо с надписью: «Марк Антоньо — муж Теодосьи». Если мне удастся его разыскать, я выясню, что он такое во мне открыл, из-за чего он счел нужным сразу же меня бросить, и в конце концов я сумею принудить его сдержать данное мне слово. Если же он этого не сделает, я убью его, показав, что я с такой же легкостью умею мстить, с какой могу позволить себя обидеть; благородство крови, унаследованной от родителей, пробуждает во мне силу, с помощью которой я либо получу удовлетворение, либо отомщу.
Вот, сеньор кавальеро, та истинная и грустная история, которую вы пожелали узнать и которая может служить достаточным оправданием для разбудивших вас стонов и слез. Прошу вас и умоляю вас об одном: если вы не можете оказать мне никакой помощи, то дайте по крайней мере совет, как избегнуть угрожающих мне опасностей, освободиться от страха преследования и облегчить достижение желанной и необходимой мне цели.
Прошло много времени, а между тем кавальеро, выслушавший историю влюбленной Теодосьи, продолжал хранить молчание; она было подумала, что он заснул и ровно ничего не слушал. Чтобы удостовериться в этом, она спросила:
— Вы спите, сеньор? Если бы вы даже и спали, в этом нет большого греха, ибо когда человек, волнуемый страстями, рассказывает о своих несчастьях спокойному слушателю, вполне естественно, что они вызывают у него не сочувствие, а сон.
— Я не сплю, — отвечал кавальеро, — напротив, я далек от сна и так сожалею о вашем горе, что могу откровенно сказать: оно волнует и огорчает меня не меньше, чем вас, а поэтому я хочу вам помочь, как вы о том просите, и не только словом, но и делом, если только мои силы окажутся для этого достаточными. Искусство, с каким вы мне рассказали свою историю, обнаруживает немалый ум, так что я готов допустить, что вас скорей обмануло ваше влюбленное сердце, нежели речи Марка Антоньо, тем не менее ваше заблуждение мне кажется извинительным вследствие вашей молодости. В юные годы очень трудно уяснить себе все бесчисленные уловки мужчин. Успокойтесь, сеньора, и постарайтесь проспать оставшуюся часть ночи, а с наступлением дня мы вместе обсудим ваше положение и посмотрим, какой выход вам следует избрать.
Теодосья, поблагодарив его, как умела, решила немного отдохнуть и тем самым не мешать спокойному сну кавальеро. Однако последний не мог ни на минуту успокоиться и даже начал ворочаться в кровати и вздыхать так, что Теодосье пришлось спросить, что с ним такое; если у него есть какое-нибудь горе, в котором она может помочь, она сделает это с такой же готовностью, с какой он предложил ей свои услуги.
— Хотя причиной моего беспокойства являетесь вы, сеньора, — ответил на это кавальеро, — тем не менее вы не можете облегчить его, так как в противном случае я бы не страдал.
Теодосья не могла понять, к чему ведут эти темные речи, но заподозрила, что его мучает, должно быть, любовная страсть, и у нее даже мелькнула мысль, не сама ли она является ее предметом. Уединенность и удобство места, темнота и только что полученное сведение, что с ним находится женщина, — все это легко могло пробудить в незнакомце дурные мысли. Опасаясь этого, она поспешно и молча оделась, вооружилась шпагой и кинжалом и села в таком виде на кровать в ожидании наступления рассвета. Вскоре свет дал о себе знать и проник через многочисленные щели и отверстия, всегда имеющиеся в комнатах постоялых дворов и гостиниц. Кавальеро провел ночь так же, как Теодосья. Едва он увидел, что лучи дневного света проникают в комнату, он вскочил с постели и сказал:
— Вставайте, сеньора Теодосья! Я решил сопровождать вас в этом путешествии и не покидать до тех пор, пока Марк Антоньо не станет вашим законным супругом. В противном случае или мне или ему придется проститься с жизнью.
С этими словами он открыл окна и двери комнаты.
Теодосья очень хотела увидеть свет, чтобы наконец взглянуть на человека, с которым она беседовала целую ночь. Но едва она на него посмотрела и узнала его, ей захотелось, чтобы никогда больше не рассветало и чтобы глаза ее сомкнулись навеки. Ибо, когда кавальеро повернул к ней лицо (он тоже захотел на нее посмотреть), она узнала в нем своего брата, которого так боялась. При виде его у нее помутилось в глазах. Пораженная и словно онемевшая, она стояла без кровинки в лице, но затем страх дал ей силы, а опасность — ум. Держа кинжал за острие, она упала на колени перед братом и сказал робким и прерывающимся голосом:
— Возьми этот кинжал, дорогой брат и сеньор, излей свой гнев и накажи меня этой сталью за то, что я совершила. Столь великая вина не заслуживает милосердия. Я сознаюсь в своем грехе, но не хочу, чтобы раскаяние послужило мне оправданием, и молю тебя только об одном: пусть мое искупление будет таково, чтобы, потеряв жизнь, я не потеряла чести: хотя уход мой из родительского дома и подверг ее явной опасности, она все же не погибнет, если кара, которую ты для меня изберешь, останется в тайне.
Брат глядел на нее, и, несмотря на то, что ее проступок возбуждал в нем желание мести, нежные и в то же время сильные слова, в которых она выражала свою вину, явно умягчили его сердце. Он поднял ее с земли с ласковым и спокойным видом и стал утешать, как умел, сказав между прочим, что за невозможностью найти наказание, равное ее преступлению, он его временно откладывает; вместе с тем отчетливое сознание того, что судьба не закрыла всех путей для спасения, будет понуждать его всеми возможными способами искать выхода, а не мстить за обиду, причиненную ее легкомыслием.
Эти слова вернули Теодосье присутствие духа, дали краски ее лицу и оживили ее почти угасшие надежды. Дон Рафаэль (так звали ее брата) не стал больше говорить с ней о случившемся. Он сказал только, чтобы она называлась отныне не Теодосьей, а Теодором и что они немедленно отправятся в Саламанку, где будут вместе разыскивать Марка Антоньо. Однако дон Рафаэль полагал, что обидчика они там не найдут, поскольку беглец, состоявший с ним в дружбе, ничего не говорил ему про Саламанку. Впрочем, возможно, что обида, нанесенная Рафаэлю, заставила Марка Антоньо хранить молчание и избегать с ним встречи. Новоиспеченный Теодор решил во всем подчиниться воле брата. В это время вошел хозяин, которому они велели немедленно подать завтрак, так как они решили, ни минуты не мешкая, отправиться в путь.
В то время как готовился завтрак и погонщик мулов седлал животных, на постоялый двор прибыл заезжий идальго, которого дон Рафаэль тотчас же узнал. Узнал его и Теодор, а потому не посмел выйти из комнаты из боязни выдать свою тайну. Они обнялись, и дон Рафаэль спросил новоприбывшего, что слышно нового в их краях. На это идальго ответил, что он едет из порта Санта Мария, где видел четыре галеры, собиравшиеся плыть в Неаполь; на одной из них он заметил Марка Антоньо Адорно, сына дона Леонарда Адорно.
Эти известия обрадовали дона Рафаэля: в том, что ему так неожиданно удалось узнать столь важные новости, он увидел предзнаменование счастливого окончания дела. Он попросил идальго ссудить ему своего мула в обмен на отцовского коня (которого приезжий хорошо знал) и сказал, что собирается в Саламанку (умолчав, что он оттуда прибыл), но ему не хочется брать с собой в длинное путешествие свою прекрасную лошадь. Путник, как человек учтивый и к тому же хороший знакомый, согласился на мену и пообещал переслать коня его отцу. Они вместе позавтракали, но, понятно, без Теодора, а когда настало время расстаться, идальго тронулся по дороге в Касалью, где у него было богатое поместье. Дон Рафаэль не поехал с ним. Желая замести следы, он сказал, что в тот же день должен еще побывать в Севилье. Когда же приятель скрылся из вида, мулы были приведены в порядок, счет подан, а хозяин получил плату, они, простившись, съехали со двора. Все присутствующие были изумлены их красотой и прекрасным сложением: дон Рафаэль, как мужчина, был в не меньшей мере наделен изяществом, удальством и статностью, чем его сестра грацией и красотой.
Как только они двинулись в путь, дон Рафаэль передал сестре известие о Марке Антоньо и сказал, что, по его мнению, им со всей возможной поспешностью следует скакать в Барселону, где обычно останавливаются на несколько дней галеры, едущие в Италию или прибывающие в Испанию. В случае, если галеры еще не успели приехать, их можно будет подождать на месте. Там им, безусловно, удастся встретить Марка Антоньо. На это сестра отвечала, что он волен поступать, как ему кажется лучше, и что она во всем полагается на него. Дон Рафаэль сказал сопровождавшему его погонщику мулов, чтобы тот запасся терпением, так как ему придется отправиться в Барселону, и обещал ему хорошую плату за путешествие. Погонщик, веселый малый, зная щедрость дона Рафаэля, отвечал, что готов служить ему и следовать за ним хоть на край света. Дон Рафаэль спросил сестру, сколько у нее денег. Та ответила, что не считала их, но что она опустила руку в шкатулку отца семь или восемь раз и каждый раз вынимала полную пригоршню золотых монет. Отсюда дон Рафаэль заключил, что у нее могло быть около пятисот эскудо, и, таким образом, вместе с теми двумястами, которые находились при нем, и его золотой цепью они не испытают особых лишений в пути, тем более что его все время окрыляла надежда разыскать в Барселоне Марка Антоньо.
После этого они, не теряя времени, поспешили вперед и без всяких приключений или препятствий оказались в двух милях от селения Игуалада, отстоявшего от Барселоны на девять миль. По дороге они узнали, что один кавальеро, ехавший посланцем в Рим, находится в Барселоне в ожидании галер, которые еще не прибыли; известие это сильно их обрадовало. В таком настроении они достигли небольшой рощи, находившейся по дороге, и заметили, что из нее выбежал человек, с испуганным видом оборачивавшийся назад. Дон Рафаэль подошел к нему и спросил:
— От кого вы убегаете, добрый человек? Что с вами случилось и что заставляет вас спешить в таком страхе?
— Тут поневоле убежишь с поспешностью и страхом, — возразил человек, — ведь я только чудом спасся от шайки разбойников, находящейся в этом лесу!
— Плохо, — сказал погонщик мулов, — плохо, клянусь богом! Разбойники в такой час! Вот вам крест, они нас оберут до нитки!
— Не печальтесь, друг, — возразил незнакомец, — разбойники уже удалились, покинув в лесу более тридцати путников, привязанных к деревьям, в одних рубашках; на свободе они оставили только одного, чтобы он отвязал остальных, когда сами они перевалят через холм: это был условленный знак.
— В таком случае, — сказал Кальвете (так звали погонщика мулов), — мы можем безопасно ехать, потому что разбойники обычно несколько дней не возвращаются на то место, где они совершили нападение. Я могу утверждать это как человек, два раза попадавший ям в руки и знающий по опыту их нравы и обычаи.
— Да, это верно, — подтвердил путник.
Услышав это, дон Рафаэль решил продолжать путь. Продвинувшись немного вперед, они наткнулись на привязанных людей, числом более сорока; их развязывал тот, которого разбойники оставили на свободе. Странное зрелище представляли они собой: одни — совершенно раздетые, другие — в грязной одежде разбойников; иные плакали оттого, что их ограбили, другие смеялись, глядя на причудливые наряды окружающих; один в точности высчитывал, что у него украли, другой говорил, что из всех отнятых у него вещей ему больше всего жалко ящичка с «agnus dei»[138], который он вез из Рима. Одним словом, все, что там можно было услышать, были рыдания и жалобы ограбленных. Брат и сестра с глубокой грустью смотрели на эту картину, воссылая благодарения небу, избавившему их от страшной беды, которая так легко могла их постигнуть. Но наибольшее сочувствие вызывал у них (в особенности же у Теодора) вид привязанного к дубовому стволу юноши лет шестнадцати, в одной рубашке и полотняных штанах. Он отличался такой красотой, что все глядевшие на него были растроганы. Теодор соскочил на землю, чтобы развязать его; тот в изысканных выражениях поблагодарил за услугу. Чтобы услужить ему получше, Теодор попросил Кальвете, погонщика мулов, одолжить прекрасному юноше свой плащ, пообещав в ближайшем селении купить ему новый. Кальвете дал плащ, и Теодор прикрыл им молодого человека, спросив его, из каких он мест, откуда едет и куда держит путь. При всем этом присутствовал дон Рафаэль. Юноша ответил, что он родом из одного городка Андалусии. Едва он назвал свою родину, как дон Рафаэль признал в ней место, находящееся всего в двух милях от их родного селения. Далее юноша сказал, что сейчас он едет из Севильи с намерением пробраться в Италию и попытать там, подобно многим! другим испанцам, счастья в военном деле; печальная судьба столкнула его с разбойниками, отнявшими у него порядочную сумму денег и платье, которого не купить, пожалуй, и за триста эскудо. Несмотря на это, он рассчитывал все же продолжать путешествие, потому что не относил себя к числу людей, пыл которых охладевает при первой же неудаче.
Разумные речи юноши (вместе с известием о том, что он живет так близко от родных для них мест, не говоря уже о красоте, служившей ему наилучшей порукой) подсказали брату и сестре желание помочь ему, чем возможно. Раздав немного денег тем из путников, которые, по их мнению, больше других нуждались, — главным образом монахам и священникам, а их было более восьми человек, — они усадили юношу на мула Кальвете и, не задерживаясь далее, в скором времени доехали до Игуалады. Там они узнали, что галеры прибыли в Барселону накануне и отплывут оттуда через два дня, но если на побережье будет неспокойно, им придется выехать раньше. Эти известия заставили их встать на следующее утро еще до восхода солнца, несмотря на то, что они мало спали всю ночь. Дело в том, что накануне, сидя за столом с опекаемым юношей, Теодор внимательно вгляделся в его лицо, и при этом ему показалось, будто у гостя проколоты уши. Это обстоятельство, а также застенчивость его взгляда заставили Теодора заподозрить, что перед ним женщина, и он с нетерпением ожидал конца ужина, чтобы наедине удостовериться в своих догадках. Во время еды дон Рафаэль, хорошо знавший видных людей той местности, которую назвал молодой человек, спросил его, чей он сын. Юноша отвечал, что его отец — дон Энрике де Карденас, известный в тех краях кавальеро. На это дон Рафаэль сказал, что прекрасно знает дона Энрике де Карденас и ему наверное известно, что у этого кавальеро нет сыновей, но если его собеседник не желает называть своих родителей, он нисколько на него не в обиде и не будет больше задавать ему подобных вопросов.
— Вы правы, — согласился юноша, — у дона Энрике нет сыновей, но они есть у его брата дона Санчо.
— У дона Санчо тоже нет наследников, — ответил дон Рафаэль, — у него есть единственная дочь, о которой говорят, что она — самая прекрасная девушка Андалусии; правда, я знаю это лишь понаслышке, ибо, хотя я и не раз бывал в тех местах, мне никогда не приходилось ее видеть.
— Все, что вы говорите, сеньор, сущая правда, — ответил юноша. — Действительно у дона Санчо есть только единственная дочь, хотя и не такая красавица, как об этом гласит молва; если же я сказал, что я — сын дона Энрике, то сделал это для того, чтобы вы, сеньоры, меня больше уважали. На самом же деле я сын дворецкого, много лет прослужившего у дона Санчо, в доме которого я родился. Вследствие одной неприятности, которая у меня вышла с отцом, я похитил у него изрядную сумму денег и решил отправиться в Италию, как я вам уже говорил, желая посвятить себя военному делу, возвышающему, как я сам видел, людей самого низкого звания.
По мере того как Теодор следил за смыслом и тоном этих речей, он все больше и больше убеждался в правильности своих подозрений. Между тем ужин окончился и скатерти были убраны. Пока дон Рафаэль раздевался, Теодор сообщил ему свою догадку и с его согласия и одобрения уединился с молодым человеком на балкон большого окна, выходившего на улицу; они облокотились о перила, и Теодор начал так:
— Мне хотелось бы, сеньор Франсиско (так назвал себя юноша), оказать вам столько услуг, чтобы вы не могли отказать мне ни в какой просьбе, в чем бы она ни состояла. Короткое время нашего знакомства не представило мне до сих пор этой возможности; быть может, в будущем вы еще оцените это мое искреннее желание; но если бы вы и не захотели исполнить мою просьбу, я все равно останусь по-прежнему вашим слугой, как и сейчас, когда я вам еще этой просьбы не высказал. Заметьте, что хотя я, подобно вам, очень юн, мой жизненный опыт гораздо обширнее, чем можно было бы предположить на основании моих лет; поэтому-то я и дошел до подозрения, что вы — не мужчина, как об этом свидетельствует ваша одежда, а женщина, и притом благородной крови (я сужу по вашей красоте); мало того, вы — женщина несчастная, на что указывает перемена вашего платья, ибо такие перемены никогда не совершаются при счастливых обстоятельствах. Если мои подозрения основательны, скажите мне это. Клянусь честью кавальеро, я буду помогать и служить вам во всем, чем могу! Вы не можете отрицать того, что вы — женщина: об этом свидетельствуют следы серег на ваших ушах; вы поступили опрометчиво, не замазав их розовым воском. Между тем возможно, что кто-нибудь другой, столь же любопытный, но менее порядочный, чем я, разоблачит тайну, которую вы так плохо скрыли. Я говорю все это для того, чтобы вы без всяких колебаний назвали мне свое имя, зная, что я предлагаю вам помощь и обещаю соблюдать полное молчание.
Юноша с большим вниманием выслушал слова Теодора, и когда тот замолчал, он, не проронив ни звука, схватил его руки, поднес их к губам и стал порывисто целовать, орошая их потоками слез, струившихся из его прекрасных очей. Эта сильная скорбь так подействовала на Теодора, что он, в свою очередь, не мог удержаться от слез (благородным женщинам свойственно от природы сочувствовать чужим несчастьям и горестям). Но затем, с трудом отняв руки от губ юноши, Теодор стал внимательно слушать то, что после тяжкого стона и многочисленных вздохов он ему высказал:
— Сеньор, я не могу, да и не хочу отрицать правильности вашей догадки. Я — женщина, и притом самая несчастная из всех, когда-либо родившихся на свет божий. Ваше отношение ко мне и ваше предложение заставляют меня подчиниться вам во всем. Слушайте же, я расскажу вам, кто я такая, если только вам не скучно внимать повести чужих несчастий.
— Пусть я сам буду всегда несчастлив, — заметил Теодор, — если желание мое узнать ваши печали менее сильно, чем огорчение от сознания, что они приключились именно с вами. Я буду сочувствовать им, как своим собственным. — С этими словами он обнял юношу и снова заверил его в своей дружбе, после чего тот несколько успокоился и начал свой рассказ:
— О месте моего рождения я сказала правду, но не сказала правды о своих родителях. Дон Энрике мне не отец, а дядя; мой отец — брат его, дон Санчо, и я — та несчастная дочь, которую, по словам вашего брата, молва называет красавицей. Это неправда: как вы видите, я вовсе не так красива! Имя мое — Леокадия, причину же перемены моей одежды вы сейчас узнаете. В двух милях от моего родного городка находится город, принадлежащий к самым богатым и прославленным в Андалусии. В нем живет знатный кавальеро, ведущий свой род от благородных и древних Адорногенуэзских; у него есть сын, который, несмотря на то, что молва так же чрезмерно превозносит его, как и меня, действительно является красавцем, подобного которому трудно себе представить. Благодаря соседству обоих городов, а также благодаря тому, что юноша этот, как и мой отец, питает пристрастие к охоте, он несколько раз заезжал к нам в дом, где провел пять или шесть суток. Все дни и даже часть ночей он проводил с моим отцом в поле. Этим обстоятельством воспользовалась судьба, любовь и моя неопытность, которой было достаточно, чтобы с высот моих добрых намерений низвести меня до жалкого положения, в котором я сейчас нахожусь. Обратив больше внимания, чем позволительно благоразумной девице, на красоту и ум Марка Антоньо, а также приняв в расчет благородство его происхождения и большое состояние, которым владел его отец, я решила, что, если он станет моим супругом, я достигну такого счастья, какого только могу пожелать. Надумав это, я стала приглядываться к нему и, без сомнения, делала это неосторожно, ибо он заметил мои взгляды. Этого для изменника оказалось достаточно, чтобы проникнуть в тайну моего сердца и похитить лучшие драгоценности моей души. Я сама не знаю, сеньор, зачем я рассказываю вам шаг за шагом все мелочи моей любви, так мало относящиеся к делу, лучше скажу вам сразу, чего он под конец от меня добился, хотя и с великим трудом. Когда он дал мне слово стать моим супругом и подтвердил его высокими, как мне казалось, и ненарушимыми христианскими клятвами, я решила отдаться всецело его воле. Однако, не удовлетворяясь словами и клятвами, которые легко мог унести с собой ветер, я заставила его написать их на бумаге, которую он мне вручил, скрепив своим именем. Все было изложено им подробно и точно. Я взяла записку и объяснила ему, как прийти ночью из его городка в наш и, пробравшись по садовой стене в мою комнату, сорвать без всякой помехи плод, предназначенный для него одного. Наконец наступила долгожданная ночь…
До этой минуты Теодор молчал, с замиранием сердца вслушиваясь в слова Леокадии, из которых каждое пронзало ему душу и в особенности с той поры, когда он услышал имя Марка Антоньо, увидел редкую красоту Леокадии и оценил все ее огромные достоинства и большой ум, который она сумела обнаружить в своем рассказе. Но когда Леокадия произнесла: «Наконец наступила долгожданная ночь», он чуть не потерял терпение и, не будучи в силах удержаться, перебил ее вопросами:
— Ну и что же, когда наступила эта счастливая ночь, что он сделал? Вошел он к вам? Насладились вы им? Подтвердил ли он свою запись? Был счастлив получить от вас то, что, по вашим словам, ему предназначалось? Узнал ли об этом ваш отец? И к чему в конце концов привело такое пристойное и мудрое начало?
— К тому положению, в котором вы меня теперь видите, — сказала Леокадия, — ибо никто из нас не получил наслаждения: он не явился на назначенное свидание!
При этих словах Теодосья вздохнула с облегчением и сразу совладала со своими чувствами, которые чуть было не изменили ей под влиянием душившей ее бешеной ревности, которая чем дальше, тем сильнее пронизывала ее вплоть до костей и совсем лишала терпения. Все же она не могла хладнокровно слушать продолжение рассказа Леокадии.
— Мало того, что он не явился, но через неделю после этого я узнала из достоверного источника, что он скрылся из родного города, похитив из родительского дома дочь уважаемого кавальеро, по имени Теодосья, девушку необычайной красоты и редкого ума. Ввиду ее благородного происхождения история этого похищения стала известна у нас в городке и вскоре дошла до меня. Страшное, холодное жало ревности пронзило мое сердце и зажгло душу таким пожаром, что в нем испепелилась моя честь, сгорело мое доброе имя, иссохло терпение и погибло благоразумие. О, я несчастная! Я мысленно представляла себе Теодосью прекраснее солнца и разумнее самого разума, а главное — более счастливой, чем я, обездоленная! Я перечла слова его записки, увидела, что они ненарушимы и тверды и не противоречат чувствам, о которых они говорят. Но хотя моя надежда и ухватилась за них как за последнее средство к спасению, она тотчас же рушилась при мысли о коварной спутнице, сопровождавшей Маржа Антоньо. Я царапала себе лицо, рвала волосы, проклинала судьбу, и всего тяжелее была для меня невозможность делать это постоянно, вследствие присутствия моего отца. Наконец, чтобы иметь возможность беспрепятственно скорбеть или, вернее, окончить свое существование, я решила покинуть родительский дом. Обстоятельства всегда помогают и удаляют всякие препятствия, когда дело идет об осуществлении дурных намерений: я без всякого страха похитила одежду одного из слут и выкрала у отца большое количество денег. Однажды ночью, под прикрытием темноты, я вышла из дому и прошла пешком несколько миль, пока не добралась до селения, именуемого Осуна, откуда, устроившись на телеге, я через два дня добралась до Севильи. Там я была в некоторой безопасности и не боялась, что меня откроют, хотя бы даже стали разыскивать. В Севилье, купив себе другое платье и мула, я повстречалась с несколькими кавальеро, торопившимися в Барселону, чтобы не пропустить случая сесть на галеры, отправляющиеся в Италию. Мы путешествовали до вчерашнего дня, когда приключилась встреча с разбойниками, о которой вы уже знаете. Они отобрали все, что у меня было, в том числе и драгоценность, поддерживавшую во мне жизнь и облегчавшую бремя моих невзгод — записку Марка Антоньо. Я рассчитывала приехать в Италию, разыскать его, предъявить ему бумагу, уличающую его в вероломстве, и своим присутствием дать ему доказательство своей верности. Таким путем я предполагала принудить его исполнить данное обещание. Тем не менее мне приходило в голову, что он с легкостью сможет отказаться от слов, стоявших в записке, раз он мог отказаться от обязательств, которые должны были запечатлеться в его душе: ведь ясно, что, находясь в обществе несравненной Теодосьи, он не захочет и смотреть на несчастную Леокадию! Но, несмотря на это, я решила умереть, но увидеть их обоих для того, чтобы, по крайней мере, мой вид их смутил и встревожил. Пусть она, нарушительница моего покоя, не надеется безнаказанно насладиться тем, что принадлежит мне по праву. Я буду ее искать, и найду ее, и убью, если только сумею.
— Но чем же провинилась пред вами Теодосья, сеньора Леокадия? — спросил Теодор. — Возможно ведь, что она, подобно вам, была тоже обманута Марком Антоньо?
— Разве это возможно? — возразила Леокадия. — Ведь он взял ее с собой, а когда любящие находятся вместе, какой тут возможен обман? Разумеется, никакого! Они счастливы, так как они вместе, хотя бы они были в далеких и знойных пустынях Ливии или среди пустынных скифских льдов. Нет сомнения, где бы они ни были, она упивается им, и она одна заплатит мне за все, что я выстрадаю, прежде чем их разыщу.
— Быть может, вы все-таки ошибаетесь, — возразила Теодосья. — Я хорошо знаю ту, кого вы называете своим врагом, и знаю, что при ее характере и скромности она ни за что не посмела бы бросить родительский дом и послушаться Марка Антоньо; наконец, если бы даже она это и сделала, не имея представления о вас и не зная ничего о случившемся между вами, она вас этим нисколько не обидела бы, а где нет обиды, там неуместно и мщение.
— Что касается ее скромности, — отвечала Леокадия, — то об этом не стоит упоминать, ибо трудно было бы найти девицу скромнее меня, а несмотря на это, я сделала все, о чем вы только что слышали. В том, что он ее похитил, нет никакого сомнения, а в том, что она меня ничем не оскорбила, я, взглянув на дело спокойнее, сама готова сознаться. Но мучения, причиняемые мне ревностью, заставляют меня видеть в Теодосье шпагу, пронзающую мое сердце.
Не удивительно, что я хочу извлечь эту шпагу и разломать ее на части, раз она причиняет мне такое страдание. Разве благоразумие не подсказывает нам удалять от себя то, что приносит нам вред, и разве так уж неестественно ненавидеть людей, делающих нам зло или лишающих нас блага?
— Пусть будет по-вашему, сеньора Леокадия, — ответила Теодосья, — я вижу, что ваша страсть не дает вам возможности рассуждать более правильно, и к тому же вы теперь не в состоянии выслушивать благие советы. Что касается меня, то я могу лишь подтвердить сказанное мною прежде: я буду помогать и покровительствовать вам в делах чести по мере своих сил; то же самое я могу вам обещать и за брата, природный характер и благородное происхождение которого не позволят ему поступить иначе. Путь наш лежит в Италию. Если хотите, поедем вместе: вы могли уже немного привыкнуть к нашему обществу. Я попрошу у вас, впрочем, позволения сообщить брату все данные, касающиеся вас, дабы он мог обращаться с вами с должной учтивостью и почтением и заботиться о вас так, как следует заботиться о женщине. Вместе с тем мне кажется, что вам незачем менять свое платье. Если в этом городе найдется подходящая одежда, я утром куплю для вас самую лучшую, какая мне попадется и какая вам понравится. Что же до прочих ваших намерений, то предоставьте действовать времени, великому мастеру находить и давать помощь в самых безнадежных делах.
Леокадия поблагодарила Теодосью, которую она считала Теодором, за ее предупредительность и разрешила ей рассказать брату все, что она найдет нужным, попросив его сохранить тайну, так как ему самому должно быть ясным, какой опасности она подвергается, если в ней узнают женщину.
На этом они расстались и отправились спать, Теодосья — в комнату брата, а Леокадия — в другую, находившуюся рядом. Доя Рафаэль в ожидании сестры еще не засыпал, горя желанием узнать, чем окончилось ее объяснение с юношей, которого она принимала за женщину. Когда она вернулась, он задал ей этот вопрос, прежде чем она улеглась, и Теодосья подробно пересказала ему все, что ей сообщила Леокадия: кто она такая, как она полюбила, какую записку оставил Марк Антоньо и каковы ее планы. Дон Рафаэль удивился и сказал:
— Если она действительно та, за кого себя выдает, она является не только самой знатной сеньорой своего города, но и всей Андалусии. Ее отец отлично знаком с нашим, и слава о ее красоте вполне соответствует тому, что мы сами видим. Поэтому мне думается, что нам следует действовать с осторожностью и не позволить ей увидеть Марка Антоньо прежде нас, ибо меня несколько беспокоит данная им записка, хотя она ее и потеряла. Теперь же, сестра, ложитесь и спите, — мы отыщем средство для того, чтобы уладить дело.
Теодосья послушалась брата и легла, но была не в силах заснуть. Ее душой успела овладеть бешеная горячка ревности. О, как она преувеличивала в своем воображении красоту Леокадии и бесчестность Марка Антоньо; сколько раз она мысленно читала записку, которую он дал; сколько прибавляла к ней слов и доводов, делавших ее еще более достоверной, еще более действительной. Сколько раз она отказывалась верить, что Леокадия ее потеряла, и сколько раз она убеждала себя, что и без записки Марк Антоньо не откажется от обещания, данного девушке, позабыв обо всем, что его связывало с Теодосьей.
В этих мыслях она провела всю ночь, не смыкая глаз. Так же плохо провел ночь и брат ее, дон Рафаэль. Когда он услышал, кто такая Леокадия, сердце его зажглось такой сильной любовью, как будто этот огонь пылал а нем уже давно. Ибо такова уж сила красоты; сразу, в один миг она пробуждает желание того, кто на нее смотрит, а когда взору открывается возможность ее достигнуть и насладиться ею, она так же легко зажигает душу созерцающего, как небольшая искра — сухой рассыпанный порох. Не привязанной к дереву, не в рваном мужском костюме представлял он себе Леокадию, а в приличествующей ей женской одежде, в доме родителей, людей богатых и весьма знатного происхождения. Его мысль не останавливалась, да и не хотела останавливаться на причине, позволившей ему с ней познакомиться. Он с нетерпением ждал наступления дня, чтобы пуститься в путь и разыскать Марка Антоньо не столько для того, чтобы с ним породниться, сколько для того, чтобы помешать ему стать мужем Леокадии. Любовь и ревность овладели им с такой силой, что он готов был согласиться на неудачу в деле сестры и на смерть Марка Антоньо, лишь бы у него осталась надежда получить Леокадию. Надежда эта обещала ему успешное удовлетворение своей страсти либо путем насилия, либо путем ухаживания и примерного поведения, так как случай и время предоставляли возможность и для первого и для второго.
Убеждая таким образом себя самого, он немного успокоился. Вскоре наступило утро, и все покинули постели. Позвав хозяина, доя Рафаэль спросил его, можно ли найти в этой деревне одежду для слуги, которого разбойники раздели донага. Хозяин ответил, что у него как раз есть для продажи подходящее платье. Он принес его, и оно оказалось впору Леокадии. Дон Рафаэль расплатился, а девушка тотчас же переоделась и опоясала себя шпагой и кинжалом с такой ловкостью, что еще более покорила душу дона Рафаэля и разбередила ревность Теодосьи. Кальвете оседлал мулов, и в восемь часов утра они выехали по направлению к Барселоне, не заехав в знаменитый монастырь Монсеррат, осмотр которого отложили на то время, когда богу будет угодно даровать им счастливое возвращение на родину.
Трудно передать мысли, занимавшие брата и сестру, или описать противоречивые чувства, с какими они глядели на Леокадию: Теодосья желала ей гибели, дон Рафаэль — жизни, и оба они пылали страстью и ревностью. Теодосья искала в ней недостатков, чтобы не губить своих надежд; дон Рафаэль, напротив, находил в ней все новые совершенства, все более и более понуждавшие его любить ее. Вместе с тем оба не забывали о необходимости спешить, благодаря чему они добрались до Барселоны еще до заката. Красивое расположение города привело их в восхищение, и они пришли к заключению, что Барселона — цветок среди прекраснейших городов мира, гордость Испании, страх и гроза для ближних и дальних врагов, утеха и радость ее жителей, убежище для иностранцев, школа рыцарства и образец верноподданничества. Барселона удовлетворяет всему, чего может желать от большого, знаменитого, богатого и хорошо расположенного города умный и понимающий человек. Войдя в город, они услышали страшный шум и увидели бегущие толпы народа. На вопрос о причине этого шума и оживления им ответили, что люди со стоящих у берега галер затеяли потасовку и драку с горожанами. Услышав это, дон Рафаэль захотел пойти посмотреть, в чем дело, хотя Кальвете советовал ему не делать этого, так как подвергать себя очевидной опасности — неразумно, а ему было отлично известно, как печально кончали люди, вмешивавшиеся в подобного рода перепалки, часто происходящие в городе, когда туда прибывают галеры. Доброго совета Кальвете оказалось недостаточно, чтобы отговорить дона Рафаэля от прогулки, а потому все последовали за ним. Подойдя к берегу, они увидели множество обнаженных шпаг и толпу людей, яростно нападавших друг на друга. Не слезая с мулов, они подъехали настолько близко, что отчетливо видели лица сражавшихся, тем более, что солнце еще не успело зайти. Из города прибывали все новые толпы народа, и множество людей спускалось на берег с галер, хотя начальник флотилии, валенсийский кавальеро дон Педро Вике, грозил с кормы капитанской галеры всем, кто садился в шлюпки, собираясь ехать на подмогу своим. Увидев, что крики и угрозы бесполезны, он велел повернуть галеры носом к городу и дать холостой залп в знак того, что, если драка не прекратится, следующие выстрелы будут настоящие.
Между тем дон Рафаэль, внимательно всматриваясь в жестокое побоище, заметил, что со стороны моряков среди наиболее отличившихся бойцов особенно смело вел себя юноша лет двадцати с небольшим, одетый в зеленое платье, с шляпой такого же цвета, украшенной богатым убором, по-видимому, из бриллиантов. Отвага, с которой он сражался, и великолепие его костюма заставили всех смотревших на драку обращать на него внимание; на него все время глядели Теодосья и Леокадия. И вдруг обе девушки в одну и ту же минуту воскликнули:
— О боже!.. Или у меня нет глаз, или человек в зеленом — Марк Антоньо!
С этими словами они проворно спрыгнули с мулов, выхватив кинжалы и шпаги, бесстрашно вмешались в середину толпы и стали по обе стороны Марка Антоньо (юноша в зеленом, о котором шла речь, был действительно Марк Антоньо).
— Не бойтесь, сеньор Марк Антоньо, — сказала Леокадия, приблизившись, — рядом с вами находится человек, который собственной жизнью защитит вас от опасности.
— Кто в этом может сомневаться? — возразила Теодосья, — ведь здесь нахожусь я.
Дон Рафаэль, видевший и слышавший все, что происходило, последовал за ними и тоже стал рядом. Марк Антоньо, занятый нападением и защитой, не обратил внимания на слова обеих девушек. В пылу схватки он совершал невероятные дела. Но так как толпа горожан росла с минуты на минуту, людям с галер пришлось податься назад и войти в воду. Марк Антоньо отступал с неохотой, а вместе с ними отходили стоявшие у него по бокам отважные воительницы, новые Брадаманта и Марфиза или Ипполита и Пентесилея[139]. В это время подъехал на могучем коне один каталанский кавальеро, из знаменитого рода Кардона и, поместившись между обеими сторонами, заставил горожан отойти. Последние, узнав его, из уважения к нему стали отступать. Некоторые, однако, продолжали еще бросать издали камни в тех, кто находился в воде, и, по несчастью, один из камней с такой силой ударил Марка Антоньо в висок, что он упал в воду, доходившую в этом месте до колен. Едва Леокадия заметила, что он падает, как в ту же минуту обхватила его руками и поддержала; то же самое сделала и Теодосья.
Дон Рафаэль находился в стороне, защищаясь от бесчисленных камней, сыпавшихся на него градом; но когда он захотел прийти на помощь своей даме, сестре и зятю, каталанец преградил ему путь и сказал:
— Успокойтесь, сеньор! Во имя уважения к опытному солдату, сделайте милость, станьте около меня! Я освобожу вас от дерзости и бесчинства этой сорвавшейся с цепи толпы.
— Ах, сеньор, — воскликнул дон Рафаэль, — позвольте мне пройти, потому что я вижу в великой опасности людей, которые мне всего дороже на свете!
Кавальеро пропустил его, но прежде чем дон Рафаэль успел подойти, шлюпка с капитанской галеры подобрала Марка Антоньо и Леокадию, не выпускавшую его из своих объятий. Теодосья же, которая тоже хотела сесть в лодку вместе с ними, вследствие ли утомления и горя, что на ее глазах ранили Марка Антоньо, или оттого, что он удалился с ненавистной для нее женщиной, не нашла в себе силы войти в шлюпку и, несомненно, без чувств повалилась бы в воду, если бы брат не подоспел вовремя, чтобы ее поддержать. В свою очередь, он был огорчен не менее сестры, увидав, как Марк Антоньо, которого он тоже узнал, уплыл вместе с Леокадией.
Каталанец, которому понравилась изящная внешность дона Рафаэля и его сестры (принятой им за мужчину), позвал их с берега и предложил отправиться вместе с ним. Понуждаемые необходимостью, опасаясь, как бы толпа, все еще не успокоившаяся, не причинила им какого-нибудь вреда, они должны были принять его предложение. Кавальеро соскочил с коня и, обнажив меч, пошел рядом с ними через взволнованную толпу, прося всех посторониться. Все исполнили его просьбу.
Дон Рафаэль смотрел во все стороны, стараясь увидеть Кальвете и мулов, но это ему не удалось, так как тот, едва они спешились, отвел всех животных в гостиницы, где ему прежде приходилось останавливаться. Кавальеро дошел до своего дома, одного из самых больших в городе, и спросил дона Рафаэля, на какой галере он находится. Тот ответил, что ни на какой, так как только что приехал в город и попал к самому началу схватки. Узнав в толпе дравшихся того кавальеро, которого потом увезли раненым в шлюпке, он добровольно подверг себя явной опасности. Он попросил кавальеро дать распоряжение о доставке раненого обратно на сушу, так как от этого зависит счастье всей его жизни.
— Это я охотно исполню, — сказал кавальеро, — я уверен, что начальник флота выдаст мне его, ибо он благородный кавальеро и мой родственник.
В ту же минуту он отправился на галеру. Марка Антоньо в это время перевязывали; рана, находившаяся на левом виске, была опасной, поэтому каталанец уговорил начальника передать ему раненого, чтобы продолжить лечение на суше; осторожно спустив его в шлюпку, он повез его в сопровождении Леокадии, не покидавшей его и следовавшей за ним, как за компасом своей надежды. Когда они прибыли к берегу, кавальеро велел доставить из дому ручной возок, на котором перенесли Марка Антоньо. Пока все это происходило, дон Рафаэль послал разыскивать Кальвете. Последний находился в гостинице и беспокоился о судьбе своих хозяев, а когда узнал, что они живы и здоровы, чрезвычайно обрадовался и направился туда, где находился дон Рафаэль.
Между тем прибыли хозяин дома, Марк Антоньо и Леокадия. Хозяин устроил всех у себя с радушием и великолепием. Он приказал немедленно вызвать лучшего лекаря в городе к Марку Антоньо; тот пришел, но решил не беспокоить его до следующего дня, объяснив, что войсковые и флотские лекари очень опытны, имея на руках постоянно много раненых, а потому не следует делать новой перевязки до завтра. Он велел только поместить больного в тихую комнату и дать ему отдохнуть. В этот момент прибыл лекарь с галеры, сообщивший городскому врачу о ране и о том, как он ее перевязал, и об опасности, угрожавшей жизни больного. Таким образом городской лекарь убедился, что перевязка была сделана правильно, но на основании полученных сведений он преувеличил опасность положения Марка Антоньо.
Леокадия и Теодосья выслушали это известие с таким огорчением, как будто они услыхали свой смертный приговор, но, не желая выказывать своего горя, сдержались и промолчали. Леокадия решила сделать то, что ей казалось необходимым для восстановления своей чести, а потому, когда врачи удалились, прошла в комнату Марка Антоньо и в присутствии хозяина дома, дона Рафаэля, Теодосьи и других лиц приблизилась к изголовью раненого, взяла его за руку и обратилась к нему с такими словами:
— Теперь не время, сеньор Марк Антоньо, долго с вами говорить. Мне хотелось бы поэтому, чтобы вы выслушали несколько слов, которые, если и не помогут вашему телесному здоровью, все же послужат делу спасения вашей души. Но еще прежде мне следует узнать, даете ли вы мне разрешение их высказать и угодно ли вам меня слушать; было бы неразумно, если бы поведение мое, с первого же дня нашей встречи направленное к тому, чтобы вам угодить, огорчило вас в эту минуту, которую я считаю последней.
При этих словах Марк Антоньо открыл глаза, и пристальный взор его остановился на Леокадии. Почти узнав ее больше по звуку голоса, чем по виду, он сказал тихим, страдающим голосом:
— Говорите, сеньор, все, что угодно. Я не так уже плох, чтобы не быть в состоянии следить за вашею речью, а голос ваш не настолько мне неприятен, чтобы мне было тягостно его слушать.
Теодосья внимательно прислушивалась к разговору, и каждое слово Леокадии острой стрелой пронзало ее сердце; то же испытывал и дон Рафаэль. Леокадия продолжала:
— Если удар в голову, ранивший мою душу, не удалил из вашей памяти, сеньор Марк Антоньо, образ той, которую не так давно вы называли своим блаженством и своим небом, вы должны хорошо помнить Леокадию и данное ей вами обещание, скрепленное бумагой, писанной вашей рукой. Вряд ли также вы забыли про знатность ее родителей, и про ее добродетель и скромность, и про свои обязательства по отношению к ней, выросшие из того, что она во всем удовлетворяла ваши желания. Если вы этого еще не забыли, вам будет нетрудно узнать во мне Леокадию, хотя вы и видите меня в столь странном наряде. Опасаясь, как бы новые случайности и новые опасности не лишили меня того, что принадлежит мне по праву, я, едва узнав, что вы уехали из своего родного города, преодолела бесчисленные препятствия и решила следовать за вами в этом платье, чтобы искать вас по всем странам света, пока не найду. Если вы когда-нибудь слышали о том, как велика сила истинной любви и ярость обманутой женщины, вас это не должно удивлять. В своих поисках мне пришлось перенести немало невзгод, но я почитаю их приятным отдыхом после того, как они дали мне возможность вас увидеть. Сейчас вы находитесь в таком положении, что богу, быть может, будет угодно отозвать вас из этой жизни для лучшей. Если вы перед этим исполните свой долг, я буду считать себя более чем счастливой и даю вам обещание вести после вашей смерти такой образ жизни, который через короткое время заставит меня последовать за вами в это последнее и неизбежное странствие. Поэтому во имя бога, к которому возносятся теперь все мои помыслы и желания, ради вас самих, потому что вы обязаны не изменять своему доброму имени, и, наконец, ради меня, которой вы обязаны больше, чем кому-либо другому, я прошу вас признать меня здесь немедленно своей законной женой, дабы не принуждать судебные власти делать то, к чему по целому ряду оснований призывает вас разум.
Больше Леокадия не сказала ни слова. Все присутствовавшие в комнате хранили во время ее речи гробовое молчание и в молчании же ожидали ответа Марка Антоньо, который сказал следующее:
— Я не могу отрицать, сеньора, что я вас знаю, так как ни ваше лицо, ни ваш голос не дают мне возможности этого сделать. Еще менее я могу отрицать свои обязательства перед вами, высокий род вашей семьи и вашу несравненную добродетель. Я не думаю и не буду думать о вас худо за то, что вы совершили, отправившись разыскивать меня в столь неподходящем для вас платье. Напротив, я уважаю вас за это и всегда буду уважать высоко. Злая судьба послала мне испытание, которое, я думаю, окажется последним в моей жизни, как вы это и высказали. В такие минуты обыкновенно выясняется правда, а потому я сделаю вам одно признание. Быть может, сейчас оно вам и не понравится, но впоследствии окажется все же полезным. Я не отрицаю, прекрасная Леокадия, что любил вас и что вы мне отвечали взаимностью, но вместе с тем я должен сказать, что данная мною записка имела в виду скорее исполнение вашего желания, чем моего, потому что за много дней до того, как я ее подписал, я связал свое чувство и душу обязательством по отношению к одной девушке из нашего города, которую вы, конечно, знаете и которую зовут Теодосьей. Она дочь столь же благородных родителей, как и ваши. Если вам я выдал письменное обещание, скрепленное моей рукой, то ей я отдал свою руку, подтвердив и заверив это такими поступками и свидетелями, что я больше уже не вправе отдавать свою свободу кому бы то ни было. Моя любовь к вам была не более как мимолетным чувством, и я получил от нее те цветы, которые вас не опорочили да и не могли опорочить ни в чем, а между тем, ухаживая за Теодосьей, я получил и сорвал плод, который она могла мне дать и который я пожелал взять не иначе, как под твердую и верную поруку, пообещав стать ее супругом, каким я являюсь. И если я в одно и то же время покинул вас обеих: вас растерянной и обманутой, а ее испуганной и как бы опозоренной, то сделал я это по неразумию и молодости лет, полагая, что все это пустяки и что я могу поступить так, нисколько не погрешая перед совестью. Наряду с другими мыслями, мелькавшими тогда у меня и увлекавшими меня на разные предприятия, мне пришло в голову отправиться в Италию и провести там несколько лет своей юности, а затем вернуться и посмотреть, как благоугодно было богу распорядиться вами и моей истинной супругой. Но небо, как я полагаю, сжалившись надо мною, устроило так, что я оказался в положении, в каком вы меня сейчас видите, для того, чтобы, покаявшись в поступках, вызванных великим моим беззаконием, я заплатил свои долги еще в этой жизни и чтобы вы таким образом, наконец, прозрели и могли поступить так, как вы найдете лучше. Если же когда-нибудь Теодосье станет известно, как я умирал, она узнает от вас и всех здесь присутствующих, что перед смертью я исполнил обещание, данное ей при жизни. Если же в короткий промежуток времени, который мне осталось жить, я могу еще, сеньора Леокадия, чем-нибудь послужить вам, скажите мне это, ибо как только речь будет идти не о браке с вами, что совершенно для меня невозможно, — нет такой вещи, которой бы я не сделал, чтобы доставить вам радость.
Во время этой речи Марк Антоньо опирался головой о локоть, но при последних словах рука его упала, и это было явным признаком обморока. Дон Рафаэль тотчас же бросился к нему, крепко обнял его и сказал:
— Придите в себя, сеньор, и обнимите вашего друга и брата, раз вы согласны им стать. Узнайте дона Рафаэля, вашего товарища, который будет верным свидетелем вашей воли и той милости, которую вы хотите оказать его сестре, называя ее своею.
Марк Антоньо пришел в себя и, узнав дона Рафаэля, крепко его обнял, поцеловал и сказал:
— Я готов думать, уважаемый брат мой, что великая радость, испытанная мною от встречи с вами, должна повлечь за собой великое горе, ибо вслед за удовольствием, говорят, всегда приходит печаль. Но какое бы горе со мной ни случилось, я буду его приветствовать, так как я имел счастье вас снова увидеть.
— Пусть же это счастье станет еще полнее, — ответил дон Рафаэль, — я приведу к вам ваше сокровище, вашу любимую супругу.
Он стал искать Теодосью и увидел, что она рыдает, прячась за спинами находившихся тут людей, растерянная, потрясенная, не зная, горевать ли ей или радоваться от всего, что она видит и слышит. Брат взял ее за руку, и она сразу позволила подвести себя к Марку Антоньо, который узнал ее и обнял. От нежности и любви оба заплакали. Присутствующие были очень изумлены таким необыкновенным событием и в молчании глядели друг на друга, выжидая, чем все это кончится.
Несчастная, жестоко разочарованная Леокадия, собственными глазами увидевшая, как ведет себя Марк Антоньо и как обнимает он ту, кого она считала братом дона Рафаэля, убедившись, что ее любовь и ее надежды осмеяны, скрылась от посторонних взглядов (а все теперь внимательно следили за тем, что делает больной и обнимающий его паж), покинула комнату, сейчас же вышла на улицу и с отчаяния вознамерилась было брести куда глаза глядят, лишь бы только никого не видеть, Но едва она очутилась на улице, как дон Рафаэль заметил ее отсутствие и, точно потерянный, начал всех расспрашивать, но никто, однако, не мог сказать, куда она ушла. Ни минуты не медля, он в отчаянии бросился на поиски и добрался до двора (где, как ему рассказывали, остановился Кальвете), желая выяснить, не отправилась ли она туда нанимать мула в дорогу, Не найдя ее там, он, как безумный, побежал по улицам, разыскивая ее повсюду. Решив, что она могла направиться к галерам, он пошел к берегу. Не доходя до него, он услышал, что с берега кто-то громко кричит шлюпку с капитанской галеры, и узнал в незнакомце прекрасную Леокадию. Почуяв сзади шаги и испугавшись, не грабители ли это, девушка схватилась за шпагу и стала поджидать приближения дона Рафаэля. Она тотчас же его узнала и огорчилась, что встретилась с ним да еще в таком уединенном месте. Уже давно, по целому ряду признаков, она поняла, что дон Рафаэль к ней не только неравнодушен, но любит ее с такой силой, какую она безусловно одобрила бы в любви Марка Антоньо.
Трудно передать те слова, которые произнес дон Рафаэль Леокадии, обнажая перед ней свою душу: их было столько и так они были значительны, что у меня не хватит смелости их повторить, однако необходимо привести хотя бы некоторые. Между прочим, он ей сказал:
— Если бы вместе со счастьем, которого я лишен, о прекрасная Леокадия, я лишился и мужества, необходимого для того, чтобы раскрыть вам тайны моей души, я похоронил бы в глубине вечного забвения самое нежное и чистое чувство, какое когда-либо зарождалось или могло зародиться во влюбленном сердце. Но я не хочу наносить подобное оскорбление своей непорочной страсти, а потому, что бы меня впредь ни ожидало, я попрошу вас, сеньора, заметить (если охватившее вас смятение позволит вам это сделать), что ни в каком отношении не может Марк Антоньо взять надо мной верх, кроме разве одного: он имеет счастье быть вами любимым. Род мой так же знаменит, как его собственный, богатством я тоже очень мяло ему уступаю; что касается природных данных, мне не подобает заниматься самовосхвалением, тем более, что в ваших глазах они не являются ценностью. О покоренная страстью красавица! Я говорю вам все это для того, чтобы вы использовали средство и случай, посланные вам судьбой в минуту, когда ваши несчастья достигли своего предела. Вы видите, что Марк Антоньо не может вам принадлежать, ибо небо отдало его моей сестре, но небо, разлучившее вас сегодня с Марком Антоньо, хочет дать вам в моем лице возмещение, а для меня нет высшего счастья на свете, как сделаться вашим супругом. Вы видите, что удача стучится в двери горя, которое вас до сих пор преследовало. И знайте, что предосудительная смелость, увлекшая вас на поиски Марка Антоньо, отнюдь не помешает мне совершенно так же ценить и уважать вас, как если бы она ни в чем не проявилась, ибо в этот самый час, когда я сделаю вас своей ровней и изберу вас своей повелительницей, я позабуду — да и теперь уже успел позабыть — все, что я про вас знал и видел. Мне хорошо известно, что те самые силы, которые толкнули меня так внезапно и безудержно полюбить и приложить все старания к тому, чтобы стать вашим супругом, довели вас до положения, в котором вы сейчас находитесь, а потому там, где не было никакой вины, нет надобности подыскивать оправдания.
Молча слушала Леокадия все, что говорил ей дон Рафаэль, и лишь время от времени испускала глубокие вздохи, которые подымались, казалось, из самой глубины ее существа. Дон Рафаэль осмелился взять ее руку, которую она не нашла в себе силы отнять, и, покрывая ее частыми поцелуями, продолжал:
— О госпожа души моей, сделайтесь, сделайтесь неограниченной моей владычицей перед лицом осеняющего нас звездного неба, этого спокойного моря, которое нас слушает, и омываемого морем песка, на котором мы стоим. Скажите мне ваше «да», и это «да» одинаково восстановит и вашу честь и мою радость. Я снова повторяю, что я — богатый кавальеро и что я люблю вас, а это — самое главное. Я нашел вас одинокой, в платье, совсем не согласующемся с требованиями чести, вдали от родительского крова и родственников, не имеющей человека, способного прийти вам на помощь в нужную минуту, отчаявшейся добиться осуществления своего желания, а ныне я даю вам возможность вернуться на родину в собственном приличном и подобающем вам платье, в сопровождении такого же молодого мужа, какого вы сами себе прежде наметили, богатой, довольной, уважаемой, окруженной вниманием и похвалами, которые воздадут вам люди, узнав о всех этих событиях. Если все обстоит так, как сказано, я не понимаю, как вы можете еще колебаться? Говорю вам снова, извлеките меня из юдоли моих страданий и вознесите до небес собственного достоинства. Этим вы сделаете добро себе самой и вместе с тем исполните закон учтивости и здравого смысла, оказавшись в одно и то же время признательной и рассудительной.
— В таком случае, — ответила все время колебавшаяся Леокадия, — если такова воля неба, а мне, как и всякой смертной, не под силу восставать против его решений, пусть исполнится то, чего оно требует и чего добиваетесь вы сами; одно небо знает, с какой робостью решаюсь я откликнуться на вашу просьбу, и не потому, чтобы я боялась проиграть от союза с вами, а потому, что мне страшно (хотя я много выигрываю, давая согласие), как бы после исполнения вашего желания вы не стали смотреть на меня другими глазами, — ибо до сих пор глаза ваши вас, пожалуй, обманывали. Но будь, что будет! Имени законной супруги дона Рафаэля де Вильявисенсьо я во всяком случае не потеряю, а с ним я всю свою жизнь смогу прожить счастливо. Если же добрые нравы, которые вы обнаружите во мне после того, как я стану вашей женой, заставят вас меня сколько-нибудь уважать, я возблагодарю небо за то, что такими необычайными путями, через великие несчастья оно привело меня к радости и сделало вашей. Сеньор дон Рафаэль, дайте мне руку в том, что отныне вы — мой, и вот вам моя рука в знак того же самого, а свидетелями нам пусть будет это небо, это море, этот берег и это молчание, нарушаемое одними моими вздохами и вашими мольбами.
С этими словами она позволила ему себя обнять и протянула ему руку, а дон Рафаэль ей подал свою, и невиданное еще доселе ночное обручение было освящено слезами, которыми счастье, несмотря на недавние печали, не замедлило увлажнить их глаза. Потом они вернулись вдвоем в дом кавальеро, беспокоившегося об их отсутствии не меньше Теодосьи и Марка Антоньо, которых священник уже успел повенчать; дело в том, что по настоянию Теодосьи (опасавшейся, как бы несчастный случай не лишил ее обретенного ею благополучия) кавальеро сейчас же послал за духовным лицом, а когда с появлением, дона Рафаэля и Леокадии разнеслась весть о новой помолвке, радушный хозяин в такой мере поддержал общее ликование, как если бы они приходились ему близкими родственниками: ибо таков уже прирожденный характер каталанской знати, что она умеет быть другом и оказать поддержку приезжему, которому что-нибудь нужно. Присутствовавший здесь священник велел Леокадии переменить платье и снова одеться женщиной. Кавальеро и тут пришел им на помощь и предложил обеим девушкам богатые платья своей жены, знатной сеньоры из рода Гранольекес, очень древнего и знаменитого у них в королевстве. Он сообщил лекарю, который сердечно сочувствовал больному, что тот много разговаривает и не остается один. Лекарь явился и приказал (как он и распорядился сначала) предоставить Марку Антоньо полную тишину, но господь (когда он захочет совершить на наших глазах чудо, он прибегает к средствам, недоступным самой природе) устроил так, что радость и шум, окружавшие Марка Антоньо, способствовали его выздоровлению, и когда на следующий день делали перевязку, он был уже вне опасности, а через две недели он встал совсем здоровым и мог без всякого риска отправиться в путь.
Надо заметить, что, находясь еще в постели, Марк Антоньо дал обет в случае выздоровления совершить пешком паломничество в Сант Яго, что в Галисии. К его обету присоединились дон Рафаэль, Леокадия, Теодосья и даже Кальвете, погонщик мулов (довольно редкое явление среди людей его ремесла). Доброта и обходительность побудила Кальвете не расставаться с доном Рафаэлем до его возвращения на родину! Узнав, что им как паломникам придется идти пешком, он отправил своих мулов и мула дона Рафаэля в Саламанку, благо к тому представился удобный случай.
Наступил, наконец, день отъезда. Справив себе одеяние и все необходимое для дороги, они простились с щедрым кавальеро, который так хорошо им помогал и так хорошо их чествовал; звали его дон Санчо де Кардона, и он не только происходил из прославленного рода, но и лично был очень знаменит. Путники наши дали слово, что и сами они и их потомки (которым это будет завещано) навсегда сохранят память об оказанных им исключительных милостях и отблагодарят за них в своем сердце, если не удастся за дело отплатить делом. Дон Санчо обнял их всех и сказал, что по естественному влечению он всегда делает добро всем кастильским идальго, известным ему лично или понаслышке. Они обнялись еще два раза, а затем с радостью, к которой примешивалось грустное чувство, расстались. Путешествуя с предосторожностями, каких требовали слабые силы двух новых паломниц, они через три дня прибыли в Монсеррат. Оставшись там несколько дней и совершив все, что полагается делать добрым христианам-католикам, они, не торопясь, пустились снова в путь и без всяких несчастий и неприятностей прибыли в Сант Яго. Исполнив свой обет с величайшим благочестием, они решили не снимать паломнических одежд до возвращения в родные места, к которым они постепенно приближались, бодрые и радостные. Еще до прибытия домой, оказавшись в виду городка Леокадии (который, как было сказано, находился в одной миле расстояния от селения Теодосьи), они, заметив оба места с вершины холма, прослезились от радости снова их увидеть; во всяком случае заплакали обе новобрачные, так как картина эта обновила в их памяти недавние события.
С холма, на котором они стояли, виднелась широкая долина, разделявшая оба селения, и там, под тенью оливы, они увидели статного кавальеро на могучем коне с белоснежным щитом на левой руке и толстым, длинным копьем в правой. Всмотревшись внимательно, они увидели, что из-за оливковой рощицы показались еще два кавальеро в таком же точно вооружении и такой же точно красивой осанки. Вскоре все трое сблизились и, проведя некоторое время вместе, снова разъехались, причем один из прибывших во вторую очередь кавальеро удалился вместе с тем, который с самого начала был под оливой. Пришпорив коней, они бросились друг на друга, явно показывая, что они — смертельные враги. Они осыпали друг друга ловкими и смелыми ударами копий и отражали их с таким искусством, что сразу была видна их опытность в этом деле.
Третий наблюдал за происходившим и не двигался с места. Дону Рафаэлю стало невтерпеж следить с большого расстояния за странным и ожесточенным поединком, и он поспешно спустился с пригорка; следом за ним пошла его сестра и его супруга. Очень скоро они оказались около обоих сражающихся и как раз в ту самую минуту, когда оба кавальеро были слегка ранены. У одного из них упала шляпа, а вместе с нею стальной шлем. Когда кавальеро повернулся к ним лицом, дон Рафаэль узнал, что это — его отец; в его враге Марк Антоньо признал своего родителя; Леокадия, внимательно глядевшая на кавальеро, не принимавшего участия бое, обнаружила, что перед ней тоже ее отец, так что все четверо поразились, дались диву и растерялись. Но вслед за тем изумление уступило место голосу разума. Не медля ни минуты, молодые люди стали между сражавшимися и громко закричали:
— Довольно, кавальеро, довольно! Об этом просят и умоляют вас родные ваши дети! Я — Марк Антоньо, о отец и господин мой! — говорил Марк Антоньо. — Надо думать, что по моей вине ваши почтенные седины подвергаются сейчас этой страшной опасности. Смирите ваш гнев, бросьте копье и обратите его на другого врага, а не на того, кто теперь стоит перед вами, ибо отныне вам надлежит считать его своим братом.
Почти то же самое говорил своему отцу и дон Рафаэль. Оба кавальеро остановились и стали внимательно вглядываться в своих собеседников; обернувшись в сторону, они увидели, что дон Санчо, отец Леокадии, соскочил с коня и обнимается с каким-то паломником; дело в том, что Леокадия подошла к старику и, объяснив, кто она такая, стала просить его примирить враждующих и тут же вкратце сообщила ему, что дон Рафаэль — ее муж, а Марк Антоньо — муж Теодосьи. Услышав это, дон Санчо сошел с коня и, как было сказано, бросился ее обнимать; затем, покинув дочь, он собрался было мирить обоих кавальеро, но это оказалось лишним, так как они тоже узнали своих детей, спешились и теперь обнимали их, плача слезами счастья и любви. Все трое стали рядом и снова начали смотреть на своих детей, Не зная, что говорить; они ощупывали их, как бы удостоверяясь в том, что это не призраки, так как их неожиданное появление невольно наводило на странные мысли. Удостоверившись в истине, они стали снова обниматься и плакать.
В это время в долине показалась большая толпа вооруженных людей, пеших и конных, явившихся защищать своих господ; но когда они приблизились и увидели, что кавальеро стоят и плачут, обнявшись с паломниками, они спешились и остановились в недоумении.
Дон Санчо изложил им в немногих словах то, что ему сообщила Леокадия. Все в неописуемой радости начали обнимать паломников. Дон Рафаэль еще раз повторил (с той краткостью, которая требовалась обстоятельствами) всю историю своей любви, рассказ про свой брак с Леокадией и про брак своей сестры Теодосьи с Марком Антоньо — известие это вызвало новый взрыв радости. Тотчас же отобрав для паломников пять лошадей из числа тех, на которых приехали всадники, старики решили ехать в селение Марка Антоньо, так как отец его предложил сыграть у себя обе свадьбы. После этого все тронулись в путь; кое-кто из присутствующих поспешил попросить у родителей и друзей новобрачных поздравительные подарки. По дороге дон Рафаэль и Марк Антоньо узнали о причине затеянного боя, а заключалась она в том, что отец Теодосьи и отец Леокадии вызвали на поединок отца Марка Антоньо, считая его соучастником проделок своего сына, но когда их оказалось двое на одного, они не пожелали сражаться, имея на своей стороне преимущество, а потому решили было биться один на один, как подобает кавальеро; схватка эта, наверное, кончилась бы смертью одного из них или даже обоих, если бы не подоспели дети.
Все четыре паломника возблагодарили бога за счастливый исход дела. На следующий день после их приезда отец Марка Антоньо с королевским великолепием, блеском и изобильной щедростью отпраздновал свадьбу сына с Теодосьей и свадьбу дона Рафаэля с Леокадией. Оба они прожили долгие и счастливые годы со своими женами, оставив после себя блестящее потомство, здравствующее вплоть до сегодняшнего дня в обоих этих селениях, самых лучших во всей Андалусии. Если мы не приводим названий городов, то лишь из уважения к обеим девицам, которым злые и придирчивые языки могут поставить на вид их неразумную любовь и внезапную перемену наряда. Последних я просил бы не нападать так яростно на подобного рода вольности, а лучше судить по себе, если только они сами были когда-нибудь задеты стрелами Амура, ибо поистине он представляет собою, можно сказать, необоримую силу, с помощью которой вожделение понуждает наш разум. Кальвете, погонщик мулов, получил в подарок от дона Рафаэля мула, отправленного в Саламанку, и еще много других подношений, которые ему сделали новобрачные, а современные поэты имели случай испробовать свой талант при восхвалении красоты и приключений двух столь же смелых, как и добродетельных девиц, главных героинь нашей необычайной истории.
Сеньора Корнелия
Дон Антоньо де Исунса и дон Хуан де Гамбоа, родовитые кавальеро, ровесники, большие друзья и умницы, в бытность свою студентами в Саламанке, поддавшись пылу юношеской крови и желанию, как говорится, «людей посмотреть», решили бросить учение и уехать во Фландрию; им казалось, что военное дело может подойти и понравиться каждому, но особенно приличествует и подобает оно людям знатным и благородной крови.
Они прибыли во Фландрию в то время, когда дело клонилось не то к миру, не то л переговорам о скором его заключении. В Антверпене они получили письма от родителей, сообщавших о своем недовольстве на детей за оставление занятий без всякого предупреждения, чем молодые люди лишили себя возможности путешествовать с теми удобствами, каких требовало их положение. Узнав таким образом об огорчении родителей, они порешили возвратиться в Испанию, ибо во Фландрии им делать было нечего. Однако, прежде чем вернуться на родину, они пожелали осмотреть наиболее знаменитые города Италии и, посетив их все, остановились в Болонье, где, увлеченные преподаванием в ее замечательном университете, пожелали продолжить свое учение. Когда они известили о своем намерении родителей, старики несказанно обрадовались и доказали это тем, что великолепно их снарядили и обставили, так что по образу жизни обоих видно было, кто они такие и какие у них родители. С первого же дня посещения классов они были единогласно объявлены примерными, умными и хорошо воспитанными кавальеро.
Дону Антоньо было года двадцать четыре, а дону Хуану не больше двадцати шести; этот завидный возраст украшало еще то, что они были красавцами, любили музыку и поэзию, обладали большой ловкостью и отвагой, то есть качествами, делавшими их общество приятным и любезным для всех, кто с ними знакомился. У них сразу появилась куча друзей как среди многочисленных испанских студентов, обучавшихся в здешнем университете, так и среди студентов местных и чужеземных; со всеми они выказывали себя щедрыми, выдержанными, чуждыми чванства, которым, по общему мнению, всегда отличаются испанцы, а так как они были молоды и веселого нрава, то им было приятно иметь сведения о красавицах города. Много было сеньор — как девушек, так и замужних — славившихся своей скромностью и красотой, однако всех их превосходила сеньора Корнелия Бентивольо из старинного и славного рода Бентивольо, одно время владевшего Болоньей[140]. Корнелия отличалась необычайной красотой и находилась под охраной и опекой брата, Лоренцо Бентивольо, весьма почтенного и достойного кавальеро. Они были сиротами, без отца и матери, оставивших их одинокими, но богатыми, а богатство — великое облегчение сиротства. Скромность Корнелии была такова и таково было усердие брата в деле ее охраны, что девица эта никогда никому не показывалась, и брат не хотел, чтобы на нее глядели. Эти слухи породили у дона Хуана и дона Антоньо желание ее увидеть, хотя бы только в церкви; однако затраченный ими труд был потерян даром и любопытство их — ввиду невозможности, подрезавшей всякие надежды, — начало ослабевать: будучи заняты только любовью к наукам да кое-какими вполне приличными забавами и развлечениями, они честно и весело проводили свои дни; редко когда выходили они ночью, а если выходили, то всегда вдвоем и хорошо вооруженными.
И вот случилось, что когда они собрались однажды ночью на прогулку, дон Антоньо сказал дону Хуану, что сейчас ему нужно читать обетные молитвы, а потому пусть приятель идет один, а он его вскоре догонит.
— К чему это? — сказал дон Хуан, — я вас подожду, а если мы не выйдем сегодня ночью, тоже не беда!
— Нет, пожалуйста, — сказал дон Антоньо, — вам будет хорошо подышать воздухом, и я мигом вас догоню, если только вы пойдете так, как обычно.
— Делайте, как хотите, — ответил дон Хуан, — оставайтесь с богом, а если соберетесь, знайте: сегодня я пойду теми же местами, что и в прежние ночи.
Дон Хуан ушел, а дон Антоньо остался. Ночь была скорее темная, час одиннадцатый; пройдя три-четыре улицы и увидев, что гуляющих нет и что разговаривать было не с кем, он решил вернуться домой и стал было поворачивать обратно, как вдруг на улице, где были дома с мраморными порталами, он услышал, что из каких-то ворот зовут. Темнота ночи, увеличенная темными порталами, помешала ему отчетливо разобрать, кого зовут. Он постоял немного, прислушался и заметил, что одни ворота приоткрываются; подойдя поближе, он услыхал тихий голос, спросивший:
— Это Фабио?
Дон Хуан из «да» и «нет» предпочел сказать «да».
— Ну, так берите, — сказали изнутри, — снесите в укромное место и немедленно возвращайтесь: время не терпит!
Дон Хуан протянул руку и почувствовал какой-то сверток; попробовав его взять, он увидел, что это неудобно, так что пришлось обхватить его обеими руками; едва только сверток очутился у него, как ворота закрылись, и он остался на улице с ношей, сам не зная какой. Однако в ту же самую минуту послышался плач младенца, по-видимому, новорожденного, и от этого звука дон Хуан растерялся и остолбенел, не зная, что ему делать и как в этом случае поступить: если постучать в ворота, это может навлечь беду на тех, кто отдал ребенка? если оставить ношу здесь, беда случится с ребенком. Взять его домой? Но там некому было им заняться, сам же он во всем городе не знал человека, к которому можно было бы обратиться. Вспомнив, однако, что ему велено снести ребенка в укромное место и немедленно вернуться назад, дон Хуан решил доставить его домой, сдать на попечение своей экономке, а потом возвратиться и посмотреть, не нужна ли будет его помощь, так как он отлично понял, что его приняли за другое лицо и что передача ребенка была делом ошибки. Итак, без дальнейших колебаний он вернулся с ребенком домой, но в такое время, когда дона Антоньо уже не было. Войдя в комнату, он позвал экономку, раскрыл ребенка и увидел младенца, красивее которого он еще не встречал на свете. Пеленки, которые были на нем, свидетельствовали, что он происходит от богатых родителей; экономка развернула ткани, и оказалось, что это мальчик.
— Ребенка этого нужно кормить грудью, — сказал дон Хуан, — и вот что мы сделаем: снимите с него богатые пеленки, положите другие, попроще, и (не говоря, что я его принес) отнесите в дом какой-нибудь повитухи; такая женщина всегда сумеет сделать все, что нужно и полагается в подобных случаях. Возьмите с собой денег, чтобы уломать ее; родителей назовите, каких пожелаете, не говорите только правды, то есть того, что принес его я.
Экономка ответила, что она все устроит, а дон Хуан, нисколько не мешкая, поспешил выяснить, окликнут ли его еще раз или нет.
Однако, еще не доходя до дома, откуда его позвали, он услышал громкий звон шпаг, словно там сражалось много народа. Дон Хуан насторожился, но не уловил ни слова. Схватка шла «в немую». При свете искр, отскакивавших от камней, по которым ударяли шпаги, он мог различить, что несколько человек нападали на одного. Истинность этого подтвердилась, когда он услышал:
— А, предатели, вас много, а я один! Вам не поможет, однако, ваша подлость!
Слыша и наблюдая все это, дон Хуан, движимый своим доблестным сердцем, в одно мгновение очутился рядом с незнакомцем и, схватив находившиеся при нем шпагу и щит, крикнул по-итальянски, не желая выдавать того, что он испанец:
— Не бойтесь, к вам подоспел помощник; я не оставлю вас, пока буду жив; налегайте на них вовсю: негодяи, даже, когда их много, никого не запугают.
На это один из нападавших ответил:
— Ложь! Здесь нет негодяев; желание восстановить утраченную честь дает право на всякую крайность.
Больше он не сказал ни слова, ибо не позволила того сделать стремительность, с которой рубились противники, а их, по счету дона Хуана, было, должно быть, шестеро. Они стали сильно теснить его спутника и, нанеся ему одновременно в грудь два удара шпагой, свалили его на землю. Дон Хуан подумал было, что неизвестный убит, и с исключительной быстротой и отвагой принял на себя всех врагов, заставив их отступить под градом выпадов и ударов: но стараний его было бы недостаточно для нападения и защиты, не явись ему на помощь судьба, ибо обитатели улицы выставили в окна свет и громкими голосами стали звать полицию; нападавшие это заметили, немедленно покинули улицу и удалились.
Тем временем незнакомец уже поднялся, ибо удары встретили панцирь, крепкий как алмаз, о который они и споткнулись. У дона Хуана в схватке свалилась шляпа; разыскивая ее, он нашел другую, которую по ошибке надел, не разглядев, чья она. Незнакомец приблизился к нему и произнес:
— Сеньор кавальеро, кто бы вы ни были, я должен признать, что обязан вам жизнью, которую вместе с своим влиянием и властью я готов употребить вам на службу; сделайте милость, скажите, кто вы и как вас зовут, дабы я знал, кому я обязан выказать свою признательность.
Дон Хуан ответил:
— Сеньор, я действовал вполне бескорыстно, но я не хочу быть невежливым, и исключительно поэтому я исполню вашу просьбу и скажу, что я — испанский кавальеро, студент этого города; даже если бы вы просто справлялись обо мне, я, конечно, открыл бы вам свое имя, но на случай, если вам понадобится иметь меня в виду для других услуг, знайте, что меня зовут дон Хуан де Гамбоа.
— Вы проявляете исключительную любезность, — ответил неизвестный. — Сеньор дон Хуан де Гамбоа, мне не хотелось бы говорить про себя и про свое имя, ибо было бы весьма приятно, чтобы вы узнали это от кого-нибудь другого, а не от меня: я позабочусь, чтобы вас известили.
Дон Хуан поспешил осведомиться, не ранен ли неизвестный, так как он видел, что ему нанесли два сильных удара шпагой; незнакомец ответил, что бог и великолепный панцирь уберегли его от несчастья, но что враги его несомненно бы прикончили, не подоспей дон Хуан.
В это время они заметили, что к ним приближаются какие-то люди; дон Хуан сказал:
— Если это вернулись враги, готовьтесь, сеньор, и поступите согласно с вашей честью.
— Насколько я понимаю, к нам подходят не враги, а друзья.
Так оно и было в действительности. Прибывшие сеньоры (а было их восемь человек) окружили неизвестного и обменялись с ним немногими словами, но так осторожно и тихо, что дон Хуан ничего не понял.
После этого спасенный испанцем сеньор повернулся к дону Хуану и сказал:
— Если бы не приход моих друзей, я никоим образом, сеньор дон Хуан, не покинул бы вас прежде, чем не почувствовал бы себя в полной безопасности; ныне же я убедительнейше прошу вас оставить меня, ибо мне это крайне важно.
С этими словами он коснулся рукой своей головы и заметил, что на нем не было шляпы; обратившись к новоприбывшим, он попросил дать ему головной убор, которого он теперь лишился. В ту же минуту дон Хуан надел на него поднятую им на улице шляпу.
Незнакомец притронулся к ней и, возвратив дону Хуану, сказал:
— Это — не моя; прошу вас, сеньор дон Хуан, оставьте ее себе и сберегите как трофей происшедшей схватки! Мне сдается, что шляпа эта приметная.
Говорившему подали другую шляпу, а дон Хуан, заторопившись исполнить его просьбу, произнес несколько вежливых слов и удалился, не узнав, кто он такой, Он отправился прямо домой, не желая возвращаться к воротам, где ему дали ребенка, ибо весь околоток, видимо, проснулся и волновался из-за недавней схватки.
И вот в полупути от дома он встретил своего друга, дона Антоньо де Исунса; уже издали дон Антоньо закричал:
— Пойдемте в обратную сторону, дон Хуан; по дороге я вам расскажу, какая странная история со мной случилась: пожалуй, во всю свою жизнь вы такой еще не слыхали!
— Очень странную историю могу вам рассказать и я, — заметил дон Хуан, — однако идемте в ту сторону, куда вы сказали, и рассказывайте, в чем дело.
Дон Антоньо, поравнявшись с ним, заговорил так:
— Нужно вам знать, что через какой-нибудь час после вашего выхода из дому я отправился вас разыскивать и шагах в тридцати перед собой увидел, что навстречу мне поспешно идет темная человеческая фигура; когда она подошла ближе, я разглядел женщину в длинном одеянии, которая голосом, прерывавшимся от рыданий и вздохов, спросила: «Кто вы, сеньор, чужеземец или местный житель?» — «Чужеземец. Я — испанец», — сказал я. А она: «Слава богу, значит, небу угодно, чтобы я умерла, удостоившись таинств». — «А что, вы ранены, сеньора, — спросил я, — или больны смертельной болезнью?» — «Да, возможно, что мне несдобровать, если помощь не поспеет вовремя; заклинаю вас вежливостью (чьи веления — закон для ваших соотечественников), уведите меня отсюда и как можно скорее; возьмите меня в свой дом; там, если вы пожелаете, я открою вам свое горе и кто я, хотя от этого, увы, пострадает мое доброе имя». Эти слова заставили меня подумать, что подобного рода просьба вынуждена необходимостью, и, не говоря более ни слова, я взял незнакомку за руку и по глухим улицам довел до дома. Мне открыл наш слуга, Сантистэван; приказав ему удалиться, я устроил так, чтобы он не увидел моей спутницы, и провел ее к себе; она вошла и без чувств повалилась на мое ложе. Я приблизился, открыл ее лицо, закрытое плащом, и увидел, что передо мной такая красавица, какую редко, должно быть, видели земные очи; на мой взгляд, ей было лет восемнадцать, скорее меньше, чем больше. Я изумился при виде этого чуда красоты. Когда я освежил ей лицо водою, она пришла в себя, тихонько вздохнула и первыми ее словами было: «Сеньор, вы меня знаете?» — «Нет, — ответил я, — да и вряд ли я мог бы удостоиться счастья быть знакомым с такой красавицей!» — «Горе той! — воскликнула она, — кому небо посылает красоту единственно на несчастье; впрочем, сеньор, теперь не время восхвалять красоту: сейчас нужно помочь моему горю. Заклинаю вас вашей честью: оставьте меня здесь взаперти и никому не позволяйте меня видеть; а потом пройдите снова к тому самому месту, где вы меня повстречали, и взгляните, дерутся ли там люди или нет, но не помогайте никому из сражающихся, а помирите их, ибо всякий урон с той либо с другой стороны в конечном счете усугубит мое горе». Я замкнул дверь и отправился мирить сражающихся.
— Это все, что вы хотели сказать, дон Антоньо? — спросил дон Хуан.
— А что, разве я сказал недостаточно? — удивился дон Антоньо. — Я ведь сказал, что у меня в комнате, под замком, находится такая красавица, какую редко кому случалось видеть.
— Случай, конечно, странный, — произнес дон Хуан, — выслушайте, однако, и меня.
И тут же он рассказал про свое приключение: о том, что переданного ему ребенка он поместил к себе под опеку экономки, что он велел ей переменить богатые пеленки на бедные и затем снести ребенка в такое место, где его покормят или во всяком случае окружат тем уходом, в котором он сейчас очень нуждается; он прибавил еще, что вооруженная схватка, на которую поспешал дон Антоньо, была окончена и прекращена, что он в ней тоже померялся силами и что участники ее, по его мнению, были люди именитые и почтенные.
Оба они подивились приключениям друг друга, а затем быстро пошли домой узнать, не нужно ли чего их пленнице.
По пути дон Антоньо сообщил дону Хуану, что он обещал незнакомке оградить ее от посторонних глаз и что в комнату к ней будет входить один он до тех пор, пока она сама не изменит своего решения.
— Ладно, — заявил дон Хуан, — думаю, что случай поглядеть на нее все-таки представится, тем более, что мне очень этого захотелось после ваших похвал ее красоте!
В это время они подошли к дому; при свете, принесенном одним из троих живших у них слуг, дон Антоньо поднял глаза на шляпу дона Хуана и увидел, что она горит драгоценными камнями; он снял ее с головы товарища и увидел, что блеск исходил от множества алмазов, которыми была унизана лента. Они внимательно ее осмотрели и пришли к заключению, что если камни действительно настоящие, как это им сразу показалось, то шляпа эта стоила не менее двенадцати тысяч дукатов. Таким образом окончательно выяснилось, что участники схватки и в особенности лицо, спасенное от опасности, были людьми именитыми; к тому же дон Хуан припомнил, что незнакомец велел ему надеть шляпу и беречь ее, так как она, по его словам, была приметная.
Они велели слугам уйти; дон Антоньо открыл свою комнату и увидел, что сеньора сидит на постели, подперев рукою щеку, и проливает тихие слезы. Дон Хуан, горя желанием взглянуть на нее, показался в дверях ровно настолько, чтобы можно было просунуть голову, но в то же самое время блеск алмазов привлек к себе внимание плачущей, которая, подняв глаза, сказала:
— Войдите же, сеньор герцог, войдите! Почему вы от меня прячетесь? Зачем вы лишаете меня радости взглянуть на вас?
На это дон Антоньо ответил:
— Сеньора, здесь нет никакого герцога, никто здесь от вас не прячется.
— Как так нет?! — спросила она. — Да вгдь только что в дверях показался герцог Феррарский: его выдало богатство убора на шляпе.
— Уверяю вас, сеньора, что шляпа, которую вы видели, принадлежит не герцогу, а если вы желаете убедиться в этом и взглянуть на ее обладателя, разрешите ему войти.
— Разумеется, пусть войдет! — произнесла она, — по если это не герцог, горе мое станет еще больше.
Эти речи слышал дон Хуан; видя, что позволение дано, он со шляпой в руке вошел в комнату, но когда он приблизился и когда незнакомка убедилась, что владелец шляпы — не тот, о ком она думала, она быстро, с волнением в голосе произнесла:
— О, я несчастная! Сеньор мой, ответьте мне поскорее, не оставляйте меня в неведении: вам известен собственник этой шляпы? Где вы его покинули и как попала к вам его шляпа? Он жив или вы явились вестником его смерти? О мой ненаглядный, что это значит? Передо мною твоя вещь! Я тут одна, без тебя, взаперти! Я — во власти чужих людей, и если бы не сознание, что они — испанские дворяне, от страха потерять свою честь я лишилась бы жизни.
— Успокойтесь, сеньора! — сказал дон Хуан, — владелец этой шляпы жив, а сами вы находитесь в таком месте, где вам не только не нанесут никакого оскорбления, но, напротив, будут вам служить как можно лучше; где люди будут готовы рисковать жизнью, защищая и охраняя вас. Мы постараемся, чтобы ваша вера в доблесть испанцев вполне оправдалась, а так как мы — действительно испанцы и при этом из хорошего рода (с этим вполне согласуется наша наружная надменность), не сомневайтесь, вам будет оказано внимание, подобающее вашей особе.
— Я так и думала, — сказала она, — но все-таки скажите мне, сеньор, как попала в ваши руки эта дорогая шляпа и где находится сейчас ее владелец, который ведь не кто иной, как Альфонсо де Эсте[141], герцог Феррарский?
Тогда дон Хуан, желая прекратить ее волнение, рассказал, что шляпу он поднял во время схватки, что в схватке этой он оказал содействие и поддержку одному кавальеро, который, судя по ее словам, является, очевидно, герцогом Феррарским; что в разгаре схватки у него, дона Хуана, свалилась шляпа, вместо которой он поднял с земли другую; что спасенный кавальеро велел ему беречь ее, так как шляпа была приметная; что схватка окончилась счастливо, ибо ни кавальеро, ни сам он не были ранены, а к концу боя к ним подошли люди, по-видимому, слуги или друзья предполагаемого герцога, который попросил дона Хуана оставить его одного и удалиться, выразив при этом большую признательность за оказанную ему услугу.
— Таким образом, сеньора, эта богатая шляпа попала в мои руки при изложенных мною выше обстоятельствах, а владельца ее или, как вы говорите, герцога, я покинул около часу назад бодрым, здоровым и невредимым; пусть эта правдивая повесть послужит вам утешением, если только вас может утешить известке о добром здравии герцога.
— Дабы вам стало ясно, есть ли у меня причины и основания для расспросов о герцоге, уделите мне некоторое внимание и выслушайте мою — скажу, пожалуй, — несчастную историю…
Пока происходили все описанные нами события, экономка занялась тем, что дала ребенку меда, сменила богатые пеленки на бедные, а когда все это было сделано, собралась было снести его на дом к повитухе, как было приказано ей доном Хуаном. Но в ту самую минуту, когда она проходила мимо помещения, где находилась незнакомка, приготовившаяся было к рассказу, ребенок так громко заплакал, что сеньора его услышала и, привстав с места, чтобы лучше прислушаться, явственно различила детский плач и спросила:
— Сеньоры, чей это ребенок? Он, кажется, новорожденный?
Дон Хуан ответил:
— Это младенец, которого сегодня ночью подбросили к нашим дверям; экономка отправляется сейчас искать женщину, чтобы его покормить.
— Принесите его сюда, бога ради, — сказала неизвестная, — я хочу оказать ласку чужому ребенку, поскольку небо не позволяет мне позаботиться о моем собственном.
Дон Хуан позвал экономку, взял от нее дитя, принес его сострадательной сеньоре и, передавая, прибавил:
— Видите, вот подарок, который нам сделали сегодня ночью, и это не в первый раз: редкий месяц проходит без того, чтобы мы не наталкивались у дверей на подобного рода находки.
Она взяла младенца на руки, внимательно осмотрела его лицо, его бедные, хотя и опрятные пеленки и, не будучи в силах сдержать слезы, поспешно спустила «току» с головы на плечи, чтобы можно было прилично дать ребенку грудь. Прижав его к себе, она склонила над ним свое лицо, кормила его своим молоком и орошала слезами его лицо; в таком положении, не поднимая головы, она оставалась до тех пор, пока ребенок не покинул груди. Все четверо сохраняли молчание. Ребенок сосал грудь; вернее, это им так казалось: дело в том, что только что родившая женщина не может кормить, и, сообразив это, незнакомка вдруг обратилась к дону Хуану со словами:
— Напрасно я выказала свое сострадание; видно, что я неопытна в этих делах; сеньоры, велите дать ребенку немного меда и не позволяйте выносить его в такой час на улицу; лучше дождитесь дня, а прежде чем уносить, пусть мне его еще покажут: глядя на него, я как-то успокаиваюсь.
Дон Хуан отнес младенца к экономке и велел присматривать за ним до утра, а кроме того, положить ему богатые пеленки, которые на нем были, и не выносить из дому, ему о том не сказавши. Когда он вернулся обратно (и когда их стало трое), прекрасная гостья сказала:
— Если вам угодно, чтобы я приступила к рассказу, дайте мне сначала поесть, ибо мне все время делается дурно, и, сказать по правде, не без причины.
В ту же минуту дон Антоньо поспешно прошел к поставцу, достал оттуда разные припасы, от которых она немного отведала; затем она выпила стакан студеной воды, пришла в себя и, несколько успокоившись, проговорила:
— Садитесь, сеньоры, и слушайте!
Они сели; незнакомка опустилась на кровать и, закутавшись потеплее в складки своего платья, отбросила назад покрывало, бывшее на голове, и на ее вполне освобожденном от покровов лице воссиял лик луны или, пожалуй, даже лик яркого, во всей прелести восходящего солнца; из глаз ее катились жидкие жемчужины, и она осушала их белоснежным платком и руками такой белизны, что отличить их от платка мог только человек весьма опытный. Наконец, успокоив долгими вздохами свою взволнованную грудь, печальным и расстроенным голосом она начала так:
— Я, сеньоры, та самая женщина, чье имя, наверное, часто произносилось в вашем присутствии, ибо слухи о моей красоте — какова бы она ни была в действительности — распространяли самые разнообразные люди. Дело в том, что я — Корнелия Бентивольо, сестра Лоренцо Бентивольо, — имя, которое сразу говорит о двух вещах: во-первых, о знатности моего рода, во-вторых, о моей красоте. Будучи круглой сиротой, я с малых лет оставалась под опекой брата, который еще в детские мои годы охранял меня с необычайной заботливостью, хотя, правда, больше полагался на мою честность, чем на строгость своей охраны.
Итак, я одиноко росла в четырех стенах, в обществе одних прислужниц, а вместе со мною росла и слава о моей красоте, распространяемая не только слугами и людьми, негласно меня видевшими, но также и портретом, заказанным братом одному знаменитому живописцу на тот случай, говорил он, чтобы мир не остался без меня, если небо вдруг призовет меня к лучшей жизни.
Но всего этого было бы недостаточно для приближения моей гибели, если бы герцогу Феррарскому не случилось однажды быть посаженным отцом на свадьбе у моей двоюродной сестры, куда меня взял с собою брат с самым невинным намерением, желая оказать почет нашей родственнице. Там я увидела людей, и меня тоже увидели. Надо думать, что там я пленяла сердца, покоряла души; там я почувствовала, что похвала даже из льстивых уст бывает приятна; наконец там увидела я герцога, а он — меня, и от этой встречи произошло то, что сейчас я оказалась в столь горестном положении. Не буду вам описывать, сеньоры (иначе это бесконечно затянется), все приемы, уловки и способы, с помощью которых нам с герцогом удалось к концу второго года добиться исполнения желаний, охвативших нас еще на помянутой свадьбе; ни охрана, ни сдержанность, ни соображения чести да и никакие силы человеческие не смогли бы помешать нашему сближению, происшедшему, однако, после того, как он пообещал стать моим супругом — иначе ему бы не одолеть твердыни моей бунтовавшей гордости.
Тысячекратно советовала я ему открыто просить моей руки у брата, который, конечно, ему не отказал бы; ибо в данном случае нельзя было бы выдвинуть даже возражения о неравном браке, так как род Бентивольо ничуть не менее знатен, чем семейство Эсте. Герцог отвечал мне доводами, которые я сочла достаточными и естественными. Воля моя была покорена, я ему доверилась и с упоением влюбленной всем сердцем отдалась ему при посредничестве одной моей прислужницы, очевидно, больше дорожившей подарками герцога, чем доверием брата к ее верности.
Прошло немного времени, и я почувствовала себя беременной; задолго до того, как одежда выдала мое (если выразиться снисходительно) легкомыслие, я притворилась больной и унылой, вследствие чего мой брат поместил меня в дом к той двоюродной сестре, у которой герцог был посаженным отцом. Я рассказала ей про свое положение, про угрожающую мне опасность и про страх за свою жизнь, ибо, по моим соображениям, брат, несомненно, подозревал вольность моего поведения. Мы условились с герцогом, что с наступлением девятого месяца я извещу его и тогда он явится за мной с несколькими друзьями и увезет в Феррару, где в то же самое время всенародно со мной обвенчается.
Нынешняя ночь была как раз условленным сроком его приезда; этой же ночью, поджидая прибытия герцога, я неожиданно услыхала, как из дому вышел мой брат с какими-то людьми, которые — судя по лязгу их оружия — приготовились, видимо, к бою. От испуга со мной случились внезапные роды, и я в один миг родила прелестнейшего малютку. Прислужница, бывшая поверенной и посредницей в моих делах, заранее ко всему подготовилась, завернула ребенка в пеленки — но не в такие, как у подброшенного к вашим дверям дитяти — и, выйдя из ворот на улицу, отдала его — по ее словам — герцогскому слуге. Я же немного спустя перемогла себя и ввиду настоятельной необходимости вышла из дому, полагая, что герцог уже находится на улице, а этого мне не следовало бы делать до тех пор, пока он не подойдет к воротам. Однако вооруженные спутники брата нагнали на меня такой страх, что мне ежеминутно представлялось, будто шпага уже скользит по моей шее, и мне некогда было сочинить лучший план: вот и вышла я, безумная и беспамятная, на улицу, где случилось со мной то, что вы уже знаете.
Но пусть я осталась сейчас без ребенка и мужа, пусть меня подстерегают величайшие несчастья, я все-таки благодарю небо за неожиданную встречу с вами, от кого ожидаю я всего, чего только можно ожидать от испанской обходительности, а тем более лично от вас, ибо благородство вашего происхождения ручается за вашу безупречность.
При этих словах она всем телом поникла на ложе; подбежав посмотреть, не сделалось ли ей дурно, они увидели, что сеньора горько рыдает; тогда дон Хуан сказал:
— Если до сих пор, прекрасная сеньора, я и мой друг, дон Антоньо, выказывали вам сочувствие и жалость только как женщине, то теперь, узнав про ваше высокое происхождение, мы обратим свою жалость и сочувствие в священную обязанность служить вам; мужайтесь и не поддавайтесь слабости! Правда, вы не привыкли к подобным испытаниям, но знайте, что стойкость ваша явится наилучшим доказательством вашего происхождения; мне думается также, что все эти необыкновенные события, несомненно, приведут к счастливому концу, ибо небо не потерпит, чтобы такая красота пропала даром, а ваши чистые помыслы рассеялись как дым. Прилягте, сеньора, и подумайте о своем здоровье, что сейчас для вас очень важно; к вам явится для услуг наша служанка, к ней вы можете питать такое же доверие, как к нам самим; она сумеет сохранить в тайне ваши несчастия и поможет вам во всем, что нужно.
— Испытания мои таковы, что я готова мириться с величайшими трудностями, — отвечала она, — вы можете послать ко мне кого вам будет угодно; руководствуясь вашим указанием, я, наверное, преуспею во всем, что мне окажется нужным; и тем не менее я убедительнейше прошу вас не впускать сюда больше никого, кроме вашей служанки.
— Быть по сему, — сказал дон Антоньо, и, оставив ее одну, они вышли. Дон Хуан велел экономке идти к больной, захватив с собой младенца в богатых пеленках, если только она успела уже их сменить. Экономка ответила утвердительно: ребенок был в том самом виде, в каком его принесли.
Экономка отправилась к больной, получив наставления, что ей следует отвечать, когда находящаяся в комнате сеньора станет расспрашивать про ребенка. Увидев вошедшую, Корнелия сказала:
— Пожалуйте сюда, дорогая; подайте мне вашего ребенка и придвиньте ко мне свечу.
Экономка повиновалась; Корнелия взяла ребенка на руки, страшно смутилась и, не сводя с него глаз, спросила экономку:
— Скажите мне, голубушка, этот ребенок и тот, которого вы сюда приносили, один и тот же?
— Да, сеньора. — ответила экономка.
— Но у этого младенца совсем другие пеленки! — изумилась Корнелия. — Сказать по правде, я думаю, что либо вы положили другие пеленки, либо это не прежний ребенок.
— Не может этого быть, — промолвила экономка.
— Господи боже мой, — вырвалось вдруг у Корнелии, — что значит ваше «не может этого быть»? Как же так, моя милая? Сердце мое разрывается на части от желания уяснить себе эту перемену. Заклинаю вас всем, что вам на свете дорого, скажите мне и объясните, откуда у вас эти богатые пеленки? Знайте, что они принадлежат мне, и если только меня не обманывают зрение и память, в этих самых пеленках или в других, но совершенно похожих на эти, я вручила своей девушке ненаглядное сокровище души моей. Кто их с него снял? Ах, я несчастная! Кто же их сюда принес? Горе мне, горе!
Дон Хуан и дон Антоньо, слушавшие ее сетования, не пожелали, чтобы она себя дольше мучила, и не допустили, чтобы уловка с переменой пеленок зашла чересчур далеко; поэтому они вошли в комнату, и дон Хуан сообщил:
— Пеленки эти и ребенок этот — ваши, сеньора Корнелия! — И тут же во всех подробностях рассказал ей; как ее прислужница вручила ему ребенка, как он принес его домой и велел экономке переменить пеленки; он объяснил ей также, почему он это сделал, не позабыв отметить, что с тех пор, как она ему рассказала про свои роды, у него появилась уверенность, что ребенок этот — ее сын; впрочем, если бы она ничего им не рассказала, одного ее потрясения от невозможности признать ребенка и последовавшей затем радости безмолвного узнавания было бы совершенно достаточно.
Тогда Корнелия от восторга пролила несчетные слезы, несчетными поцелуями покрыла своего малютку, принесла несчетные благодарения своим заступникам, называя их земными ангелами-хранителями и другими именами, ясно свидетельствовавшими об ее признательности. Оставляя ее наедине с экономкой, они велели старухе ухаживать за сеньорой и внимательно служить ей, обратив ее внимание на положение, в котором находилась юная мать, дабы старуха пришла ей на помощь, ибо, будучи женщиной, понимала в этих делах больше, чем они. Затем они порешили посвятить сну оставшуюся часть ночи, условившись не входить больше в комнату Корнелии, если только их не призовет она сама или какая-нибудь неотложная необходимость.
Наступил день, и экономка вынесла ребенка из дома, чтобы его тайно и незаметно от людей покормили грудью; юноши справились о Корнелии; экономка ответила, что та немного отдохнула.
По дороге в классы они прошлись по улице недавней схватки, мимо ворот, откуда вышла Корнелия, в надежде установить, не проведали ли соседи об ее уходе из дома и не болтают ли о том на перекрестках. Но им решительно ничего не удалось услышать ни про схватку, ни про исчезновение Корнелии.
Покончив с занятиями, они вернулись домой. Корнелия велела экономке позвать их, но они ответили, что решили не делать больше шагу в ее комнату и выказать тем самым почтение к ее скромности. Корнелия со слезами и просьбами настояла, чтобы они зашли к ней, указывая, что если это и не улучшит ее состояния, то, во всяком случае, будет способствовать ее спокойствию. Они исполнили ее желание; больная встретила их с веселым лицом и весьма вежливо попросила не отказать ей в любезности пройтись по городу и разузнать, не слышно ли толков об ее безрассудстве; ей ответили, что они сами постарались навести об этом самые тщательные справки, но пока что ничего не обнаружили.
В это время к дверям комнаты подошел один из трех состоявших при них слуг и сказал снаружи:
— У ворот находится кавальеро с двумя слугами, сообщивший, что имя его Лоренцо Бентивольо; он спрашивает господина моего, дона Хуана де Гамбоа.
Когда он это доложил, Корнелия поднесла сжатые кулачки к своему рту и тихим, перепуганным голосом произнесла:
— Сеньоры, это мой брат, он несомненно успел узнать, что я здесь, и пришел убить меня: помогите, сеньоры, защитите меня!
— Успокойтесь, сеньора, — сказал ей дон Антоньо, — вы находитесь в таком доме и у таких людей, что вам не приходится бояться никаких оскорблений. Сеньор дон Хуан, сходите и узнайте, что угодно этому кавальеро, а я останусь здесь и, если нужно, окажу защиту Корнелии.
Дон Хуан, как ни в чем не бывало, спустился вниз, а дон Антоньо попросил принести сюда два заряженных пистолета и велел слугам взять шпаги и ожидать приказаний. Экономка, увидев эти приготовления, задрожала. Корнелия трепетала, опасаясь, что случится несчастье; только доя Антоньо и дон Хуан не растерялись и отлично знали, что им следует делать.
У входной двери дон Хуан встретил дона Лоренцо, который приветствовал его следующими словами:
— Ваша светлость (такого рода величанием пользуются в Италии), окажите мне честь проследовать со мной в находящуюся напротив церковь; мне крайне необходимо переговорить с вашей светлостью о деле, от которого зависит моя жизнь и честь.
— С величайшей готовностью, — ответил дон Хуан. — Я согласен идти куда вам будет угодно.
После этого они вместе отправились в церковь. Усевшись на скамье в такой части храма, где их нельзя было подслушать, Лоренцо заговорил первый и сказал:
— Сеньор, меня зовут Лоренцо Бентивольо; мой род принадлежит если не к самым богатым, то к самым знатным семействам нашего города; это общеизвестная истина, не позволяющая, следовательно, заподозрить меня в самовосхвалении; уже довольно давно я круглый сирота: на руках у меня осталась сестра, такая красавица, что если бы дело шло не о близком мне человеке, я описал бы ее так, что похвал, наверное бы, не хватило, ибо никаким словом не выразить всей ее прелести; как знатность моего рода, так и ее девичество и красота заставили меня окружить ее строгой охраной; но все мои предосторожности и старания были обмануты безрассудным увлечением сестры Корнелии (это ее имя); из соображений краткости и дабы не утомлять вас повестью, которая легко может затянуться, скажу, что герцог Феррарский, Альфонсо де Эсте, «победил очами рыси глаза Аргуса», взял верх и восторжествовал над всеми моими ухищрениями, покорил мою сестру и вчера ночью похитил ее из дому одной нашей родственницы, причем, по слухам, это произошло после разрешения сестры от бремени. В ту же ночь, когда я узнал об этом, я постарался его разыскать; ночью мне удалось повстречать его и с ним сразиться; но на помощь к нему подоспел, очевидно, какой-то ангел, не допустивший, чтобы я смыл пятно позора кровью герцога. Моя родственница сообщила (от нее-то я и узнал про случившееся), что герцог обманул мою сестру обещанием на ней жениться. Я не верю этому обещанию, ибо брак этот не равный, если на дело взглянуть со стороны даров Фортуны (что до даров природы, то знатность болонских Бентивольо известна всем и каждому), мне кажется, он применил уловку, которой часто придерживаются высокие люди, желая совратить робкую и боязливую девушку; они соблазняют ее сладостным званием супруги, уверяя ее при этом, что правила этикета не позволяют им жениться немедленно; все это, конечно, выдумки и неправда, прикрывающие вероломство и обман.
Но как бы то ни было, я потерял все же честь свою и сестру; правда, я окружил это событие глубочайшим молчанием и никому не стану рассказывать о своем позоре до тех пор, пока не выясню, нельзя ли его как-нибудь загладить и смыть; ибо куда лучше, если о бесчестье всего только подозревают или догадываются, чем если о нем знают точно и наверняка; не умея выбрать между «да» и «нет», каждый волен склониться в ту сторону, в какую пожелает, и для каждой из них найдутся всякие доводы.
И вот я порешил отправиться в Феррару и требовать от герцога удовлетворения за обиду, а в случае отказа немедленно с ним сразиться; причем я хочу обойтись без наемных отрядов (тем более, что я не в состоянии ни набрать, ни содержать их) и иметь дело с ним лично, а поэтому я прошу вас помочь мне и совместно со мною совершить это путешествие; я уверен, что вы это сделаете, потому что вы не только испанец, но, как мне известно, еще и кавальеро. Для того, чтобы утаить это дело от родственников и друзей, от которых я не жду ничего, кроме болтовни и отговоров (от вас же я могу ожидать советов правильных и благородных, не отступающих ни пред какою опасностью), вы, сеньор, окажете мне это одолжение и поедете со мной, а если рядом со мной будет находиться испанец, да еще такой, как вы, — это все равно, что ехать под защитой Ксерксовых полчищ. Думаю, что ваш долг — поддержать славу, установившуюся за испанской нацией, — обяжет вас еще больше, чем моя горячая просьба.
— Ни слова более, сеньор Лоренцо, — сказал дон Хуан, который слушал его до сих пор, не перебивая ни разу, — ни слова больше! Отныне я считаю себя вашим защитником и советником и беру на себя обязательство добиться удовлетворения и мести за вашу обиду; я делаю так не потому, что я испанец, а потому, что я кавальеро, а вы человек знатного происхождения, что мне известно из ваших слов и по отзывам, которые все повторяют; решайте же, когда нам следует назначить отъезд и когда будет удобнее ехать, ибо железо следует ковать, пока оно горячо, пламень гнева поднимает наш дух, а свежее бесчестие толкает на исполнение мести.
Лоренцо встал, крепко обнял дона Хуана и произнес:
— Для того чтобы тронуть столь благородное сердце, как ваше, сеньор дон Хуан, достаточно сослаться на честь, которая выпадает в этом деле на вашу долю, а потому я заранее, поскольку я все-таки надеюсь на успех, вам ее приписываю и заодно отдаю в ваше распоряжение свое достояние, силы и способности. Отъезд наш назначим на завтра: таким образом я смогу приготовить все для него необходимое.
— Отлично, — сказал дон Хуан, — однако разрешите мне, сеньор Лоренцо, сообщить о нашем замысле моему товарищу, на достоинства и молчание которого вы можете положиться в такой же мере, как на мои собственные.
— Поскольку вы, сеньор дон Хуан, взяли в руки — как сами вы указали — дело моей чести, распоряжайтесь ею, как вы считаете нужным, и ведите переговоры с кем вам угодно, тем более, что товарищем вашим сможет быть только очень хороший человек.
Тут они обнялись и простились, условившись, что завтра утром Лоренцо пошлет за ним (дабы сесть на лошадей уже за городом) и что в дорогу они отправятся переодетыми.
Дон Хуан возвратился домой и рассказал дону Антоньо, о чем он толковал с Лоренцо и на чем они сговаривались.
— Великий боже! — воскликнула Корнелия. — Кто видел подобное благородство и такое неслыханное доверие! Как вы, не задумываясь, беретесь за дело, преисполненное трудностей? Почем знать, сеньор, куда повезет вас мой брат: в Феррару или куда-нибудь в другое место? Впрочем, куда бы он вас ни повез, вы можете быть спокойны: вашим спутником будет воплощенная верность, но сейчас, в несчастиях моих, я даже пылинку солнечного луча готова принять за помеху, я пугаюсь при виде тени! Да и как мне не пугаться, если от слова герцога зависит моя жизнь или смерть? Как знать, вдруг его ответ будет настолько несдержан, что гнев моего брата преступит границы благоразумия? Но если даже этого не случится, все равно противник брата крайне опасен, а поэтому все время вашего отсутствия я буду находиться в неизвестности, тревоге и недоумении, ожидая либо радостных, либо печальных вестей о своем деле. Я чересчур сильно люблю герцога и своего брата, чтобы не терзаться несчастьем каждого в отдельности и не болеть за обоих душой.
— Слишком вы много думаете и слишком многого боитесь, сеньора Корнелия, — сказал дон Хуан, — но наряду со страхами следует отвести место надежде; уповайте же на бога, на мою сноровку и добрые намерения, и тогда желания ваши увенчаются счастливым концом. Ни поездку в Феррару, ни решение мое помогать вашему брату отменить нельзя. Пока что мы ничего не знаем о намерениях герцога, не знаем даже, известно ли ему ваше исчезновение из дому: обо всем этом можно услыхать только из его собственных уст, и никто, кроме меня, не может спросить его об этом. Знайте, сеньора Корнелия, что здоровье и спокойствие герцога и вашего брата я буду охранять, как зеницу ока.
— Сеньор дон Хуан, — сказала Корнелия, — если небо в такой же степени одарило вас умением примирять, в какой оно наделило вас даром утешать меня в моих великих страданиях, я заранее почитаю себя счастливой; мне хотелось бы, чтобы вы уже съездили и вернулись; пусть я буду мучиться страхом, пока вас не будет; пусть я буду изнывать от надежды.
Дон Антоньо одобрил решение дана Хуана, с похвалой отозвался об искренности, которой он ответил на доверие Лоренцо Бентивольо, и тут же прибавил, что на всякий случай он отправится в дорогу вместе с ним.
— Ну нет! — вскричал дон Хуан. — Во-первых, вам не следует оставлять без призора сеньору Корнелию, а во-вторых, сеньор Лоренцо может подумать, что я хочу присвоить себе ваши труды.
— Мои труды — то же самое, что ваши собственные, — сказал Антоньо, — а поэтому мне хочется сопровождать вас хотя бы только издали и негласно; думаю, что сеньоре Корнелии это будет скорее приятно, тем более, что сна не останется в одиночестве; при ней будут люди, способные развлечь ее и окружить вниманием и уходом.
На это Корнелия ответила:
— Для меня, сеньоры, будет великим утешением знать, что вы едете вместе и, во всяком случае, устроитесь так, чтобы в случае нужды прийти на помощь друг другу; тем не менее вы, по моему мнению, отправляетесь на опасное дело, сделайте же мне одолжение, сеньоры, возьмите с собой эти святые реликвии. — При этих словах она сняла с шеи богатейший алмазный крест и золотой «агнус», по цене ничем не уступавший кресту. Осмотрев драгоценности, друзья убедились, что стоимость их несомненно превышает убор герцогской шляпы; они тотчас же вернули их ей и наотрез отказались взять с собой, сославшись на то, что у них есть свои реликвии, правда, не так богато отделанные, но зато вполне равные этим своими достоинствами. Отказ очень огорчил Корнелию, но ей оставалось только подчиниться их усмотрению.
Экономка все время с большой заботливостью прислуживала Корнелии, а узнав про отъезд своих господ (о чем ей было сообщено без указания, впрочем, куда и зачем они ехали), она пообещала так присматривать за сеньорой, имени которой она все еще не знала, что та и не почувствует отсутствия обоих друзей.
На другой день рано утром Лоренцо уже стоял у ворот, а дон Хуан был в дорожном платье и в шляпе с убором, причем шляпу украшали черные и желтые перья, а убор был прикрыт черным шелком. Они пошли проститься с Корнелией, но от одного сознания, что брат находится в двух шагах, несчастная до того испугалась, что не смогла сказать ни слова обоим путникам. Первым выступил из дома дон Хуан, отправившийся с доном Лоренцо за город; в рощице, стоявшей в стороне от дороги, они нашли двух отличнейших коней с двумя конюхами, державшими лошадей под уздцы.
Они тронулись в путь и, все время имея конюхов впереди себя, круговыми тропами и переходами направились в Феррару. Дон Антоньо на своем крепыше в сопровождении второго коня, покрытого попоной и замаскированного, поехал было за ними следом, но ему стало казаться, что кое-кто (а в особенности Лоренцо) поглядывает на него с какой-то опаской, а поэтому он решил ехать в Феррару прямым путем, отлично зная, что на месте все они встретятся.
Едва они покинули город, как Корнелия посвятила экономку во все свои дела, рассказав, что младенец — ее сын от герцога Феррарского, с добавлением всех изложенных выше подробностей, относившихся к ее приключению; она не утаила также, что путь обоих испанцев лежал на Феррару и что молодые люди сопровождают ее брата, отправившегося вызвать на дуэль герцога Альфонсо.
Выслушав ее, экономка (словно ее подстрекнул сам дьявол, чтобы запутать, затруднить и отдалить благополучие Корнелии) воскликнула:
— Ах, сеньора, сеньора, с вами случилось великое несчастье, а вы беспечны и беззаботны! Сердца у вас нет, что ли, или же оно такое бестолковое, что ничего не чувствует? Да неужели вы верите, что ваш брат поехал в Феррару? Не думайте так и знайте, что он взял с собой и выманил из дому моих господ для того, чтобы потом вернуться обратно и лишить вас жизни, а сделать это ему будет так же легко, как выпить ковшик воды. Подумаешь, какая охрана и защита — трое оставшихся с нами слуг, с которых уже одного расчесывания на себе коросты за глаза довольно, а не то, что еще мешаться в чужие дела! А про себя я вам наверное скажу, что у меня не хватит духа выжидать испытаний и гибели, угрожающих этому дому. Чтобы сеньор Лоренцо — итальянец — доверился вдруг испанцам и стал просить у них поддержки и помощи?! Да пусть я прежде вот это выкушаю (тут она сама себе показала фигу), чем поверю всей этой болтовне! А вот если вы, голубушка, пожелаете меня послушаться, я вам дам такой совет, какой вам и не снился.
Корнелия трепетала, терялась и цепенела от страха, слушая доводы экономки, высказанные с такой уверенностью и с таким выражением ужаса, что все они показались бедняжке правдой: а что, если и дона Хуана и дона Антоньо уже нет в живых? А что, если ее брат покажется вдруг в дверях и бросится на нее с кинжалом?.. Поэтому она задала ей такой вопрос:
— Какой же совет хотите вы мне предложить? Неужели он действительно спасет меня и убережет от надвигающегося несчастья?
— Я вам дам такой совет, то есть такой совет, что лучшего и не надо! — произнесла экономка. — Дело в том, сеньора, что я состояла в услужении у одного «пьовано», то есть священника, живущего в деревне, которая находится в двух милях от Феррары. Это добрый и святой человек; он сделает для меня все, что я ни попрошу, ибо он обязан мне много больше, чем обыкновенный хозяин. Итак, едем; я берусь разыскать человека, который нас туда сейчас же свезет; женщина, кормящая грудью младенца, очень бедная и поедет с нами хоть на край света. Даже в том случае, если тебя действительно станут искать, лучше будет, если тебя найдут в доме старого и почтенного священнослужителя, а не в жилище двух молодых испанских студентов, которые (могу сказать, как на духу) никогда не пропускают удобного случая! До сих пор, сеньора, они вследствие твоей болезни щадили тебя, но когда ты поправишься и выздоровеешь у них в доме, тебе остается молить о защите небо! Клянусь тебе, если бы не моя твердость, высокомерие и непорочность, они бы черт знает что сделали и со мной и с моей честью! Знай: не все то золото, что блестит. Одно они говорят, а другое думают. Ну, да я им себя показала; я ведь дошлая. Знаю, на какой ноге у меня башмак жмет. А самое главное — я из очень хорошего рода: я ведь веду свою линию от миланских Кривелли[142], и мое дворянское древо на десять миль за облака уходит. Уже из одного этого ты можешь заключить, что в жизни на мою долю выпали великие несчастья: будучи весьма родовитой, я стала простой массарой у испанцев, которые меня величают «хозяйкой»! По совести говоря, мне не приходится жаловаться на своих сеньоров, ибо они у меня, если только не вспылят, сущие ангелы, и в этом смысле они самые настоящие баски, каковыми они, судя по их словам, действительно и являются. Ну, а в отношении тебя, сеньора, они могут оказаться галисийцами[143]: это — люди совсем другого разбора и, по общему отзыву, ни щепетильностью, ни особыми доблестями, свойственными баскам, не отличаются.
Одним словом, экономка привела ей столько доводов, что бедная Корнелия решила последовать ее советам; экономка распорядилась, Корнелия поддержала, и через каких-нибудь четыре часа обе они вместе с кормилицей уселись в коляску и незаметно от слуг выехали в деревню священника. Все было устроено по настоянию экономки и на ее деньги, ибо совсем недавно хозяева выплатили ей годовое жалованье, почему не пришлось даже закладывать драгоценную вещь, которую ей предложила Корнелия.
Поскольку им удалось услышать, что дон Хуан с братом Корнелии поедут в Феррару не прямым путем, а окружными переходами, странницы решили избрать прямую дорогу и двигаться не спеша, чтобы избежать встречи, тем более, что хозяин коляски ни в чем не перечил, так как ему было щедро заплачено.
Теперь мы их оставим в дороге (а они, несмотря на свои заблуждения, избрали все-таки правильный путь) и постараемся узнать, что случилось с доном Хуаном де Гамбоа и с сеньором Лоренцо Бентивольо. Говорят, во время путешествия им стало известно, что герцог находится не в Ферраре, а все еще в Болонье, и поэтому, покинув окружные тропы, они выехали на большую дорогу или, как в тех краях называют, на «страда маэстра», рассудив, что при своем возвращении из Болоньи герцог, наверное, проследует по ней.
После того как они сделали сравнительно короткий конец, все время внимательно поглядывая в сторону Болоньи, чтобы выяснить, не едет ли кто-нибудь, они различили вдали колонну всадников. Дон Хуан тотчас попросил Лоренцо взять в сторону от дороги с тем расчетом, чтобы, если среди конной толпы окажется герцог, переговорить с ним немедленно, то есть прежде чем герцог успеет вступить в Феррару, находившуюся поблизости. Лоренцо послушался и вполне согласился с мнением дона Хуана. Как только Лоренцо от него отделился, дон Хуан снял чехол, покрывавший богатый убор его шляпы, и сделал это не без некоторого умысла, как он сам об этом рассказывал.
Тем временем приблизился отряд путников, среди которых верхом на пестрой лошади ехала женщина в дорожном платье и в маске, надетой не то для соблюдения тайны, не то для защиты от ветра и солнечных лучей.
Дон Хуан остановил коня и, не прикрывая лица, стал поджидать, когда всадники подъедут поближе. После того как расстояние сократилось, статность, молодцеватость, могучий конь, нарядное платье и блеск алмазов приковали к нему взоры всех путников, особенно же взоры герцога Феррарского, находившегося в их среде. Стоило герцогу взглянуть на убор шляпы, как он сразу же догадался, что убор этот украшал дона Хуана де Гамбоэ, спасшего его во время схватки; окончательно укрепившись в этой мысли, он, не раздумывая больше, пустил своего коня на дона Хуана и воскликнул:
— Думаю, что не ошибусь, сеньор кавальеро, если я вас назову доном Хуаном де Гамбоа, ибо ваша статная внешность и украшение на шляпе определенно подтверждают это.
— Вы совершенно правы, — ответил дон Хуан, — я не умею и не люблю скрывать свое имя; но откройте мне, пожалуйста, кто вы, иначе я, помимо собственной воли, могу повести себя недостаточно вежливо.
— Быть того не может, — сказал герцог, — ибо я твердо знаю, что при любых обстоятельствах вы всегда окажетесь безупречным; но все-таки я открою вам, что я герцог Феррарский, обязанный быть к вашим услугам до последних дней своей жизни, ибо не прошло еще и четырех ночей с тех пор, как вы меня спасли.
Еще прежде чем были произнесены эти слова, дон Хуан с необыкновенной поспешностью соскочил с коня и бросился целовать ноги герцога; однако, несмотря на всю быстроту его движений, герцог успел покинуть седло и в то самое время, когда коснулся ногой земли, он оказался в объятиях дона Хуана.
Сеньор Лоренцо, наблюдавший этот обмен учтивостями с некоторого отдаления, принял проявления вежливости за движения гнева, а потому он пришпорил было своего коня, но затем сразу осадил его на всем скаку, уяснив, что герцог, которого он наконец узнал, дружественно обнимается с доном Хуаном. Между тем герцог через плечо дона Хуана заметил Лоренцо и, узнав его, в свой черед пришел в некоторое смятение; не разнимая своих объятий, он тут же спросил дона Хуана, не с ним ли приехал находящийся тут Лоренцо Бентивольо.
На вопрос его дон Хуан ответил:
— Отойдемте немного в сторону; я сообщу вашей светлости важные вещи.
Герцог повиновался, и дон Хуан продолжал:
— Лоренцо Бентивольо, которого вы заметили, предъявляет вам серьезное обвинение. Он утверждает, что четыре ночи тому назад вы похитили из дома его родственницы его родную сестру Корнелию и что вы ее обманули и обесчестили; он хочет выяснить, намерены ли вы дать ему удовлетворение, и на основании этого решить, что ему следует делать. Он просил меня выступить его защитником и посредником, на что я изъявил свое согласие, ибо но некоторым его намекам на ночную схватку сообразил, что именно вы, сеньор, являетесь обладателем украшения, которое вы по щедрости и учтивости своей пожаловали мне в дар. В полной уверенности, что никто лучше меня не выполнит обязанностей вашего представителя, я, как уже только что вам говорил, предложил ему свою помощь. Мне очень хотелось бы узнать, что вам известно по этому делу и в какой степени справедливы обвинения Лоренцо.
— Увы, друг мой, — воскликнул герцог, — они так справедливы, что я не смог бы их отрицать, даже если бы этого хотел. Я не обманывал и не похищал Корнелию, хотя мне отлично известно, что она исчезла из упоминавшегося здесь дома: не обманывал я ее потому, что всегда считал ее своей невестой, но я ее, кроме того, и не похищал, ибо не знаю, где она сейчас. Если же я всенародно не отпраздновал своего брака, то потому только, что ожидал, пока моя мать (находящаяся при смерти) отойдет в лучший мир, ибо ей хотелось видеть моей женой Ливию, дочь герцога Мантуанского; были, правда, еще и другие, более существенные причины, которые пока что не следует оглашать.
Во всяком случае, в ту самую ночь, когда вы оказали мне помощь, я должен был отправить свою невесту в Феррару ввиду наступления месяца, когда ей надлежало произвести на свет сокровище, которое я, по соизволению неба, ей доверил. Не знаю, был ли тому виной ночной переполох или мой личный промах, но при моем приближении к ее жилищу я увидел, что оттуда вышла посредница наших переговоров. На мой вопрос, где Корнелия, она ответила, что госпожа ее находится уже вне дома и что этою самою ночью она мне родила прелестнейшего младенца, который был передан моему слуге Фабио. Прислужница, о которой идет речь, едет сейчас с нами; Фабио налицо, а ребенок и Корнелия не объявились. Два последних дня я провел в Болонье, ища и выжидая случая услышать что-нибудь про Корнелию, но не узнал решительно ничего.
— Так что если бы Корнелия и ваш ребенок, — спросил дон Хуан, — неожиданно нашлись, то вы, сеньор, не стали бы отрицать, что она ваша жена, а малютка — родной ваш сын?
— Разумеется, нет, ибо если меня обязывает звание кавальеро, то еще больше обязывает меня звание христианина, а кроме того, Корнелия — женщина, достойная сделаться повелительницей целого королевства. Пусть только она объявятся, и независимо от того, умрет или выживет моя мать, весь мир убедится в том, что хотя любовь моя была негласной, но я умею всенародно подтверждать даваемые мною обещания.
— Одним словом, — еще раз спросил дон Хуан, — вы согласны повторить свои слова перед шурином вашим, доном Лоренцо?
— Мало того, я до крайности огорчен, что он совсем не спешит об этом узнать.
В ту же минуту дон Хуан сделал Лоренцо знак сойти с коня и приблизиться к тому месту, где они находились; Лоренцо последовал приглашению, нисколько не догадываясь о приятных вестях, которые его ожидали.
Герцог выступил вперед, принял его в свои объятия, и первым словом прозвучавшим в его обращении, было слово «брат».
Лоренцо не нашел, что ответить на такое нежное приветствие и учтивую встречу; он так оторопел, что, прежде чем успел произнести хоть слово, дон Хуан обратился к нему сам:
— Сеньор Лоренцо, герцог не отрицает своих тайных сношений с вашей сестрой, сеньорой Корнелией; он признает ее своей законной женой. Он готов заявить об этом во всеуслышание в тех самых выражениях, в каких заявил об этом мне. Он не отрицает также того, что четыре ночи тому назад собирался похитить Корнелию из дома родственницы, отправить ее в Феррару и выжидать удобной минуты для празднования свадьбы, отложенной по весьма уважительным и сообщенным мне ныне причинам. Он рассказал мне про схватку, происшедшую между вами, и про то, как, отправившись за Корнелией, он встретился с Сульпицией (служанкой, которая сейчас тут находится), сообщившей ему, что около часа назад Корнелия разрешилась от бремени и что младенец был отдан герцогскому слуге. Корнелия, понадеявшись на присутствие герцога, в сильном испуге поспешила покинуть свой дом (из опасения, что вам, сеньор Лоренцо, стал известен ее проступок). Но Сульпиция отдала ребенка не герцогскому слуге, а кому-то другому. Корнелия исчезла неизвестно куда. Герцог принимает всю вину на себя и дает клятву, что если Корнелия отыщется, он примет ее к себе как настоящую жену. Сами подумайте, сеньор Лоренцо, о чем нам говорить и чего нам желать, если не обретения обоих столь дорогих и столь несчастных существ?
В ответ на это сеньор Лоренцо бросился в ноги герцогу, упорно старавшемуся поднять его с земли.
— Светлейший сеньор и брат, от ваших по-христиански возвышенных чувств ни я, ни сестра моя не могли ожидать ничего, кроме благодеяния, которое теперь нам сказывается: ее вы подняли до себя, а меня удостоили вашей близости.
В это мгновение у него и у герцога глаза были полны слез, ибо каждый из них был сильно взволнован: один — потерей жены, другой — неожиданным приобретением столь важного зятя. Впрочем, оба они рассудили, что было бы очевидною слабостью выражать свои чувства слезами, а потому постарались подавить их и удержать. Зато у дона Хуана глаза были такие веселые, что невольно казалось, будто он собирается просить установленной награды за отыскание Корнелии и малютки, находившихся сейчас у него дома.
В это самое время на дороге показался дон Антоньо де Исунса, которого дон Хуан еще издали признал по коню. Подъехав поближе, он остановился и увидел, что лошадей дона Хуана и Лоренцо держат под уздцы какие-то конюхи, а чуть-чуть подальше, в стороне от дороги, он узнал дона Хуана и Лоренцо, но, конечно, не мог узнать герцога и потому не мог сообразить, как ему быть: подъезжать или не подъезжать к тому месту, где находился дон Хуан. Он подошел к слугам герцога и осведомился, как зовут кавальеро (он указал им, кого имеет в виду), стоящего рядом с двумя сеньорами; ему ответили, что это герцог Феррарский. От этого известия он еще больше растерялся и не мог решить, что ему следует предпринять. Его вывел из замешательства дон Хуан, окликнувший его по имени. Видя, что все они стоят, дон Антоньо соскочил с коня и подошел к ним поближе. Герцог встретил его с отменной учтивостью, так как дон Хуан представил ему дона Антоньо как своего товарища. Затем дон Хуан рассказал дону Антоньо о герцоге и о событиях, случившихся за время его отсутствия.
Дон Антоньо чрезвычайно обрадовался новостям и сказал, обращаясь к дону Хуану:
— Почему же, сеньор дон Хуан, вы не хотите до конца развеселить и утешить этих сеньоров и не попросите у них награды за отыскание сеньоры Корнелии и малютки?
— Если бы вы сюда не приехали, я, несомненно, взял бы это на себя, а теперь вам придется самому приступить к делу. Просите: я уверен, что награду вам дадут с превеликой охотой.
Как только герцог и Лоренцо услышали слова «отыскание Корнелии» и «награда», они поспешили спросить, в чем дело.
— Дело в том, — сказал дон Антоньо, — что я тоже хочу стать участником вашей трагикомедии и беру на себя роль лица, просящего награду за отыскание сеньоры Корнелии и ее малютки, находящихся сейчас в нашем доме.
И он тут же в подробностях изложил все то, о чем здесь было рассказано. Известие это доставило столько радости и удовольствия герцогу и сеньору Лоренцо, что дон Лоренцо даже поцеловался с доном Хуаном, а герцог — с доном Антоньо. Герцог пообещал дать в награду все свои владения, а сеньор Лоренцо свое имущество, жизнь и душу. Тем временем была позвана прислужница, вручившая дону Хуану ребенка. Узнав дона Лоренцо, она вся затрепетала. На вопрос, известен ли ей человек, которому она отдала младенца, девушка ответила, что нет. Дело в том, что когда она спросила «ты — Фабио?», ей ответили «да»; после этого она, не колеблясь, сдала ему на руки малютку.
— Да, так оно и было, — сказал дон Хуан, — при этом вы, сеньора, поспешили запереть дверь, попросив меня снести ребенка в надежное место и немедленно явиться обратно.
— Совершенно верно, сеньор, — ответила девушка, заливаясь слезами.
— Слез нам теперь не надо, — заметил герцог, — будем ликовать и веселиться. Дело в том, что я не поеду сегодня в Феррару, а вернусь в Болонью: до тех пор, пока мы воочию не увидим Корнелию, радость наша будет преждевременной.
И, не теряя лишних слов, они, с общего согласия, повернули обратно в Болонью. Дон Антоньо поехал вперед, чтобы приготовить Корнелию и не волновать ее неожиданным появлением герцога и брата. Но когда обнаружилось, что ее нет, и когда слуги не сумели представить ему никаких сведений, он стал самым грустным и потерянным человеком на свете; заметив отсутствие экономки, он сразу заподозрил, что это не обошлось без ее козней.
Слуги заявили, что экономка скрылась в тот самый день, когда уехали хозяева, но что Корнелию, о которой их расспрашивают, они никогда в жизни не видели.
Дон Антоньо был сам не свой от этого неожиданного несчастья, терзаясь мыслью, что герцог может счесть их обоих лгунами и обманщиками или заподозрить еще более позорные вещи, оскорбительные для его чести и доброго имени Корнелии.
В то время как он был погружен в эти мысли, в дверях показались герцог и дон Хуан, которые, пустившись в обход по малолюдным улицам и оставив своих коней за городом, добрались наконец до жилища дона Хуана. Они увидели, что дон Антоньо сидит на стуле, подперев рукой щеку, и что лицо его бледно, как у мертвеца. Дон Хуан справился, не случилось ли какого-нибудь несчастья и где сейчас находится Корнелия.
— Большего несчастья и придумать нельзя: дело в том, что Корнелия вместе с экономкой, оставшейся при ней для услуг, исчезла из дома с того самого дня, как мы оба уехали.
При этом известии с герцогом едва не случился удар, а Лоренцо был на границе отчаяния. Впрочем, и все присутствующие тоже были смущены, ошеломлены и растеряны.
Вдруг к дону Антоньо подошел один из слуг и тихо сказал ему на ухо:
— Сеньор, у Сантистэвана, слуги сеньора Хуана, с того самого дня, как отбыли ваши милости, заперта в комнате очень красивая девушка, которая, если судить по тому, как он ее называл, носит имя Корнелии.
Дон Антоньо переполошился и сгоряча подумал, что лучше будет, если Корнелия (он решил, что слуга держал на запоре именно ее) совсем не объявится, чем если ее найдут в подобном месте. Тем не менее он, ни слоза не говоря, в полном молчании отправился в комнату слуги и увидел, что дверь на замке, а слуги не было дома. Он подошел к двери и шепотом произнес:
— Откройте, сеньора Корнелия; выходите встречать вашего брата и герцога — вашего жениха, приехавшего сюда за вами.
Из комнаты ему на это ответили:
— Нашли над кем потешаться! Что ж я, по-вашему, такая рожа или такая паршивая, что ко мне не могут ходить графы и герцоги: особа, имеющая дело с их челядью, вполне этого заслуживает!
Подобного рода ответ сразу уяснил дону Антоньо, что говорившая никоим образом не могла быть Корнелией. Тем временем Сантистэван возвратился домой и тотчас же поспешил к себе в комнату. Увидев дона Антоньо, требовавшего, чтобы ему принесли ключи от всего дома и чтобы попробовали, не подойдет ли какой-нибудь из них к двери, слуга упал на колени и, держа в руке свой ключ, сказал:
— Отсутствие обоих сеньоров и моя — если мягко выразиться — глупость навели меня на мысль позвать к себе на эти три ночи знакомую женщину. Сеньор дон Антоньо де Исунса (пошли вам господь добрых вестей из Испании), умоляю вас, не говорите об этом ни слова моему господину, дону Хуану де Гамбоа, если он сам ничего не знает. А женщину эту я сию же минуту выгоню вон!
— А как зовут твою женщину? — спросил дон Антоньо.
— Ее зовут Корнелия, — ответил Сантистэван.
В эту минуту слуга, разгласивший про тайную проделку Сантистэвана, с которым он был не в ладах (неизвестно, по простоте ли своей или же умышленно), вошел в комнату, где находились герцог, дон Хуан и Лоренцо, со следующими словами:
— Ну и насмешил меня ваш молодец! Пришлось ему выставить свою сеньору Корнелию! А уж как он ее припрятывал! Ясное дело, он от всей души желал, чтобы хозяева подольше не возвращались и позволили ему продлить новоселье еще денька три-четыре.
Лоренцо выслушал его и спросил:
— Что ты тут болтаешь, дружище? В каком же это месте находится Корнелия?
— У нас наверху, — заявил слуга.
Едва только герцог услышал этот ответ, как он с быстротой молнии бросился вверх по лестнице, вообразив, будто Корнелия отыскалась и что он может ее увидеть; он сразу попал в комнату, где находился дон Антоньо, и спросил при входе:
— Где же Корнелия, где же душа моей души?
— Я здесь, — ответила на это женщина, покрытая простыней и прятавшая свое лицо. — Черт подери, — продолжала она, — да что я вам, вол краденый, что ли? Подумаешь, какая невидаль, если женщина спит со слугой! Стоит из-за этого выкидывать подобные штуки!
Лоренцо, присутствовавший при разговоре, в раздражении и гневе дернул за конец простыни и обнажил молодую и недурную собой женщину, от стыда прикрывшую рукою лицо и торопливо собиравшую одежду, лежавшую у нее в головах вместо подушки, которой на кровати не было. По одежде ее все сразу увидели, что это — беспутная, бродяжничающая женщина.
Герцог спросил, действительно ли ее зовут Корнелия. Женщина ответила «да» и заявила, что в городе у нее есть весьма почтенные родственники и что вообще, мол, «не плюй в колодезь» и т. д.
Герцог страшно смутился и был недалек от мысли, что испанцы над ним зло подшутили; но, не желая, впрочем, поддаваться столь обидному подозрению, он повернулся и, не сказав ни слова, сел в одно время с Лоренцо на коня и уехал, оставив дона Хуана и дона Антоньо в таком же замешательстве, в каком находился сам. Наши кавальеро порешили, приложив все возможные старания и не останавливаясь ни перед чем, непременно разыскать Корнелию и убедить герцога как в правдивости своих слов, так и в чистоте своих намерений. Сантистэван был рассчитан, беспутная Корнелия выгнана вон. И вот им вдруг вспомнилось, что они забыли рассказать герцогу, как Корнелия предлагала им свои драгоценности, то есть «агнус» и алмазный крест; ссылка на столь приметные вещи, несомненно, убедила бы его в том, что Корнелия здесь была, а если сейчас она исчезла, то они в том отнюдь не повинны.
Они отправились доложить ему об этом, но не застали герцога в доме Лоренцо, где, по их мнению, ему полагалось быть. Сам Лоренцо находился дома и сообщил, что герцог, не мешкая ни минуты, уехал к себе в Феррару, поручив ему розыски сестры. Они объяснили цель своего посещения, но Лоренцо им заявил, что герцог остался очень доволен их образцовым поведением и, подобно самому Лоренцо, объяснял исчезновение Корнелии ее непомерными страхами. Оба они надеялись, что Корнелия, с божьею помощью, найдется, ибо не могли же в самом деле провалиться сквозь землю ребенок, экономка и она сама.
Под влиянием этих успокоительных доводов они отказались от мысли производить розыски с помощью публичных глашатаев и ограничились одними тайными мерами: ибо никто, кроме двоюродной сестры, не знал о предосудительном поступке. Между тем широкая огласка могла бы набросить тень на доброе имя Корнелии в глазах людей, еще ничего не знавших о намерениях герцога, тем более, что рассеивать подозрения, навеянные предвзятою мыслью, — дело чрезвычайно трудное.
Счастливый случай, начавший благоприятствовать герцогу, устроил так, что он оказался в той самой деревне, где жил священник, у которого остановились Корнелия, ее ребенок, кормилица и советница-экономка. Дело в том, что герцог хорошо знал священника и даже имел обыкновение наезжать из Феррары к нему в дом, обставленный согласно вкусам богатого и любящего свои удобства духовного лица; от него он любил отправляться на охоту и весьма одобрял как порядки дома, так и веселый склад ума, сказывавшийся в словах и поступках священника.
Этот последний нисколько не удивился посещению герцога, поскольку такого рода приезды случались довольно часто; ему не понравилось только, что герцог приехал грустным: он сразу же сообразил, что душу его омрачало какое-то страдание. Корнелия случайно узнала, что в доме находится герцог Феррарский, и это привело ее в крайнее смущение, ибо причина его приезда была ей неведома. Она ломала руки и ходила из угла в угол, как потерянная. Ей хотелось поговорить со священником, но тот был занят приемом герцога и не мог уделить ей нужного времени.
Герцог сказал:
— На душе у меня великая грусть, отец мой; я не хочу возвращаться сегодня в Феррару и погощу немного у вас. Попросите моих спутников ехать в столицу, а при мне пусть останется только Фабио.
Священник исполнил его просьбу и отправился распорядиться подробностями приема и уходом за гостем, благодаря чему Корнелии удалось с ним переговорить. Схватив его за руку, она сказала:
— Отец мой и мой господин! Разузнайте, зачем приехал герцог. Ради бога, сеньор, заговорите с ним как-нибудь о моем деле и попытайтесь выяснить и получить сведения, какие у него виды. Поступайте, разумеется, как вам будет удобнее и как вам подскажет ваш редкий ум.
Священник ответил ей:
— Герцог очень грустит, а почему — он мне до сих пор еще не открыл. Сейчас следовало бы сделать вот что: принарядить ребенка и надеть на него драгоценности, какие у вас найдутся, в особенности же те, которые герцог вам сам подарил. Остальное предоставьте мне; мне кажется, что небо пошлет нам сегодня счастливый день.
Корнелия обняла его, поцеловала у него руку и ушла к себе снаряжать и украшать ребенка.
Священник отправился занять герцога разговором, чтобы заполнить время, оставшееся до обеда. За беседой он осведомился, нельзя ли узнать причину его задумчивости, ибо всякому видно, что герцог весьма опечален.
— Отец мой, — ответил герцог, — лицо наше несомненно отражает печали нашего сердца, и по глазам всегда можно прочесть, что творится у нас в душе; но, к сожалению, на этот раз я ни с кем не могу поделиться своим горем.
— Имейте в виду, сеньор, — сказал священник, — если у вас появится настроение смотреть любопытные вещи, я бы мог вам показать нечто, способное, на мой взгляд, доставить вам большое развлечение.
— Было бы нелепо, конечно, — заметил герцог, — ответить отказом на предложение облегчить наши страдания. Покажите же мне, отец мой, ту вещь, о которой вы сейчас говорили; это, должно быть, какая-нибудь новая ваша затея, а все ваши выдумки мне чрезвычайно нравятся.
Священник поднялся с места и прошел в комнату, где находилась Корнелия с ребенком, который был уже нарядно одет и украшен не только драгоценным «агнусом» и крестом, но и еще тремя дорогими вещицами, тоже подаренными герцогом. Взяв младенца на руки, он снова вышел к гостю, попросив его встать и подойти поближе к светлому окну: там он передал ребенка с рук на руки герцогу. С первого же взгляда узнав драгоценности и сообразив, что перед ним вещи, подаренные им в свое время Корнелии, герцог страшно удивился и. пристально вглядевшись в ребенка, установил, что малютка был точь-в-точь его вылитый портрет. Едва справляясь со своим изумлением, герцог спросил священника, чей это ребенок, нарядом и украшениями напоминающий сына какого-нибудь государя?
— Не знаю, — ответил священник, — мне известно только, что дня четыре тому назад его принес сюда неизвестный кавальеро из Болоньи, велевший растить его и холить, потому что малютка — сын родовитого отца и красавицы-матери. Вместе с кавальеро прибыла также кормилица младенца, которая на мои расспросы о его родителях ответила полным незнанием. И, по правде сказать, если мать так же красива, как кормилица, она, наверное, должна быть первой красавицей Италии.
— Нельзя ли на нее взглянуть? — справился герцог.
— Разумеется, можно, — ответил священник, — вам стоит только пройти следом за мной, и если вас очаровали убранство и красота младенца (мне кажется, они вас в самом деле очаровали), то не меньшее впечатление произведет на вас, надо думать, и внешность его нянюшки.
Священник хотел было взять ребенка от герцога, но тот не пожелал его отпустить, а еще сильнее прижал к груди я покрыл несчетными поцелуями. Священник прошел вперед и сказал Корнелии, чтобы она без всякого смущения выходила встречать герцога.
Корнелия послушалась, и от волнения лицо ее разгорелось таким румянцем, краше которого не придумали бы никакие ухищрения человеческие. При виде ее герцог остолбенел; она же бросилась к его ногам и пыталась их поцеловать. Но герцог, не проронив ни слова, передал малютку священнику, повернулся к ним спиной и с большой поспешностью вышел из комнаты.
— Увы, сеньор мой, — воскликнула Корнелия, обратившись к священнику, под впечатлением этого ухода, — неужели герцог испугался моего вида? Неужели я ему противна и он нашел меня безобразной? Неужели он не скажет мне ни единого слова? Неужели его сын успел уже ему опостылеть и он поспешил сбыть его с своих рук?
На все ее вопросы священник ничего не ответил, ибо был крайне озадачен бегством герцога; ему явственно казалось, что это было именно бегство, тогда как на самом деле герцог отправился к Фабио и отдал ему следующий приказ:
— Лети, дружище Фабио; отправляйся сию же минуту обратно в Болонью и передай Лоренцо Бентивольо и обоим испанским кавальеро, дону Хуану де Гамбоа и дону Антоньо де Исунса, чтобы они, нисколько не мешкая, выезжали в эту деревню. Смотри же, дружок, лети во всю прыть и без них не возвращайся: видеть их здесь для меня вопрос жизни и смерти.
Фабио не отличался ленивостью, а потому мигом исполнил приказание своего сеньора. Герцог немедленно возвратился обратно к Корнелии, проливавшей хрустально-чистые слезы. Герцог принял ее в свои объятия и, смешав ее слезы со своими, тысячекратно испил дыхание ее уст, причем радость сковала их языки, и счастливые влюбленные, а вернее, нареченные муж и жена в скромном и нежном молчании упивались друг другом.
Кормилица и «урожденная Кривелли» (как сама себя величала экономка), глядевшие из соседней двери на нежное обхождение герцога с Корнелией, на радостях стали делать вид, будто бьются головой о стену, и вели себя совсем как полоумные. Священник все время покрывал несчетными поцелуями младенца и, освобождая свою правую руку, без устали посылал благословения в сторону обнявшейся пары. Служанка священника, занятая приготовлением обеда, не присутствовала при этой встрече, но, покончив со стряпней, она вышла позвать всех к столу. Ее появление заставило герцога выпустить из объятий Корнелию; он снова взял ребенка на руки и не расставался с ним во все время опрятного и вкусно приготовленного, хотя и не роскошного обеда; пока присутствовавшие были заняты едой, Корнелия рассказала обо всем, что с ней случилось до ее прибытия в этот дом по совету экономки испанских кавальеро, которые окружили ее в свое время таким уходом, так ее успокаивали и с такой примерной и безупречной щепетильностью с ней обращались, что оставалось только поражаться. Герцог со своей стороны сообщил ей все, что с ним произошло вплоть до настоящей минуты. Кормилица и экономка, присутствовавшие при обеде, удостоились от герцога лестных обещаний и посулов.
Счастливое завершение событий подняло общее настроение духа, и, для того, чтобы еще больше улучшить его и довести до самого крайнего предела, все ожидали только прибытия Лоренцо, дона Хуана и дона Антоньо, которые приехали через три дня, сгорая страстным желанием узнать, какие новости сообщит им герцог о Корнелии: дело в том, что явившийся за ними Фабио не мог им рассказать об ее отыскании, поскольку он сам еще ничего не знал.
Герцог вышел их встретить в комнату, находившуюся перед помещением Корнелии, сознательно воздерживаясь от каких бы то ни было проявлений радости, что сразу же опечалило новоприбывших.
Герцог попросил их сесть, подвинулся к ним поближе и, обратившись к Лоренцо, сказал так:
— Вам отлично известно, сеньор Лоренцо Бентивольо, что я отнюдь не являюсь обманщиком вашей сестры: в этом могут поручиться небо и моя совесть! Вам известно также, с каким усердием я ее разыскивал и сколь велико было мое желание найти ее и жениться на ней, согласно данному ей однажды обещанию. Но Корнелия не найдена, а слово мое не может быть вечным. Я молод и не так уж искушен в мирских делах, чтобы не увлекаться соблазнами, сулящими мне на каждом шагу наслаждение. Страсть, заставившая меня в свое время дать обещание вашей сестре — еще до встречи с Корнелией. — связала меня словом с одной крестьянкой из этой деревни, но я предпочел покинуть ее опозоренной и тем самым решить дело в пользу чести Корнелии, а не в пользу голоса совести, что с моей стороны явилось серьезным доказательством любви. Но поскольку никто не обязан жениться на прячущейся от него беглянке и поскольку было бы верхом безрассудства домогаться женщины, которая нас покидает (ибо может оказаться, что она пылает к нам ненавистью), я решил спросить у вас, сеньор Лоренцо: скажите, какого рода удовлетворение могу я дать за обиду, которую я вам нанес, и без всякого, впрочем, намерения сознательно вас обидеть; а кроме того, я хочу, чтобы вы мне позволили исполнить свое прежнее обещание и жениться на крестьянке, находящейся сейчас в этом доме.
Во время речи герцога Лоренцо успел тысячу раз измениться в лице и никак не мог спокойно усидеть в кресле: явный признак того, что гнев брал верх над всеми остальными чувствами. То же самое происходило с доном Хуаном и с доном Антоньо, которые сразу решили не допустить осуществления этой затеи, если бы даже для этого пришлось лишить герцога жизни.
Герцог, читавший по лицам собеседников их мысли, прибавил еще:
— Не волнуйтесь, сеньор Лоренцо; прежде чем вы мне что-нибудь ответите, я хочу, чтобы красота женщины, намеченной мною в жены, побудила вас дать мне разрешение, о котором я хлопочу, ибо красота ее столь необычайна, что может послужить оправданием самой тяжкой вины.
С этими словами герцог поднялся и прошел в комнату, где находилась Корнелия, одетая в пышный наряд, блиставший всеми драгоценностями, бывшими на ребенке, и многими другими украшениями.
Когда герцог удалился, дон Хуан встал с места, положил руки на ручки кресла, в котором сидел дон Лоренцо, и сказал ему на ухо:
— Сеньор Лоренцо, клянусь вам именем Сант Яго Галисийского, а также званием и честью христианина и кавальеро, что герцогу удастся выполнить свое намерение не раньше, чем… я сделаюсь мавром! Или он примет смерть от моих рук в этой же самой комнате, или он исполнит обещание, данное вашей сестре Корнелия; во всяком случае, он обязан оставить нам время для поисков, а до тех пор, пока мы с достоверностью не установим, что ее нет в живых, он не имеет права думать о женитьбе.
— Я тоже держусь вашего мнения, — произнес Лоренцо.
— Его несомненно разделяет и мой товарищ, дон Антоньо, — заявил дон Хуан.
В это время в комнату вошла Корнелия, находившаяся между священником и герцогом, который вел ее за руку; следом за ними показались: Сульпиция, прислужница Корнелии, которую герцог велел привезти из Феррары, кормилица и экономка наших обоих кавальеро.
Когда Лоренцо увидел свою сестру и окончательно убедился в том, что пред ним действительно она (вначале самая необычайность подобного рода события мешала ему уяснить себе истину), колени его подкосились, и он тут же бросился в ноги герцогу, который его поднял с земли и передал в объятия сестры или, вернее, сама сестра прижала его к груди со всеми возможными проявлениями радости.
Дон Хуан и дон Антоньо объявили герцогу, что его шутка вышла на редкость отменной и остроумной.
Герцог взял ребенка у Сульпиции и, передавая его Лоренцо, сказал:
— Примите, брат мой, вашего племянника и моего сына и рассудите сами, следует ли вам разрешить мне жениться на крестьянке, которой я дал первое брачное слово.
Мы никогда бы не кончили, если бы пожелали описать, что ответил на это Лоренцо, о чем спросил дон Хуан, что переживал дон Антоньо, или изобразить торжество и ликование священника, веселость Сульпиции, радость экономки, восторги кормилицы, изумление Фабио — одним словом, их всеобщую радость.
Священник немедленно обвенчал влюбленную пару, причем посаженым отцом был дон Хуан де Гамбоа.
Все присутствовавшие согласились на том, что брак этот следует сохранять в тайне до тех пор, пока не выленится ход болезни, державшей при смерти герцогиню-мать, и что в настоящее время сеньоре Корнелии всего лучше вернуться с братом в Болонью.
События сложились следующим образом: герцогиня скончалась; Корнелия переехала в Феррару, где ее красота вызвала общую радость; траур быстро сменился богатыми нарядами; экономка и кормилица разбогатели; Сульпиция вышла замуж за Фабио; дон Антоньо и дон Хуан были в восторге, что смогли оказать услугу герцогу, который предложил им в жены своих двоюродных сестер с богатейшим приданым.
Оба они ответили, что бискайские кавальеро всегда женятся у себя на родине и что не из неуважения к герцогу — об этом и речи быть не могло, — а во исполнение этого похвального обычая и воли родителей, несомненно уже подыскавших для них невест, они вынуждены отказаться от столь высокого предложения.
Герцог принял их извинения и под всякими вполне приличными и благовидными предлогами, изыскивая подходящие случаи, стал посылать им множество подарков в Болонью, причем подарки эти были так богаты и были отправлены с таким тонким расчетом и так кстати, что хотя можно было бы от них отказаться — ведь иной мог заподозрить в них плату, — но повод, по которому они приходили, обычно все извинял.
В особенности это могло относиться к подаркам, присланным герцогом ко времени возвращения обоих друзей в Испанию, а заодно и к тем дарам, которые были поднесены им в Ферраре, куда молодые люди отправились перед отъездом на родину. Там они увидели у Корнелии еще двух младенцев-девочек, там они убедились, что герцог был влюблен в свою жену, как никогда. Герцогиня подарила свой алмазный крест дону Хуану, а «агнус» — дону Антоньо; как они оба ни отказывались, они должны были все-таки их принять. По возвращении в Испанию, на родные места, наши друзья женились на богатых, знатных и красивых девушках и поддерживали постоянные сношения с герцогом и герцогиней, а равно и с сеньором Лоренцам Бентивольо, что доставляло им всем великую радость.
Обманная свадьба
Из госпиталя Воскресения Христова, находящегося в Вальядолиде[144], за воротами Поединка, вышел военный. Уже по тому, что он опирался на шпагу, как на палку, по слабости его ног и по желтизне лица ясно было, что, несмотря на прохладную погоду, ему пришлось, должно быть, потеть дней двадцать, выпуская из себя болезнь, которую нагулял он, пожалуй, всего в один час. Он шел мелкими шагами и волочил ноги, как выздоравливающий. При входе в городские ворота он заметил, что навстречу ему идет знакомый, которого он не видел по меньшей мере месяцев шесть. Этот последний стал часто осенять себя крестным знамением, как если бы увидел какое-нибудь страшное видение, и, подойдя ближе, сказал:
— Что я вижу, господин поручик Кампусано? Неужели вы живете здесь, в нашем городе? А я, честное слово, думал, что вы во Фландрии и уж, конечно, работаете там пикой, а не волочите по родной земле свою шпагу. Что означает ваша бледность и расслабленность?
Кампусано на это ответил:
— В вашем ли я городе или нет, сеньор лиценциат Перальта, вы можете решить сами, так как вы меня здесь видите, а на другой ваш вопрос могу ответить, что я иду прямо из госпиталя, где только что «потел» от жестоких последствий дурной болезни, которою наградила меня женщина, взятая мною в жены, ну, а связываться с нею мне, конечно, не следовало.
— Так вы, значит, женились? — осведомился Перальта.
— Да, — отвечал Кампусано.
— Должно быть, дело это началось с любовных проказ, — заметил Перальта, — а такие браки неизбежно приводят к раскаянию.
— Не знаю, стоит ли тут говорить о проказах, но женился я во всяком случае себе на горе, ибо от брака этого или, вернее, от докуки моей много терзаний претерпели душа и тело; и если от борьбы с телесными недугами сошло с меня сорок потов, то от духовных страданий не нашел я ни одного облегчающего средства. Однако простите меня, ваша милость, я не в состоянии вести долгую беседу на улице; как-нибудь в другой раз я с большим удобством изложу вам свои приключения, где попадаются такие необычайные и странные вещи, какие вашей милости вряд ли приходилось слышать.
— Нет, дело нужно устроить иначе, — сказал лиценциат, — вы должны сейчас отправиться ко мне и закусить чем бог послал; óлья[145] больному повредить не может, и хотя ее было заказано на двоих, слуге моему достаточно будет и пирога. Если же состояние здоровья вашего позволит, мы сдобрим óлью несколькими кусками рутской ветчины, а главное — искренним расположением, с каким я все это предлагаю, и не только сейчас, но и всегда, когда будет угодно вашей милости.
Кампусано поблагодарил и принял приглашение. Они сходили к Сан Льоренте, прослушали мессу, затем Перальта повел знакомца к себе домой, угостил, как обещал, еще раз повторил, что всегда будет рад ему служить, и по окончании еды пожелал узнать про события, которыми так прихвастнул военный.
Кампусано не заставил себя просить и начал рассказ следующим образом:
— Вы, конечно, хорошо помогите, сеньор лиценциат Перальта, что в этом самом городе я снимал комнату вместе с капитаном Педро де Эррера, находящимся ныне во Фландрии?
— Отлично помню, — ответил Перальта.
— Так вот однажды, — продолжал Кампусано, — когда мы заканчивали нашу трапезу в гостинице на улице Ла Солана, где мы проживали, туда вошли две по виду знатные женщины с двумя служанками. Одна из них, прислонившись к окну, стала беседовать с капитаном, другая села в кресло рядом со мной, опустив покрывало до самого подбородка и показывая лицо лишь настолько, насколько позволяла прозрачность ткани. Хотя я учтиво просил ее об одолжении откинуть покрывало, уговорить ее было невозможно, и это еще сильнее разожгло мое желание ее увидеть.
Как бы для того, чтобы желание это возросло еще больше, сеньора (не знаю, умышленно или случайно) высвободила из-под плаща одну руку, очень белую и с отличными перстнями.
Был я тогда весьма наряден, в большой цепи, которую ваша милость, должно быть, видели, в шляпе с перьями и с дорогим убором, в костюме ярких цветов — как полагается солдату, а неразумие мое мне нашептывало, что я ферт фертом и что мне сам черт не брат.
И вот я просил ее откинуть плащ, а она на это ответила:
«Оставим это. У меня свой дом; ваш слуга может сходить следом за мной и узнать, где я живу; хотя я гораздо серьезнее, чем можно подумать на основании такого ответа, мне хочется все же посмотреть, такой ли вы умница, как и щеголь, а поэтому я буду очень рада, если вы меня навестите».
Я рассыпался в благодарностях за оказанную мне великую честь и, чтобы не остаться в долгу, посулил ей золотые горы. Капитан окончил беседу, дамы ушли, и один из моих слуг отправился следом за ними.
Капитан сообщил мне, что дама просила его передать несколько писем во Фландрию другому капитану, который, по ее словам, приходился ей двоюродным братом, тогда как товарищ мой знал, что то был ее возлюбленный.
Белоснежные ручки, увиденные мной, зажгли во мне пожар; я умирал от желания взглянуть на лицо незнакомки. На следующий день слуга провел меня, и меня беспрепятственно впустили. Я увидел отлично обставленный дом и женщину лет тридцати, которую узнал по рукам. Необычайно красивой она не была, но была красивой в такой мере, что при знакомстве можно было в нее влюбиться, ибо голос ее отличался столь нежным тоном, что через уши проникал до самой души.
Пошли у меня с нею долгие любовные речи: я хвастал, сочинял, привирал, предлагал, обещал и делал все, что находил нужным для того, чтобы ей понравиться, а так как она, очевидно, привыкла слушать такие, а то, пожалуй, и более лестные речи и предложения, то показалось мне, что она только из любезности преклоняла к ним слух, но не придавала им особенной веры. Одним словом, беседы наши за несколько дней постоянных посещений проходили больше в «цветочках», и все не удавалось сорвать «ягодку», которой хотелось.
За то время, что я ее навещал, я ни разу не видел в доме посторонних: не появлялось там ни подставных родственников, ни настоящих друзей дома. Ей прислуживала одна девушка, скорей продувная, чем простушка.
И вот, поступая в любви как солдат, которому завтра нужно в поход, я стал осаждать донью Эстефанию де Кайседо (это имя той, что довела меня до нынешнего состояния), и она сказала мне следующее:
«Господин поручик Кампусано, было бы глупо с моей стороны выдавать себя за святую: грешницей я была и теперь ею являюсь, но не такой все же грешницей, чтобы обо мне судачили соседи и осуждали люди со стороны. Ни от родителей своих, ни от родственников я не получила никакого наследства, а между тем обстановка моего дома стоит добрых две с половиной тысячи эскудо, и все это в вещах, которые, если продать их с торгов, так же нетрудно обратить в деньги, как сказать, что они продаются. Имея такое состояние, я хочу найти себе мужа, чтобы поручить ему себя и во всем его слушаться; я обещаю ему исправить свое поведение, а также служить и угождать ему с величайшим старанием, ну а более искусного повара, умеющего так приправить жаркое, как это делаю я, когда захочу показать себя хозяйкой и возьмусь за дело, и у иного князя, пожалуй, не сыщешь! В доме я веду себя что твой дворецкий; на кухне я кухарка, в комнатах — сеньора; я умею приказать и умею сделать так, чтобы меня слушались. Деньгами я не сорю, а откладывать умею много; когда по моему указанию тратится реал, стоит он не меньше, а, пожалуй, побольше реала. Белье, какое у меня есть, — а его у меня много, и хорошего, — не покупала я ни в лавках, ни у торговцев, а пряла сама со своими служанками, и если бы можно было дома ткать, то и соткали бы сами. Я сама произношу себе похвалы и не вижу в этом ничего позорного, ибо это вызывается необходимостью; одним словом, я хочу сказать, что ищу себе мужа для того, чтобы он меня защищал, распоряжался мною и приумножил мою честь, а не любовника, который бы только ухаживал и ронял мое доброе имя. Если вашей милости угодно принять мое предложение, я во всем пойду вам навстречу и подчинюсь всем, вашим приказаниям, но я ни в коем случае не стану „продавать себя с торгов“, а ведь к этому сведется дело, если мы обратимся к сватам, да к тому же лучшего свата, чем сами заинтересованные стороны, для окончательного соглашения не сыщешь».
Так как разум у меня находился в то время не в голове, а где-нибудь под пяткой, предстоящее блаженство рисовалось мне еще заманчивее, чем подсказывало воображение, а размер состояния обозначался с такой очевидностью, что я мысленно уже переводил его на деньги. Уступив мыслям, которые нашептывала мне жажда наслаждений (а она набросила на мой ум свои путы), я объявил даме, что, поскольку небо чудесным образом посылает мне такую спутницу жизни, я почту за великую удачу и счастье сделать ее госпожой души моей и моего состояния, которого, несмотря на всю его скромность, наберется вместе с шейной цепью, драгоценностями, находящимися у меня дома, и с тем, что можно будет выручить от продажи моих военных нарядов, больше, чем на две тысячи дукатов. Если соединить их с ее двумя с половиной тысячами, получится сумма, достаточная для того, чтобы удалиться на житье в деревню, откуда я был родом и где была у меня кой-какая недвижимость; прибавив ее к деньгам, мы составим такой капитал, что при условии своевременной продажи урожаев нам будет обеспечено приятное и беспечальное существование.
Итак, в этот день мы порешили, что вступим в брак, и уговорились о том, каким образом следует законно установить свое холостое состояние: три праздничных дня, случившихся подряд, были употреблены на оглашение, а на четвертый день мы повенчались.
На свадьбу пришли двое моих знакомых и еще один юноша, которого донья Эстефания назвала своим двоюродным братом. Я обошелся с ним по-родственному и обратился к нему с самыми учтивыми словами; впрочем, надо сказать, что только такие слова и слышала от меня тогда моя супруга. Делалось все это с умыслом, и таким коварным и нечистым, что хочу я о нем умолчать, ибо, конечно, говорю я вам всю правду, но все-таки не так, как на исповеди, когда ничего пропускать не полагается.
Слуга перенес мой сундук из гостиницы в дом моей жены. На ее глазах я положил туда свою чудесную цепь, показал ей еще три-четыре цепи, не таких больших, но зато более тонкой работы, а также несколько шляпных уборов разных фасонов; я разложил перед ней свои наряды и страусовые перья и вручил ей для расходов по дому около четырехсот реалов.
Шесть дней вкушал я от радостей медового месяца; хозяйничал так, «как поганый зять в доме богатого тестя», ступал по роскошным коврам, спал на голландском полотне, светил себе серебряными подсвечниками, завтракал в постели, вставал в одиннадцать, закусывал в двенадцать, а в два часа справлял сьесту в гостиной, где донья Эстефания с прислужницей наперерыв старались мне угодить.
Слуга мой, который ранее отличался леностью и неповоротливостью, вдруг обратился в резвого оленя.
Если доньи Эстефании хотя бы минуту не было подле меня, это значило, что она находится на кухне и вся ушла в приготовление рагу, которое должно было оживить мой вкус и возбудить аппетит.
Мои рубахи, воротники и платки превратились в цветники Аранхуэса: так они благоухали от опрыскивания ангельской и апельсинной водой[146], проливавшейся на них в изобилии.
Дни эти не прошли, а пролетели так, как летят годы, покорные непреложному течению времени. Увидев, что меня так холят и пестуют, я стал менять в эти дни дурное намерение, с которым начал было это дело, на хорошее. Однако к концу этих дней раздались однажды утром (когда мы с доньей Эстефанией были еще в постели) сильные удары в наружную дверь.
Служанка выглянула в окно, тотчас же отошла от него и сказала:
«А, добро пожаловать! Но скажите, как же это она приехала раньше, чем на днях нам в письме писала?»
«Что это за особа приехала, девушка?» — спросил я.
«Кто приехал? — отвечала она. — Это сеньора донья Клемента Буэсо, а с ней вместе сеньор дон Лопе Мелендес де Альмендарес с двумя слугами и дуэнья Ортигоса, которую она брала с собой».
«Беги, девушка, и открой им, пожалуйста, — проговорила в это время донья Эстефания, — а вы, сеньор, если меня любите, не волнуйтесь и не вступайтесь за меня, что бы вы тут ни услышали».
«Да кто же посмеет говорить оскорбительные для вас вещи, особливо когда здесь присутствую я? Объясните, кто эти люди; я вижу, прибытие их вас взволновало!»
«Сейчас не время объяснять, — сказала донья Эстефания, — заметьте однако: что бы тут ни произошло, все это делается нарочно и имеет в виду определенное намерение и цель, о которых вы узнаете позже».
Я хотел было возразить ей, но мне помешала это сделать сеньора донья Клемента Буэсо, вошедшая в залу в платье из тисненого зеленого атласа со множеством золотых позументов, в плаще из той же материи с зеленой отделкой, в шляпе с желтыми, белыми и красными перьями, украшенной богатым золотым убором, причем половина лица ее была закрыта тонкой вуалью. С нею вместе появился сеньор дон Лопе Мелендес де Альмендарес в пышном и богатом дорожном наряде.
Первой заговорила дуэнья Ортигоса, воскликнувшая:
«Господи Иисусе, что я вижу? Ложе госпожи моей, доньи Клементы, занято, да к тому же еще мужчиной! Чудеса творятся сегодня в этом доме! Поистине, сеньора донья Эстефания хватила через край и злоупотребила дружбой моей госпожи».
«Попомни мое слово, так оно и есть, Ортигоса, — произнесла донья Клемента, — впрочем, я сама во всем виновата; боюсь, как бы мне не пришлось раскаяться в выборе подруги, вошедшей ко мне в доверие тогда, когда это ей показалось выгодным».
На эти слова донья Эстефания ей ответила:
«Не сердитесь, сеньора донья Клемента, и помните, что во всем происходящем есть некоторая тайна, а когда вы ее узнаете, я уверена, вы не станете винить меня и гневаться больше не будете».
В это время я уже надел штаны и камзол. Донья Эстефания взяла меня за руку, вывела в другой покой и там открыла, что подруга ее желает одурачить дона Лопе, который прибыл вместе с нею и которого она наметила себе в мужья; что вся штука в том, чтобы убедить его, будто этот дом и вся обстановка принадлежат ей, и сделать вид, будто это — ее приданое. Если брак будет заключен, донья Клемента не побоится огласить свой обман, так как она уверена в безграничной любви дона Лопе.
«Добро мое тотчас же отойдет ко мне обратно, и никто, конечно, не поставит в вину ни ей, ни всякой другой женщине, подыскивающей себе хорошую партию, что она готова ради этого сплутовать», — закончила донья Эстефания.
Я возразил ей, что она чересчур далеко заходит в своей дружбе и что дело это следует тщательно обдумать, а иначе ей придется, чего доброго, обращаться к суду для получения обратно своего имущества.
В ответ на мои слова она привела столько доводов и столько всевозможных обязательств, вынуждавших ее быть к услугам доньи Клементы в самых серьезных делах, что я — правда, неохотно и вопреки голосу разума — должен был уступить желанию доньи Эстефании, а она стала уверять меня, что комедия эта продлится только неделю, которую мы проведем в доме одной ее знакомой.
После того как мы окончательно оделись, донья Эстефания пошла проститься с сеньорой Клементой Буэсо и сеньором Лопе Мелендес де Альмендарес, а я, велев слуге забрать наш сундук и идти следом за женой, покинул дом, ни с кем, разумеется, не прощаясь.
Донья Эстефания вошла в дом своей приятельницы и перед тем, как впустить меня, долго разговаривала с нею наедине; после этого появилась служанка и сказала, что я и мой слуга можем войти. Она провела нас в тесную комнату с двумя кроватями, стоявшими так близко, что казалось, будто это одна кровать: промежутка между ними; не было и простыни их касались друг друга.
Мы прожили там шесть дней, и за все время у нас часу не проходило без ссоры, причем я доказывал жене, что оставлять свой дом и имущество глупо; глупо даже тогда, когда делается это для родной матери.
Каждую минуту я снова твердил ей то же самое, так что однажды наша хозяйка в отсутствие доньи Эстефании, заявившей, что она пойдет посмотреть, в каком положении находится дело, пожелала выведать у меня причину моих неладов с женой и понять, какую такую вещь она сделала, чтобы ее так попрекать и говорить, что «это, мол, беспримерная глупость, а не какая-то там сердечная дружба». Я изложил ей все по порядку, и когда я начал рассказывать, как я обвенчался с доньей Эстефанией, какое приданое она принесла с собой и как неразумно предоставила свой дом и имущество донье Клементе, желая помочь ей заполучить такого родовитого мужа, как дон Лопе, хозяйка моя стала часто призывать имя божие и так часто креститься и бормотать: «Господи Иисусе, ну и женщина», что повергла меня тем в большее смущение.
Потом она сказала:
«Сеньор поручик, вряд ли я поступлю против совести, если открою вам вею правду: могу я, конечно, и промолчать, но на душе у меня будет неспокойно. Ну, будь что будет: да здравствует истина, и да сгинет обман! Дело, в том, что законной собственницей дома и имущества, принесенного вам в приданое, является донья Клемента Буэсо; все, что вам рассказала донья Эстефания, — ложь, ибо нет у нее ни денег, ни имущества, нет даже другого платья, кроме того, что на ней надето; время и место для этого обмана нашлось потому, что донья Клемента отправилась навестить своих родственников в город Пласенсью и ездила на богомолье к Гуадалупской божьей матери. Присмотр за своим домом она поручила донье Эстефании, которая действительно ее большая приятельница; за всем тем, однако, если здраво рассудить, не приходится строго взыскивать с бедной женщины, сумевшей залучить себе в мужья такую особу, как сеньор поручик».
Этим она закончила свою речь, а я едва не впал в жестокое отчаяние, и так бы оно, конечно, и было, если бы хоть на ничтожную толику пренебрег мой ангел-хранитель делом моей охраны и не поспешил шепнуть моему сердцу, что я христианин и что величайшим грехом для человека является отчаяние, ибо это есть грех дьявольский.
Эта мысль или, вернее, счастливое озарение меня несколько успокоило, но не настолько, однако, чтобы помешать мне схватить свой плащ и шпагу и отправиться на поиски донья Эстефании с намерением учинить над ней примерную расправу; впрочем, случайность, — про которую не смогу сказать, ухудшила ли она или улучшила мое положение, — сделала так, что ни в одном из тех мест, где я думал повстречать донью Эстефанию, ее не оказалось.
Я отправился в Сан Льоренте, помолился богоматери, сел там на скамью, и от тоски напал на меня такой тяжелый сон, что, если бы меня не разбудили, я бы не скоро проснулся.
Полный раздумья и уныния, я направился к жилищу доньи Клементы и увидел, что она тихо и спокойно владеет своим добром; я не посмел сказать ей ни слова, ибо тут же стоял дон Лопе. Я вернулся домой и узнал от хозяйки, что она уже рассказала донье Эстефании про то, как мне стало известно про ее обман и хитрость. Донья Эстефания, оказывается, справилась, какой у меня был вид при этом известии, и узнала, что вид был очень плохой и что я отправился искать ее с недобрыми намерениями и мыслями; в заключение хозяйка сказала, что донья Эстефания забрала с собой все, что было у меня в сундуке, оставив мне только дорожное платье.
Минута была ужасная; и снова удержал меня бог своею рукой; я пошел взглянуть на сундук и увидел, что он открыт и пуст, как могила, ожидающая тела покойника; мне, несомненно, пришел бы тогда конец, если бы в ту минуту у меня хватило сил осознать и почувствовать столь великое несчастье.
— Еще бы не несчастье, — произнес лиценциат Перальта, — ведь сеньора Эстефания унесла с собой целый ворох цепей и шляпных уборов; все мы отлично знаем пословицу: были бы деньги, а с ними всякое горе стерпится.
— Пропажа эта меня нисколько не огорчила, — возразил поручик, — я ведь тоже могу сказать: «Решил наш дон Симуэке, что подсунул мне кривую дочку, а я, ей богу, — сам кривобокий».
— Не понимаю, в каком смысле вы употребили эту поговорку, — заметил Перальта.
— А в том смысле, — ответил поручик, — что весь мой ворох цепей, уборов и украшений стоил всего-навсего десять — двенадцать эскудо.
— Не может быть! — воскликнул лиценциат. — Ведь в той цепи, которую вы носили на шее, золота было не меньше, чем на двести дукатов.
— Да, пожалуй, если бы только ее достоинство соответствовало видимости, но «не все то золото, что блестит»: цепи, уборы, драгоценности и украшения были просто-напросто из латуни, но сделаны так хорошо, что разве только пробный камень или огонь могли бы обнаружить подделку.
— Итак, — произнес лиценциат, — про вашу милость и сеньору Эстефанию можно сказать: «Вор у вора дубинку украл»?
— Украсть-то украл, — ответил поручик, — но собственно не грех было бы начать сначала. Вот что плохо, сеньор лиценциат: она сумела, конечно, разделаться с моими цепями, а вот мне от лживости ее нрава нелегко: что там ни говори, а она все-таки — моя избранница.
— Возблагодарите господа, сеньор Кампусано, — сказал Перальта, — что избранница ваша оказалась с ногами и ушла от вас сама и что вы не обязаны ее разыскивать.
— Так-то оно так, — заметил поручик, — а из головы она у меня не идет, хотя сам я ее не ищу: где бы я ни находился, а обида всегда со мной.
— Не знаю, что вам на это сказать, — произнес Перальта, — разве напомнить двустишие из Петрарки, гласящее:
Che chi prende diletto di far frode, Non si de'lamentar s'altri l'inganna, —что в переводе означает: «Кто имеет привычку обманывать и находит в том удовольствие, тот не должен пенять на человека, который обманет его самого».
— Я и не пеняю, я о себе самом сокрушаюсь, — возразил поручик. — Ведь от одного сознания своей вины виновный не перестает еще чувствовать боль наказания. Отлично понимаю, что хотел обмануть, и обманутым оказался сам, и что побили меня моим же собственным оружием, но я не могу в такой мере владеть своими чувствами, чтобы не пожалеть самого себя. Итак, чтобы подойти к самому главному в этой истории (изложенные мною события вполне уместно назвать историей), добавлю следующее. Я узнал, что донью Эстефанию увез ее двоюродный брат, который, как я уже упоминал, присутствовал при нашем браке и который уже с давних пор был ее другом во всех обстоятельствах жизни. Разыскивать ее я не стал, не желая навлекать на себя новых бед. Я переменил место своего жительства, а немного дней спустя пришлось переменить и «шерстку»: стали у меня выпадать брови и ресницы, а затем мало-помалу выпали все волосы, и сделался я раньше времени лысым, ибо объявилась у меня болезнь, называемая «луписия», а если назвать более прозрачным именем — «пеларела». Оказался я в полном смысле слова «голышом», потому что и причесывать и тратить мне было нечего. Болезнь моя шла нога в ногу с бедностью, и так как бедность губит нашу честь и приводит кого на виселицу, кого в госпиталь, а иного заставляет с просьбами и унижениями стучаться в дверь своего врага (что является самым горьким испытанием для человека несчастного), я, дабы не истратить на лекарства свое платье (от которого по выздоровлении будет мне тепло и почет), дождался времени, когда начинается пора «потения» в госпитале Воскресения Христова, получил там койку и отпотел сорок потов. Говорят, что если буду беречься, то выздоровею. Шпага моя — при мне, а все прочее бог пошлет.
Лиценциат снова предложил ему свои услуги и немало подивился всему, что ему было рассказано.
— Ну, не много же нужно для того, чтобы вас удивить, сеньор Перальта, — заметил поручик. — У меня еще остались про запас такие вещи, что превосходят самое пылкое воображение и что стоят вне всяких законов природы. Достаточно, впрочем, будет, если я вам скажу, что все мои несчастья пошли мне на пользу, ибо благодаря им я попал в госпиталь, где узнал все, о чем вам сейчас расскажу и чему вы ни теперь, ни потом не поверите, да и никто на свете никогда не поверит.
Все эти присловья и похвалы самому себе, которые произносил поручик, прежде чем приступить к рассказу о случившемся, до того разожгли у Перальты желание послушать, что он в свой черед рассыпался в похвалах и стал просить своего собеседника немедленно же рассказать ему про все диковинки, которые тот знал.
— Вашей милости, — начал поручик, — наверное, случалось видеть двух собак, которые ходят ночью с фонарями впереди монахов-лукошников и светят, когда монахи просят милостыню?
— Да, — ответил Перальта.
— Весьма возможно, что вы также знаете или вообще слышали, — продолжал поручик, — какие веши про них рассказывают: когда из окна бросают подаяние и оно падает на землю, собаки тотчас же бегут светить и отыскивают, что упало; они останавливаются под теми окнами, откуда им обыкновенно дают милостыню, и, хотя они ведут себя при этом с необыкновенною кротостью и скорее выглядят овечками, чем волками, в госпитале они — сущие львы и несут охрану с великим рвением и бдительностью.
— Мне случалось слышать об этом, — вставил Перальта, — однако я не вижу в этом и не могу видеть ничего удивительного.
— В таком случае то, что я вам сейчас расскажу о них, не только вас самым настоящим образом удивит, но заставит вас также поверить моему рассказу без всяких «охов» и «ахов» и без всяких ссылок на то, что это, мол, дело мудреное или даже невероятное. Дело в том, что я слышал и, можно сказать, собственными глазами видел этих двух псов, из которых один звался Сипион, а другой — Берганса[147]. Однажды ночью — и была то предпоследняя ночь, которую я провел в госпитале, — они расположились за моей постелью, на старых циновках, и в самую полночь, когда я лежал впотьмах и не спал, размышляя о прошлой жизни и нынешних своих несчастьях, я услышал подле себя разговор. Я насторожился, навострил уши, желая узнать, кто это говорит и о чем, и спустя короткое время, на основании того, о чем шла речь у говоривших, догадался, что беседуют две собаки: Сипион и Берганса.
Едва только Кампусано произнес эти слова, как лиценциат встал с места и сказал:
— А не лучше ли будет вовремя остановиться, ваша милость, сеньор Кампусано? До сих пор я еще колебался, верить ли мне или не верить всему, что вы мне рассказывали про свой брак, но когда вы теперь меня уверяете, будто слышали, как говорят собаки, я должен определенно заявить, что я вам больше не верю. Честное слово, господин поручик, не рассказывайте вы никому этого вздора или рассказывайте только тем, кто к вам в такой же мере дружески расположен, как я.
— Не думайте, ваша милость, что я круглый невежда, не понимающий того, что животные иначе как чудом говорить не могут, — отвечал Кампусано. — Я отлично понимаю, что если дрозды, сороки и попугаи говорят, то произносят они только те слова, которые выучивают наизусть, и делать это они могут потому, что язык этих птиц способен выговаривать слова, но из этого вовсе не следует, что они в состоянии говорить и отвечать так осмысленно, как то было с говорившими собаками. Вот почему после того, как я их услышал, я не один раз отказывался верить самому себе и был склонен считать сновидением все то, что я в действительности, наяву и с помощью всех пяти чувств, которые господу было угодно даровать мне, ощутил, уразумел, запомнил и, наконец, записал, не выкинув из общей связи ни единого слова, — а это является достаточной порукой, чтобы люди убедились и поверили истине моих слов. Предметы, коих коснулись они в своей беседе, были весьма серьезны и разнообразны, так что приличнее о них было бы трактовать ученым мужам, а не собакам, а так как сам я их выдумать не мог, то вижу себя вынужденным (хотя это и расходится с моими собственными взглядами) признать, что говорили действительно собаки.
— Черт подери, — воскликнул лиценциат, — к нам, видно, вернулись времена Марикастаньи[148], когда разговаривали тыквы, или времена Эзопа, когда петух беседовал с лисицей и любое животное могло обратиться со словом друг к другу!
— Я первый назвал бы себя ослом, и еще набитым ослом, если бы стал думать, что эти времена вернулись, но не избежать бы мне этого звания и тогда, если бы я перестал верить тому, что сам видел и слышал и в чем готов принести какую угодно клятву, так что самое неверие должно будет мне поверить; впрочем, допустим даже, что я ошибаюсь и что истина, которую я доказываю, всего только сонная греза, и настаивать на ней просто неумно, но разве вам, сеньор Перальта, не будет все-таки интересно узнать из записанной мною беседы, о чем эти собаки — или кто они такие — разговаривали?
— Если только вы не станете меня убеждать, будто слышали говорящих собак, я с превеликим удовольствием прослушаю эту беседу: одно то, что она продиктована и подсказана светлым умом господина поручика, делает ее в моих глазах превосходной.
— Нужно еще заметить, — прибавил поручик, — что слушал я весьма внимательно, ум был у меня ясный; тонкой и свежей была память (благодаря большому количеству изюма и миндаля, которыми я питался), а потому я запомнил все слово в слово и на следующий день записал все в тех же выражениях, что слышал, без всяких украшений и цветов красноречия, без добавок и урезок из соображений занимательности.
Бесед этих было две, потому что продолжались они две ночи сряду, но записал я только одну, а именно жизнь Бергансы; что же касается жизни друга его, Сипиона (рассказанной во вторую ночь), то ее я напишу не раньше, чем увижу, что одной из них уже поверили и ею во всяком случае не побрезговали. Рукопись у меня на груди; я написал ее в разговорной форме во избежание повторений: «сказал Сипион», «ответил Берганса», — которые обыкновенно удлиняют запись.
С этими словами он вынул тетрадь и отдал лиценциату в руки. Тот принял ее с улыбкой, как бы потешаясь над тем, что только что слышал, и над тем, что собрался прочесть.
— Я немного вздремну, — сказал поручик, — а вы, если пожелаете, сможете заняться чтением этих нелепых бредней, вся прелесть которых сводится к тому, что их можно отложить в сторону, если они наскучат.
— Устраивайтесь, как вам удобнее, — произнес Перальта, — а я живо покончу с чтением.
Поручик улегся, лиценциат развернул тетрадку и увидел, что в начале стоял следующий заголовок:
Новелла о беседе,
имевшей место между Сипионом и Бергансой, собаками госпиталя Воскресения Христова, находящегося в городе Вальядолиде, за воротами Поединка, а собак этих обычно называют — собаки Маудеса
С и п и о н
Друг Берганса, возложим сегодня ночью охрану госпиталя на «авось» и пойдем в уголок на циновки, где нам бояться нечего и где мы сможем насладиться невиданной милостью, которую нам в одно и то же время даровало небо.
Б е р г а н с а
Брат Сипион, я слышу, что ты говоришь, знаю, что сам говорю, и не смею этому верить и все думаю: ведь уже одно то, что мы разговариваем, нарушает все законы природы.
С и п и о н
Это правда, Берганса, и чудо это тем замечательнее, что мы не просто говорим, а говорим осмысленно, как если бы обладали разумом, будучи в то же время лишены его в такой мере, что все различие между животным и человеком сводится к тому, что человек есть существо разумное, а животное — неразумное.
Б е р г а н с а
Все, что ты сказал, Сипион, я понимаю, и одно то обстоятельство, что ты говоришь, а я тебя понимаю, все более и более поражает и удивляет меня. Правда, в течение моей жизни не раз приходилось мне слышать про наши исключительные способности; и, насколько я знаю, есть люди, склонные думать, что мы от природы наделены весьма живым и во многих отношениях чрезвычайно острым инстинктом, так что, если бы прибавить еще немного, мы без труда доказали бы, что обладаем известной долей сознания и даже способны мыслить.
С и п и о н
Как я слышал, нас хвалят и превозносят за хорошую память, а также за благодарность и за великую нашу верность, так что нас даже принято изображать как символ дружбы. Думаю, тебе случалось видеть (если только ты всматривался), что на алебастровых гробницах, обычно украшаемых статуями покойников, в тех случаях, когда хоронят мужа и жену, между ними, у ног, помещают изображение собаки в знак того, что при жизни они соблюдали дружбу и нерушимую верность.
Б е р г а н с а
Я знаю, что бывали на свете преданные псы, которые бросались вслед за телом своего господина в могилу; иные из них оставались лежать там, где хоронили хозяев, не двигаясь с места и не принимая пищи, так что им тут приходил и конец. Я знаю также, что после слона собака занимает первое место в смысле вероятного обладания разумом, затем уже идет лошадь и, наконец, обезьяна.
С и п и о н
Это так, но сознайся, что тебе никогда не приходилось ни видеть, ни слышать, чтобы какой-нибудь слон, собака, лошадь или обезьяна разговаривали, из чего я заключаю, что этот неожиданно пожалованный нам дар речи относится к разряду явлений, называемых чудесными знамениями, и когда они показываются и объявляются, то, как говорит нам опыт, людям обычно угрожает какое-нибудь великое бедствие.
Б е р г а н с а
В таком случае не будет ничего удивительного, если я сочту чудесным знамением то, что я слышал во время прогулки в Алькалá де Энáрес от одного студента.
С и п и о н
А что такое он говорил?
Б е р г а н с а
Он говорил, что из пяти тысяч студентов, числившихся тогда в университете, две тысячи изучали медицину.
С и п и о н
Какой же вывод ты отсюда делаешь?
Б е р г а н с а
А вот какой: или эти две тысячи врачей должны иметь больных и лечить их (а это означало бы великое несчастие и бедствие), или все они должны помереть с голоду.
С и п и о н
Тем не менее, независимо от того, чудесное ли это знамение или нет, и ты и я сейчас несомненно говорим, и поскольку небо определило, чтобы это было так, никакие старания и никакая мудрость человеческая не властны этому помешать. А поэтому незачем нам рассуждать, как и почему мы разговариваем. Лучше будет не упускать счастливого случая; как-никак, а мы с большим удобством устроились здесь на циновках и не знаем, сколько времени продлится наше счастье; постараемся же воспользоваться им и будем беседовать целую ночь, не дозволяя сну нарушить блаженство, о котором я давно уж мечтал
Б е р г а н с а
Равно как и я, ибо с той самой минуты, как у меня хватило сил перегрызть Кость, я уже мучился желанием говорить и высказывать все, что накопилось у меня в памяти; впечатлений так много, что за давностью они начинают покрываться плесенью и забываться. Ну, а теперь, когда нежданно-негаданно я оказался обладателем божественного дара речи, я намерен насладиться и воспользоваться им как можно лучше, и выскажу все, что припомню, хотя бы даже неясно и путано, ибо не знаю, когда у меня отберут одолженное сокровище.
С и п и о н
Установим такой порядок, друг Берганса: сегодня ночью ты мне расскажешь про свою жизнь и про события, сделавшие тебя тем, что ты есть, а если завтра ночью у нас все еще будет дар речи, я расскажу тебе свою жизнь, ибо куда лучше употребить время на повесть о себе, чем узнавать, как живут другие.
Б е р г а н с а
Всегда, Сипион, я считал тебя умницей и другом, а сегодня даже больше, чем когда бы то ни было, ибо ты, будучи другом, изъявляешь желание рассказать мне свою жизнь, а будучи, кроме того, умницей, распределил время так, чтобы можно было успеть все сделать; посмотри сначала, однако, не подслушивает ли нас кто-нибудь?
С и п и о н
Думаю, что никто; хотя тут поблизости лечится потением солдат, но в такой час у него на уме, должно быть, сон, а не желание кого-либо слушать.
Б е р г а н с а
Итак, если все благополучно и нам можно говорить, слушай; а когда я тебе надоем своим рассказом, выбрани меня или вели замолчать.
С и п и о н
Говори до самого рассвета или до тех пор, пока нас не заметят, а я буду слушать с великим удовольствием и перебивать буду только в случае необходимости.
Б е р г а н с а
Сдается мне, что я впервые увидел свет в Севилье, на Бойнях, стоящих за Мясными воротами, из чего можно бы заключить (если бы не то, о чем скажу после), что родители мои были из аланских псов, тех самых, что выкармливают приспешники этого кромешного заведения, именуемые резниками. Первый хозяин, которого я узнал, был некто Николас Курносый, здоровенный и рыжий парень, вспыльчивый, как и все, кто занимается убоем. Этот Николас учил меня и других щенят бросаться вместе с большими аланскими псами на быков и вцепляться им в уши. Без особого труда я стал докой по этой части.
С и п и о н
Удивляться не приходится, Берганса; делать зло — наше врожденное свойство, а потому научиться ему нетрудно.
Б е р г а н с а
Что же тебе сказать, брат Сипион, о том, что я видел на Бойнях, о тех поразительных вещах, которые там творятся?
Прежде всего, ты должен заметить, что все, кто там работает, от первого до последнего, — народ с весьма покладистой совестью, люди отпетые, не боящиеся ни короля, ни суда его; все они по большей части распутники и живут как плотоядные хищные птицы: и сами они и подруги их существуют одними кражами. Каждое утро в скоромные дни, еще до рассвета, собирается возле Боен толпа женщин и мальчишек с мешками. Приносят они их пустыми, а уносят набитыми кусками мяса, потрохами, шулятами, а то и целыми частями филея. Нет такой убитой скотины, от которой эти люди не урвали бы частицы, и притом самой вкусной и лакомой; дело в том, что в Севилье не имеется подрядчика, и каждый желающий поставляет мясо, какое вздумается, так что сортá, посылаемые на убой, бывают иногда очень хорошие, а иногда очень плохие. Такой порядок поставок всегда обеспечивает полное изобилие. Скотоводы вступают в согласие с мошенниками, о которых я рассказываю, но не для того, чтобы защитить себя от покраж (это дело невозможное), а для того, чтобы те ограничивали себя в поборах и выемках с убитых животных, ибо они подчищают и подрезывают их так, как если бы то были ивы или виноградные лозы. Ничто, однако, меня так не поражало и ничто не казалось столь ужасным, как сознание, что с такой же легкостью убивают эти мясники человека, как и корову: в одно мгновение ока, раньше чем успеешь сказать «дважды три», всаживают они нож с желтым черенком в живот человека и закалывают его, словно быка. Если день проходит без драк, без ранений или без убийств, это чудо; все они выдают себя за храбрецов и головорезов, а бывает, что и совсем худым делом занимаются. Ни одного нет такого, у кого не было бы на площади св. Франциска своего ангела-хранителя[149], «умасленного» филеем и воловьими языками. Одним словом, по отзыву одного неглупого человека, которого я слышал, тремя вещами следовало бы королю овладеть[150] в Севилье: Охотной улицей, Костанильей и Бойнями.
С и п и о н
Друг Берганса, если на описание хозяев, у которых ты служил, и недостатков их ремесла у тебя будет уходить столько времени, как сейчас, нам придется молить небо о продлении дара речи по меньшей мере на год, да и тогда, пожалуй, с таким ходоком, как ты, не дойдешь и до половины рассказа.
Мне хочется обратить твое внимание на одну вещь, в справедливости коей ты убедишься, когда я буду рассказывать историю моей жизни. Дело в том, что бывают рассказы, прелесть которых заключается в них самих, в то время как прелесть других рассказов состоит в том, как их рассказывают; я хочу сказать, что иной рассказ пленяет нас независимо от вступлений и словесных прикрас, другой же приходится рядить в слова, и при помощи мимики, жестов и перемены голоса из ничего получается все: из слабых и бледных делаются они острыми и занятными. Помни об этом указании и постарайся воспользоваться им в течение рассказа.
Б е р г а н с а
Так я и буду делать, если только смогу и если не поддамся великому своему искушению — поболтать; думаю, однако, что при большом старании я сумею взять себя в руки.
С и п и о н
Возьми лучше в руки язык: ибо в нем сосредоточено великое зло жизни человеческой.
Б е р г а н с а
Итак, продолжаю. Хозяин научил меня носить в зубах корзинку и защищать ее от нападений грабителей. Он показал мне также дом своей подруги и тем самым избавил ее от необходимости посылать служанку на Бойни, ибо ранним утром я относил ей все, что он успевал наворовать за ночь. Однажды на рассвете, когда я старательно нес ей паек, мне послышалось, будто из окна меня кто-то окликнул по имени; подняв голову, я увидел замечательно красивую девушку; я остановился на минуту, она подбежала к воротам и снова начала звать; я подошел, делая вид, что желаю узнать, чего ей от меня надобно, а надобно ей было только одно: выхватить содержимое из корзины и сунуть туда старый башмак.
«Эге, — подумал я про себя, — мясо-то хочет к мясу!»
Отобрав у меня говядину, девушка прибавила:
— Слушай, Гавилан, или как тебя звать, передай своему хозяину Николасу Курносому, чтобы он не полагался на животных и что, мол, с лихой собаки хоть… мяса клок.
Я легко мог отобрать у нее мясо обратно, но не пожелал поднять свою грязную, мясницкую морду на ее чистые белые ручки.
С и п и о н
И отлично сделал, ибо право на уважение есть законное право красоты.
Б е р г а н с а
Поступив таким образом, я вернулся к своему хозяину без пайка, но зато с башмаком в корзине. Ему показалось, что я вернулся чересчур быстро; увидев башмак и сообразив, что тут насмешка, он выхватил желтый черенок и нанес такой удар, что, не отскочи я в сторону, никогда бы не слыхать тебе ни этого рассказа, ни тех, что я собираюсь еще рассказать. Я дал тягу и заработал всеми четырьмя лапами по дороге, что за кварталом св. Бернарда, пустившись по этим богоспасаемым равнинам, куда глаза глядят. Первую ночь я провел под открытым небом, на вторую судьба мне послала стадо овец и баранов. Увидев его, я решил, что нашел себе мирное пристанище, почитая прямым и естественным для собаки занятием охрану стада, что есть дело, заключающее в себе немалую доблесть: оберегать и защищать от сильных и гордых кротких и беззащитных. Заметив меня, один из трех пастухов, стерегших стадо, обратился ко мне со словами: «На, на…» Этого мне и надо было: я подошел к нему, опустил голову и вильнул хвостом. Погладив меня по спине, он открыл мне рот, плюнул туда, осмотрел зубы, определил возраст и объявил остальным пастухам, что у меня все стати породистого пса. В это время подъехал верхом на серой кобыле владелец стада, при копье и щите, так что он больше походил на берегового дружинника, чем на хозяина стада.
Он обратился к пастуху:
— Что это за собака? Вид у нее такой, будто она хорошая.
— Будьте покойны, ваша милость, она очень хорошая, — ответил пастух, — я ее отлично рассмотрел: в ней нет такой стати, которая бы не подтверждала и не показывала, что это прекрасный пес; она только что пришла, а чья она — не знаю, хотя знаю, что в стадах нашей округи такой собаки не было.
— Ну, если так, — сказал хозяин, — сейчас же надень на нее ошейник околевшего Леонсильо и положим ей такие же харчи, как и другим собакам. Ласкай ее побольше, чтобы она полюбила стадо и на будущее время осталась при нем.
С этими словами он уехал, а пастух надел мне на шею утыканный стальными шипами ошейник, а еще раньше принес мне в корытце добрую толику молочною супу. Он позаботился выбрать мне имя и назвал меня Барсино.
Почувствовав себя сытым и довольным на службе у нового хозяина, я стал выказывать рвение и заботливость в деле охраны стада, отлучаясь от него только на время сьесты, которую я проводил иногда в тени дерева, холма или скалы, иногда же в тени кустарника или на берегу какого-нибудь ручейка: их в тех местах пробегало множество. Часы отдыха я посвящал праздности, занимая свои мысли воспоминаниями о разных вещах, а главным образом о жизни на Бойнях, о жизни своего недавнего хозяина и всех тех, кто, подобно ему, потакал бесстыдным прихотям своих возлюбленных. Много интересного мог бы я тебе рассказать про то, чему я обучился в школе «мясницкой» дамы, госпожи моего хозяина. Но, пожалуй, лучше будет помолчать: иначе ты примешь меня за болтуна и сплетника.
С и п и о н
Я слышал, что знаменитый античный поэт сказал: «Воздержаться от сатиры — дело трудное»[151], а потому я готов тебе позволить посплетничать, но только слегка и отнюдь не злостно; я хочу сказать, что ты можешь порицать людей, но не поносить и не подымать их на смех, ибо сплетня, смешащая многих, все же дурна, если она копает яму хотя бы одному человеку. Если ты сумеешь быть приятным без злословия, я буду считать тебя умницей.
Б е р г а н с а
Последую твоему совету и буду ждать с нетерпением, когда придет твой черед рассказывать свою жизнь: ибо от того, кто умеет так хорошо отмечать и исправлять недостатки моего рассказа, естественно ожидать повести, которая в одно и то же время будет наставлять и очаровывать.
Итак, дабы восстановить прерванную нить беседы, скажу, что в тишине и одиночестве своих сьест я размышлял, между прочим, о том, что все, слышанное мною о жизни пастухов, — неправда; особенно, если иметь в виду пастухов, о которых читала дама моего мясника в каких-то книгах во все те разы, когда я ходил к ней на дом. Все эти книги толковали о пастухах я рассказывали, что жизнь их проходит в пении и игре на волынке, свирелях, равелях, гобоях и других диковинных инструментах.
Я подолгу слушал ее чтение, а она читала о том, как чудесно и божественно пел пастух Анфрисо, восхваляя несравненную Белисарду[152], и во всех горах Аркадских не было дерева, у ствола которого он не располагался бы петь с той самой минуты, когда солнце пробуждается в объятиях Авроры, и до той поры, когда оно отходит в объятия Фетиды; и даже после того, как черная ночь распускала по лицу земли свои черные, мрачные крылья, он не прекращал своих сладкогласных и слезообильных воздыханий. Не обошла она молчанием и пастуха Элисьо[153], скорее нежного, чем решительного, о котором заметила, что, невзирая на любовь свою и на стадо, он всей душой уходил в чужие страдания. Она находила также, что знаменитый пастух Филиды, неподражаемый автор всем известного портрета, был более легковерен, чем счастлив. Относительно обмороков Сирены и раскаянья Дианы она отозвалась в том смысле, что следует-де возблагодарить бога и мудрую Фелисью[154] за то, что она своей волшебной водой свела на нет все запутанные козни и лабиринты всякого рода препятствий. Вспоминал я еще о множестве других книг в том же роде, которые она читала, хотя они и не стоили того, чтобы загромождать ими память.
С и п и о н
Слова мои идут тебе на пользу, Берганса: посудачил, почесал язык — и довольно; пусть помыслы твои преисполнятся невинности, несмотря на распущенность языка.
Б е р г а н с а
В этих случаях язык почти никогда не погрешает, если предварительно не погрешают помыслы; ну, а если по недосмотру или лукавству мне случится сболтнуть что-нибудь лишнее, то хулителю своему я отвечу то же самое, что ответил Маупéон[155], невежда-поэт и горе-академик Академии подражателей[156]: когда у него спросили, что значит deo a deo, он сказал: «будь что будет»!
С и п и о н
Такие речи приличествуют глупцу, а если ты — умница или хочешь быть умницей, никогда не говори вещей, в которых после приходится раскаиваться. Рассказывай дальше.
Б е р г а н с а
Итак, все эти и еще многие другие размышления помогли мне увидеть, насколько нравы и обычаи моих пастухов и пастухов всей нашей округи отличаются от того, что мне читали про пастухов из книг. Хотя пастухи мои и пели, но это были совсем не сладкогласные и стройные песни, а какая-нибудь: «Эй, куда волк пошел, эй, Хуаника!» или другие вещи в том же роде; пели они совсем не под звуки гобоев, равелей или волынок, а постукивая одной дубинкой о другую или прищелкивая черепками, зажатыми в пальцах; и опять-таки не нежными и пленительными голосами, а голосами хриплыми, производившими такое впечатление, будто и порознь и вместе голоса эти не поют, а орут или хрюкают. Большую часть дня они проводили в искании на себе блох и починке сандалий, называя при этом друг друга не Амарилис, Филида, Галатея или Диана, равно как и не Лисардо, Лаусо, Хасинто или Рисело, а все больше Антон, Доминго, Пабло, Льоренте, почему я и пришел к выводу, с которым, наверное, многие согласятся: что пастушеские романы — вымышленные и красиво написанные сочинения, предназначенные для услаждения праздных людей, но только правды в них нет никакой. Будь это иначе, среди моих пастухов несомненно сохранился бы какой-нибудь отголосок этой блаженнейшей жизни, всех этих отрадных Лугов, привольных лесов, священных холмов, прекрасных садов, прозрачных ручейков и хрустальных потоков, всех этих прелестных и столь искусно выраженных воркований, этих обмороков, когда тут валится пастух, а там пастушка, этих мелодий, когда один играет на свирели, а другой — на флейте!
С и п и о н
Довольно, Берганса; теперь выходи на прямую дорогу — и с богом!
Б е р г а н с а
Спасибо тебе, друг Сипион; я так было разошелся, что без твоего увещания я продолжал бы до тех пор, пока не пересказал целой книги из разряда этих вымышленных сочинений. Ну, да придет время, и я все это изложу гораздо лучше и толковее, чем сейчас.
С и п и о н
«Павлин, павлин, взгляни себе на ноги и подбери-ка хвост»; советую тебе, Берганса, помнить, что ты животное, лишенное разумна, и если сейчас у тебя появились мысли, то, как мы уже установили, это вещь сверхъестественная и никем никогда еще не виданная.
Б е р г а н с а
Охотно бы с тобой согласился, если бы я по сей час оставался при первоначальном неведении, но я только что вспомнил одно обстоятельство, с которого мне собственно и следовало начать нашу беседу, а потому я не столько удивляюсь своему дару речи, сколько ужасаюсь вещам, которые обхожу молчанием.
С и п и о н
Но разве ты мне не можешь сказать, что тебе сейчас припомнилось?
Б е р г а н с а
Это история, случившаяся со мной у одной знаменитой колдуньи, ученицы Камачи Монтильской.
С и п и о н
Пожалуйста, расскажи ее, прежде чем продолжать повесть своей жизни.
Б е р г а н с а
Этого я ни в коем случае не сделаю; наберись терпения и слушай по порядку все мои приключения: тогда они доставят тебе гораздо больше удовольствия, если только тебя не разбирает охота середину услышать раньше начала.
С и п и о н
Не теряй же слов и рассказывай, что и как тебе вздумается.
Б е р г а н с а
Итак, говорю я, обязанность охранять стадо пришлась мне по вкусу: я видел, что в поте лица зарабатываю трудовой хлеб и что праздности — основы и матери всех пороков — не было тут и в помине по той простой причине, что если я благодушествовал днем, зато не знал покоя ночью, так как волки делали частые набеги и поднимали нас на ноги.
Стоило пастухам сказать: «Барсино, волки!» — и я раньше всех псов поспешал к указанному месту: я обегал долины, обыскивал горы, рыскал по лесу, перескакивал через овраги, проносился по дорогам и, изранив лапы о колючки, поутру возвращался к стаду, не найдя ни волка, ни его следов, запыхавшийся, усталый, совсем разбитый. В стаде же оказывалась иногда убитая овца, иногда баран, зарезанный и наполовину обглоданный зверем. Я приходил в отчаяние при мысли, как мало пользы приносили мои заботы и усердие. Приезжал хозяин стада. Пастухи выходили его встречать со шкуркой убитого животного; он укорял пастухов за небрежность и наказывал собак за леность: на нас сыпались градом палки, на них — выговоры. И вот, когда меня однажды без вины наказали (ибо ни заботливость моя, ни проворство, ни отвага не помогли мне изловить волка), я решил изменить свое поведение и при поисках волков не уходить далеко в сторону, как обыкновенно делал, а оставаться при стаде неотлучно, ибо если волк приходил сюда сам, поймать его на месте было всего вернее.
Тревога у нас бывала каждый день; в одну непроглядно темную ночь я высмотрел, наконец, волков, от которых нельзя было уберечь стадо. После того как другие собаки, мои однокашники, пробежали вперед, я притаился за кустом и оттуда разглядел и подстерег, как двое пастухов схватили лучшего в овчарне барана и убили его таким образом, что наутро действительно могло показаться, будто его зарезал волк.
Я оторопел и ошалел, обнаружив, что волками оказались пастухи, опустошавшие то самое стадо, которое должны были охранять. Они немедленно дали знать хозяину о нападении волков, вручили ему шкуру и часть мяса, а сами съели самую большую и хорошую долю. Хозяин стал их снова бранить, собак снова стали наказывать; волков не находилось, стадо таяло; мне очень хотелось открыть, в чем дело, но — увы! — я нем. А между тем события эти вызывали во мне удивление и тревогу.
«Боже правый, — говорил я самому себе, — кто тут поможет горю? Кто будет в силах доказать, что охрана преступна, что часовые спят, что тот, кто нас сторожит, нас губит?»
С и п и о н
Ты отлично выразился, Берганса, ибо нет более опасного и хитрого врага, чем домашний вор; вот почему доверчивые люди гибнут чаще, чем осторожные; но несчастье в том, что как же человеку жить на свете, если никому не верить и не доверять? Впрочем, на этом следовало бы остановиться: я нахожу, что нам незачем превращаться в проповедников. Продолжай.
Б е р г а н с а
Продолжаю; я порешил оставить эту должность, хотя она мне и казалась почтенной, и подыскать себе такое место, где за исправную работу если и не вознаграждают, то по крайней мере не наказывают. Я вернулся обратно в Севилью и поступил на службу к одному очень богатому купцу.
С и п и о н
А каким образом находил ты себе хозяев? Ведь при наших порядках с большим трудом удается теперь порядочному человеку поступить на службу к господину. Очень уж непохожи земные владыки на владыку небесного: первые, принимая слугу, начинают сразу копаться в его происхождении, проверять его пригодность, изучать его привычки и стараются даже узнать, сколько у него платья; а для того, чтобы послужить господу, самый бедный человек и есть самый богатый, самый смиренный — безупречного рода, и если только он от чистого сердца вознамерится служить богу, немедленно же отдается приказ записать его в книгу окладов, причем оклад назначается такой завидный, что большего и лучшего вряд ли возможно желать.
Б е р г а н с а
Все это, друг Сипион, одни «проповеди».
С и п и о н
Так оно и мне кажется, а посему умолкаю.
Б е р г а н с а
Ты спрашивал меня, какого порядка я держался, отыскивая себе хозяина; думаю, тебе отлично известно, что смирение есть основание и прообраз всех добродетелей и что без него не может обойтись ни одна добродетель на свете. Оно устраняет затруднения, оно побеждает препятствия, оно является средством, ведущим нас к достойнейшим целям; врагов оно превращает в друзей, оно сдерживает ярость гневливых, пресекает высокомерие гордых; смирение есть мать скромности и сестра умеренности — одним словом, никакой порок не в силах успешно противостоять смирению, ибо о мягкость и незлобивость его притупляются и обламываются стрелы греха.
Смирением-то я и вооружался, когда хотел поступить на службу в какой-нибудь дом, причем предварительно соображал и прикидывал, такой ли это дом, где могут держать и прокормить большую собаку; затем я прислонялся к дверям, и когда, на мой взгляд, входил человек посторонний, я лаял, а когда входил хозяин, то опускал голову и, виляя хвостом, направлялся к нему и облизывал ему языком сапоги. Если меня шали палкой, я сносил это и с прежней кротостью начинал ласкаться к бившему меня, так что никто меня не бил во второй раз, видя мою настойчивость и благородный характер. Таким образом, после двух попыток я обыкновенно оставался в доме, и если служил хорошо, то со мной обращались отлично и никогда не прогоняли, разве что я сам уйду, или, вернее сказать, убегу; иной раз я находил себе таких хозяев, что и по сей день, наверное, жил бы в доме, если бы меня не преследовала злодейка судьба.
С и п и о н
Таким же способом и я находил своих прежних хозяев; можно подумать, что мы читали мысли друг друга.
Б е р г а н с а
Если не ошибаюсь, в этих вещах мы с тобой действительно сходимся, и мы еще о них поговорим, как я тебе обещал, а теперь послушай, что случилось со мной после того, как я покинул стадо, оставив его на произвол пастухов-негодяев.
Как уже было сказано, я вернулся обратно в Севилью, приют всех бедных и убежище всех отверженных, ибо величие ее таково, что там не только легко помещаются люди убогие, но я сильные мира сего бывают едва заметны. Я прислонился к дверям большого приличного дома, проявил обычное старание и сразу получил место. Меня взяли для того, чтобы днем я сидел на привязи у ворот, а ночью бегал на воле; служил я весьма усердно и прилежно: на чужих — лаял, на людей малознакомых — рычал, ночами бодрствовал, осматривал загоны для скота, взбегал на террасы — одним словом, стал неусыпным стражем своего хозяина и соседей.
Моя добрая служба понравилась, и хозяин отдал приказ обращаться со мной хорошо, а харчи мне выдавать из хлеба и костей, убиравшихся со стола, и из кухонных остатков; за это я выказывал ему большую привязанность и без конца прыгал при его появлении, особенно же когда он приходил домой, и я проявлял столько радости и столько делал прыжков, что хозяин велел отвязать меня и оставлять на свободе днем и ночью. Увидев себя на воле, я подбежал к хозяину и стал увиваться вокруг, не смея, однако, положить на него свои лапы, ибо помнил басню Эзопа, в которой один осел выказал себя таким ослом, что пожелал приласкаться к своему господину совершенно так, как его балованная собачка, за что его тут же отколотили палками. Басня эта, думается мне, проводит мысль, что иные вещи смешны и забавны у одного, но совсем не подходят другому: пусть кривляется и передразнивает шут, пусть показывает ловкость рук и жонглирует скоморох, пусть кричит по-ослиному бродяга, пусть подражает пению птиц, жестам и движениям людей и животных простолюдин, занимающийся этим делом, но пусть не, берется за такие вещи человек знатный, которому ни одно из этих ловкачеств не принесет ни почета, ни славы.
С и п и о н
Ну, ладно, Берганса, продолжай свой рассказ; я тебя понял.
Б е р г а н с а
О, если бы с такою же легкостью поняли меня люди, о которых я говорю. У меня несомненно есть врожденное благородство, и поэтому я глубоко страдаю при виде того, как какой-нибудь кавальеро превращает себя в шута, гордится уменьем жонглировать стаканчиками и орешками или хвастается, что никто так не протанцует чакону, как он. Знал я одного кавальеро, который похвалялся тем, что по просьбе ризничего вырезал из бумаги тридцать два узора для возложения на Монумент поверх черных сукон, причем он сделал из этого целое событие и водил своих знакомых смотреть на узоры, словно это были вражеские знамена и доспехи, возложенные на гробницу его дедов и праотцов.
У моего купца было два сына; одному исполнилось двенадцать, другому — почти четырнадцать лет; оба они обучались латыни в школе Общества Иисуса[157]. Они ходили туда очень пышно: с дядькой и двумя слугами, таскавшими книги и так называемый vademecum.
Посмотрев на подобную роскошь — в жаркое время их носили в ручном возке, в дождливую погоду отправляли в карете, — я невольно подумал о скромности, с какой их отец выезжал на биржу делать свои дела: при нем не бывало других слуг, кроме негра, и очень часто он не стыдился сесть на обыкновенного мула, к тому же в весьма неказистой сбруе.
С и п и о н
Необходимо заметить, Берганса, что в Севилье и в Других городах у купцов существует особая повадка и обычай: показывать свое богатство и пышность не на себе, а на детях; ибо в торговом деле важен не сам купец, а его добрая слава; поскольку же купцы, как общее правило, обращают внимание на одни только сделки и договоры, то обычно они содержат себя в большой скромности; но честолюбие и богатство желают проявить себя во что бы то ни стало и всецело переносятся на детей, которых купцы воспитывают и холят, как принцев. Находятся среди них и такие, что добывают для детей титулы и нагрудный знак[158], который сразу отличает человека знатного от простолюдина.
Б е р г а н с а
Честолюбие человека, стремящегося улучшить свое положение без ущерба для другого, есть честолюбие благородное.
С и п и о н
Но ведь очень редко, а вернее — никогда не бывает так, чтобы наше честолюбие не приносило вреда другому.
Б е р г а н с а
Помни, мы обещали, что не будем злословить.
С и п и о н
Да, обещали, но я ведь ни про кого и не злословлю.
Б е р г а н с а
Благодаря тебе я получил, наконец, возможность подтвердить много раз наблюдавшуюся истину: едва только злоречивый сплетник опорочит десять семейств и оклевещет двадцать праведников, как в ответ на упрек в клевете заявляет, что он, мол, ничего такого не говорил, а если что и сказал, то совсем не в том смысле; ну, а если бы знал, что это кого-нибудь обидит, то, наверное, не сказал бы ни слова. Поистине, Сипион, нужно быть большим умницей и нужно очень следить за собой, чтобы, поддерживая разговор в течение двух часов, ни разу не удариться в сплетни. Я по себе сужу (а ведь я всего только — животное): стоит мне открыть рот, как слова идут на язык, словно москиты на вино, и всё мерзостные и нехорошие. А поэтому я снова повторяю то же, что всегда говорил: погрешать словом и делом повелось у нас еще от прародителей, и привычку эту мы всасываем с молоком кормилицы. Обрати внимание, что когда у младенца хватает сил, чтобы высунуть из пеленок руку, он поднимает ее с таким видом, будто хочет посчитаться с тем, кто, по его мнению, его обижает, а первый членораздельный звук, который он произносит, это, пожалуй, слово «кака», обращенное к няньке или матери.
С и п и о н
Да, ты прав; сознаю свой промах и прошу извинить меня, поскольку я тебя тоже много раз извинял; «потопим это дело в море», как любят выражаться ребята, и не будем отныне сплетничать. Продолжай же свой рассказ, который оборвался на том, с какой пышностью дети купца, твоего хозяина, ходили в школу Общества Иисуса.
Б е р г а н с а
Иисус да благословит меня во всех делах моей жизни… а так как отвыкнуть от сплетен дело, на мой взгляд, трудное, я намерен прибегнуть к средству, применявшемуся, как я слышал, одним неисправимым ругателем. Поклявшись бросить свою дурную привычку, он всякий раз, когда бранился, щипал себя за руку или целовал землю в наказание за грех и, несмотря на это, все-таки продолжал ругаться. Я сделаю так: всякий раз как я погрешу против данного тобою наказа и против собственного зарока не злословить, я буду прикусывать кончик языка для того, чтобы, почувствовав боль, вспомнить о своей слабости и больше в нее не впадать.
С и п и о н
Это опасное средство; применив его на деле, ты, пожалуй, будешь кусать себя так часто, что останешься без языка и, таким образом, действительно не сможешь больше злословить.
Б е р г а н с а
Во всяком случае я приму с своей стороны меры, а в остальном возложу упование на небо.
Итак, однажды дети моего хозяина забыли на дворе тетрадь в то самое время, когда я там находился; приучившись у мясника носить хозяйскую корзинку, я схватил vademecum и отправился за ними следом, решив не отдавать его до самой школы. Все вышло так, как я предвидел; хозяева, заметив, что я явился с vademecum во рту, осторожно придерживая его за тесемки, велели было слуге отобрать его, но я воспротивился и отдал его только при входе в аудиторию, что заставило рассмеяться всех студентов.
Подойдя к старшему из моих хозяев, я — с большой, на мой взгляд, учтивостью — сдал ему тетрадь на руки, а сам уселся у дверей аудитории, не спуская глаз с маэстро, читавшего на кафедре.
Есть какое-то особое очарование в добродетели, ибо, несмотря на то, что она мне почти — или, вернее, совсем — неизвестна, мне сразу понравилось видеть любовь, благочиние, усердие и искусство, с какими эти святые отцы и наставники обучали детей и выращивали нежные побеги юности, дабы не искривились они и не уклонились с пути добродетели, в которой наравне с науками они их укрепляли. Я обратил внимание, как мягко они им выговаривали, как снисходительно наказывали, как воодушевляли примерами, поощряли наградами и как разумно жалели; как они расписывали им ужас и безобразие пороков, как изображали красоту добродетелей для того, чтобы, возненавидев первые и возлюбив вторые, их питомцы исполнили цель своего воспитания.
С и п и о н
Правильно подмечено, Берганса; мне самому приходилось слышать, что вряд ли где на свете отыщешь более рассудительных руководителей в делах мирских и что в то же время вряд ли кто может сравниться с этими святыми людьми, когда они ведут и направляют нас по дороге небесной. Они суть зерцала, отражающие в себе благочиние, истинное католическое учение, высокую рассудительность, а кроме того, и глубокое смирение — основу, на которой зиждется все здание небесного блаженства.
Б е р г а н с а
Все это совершеннейшая истина, но продолжу свою историю: хозяевам моим захотелось, чтобы я им всегда носил vademecum, что я и делал с превеликой охотой и жил благодаря этому по-царски, а то, пожалуй, и лучше, ибо жизнь моя была беспечальной.
Дело в том, что студенты привыкли шалить со мной, и я с ними до того приручился, что мне в рот стали вкладывать пальцы, а кто поменьше, тот забирался ко мне на спину. Они швыряли на землю береты и шляпы, а я их аккуратно приносил, выказывая при этом! большую радость. Они стали меня кормить, чем могли, и приходили в восторг, когда видели, что полученные орехи я чистил, как обезьяна, отбрасывая скорлупу, и съедал только ядрышко; среди юнцов нашелся любитель, вздумавший для испытания моих талантов принести мне в платке ворох салата, который я съел совсем как человек. Время было зимнее, когда в Севилье бывают в большом ходу молочные хлебцы с маслом, которыми меня так потчевали, что не одна пара Антоньев[159] была заложена или продана из-за моего завтрака. Одним словом, я жил по-студенчески и не знал, однако, ни голода, ни паршей, а это в данном случае есть наивысшее благо, ибо если бы парши и голод не составляли нечто неотделимое от студента, никакая другая жизнь не могла бы быть более разнообразной и приятной, ибо добродетель здесь как бы состязается с радостью и юные годы проходят в науке и удовольствиях.
Этого блаженства и покоя лишили меня так называемые «приличия», а когда начинают считаться с ними, тогда не считаются со многими другими соображениями. И вот однажды господа наставники высказали мысль, что получасовую перемену между занятиями студенты проводят не за повторением уроков, а в шалостях со мной, а потому они велели моим хозяевам не брать меня больше в школу. Те послушались и отправили меня домой сторожить, как и раньше, ворота. Старик купец позабыл о дарованной мне льготе ходить днем и ночью на свободе, и снова моя шея оказалась на цепи, а тело на подстилке, которую положили для меня за дверью.
Увы. друг Сипион, если бы ты знал, какая жестокая вещь переживать переход от счастливого состояния к несчастному! Заметь: если испытания и бедствия идут сплошной полосой и бывают непрерывны, если они заканчиваются смертью или если самая их непрерывность вырабатывает привычку и навык сносить их, это в самые трудные минуты служит нам облегчением, но когда после состояния несчастного и бедственного нежданно-негаданно начинаешь вкушать от иной судьбы, удачной, счастливой и радостной, а затем вдруг снова возвращаешься к минувшим мучениям, к прежним страданиям и несчастиям, — тогда испытываешь столь ужасную боль, что если она и не убивает сразу, то только для того, чтобы замучить до смерти оставлением в живых!
Итак я снова перешел на свой собачий паек и на кости, которые бросала мне служившая в доме негритянка, причем часть их раскрадывали два полосатых кота: они были проворны и гуляли на свободе, а потому без особого труда хватали то, что падало далеко от моей цепи. Друг Сипион, не сердись, ради бога, позволь мне сейчас немного пофилософствовать, и да пошлет тебе небо всех благ, каких ты сам себе пожелаешь; если я пропущу случай высказать то, что пришло мне сию минуту в голову и что имеет отношение к случившимся в это время событиям, то история моя окажется, пожалуй, неполной и бесплодной.
С и п и о н
Подумай, Берганса, не есть ли охватившее тебя желание философствовать — искушение дьявольское? Ибо что, в самом деле, может послужить для злоречивого сплетника более надежным покровом, оберегающим и защищающим его испорченность и распущенность, как не мысль, что его слова суть философские изречения и что злословить значит то же, что укорять, а обличать чужие недостатки есть, мол, похвальное рвение; между тем нет такого сплетника, чья жизнь не была бы — если ее разобрать и исследовать — исполнена пороков и гнусностей. Теперь, когда ты все это выслушал, можешь философствовать, сколько душе угодно.
Б е р г а н с а
Успокойся, Сипион, сплетничать я больше не буду: это дело решенное. Нужно тебе сказать, что по целым дням, бывало, я предавался праздности, а так как праздность — мать размышления, я стал мысленно перебирать кое-какие латинские фразы, уцелевшие в памяти из того множества выражений, которые я слышал в школе, когда ходил туда вместе с хозяевами. Мне показалось, что речения эти слегка просветили мой разум, а потому я возымел намерение (словно я и в самом деле умел говорить) пользоваться ими при случае, но не так, однако, как иногда ими пользуются невежды. Бывают такие неучи, которые время от времени вставляют в разговор какое-нибудь краткое и сильное изречение, желая выказать себя хорошими латинистами перед людьми, не знающими по-латыни, а на самом деле они едва умеют просклонять существительное или проспрягать глагол.
С и п и о н
Я считаю, что это еще не такое большое зло, как поведение иных, бесспорно знающих латинистов, среди которых попадаются иногда люди столь неразумные, что в разговоре с сапожником или портным льют свою латынь, как воду.
Б е р г а н с а
Из этого можно было бы заключить, что в такой же мере погрешает человек, приводящий латинские изречения тем, кто в них не разбирается, как и человек, произносящий латинские слова, не понимая их смысла.
С и п и о н
Можешь сделать и другой еще вывод: бывают люди, которым знание латыни не мешает все-таки быть ослами.
Б е р г а н с а
Да кто же в этом сомневается? Дело ясное: поскольку во времена римлян все говорили по-латыни, то есть на своем родном языке, должны же были тогда существовать остолопы, которых умение говорить по-латыни не спасало от глупости.
С и п и о н
Для того чтобы уметь помолчать по-испански и говорить по-латыни, нужно мозгами шевелить, брат Берганса.
Б е р г а н с а
Совершенно верно, потому что с таким же успехом можно говорить глупости по-латыни, как и по-испански; мне случалось встречать образованных тупиц, незадачливых грамотеев и недоучек, которые так щеголяли лоскутами своей латыни, что каждому слушателю становилось тошно, и не один, а много-много раз.
С и п и о н
Ну, довольно об этом; начинай свою философию.
Б е р г а н с а
Да я уже ее изложил: она заключена в только что сказанных мною словах.
С и п и о н
Каких?
Б е р г а н с а
Да вот о латинских цитатах и испанском языке: я начал, а ты кончил.
С и п и о н
Итак, ты называешь философией сплетню? Вот оно как! Кади, Берганса, кади фимиам мерзостной язве злословия, называй ее какими угодно именами, а она украсит нас прозванием циников, что значит псы злословящие; заклинаю тебя, заткнись и продолжай свой рассказ!
Б е р г а н с а
Как же я буду продолжать, если замолчу?
С и п и о н
Я хотел сказать, чтобы ты все излагал по порядку, а то рассказ твой выглядит осьминогом: ты все время к нему хвосты приделываешь.
Б е р г а н с а
Выражайся, пожалуйста, точно: у осьминога эта часть называется не «хвост», а совсем иначе.[160]
С и п и о н
Ты повторяешь ошибку, в которую впал человек, сказавший, будто нет ничего гнусного и порочного в том, чтобы все вещи называть своими именами, но на самом деле, разве не лучше в тех случаях, когда бывает необходимо назвать некоторые предметы, прибегнуть к иносказанию и оговорке, смягчающим отвращение, которое мы испытываем, слушая подобные выражения? Пристойные слова свидетельствуют о добрых нравах того, кто их произносит или пишет.
Б е р г а н с а
Готов с тобой согласиться и продолжаю: итак, судьба не удовольствовалась тем, что отняла у меня науки и ту веселую, достойную жизнь, которою я тогда жил; ей было мало того, что она снова посадила меня на цепь у ворот, что от щедрот студентов она заставила меня опять перейти на нищенский корм негритянки, — она распорядилась внести смятенье даже туда, где я мечтал обрести себе отдых и покой.
Выслушай, Сипион, и заметь, как я сам заметил, одно несомненное и достоверное правило: несчастного несчастья ищут и находят, даже если бы он от них спрятался в отдаленнейший угол земли. Говорю я так потому, что наша негритянка была влюблена в негра, нашего раба, а негр этот ночевал в подворотне, то есть между наружной дверью и внутренней, за которой помещался я; сходиться они могли только ночью и для этого они выкрали и подделали ключи; и вот во все почти ночи негритянка спускалась вниз и, сунув мне в пасть кусок мяса или сыру, открывала негру и приятно проводила с ним время; устраивалось это с помощью моего молчания и за счет тех бесчисленных кусков, которые воровала негритянка. На некоторое время подачки ее заставили меня поступиться совестью: мне казалось, что без них у меня совсем подтянет брюхо и из мастина я превращусь в борзую, но вместе с тем, прислушиваясь к голосу своей благородной натуры, я хотел исполнить долг перед хозяином, на жалованье которого я жил и хлеб которого ел; собственно говоря, так следует поступать не одним нам, честным собакам, удостоившимся прозвания благодарных, но и всякому, кто состоит на службе.
С и п и о н
Вот это — да, вот эти слова, Берганса, я действительно согласен признать философией, ибо они заключают в себе настоящую истину и вполне разумный смысл; ну, а теперь продолжай и не делай никаких мостов (чуть было не сказал «хвостов») в своем рассказе.
Б е р г а н с а
Но предварительно я попрошу тебя объяснить (если только ты знаешь), что значит слово «философия»; хотя я его и употребляю, но не знаю, что это такое; знаю только, что вещь хорошая.
С и п и о н
Скажу кратко. Слово это состоит из двух греческих слов, а именно: «филос» и «софия»: «филос» значит «любовь», а «софия» — «знание»; так что «философия» означает любовь к знанию, а «философ» — любитель знания.
Б е р г а н с а
Большая у тебя ученость, Сипион. И какой черт обучил тебя греческим словам?
С и п и о н
Поистине, Берганса, ты простец, если придаешь этому вздору значение; это — вещи, известные даже школьникам; а затем, разве нельзя прослыть знатоком греческого языка, не зная его; подобно тому как можно сойти за латиниста, ничего не смысля в латыни.
Б е р г а н с а
Совершенно с тобой согласен. И было бы очень недурно положить всех этих знатоков под пресс да выжать из них сок их настоящего знания; пусть бы они не дурачили людей сусальным золотом своих рваных штанов[161] и своей поддельной латынью: ни дать ни взять — португальцы, надувающие негров в Гвинее![162]
С и п и о н
Теперь, Берганса, ты с полным правом мог бы прикусить, а я прищемить свой язык, потому что все наши речи — сплошные сплетни.
Б е р г а н с а
Но я вовсе не обязан поступать так, как поступил, по рассказам, некий туриец по имени Хоронд[163], установивший закон: чтобы никто в городе, под страхом смертной казни, не смел являться в собрание вооруженным. Позабыв об этом, он пришел однажды на заседание, опоясанный мечом; спохватившись и вспомнив об установленном наказании, Хоронд в ту же минуту обнажил меч и пронзил себе грудь, и вышло так, что он первый установил закон, первый его нарушил и первый понес наказание. Дело в том, что я не устанавливал никакого закона, а просто дал слово, что прикушу себе язык, как только начну сплетничать, но нынче нравы у нас не такие суровые и строгие, как в древности: сегодня у нас вводят закон, а завтра его нарушают, и, пожалуй, так этому и следует быть. Сейчас тебе человек обещает исправить свои пороки, а через какую-нибудь минуту впадает в другие, более тяжкие грехи. Одно дело восхвалять строгость, а другое — подвергать себя ее действию: ведь от слова до дела не рукой подать. Пусть его прикусывает язык леший, а я не хочу разыгрывать благородство тут, на этой циновке, где нет никого, кто бы мог меня видеть и отметить мою похвальную решимость!
С и п и о н
Отсюда следует, Берганса, что, родившись человеком, ты, наверное, стал бы лицемером, и все твои поступки были бы внешние, притворные и поддельные; ты прикрывал бы их покровом добродетели только для того, чтобы тебя хвалили, как это делают вообще все лицемеры.
Б е р г а н с а
Не знаю, право, как бы я тогда поступил, но зато мне вполне ясно, чего я не буду делать теперь: не стану я себе прикусывать язык, поскольку мне предстоит столь длинный рассказ, что я даже сообразить не могу, когда и каким образом успею я все закончить; к тому же я сильно побаиваюсь, как бы с восходом солнца мы не оказались во тьме, то есть не утратили дара речи.
С и п и о н
С помощью кеба все устроится к лучшему. Продолжай свой рассказ, не сбиваясь с прямого пути за неуместными отступлениями, и тогда, как бы длинен он ни был, ты скоро его окончишь.
Б е р г а н с а
Итак, убедившись в нахальстве, воровстве и бесстыдстве негров, я, как хороший слуга, порешил бороться с ними всеми возможными средствами, и мне так повезло, что я вполне преуспел в своем намерении. Мною было уже отмечено, что негритянка спускалась вниз ублажаться с негром в полной уверенности, что бросаемые ею куски мяса, хлеба и сыра сделали меня немым… Ах, Сипион, большую силу имеют взятки!
С и п и о н
Да, большую, но не уклоняйся в сторону, продолжай.
Б е р г а н с а
Помнится, что когда я ходил в школу, то слышал от одного наставника латинскую поговорку, так называемый адагий, гласивший: habet bovem in lingua.[164]
С и п и о н
Ну, и не вовремя же ты применил свое изречение! Так скоро позабыть, что мы сейчас говорили о людях, вставляющих в испанскую речь латинские слова!
Б е р г а н с а
Моя латынь подходит сейчас как нельзя более кстати: заметь, что у афинян была в обращении, наряду с другими деньгами, монета с изображением быка, и когда какой-нибудь судья бывал подкуплен и начинал говорить или поступать неосновательно и несправедливо, то они говаривали: «у него на языке лежит бык».
С и п и о н
Применение пословицы неясно.
Б е р г а н с а
Почему же неясно, если подачки негритянки заставили меня на много дней онеметь, так что, когда она приходила на свидание к влюбленному негру, я ни разу не посмел на нее залаять? А поэтому я еще раз повторю: большую силу имеют взятки!
С и п и о н
Я уже ответил тебе, что большую; мне не хочется пускаться в пространные отступления, но я мог бы показать на тысяче примеров, какою огромною силой обладают взятки; впрочем, может быть, кое-что и скажу, если небо предоставит мне время, место и дар слова, необходимый для повести о моей жизни.
Б е р г а н с а
Да ниспошлет тебе бог то, что ты себе желаешь, и слушай. В конце концов мое доброе намерение взяло верх над позорными подачками негритянки, и когда в одну очень темную ночь она спустилась вниз для обычной своей забавы, я напал на нее, не залаяв, дабы не переполошить домашних, в один миг разорвал в клочья ее рубаху и отхватил ей кусок ляжки; шутка эта оказалась настолько серьезной, что продержала негритянку в постели больше недели, причем ей пришлось выдумать для хозяев какую-то болезнь. По выздоровлении она однажды ночью явилась снова; я опять завязал драку с рабыней и, не укусив ее ни разу, исцарапал ее так, словно прочесал на ворсильных щетках, как одеяло. Наши схватки происходили в глубоком молчании, и я всегда оказывался победителем, а негритянка — потрепанной и страшно обозленной; досада ее скоро отразилась на моем здоровье и шкуре, ибо она наложила руку на паек и кости, так что мало-помалу на хребте у меня стали ясно обозначаться позвонки. За всем тем, хотя у меня и отняли пищу, но лай мой остался при мне, а поэтому негритянка, желая разом доконать врага, угостила меня поджаренной в масле губкой; я сразу почуял подвох и помял, что угощение это будет почище крысиного яда, ибо от него сразу вздувается живот и губка выходит из тела только вместе с жизнью; увидев, что мне не уберечься от происков столь бесчеловечных врагов, я порешил убежать от них прочь, чтобы глаза мои их больше не видели.
Когда меня спустили однажды с привязи, я, не прощаясь с домашними, пробрался на улицу, где через какую-нибудь сотню шагов судьба послала мне навстречу альгуасила, о котором в начале рассказа я упомянул как о большом приятеле моего мясника Николаса Курносого; с первого же взгляда он узнал меня и окликнул по имени. Я его тоже узнал и подошел на его зов с обычными своими приветствиями и ласками. Он схватил меня за шиворот и, обращаясь к двум полицейским, сказал:
— Это отличная, обученная собака, принадлежавшая моему близкому другу; возьмем ее к себе.
Полицейские обрадовались и объявили, что если собака обучена, то она, несомненно, принесет им большую пользу. Они хотели было схватить меня и тащить силой, но хозяин сказал, что хватать меня незачем и что я пойду сам, потому что хорошо его знаю. Я забыл сказать, что ошейник со стальными шипами, который я унес с собой при побеге из стада, с меня снял на постоялом дворе один цыган, так что в Севилье я ходил без ошейника; теперь альгуасил надел на меня ремень, украшенный мавританской латунью. Подумай только, Сипион, об изменчивом колесе фортуны: вчера я — студент, а сегодня уже — полицейский!
С и п и о н
Да ведь так всегда бывает на свете, тебе незачем преувеличивать внезапные перемены судьбы: какая же разница между слугой мясника и прислужником полицейского? Я просто не выношу и не в состоянии терпеть, когда иной человек, для которого наивысшим счастьем было бы место какого-нибудь дворецкого, начинает жаловаться на судьбу. Как клянет он свою жизнь, какими поношениями ее бесчестит! И все это для того, чтобы слушающий мог подумать, что к тому жалкому убожеству, в котором он живет, он пришел с высот благополучия и счастья.
Б е р г а н с а
Ты прав; нужно тебе заметить, однако, что альгуасил мой водил дружбу с писцом, который служил вместе с ним. Оба они находились в сожительстве с двумя бабенками, которые вели себя не так, чтобы немножко «не того», а совсем-таки «не того»; правда, лицом они были довольно смазливы, но в душе — беззастенчивые, продувные шлюхи. Обе женщины служили сетью и крючком для ловли рыбки в мутной воде, и вот каким образом: они одевались с таким расчетом, чтобы по крапу нетрудно было отгадать карты, и на арбалетный выстрел показывали, что они — дамы легкого поведения; охотились они всегда на иностранцев, и когда в Кадис или Севилью приходили корабли, а вместе с ними надежда на наживу, редкому чужеземцу удавалось избегнуть их нападений; когда же кто-нибудь из «чумазых» сходился с одной из наших «чистеньких», те сообщали альгуасилу и писцу, куда и в какую гостиницу они отправляются, и едва только дамы замкнутся с приезжим наедине, как появлялись наши герои и брали их под стражу как развратников; правда, они обычно не отправляли их в тюрьму, так как иностранцы откупались от наказания деньгами. И вот случилось, что Колиндрес — так звали подругу альгуасила — подцепила на свою удочку грязного «замазулю»-чужеземца, сговорилась с ним на ужин и на ночь, передала удилище в руки своего друга, и едва они с гостем разделись, как альгуасил, писец, двое полицейских и я очутились тут как тут. Прелюбодеи переполошились, альгуасил расписал страшными красками их преступление, велел им немедленно одеваться и идти в тюрьму; иностранец приуныл; писец, вняв голосу сострадания, стал улаживать дело и после долгих просьб сбавил пеню до ста реалов. Бедняга спросил было свои замшевые шаровары, где находились деньги для выкупа, но шаровары, оставленные на стуле у изголовья, не объявлялись, да и не могли объявиться; дело в том, что когда я попал в комнату, до носа моего донесся запах сала, который меня сразу очаровал; я чутьем добрался до него и увидел, что еда лежит в сумке, подвешенной к шароварам. То был кусок великолепной ветчины; чтобы отведать его и без помех извлечь наружу, я выволок шаровары на улицу и полакомился ветчиной вволю. Когда я вернулся в комнату, приезжий кричал и вопил на ломаном, варварском (хотя и понятном!) языке, чтобы ему вернули его штаны, где у него было «пятьдесят золотых скуди в золоте». Писец заподозрил в краже Колиндрес и полицейских; альгуасил подумал то же самое: он отозвал их в сторону, но никто не сознался, и тогда началось беснование. Сообразив, в чем дело, я вернулся на улицу, где оставил шаровары, с бескорыстной надеждой их отыскать, но шаровар нигде не было; видно, их унес с собой какой-то счастливый прохожий. Когда альгуасил убедился, что иностранцу взятки не заплатить, он пришел в отчаяние и порешил выманить у хозяйки дома деньги, причитавшиеся с приезжего. Она явилась на зов едва одетая; когда она услышала крики и жалобы чужеземца, увидела голую, плачущую Колиндрес, разгневанного альгуасила, беснующегося писца и полицейских, совавших в карман все, что попадалось под руку, это ей совсем не понравилось.
Альгуасил велел ей одеться и отправиться с ним в тюрьму за то, что она пускает в дом мужчин с непотребными женщинами. Тут-то и заварилась каша, поднялись крики и началась суматоха, потому что хозяйка обратилась к ним таким образом:
— Сеньор альгуасил и сеньор писец! Что вы со мной хитрите: все это белыми нитками шито; все ваши штучки и выверты не про меня; наберите лучше в рот воды и уходите с богом, а не то, вот вам крест, я своего добра не пожалею, но выведу на чистую воду всю подноготную этой истории! Мне отлично известна не только сеньора Колиндрес, но и то, что ее покровителем с давних пор состоит сеньор альгуасил; не заставляйте меня высказываться яснее, возвратите деньги этому сеньору и будем снова друзьями. Помните, что я женщина честная и что муж мой имеет дворянскую грамоту с perpenan rei de теmoria[165] и свинцовыми печатями, слава тебе господи; дело свое я веду чисто, ни себе, ни людям не в обиду; цены у меня прибиты на гвоздике и висят на виду; нечего мне очки втирать: я и так гляжу в оба. Хороша бы я была, если бы с моего ведома женщины помещались вместе с постояльцами! У них есть ключи от своих комнат, и я тебе не рысь, чтобы через семь стен насквозь видеть!
Писец и альгуасил вникнули в отповедь хозяйки и, сообразив, что она прочитала им историю их жизни, сначала оторопели, но, прикинув в уме, что если не она, то никто больше не выложит им денег, уперлись на том, чтобы вести ее в тюрьму. Она возносила к небу жалобы на произвол и несправедливость, чинимые над ней в отсутствие ее мужа, известного высокородного идальго. Иностранец вопил о своих «пятидесяти скуди». Полицейские уверяли, что они не видели шаровар и что «господь бог никогда бы не допустил до этого». Писец, по-прежнему подозревая в краже Колиндрес, втихомолку настаивал, чтобы альгуасил обыскал ее платье: у нее-де есть привычка шарить по фалдам и карманам людей, которые с ней гуляют. Та заявила, что чужеземец пьян и что про деньги он, несомненно, врет.
Под конец поднялась страшная перепалка, раздались крики и ругательства, никто не мог успокоиться, да и никогда бы не успокоился, если бы в комнате неожиданно не появился заместитель наместника, явившийся осмотреть гостиницу: шумные голоса привлекли его к месту ссоры. Он осведомился о причине криков. Хозяйка объяснила все с большими подробностями. Она описала личность нимфы Колиндрес, успевшей к тому времени одеться; объявила во всеуслышание про ее связь с альгуасилом, на всю улицу прокричала про ее плутни и воровские ухватки; стала доказывать, что с ее ведома ни одна подозрительная женщина к ней не хаживала; изобразив себя святой, а мужа своего угодником, она крикнула служанке, чтобы та сбегала и вынула из сундука дворянскую грамоту ее мужа на просмотр господину заместителю, прибавив, что тогда он сам увидит, может ли такая порядочная женщина сделать что-либо дурное; если же она занимается сдачей комнат, то делает это по необходимости, и один только бог знает, как это ей тяжело и как она все время мечтает о какой-нибудь ренте и хлебе насущном, а совсем не о таком ремесле…
Заместитель, выведенный из себя ее многословием и похвальбой дворянской грамотой, сказал ей:
— Дорогая хозяюшка, я готов поверить, что у мужа вашего есть дворянская грамота, но тем самым вы должны сознаться, что он и есть у вас трактирный дворянин.
— И весьма тем гордится, — отвечала хозяйка, — а где такой род на свете найдется, хотя бы даже и самый знаменитый, в котором ни сучка, ни задоринки не было бы?
— На это я, моя милая, скажу так: одевайтесь и пойдемте с нами в тюрьму.
Слова эти сразили ее окончательно. Она исцарапала себе лицо, подняла вой, и тем не менее заместитель проявил необычайную строгость и отправил в тюрьму их всех, то есть иностранца, Колиндрес и хозяйку. Впоследствии я узнал, что иностранец к потерянным «пятидесяти скуди» приплатил еще десять за судебные издержки; хозяйка внесла за себя столько же, а Колиндрес получила свободу и была отпущена подобру-поздорову. В тот самый день как ее выпустили, она подцепила какого-то моряка, который тоже попался в расставленные силки и вознаградил ее за невыгодного чужеземца. Сам посуди, Сипион, сколько бед и хлопот натворило мое чревоугодие!
С и п и о н
Правильнее было бы сказать: плутни твоего хозяина.
Б е р г а н с а
Нет, послушай: мои молодцы еще не такие коленца откалывали; впрочем, мне как-то неловко осуждать альгуасилов и писцов.
С и п и о н
Дело в том, что осудить одного еще не значит осудить всех поголовно; на свете, несомненно, существует великое множество порядочных, честных и справедливых писцов, людей вполне доброжелательных и не обижающих просителя; ведь не все они затягивают тяжбы и входят в сделки со сторонами; не все набавляют пошлины, не все они вторгаются и вмешиваются в чужую жизнь с тайным намерением создать судебное дело; не все они действуют заодно с судьей: ты, мол, меня побрей, а я тебе тупей[166] отделаю; ведь не все альгуасилы вступают в соглашение с бродягами и мошенниками, не все они заводят себе таких беспардонных подруг, как твой хозяин. Очень и очень многие среди них по природе своей — подлинные идальго и ведут себя совсем как идальго; многие из них не озорники, не нахалы, не невежи, не прохвосты и не чета иным альгуасилам, являющимся в гостиницы вымеривать шпаги у приезжих: обнаружив, что шпага хоть на волос длиннее установленного образца, они разоряют владельца поборами; да, не все они такие, что сначала возьмут под стражу, а потом выпустят; сначала поиграют в судью, а потом в защитника.
Б е р г а н с а
Мой хозяин метил высоко и пути выбирал особенные; ему хотелось прослыть отчаянным храбрецом и захватывать опасных преступников; он поддерживал свою славу без всякого риска для собственной жизни, жертвуя одним кошельком.
Однажды близ Хересских ворот он в одиночку напал на шестерых отъявленных подкалывателей. Я ему даже и помочь не мог, потому что на морде у меня была веревочная узда (так он водил меня днем; ночью узда снималась). Я очень подивился его отваге, лихости и бесстрашию; он так легко и непринужденно себя чувствовал под шестью шпагами этих разбойников, как будто имел дело с ивовыми прутиками; поистине стоило посмотреть, с какой быстротой он наступал, как выпадал и отбивал удары, каким неусыпным и бдительным глазом следил, чтобы его не обошли с тыла. Одним словом, не только я, но и все, кто видел или слыхал об этой схватке, признали, что мой хозяин — второй Родомонт, ибо он заставил своих врагов пятиться от Хересских ворот до мраморных колонн Коллегии Маэстро Родриго, что составляет более ста шагов. Загнав их туда, он вернулся, подобрал боевые трофеи, то есть трое ножен, и сейчас же пошел показать их наместнику, которым, если только правильно вспоминаю, был тогда лиценциат Сармьенто де Вальядарес[167], прославившийся впоследствии разгромом Сауседы[168].
Все пялили глаза на моего хозяина, когда он проходил по улицам, и указывали на него пальцами, как бы желая сказать:
— Вот храбрец, не побоявшийся схватиться в одиночку с отборными разбойниками Андалусии.
В этой прогулке по городу с целью выставить себя напоказ прошла остальная часть дня, а ночь застала нас в Триане[169], на улице, неподалеку от Пороховой мельницы. «Пустив глазенапа» (как выражаются воры) на случай, если бы кто-нибудь за ним следил, он юркнул в один дом, а я за ним следом. Во внутреннем дворике мы застали всех героев недавней схватки без плащей, без шпаг и с расстегнутым воротом; один из них, должно быть, главарь, держал в одной руке большой кувшин вина, а в другой — большую кабацкую кружку, которую он наполнял до краев благородным шипучим вином и подносил всем товарищам. Заметив моего хозяина, все бросились к нему с распростертыми объятиями и стали пить за его здоровье; он выпил со всеми и, если бы было нужно, охотно выпил бы и еще, потому что отличался обходительным нравом и не любил обижать людей из-за пустяков.
Если бы я вздумал описать, о чем они толковали, какой они ужин себе закатили, о каких побоищах вели речь, о каких кражах рассказывали, каких дам они ставили в образец, а каких осуждали, каких отсутствующих молодцов поминали, с каким знанием говорили об искусстве владеть оружием (причем вставали из-за стола и показывали, в какие положения они попадали, фехтуя для этого руками), какие щегольские словечки употребляли; если бы я захотел, кроме того, сказать, какого полета был сам хозяин, почитавшийся у них отцом и владыкой, — это значило бы пуститься в лабиринт, из которого я при самом большом желании, наверное, не сумел бы выпутаться. В заключение я с полной ясностью уразумел, что хозяин дома, по имени Мониподьо, был укрыватель воров и опора подкалывателей и что опасная схватка моего хозяина была заранее подготовлена вплоть до подробностей отступления и потери ножен, за которые мой хозяин тут же рассчитался наличными, а заодно уплатил (по предъявленному Мониподьо счету) и за ужин, закончившийся почти на заре к великому удовольствию всех участников. На сладкое хозяин мой получил… донос на одного бандита, чужого и никому не известного, недавно прибывшего в город. Он, видимо, был храбрее их всех, а поэтому из зависти они его выдали. Мой хозяин захватил его следующей ночью раздетого и в постели, ну, а в одежде (я это заключил по его внешнему виду) он, наверное, не позволил бы взять себя голыми руками. Это событие, случившееся вскоре после схватки, еще больше увеличило известность нашего труса, а хозяин мой был труслив, как заяц, и поддерживал славу храбреца одними угощениями да выпивкой, попутно стараясь использовать для этих целей свое служебное положение и всякого рода сговоры. Наберись, однако, терпения и прослушай историю, которая с ним случилась, причем я не прибавлю к ней и не убавлю ни единого слова.
Два вора украли в Антекере великолепную лошадь, привели ее в Севилью и, для того чтобы безопаснее было продать, прибегли к хитрости, на мой взгляд, очень тонкой и неглупой: они остановились в разных гостиницах, и один из них отправился в суд и подал прошение о том, что Педро де Лосада должен ему четыреста реалов, как это явствует из расписки, скрепленной подписью, каковую расписку он и представил.
Наместник постановил, чтобы Лосада признал свою расписку, а в случае признания подвергся либо взысканию с имущества в указанной сумме, либо заключению в тюрьму. Исполнение приговора было возложено на моего хозяина и его друга писца; вор свел их в гостиницу к товарищу, и тот немедленно признал свою подпись и долг, а в виде уплаты представил коня. При взгляде на коня у моего хозяина глаза разбежались, и он тут же решил прибрать его к рукам, если только будет назначена продажа. Первый вор заявил, что законный срок уже истек: лошадь продали с торгов и уступили за пятьсот реалов посреднику, подосланному моим хозяином. За коня можно было спросить в полтора раза больше назначенной цены, но так как продавцу было важно продать его как можно скорее, он с первой же ставки уступил свой товар. Получил один вор деньги, которые ему никто не был должен; другой получил справку об уплате, в которой совсем не нуждался, а хозяину моему достался конь, не менее роковой для владельца, чем пресловутый Сейянов[170] конь. Воры поспешили «сняться с якоря», а дня через два мой хозяин, справив лошади сбрую и кое-какие мелочи, выехал на площадь св. Франциска более напыженным и важным, чем мужик, разодевшийся на праздник. На него посыпались тысячи поздравлений с удачной покупкой; все стали уверять, что дать за такого коня сто пятьдесят дукатов — такое же верное дело, как заплатить мараведи за яйцо, а между тем мой хозяин, гарцуя на лихо играющем коне, разыгрывал свою собственную трагедию на подмостках уже поименованной мною площади.
Когда он весь с головой ушел в свои «винты» и «повороты», подошло двое изящных, отлично одетых мужчин и один из них сказал:
— Боже мой, да ведь это «Неутомимый» конь, которого недавно украли у меня в Антекере!
Четверо слуг, сопровождавших незнакомца, подтвердили, что это — правда и что конь этот — уворованный у них «Неутомимый». Мой хозяин растерялся, владелец коня заспорил, оба начали приводить доказательства, и владелец так определенно настоял на своих правах, что приговор был вынесен в его пользу, и хозяин мой лишился коня. Все узнали про хитрую проделку воров, сумевших продать краденое при поддержке и соучастии властей, и очень многие порадовались, что альгуасила ударила по карману его собственная жадность.
Несчастья его на этом не окончились; в ту же самую ночь на ночной обход вышел сам наместник, извещенный о том, что в квартале св. Хулиана шатаются воры; на одном перекрестке заметили, как бегом пробежал какой-то человек; в ту же минуту наместник схватил меня за ошейник и стал науськивать:
— Гавилан, вор! Голубчик Гавилан, вор, вор!
Мне давно уже наскучили темные дела альгуасила; я исполнил приказ сеньора наместника и, не сморгнув глазом, бросился на своего хозяина. Прежде чем он успел что-нибудь предпринять, я повалил его наземь и, не оттащи меня люди, я, наверное, отомстил бы за многих; нас рознили к великому неудовольствию обоих. Полицейские хотели было меня наказать и избить насмерть палками; мне пришлось бы подвергнуться пытке, если бы не наместник, сказавший:
— Не смейте его трогать: собака сделала то, что я приказал.
Намек был понят, и я, ни с кем не прощаясь, через отверстие стены выбрался в поле и еще до рассвета очутился в Майрене, находящейся в четырех милях от Севильи. Оказалось, что там стоит полк солдат, двигавшийся, по моим сведениям, на посадку в Картахену. Там было четверо солдат из числа преступного люда, близко дружившего с моим прежним хозяином, а барабанщик раньше служил в полиции и был лихим краснобаем, как и все вообще барабанщики.
Меня узнали, со мной заговорили и стали так подробно расспрашивать о хозяине, как будто я был в состоянии дать им ответ; больше всего расположения выказал ко мне барабанщик, так что я решил пристроиться к нему и, буде он пожелает, отправиться с ним в дорогу, хотя бы даже в Италию или Фландрию, ибо мне думается (да и ты, наверное, разделяешь это мнение), что, вопреки пословице, гласящей «кто в деревне дурак, останется дураком и в Кастилии», путешествия по чужим краям и общение с людьми развивают ум человека.
С и п и о н
Это несомненная истина; помнится, я слышал как-то от одного из своих хозяев, обладавшего большими познаниями, что знаменитый грек, по имени Уллйс, удостоился прозвания умного как раз за то, что объездил много земель и общался с самыми разнообразными людьми и народами; я вполне одобряю принятое тобою намерение отправиться в путешествие.
Б е р г а н с а
Дело в том, что барабанщик, желая блеснуть своим скоморошеством, стал учить меня танцевать под звуки барабана и выкидывать разные штуки, которые вряд ли оказались бы под силу другой собаке, кроме меня, как это ты увидишь, когда я о них расскажу. Мы уже выступили за границы своего округа и медленно подвигались вперед; комиссара, который мог бы мешать, при нас не было; наш командир был молодой, но примерный кавальеро и обращался с нами по-простецки; поручик всего несколько месяцев как покинул столицу и господский кошт, а сержант, продувной и дошлый малый, смотрел за солдатами в оба, начиная с места набора и до самой посадки на корабль. Полк наш кишел закоренелыми в дезертирстве бродягами, чинившими насилия по деревням, которыми мы проходили, так что все осыпали проклятиями власть, а она была тут совсем ни при чем; таково уже несчастье владык, ибо подданные клянут их за проступки других подданных по той простой причине, что каждый гражданин может стать палачом другого без всякой вины со стороны властителя; сам же он, даже если бы хотел и старался, не в силах помочь беде, ибо всё (или почти всё), связанное с войной, неизбежно порождает суровость, жестокость и притеснения.
Итак, меньше чем в две недели, благодаря моему личному дарованию и усердию, вложенному в дело тем, кого я избрал в наставники, я выучился прыгать через обруч «в честь французского короля» и «в честь хорошей таверны». Я умел делать «курбеты» не хуже неаполитанского коня; ходил по кругу, как мул, вертящий мельницу, знал и другие вещи; если бы я из осторожности не удерживался, то несомненно вызвал бы подозрение, что какой-то демон в образе пса выделывает эти штуки. Он прозвал меня «ученый пес», и едва мы, бывало, придем на постой, как он уже бьет в барабан, идет по селу и оповещает желающих взглянуть на диковинное искусство и способности ученого пса; смотреть их можно в таком-то доме или в таком-то госпитале за плату от четырех до восьми мараведи, в зависимости от величины поселка. После таких похвал редкий человек не поддавался соблазну взглянуть на меня, и совсем не находилось людей, остававшихся после посещения равнодушными или недовольными. Хозяин был в восторге от больших доходов, и шестеро товарищей кормились при нем, как цари. Жадность и зависть пробудили у бродяг желание выкрасть меня, и они только поджидали удобного случая, ибо возможность заработать на хлеб играючи привлекает множество лакомок и любителей; вот почему в Испании так много марионетчиков и показывателей «вертепов», так много продавцов булавок и стишков: всего их имущества, если его пустить в продажу, не хватит на дневное пропитание, а между тем и те и другие не выходят из кабаков и таверн целый год; ясно, что совсем иными источниками, а не этим ремеслом поддерживают они поток своего бражничанья. Все это — народ слоняющийся, никчемный и бесполезный: винные губки, саранча, поедающая хлеб!
С и п и о н
Ну, довольно, Берганса; не стоит повторять старые ошибки; рассказывай дальше: ночь проходит, и мне не хотелось бы, чтобы с восходом солнца мы погрузились во тьму молчания.
Б е р г а н с а
Не нарушай же его сам и слушай. Так как добавить что-нибудь к готовому изобретению — вещь нетрудная, мой хозяин, заметив, что я отлично изображаю неаполитанского скакуна, справил мне попонку из травчатой кожи и небольшое седло, надевавшееся на спину; сверху он посадил чучело человека с копьем для игры в кольца и обучил меня попадать прямо в кольцо, помещенное между двух палок; когда настал день выступления, хозяин стал выкликать, что сегодня ученый пес будет ловить кольца и покажет новые и невиданные приемы, которые мне приходилось выдумывать из головы, чтобы не выставить лгуном своего хозяина. Итак, медленными переходами мы добрались до Монтильи, владения знаменитого и благочестивого маркиза де Приего[171], владельца майората Агилар-и-Монтилья. Моего хозяина, по его настоянию, поместили в госпитале; он тотчас же кликнул обычный клич, а так как молва нас уже опередила и повсюду разнесла весть про искусство и способности ученого пса, меньше чем в полчаса дворик наполнился народом. Хозяин обрадовался, предвкушая обильный урожай, и выказал себя в тот день необычайным потешником. Первое, с чего он начал представление, были скачки через обруч решета, ничем не отличавшегося от обруча с бочки; без умолку балагуря и задавая обычные вопросы, он опускал вниз ивовый прутик, бывший у него в руке, и это значило, что нужно прыгать; когда же он поднимал его вверх — значит, нужно оставаться на месте. Первая прибаутка этого дня (памятного среди всех остальных на свете) была такая:
— Ну, дружок Гавилан, поскачи-ка в честь мышиного жеребчика, которого ты отлично знаешь, того самого, что ваксит себе бороду; а если не хочешь, так поскачи в честь роскошной доньи Пимпинелы де Плафагонья, горничной девушки галисийской поденщицы, служившей в Вальдеастильясе. Что, не нравится прибаутка, дружок Гавилан? Ну, так поскачи в честь бакалавра Пасильяс, что подписывается «лиценциат», а степени никакой не имеет. Э, да ты лентяй! Что ж ты не скачешь? А, понимаю, догадываюсь, что у тебя на уме: а ну-ка, поскачи в честь влаги, изготовляемой в Эскивьяс, столь же знаменитой, как Сьюдад Реаль[172] Сан Мартин и Ривадавья.
Он опустил прутик, я прыгнул и подтвердил этим его ехидные шутки и лукавые намеки. Он тотчас же повернулся к зрителям и сказал:
— Пусть высокое собрание не думает, что собака обучена каким-нибудь пустякам, — она у меня знает по меньшей мере двадцать четыре фокуса, и из-за самого плохонького можно тридцать миль пешком сделать, только б увидеть: она у меня танцует сарабанду и чакону получше, чем изобретательница этих танцев; умеет осушить меру вина, не оставив на дне капли, и споет вам «соль, фа, ми», что твой ризничий; все эти фокусы и еще многие другие ваши милости могут увидеть во все дни, что здесь простоит наш полк. Теперь пусть наш ученый еще попрыгает, а потом перейдем к более важному.
Этими словами хозяин очаровал своих слушателей и возбудил у них желание во что бы то ни стало посмотреть на мое искусство. Он снова повернулся ко мне и сказал:
— А ну-ка, дружок Гавилан, постарайся проворством и ловкостью затмить свои прежние прыжки; ты должен это сделать из почтения к знаменитой колдунье, которая жила, говорят, в этих местах.
При этих его словах вдруг раздался голос смотрительницы госпиталя, старухи, которой по виду было уже за шестьдесят:
— Ах ты, мошенник, шарлатан, надувало, шлюхин ты сын, не было здесь никакой колдуньи, а если ты намекаешь на Камачу, так она уже искупила свой грех и находится там, где бог обитает; если же ты, скоморох, про меня это говоришь, то я не колдунья и в жизни ею не была; правда, ходили про меня такие слухи по милости разных лжесвидетелей, нарушителей закона и неосмотрительного, плохо осведомленного судьи, но теперь все люди на свете знают, что я все время каюсь, но каюсь не в колдовстве, которым не занималась, а совсем в других делах, коими я, как великая вообще грешница, погрешила, а потому, мошенник ты барабанный, пошел вон из госпиталя, а не то, вот тебе крест, ты у меня выкатишься быстрее быстрого!
Тут она стала испускать такие крики и осыпала моего хозяина таким градом ругательств, что привела его в смущение и замешательство; одним словом, она не позволила продолжать представление.
Хозяин не очень огорчился переполохом, поскольку деньги остались при нем, и перенес на другой день и в другой госпиталь неудачно начавшееся дело. Народ разошелся, проклиная старуху и ругая ее не только колдуньей, но и старой ведьмой, да к тому же еще бородатой. Тем не менее мы остались в этом госпитале на ночь, и старуха, повстречав меня, сказала:
— Не ты ли это, сынок Монтьель? Вдруг, на мое счастье, это ты, сынок!
Я поднял голову и пристально на нее поглядел; заметив это, она со слезами на глазах подошла ко мне, обвила мою шею руками и, если бы я не уклонился, поцеловала бы меня в губы, но мне стало противно, и я не позволил.
С и п и о н
И хорошо сделал, потому что обниматься со старухой или принимать от нее поцелуи — не радость, а мученье.
Б е р г а н с а
То, о чем я тебе сейчас расскажу, мне следовало бы сообщить в начале беседы; нам не пришлось бы тогда удивляться, что у нас неожиданно объявился дар речи, ибо старуха, нужно тебе сказать, заговорила со мной таким образом:
— Чадо мое, Монтьель, иди за мной, посмотри, где я живу, и постарайся, чтобы сегодня ночью мы повидались с тобой наедине. Я оставлю дверь незакрытой; знай, что я могу тебе рассказать много весьма полезных вещей о твоей жизни.
Я склонил голову в знак согласия, вследствие чего она окончательно утвердилась в мысли, что я тот самый пес Монтьель, которого она (как потом сама мне сказала) разыскивала. Я был поражен и смущен словами старухи и стал дожидаться ночи, любопытствуя узнать, что выйдет из этого загадочного и странного приглашения; я слышал, что люди называли ее колдуньей, и поэтому многого ожидал от этой встречи и разговоров.
Наступила, наконец, минута, когда я очутился вместе с нею в темной, тесной и низкой комнате, освещенной слабым светом находившейся там глиняной лампы; старуха ее зажгла, уселась на сундучок, привлекла меня вплотную к себе и, не произнося ни слова, стала снова обнимать меня, и я снова начал следить за тем, как бы она меня не поцеловала.
Первые ее слова были следующие:
— Я твердо уповала на небо, что прежде чем глаза мои сомкнутся для последнего сна, я увижу тебя, дитя мое; теперь, когда я тебя увидела, пусть приходит смерть и пусть она уберет меня с постылого света. Да будет тебе известно, дитя мое, что в этом селении жила самая знаменитая на свете колдунья, по имени Камача Монтильская. Она не знала соперниц в своем ремесле, и ни Эрихто, ни Цирцея, ни Медея, именами которых, как я слышала, полны все сказания, не могут с нею равняться. Она сгущала, по желанию, облака и закрывала ими лик солнца; по прихоти своей делала солнечной самую ненастную погоду; доставляла людей из самых далеких стран; чудесным образом врачевала девиц, допускавших неосторожность в соблюдении своего целомудрия; укрывала вдов таким образом, что они с пристойностью могли вести себя непристойно; разводила замужних и женила всех, кого хотела; в декабре у нее в саду цвели розы, а в январе она убирала с поля свой хлеб. Вырастить салат в квашне было для нее таким же пустячным делом, как показать в зеркале или на ногте младенца живых и покойников, которых ее просили вызвать. Про нее ходила молва, что она превращает людей в животных и что у нее под видом осла самым настоящим и подлинным образом прослужил шесть лет один ризничий. Я никак не могла понять, как это делается, потому что весьма сведущие люди уверяют, будто все россказни про древних волшебниц, превращающих людей в животных, обозначают только то, что они своей необыкновенной красотой и своими ласками старались влюбить в себя мужчин и покорить их в такой мере, что те, подчинившись их желаньям, начинали походить на скотов. Но относительно тебя, дитя мое, опыт показывает обратное: мне известно, что ты — существо, одаренное разумом, а между тем я вижу тебя в образе пса. Возможно, впрочем, что тут замешалась наука, по названию магия, силою которой одна вещь начинает походить на другую. Как бы там, однако, ни было, мне все-таки очень горько, что ни я, ни твоя мать (а мы — ученицы старой Камачи) не могли приобрести таких знаний, какие были у нее, и не по недостатку дарований, сноровки и смелости (у нас их было скорее много, чем мало), а из-за чрезмерного лукавства старухи, ибо она ни за что не хотела обучить нас самому главному и все берегла про себя. Твоя мать, дитя мое, звалась Монтьела; после Камачи она была самая знаменитая; меня зовут Каньисарес, и хоть я не такая умудренная, как они обе, но все же и у меня доброй воли было не меньше, чем у каждой из них. Правда, смелость, с какой твоя мать входила в начерченный на земле круг и бесстрашно оставалась лицом к лицу с легионом демонов, вряд ли могла бы проявить и сама Камача. Что до меня, то я все-таки малость робела; мне и пол-легиона заклясть бывало довольно; зато (не в осужденье им обеим будь сказано) в искусстве приготовлять мази, которыми мы, ведьмы, смазываемся, ни одна из них не могла бы со мной сравняться, как не сравняются со мной и те, кто ныне исполняет и блюдет наш устав; нужно тебе знать, дитятко, что как увидела я (как и теперь, правда, вижу), что жизнь, поспешающая на быстрых крыльях времени, приходит к концу, я тотчас же решила расстаться с пороками колдовства, одолевавшими меня с давних пор, и позволила себе одну только прихоть: быть ведьмой[173], ну, а этот порок не так-то легко побеждается! С твоей матерью было то же самое: она избавилась от многих пороков, сделала в своей жизни очень много добра, но умерла все-таки ведьмой и умерла не от болезни, а потому, что ее жестоко обидела ее наставница Камача, невольно позавидовавшая ученице, которая грозила перещеголять ее своими знаниями и стала ей поперек горла; возможно, впрочем, что тут имело место столкновение на почве ревности, оставшееся для меня неизвестным.
Когда мать твоя забеременела и ей приспело время рожать, Камача навязалась ей в повитухи и, приняв собственными руками рожденный плод, заявила, что мать твоя родила двух собачонок. Старуха взглянула на них и сказала: «Тут не обошлось без злого дела, тут есть плутни; но я, милая Монтьела, тебе друг, я утаю от всех эти роды; постарайся скорее оправиться и прими меры, чтобы несчастье не получило широкой огласки. Огорчаться случившимся не следует; ты ведь знаешь, да и мне отлично известно, что, кроме поденщика Родригеса, твоего любезного, ты давно уже ни с кем не водишься, так что собачий этот приплод имеет особую причину и связан с какой-то тайной». Твоя мать и я (мне случилось присутствовать при разговоре) были поражены этим диковинным случаем. Камача удалилась и унесла с собой щенят, а я осталась ухаживать за твоей матерью, которая никак не могла поверить этому событию.
Но вот Камаче пришло время умирать, и в последнюю минуту жизни она позвала к себе твою мать и открыла, что это она превратила ее детей в собак в отместку за полученную обиду, но пусть-де подруга не тревожится: к детям вернется их истинный облик, когда они меньше всего будут этого ожидать, но это может случиться никак не раньше наступления следующих обстоятельств:
Вернется к ним их настоящий облик, Когда они увидят гордецов, С высот своих свергаемых поспешно, И горемык, из праха вознесенных Рукою, властной это совершить.Вот что сказала Камача твоей матери в последнюю минуту своей жизни, как я уже тебе говорила. Твоя мать закрепила эти слова записью и запомнила их наизусть; то же самое сделала и я, в надежде, что со временем мне удастся сообщить их кому-нибудь из вас. Чтобы не пропустить случая вас узнать, я всех собак твоей масти подзывала именем вашей матери, отлично понимая, что собаки не обязаны знать ее имя: мне просто хотелось проверить, откликнутся они или нет, если позвать их столь непохожим на собачью кличку образом. И вот, когда я сегодня вечером увидела, как ты проделываешь разные штуки, и услыхала, что все тебя величают «ученый пес», когда я заметила, с каким видом ты поднял голову и взглянул, когда я позвала тебя у нас на дворе, я решила, что ты — сын Монтьелы, и поэтому я с величайшей радостью сообщаю о постигшей тебя судьбе и о способе, каким ты можешь снова вернуться в свое прежнее состояние. О, как бы мне хотелось, чтобы этот способ был так же прост, как тот, о котором рассказывает Апулей в «Золотом осле»: там следовало съесть одну розу. Но, увы, твое спасение зависит от посторонних людей, а не от твоего собственного усердия. Тебе, дитя мое, остается поручить себя от всего сердца господу богу и ожидать, что эти (не смею сказать) пророчества, вернее догадки, исполнятся скоро и счастливо; если старая Камача пообещала, значит, все это несомненно сбудется: ты и брат твой (если он еще жив) снова увидитесь, как вы оба того желаете. Меня огорчает, однако, что конец мой уже близок и мне не придется присутствовать при вашей встрече.
Много раз я порывалась спросить у нашего козла, чем окончатся ваши приключения, но не решилась, потому что он не отвечает на наши вопросы прямо, а прибегает к словам, порождающим кривотолки, так что у этого господина и сеньора нашего ничего не следует спрашивать: к истине он всегда примешает тысячу врак. Разобравшись в его ответах, я поняла, что о будущем он не знает ничего достоверного и всегда говорит предположительно, тем не менее он так нас, ведьм, одурачил, что, несмотря на все его издевательства, мы с ним не в силах расстаться.
Мы ездим к нему в гости далеко-далеко, на большое поле, где собирается множество ведьм и колдунов; там он нас угощает мерзостной пищей и там творятся такие вещи, что о них даже стыдно говорить: не хочется оскорблять этой грязью и гнусностью твой целомудренный слух. Существует мнение, что поездки на эти пиршества происходят лишь в нашем воображении и что Дьявол внушает нам образы вещей, о которых мы потом рассказываем как о своих переживаниях; существует также другое мнение, согласно которому мы присутствуем там душой и телом; сама я оба мнения считаю возможными, поскольку никто из нас не знает, когда он бывает там только мысленно, а когда на самом деле: ибо все, проносящееся в нашем воображении, до такой степени ярко и сильно, что его никак не отличить от подлинных к несомненных переживаний. В этом смысле сеньорами инквизиторами были произведены опыты над попадавшими в их руки ведьмами, и выводы их, по-видимому, подтверждают мои слова. Мне очень бы хотелось, дитя мое, отстать от своего греха, и я уже приложила к этому некоторые старания: я стала заведовать госпиталем и ухаживать за нищими: одни из них перед смертью оставляют мне на жизнь по завещанию, другие зашивают деньги в заплаты одежды, которую я потом тщательно обыскиваю. Богу я молюсь мало и все больше на людях, а злословлю много и тайком. Мне гораздо выгоднее лицемерить, чем выставлять свой грех напоказ; благое дело, которым я теперь занимаюсь, понемногу изглаживает в памяти людей мои прежние злые деяния. И то сказать, напускная праведность никому не вредит, кроме тех, кто к ней прибегает. Послушай, сынок Монтьель, какую заповедь я тебе дам: добрым ты можешь быть всеми возможными способами, но если захочешь быть злым, старайся не подавать в том вида… тоже всеми возможными способами. Я — ведьма, и скрываться не стану; ведьмой и колдуньей была твоя мать — этого я тоже скрывать не стану, но наше показное благонравие постоит за нас перед целым светом. За три дня до ее кончины мы вместе с ней проводили время в одной пиренейской долине[174] и там у нас шел пир горой, но, несмотря на это, смерть ее была вполне серьезна и пристойна, и если бы не две-три рожи, которые она скорчила за четверть часа до того, как отдать душу богу, всякий подумал бы, что в последнюю минуту, лежа на смертном ложе, она чувствовала себя словно в цветущем брачном чертоге.
Она терзалась сердцем за своих сыновей и не хотела, даже при последнем издыхании, простить Камачу: такая она была стойкая и крепкая в своих делах. Я ей закрыла глаза и проводила до самой могилы; там я с ней простилась навеки, хотя все-таки не теряю надежды свидеться с нею до смерти, ибо по деревне прошел слух, будто кто-то видел, как она бродит по кладбищам и перекресткам, принимая разные обличья; возможно, что я когда-нибудь тоже с ней повстречаюсь и спрошу, не могу ли я чем-нибудь облегчить ее совесть.
Каждое слово старухи в похвалу той, кого она называла моей матерью, поражало мое сердце, как удар копья; меня так и подмывало броситься на нее и разорвать ее в клочья, и если я этого не сделал, то единственно из опасения, что смерть застанет ее в такой богомерзкой жизни.[175] В заключение она сообщила мне, что сегодня ночью непременно намажется мазью, поедет на свое обычное пиршество и по прибытии на место спросит своего господина об ожидающей меня судьбе. Мне захотелось узнать, о каких это мазях она говорила, но, по-видимому, она сама угадала мое намерение и ответила на мою тайную мысль так, словно я ей задал вопрос:
— Мазь, которой смазываются ведьмы, состоит из сока самых истомных трав, а не из крови удушенных нами детей, как о том говорится в народе. Ты мог бы попутно задать мне вопрос: какую радость или какую пользу получает дьявол, толкая нас на убиение младенцев; ему ведь отлично известно, что они крещены, безгрешны и невинны и поэтому попадают сразу на небо, а между тем каждая ускользающая от него христианская душа доставляет ему страшную муку; на это я могла бы ответить словами пословицы: «Иной себе оба глаза выколет, лишь бы только враг его на один глаз окривел»; ясное дело, он рассчитывает при этом на страдания, причиняемые родителям смертью ребенка, то есть на величайшее из всех мучений, какое можно себе представить. Самое главное для него — устраивать так, чтобы каждая из нас почаще совершала жестокие и богопротивные дела, и все это дозволяет господь по прегрешениям нашим; ибо без воли господней, я это знаю по опыту, дьявол не в состоянии обидеть и муравья; это такая правда, что, когда я попросила его однажды разрушить виноградник моего врага, он ответил, что не в силах коснуться даже единого листика, ибо это не угодно господу богу. Из этого ты, когда подрастешь, сможешь сделать вывод, что бедствия, приключающиеся с людьми, государствами и городами, как-то: внезапная смерть, поражения и гибель, иначе говоря, всякое сокрушительное зло происходит от всевышнего и его попустительствующей воли; тогда как вред и зло, именуемые проступками, происходят и ведут свое начало от нас самих. Бог непогрешим, а потому, следовательно, мы сами повинны в грехе, ибо совершаем его делом, словом и помышлением; за грехи наши и дозволяет господь, как я уже сказала, всякие дьявольские козни. Ты еще, пожалуй, спросишь (если ты меня вообще понимаешь), кто меня обучил богословию, а то, чего доброго, подумаешь про себя: «Ах, чтоб ты лопнула, старая шлюха! Зачем же ты остаешься ведьмой, если все тебе отлично известно? Почему ты не обратишься к богу, отчетливо понимая, что он охотнее прощает грехи, чем их дозволяет?» На это я отвечу тебе, как если бы ты меня действительно спрашивал: привычка к пороку — наша вторая натура, и когда становишься ведьмой, влечение это входит в твою плоть и кровь; великий жар, которым мы всегда пылаем, заключает в себе, однако, и холод, с такой силой пронизывающий душу, что он охлаждает и отяжеляет веру, отчего душа погружается в самозабвение и не помнит ни страхов, которыми грозит ей господь, ни блаженств, которыми он ее ободряет; наш грех — грех плотской утехи и услады, а потому он неизбежно притупляет все чувствования, одурманивает их и расслабляет, не позволяя им исполнять свое дело как следует. Душа делается бесплодной, дряблой и косной: у нее не хватает сил осознать важность самой мысли о благе, а потому, опустившись в глубокую пропасть немощи, она не хочет воздеть свою руку к деснице божьей, протянутой к ней по милосердию небес для того, чтобы ей можно было воспрянуть. Моя собственная душа тоже такая, как я тебе сейчас описала: я все вижу и все понимаю, но соблазны оковали путами мою волю, и я как была, так и впредь останусь во зле.
Но довольно об этом; вернемся к нашим мазям; они такие истомные, что после смазывания мы теряем сознание и падаем голыми на пол; очевидно, тогда в воображении нашем проносится все то, что нам кажется творящимся наяву. Иной раз после смазывания нам представляется, что, переменив свой облик и превратившись в петухов, сов или воронов, мы отправляемся туда, где нас поджидает наш господин, и, возвратив себе человеческий облик, вкушаем там такие услады, что их даже неловко назвать: память стыдится их вспомнить, язык не решается о них говорить. Итак, я ведьма, прикрывающая плащом лицемерия свои великие грехи.
Правда, находятся люди, искренне считающие меня доброй христианкой, но немало есть и таких, что в самые уши кричат мне известное прозваньице: то самое, что им подсказала остервенелость одного осатанелого судьи, судившего в давние годы меня вместе с твоею матерью и предавшего нас в руки палача. Палач не был подкуплен, а потому выказал всю свою силу и жестокость на наших плечах; ну, да все это прошло; все на свете проходит, воспоминания исчезают, былая жизнь не возвращается, языки устают болтать, новые дела заставляют забывать о старых. Я теперь занята госпиталем и умею выставить в должном свете свое поведение; мои мази доставляют мне приятные минуты; я не настолько стара, чтобы не прожить какой-нибудь год, хотя мне и стукнуло семьдесят пять; правда, я не могу поститься по старости, не могу молиться от головокружений, не могу ходить на богомолье из-за слабости ног, не могу подавать милостыню по бедности, не могу думать о добре, потому что люблю позлословить, а ведь для того, чтобы сделать добро, нужно прежде о нем подумать, так что все мои мысли всегда устремлены на дурное, но тем не менее я понимаю, что бог благ и милосерд и отлично знает, что со мной станется. Но довольно, прекратим этот разговор, а то, по правде сказать, он на меня грусть нагоняет. Пойди-ка сюда, сынок, и посмотри, как я буду смазываться, потому что «был бы хлеб, а с ним всякое горе стерпится», «счастливый день запирай в свою горенку» и «от радости плакать не станешь», я хочу этим сказать, что как ни лживы и обманчивы утехи, посылаемые нам дьяволом, а все-таки они — утехи, несмотря на то, что даже самые лучшие из них происходят не наяву, а в воображении, тогда как с подлинными наслаждениями бывает как раз наоборот.
Закончив свою длинную речь, она поднялась, взяла лампочку и прошла в другую комнату, много поменьше первой, а я поплелся за ней, обуреваемый мыслями, дивясь всему слышанному и тому, что предстояло еще увидеть.
Каньисарес подвесила лампочку к стене и проворно разделась до рубашки; достав из угла муравленый горшок, она запустила в него руку и, бормоча себе что-то под нос, натерлась с ног до головы, на которой не было «токи». Еще до окончания смазывания она сказала мне, что ее тело останется бездыханным в этой комнатке или вовсе исчезнет, но мне не следовало пугаться, а нужно ждать до утра и узнать от нее, что со мной станется еще до наступления совершеннолетия.
Я наклонил голову в знак того, что все будет исполнено; она кончила смазывание и замертво повалилась на землю; я поднес свою морду к ее рту и увидел, что она совсем, совсем не дышала.
Должен открыть тебе правду, друг Сипион, мне стало очень страшно, что я заперт в тесной комнате с глазу на глаз с такой образиной, которую сейчас опишу, как только могу лучше. Роста в ней было побольше семи футов; она имела вид скелета, обтянутого черной, волосатой и словно дубленой кожей; брюхо, как будто выделанное из овечьей шкуры, покрывало ее срамные части и свисало почти до колен; груди у нее были как пустые бычьи пузыри: сухие и сморщенные; губы — черные, зубы — выкрошенные, нос — приплюснутый и крючком вниз, глаза — навыкате, голова — простоволосая, щеки провалились, шея высохла, грудь глубоко запала; одним словом, вся она была тощая и дьяволоподобная. Я стал было внимательно ее разглядывать, но меня разобрал страх, едва только я задумался над отвратительным зрелищем этого тела и гнуснейшим употреблением его души; мне захотелось укусить старуху и посмотреть, не очнется ли она, но на всем ее теле я не нашел места, в которое не было бы противно вцепиться; тем не менее я ухватил ее за пятку и выволок на дворик, но и тут она не обнаружила признаков сознания. Увидев над собой небо, а вокруг просторное место, я освободился от страха; во всяком случае, страх ослабел, и я решил подождать и узнать, чем окончится путешествие и возвращение этой скверной бабы и что она расскажет про мои дела.
Тем временем я стал спрашивать самого себя: кто мог сделать эту дрянную старуху столь разумной и гнусной? Откуда ей известно, какое зло сокрушительно и какое преступно? Почему это она все отлично понимает и говорит о боге, а сама поступает по-дьявольски? Как может она так омерзительно погрешать, не будучи в состоянии сослаться на неведение?
За этими размышлениями прошла ночь и наступил день, заставший нас обоих посреди дворика: она все еще была в беспамятстве, а я сидел в ожидании рядом, созерцая ее ужасный и гнусный вид. Сбежались люди, живущие в госпитале, и под впечатлением такого зрелища одни сказали:
— Ну, вот блаженная Каньисарес преставилась; посмотрите, как измучило и истощило ее покаяние.
Другие, более осмотрительные, пощупали ей пульс и, обнаружив, что пульс бьется и что она не умерла, сделали отсюда вывод: она-де в состоянии экстаза и «восхищена» за свои добродетели. Раздавались и такие голоса:
— Эта старая шлюха безусловно ведьма и сейчас, должно быть, натерта мазью; где ж это видано, чтобы святые были «восхищены» в непристойном виде, а до сих пор люди, ее знающие, считали ее не столько святой, сколько ведьмой.
Нашлись любопытные, которые стали втыкать ей в тело булавки от кончика до самой головки; но она и от этого не очнулась и пришла в себя только к семи часам утра. Когда старуха почувствовала, что она вся истыкана булавками, что пятки у нее искусаны, что вся она в ссадинах от тасканья по земле, что она не в комнате, а выставлена напоказ, и все на нее глазеют, она сразу решила, и решила правильно, что виновником ее позора был я, а потому, набросившись на меня и ухватив меня обеими руками за шею, она стала меня душить, приговаривая:
— Ах ты, мошенник, неблагодарный! Ах ты, невежа криводушный! Вот как ты мне отплатил за добро, которое я оказывала твоей матери, и за все то, что я хотела для тебя сделать!
Быстро сообразив, что жизни моей грозит опасность от когтей этой ужасной гарпии, я встряхнулся и, вцепившись в длинные складки ее живота, стал трепать ее и таскать по всему дворику. Старуха вопила, чтобы ее вырвали из пасти нечистого духа. Слова негодной бабы навели большинство присутствующих на мысль, что я, несомненно, дьявол, у которого всегда бывают нелады с добрыми христианами; кое-кто поспешил спрыснуть меня святой водой; другие не отваживались подойти и унять меня; все прочие кричали, что меня нужно заклясть; старуха жаловалась, я еще крепче сжимал зубы; суматоха все увеличивалась, а хозяин мой, явившийся нэ шум, пришел в бешенство от того, что присутствующие называют меня дьяволом. Несколько человек, мало смысливших в экзорцизмах[176], прибегли к помощи трех или четырех палок и стали обрабатывать мою спину; от этой выдумки мне пришлось очень солоно, я отпустил старуху и в три прыжка очутился на улице. Еще немного — и я уже бежал из селения, преследуемый ватагой ребятишек, которые громкими голосами выкрикивали:
— Прочь с дороги: ученый пес сбесился!
Иные из них замечали:
— Не сбесился он вовсе: это — дьявол в образе пса.
Получив такую нахлобучку, я, как под набат, летел прочь из села, а за мною следом увязалась куча народа, искренне поверившего, что я действительно — дьявол, и это все из-за штук, которые я проделывал у них на глазах, и из-за слов, произнесенных старухой, очнувшейся от своего проклятого сна. Я с такой поспешностью улепетывал и так торопился укрыться от посторонних глаз, что всем показалось, будто я сгинул, как нечистый дух; в шесть часов я сделал двенадцать миль и прибыл в цыганский табор, стоявший неподалеку от Гранады. Там я вздохнул свободнее: кое-кто из цыган знал меня как ученого пса, а потому меня приняли с радостью и укрыли в пещере, оберегая от розысков, с тем расчетом (я потом только это сообразил), чтобы наживаться на мне точно так же, как мой хозяин-барабанщик. Я прожил с ними три недели и успел за это время узнать и в подробностях изучить их жизнь и обычаи, а так как все это весьма примечательно, мне необходимо будет рассказать и об этом.
С и п и о н
Берганса, прежде чем продолжать, было бы недурно остановиться на россказнях ведьмы и установить, можно ли признать истиной те бесстыдные враки, которым ты склонен верить.
Послушай, Берганса: было бы величайшей глупостью думать, будто Камача превращала людей в скотов и что какой-то ризничий под видом животного служил ей столько лет, как об этом рассказывали; все штуки в этом роде — несомненные выдумки, ложь или наваждение дьявола. Если же нам самим сейчас кажется, будто мы обладаем кое-каким смыслом и разумом, поскольку мы разговариваем (хотя на самом-то деле мы — просто собаки или сохраняем, во всяком случае, обличье собак), то мы ведь уже порешили, что это чудесный и невиданный случай, и, несмотря на то, что мы осязаем его своими руками, мы ни в чем не можем быть уверены до тех пор, пока события не покажут, чему нам следует верить. Угодно тебе убедиться в истинности моих слов с полной ясностью? Обрати внимание, в каких вздорных вещах, в каких нелепых подробностях заключается, по словам Камачи, наше спасение; то, что кажется тебе пророчеством, не больше как небылицы и сказки (вроде лошади без головы или магической палочки), которыми развлекают себя старухи у камелька в длинные зимние ночи; если бы ее слова представляли собою что-либо иное, они давно бы уже исполнились; возможно, правда, что их следует понимать в другом смысле, так называемом аллегорическом, каковой смысл обозначает не прямое значение, а нечто иное, отличное от него и вместе сходное; в таком случае слова:
Вернется к ним их настоящий облик. Когда они увидят гордецов, С высот своих свергаемых поспешно, И горемык, из праха вознесенных Рукою, властной это совершить,понимаемые в том смысле, о котором сказано выше, должны, по-видимому, обозначать, что прежний свой облик мы обретем тогда, когда увидим, как счастливцы, еще вчера стоявшие на вершине колеса Фортуны, будут растоптаны, повержены под ноги злополучия и унижены людьми, почитавшими их превыше всего; кроме того, мы увидим, что люди, еще два часа тому назад существовавшие на этом свете единственно для того, чтобы увеличивать собою число его обитателей, вдруг вознесутся на высоты благополучия, и мы их потеряем из виду; и если раньше мы их не замечали по убожеству их и малости, то теперь не сможем достать до них рукой вследствие их величия и высокопоставленности. Если от этого зависит возвращение нам первоначального облика, то такого рода вещи мы видим и видели на каждом шагу, из чего я заключаю, что не в аллегорическом, а в буквальном смысле следует толковать стихи Камачи; но и этот смысл не заключает в себе нашего спасения, ибо мы множество раз наблюдали предмет, о котором здесь говорится, и тем не менее, как ты видишь, остались собаками, так что Камача твоя просто-напросто — обманщица и лгунья, Каньисарес — пройдоха, а Монтьела — дура, сплетница и мошенница (не в обиду ей будь сказано, если она нам обоим или тебе одному приходится матерью; что до меня, то я такой матери знать не хочу). Итак, следовательно, истинный смысл предсказания: игра в кегли, где с неослабным старанием свергают тех, кто стоит прямо, а потом возносят вверх повалившихся, и все это делается: рукою, властной это совершить. Подумай сам, сколько раз в течение жизни видели мы игру в кегли, и разве от этого мы превратились в людей, если только мы с тобой действительно — люди?
Б е р г а н с а
Должен тебе сказать, брат Сипион, что ты прав и что ты гораздо умнее, чем я раньше думал; твои слова наводят меня на мысль, что все пережитое нами до сих пор и все, что мы теперь переживаем, есть сон и что мы все-таки — собаки; тем не менее не будем упускать случая и насладимся как можно дольше, ниспосланным нам сокровищем — даром слова — и великими преимуществами человеческого разума, а потому не побрезгуй прослушать рассказ о том, что случилось со мной у цыган, спрятавших меня в пещеру.
С и п и о н
С большим удовольствием; надеюсь, что со временем ты тоже (если будет на то соизволение неба) выслушаешь повесть о приключениях моей жизни.
Б е р г а н с а
Время, проведенное мною у цыган, ушло на то, чтобы разобраться в бесчисленных хитростях, надувательствах и обманах, а также кражах, которыми они занимаются (все равно: цыганы и цыганки) чуть ли не с той самой минуты, как покидают пеленки и начинают ходить. Ты знаешь, какое множество цыган рассеяно по Испании. Так вот, все они находятся в сношениях, имеют сведения друг о друге и сваливают и перекладывают кражи с одного на другого, а второй — на первого.
Повинуются они не столько своему королю, сколько цыгану, носящему кличку Граф, за которым, равно как и за его преемниками, утвердилось прозвание Мальдонадо, отнюдь не вследствие происхождения от этой благородной фамилии, а потому, что однажды слуга знатного кавальеро того же прозвания влюбился в цыганку, согласившуюся ответить на его любовь при условии, что он сделается цыганом и возьмет ее себе в жены. Слуга исполнил ее волю и очень понравился цыганам, так что они провозгласили его сеньором, изъявили ему покорность и в знак вассальной зависимости выделяли ему долю от краж в тех случаях, когда кражи бывали значительны.
Для сокрытия своей праздности они занимаются выделкой из железа всевозможной домашней утвари, по-своему облегчающей им их воровское ремесло; ты всегда можешь видеть, как они продают на улицах щипцы, буравы и молотки, в то время как цыганки разносят треножники и лопатки. Все цыганки — искусные повитухи; в этом отношении они превосходят наших женщин, ибо без всяких затрат и хлопот обслуживают своих младенцев сами, причем они купают их тут же в холодной воде; вот почему с самого рождения и до смерти цыгане закалены и отлично переносят непогоду и стужу, вот почему все они молодцы, превосходные наездники, бегуны и танцоры. Браки цыгане заключают всегда в своей среде, для того чтобы их пороки не получали широкой огласки; цыганки весьма почитают своих мужей и в самых редких случаях согласятся опозорить мужа с человеком чужого им племени. Собирая милостыню, они выманивают ее выдумками и краснобайством, а не молитвами; под тем предлогом, что им никто не доверяет, они нигде не служат и живут, ничего не делая; почти ни разу не случалось мне видеть цыганок у подножия алтаря, принимающими причастие, хотя я очень часто заглядываю в церковь. У них одна забота: придумать, как бы кого обмануть и где украсть. Они сообщают друг другу про покражи и про ухватки, испробованные на деле. Таким-то образом один цыган рассказал при мне своим товарищам, как он ловко надул и обворовал крестьянина. У цыгана этого был осел с обрубленным хвостом, и вот к остатку хвоста, лишенному волос, он приделал роскошный хвост, ничем не отличавшийся от настоящего. Приведя осла на рынок, он продал его за десять дукатов какому-то крестьянину; когда сделка состоялась и деньги были получены, цыган заявил, что если покупатель желает купить второго осла, брата только что проданного и такого же хорошего, как первый, он уступит его по более сходной цене. Крестьянин согласился, велел цыгану сходить за ослом и доставить его на место, а сам тем временем повел домой приобретенную скотину. Крестьянин ушел, цыган — за ним, и вышло так, что цыган изловчился украсть у крестьянина проданного осла; отрезав ему в ту же минуту поддельный хвост, он снова сделал осла бесхвостым. Цыган переменил седло и уздечку и не постеснялся снова разыскать крестьянина для того, чтобы совершить продажу; он встретил его еще до того, как тот хватился скотины, и в несколько минут вторая сделка тоже была закончена.
Платить мужик отправился на постоялый двор, где один осел не замедлил обнаружить пропажу другого, и, несмотря на всю свою глупость, крестьянин догадался, кто его обокрал, и не пожелал было платить. Тогда цыган нашел свидетелей, привел людей, получивших пошлину с первой продажи, и те клятвенно подтвердили, что цыган продал крестьянину длиннохвостого осла, совсем не похожего на того, о котором сейчас препираются. При споре присутствовал альгуасил, с такой решительностью ставший на сторону цыгана, что крестьянину пришлось заплатить за осла дважды.
Рассказывали они и про другие кражи, но все больше про кражу скота, в чем они являются настоящими доками и по большей части только этим и занимаются. Одним словом, плохой они народ, и хотя за них принимались многие искусные судьи, тем не менее цыгане не исправляются.
Прошло около трех недель, и они вздумали взять меня в Мурсию; мы добрались до Гранады, куда в это время прибыл капитан, барабанщиком которого был мой хозяин. Узнав об этом, цыгане заперли меня в комнате постоялого двора, на котором они стояли. О причине я услыхал от них самих; но мне не понравилось предпринятое путешествие, я порешил удрать и привел это в исполнение. На окраине Гранады я забежал на огород к какому-то мавру, который принял меня с большой радостью, да и сам я был очень доволен. Я рассудил, что буду нужен ему только для присмотра за огородом, а, на мой взгляд, это было полегче, чем охранять стадо; поскольку нам не пришлось торговаться относительно жалованья, он без всякого труда залучил себе батрака на работу, а я стал на службу к хозяину. Я у него прожил больше месяца, но не потому, чтобы мне там было по вкусу: мне хотелось изучить жизнь своего хозяина и тем самым составить себе представление о маврах, обитающих в Испании. О, сколько вещей и каких вещей мог бы я рассказать тебе, друг Сипион, об этой мавританской сволочи, если бы не мысль, что для такого рассказа мне и двух недель будет мало! А если бы я стал входить в подробности, я не кончил бы и в два месяца; кое-что тебе все-таки сообщу, а потому прослушай, пожалуйста, в общем виде все, что я подробно высмотрел и заметил в этом честнóм народе.
Было бы чудом отыскать среди них одного мавра, искренне верящего в святой наш христианский закон: вся их забота состоит в том, чтобы копить деньги и беречь накопленное. С этой только целью они и работают, отказывая себе даже в еде: когда к ним в руки попадает реал, в особенности же не простой, они присуждают его к пожизненному тюремному заключению; таким образом, все время наживая и ничего не расходуя, они собирают и хранят у себя огромные деньги, из тех, что обращаются в Испании. Они — ее копилки, ее моль, ее сороки и ее хорьки: всё они собирают, всё прячут и всё поглощают. Не следует забывать, что их много и что каждый божий день они понемногу наживают и откладывают (а медленная лихорадка подтачивает жизнь с такой же силой, как и скоротечная); поскольку, однако, мавры все время размножаются, все время увеличивается и число укрывателей, причем опыт показывает, что они множатся и будут множиться без конца. Дело в том, что за целомудрием они не гонятся и в монастыри не вступают; все они женятся и плодятся, потому что умеренная жизнь увеличивает силы деторождения. К тому же от войны им погибать не приходится, и военные труды не надрывают их силы. Они нас спокойно обкрадывают и, перепродавая плоды наших полей, богатеют, обрекая нас на верную бедность. Слуг они не держат и прислуживают себе сами; на обучение детей не тратятся, потому что вся наука у них сводится к грабежу нашего добра, а этому они скоро выучиваются. Слышал я, что от двенадцати сыновей Иакова, вступивших в Египет, к тому времени, когда Моисей освободил евреев из плена, произошло шестьсот тысяч мужей, не считая жен и детей; разочти же теперь, сколько людей наплодят мавры, которых у нас несравненно большее количество?
С и п и о н
От всех зол, которые ты отметил и описал в общих чертах, многие уже искали спасения, и мне отлично известно, сколько ужасных язв ты сейчас обошел молчанием. До сих пор никому не удалось изыскать надлежащие меры, но государство наше имеет разумных рачителей, способных понять, сколько мавританских змей растит и отогревает на своей груди наша Испания, а потому, с божьей помощью, они найдут от этого зла скорое, надежное и верное средство.[177] Можешь продолжать.
Б е р г а н с а
Хозяин мой был такой же скряга, как и все вообще люди его племени, и посылал мне корм от своего стола: хлеб из проса и остатки мучной похлебки; впрочем, небо помогло мне перенести нищету с помощью одного странного способа, о котором ты сейчас услышишь.
Каждое утро, на рассвете, под гранатовым деревом (а их было немало на огороде), появлялся молодой, ученого вида человек, одетый в байку, не то чтобы очень черную и ворсистую, скорей порыжевшую и вытертую. Он писал что-то в большой тетради и время от времени ударял себя ладонью по лбу, кусал ногти и возводил глаза к небу; иногда он впадал в глубокую задумчивость и не делал движений ни руками, ни ногами, ни… ресницами: такая на него находила одурь! Как-то раз я незаметно для него подошел совсем близко и услышал невнятное бормотание; после весьма продолжительного молчания он воскликнул:
— Клянусь богом, это лучшая октава, написанная за всю мою жизнь, — и стал быстро строчить в тетради, сияя великою радостью; по этим признакам я заключил, что бедняга этот — поэт. Я стал, по своему обыкновению, к нему ласкаться (чтобы убедить его в своей кротости) и прилег у его ног, а он, почувствовав безопасность, снова погрузился в размышления, стал почесывать голову, задумываться и записывать свои мысли. В это время в саду показался еще один юноша, изящный и щеголеватый, державший в руках листки, в которые он изредка заглядывал; он дошел до того места, где находился первый, и спросил:
— Ну, что, кончил первый акт?
— Только что закончил, — ответил поэт, — и так блестяще, как только можно желать.
— А как? — осведомился второй юноша.
— Вот как, — сказал поэт. — Выходит его святейшество папа в одеянии первосвященника, а с ним вместе двенадцать кардиналов, и все они в фиолетовом, потому что ко времени событий, излагаемых в моей комедии, наступила пора mutatio capparum, когда кардиналов одевают не в красный, а в фиолетовый цвет; для соблюдения точности моим кардиналам полагается быть фиолетовыми; для театра это вопрос весьма существенный, иначе легко попасться впросак и наделать тысячу нелепостей и глупостей; ну, а я ошибиться не мог: я нарочно прочел весь католический церемониал, для того чтобы разобраться в облачениях.
— Откуда же выложит вам хозяин труппы, — возразил собеседник, — фиолетовые облачения для двенадцати кардиналов?
— Если он выкинет хоть одного из них, — ответил поэт, — то не видать ему моей комедии до тех пор, пока я не выучусь летать! Черт побери! Неужели же пропадет такой грандиозный выход? Вы только подумайте, как это будет выглядеть на театре: римский первосвященник, двенадцать важных кардиналов и свита из священнослужителей, которая непременно явится вместе с ними. Разрази меня небо, это будет такое пышное и великолепное зрелище, какого, наверное, не встречалось в самых лучших комедиях, вроде Букета Дарахи![178]
Тут я окончательно убедился, что один из собеседников был поэт, а другой — актер. Актер стал было советовать поэту несколько сократить число кардиналов, иначе хозяину труппы будет трудно поставить комедию, но поэт заявил, что пусть, мол, ему будут и за это благодарны, а то он мог бы еще изобразить целый конклав, собравшийся одновременно с достославным событием, которое он вознамерился напомнить людям в своей несравненной комедии. Актер посмеялся и, предоставив поэту заниматься своим делом, принялся за разучивание роли в какой-то новой пьесе. После того как поэт написал несколько слов своей бесподобной комедии, он со спокойным и важным видом достал из кармана немного хлеба и веточек двадцать сушеного винограда; помнится, я их сосчитал, но тем не менее я не уверен, что их было именно столько, потому что они сбились в один комок с налипшими на них крошками хлеба. Он подул на крошки и стал медленно глотать виноград вместе с веточками (не помню, чтобы он выбросил хоть одну), помогая себе кусками хлеба. От ворсистой материи его кармана хлеб потемнел и казался покрытым плесенью; корки были такие строптивые, что, несмотря на все старания их умягчить и переложить с одной стороны рта на другую, он ничего не мог поделать с их неподатливостью, так что дело окончилось в мою пользу: поэт выбросил корки вон и сказал:
— На, возьми; кушай себе на здоровье!
«Ишь ты, — подумал я про себя, — видно, поэт угощает меня тем самым нектаром и амброзией, которыми, по преданию, питаются на небе боги и сам Аполлон». Короче говоря, бедность поэтов поистине бывает чудовищной, но моя собственная бедность была еще ужаснее, ибо мой поэт кормил меня тем, что выбрасывал сам.
За все то время, что поэт сочинял комедию, он неизменно появлялся в саду, щедро снабжая меня ломтями хлеба; после еды мы вместе отправлялись к колодцу, и там я прямо с земли, а он из черпалки утоляли жажду, как какие-нибудь принцы.
Но поэт исчез, и меня так одолел голод, что я решил покинуть мавра и искать удачи в городе, ибо человеку, не сидящему на одном месте, часто везет. Войдя в город, я увидел, что из знаменитого монастыря св. Херóнимо показался мой поэт; он узнал меня и поспешил мне навстречу с распростертыми объятиями; я подошел и тоже выказал свое удовольствие и радость; в ту же минуту он стал вынимать из кармана куски хлеба, много помягче тех, которые он приносил в сад, давая мне их прямо из рук и не запуская предварительно в свой рот, отчего я еще с большим наслаждением утолил свой голод. Свежий хлеб и появление поэта из здания упомянутого выше монастыря[179] навело меня на мысль, что муза его живет подаянием, как это часто бывает с поэтами. Он направился в город, а я последовал за ним в надежде избрать его, в случае его согласия, себе в хозяева; я рассудил, что от избытков его роскошного замка легко прокормится и моя хижина. И какое обеспечение может быть обильнее и лучше даров сострадания? Рука дающего щедра и не знает нужды и бедности; я смотрю на дело иначе, чем пословица, утверждающая, что «от скупого наживешься, не от голого»: ни скряга, ни скупец никогда не дадут нам того, что подарит щедрый бедняк, который, если нечего дать, порадует одним своим добрым расположением.
Мы очутились, наконец, в доме хозяина труппы, имя которого, если правильно вспоминаю, было Ангуло Скверный, что стояло в связи с другим Ангуло, не предпринимателем, а актером, едва ли не самым потешным и даровитым из всех лицедеев, выступавших и в наше и в былое время в комедиях. Вся труппа явилась слушать комедию моего господина (я уже считал, что он — мой), но к половине первого акта, сначала поодиночке, а потом по двое, из комнаты удалились все, кроме хозяина труппы и меня, продолжавших еще следить за чтением. Комедия оказалась плохой, и хотя я, конечно, осел в вопросах поэзии, но я все-таки решил, что ее сочинил сам сатана на погибель и беду моему писателю, который чуть было не подавился слюной, увидев, в какую пустыню обратилась его аудитория. Видно, вещая душа поэта уже тогда почуяла грозившее ему несчастье: дело в том, что актеры, которых было больше двенадцати, вернулись обратно и, не проронив ни слова, подошли было вплотную к читавшему; если бы их не остановило приказание хозяина труппы, подкрепленное увещаниями и возгласами, они, несомненно, покачали бы автора на одеяле. От такого оборота дела я пришел в великое изумление, хозяин труппы насупился, актеры развеселились, а поэт был до крайности раздосадован; впрочем, он с большой выдержкой, но с перекошенным лицом, собрал свою комедию, сунул ее за пазуху и, процедив сквозь зубы: «Не мечите бисера перед свиньями», с важным видом вышел из комнаты. От стыда я не нашел в себе ни охоты, ни сил отправиться за ним следом и отлично сделал, потому что хозяин труппы так меня обласкал, что я вынужден был у него остаться.
Через какой-нибудь месяц я прогремел в интермедиях и неподражаемо исполнял роли без речей. На меня надели кромчатый намордник, научили преследовать на сцене кого покажут и, в то время как в других театрах интермедии по обычаю оканчивались палками, у моего господина они оканчивались тем, что меня науськивали, и я валил с ног и трепал кого попало, приводя в восторг всех невежд и доставляя крупный заработок своему хозяину. О, если бы я мог рассказать тебе, Сипион, все, что я увидел в этой и еще в двух труппах, в которых я служил! Но всего никак не уместить в краткий и сжатый рассказ; мне придется повременить до другого раза, если только в другой раз нам удастся поделиться мыслями. Ты знаешь, что я долго рассказывал. Ты слышал про самые разнообразные приключения. Ты должен был обратить внимание на мои скитания и на моих бесчисленных хозяев, но все слышанное тобою — пустяки по сравнению с тем, что я мог бы рассказать, после пристального наблюдения актеров, про их обычаи, нравы, занятия, про их страдания, праздность, невежество, остроумие и многое, многое другое: кое-что можно шепнуть только на ухо, кое-что позволительно сказать во всеуслышание, а все вместе хорошо было бы сохранить в памяти в назидание тем, кто боготворит эти показные личины, эту искусственную, ряженую красоту.
С и п и о н
Я отлично вижу, Берганса, что перед тобой открывается обширное поле, соблазняющее тебя затянуть свой рассказ, но я думаю, что этот предмет следует затронуть особо, когда ничто не будет смущать наш покой.
Б е р г а н с а
Пусть будет так, и слушай дальше. С одной актерской труппой я прибыл сюда, в Вальядолид; здесь во время интермедии мне нанесли тяжелую рану, которая чуть было не свела меня в могилу; отомстить я не мог, мне помешал намордник, но потом, когда гнев прошел, я одумался и нашел, что заранее обдуманная месть говорит о жестокости и малодушии. Новое ремесло мне прискучило, и не столько своими трудностями, сколько тем, что мне приходилось видеть вещи, требовавшие исправления и наказания, а так как мне можно было только скорбеть о них, а не наводить порядки, я счел за благо совсем их не видеть и обратил свои взоры к святости, уподобляясь в этом людям, покидающим свои пороки в такое время, когда они не в силах им предаваться: все же лучше поздно, чем никогда.
Когда я однажды увидел, как ты носишь ночью фонарь, шагая рядом с примерным христианином Маудесом, я понял, как отрадно, свято и праведно проводишь ты свои дни; исполнившись благородной зависти, я решил подражать тебе и с этим похвальным намерением предстал перед Маудесом, который сразу сделал меня твоим товарищем и поселил меня в этом госпитале. Я пережил здесь довольно много и не мог бы обо всем рассказать в короткое время; но мне хочется выделить разговор четырех больных, которых нужда и случай загнали к нам в госпиталь, где все четверо попали на четыре кровати, составленные попарно. Прости меня, рассказ мой будет не долог, а отложить его я просто не в силах, к тому же он, как нельзя более, кстати.
С и п и о н
Ладно, прощаю; но торопись, мне кажется, день не за горами.
Б е р г а н с а
Итак, на четырех кроватях, в углу палаты, лежали: на одной — алхимик, на другой — поэт, на третьей — математик, а на четвертой — так называемый «прожектёр».
С и п и о н
Мне помнится, я видел эту честную компанию.
Б е р г а н с а
И вот прошлым летом, во время сьесты, когда окна были прикрыты и когда я, ища прохлады, валялся под одной из этих кроватей, поэт стал горько жаловаться на судьбу, и на просьбу математика объяснить, в чем дело, он сослался на преследующие его неудачи.
— Как же мне, в самом деле, не жаловаться? — спросил он. — Я последовал правилу, возвещенному в поэтике Горация: выпускать свое творение после того, как со времени его написания пройдет десять лет[180]; я работал над своим сочинением лет двадцать, употребив двенадцать лет на предварительную выучку; произведение же мое воспевает высокий предмет, замечательно и самобытно по замыслу, написано торжественным стихом, изобилует интересными эпизодами, безупречно по построению, ибо начало его вполне согласуется с серединой и концом, и в целом оно представляет собою высокую, звучную, героическую, сладостную и содержательную поэму, а между тем я никак не могу найти вельможу, желающего принять посвящение. Я разумею вельможу просвещенного, щедрого и великодушного. О времена, о жалкий, погибший век!
— А о чем рассказывается в вашей книге? — осведомился алхимик.
— Она повествует о событиях из жизни короля Артура Британского, которых не коснулся архиепископ Турпин, и, кроме того, имеет особое приложение — «Поиски святого Бриаля»[181]; причем все это изложено героическим размером (иногда октавами, иногда белым стихом) с применением «дактилей», то есть собственно одних дактилических существительных, без единого глагола.
— Я, — заметил алхимик, — мало смыслю в поэзии и не могу оценить по-настоящему ваше несчастье, но как бы велико оно ни было, оно все-таки не сравнится с моим, ибо я, не имея ни приборов, ни вельможи, способного поддержать меня и снабдить принадлежностями для алхимических исследований, теряю возможность утопать в золоте и владеть богатствами, превосходящими сокровища Мидасов, Крассов и Крезов[182].
— Значит, вам, сеньор алхимик, — произнес в эту минуту математик, — удались опыты по добыванию серебра из других металлов?
— До сих пор, — отвечал тот, — я его еще не добыл, но наверное знаю, что добыть можно; мне потребовалось бы не более двух месяцев для того, чтобы отыскать философский камень, с помощью которого обыкновенный булыжник превращается в серебро и золото.
— Поистине вы преувеличиваете свои несчастья, — заявил математик, — ведь как-никак у одного из вас есть книга для посвящения, а у другого — близкая возможность найти философский камень; что же в таком случае сказать о моем горе, когда ему, можно сказать, даже Опереться не на что? Вот уже двадцать два года, как я стараюсь отыскать неподвижную точку[183]: то она у меня пропадает, то снова находится; стоит мне только поверить, что я ее нашел и что она от меня больше не уйдет, смотришь — опять я от нее так далеко, что просто диву даешься! Не лучше обстоит у меня дело и с квадратурой круга: одно время я был так близко к цели, что до сих пор мне кажется, будто решение лежит у меня в кармане. Муки мои похожи на муки Тантала, который, стоя перед плодами, умирает от голода и, видя вблизи воду, погибает от жажды. Минутами мне кажется, что Я приближаюсь к разгадке, но через мгновение я опять далеко, и мне снова приходится карабкаться на гору, откуда я только что сошел, влача на спине, подобно Сизифу, камень своей мучительной пытки.
До сих пор «прожектёр» ни разу не нарушил молчания, но тут он заговорил и сказал следующее:
— Бедность собрала в этом госпитале таких четырех жалобщиков, что хоть в подарок посылай самому турецкому султану! Плевать я хочу на ремесла и занятия, не приносящие работнику ни радости, ни куска хлеба. Я, сеньоры мои, «прожектёр» и в разное время представил его величеству великое множество планов, полезных как для него, так и для всего государства. Сейчас у меня готова записка, в которой я прошу короля указать, с кем мне следует обсудить новый план, одним махом уничтожающий всю королевскую задолженность; впрочем, судя по вниманию, которым были встречены прежние записки, мое новое предложение, очевидно, очутится на кладбище. А чтобы вы, господа, не приняли меня за безумца, я, нисколько не опасаясь последствий гласности[184], сейчас вам открою, в чем дело. Я считаю необходимым провести через кортесы[185], чтобы все подданные его величества, в возрасте от четырнадцати до шестидесяти лет, обязались один день каждого месяца питаться водой и хлебом, причем день следует наметить заблаговременно; стоимость всякого рода еды (фрукты, мясо, рыба, вино, яйца и овощи), приуроченной к этому дню, надлежит представить в деньгах и сдать их его величеству с клятвенным поручительством, что не было утаено ни копейки. Таким образом в двадцать лет государь освободится от ростовщиков и долговых обязательств. В самом деле, по произведенному мною подсчету, в Испании, безусловно, наберется свыше трех миллионов человек означенного возраста, не считая больных, стариков и детей, причем никто из них не истратит в день (и это на самый худой конец) меньше, чем полтора реала; пусть даже это будет только один реал, дешевле не выйдет: мякина дороже стоит! Неужели же это пустяки: каждый месяц получать чистоганом три миллиона реалов? А между тем такой порядок может принести не убыток, а выгоду самим же постникам, ибо постом своим они одновременно угодят небу и послужат своему королю; возможно также, что среди них найдутся люди, которым пост принесет немалую пользу для здоровья. Вот вам мой план во всей его чистоте! Деньги можно будет собирать по приходам, не прибегая к посредничеству грабящих казну комиссаров.
Все посмеялись над планом и над его составителем; причем сам он тоже хохотал над собственной глупостью. Я немало подивился речам этих чудаков и тому обстоятельству, что, по моим наблюдениям, все люди подобного склада по большей части кончают дни свои в госпитале.
С и п и о н
Ты правильно говоришь, Берганса. Подумай, что ты хочешь еще рассказать?
Б е р г а н с а
Остались еще две вещи, которыми я закончу беседу, а то, кажется, уже наступает день. Как-то ночью я вместе со своим надзирателем отправился за подаянием к коррехидору нашего города, подлинному кавальеро и образцовому христианину; мы увидели, что он в доме один, и мне вдруг вздумалось использовать этот случай и сообщить ему некоторые соображения, высказанные при мне одним больным стариком нашего госпиталя. Старик предлагал разные меры для отвлечения от позорной жизни бродяжничающих девиц, которые, не желая служить, заражаются дурными примерами и, надо сказать, так успешно заражаются, что каждое лето заваливают наши госпитали своими негодными кавалерами. Это ли не великое зло, требующее быстрых и решительных мероприятий? Я решил изложить ему свою мысль и возвысил голос, вообразив, что я могу говорить, но вместо осмысленных слов я разразился столь быстрым и громким лаем, что вспыливший коррехидор велел слугам выгнать меня из комнаты палками, причем один из лакеев, явившихся на его зов (и почему только он тогда не оглох!), схватил попавшийся под руку медный кувшин и так меня отделал по ребрам, что еще и теперь у меня сохранились следы от ударов.
С и п и о н
И у тебя хватает духу на это жаловаться?
Б е р г а н с а
Да как же мне не жаловаться? Ведь боль до сих пор еще сказывается, а кроме того, я глубоко убежден, что мой добрый порыв не заслуживал подобной кары!
С и п и о н
Слушай, Берганса: никогда не суйся туда, куда тебя не просят, и не берись за дела, которые тебя не касаются. Запомни, что советов бедняка, как бы хороши они ни были, никто никогда не слушает; бедному и смиренному человеку незачем надоедать советами вельможам и самоуверенным людям, полагающим, что они сами отлично во всем) разбираются. Мудрость бедняка всегда остается в тени, ибо бедность его и нужда заволакивают эту мудрость туманом; если же она случайно прорвется наружу, люди считают ее глупостью и ею гнушаются.
Б е р г а н с а
Да, ты прав; постараюсь зарубить это на носу и во всем слушаться твоих советов… А то пришел я однажды ночью в дом одной знатной сеньоры, на руках у которой сидела собачонка (так называемая комнатная), такая маленькая, что нетрудно было бы спрятать ее за пазуху. Как только она меня увидела, она сию же минуту спрыгнула с рук своей госпожи и с лаем набросилась на меня, да так дерзко, что успокоилась только после того, как укусила меня в ногу. Я взглянул на нее с почтительною досадой и подумал про себя: «Если бы я повстречал тебя, дрянная шавка, на улице, то и внимания на тебя бы не обратил или же разорвал бы тебя зубами в клочья». Я понял тогда, что когда малодушный трус попадает в фавор, он наглеет и не боится оскорблять людей, более значительных, чем он сам.
С и п и о н
Лучшим доказательством справедливости твоих слов являются людишки, задирающие нос оттого, что их берут под свою защиту сеньоры; когда же смерть или иная перемена Фортуны свалит дерево, дающее им опору, то убожество их сразу обнаруживается и становится явным для всех, ибо поистине цена их определялась пробой, поставленной на них их господами и покровителями. Добродетель и ум всегда остаются самими собой и всегда неизменны: в богатстве и в бедности, в одиночестве и в окружении свиты. Правда, люди могут иногда их неверно оценивать, но это отнюдь не сказывается на их внутренней сущности, важности и значении. На этом мы и закончим свою беседу; свет, пробивающийся сквозь щели, указывает на то, что час уже не ранний. Сегодняшняя ночь, если только мы не утратим великого и благодатного дара речи, принадлежит мне и будет посвящена истории моей жизни.
Б е р г а н с а
Быть по сему; да не забудь явиться на это же самое место.
Лиценциат, окончивший чтение Беседы в ту самую минуту, когда наш поручик проснулся, сказал:
— Хотя беседа эта — выдумка и никогда не имела места в действительности, но, по-моему, она так хорошо написана, что господин поручик может с успехом приняться за вторую.
— Такой отзыв, — ответил поручик, — меня ободряет; я буду писать дальше, не вступая сейчас в пререкания о том, разговаривали собаки или не разговаривали.
— Господин поручик, — ответил на это лиценциат, — к чему нам споры? Я оценил искусство и замысел этой беседы: вот и весь сказ! Пойдем-ка на Эсполон[186] и порадуем телесные очи после того, как я порадовал очи духовные.
— Пойдем, — сказал поручик.
И оба вышли.
Подставная тетка
Проходя по одной из улиц Саламанки, двое студентов, молодых ламанчцев, более искушенных в безделье и в ночных схватках, чем в трактатах Бартуло[187] и Бальдо, заметили на окне одного веселого дома решетчатые ставни; это обозначало какое-то новшество, потому что если обитательницы таких домов не выставляют себя и о себе не кричат, торговля идет плохо. Они пожелали выяснить, в чем тут дело, и усердие их было вознаграждено встречей с мастеровым, жившим стена об стену по соседству, который им сказал:
— Сеньоры, с неделю тому назад в этом доме поселилась одна приезжая дама очень набожных и строгих правил; при ней находится девушка поразительной красоты и осанки, по-видимому, ее племянница; из дому дама эта выходит с лакеем и двумя дуэньями, так что, насколько я могу разобрать, люди они почтенные и чинные. До сего дня я еще не видел, чтобы кто-нибудь из; наших городских или приезжих приходил их навестить, и не могу сказать, откуда они прибыли в Саламанку; знаю только, что девушка эта — красавица и по виду скромница, а пышность и важность тетки говорит не о бедности.
Сообщение, сделанное соседом-мастеровым, разожгло у обоих студентов желание довести до конца это приключение; как-никак, а, несмотря на отличное знание Саламанки и точное обследование всех окон, где виднеются горшки с базиликой и «токи», они даже и не подозревали, что в городе существуют тетка и племянница, «проходящие курс наук» в Саламанкском университете и проживающие к тому же в том самом «податном» доме, где всегда торговали «пособиями» для студентов, хотя и не очень высокого качества. Дело в том, что в Саламанке, как и в других городах, есть такие дома, в которых обычно поселяются куртизанки или, как их называют, «трудовые» или «нежные» женщины.
Было уже недалеко до полудня, а упомянутый нами дом все еще был заперт снаружи, из чего студенты заключили, что обитательницы его обедали где-то на стороне или должны были вскоре вернуться; предположение это оказалось верным, и, немного погодя, они увидели приближающуюся пожилую даму в белоснежной «токе», длиной своей не уступавшей стихарю португальского каноника и собранной на лбу складочками. С шеи дамы до самого пояса спускались огромные четки из бубенчиков, таких же больших, как на четках Сантенуфло; на ней был полушелковый плащ, новые белые перчатки без отворотов, а в руках палка из американского камыша с серебряным набалдашником. С левой стороны ее вел под руку лакей времен Фернана Гонсалеса в кафтане из плиса с потертым ворсом, в ярко-красных штанах, в мягких бехарских сапогах, в плаще, отделанном шелком, в миланской шапке поверх стеганой ермолки (он страдал головокружениями), в грубых перчатках и с наваррской шпагой на перевязи. Впереди шла племянница, девушка на вид лет восемнадцати, с лицом степенным и серьезным, скорее продолговатым, чем круглым; с глазами черными, большими и только по небрежности сонными; с тонкими и хорошо очерченными бровями, длинными ресницами и румяным личиком. Судя по прядям, выпущенным на висках, волосы у нее были белокурые и искусно завитые; на ней была тонкая шерстяная юбка, корсаж из завитой байки, высокие туфли из черного бархата с накладными украшениями и бахромой из блестящего серебра и перчатки, надушенные, однако, не простым порошком, а жидкою амброю. Манеры ее были серьезны, взгляд пристоен, походка изящна и легка, как у цапли. Если разбирать ее по частям, впечатление она оставляла отличное, а если взять в целом, то казалась еще лучше. Оба ламанчца своим нравом и наклонностями были подобны молодым воронятам, бросающимся на любой кусок мяса, и поэтому, выглядев молодую цаплю, они впились в нее всеми пятью своими чувствами, очарованные и покоренные необычайной грацией и совершенством: такова уж власть красоты, пленяющей нас иногда и в посконном наряде. Сзади шли две дуэньи, одетые в таком же роде, как и лакей.
Итак, с великою пышностью почтенная дама приблизилась к дому; лакей открыл дверь, и все вошли. Надо сказать, что при этом оба студента сорвали с себя шапочки с совершенно исключительной вежливостью и почтительностью, переходящей в нежность, — слегка согнули при этом колени и опустили глаза с таким видом, как если бы они были самыми елейными и учтивыми кавалерами на свете. Дамы проследовали в дом; юноши остались на улице, погруженные в задумчивость, почти влюбленные, теряясь в догадках, что им предпринять. Они склонились к мысли, что поскольку эти дамы приезжие, то они, очевидно, прибыли в Саламанку не для того, чтобы изучать законы, а для того, чтобы их нарушать.
Тут же было решено устроить серенаду сегодня ночью; это первый знак внимания, какой оказывают своим дамам бедные студенты. Затем они отправились свести счеты со своею бедностью, иначе говоря, с очень скудной едой; пообедав, они созвали друзей, собрали гитары и другие инструменты, сговорили певцов и обратились к одному из тех поэтов, каких немало насчитывает этот город, с покорнейшей просьбой сочинить для сегодняшней серенады слова с обращением к Эсперансе[188], ибо так называлась «она», надежда их жизни (а она уже успела ею сделаться!), и особенно настояли на том, чтобы в стихи непременно было вставлено имя Эсперансы. Поэт взял на себя эту заботу и в недолгий срок, почесав себе виски и лоб, покусав губы и ногти, состряпал сонет, который бы сделал честь любому сукновалу или чесальщику шерсти. Он прочел этот сонет обоим поклонникам; те одобрили и условились с автором, что он сам будет читать его певцам, потому что не было времени выучить его наизусть.
Тем временем наступила ночь, и вот, в подобающий для такого рода торжественных выступлений час собрались девять ламанчских головорезов, четыре певца с гитарами, морская труба, арфа, бандура, двенадцать бубенцов, саморская волынка, тридцать щитов и столько же панцирей; все это было роздано целой ватаге однокашников или, вернее, собутыльников наших студентов. Это пышное шествие направилось к околотку и к дому любезной сеньоры; свернули в улицу, и безжалостные бубенцы загремели так оглушительно, что, хотя ночь давно переступила порог безмолвия и все соседи кругом спали так же сладко, как шелковичные черви, им пришлось все-таки отогнать в сторону сон. Во всей округе не оказалось ни одного человека, который бы не проснулся и не подбежал к окну. Вслед за тем волынка заиграла «гамбетас» и закончила «эстурдьоном»[189] только под самыми окнами дамы. Тогда, под сопровождение арфы и по указке поэта, читавшего свое творение, певец (один из тех, что не заставляют себя долго просить) приятным и чистым голосом запел следующий сонет:
Здесь Эсперансы высится тайник, В которой я люблю душой и телом Единую надежду в мире целом. Она лишь с теми, кто ее достиг. С ее достигшим — хоть на краткий миг — Француз и мавр сменились бы уделом; Поэтому о снисхожденьи смелом Молю тебя, Амур, бог-чаровник. Хоть этой Эсперансы меньше нет, Хоть ей едва ли девятнадцать лет, Ее достигший станет великаном. Расти, пожар, подкладывайте дров! О Эоперанса! Кто же не готов Тебе служить всю жизнь в усердьи рьяном?Едва этот окаянный сонет был окончен, как один из стоящих поблизости прощелыг, удостоившийся ученой степени в гражданском и каноническом праве, громким и звучным голосом сказал своему соседу:
— Черт побери, за всю свою жизнь я не слыхивал лучших стишков! Обратили вы, ваша милость, внимание на сладкозвучность виршей, на обращение к Амуру, на игру слов с именем дамы, на это ловко вклеенное «молю тебя», на то, как искусно приплел он года девушки, на удачнейшее противопоставление понятий «меньше нет» и «великаном»? Эх, как хотите меня ругайте и называйте, а будь я знаком с писателем, сочинившим этот сонет, я — дьявол меня разорви! — за это чудесное и звучное словечко «дров» завтра же послал бы ему полдюжины колбасок, которые мне привез на этой неделе мой земляк, погонщик мулов.
При одном слове «колбаски» присутствовавшие порешили, что почитатель сонета, несомненно, эстремадурец; так оно в действительности и оказалось, ибо впоследствии им стало известно, что он был родом из одной деревни в Эстремадуре, поблизости от Харайсехо. С тех пор он прослыл человеком ученым и сведущим в искусстве поэтики. Эта слава установилась за ним на том лишь основании, что многие слышали, как он разбирал по частям пропетый и восхитивший его сонет.
А между тем окна дома оставались закрытыми, как утроба матери, что сразило надежды обнадеженных было ламанчцев. Тем не менее для второго раза был исполнен тремя голосами под звуки гитар следующий романс, тоже наскоро сработанный и приспособленный для настоящего случая:
Выйди, выйди, Эсперанса, Помоги душе несчастной, Что почти рассталась с телом, Без любимой умирая. Пусть густые тучи страха Света твоего не застят; Было б умаленьем солнца Не рассеять супостатов. Успокой волненье бури На морях моих страданий И не дай, с надеждой вместе, Потонуть любовной страсти. Я на жизнь еще надеюсь В час кончины беспощадной, На блаженство — в преисподней И в холодности — на счастье.Когда певцы дошли до этого места в романсе, они увидели, что окно отворилось и в нем показалась одна из дуэний, сопровождавших в этот день Эсперансу. Она сказала им тоненьким и жеманным голосом:
— Сеньоры, моя госпожа, донья Клаудия д'Астудильо-и-Киньонес, благодарит ваши милости и просит оказать ей милость продлить вашу музыку где-нибудь в другом месте, во избежание скандала, соблазна для соседей и потому еще, что у нее в доме живет барышня, ее племянница и моя сеньора, донья Эсперанса де Торральба Менесес-и-Пачеко. При ее звании и положении отнюдь не подобает, чтобы у ее дверей творились подобные вещи. Ваши милости могли бы оказать ей внимание каким-нибудь иным способом, в иной форме и без такого скандала.
На это один из поклонников ответил:
— Окажите мне ласку и милость, сеньора дуэнья, и попросите сеньору донью Эсперансу де Торральба Менесес-и-Пачеко подойти к этому окну; я хочу сказать ей всего лишь два слова, но они безусловно окажут ей весьма полезную услугу.
— Пфуй, пфуй! — сказала дуэнья. — Разве моя сеньора донья Эсперанса де Торральба Менесес-и-Пачеко какая-нибудь такая?! Знайте, сеньор мой, что она не из тех, о ком вы думаете. Моя сеньора — очень знатная и очень добродетельная, очень скромная, очень смышленая, очень остроумная, очень музыкальная, очень начитанная и очень написанная. И не сделает она того, о чем вы ее просите, даже если бы ее перлами осыпали.
Во время этой увеселительной беседы с жеманной дуэньей, не скупившейся на «пфуй, пфуй!» и на «перлы», на улице появилась большая толпа народа. Певцы и вся братия решили, что это городская полиция; а поэтому построились в круг и поместили в середину отряда музыкальный обоз; при приближении полиции они начали греметь щитами и звенеть панцирями; услышав эти звуки, полиция не пожелала танцевать танец со шпагами, исполняемый садовниками на празднике «тела господня» в Севилье, и прошла дальше, потому что альгуасилы, нижние чины и сыщики не почуяли себе большой наживы от здешней ярмарки. Наши храбрецы возликовали и хотели было продолжать начатую серенаду; но один из главных устроителей потехи заявил, что музыки не будет до тех пор, пока сеньора донья Эсперанса не покажется у окна. Но как они настойчиво ее ни вызывали, на крики не вышла даже дуэнья. Все были рассержены и пристыжены и собирались забросать дом камнями, разбить решетчатые ставни, устроить страшный кавардак и кошачий концерт, то есть поступить так, как свойственно поступать юнцам в подобных случаях. Тем не менее, несмотря на свою досаду, они решили еще раз «пропустить по маленькой музыке» и сыграли несколько вильянсиков; затем снова зазвучала волынка, оглушительно-резко зазвенели бубенцы, и на этом серенада окончилась.
На рассвете ватага рассеялась; но не рассеялась досада ламанчцев, увидевших, что музыка их пропала даром. В таком настроении явились они в дом одного кавальеро, своего приятеля, из числа тех, кого в Саламанке называют «вельможами» и кого всюду сажают на почетное место. Он был молод, богат, расточителен, любил петь, ухаживать и охотно водил дружбу с отъявленными подкалывателями. Изложив ему во всех подробностях свое приключение, студенты описали красоту, привлекательность, осанку и изящество девушки, важность и широкие замашки тетки и указали на полное отсутствие надежды овладеть юной красавицей, потому что устроенная ими серенада — первый и последний знак внимания, какой они могли ей оказать, — не принесла никакой пользы и привела лишь к тому, что обозлила и опозорила ее во всей округе. Кавальеро, причислявший себя к числу людей, прямо идущих к цели, в ту же минуту дал слово завоевать эту девушку какою угодно ценой. В тот же день он отправил сеньоре донье Клаудии письмо, столь же пространное, сколь и учтивое, предлагая к ее услугам свою особу, свою жизнь, свое состояние и свое покровительство. Хитрая Клаудия расспросила слугу о положении и родословной его господина, о его доходах, характере, времяпрепровождении и занятиях, как если бы она на самом деле прочила его себе в зятья. Слуга сказал всю правду и дал такой портрет своего господина, что донья Клаудия осталась очень довольна и отправила вместе со слугой дуэнью «Пфуй, пфуй!» с ответом, не менее пространным и учтивым, чем полученное ею послание.
Дуэнья вошла в дом кавальеро, который принял ее очень любезно. Он усадил ее в кресло рядом с собой, снял с ее головы покрывало, подал ей кружевной платок, чтобы отереть пот с лица, так как дуэнья была несколько утомлена дорогой, и, прежде чем она успела слово сказать о своем поручении, велел подать ей коробку пастилы и собственноручно отрезал два больших куска, а для «полоскания рта» предложил ей глотков тридцать «святого» винца. От этого дуэнья стала краснее мака и расцвела так, как если бы ей пожаловали каноникат. Затем она изложила данное ей поручение, прибегнув к помощи привычных для нее жеманных и вычурных выражений. Она закончила явною ложью, а именно, будто сеньора ее, донья Эсперанса де Торральба Менесес-и-Пачеко, ныне так же невинна, как и тогда, когда ее мать родила (скажи она «так же невинна, как мать, которая ее родила», это было бы, пожалуй, вернее), и несмотря на это дверь ее сеньоры не останется все же закрытой для его милости. Кавальеро ответил, что поскольку речь идет о достоинствах, отменных качествах, красоте, добронравии, скромности и, употребляя ее собственные слова, знаменитости ее сеньоры, он готов ей беспрекословно поверить, но невинность Эсперансы возбуждает в нем некоторое сомнение, потому он и просит дуэнью открыть ему истину. При этом он поклялся ей словом кавальеро, что если она выскажется начистоту, то он подарит ей покрывало из самого добротного шелка.
Этого обещания было достаточно, чтобы без каких-либо дальнейших настояний и понуждений жеманная дуэнья выложила всю правду. Поклявшись сегодняшним днем и часом собственной смерти, она удостоверила, что донья Эсперанса де Торральба Менесес-и-Пачеко являлась уже предметом трех сделок или, вернее, продаж, причем тут же была указана цена, покупатель, точное место купли и еще тысяча других подробностей, вполне удовлетворивших дона Фелиса (так звали кавальеро), ибо теперь он знал все, что ему было нужно. Под конец он сговорился с дуэньей, что этой же ночью она впустит его в дом, где он переговорит наедине с Эсперансой без ведома ее тетки. Он простился с дуэньей, велев ей передать всякого рода любезности и предложения услуг ее госпожам, и выдал ей деньгами стоимость черного покрывала. Он условился с ней о том, как ему пройти этой ночью в дом, после чего дуэнья удалилась вне себя от радости, а дон Фелис остался один, размышляя о предстоящем свидании и дожидаясь ночи, медлившей, как ему казалось, целую тысячу лет: очень уж ему хотелось поскорее приступить к своей хитроумной затее.
Назначенный срок настал, ибо нет такого срока, который не наступает. Дон Фелис тщательно вооружился и, не взяв с собой ни друзей, ни слуг, прибыл туда, где, по условию, его дожидалась дуэнья. Открыв ему дверь, она осторожно и тихо впустила его в дом и спрятала его в комнате сеньоры Эсперансы за пологом кровати, попросив не производить ни малейшего шума. Дуэнья сказала, что сеньора донья Эсперанса уже извещена о его приходе и, склонившись на уговоры, дала согласие удовлетворить желанья дона Фелиса тайком от своей тетки. Пожав ему руку в знак того, что все будет устроено, дуэнья вышла из комнаты, а дон Фелис остался за кроватью Эсперансы, выжидая, чем окончится его хитрая затея.
Когда дон Фелис вошел в дом, было около девяти часов вечера. В комнате, смежной с той, где он находился, в низеньком кресле со спинкой сидела тетка, напротив на помосте сидела племянница, а посредине стояла освещавшая помещение жаровня. Весь дом был погружен в молчание; лакей уже спал, вторая дуэнья тоже ушла почивать, и только та, что была в заговоре, оставалась на ногах, стараясь спровадить спать старую сеньору. Она уверяла, что часы пробили не девять, а десять, горя желанием, чтобы поскорей увенчались успехом ее шашни, о которых она договорилась со своей молодой сеньорой. Было решено обделать дело без ведома Клаудии, удержать в свою пользу деньги и приношения дона Фелиса и начисто обойти старуху, так как последняя была очень скаредна и скупа и прибирала к рукам все, что зарабатывала и наживала племянница, не выдавая ей ни единого реала, когда дело шло о вещах не первой необходимости; вот почему заговорщицы задумали урвать у нее одну получку из числа тех многих, которые ее ожидали в будущем. Но хотя наша Эсперанса и знала, что дон Фелис находится в доме, ей не было, однако, известно, в каком именно месте он спрятан.
Под впечатлением ночной тишины и удобного времени Клаудия почувствовала желание поболтать и негромким голосом заговорила с племянницей следующим образом:
ВНУТРЕННИЕ ДЕЛА И ФИНАНСЫ
— Много раз я говорила тебе, милая Эсперанса, чтобы ты твердо помнила о тех советах, поучениях и наставлениях, которые я тебе постоянно давала. Если ты будешь их соблюдать как следует и как ты мне это обещала, они принесут тебе великую пользу и выгоду; опыт и время, этот великий учитель и обличитель всех вещей, тебе это когда-нибудь докажет. Не думай, что мы находимся сейчас в Пласенсии, где ты родилась, или в Саморре, где ты впервые вкусила знание света и плоти, или еще в Торо, где мы сняли третью жатву твоей плодородной нивы. Все эти края населены людьми добрыми и простыми, бесхитростными и чистосердечными, а не такими продувными и искушенными во всякого рода плутнях и дьявольских штуках, как жители этого города. Заметь, дочь моя, ты находишься в Саламанке, во всем мире именуемой матерью наук, оплотом художеств и сокровищницей талантов, где обычно обучается и проживает от десяти до двенадцати тысяч студентов: народ молодой, причудливый, порывистый, вольный, щедрый, влюбчивый, расточительный, смышленый, проказливый и непостоянный. Таковы они вообще; а что касается частностей, то ввиду того, что все они по большей части приезжие и уроженцы разных стран и областей, не у всех из них одинаковые свойства. Бискайцы, которых здесь не больше, чем ласточек, делающих весну, на слова не богаты, но если уж погонятся за какой-нибудь красоткой, то кошелек у них легко открывается; они плохо разбираются в металлах и на свои удовольствия и на жизнь тратят серебро с такою щедростью, словно дело идет о железе, в изобилии добываемом у них на родине. Ламанчцы — это такие сорвиголовы, что хоть святых вон выноси, а кроме того, они питают большую любовь к потасовкам. Здесь есть еще целая куча арагонцев, валенсианцев и каталонцев; все это народ деликатный, раздушенный, хорошо воспитанный и очень образованный; но больше с них ничего не следует спрашивать, а если спросишь, то знай, дочь моя, что шутить они не любят, и если рассердятся на женщину, то становятся жестоки и печень у них пошаливает. Жители Новой Кастилии — люди благородного образа мыслей, и когда у них есть деньги, дают, а когда ничего нет, то во всяком случае ничего сами не просят. У эстремадурцев бывает всего понемногу, как в лавке аптекаря: они вроде лигатуры у алхимиков: прибавить ее в серебро — выйдет серебро, прибавить к меди — медью и останется. А вот чтобы иметь дело с андалусцами, дочь моя, нужно иметь не пять, а пятнадцать чувств: до того они остры, проницательны, хитры и пронырливы; и при этом совсем не скупые; если же андалусец родом из Кордовы, тот будет, пожалуй, и того почище. О галисийцах я не стану говорить, это — люди настоящие. Астурийцы хороши для суббот, так как они всегда приходят домой жирными и просаленными. Многое можно было бы сказать об особенностях и свойствах португальцев: все они страдают усыханием мозга, а потому каждый из них — сумасшедший и притом по-своему; впрочем, есть и нечто общее в этом безумии: знай, что, несмотря на всю свою нищету, они все-таки умеют любить. Помни же, Эсперанса, с какими разнообразными людьми тебе придется иметь дело и как важно тебе, пускающейся в плавание по морю, столь богатому рифами и опасностями, иметь под рукой меня для того, чтобы показывать тебе компас и путеводную звезду и направлять и наставлять тебя, а иначе придется пустить ко дну корабль наших намерений и помыслов, направленных на то, чтобы обчищать и обирать мужчин; придется бросить в воду и товар, то есть твое приятное и статное тело, столь щедро наделенное прелестью, изяществом и соблазном в глазах тех, кто к нему тянется. Прими во внимание, дочь моя, что самый знаменитый профессор в этом университете не так искушен в своей науке, как искушена я в том житейском искусстве, которым мы с тобой промышляем. Я так много лет им жила и кормилась и приобрела такой опыт, что могла бы удостоиться юбилейного чествования. И хотя сегодняшние мои слова не более, как часть того, что я уже много раз тебе говорила, я все-таки хочу, чтобы ты со вниманием преклонила к моим речам свое ухо, потому что моряк не всегда держит паруса наготове и не всегда их убирает прочь, а каков ветер, такова и его повадка. Все это время малютка Эсперанса сидела, потупив Глаза, опустив голову, и молча перемешивала ножом угли в жаровне; казалось, что она покорно и с удовольствием слушает слова тетки. Но Клаудию это не удовлетворило, и она сказала:
— Подними голову, дочь моя, и оставь в покое огонь; смотри мне прямо в глаза и не засыпай. Чтобы усвоить и понять то, что я сейчас скажу, тебе следовало бы иметь еще пять чувств, кроме тех, которые у тебя есть.
На это Эсперанса ответила ей:
— Сеньора тетя, не утомляйте себя и меня продолжением и без того уже длинной речи; у меня скоро голова треснет от нескончаемых проповедей и указаний, что мне делать и как поступать; хорошо ли будет, если она у меня окончательно лопнет? Ну, что такое нашли вы у саламанкских мужчин, чего бы не было у мужчин других городов! Разве все они не из мяса и костей? Разве не у всех у них одна душа с тремя способностями и пятью чувствами? Подумаешь, какая важность, что одни более грамотны и учены, чем другие? Наоборот, я полагаю, что люди ученые ослепляются и падают скорее других, и это в порядке вещей, так как ум помогает им познать и оценить красоту. Что мне нужно еще уметь, кроме того, чтобы возбуждать холодного, соблазнять целомудренного, отказывать чувственному, поощрять робкого, ободрять ненаходчивого, обуздывать самоуверенного, пробуждать сонного, завлекать неосторожного, напоминать о себе забывчивому, писать отсутствующему, льстить глупому, восхвалять умного, ласкать богатого, выводить из заблуждения бедного, быть ангелом на улице, святой в церкви, красавицей в окне, добродетельной дома и дьяволом в кровати? Все это, сеньора тетя, я знаю уже наизусть. Придумайте для меня новые советы и указания, которые мы отложим, однако, до другого раза, так как я, должна вам сознаться, совсем сплю и не в силах вас слушать. Одно только хочу я сказать и подчеркнуть для того, чтобы вы раз навсегда это запомнили: отныне я не позволю вам больше мучить меня своими руками, ни за какие блага на свете. Я отдала уже вам три цветка, которые вы продали, и три раза прошла сквозь нестерпимые муки. Неужели же, в самом деле, я сделана из бронзы? Или мое тело лишено чувствительности? Или оно только и годится на то, чтобы тыкать в него иглой, как в рваное и трепаное платье? Клянусь жизнью матери, которой я, однако, не видела, я на это больше не пойду. Пора уже, сеньора тетя, пустить в ход остатки виноградника; ведь иной раз бывает, что остатки оказываются слаще первого сбора. Если же вы твердо решили, что мой сад нужно каждый раз продавать как цельный, непорочный, нетронутый, придумайте другой, более нежный способ замыкать его калитку, а о том, чтобы я еще раз позволила иголкой и шелковой ниткой прикоснуться к моему телу, и думать не смейте!
— Глупенькая ты, глупенькая, — отвечала старая Клаудия, — мало ты смыслишь в вещах подобного рода. Да что же другое в таких случаях может сравниться с иглой и красной шелковой ниткой: все остальные средства — одни пустяки. Дубильный корень и толченое стекло ничего не стоят; еще меньше проку от пиявки; мирра не приносит никакой пользы, равно как и морской лук, голубиный зоб и другие никчемные снадобья; все это — вздор, потому что теперь мужика такого не сыщешь (если только он хоть капельку разбирается), который бы сразу не заподозрил подделки. А потому — да здравствует мой наперсток и игла, и да укрепляются вместе с тем твои выносливость и терпение, и тогда нам не страшны никакие мужчины на свете: все они останутся в дураках, ты — при своей чести, а я при капитале и очень даже большой наживе!
— Я этих доводов не оспариваю, — отвечала Эсперанса, — но я все-таки не изменю своего решения, хотя бы это и отразилось на моем заработке. Как-никак, а откладывая продажу, мы теряем ту прибыль, которую могли бы выручить, открыв лавку немедленно, тем более, что мы не собираемся обосноваться на жительство в этом городе. Если мы, по вашим словам, должны поспешить в Севилью ко времени прибытия флота, это еще не обязывает нас терять даром время в ожидании четвертой продажи моего цветка, который уже так поблек, что стал совсем черным. Ступайте вы, с богом, спать и обдумайте все это; а завтра мы примем решение, которое вам больше понравится, ибо в конечном счете я все-таки последую вашему совету, так как вы для меня родная мать и даже больше, больше, чем мать.
Когда разговор тетки с племянницей дошел до этого места, дон Фелис, слышавший всю беседу и до крайности удивленный обманами, гнездившимися в этих двух женщинах, на вид таких порядочных и далеких от грязных дел, не будучи в состоянии сдержаться, начал чихать с такой силой и шумом, что его легко можно было услышать на улице. При этом звуке перепуганная и взволнованная Клаудия вскочила с места и, взяв свечу, гневно прошла в комнату, где стояла кровать Эсперансы. С таким видом, будто все ей было уже известно и рассказано, она направилась прямо к постели и, откинув полог, увидела там сеньора кавальеро, схватившегося за шпату, со шляпой, надвинутой на глаза, и грозным лицом человека, приготовившегося к бою. Как только старуха разглядела его, она стала часто креститься и проговорила:
— Господи Иисусе! Какое горе, какое несчастье! В моем доме мужчина, и в таком месте, и в такой час! О, горе мне, злополучной! Чего только теперь не наговорят, если это узнается!
— Успокойтесь, ваша милость, сеньора донья Клаудия, — отвечал дон Фелис, — я явился сюда не для того, чтобы вас позорить и вам вредить, а чтобы принести вам выгоду и честь. Я — кавальеро, богат и умею молчать, а кроме того, я влюблен в сеньору донью Эсперансу. Чтобы добиться того, к чему стремится моя пылкая любовь, я постарался заключить одно тайное соглашение, о котором вы, ваша милость, в свое время узнаете, и пробрался сюда, не имея иных намерений, кроме одного: упиться вблизи видом женщины, сумевшей лишить меня жизни издали. Если эта вина заслуживает какой-либо кары, я готов: время и место для этого самое подходящее, но всякую кару, исходящую от ее руки, я почту великим блаженством, тем более, что никакая кара не подвергнет меня такой пытке, какой терзает меня любовь.
— О, я несчастная! — снова начала Клаудия. — Каким только опасностям не подвергаются женщины, живущие без мужей и без мужчин, способных оказать им защиту и покровительство. О, как мне тебя сейчас не хватает, горемычный дон Хуан де Бракамонте, — не подумайте, что я про хересского архидиакона говорю! — мой несчастный супруг; если бы ты был жив, никогда бы я не приехала в этот город и не пережила бы такого позора и тревоги, как в эту минуту. Потрудитесь, сеньор мой, немедленно выйти отсюда той же дорогой, какой вы пришли; если вам что-нибудь угодно в этом доме от меня или моей племянницы, пройдите на улицу, там мы сможем переговорить с вами без всякой спешки — мы ведь вас не гоним и не выставляем — и тогда ни честь наша, ни выгода, ни удовольствие не пострадают.
— Сеньора, для того, что мне угодно в этом доме, — отвечал дон Фелис, — самое лучшее будет оставаться на месте, ибо чести вашей от меня не убудет; деньги, можно сказать, у вас в руках, а это и есть ваша выгода; а что касается удовольствия, то я уверен, что и за ним дело не станет. В доказательство того, что это не просто слова и что я говорю правду, пусть поручится за меня эта золотая цепь.
Тут дон Фелис снял с себя хорошую золотую цепь весом в сотню дукатов и надел ее на шею старухи.
В ту же минуту дуэнья, состоявшая в заговоре, слыша такие слова и видя столь щедрую плату, еще раньше, чем госпожа ее успела что-нибудь ответить и принять подношение, воскликнула:
— Найдется ли на свете какой-нибудь князь, папа, император, Фуггер, посол, кассир торгового дома, перуанец[190] или даже каноник — quod magis est[191] — способный проявить подобную щедрость и великолепие? Сеньора Клаудия, умоляю вас, не толкуйте вы больше об этом деле: считайте, что оно уже сделано, и немедленно предоставьте этому сеньору все, что ему будет угодно.
— В своем ли ты уме, Грихальба (так звали дуэнью), в своем ли ты уме, сумасшедшая дура? — сказала донья Клаудия. — Да разве речь у нас идет не о чистоте Эсперансы, не об ее непорочном цветке, не об ее незапятнанной девственности? Так я и стану рисковать ею и продавать ее здорово-живешь, позарившись на какую-то цепочку! Да неужели же я такая безмозглая, что меня можно ослепить ее блеском, опутать ее звеньями и оплести ее застежками? Клянусь жизнью покойника, этого не будет! Вы, ваша милость, наденьте вашу цепь на себя и постарайтесь посмотреть на нас другими глазами и понять, что хоть мы и одинокие женщины, но роду мы знатного, что эта малютка осталась такой же, какой ее мать родила, и что ни один человек на свете про нее иначе не скажет, а если вам кто-нибудь про нас наврал, так знайте, что все они заговариваются и что в свидетели своих слов я призываю опыт и время!
— Молчите, сеньора, — сказала в эту минуту Грихальба, — конечно, я, по-вашему, дура, но пропади я на этом месте, если сеньор не знает уже всей правды про нашу девицу.
— Что он может знать, бесстыжая, что он может знать? — воскликнула Клаудия. — Скажите, неужели вам неизвестна чистота моей племянницы?
— Уж я ли не чистеха? — сказала Эсперанса, стоя посреди комнаты, удивленная и озадаченная тем, как отзываются об ее теле. — Я большая чистеха! Ведь какой-нибудь час тому назад я, несмотря на холод, надела чистую рубашку.
— Как бы там ни было, — сказал дон Фелис, — но, после того как я увидел образчик сукна, я не выйду из лавки, прежде чем не куплю всего куска. А чтобы продажа не расстроилась из-за недоразумения или ненужного кривлянья, знайте, сеньора Клаудия, что я слышал всю проповедь и все поучения, которые вы только что читали вашей племяннице, и каждый стежок вашей иглы задевал меня за живое: ибо если бы мне первому удалось подрезать эту лозу и собрать первый урожай с виноградника, я охотно присоединил бы к этой цепи золотые кандалы и алмазные поручни. А так как вся истина мне доподлинно известна и у меня есть доказательства, то напрасно вы так мало цените мои дары и мои данные и так нелюбезно обращаетесь со мной, ибо я серьезно заявляю вам и даю вам слово и клятву, что никто на свете не узнает от меня о бреши, приключившейся в этой вашей твердыне, и что я буду повсюду разглашать о ее непорочности и несокрушимости.
— Ладно, — сказала Грихальба, — пусть она пойдет ему на доброе здоровье, пусть берет себе свое сокровище, пусть наперекор зловредным и подлым людям станут они оба «во плоть едину», я их соединяю и благословляю.
И, взяв за руку девушку, она подвела ее к дону Фелису. Увидев это, старуха так рассвирепела, что сняла с себя высокую туфлю и затеяла с Грихальбой, можно сказать, «сечу вокруг вражеской ставки»[192]. Та, не стерпев оскорбления, вцепилась в «току» сеньоры Клаудии и стащила ее с головы старухи, так что все вдруг увидели лысину, сделавшую бы честь любому монаху, и клочок парика, сбившийся набок, отчего сеньора приобрела вид самой гнусной и отвратительной образины на свете.
Видя подобное обращение со стороны собственной служанки, старуха стала вопить, кричать и звать полицию; по первому же ее зову, как по волшебству, в комнату вошел коррехидор города, а вместе с ним человек двадцать случайных прохожих и полицейских. Коррехидор еще накануне получил сведения о лицах, живущих в этом доме, и решил навестить их как раз сегодня ночью. Он уже стучался в дом, но его не услышали, так как все были заняты ссорой.
Тогда полицейские, пустив в ход два лома, которыми они запасаются по ночам для подобного рода случаев, взломали наружную дверь и вошли в сени так тихо, что их никто не заметил. С самого начала проповеди тетки и вплоть до драки старухи с Грихальбой коррехидор стоял в сенях у дверей и слушал, не пропустив ни слова. Войдя в комнату, он сказал:
— Да, непочтительно вы обращаетесь со своей сеньорой, сударыня ключница!
— Не только непочтительно, сеньор коррехидор, — сказала Клаудия, — эта мерзавка дерзнула поднять руку на то, чего ни одна рука не касалась с тех самых пор, как господу угодно было извергнуть меня в этот мир!
— Это вы правильно сказали, что он вас извèрг, — сказал коррехидор, — так как вы только в `изверги и годитесь. Оправьте свой головной убор, почтенная дама, все прочие пусть сделают то же самое, и отправляйтесь в тюрьму!
— В тюрьму, сеньор! За что? — воскликнула Клаудия. — Видно, у вас в городе плохие порядки, если с людьми такого знатного звания, как я, допустимо подобное обхождение!
— Не кричите, сеньора; идти вам все равно придется, и вместе с вами отправится и эта трехцветковая (разумея ее обращение со своим наследственным добром) госпожа.
— Пусть меня убьют, — вскричала Грихальба, — если сеньор коррехидор не слышал нашего разговора; ведь это он на Эсперансу намекнул, когда сказал «трехцветковая».
В эту минуту в беседу вмешался дон Фелис и, отойдя с коррехидором в сторону, стал просить его не брать под стражу этих сеньор и отпустить их на поруки; но на коррехидора не подействовали ни просьбы, ни обещания.
Между тем судьбе было угодно, чтобы среди прохожих, сопровождавших коррехидора, оказались два студента-ламанчца; они присутствовали при всей сцене. Увидев, что тут происходит, и убедившись в том, что так или иначе, а Эсперансе, Клаудии и Грихальбе придется отправиться в тюрьму, они в один миг сообразили, как им следует поступить. Никем не замеченные, они вышли из дома и спрятались за углом улицы, по которой должны были пройти задержанные. К ним присоединилось шестеро лихих друзей, которых им посчастливилось встретить и которых они попросили помочь им в серьезном деле против городской полиции. На подобное предложение друзья их откликнулись с еще большей готовностью и охотой, чем если бы их позвали на знатную пирушку.
Вскоре показалась полиция и пленницы; стоило страже приблизиться, как студенты тотчас же напали на нее с таким пылом и храбростью, что через несколько минут улица была очищена от полицейских. Впрочем, им удалось отбить одну Эсперансу; дело в том, что когда впереди завязалась свалка, стражники, сопровождавшие Клаудию и Грихальбу, свернули вместе с ними в другую улицу и доставили их в тюрьму. Коррехидор, пристыженный и посрамленный, отправился домой, дон Фелис тоже, а студенты пошли к себе в гостиницу. Один из них, тот самый, что отбил Эсперансу у полицейских, хотел было овладеть ею этой же ночью, но второй студент этого не допустил и пригрозил товарищу смертью, если тот отважится на покушение.
О диковинные события, приключающиеся на свете! О дела, о которых следует рассказать осторожно, а иначе им не поверят! О могущественная сила страсти, увлекающая нас в самые диковинные положения! Все это говорится нами потому, что освободитель красавицы, которому его друг так упорно и настойчиво препятствовал насладиться ею, не вдаваясь в долгие размышления и не задумываясь над последствиями своего поступка, заявил:
— Хоть ты мне и запрещаешь насладиться любовью женщины, из-за которой я многим рискнул, и не хочешь, чтобы она сделалась моей возлюбленной, а все-таки тебе придется сознаться, что, когда она станет моей законной женой, ты ее у меня не отнимешь. — И, обратившись к девушке, которую все время держал за руку, он сказал ей:
— Прелестная сеньора, до сих пор эта рука была рукой вашего защитника, теперь же, предлагая вам ее, я прошу позволения стать вашим законным супругом.
Эсперанса охотно бы согласилась и на менее почетный выход, а потому в ответ на это предложение тотчас же сказала «да, да», и не один, а много раз, и обняла студента как своего супруга и господина. Товарищ его, удивленный столь странным решением, не произнося ни слова, покинул их и удалился в свою комнату. Жениху стало страшно, что друзья его воспрепятствуют осуществлению его желания и помешают браку, который не был еще заключен по всем обрядам, каких требует святая мать-церковь; поэтому он в ту же ночь прошел на постоялый двор, где проживал его земляк, погонщик мулов. Счастливая звезда Эсперансы устроила так, что погонщику этому нужно было выехать на другой день рано утром. Новобрачные отправились вместе с ним. Рассказывают, что студент по приезде домой убедил отца, будто прибывшая с ним сеньора — дочь знатного кавальеро, которую он увез из родительского дома, пообещав на ней жениться. Отец его был дряхл и без труда поверил словам сына; увидев красивое личико невестки, он остался очень доволен и стал всячески расхваливать благоразумное решение своего сына.
Менее удачно сложилась судьба Клаудии, так как на основании ее собственных показаний было установлено, что Эсперанса не приходилась ей ни племянницей, ни родственницей, а была девочкой найдена на церковной паперти. Она созналась, что Эсперансу и еще двух девушек она много раз продавала разным лицам под видом девственниц, указав, что это, собственно, и составляло ее основное ремесло и занятие, которым она зарабатывала на жизнь. Была установлена равным образом ее причастность к колдовству; за все эти преступления коррехидор велел дать ей четыреста плетей и выставить ее посреди площади на помосте, в клетке, с позорным колпаком на голове. Это был самый приятный день в году, выпавший на долю мальчишек города Саламанки.
Вскоре распространились слухи о свадьбе студента. Нашлись люди, пожелавшие написать отцу всю правду о предосудительном образе жизни его невестки; но она так хитро и умно сумела угодить и понравиться своему свекру, что если бы отзывы о ней были еще хуже, он все равно с радостью назвал бы ее своей дочерью. Вот какую силу имеют ум и красота и вот какая беда приключилась напоследок с сеньорой доньей Клаудией д'Астудильо-и-Киньонес, и пусть такая же кара постигнет всех тех, кто живет и ведет себя так, как она! Немного, впрочем, найдется на свете таких Эсперанс, которые после своей горькой жизни приходят к покою и тихой пристани, доставшимся на долю нашей красавице, ибо большинство ей подобных заполняют койки госпиталей, где они и умирают в нищете и горе; и, по соизволению божию, выходит так, что те самые женщины, которые в молодости восхищали собою взоры всех, не находят больше никого, кто удостоил бы их хотя бы единого взгляда.
1
Хуан де Хауреги (1583—1641) — довольно известный в свое время лирический поэт, переводчик и критик, занимавшийся как любитель живописью. Эта фраза «Пролога» дала повод предположить существование портрета, написанного Хауреги. Гипотеза показалась тем более заманчивой, что вполне достоверное изображение Сервантеса до нас не дошло.
(обратно)2
Чезаре Капорали (Cesare Caporali, 1531—1601) — второстепенный итальянский поэт, нашумевший в свое время удачной литературной сатирой «Viaggio in Parnasso» (итал. «Путешествие на Парнас», 1582).
(обратно)3
…сражаясь под… знаменами сына «Грозы войн»… — Речь идет о полководце Хуане Австрийском (1547—1578), незаконном сыне Карла V.
(обратно)4
Гелиодор — знаменитый греческий романист (III в. н. э.), с романом которого «Эфиопика, или Феаген и Хариклея» Сервантес был знаком по испанскому переводу.
(обратно)5
Аретино, Пьетро (1492—1556) — едкий памфлетист эпохи итальянского Возрождения, прозванный «бичом государей»; Франческо Берни (1498—1535) — итальянский сатирический писатель. Громкий успех и атмосфера скандала, окружавшая их произведения, сделали их имена нарицательными не только в Италии, но и за границей.
(обратно)6
Мадрид, четырнадцатого июля тысяча шестьсот тринадцатого года. — Настоящее посвящение было сочинено в то время, когда граф Лемосский находился в Италии, а Сервантес жил и писал в Мадриде.
(обратно)7
Маркиз де Альканьйсес — способный дилетант, занимавшийся поэзией и хорошо известный современник Сервантеса. Сервантес, Лопе де Вега и др. сочувственно отзывались о нем в печати.
(обратно)8
Дон Педро — граф Лемосский.
(обратно)9
Фернандо Бермудес-и-Каравахаль — влиятельный по своему общественному положению человек, оказывавший покровительство поэтам, был ловким версификатором и оставил длинный ряд хвалебных посвящений к произведениям известных поэтов и писателей эпохи Филиппа III и Филиппа IV.
(обратно)10
Дон Фернандо де Лоденья (ум. 1634) — второстепенный лирик и драматург, современник Сервантеса.
(обратно)11
Хуан де Солис Мехия — поэт-дилетант, современник Сервантеса.
(обратно)12
Пресьоса выучила множество вильянсиков, куплетов, сегидилий, сарабанд и других стихов, главным же образом, романсов… — В согласии со вкусами эпохи Пресьоса как танцовщица-профессионалка сопровождает свою пляску игрой на ударном инструменте и пением. Вильянсики (villancicos), куплеты (coplas), сегидильи (seguidillas), сарабанды (zarabandas), романсы (romances) — поэтические строфы, которыми были написаны исполняемые ею песни. В настоящей повести Пресьоса поет главным образом строфы из четырех восьмисложных стихов с ассонансами (на второй и четвертой строке) и сонеты.
(обратно)13
Древо драгоценное — Анна, мать девы Марии и бабка Христа; в строфе десятой упоминается «зять», то есть дух святой. Перед нами образчик своеобразного «духовного стиха», под прикрытием наивно-реалистических фольклорных приемов пропагандирующего перед народной массой «святое» семейство и культ «демократических» святых.
(обратно)14
Что жалеть цветок, молвил голубок! — Фольклорное своеобразие цитируемой здесь игривой песенки не поддается буквальному переводу; образы ее заменены подходящими русскими эквивалентами.
(обратно)15
Очаво и куарто. — Очаво — 1/8, куарто — 1/4 реала. В эпоху Сервантеса покупная способность реала была в пять раз выше, чем в XIX столетии. Современный реал равен 25 сантимам, т. е. 1/4 песеты.
(обратно)16
Сан-Льоренте в Вальядолиде (народная форма вместо Сан-Лоренсо — св. Лаврентий) — храм в городе Вальядолид.
(обратно)17
…один из тех поэтов, что у нас наперечет, все равно как батальонные командиры. — В начале XVII века испанский батальон представлял собой крупную боевую единицу и насчитывал 8.000 человек. Число батальонных командиров, соответствовавших современным начальникам дивизии или корпуса, было ограничено.
(обратно)18
…запела следующий романс. — Это стихотворение является, по-видимому, переработкой той пространной стихотворной «Реляции», которая была официально заказана Сервантесу в целях широкой популяризации празднества, связанного с рождением наследника престола.
(обратно)19
Та, что именем и блеском… — Имя королевы — Маргарита — значит по-испански «жемчужина».
(обратно)20
Рядом с нею — солнце Австрии… — Подразумевается царствовавший в то время в Испании Филипп III (из австрийской династии Габсбургов); нежная Аврора — трехлетняя дочь Филиппа III, инфанта Анна; А за нею следом — светоч — то есть новорожденный Филипп IV.
(обратно)21
Тою ночью, о которой и земля и небо стонут — то есть в ночь на «страстную пятницу».
(обратно)22
Юпитер — имеется в виду герцог Лерма (1550—1625), всевластный фаворит и бесталанный министр Филиппа III.
(обратно)23
Ганимед (миф.) — прекрасный подросток, которого Зевс похитил с земли и сделал своим виночерпием. В строфах 3—16 особенно сильно сказывается стилистика «гонгоризма» (ср. соотв. прим. к новелле «Высокородная судомойка»), применяющего метод многопланных метафор и превращающего тем самым изложение в сплошную полосу «серьезных каламбуров». За невозможностью подробно комментировать стихотворение, не связанное с основным содержанием новеллы, отметим главные виды использованных поэтом метафор: а) метафоры «локальные» (ряд астрономо-династический): королева — небо или «сфера»; король — солнце; его дочь — аврора (заря); его сын — светоч и б) метафоры-олицетворения (ряд мифолого-астрономический): Сатурн, Фама («бог болтливый»), Купидон, Марс, Вевус (Венера), Ганимеды — соответственно обозначают: Старость, Глас народа, Любовь (Амур), Воинственную юность. Прекрасных дев, малюток-пажей (испанск. meninos) и т. д. При наличии общего обоим рядам «астрономического» элемента оба вида метафор имеют возможность скрещиваться между собою, чем достигается требуемая «гонгоризмом» затрудненность понимания и «ученая темнота» стиля.
(обратно)24
Перламутр Австрийский! — Метафора эта относится к королеве, происходившей, как и король, из австрийской династии Габсбургов.
(обратно)25
К храму Феникса святого — то есть к храму св. Лаврентия, погибшего мучительной смертью на раскаленной железной решетке.
(обратно)26
«Romancero general» — то есть «Генеральный сборник романсов» в девяти частях, огромный свод стихотворений XVI столетия, написанных романсной строфой.
(обратно)27
Ты зовешься Драгоценной. — Preciosa — по-испански значит «драгоценная», «прелестная».
(обратно)28
Бланка — старинная медная монета: грош, полушка.
(обратно)29
Чем властитель Альпухарры. — Властитель Альпухарры — вождь испанских мавров, организовавших при Филиппе II восстание в Альпухаррских горах (южная часть Сьерры Невады). Избранный королем под именем Абен-Умейя, он стал вести изнеженный и распущенный образ жизни, прославился своими любовными похождениями, воспетыми многочисленными испанскими поэтами, затем взят в плен и повешен (1568).
(обратно)30
Эстремадурские пастбища — поговорка, намекающая на мощное объединение крупных земельных собственников (la Mesta), экспортировавших шерсть за границу; владельцы пастбищ провинции Эстремадура, входившие в состав Месты, получали особенно крупные прибыли.
(обратно)31
…и готовилась принять плети… — Подсудимые, приговоренные к наказанию плетьми, ехали к месту казни верхом на осле, а глашатай в то же время выкрикивал народу, в чем состояло совершенное ими преступление.
(обратно)32
«Все дальше» (лат.) — девиз династии Габсбургов.
(обратно)33
«Двухголовый» дублон — старинный золотой эскудо с изображением голов «католической» королевской четы Фердинанда и Исабелы; эти монеты ценились из-за большого веса и значительного содержания золота.
(обратно)34
…мы все равно, что куртки гасконцев, попадающих в Бельмонте: хоть они и грязны и засалены, а набиты червонцами! — изречение, обязанное своим происхождением странствующим слесарям-французам, которые благодаря своему искусству и бережливости успевали заработать в один-два года десяток червонцев. Испании, постоянно воевавшей с Францией из-за преобладания в Европе, было выгодно раздувать в населении вражду к французам; поэтому кочующие слесари официально изображались гнусными хищниками, грабившими народные деньги. По сведениям современников Сервантеса, маркиз Вильена, владевший городом Бельмонте (провинция Куэнка), ввел у себя, даже особый обычай: отбирать под видом благотворительности у всех гасконцев (которые на обратном пути во Францию должны были проходить через его земли) старые куртки и взамен выдавать новые. Рассказывали, будто в этих старых и жалких рубищах были зашиты целые сокровища. Вопреки официальной версии, совершенно очевидно, что перед нами яркий пример безнаказанного феодального грабежа.
(обратно)35
Соберется ехать в Оньес, а приедет в Гамбоа. — Города провинции Бискайя, бывшие центрами двух враждебных феодальных партий, наводивших ужас на всю область. Названия этих городов сделались синонимами непримиримой вражды и несогласимых противоположностей.
(обратно)36
Разве ты сможешь, Андрес, выдержать «пытку с холстом»… — пытка, состоявшая в том, что в рот истязуемого вводилась узкая полоса холста, проталкивавшаяся в пищевод искусно направляемой струей воды; в заключение полоса холста с силой выдергивалась из горла. Прием этот повторялся несколько раз подряд.
(обратно)37
«Гарроте» — орудие пытки, особой формы короткая палка, вводимая в металлическую петлю на шее у истязуемого, для того чтобы последовательными поворотами вызвать мучительное удушье и даже смерть. Здесь изображается игрушечный гарроте.
(обратно)38
…а не «исповедниками» — то есть людьми, не выдерживающими истязаний и дающими вымогаемые у них показания.
(обратно)39
…справили свой «август»… — Август, месяц сбора винограда и других плодов, сделался синонимом роскоши, изобилия, большой удачи.
(обратно)40
Посо, Андрес — уроженец города Гранады, поэт, выступавший главным образом с официальными и «хвалебными» стихотворениями. Упомянут в поэме Сервантеса «Путешествие на Парнас».
(обратно)41
О жалостные развалины несчастной Никосии… — Город Никосия на о. Кипре, бывшем в те времена колонией венецианцев, завоеван и разрушен турками 9 сентября 1570 года.
(обратно)42
Ты знаешь, Рикардо, что мой господин — кади этого города (а это то же самое, что быть его епископом)… — Хотя действующие лица — итальянцы, но государственные и правовые представления у них чисто испанские. В силу сохранившихся феодальных порядков в Испании XVI—XVII веков большинство епископов было наделено в подведомственных им округах всей полнотой административной и судебной власти.
(обратно)43
Если бы Ахилл обладал твоим миролюбием… — намек на эпизод из легендарной биографии Ахилла: по повелению своей матери, оберегавшей его от рокового для него участия в Троянской войне, Ахилл, переодетый женщиной, жил на о. Скиросе, ведя изнеженную жизнь среди дочерей царя Ликодема. За ним был отправлен Одиссей, который успешно разоблачил героя, разложив перед девушками ворох нарядов и украшений, в который он спрятал доспехи и меч. Девушки набросились на наряды, а воинственный нрав Ахилла заставил его сразу же остановить свой выбор на оружии.
(обратно)44
Остров Пантаналея — очевидно, о. Пантеллерия между Сицилией и Тунисом.
(обратно)45
…с «алькайдом усопших»… — Алькайд (буквально: «комендант») усопших — государственный чиновник, в обязанности которого входило брать на учет и в случае нужды конфисковать имущество скоропостижно умиравших иностранцев.
(обратно)46
Да здравствует Сулейман… — В данном месте Сервантес называет правителем Турции султана Солимана Великого (1520—1566), его сына, Селима II Пьяницу (1566—1574), фактически занимавшего турецкий престол в описываемое Сервантесом время.
(обратно)47
Альгуасил — полицейский офицер.
(обратно)48
…тому первому юноше — то есть Корнелио.
(обратно)49
Мавританка приняла рабыню… — Мавры — у Сервантеса и у современных ему авторов — термин, служивший для обозначения мусульманских народов Ближнего Востока (в данном случае турок).
(обратно)50
Фуэнфрида — в XVI—XVII столетиях поселок с постоялым двором в трех милях от Сеговии, лежавшей на пути к старинным летним резиденциям королей Гальсаину и Сан-Ильдефонсо (Ла Гранха).
(обратно)51
…человек тридцать попали к заплечным, да еще около шестидесяти двух сели на плавучие доски. — Заплечные мастера — палачи; плавучие доски — галеры, где преступники отбывали каторжные работы.
(обратно)52
…чтобы вы, Ринкон, назывались Ринконете, а вы, Кортадо, — Кортадильо… — Имена, предлагаемые Мониподьо, являются уменьшительными от Ринкон и Кортадо. «Ринкон» и «Кортадо» — не настоящие имена, а воровские клички, из которых первая указывает на укромные и удобные уголки, в которых шулера обрабатывают своих клиентов, а вторая — на специалиста по срезанию кошельков. Все имена членов преступного братства представляют собою такого же рода клички.
(обратно)53
…особую влепту… — Мониподьо по невежеству перевирает слова и вместо «лепта», «чистилище», «тризна», «помпой и аппаратом» говорит «влепта», «чистильщик», «дрызна», «попом и братом» и т. д.
(обратно)54
…наши старательницы… когда нас назначают в казенный дом или в плавание. — «Старательницы» — проститутки; «казенный дом» — тюрьма; «плавание» — галеры, каторга.
(обратно)55
…в науке Вилана — то есть в карточной игре. Вилан, или Вильян, — исторически недостоверный персонаж, считавшийся в Испании XVI века изобретателем игральных карт.
(обратно)56
«Некрещеный турок» — вино.
(обратно)57
…бросившему со стен Тарифы нож для убиения своего единственного сына. — Тарифа — крепость у Гибралтарского пролива, героически защищавшаяся военачальником А. Перес де Гусманом в 1284 году. За этот подвиг он получил прозвание «Примерного».
(обратно)58
…причем кличка Маниферро… — Исп. mano — буквально «рука», ferro (старинная форма вместо современного hierro) — буквально «железо».
(обратно)59
…приласкать его огромного кота… — Кошельки в просторечии назывались «котами», потому что они часто выделывались из кошачьих шкурок.
(обратно)60
…гандульского хлеба. — Гандуль — предместье Севильи, где выпекался хлеб особо высокого качества.
(обратно)61
без конца (лат.)
(обратно)62
…этого тарпейского нырка, этого оканьского тигра! — Кариарта перевирает слова популярного романса, в котором изображался Нерон, смотрящий с Тарпейской скалы на пожар Рима: вместо «тарпейского Нерона» она говорит о «нырке».
(обратно)63
Смирись, смиримся оба, и нечего нам кормить обедами дьявола! — Реполидо слегка переделывает поговорку, гласящую: «Ссоры — лучшая снедь для дьявола».
(обратно)64
…не покорюсь целому полчищу швейцарцев. — Реполидо имеет в виду швейцарских наемников, из которых формировали свою личную охрану почти все европейские правители эпохи Возрождения.
(обратно)65
…Иуде Макарелу… — искажение имени иудейского военачальника Иуды Маккавея (II в. до н. э.), победоносно сражавшегося против римлян.
(обратно)66
…ни Негрофей, который вывел из ада Араус, ни Марион… — искажения имен мифических персонажей: Орфея, Евридики и Ариона.
(обратно)67
…музыкант, который основал город в сто ворот… — намек на Амфиона (греч. миф.), который своею игрою на лире привел в движение камни, сами собою сложившиеся в стены «стовратного» города Фив.
(обратно)68
…в городе Кадисе… — Речь идет о рейде соединенного англо-голландского флота в Кадис, где в это время (в 1596 году) производились приготовления к посылке десанта в Ирландию Уничтожив все военные силы и запасы, англичане ограбили город на 20 миллионов дукатов.
(обратно)69
…графа Лейстера… — Ответственным руководителем рейда с английской стороны был граф Эссекс, но имя графа Лейстера было особенно известно в Испании, так как он систематически поддерживал и инспирировал многочисленные налеты на Испанию знаменитого корсара Дрейка.
(обратно)70
…а великою радостью следует считать всякое горе… — Под горем Исабела подразумевала свое полурабское официальное положение в Англии.
(обратно)71
Лараче — река в северо-западной Африке, впадающая в Атлантический океан.
(обратно)72
Великий исповедник — кардинал, возглавлявший исповедный трибунал в Риме.
(обратно)73
…письменно изложить эту историю, для того, чтобы ее мог прочесть владыка архиепископ… — В Севилье действительно проживал епископ (Ф. Ниньо де Гевара), проявлявший живой интерес к занимательным литературным новинкам.
(обратно)74
Тормес — река, на которой стоит г. Саламанка.
(обратно)75
Acconcia, patron… — фраза на ломаном итальянско-испанском языке, имеющая смысл: «Эй, хозяин, поди сюда, разбойник! Подать битки, цыплят и макароны».
(обратно)76
Вырядился Томас попугаем… — По общепринятому обычаю солдаты в Испании одевались в платье ярких цветов. Томас старался походить на военного.
(обратно)77
Гарсиласо де ла Вега (1503—1536) — знаменитый лирический поэт, высший образец в глазах Сервантеса.
(обратно)78
Фальдрикера — кожаный карман, подвешивавшийся к поясу.
(обратно)79
…Целийский, Квиринский, Ватиканский с четырьмя остальными. — Семь главных холмов Рима называются: Капитолий, Палатин, Авентин, Эскивилин, Целлий, Виминал и Квиринал. Ватиканский холм был одним из пяти «малых» холмов (Ватикан, Яникул, Пинций, Циторий и Иордан).
(обратно)80
Vademecum (лат.) — школьная записная тетрадь. Слово это на студенческом жаргоне эпохи значило также «школяр», «студент».
(обратно)81
…в толедском мембрильо… — разновидность айвы; пастила из плодов этого растения особенно удачно изготовлялась в г. Толедо.
(обратно)82
«Filiae Hierusalem, plorate super vos el super filios vestros» — цитата из евангелия (Лука, XXIII, 28), имеющая смысл: «Дочери иерусалимские, плачьте о себе и о детях ваших».
(обратно)83
Видриера (от исп. vidriera — буквально: «оконница»; оконная рама со стеклами) — кличка, близкая к русскому «окно», «стекло», но имеющая особый непереводимый смысл, поскольку она одновременно значит «недотрога» (hombre vidrioso).
(обратно)84
…«старинным христианством»… — «Старинными христианами» назывались граждане, обладавшие официальным удостоверением в том, что в их роде не было браков с лицами мавританского или еврейского происхождения.
(обратно)85
Прибытие в Вальядолид… — В описываемую эпоху Вальядолид был столицей Испании и резиденцией королевского двора.
(обратно)86
Cura ducum fuerunt… — цитата из «Искусства любви» (III, 405—408) римского поэта Овидия Назона: «Древле богов и царей любимцами были поэты; Много стяжали наград хоры минувших времен. Свято было величием и почитаемо всеми Имя певцов: и текли щедрые часто дары».
(обратно)87
Est deus in nobis… — цитата из поэмы «Фасты» (IV, 5), того же поэта: «Бог обитает в нас; мы, движимы им, пламенеем».
(обратно)88
At sacri vates… — цитата из поэмы «Любовные муки» (III, 9) того же поэта: «Но священны певцы, и любимцами вышних зовемся».
(обратно)89
…носильщик ручных возков… — Ручной возок — вделанное в носилки закрытое кресло, которое тащили на себе носильщики.
(обратно)90
«Honora medicum… non abhorrebit illam» — цитата из «Экклезиаста» (XXXVIII, 1—4), имеющая следующий смысл: «Врача приходится почитать поневоле, ибо его создал всевышний. — Всякое врачевание от бога, и от царя принесутся ему (врачу) дары. — Наука окружит почетом главу его, и удостоится он хвалы от сильных. — Всевышний из земли сотворил врачевания, и муж праведный не презрит их».
(обратно)91
Sumat diluculo — латинское выражение; буквально: «принимать утром».
(обратно)92
Тантал — фригийский царь (по другим источникам — коринфский, лидийский), любимец богов, часто разделявший с ними трапезу. За оскорбление богов осужден вечно стоять в Аиде в воде, достигающей ему до подбородка. Над его головой — спелые плоды. Но едва он поднимает руку, чтобы их сорвать, как ветвь ускользает вверх; едва он опустит голову, чтобы напиться, как уровень воды опускается.
(обратно)93
…ибо «nemo novit patrern, nemo sine crimine vivit, nemo sua sorte contentus, nemo ascendit in coelum» — латинская фраза с забавной игрой слов, пользовавшаяся большой популярностью у интеллигенции эпохи Возрождения. Nemo (лат., буквально: «никто») в шутку рассматривали как собственное имя. Тогда предложение «Никто не знает своего отца, никто не свободен от греха, никто не доволен своей судьбой, никто не попадет на небо» получает обратный смысл: «Немо знает своего отца, Немо свободен от греха» и т. д.
(обратно)94
«Роr istas barbas que tenho no rostro» — португальская фраза «Клянусь бородой, которую я имею на лице».
(обратно)95
«Olhay, homem…» — португальская фраза: «Увы, человече, тебе следовало бы сказать: „не бородой, которую я имею, а бородой, которую я крашу“.
(обратно)96
Permafoy — старинное французское восклицание (par ma foi — честное слово!), которым щеголяли люди с претензией на светский лоск, главным образом придворные.
(обратно)97
In manu dei potestas hominis est, et super faciem scribae imponet honorem — латинская цитата из «Экклезиаста» (IX, 5), имеющая смысл: «Власть человека в руке божией, и на главу писца возложил он (бог) почет».
(обратно)98
«Nolite tangere christos meos» — латинская цитата из библии («Паралипоменон», I; XVI, 22), имеющая смысл: «Не подымайте руку на моих помазанников (служителей)».
(обратно)99
Аранхуэс — летняя резиденция испанского двора близ Мадрида.
(обратно)100
…закрыв свои лица… — чтобы не быть узнанными и избавить себя от опасности судебного преследования.
(обратно)101
«Ecco li buoni pollastri, piccioni, presciutio e salciccie» — итальянская фраза, имеющая смысл: «Есть хорошие цыплята, голуби, колбасы и солонина».
(обратно)102
…и не отвечает своему второму назначению — то есть рождению детей.
(обратно)103
…без соблюдения справедливых и святых мер, принятых в наше время — то есть еще до Тридентского собора (1515—1563), принявшего строгие меры против облегченных и мошеннических браков.
(обратно)104
«Сиертос» (исп. ciertos — буквально: «надежные», «верные») — жаргонное выражение, обозначающее «мошенник, играющий в карты наверняка», «шулер».
(обратно)105
Тьеррафирме (исп. Tierrafirme — буквально: «твердая суша») — город и гавань в бывшей испанской колонии Перу (Южная Америка).
(обратно)106
«Печатные» песо (исп. el peso) — слитки серебра с проставленной на них пробой, имевшие хождение наравне с чеканной монетой.
(обратно)107
«Вертушка» (исп. el torno) — вращающийся на вертикальной оси ящик с полками, устанавливавшийся обычно в монастырях для того, чтобы при получении припасов и т. п. монахи и монахини не вступали в непосредственное общение с посторонними.
(обратно)108
«Веинтикуатро» (исп. veinticuatro — буквально: «двадцать четыре») — один из двадцати четырех выборных членов городского совета, на которых возлагались ответственные хозяйственные и финансовые обязанности.
(обратно)109
…я ведь знаю все песни… — Негр считает новыми давным-давно известные песни: «Звездочка Венеры» — сочинена знаменитым поэтом и Драматургом Лопе де Вега (1562—1635); «На лужок зеленый» — старинная народная песня; «Ухватясь шальной рукою» — так называемый «мавританский» романс из «Romancero de Barcelona».
(обратно)110
«Pèsame dello» (исп.) — «Прискорбье» — название танца, данное по первой строке песни, под которую он исполнялся.
(обратно)111
Имя Авессалома, младшего сына библейского царя Давида, являлось для эпохи синонимом слова «красавец».
(обратно)112
Таба (исп. taba) — игра в бабки; рентой (исп. rentoy) — карточная игра вроде русской «стуколки»: преса-и-пинта (исп. presa у pinta) — азартная игра в банк, в которой участвуют 20—30 человек.
(обратно)113
Пикаро (исп. picaro) — бродяга, плут, паразит. Целые полчища пикаро, бродившие по Испании, наглядно свидетельствовали о хронической безработице, на которую были обречены разоренные крестьяне, потянувшиеся в города, не имевшие в те времена сколько-нибудь развитой промышленности.
(обратно)114
Саáра (исп. Zahara) — название одного из рыбных промыслов XVI века, расположенных на побережье города Вехер (округ Кадиса).
(обратно)115
Аргальский ключ (la fuente de Argales) находился в окрестностях г. Вальядолида (с 1600 по 1605 г. — столица Испании); Каньо Дорадо, Приора, Леганитос, Кастельяна — источники питьевой воды в Мадриде; Корпа и Писсара — в провинции Ламанча. Это были первые опыты водопроводов, обращавшие на себя внимание современников как крупные технические и культурные новшества.
(обратно)116
Ворота Поединка в эту эпоху были главным проездом в г. Вальядолид; в 1603—1606 годах Сервантес жил в этом районе города.
(обратно)117
Граф Пуньонростро был наместником Севильи в 1597 году и прославился своими жестокими мероприятиями против дезертиров. Бандит Алонсо Хенис — исторически засвидетельствованное лицо.
(обратно)118
…неприступна, как сайягезская крестьянка… — Крестьяне области Сайяго (округ Саморы), по общему мнению, отличались особенною строгостью нравов.
(обратно)119
Гостиница Севильянка. — По преданию, сохранившемуся в г. Толедо, на этом постоялом дворе, существующем в подновленном виде и в наши дни, обычно останавливался Сервантес.
(обратно)120
Часовня богоматери находится в знаменитом своими художественными богатствами соборе г. Толедо; «Механика» Хуанело — одна из первых в Испании подъемных машин для вод реки Тахо; гулянье святого Августина — тенистый бульвар на берегу Тахо, ныне уже не существующий; Королевский огород — большой, образцово содержавшийся парк; Вега — плодородная, искусно возделанная равнина. Три последние пункта являются достопримечательностями потому, что в выжженной солнцем и плохо орошенной центральной Испании богатая растительностью местность представляла большую редкость.
(обратно)121
Тунцеловля Саарская — потешное имя, составленное по образцу величаний, дававшихся героям и героиням в испанских рыцарских романах XVI века.
(обратно)122
Чудища святого Антония. — Речь идет о гротескно-уродливых изображениях фантастических животных, которыми, по установившейся в церковной живописи традиции, иллюстрировались галлюцинации Антония, пустынника, жившего в Фиваиде.
(обратно)123
Вигуэла (исп. vihuela) — распространенный в это время струнный инструмент, близкий к лютне.
(обратно)124
Селемин (исп. el celemin) — мера сыпучих тел вместимостью в 4,6 литра.
(обратно)125
Под носатым поэтом разумеется Овидий Назон (43 г. до н.э. — 16 г. н.э.).
(обратно)126
…подлинный еретик. — Лопе намекает на то, что такого рода восторженные славословия уместны только при обращении к божественным «персонажам», а поэтому Томас, очевидно, возводит Костансу в ранг божества, то есть впадает в ересь.
(обратно)127
Порция (римская матрона, жена республиканца Брута, убившего Юлия Цезаря), Минерва (римская богиня-девственница, покровительница наук), Пенелопа (действующее лицо в поэме Гомера «Одиссея», непреклонно верная жена Одиссея) названы здесь как образцы целомудренных и добродетельных женщин.
(обратно)128
…немало «прикрытых» мужчин — то есть лиц знатного происхождения, из кастовых предрассудков не желавших открыто смешиваться с толпой и потому демонстративно прикрывавших свои лица плащом для того, чтобы остаться неузнанными. Позже (в XVIII веке) для этих же целей стала употребляться маска.
(обратно)129
Испанскому Баррабас (Barrabás) соответствует русская форма того же имени: Варавва; по евангельской легенде, так назывался разбойник, приговоренный к распятию одновременно с Христом; в ортодоксальном церковном истолковании имя столь же презренное, как «христопродавец» Иуда.
(обратно)130
«Мавританка» (исп. La perra mora) и «Прискорбье» (исп. Pésame) — названия популярных плясовых песен.
(обратно)131
Ароба (исп. Aroba) — мужское имя, служившее для обозначения пугала или страшилища.
(обратно)132
«Самбопало» (исп. zambopalo) — название танца.
(обратно)133
Где ты, что тебя не видно… — Это стихотворение является пародией на так называемый «культизм», то есть на «культурную поэзию», созданную декадентской прослойкой дворянства, активно боровшейся с реалистическими установками в литературе. Сервантес осмеивает в «культизме» его сознательно затрудненный стиль, широко пользующийся латинизированными синтаксисом и лексикой, гуманистическими научными терминами и вычурным аппаратом мифологических намеков, — приемы, делавшие произведение непонятным для «непосвященных». Стихотворение в точности следует школьному изложению еще не упраздненной в эпоху Сервантеса Птолемеевой системы мироздания.
(обратно)134
Эта сфера… — Смысл этих слов возвращает читателя к первой строфе, где Костанса названа «Сферой граций недоступных».
(обратно)135
…собратья летучих мышей и сов. — Музыканты сравниваются с ночными птицами потому, что, согласно распространенному обычаю, они неизменно выступали в качестве исполнителей серенад, дававшихся или ночью, или на рассвете.
(обратно)136
Ссылка на действующее лицо рыцарского романа «Амадис Галльский» (кн. 1, гл. 8), где датской земли девица является посредницей в любви Амадиса и Орианы.
(обратно)137
Ртуть, влитая в уши — одна из мошеннических уловок барышников и конокрадов.
(обратно)138
«Agnus dei» (буквально: агнец господень) — восковая табличка с изображением ягненка (символ Христа).
(обратно)139
Брадаманта и Марфиза — имена дев-воительниц, воспетых в «Неистовом Роланде» Ариосто; первая из них была страстно влюблена в одного из героев поэмы, Руджиеро. Ревность привела Брадаманту к поединку со своей мнимой соперницей Марфизой (песни XXXII и XXXIV); их схватка была прервана Руджиеро. Ссылкой на этих воительниц Сервантес подчеркивает мужественный характер выступления героинь своей новеллы. Ипполита и Пентесилея — имена легендарных дев-воительниц («амазонок»); первая из них изображалась царицей амазонок в Скифии, вторая — участницей Троянской войны.
(обратно)140
…рода… владевшего Болоньей. — В течение XV и первой половины XVI столетия семейство Бентивольо обладало верховною властью в Болонье.
(обратно)141
Альфонса де Эсте, герцог Феррары, Модены и Реджио, умер в 1597 году.
(обратно)142
Кривелли — аристократическая семья из Милана, представители которой были видными сановниками церкви; к этой же семье принадлежал папа Урбан III.
(обратно)143
Баски — жители пиренейских областей Испании — в эпоху Сервантеса пользовались славой безукоризненно честных и благородных людей; галисийцы — обитатели провинции Галисии, пограничной с Португалией, — имели репутацию продажных и жадных.
(обратно)144
Вальядолид в те годы, когда автор писал эту новеллу, был столицей Испании; Сервантес жил одно время в указанной здесь части города.
(обратно)145
Олья, так называемая «олья подрида» — испанское национальное блюдо.
(обратно)146
Ангельская вода — ароматическая вода, также слабительное.
(обратно)147
…один звался Сипион, а другой — Берганса. — Сипион — испанская форма латинского имени Сципион (scipio — буквально: посох, опора), Берганса — слово, производное от исп. bergante — пройдоха, плут. Имена эти имеют, таким образом, конкретное значение, уясняющее характеры обеих собак: Сипион — положительный и степенный пес; Берганса — искатель приключений и непоседа.
(обратно)148
Марикастанья (ж. р.) — условный персонаж, соответствующий русскому царю Гороху (ср. «во времена Гороха»).
(обратно)149
…у кого не было бы на площади св. Франциска своего ангела-хранителя… — На площади св. Франциска в Севилье находилась городская дума, среди чиновников которой значились так называемые «неподкупные исполнители», следившие за тем, чтобы цены рыночных торговцев в точности соответствовали правительственной таксе. Этих-то чиновников и умасливали взятками мясники.
(обратно)150
…тремя вещами следовало бы… овладеть… — Речь идет о трех крупных рынках Севильи: Охотная улица (дичь и птица), Костанилья (свежая рыба) и Бойни (мясо). Поскольку правительственная такса на продукты разоряла беднейшие слои торговцев (особенно рыбаков), фактические рыночные цены были обыкновенно гораздо выше официальных расценок. На притеснения властей торговцы отвечали энергичными мерами, переходившими сплошь и рядом в открытое неповиновение и бунт. На это положение вещей и намекает фраза Сервантеса.
(обратно)151
«Воздержаться от сатиры — дело трудное» — намек на стих римского сатирика Ювенала (Sat., I, 30).
(обратно)152
Анфрисо и Белисарда — герой и героиня пасторального романа Лопе де Вега «Аркадия».
(обратно)153
Элисьо — герой пасторального романа Сервантеса «Галатея». Главным действующим лицом романа Луиса Гáльвеса де Монтáльво «Пастух Филиды» (1582) является Сиральво, описавший свою возлюбленную в серии октав, которые считались классическим образцом сентиментального «портрета». В Сиральво автор романа изобразил самого себя.
(обратно)154
Сирена и Диана — герой и героиня знаменитого в XVI—XVII веках пасторального романа Хорхе де Монтемайора «Диака» (1558—1559). — Волшебница Фелисья — одно из действующих лиц того же романа.
(обратно)155
Поэту Маупéону, известному в литературных кругах своей эпохи необразованностью, охотно приписывали всякого рода классические образцы невежества. В тексте приводится пример искажения слов латинского символа веры, где он разоблачает богомольных старух, бессмысленно повторяющих слова латинских молитв.
(обратно)156
Академия подражателей — литературный кружок, созданный в 1586 году в Мадриде по образцу итальянских организаций того же рода группой образованных представителей дворянства.
(обратно)157
«Общество Иисуса» — название ордена иезуитов (утв. в 1540 году). В целях упрочения и углубления влияния католицизма иезуиты создали в Европе ряд светских школ для детей дворян и крупной буржуазии.
(обратно)158
Нагрудный знак. — Речь идет о нашитом на одежду знаке креста, который носили только члены рыцарских орденов.
(обратно)159
Антоньо — школьное название «Грамматики испанского языка», составленной в 1492 году знаменитым испанским филологом Антоньо де Небриха (1441—1522).
(обратно)160
…называется не «хвост», а совсем иначе. — Степенный Сипион сознательно не употребляет в данном случае испанского слова el rabo (хвост, зад) и пользуется словом la cola, которое не имеет другого значения, кроме «хвост».
(обратно)161
…сусальным золотом своих рваных штанов… — Рваная и неопрятная одежда считалась неотъемлемым признаком ученого, вследствие чего многие шарлатаны, желая сойти в глазах несведущей публики за людей ученых, старались подражать их внешней неопрятности.
(обратно)162
…португальцы, надувающие негров в Гвинее! — Речь идет о мошеннических проделках португальских работорговцев (португ. tangamaos), заманивавших разными безделушками доверчивых негров Гвинеи на свои корабли и затем увозивших их в неволю.
(обратно)163
Туриец Хоронд. — Рассказ этот сообщается латинским писателем Валерием Максимом (I в. н. э.).
(обратно)164
«У него на языке — бык» (лат. поговорка)
(обратно)165
Вследствие того, что многие судебные акты, писанные по-латыни, начинались фразой «ad perpetuam rei memoriam» (то есть «дабы навсегда сохранить это дело в памяти»), широкие круги населения стали рассматривать эту фразу как неотъемлемую принадлежность всякого правительственного документа. В так называемой «дворянской грамоте» эта фраза обычно не ставилась. Отсюда комический эффект слов хозяйки, перевирающей к тому же эту канцелярскую формулу.
(обратно)166
Тупей — взбитый на голове хохолок, иногда завитой и напомаженный.
(обратно)167
Лиценциат Сармьенто де Вальядарес — историческое лицо, исполнявшее обязанности наместника Севильи в 1589 году.
(обратно)168
Саусéда — обширная пустошь, покрытая непроходимыми зарослями, расположенная в Сьерра Ронда (в 100 километрах от Гибралтара), где около 1580 года обосновалась шайка грабителей под командой некоего Роке Амадора. Разбойники были усмирены мероприятиями Вальядареса.
(обратно)169
Триана — юго-западная окраина Севильи.
(обратно)170
Сейян — министр римского императора Тиберия, казненный за подготовку восстания в 31 г. н.э. По преданию, сохраненному у Авла Геллия (II в. н.э.), конь Сейяна приносил смерть всем своим владельцам.
(обратно)171
Маркиз де Приего (1563—1606) — реальное историческое лицо. Ссылка на него дает основание думать, что содержащая его имя часть новеллы была написана до 1606 года.
(обратно)172
Эскивьяс, Сьюдад Реаль и т. д. — названия испанских городов, являющиеся вместе с тем популярными марками вин, которые там изготовлялись.
(обратно)173
…одну только прихоть: быть ведьмой… — Сервантес, пользующийся в данном эпизоде материалами, накопленными инквизицией, повторяет характерные различения, практиковавшиеся при процессах над ведьмами: в то время как колдуньи, по утверждению инквизиторов, практикуют магию, ведьмы преследуют главным образом цели личного самоуслаждения, ища запрещенных религией утех и удовольствий.
(обратно)174
…в одной пиренейской долине… — Припиренейские области (особенно Наварра) считались в Испании классическим местом так называемых «шабашей ведьм».
(обратно)175
…смерть застанет ее в такой… жизни. — Согласно католическому вероучению, убить человека в состоянии греха значило наверняка отправить его в ад. Пес Берганса выказывает себя, таким образом, безупречным христианином и отечески заботится о «спасении души» старухи.
(обратно)176
Экзорцизмы — церковные формулы заклятия бесов.
(обратно)177
…надежное и верное средство. — Сервантес, несомненно, имеет в виду применение того «сильного средства» (то есть насильственного изгнания из Испании), к которому правительство прибегло в 1609 году и которое еще только намечалось в эпоху, когда создавалась новелла.
(обратно)178
«Букет Дарахи» — несохранившаяся комедия с восточной тематикой, характерной для второй половины XVI века.
(обратно)179
…появление поэта из здания… монастыря… — Монастыри в эту эпоху глубокого обнищания народных масс брали на себя обязанность выдавать нуждающимся свой «знаменитый» суп.
(обратно)180
…пройдет десять лет… — Сервантес имеет в виду конец 338-го стиха «Поэтики» Горация: «nonumque prematur in annum»; буквально: «и пусть выходит в свет на девятом году».
(обратно)181
«Поиски святого Бриаля». — Заглавие поэмы (исп. Бриаль-Граль) указывает на давно устаревшую в эпоху Сервантеса тематику средневековых рыцарских романов «круглого стола» (цикл короля Артура). Естественно, что на такое произведение не могло быть спроса в начале XVII века даже в среде дворянских меценатов.
(обратно)182
Мидас (греч. миф.) — царь, получивший от бога вина Вакха дар обращать в золото любой предмет, к которому он прикоснется; — Красе — римский полководец и триумвир (ум. в 53 г. до н.э.), поборами и грабежами наживший колоссальное состояние; — Крез — лидийский царь, прославившийся своими легендарными богатствами (ум. в 546 г. до н. э.).
(обратно)183
Неподвижная точка — старинный научный термин для обозначения географической долготы, которую в эпоху Сервантеса еще не умели определять, а поэтому считали ее нахождение неразрешимой проблемой.
(обратно)184
…не опасаясь последствий гласности… — Преждевременное оглашение проекта могло бы привести к использованию его посторонними лицами.
(обратно)185
Кортесы — сословный представительный орган феодальной Испании. Их расцвет падает на XIII—XIV века. В эпоху Сервантеса кортесы — послушное орудие абсолютизма; они регистрировали финансовые и административные мероприятия правительства.
(обратно)186
Эсполон — место публичных гуляний, бульвар в Вальядолиде.
(обратно)187
Бáртуло (Бартоло) (1314—1357) — знаменитый итальянский законовед XIV века, сочинения которого служили учебниками в университетах эпохи Возрождения. — П. Бальдо (ум. в 1400 г.) — итальянский юрист, ученик Бартоло; изучение его трудов было обязательно для студентов.
(обратно)188
Эсперанса — буквально: надежда.
(обратно)189
«Гамбетас» и «эстурдьон» — названия старинных плясовых песен.
(обратно)190
Перуанец — то есть испанец, побывавший в Перу (Южная Америка), откуда, по общему мнению, все возвращались богатыми.
(обратно)191
Quod magis est — латинское выражение, обозначающее: «что еще важнее».
(обратно)192
Сеча вокруг вражеской ставки — выражение, заимствованное из старинных романсов с военной тематикой.
(обратно)
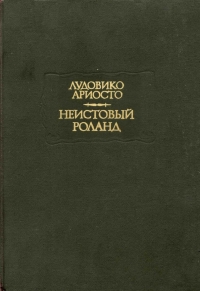


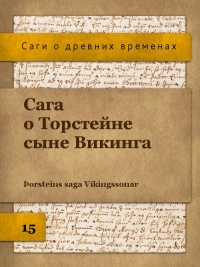

Комментарии к книге «Назидательные новеллы», Мигель де Сервантес Сааведра
Всего 0 комментариев