Повесть о втором советнике Хамамацу (Хамамацу-тюнагон моногатари). Дворец в Мацура (Мацура-мия моногатари)
(пер. В. И. Сисаури)
М. Наталис. 2010
ПРЕДИСЛОВИЕ
1
Среди разнообразных жанров японской классической литературы особое место занимают «повествования» (моногатари) большого объема, которые можно уподобить европейскому роману. Они создавались во второй половине эпохи Хэйан (794-1185). Это крупные произведения (некоторые из них в современных изданиях занимают несколько томов) из жизни современного общества, с многочисленными персонажами и развитым сюжетом, психологический анализ в которых часто достаточно глубок. В настоящем издании представлены два романа: Повесть о втором советнике Хамамацу («Хамамацу-тюнагон моногатари», вторая половина XI века), создание которого приписывается дочери Сугавара Такасуэ, и Дворец в Мацура («Мацура-мия моногатари»), написанный знаменитым поэтом и исследователем старинной литературы Фудзивара Тэйка (1162-1241).
В дошедших до нашего времени списках Повесть о втором советнике Хамамацу иногда именуется как Повесть о Хамамацу («Хамамацу моногатари») или Повесть о господине втором советнике Хамамацу («Хамамацу-тюнагон до-но моногатари»). Названия незначительно варьируются между собой, все они указывают на героя произведения, и Хамамацу (хамамацу — «сосны на взморье») должно быть его прозвищем. Однако в тексте герой этим именем не называется и везде обозначается как второй советник (тюнагон). В начале эпохи Камакура повесть имела другое название — «Мицу-но хамамацу» (Сосны в бухте Нанива)[1]. Оно взято из стихотворения героя произведения из первой части; прибывший в Китай Тюнагон, увидев во сне свою возлюбленную Ооикими, сочиняет:
«Увидел во сне:
В стране, где солнца восход, В сумерки Сосны на взморье С любовью меня вспоминают»[2].В этом стихотворении под «соснами на взморье» имеется в виду Ооикими.
Стечением времени первоначальное название повести соединилось каким-то образом с указанием на должность героя, в результате чего возникло ее современное название.
Произведение издавна приписывается дочери Сугавара Така-суэ, автору Дневника из Сарасина («Сарасина никки»). Она родилась в 1008 г. Отец ее был потомком в пятом колене знаменитого Сугавара Митидзанэ (843-905), поэта, писавшего на китайском языке, ученого-конфуцианца, бывшего правым министром и подвергшегося опале. Семья Сугавара славилась своей ученостью. Сам Такасуэ блистательной карьеры не сделал, хотя и был правителем провинций Кадзуса и Хитати. Мать автора Дневника из Сарасина приходилась единокровной сестрой автору Дневника эфемерной жизни («Кагэро никки»), а вторая жена Такасуэ была поэтессой. Последняя в 1017 г. уехала вместе с мужем в Кадзуса, а по возвращении в столицу с мужем рассталась; впоследствии она поступила на службу к императрице Иси, супруге императора Гоитидзё (1016-1036), и была известна под прозвищем Кадзуса-но тайю (или тайфу). Одно ее стихотворение включено в антологию Последующее собрание японских песен, не вошедших в прежние антологии («Госюи вакасю», № 959). По-видимому, именно она пробудила в падчерице страсть к литературе. В глухой провинции маленькая девочка слушала, как вторая жена Такасуэ и его старшая дочь, коротая время, рассказывали друг другу различные повести, в частности эпизоды из знаменитой Повести о Гэндзи («Гэн-дзи моногатари»). Это произведение привело ее в восторг. Восхищение возросло после возвращения в столицу, когда в ее руки попала глава «Юная Мурасаки», а затем полный текст произведения.
В тридцать один год дочь Такасуэ поступила на службу в свиту принцессы Юси, дочери императора Госудзаку (годы правления 1009-1045), но служила недолго; в 1040 г. вышла замуж за Татибана Тосимити, и у них родилось двое детей. Муж ее умер в 1058 г. Приблизительно два года спустя, в возрасте пятидесяти трех лет, она создала Дневник из Сарасина, знаменитое произведение хэйанской литературы, в котором рассказала о различных эпизодах своей жизни с детских лет до периода создания дневника. Ее дальнейшая жизнь и год ее смерти остаются неизвестными.
Основанием для приписывания ей Повести о Хамамацу является примечание, которое сделал Фудзивара Тэйка в переписанном им самим Дневнике из Сарасина.
«Это дневник дочери Сугавара Такасуэ, правителя провинции Хитати. Ее мать — дочь придворного Фудзивара Томоясу, таким образом дочь Сугавара является племянницей господина Фу[3]. Автором этого дневника созданы Проснувшись ночью ("Ёва-но нэдзамэ"), Сосны в бухте Нанива, Сам раскаивается ("Мидзукара куюру") и Асакура ("Асакура")»[4].
Неизвестно, написал ли сам Тэйка это примечание или скопировал его из переписанного им оригинала. Так или иначе, он, по всей вероятности, был убежден в истинности сообщаемой информации. Два стихотворения из Повести о Хамамацу с указанием, что они сочинены дочерью Такасуэ, помещены в антологии Продолжение собрания старых и новых японских песен («Сёку кокин вакасю»), составленной в 1259 г. по повелению императора Госага (время правления 1242—1246). Однако это не может считаться дополнительным доводом в пользу авторства повести, так как одним из составителей антологии был Фудзивара Тамэиэ, сын Тэйка, и вполне возможно, что, приписывая стихотворения дочери Такасуэ, он опирался на авторитет отца.
Литературоведы считают, что Проснувшись ночью и Повесть о советнике Хамамацу не могли быть написаны одним автором, и склонны приписывать дочери Такасуэ только последнее произведение[5]. Основанием для этого является глубокая вера автора в сны и в концепцию перерождения, которая прослеживается и в Дневнике из Сарасина и в Повести о советнике Хамамацу. На идее перерождения основана завязка романа. Тюнагон узнал, что его отец возродился в облике Третьего принца, сына китайского императора, и пустился в плавание. В Китае он полюбил мать принца, императрицу, которая была наполовину японкой. У них родился сын, которого Тюнагон взял с собой на родину. После возвращения в Японию герой отыскал мать и единоутробную сестру императрицы Любовь Тюнагона к императрице, сложные отношения с ее сестрой, а также со своей сводной сестрой, Ооикими, составляют содержание произведения. В конце его Тюнагон узнал о смерти императрицы, а кроме того, она явилась ему во сне и сообщила, что, движимая любовью к нему, отказалась от возрождения в Чистой земле (раю Будды Амитабха) и воплотится в облике дочери ее сводной сестры, чтобы быть близ него.
Время написания Повести о советнике Хамамацу неизвестно. В Дневнике из Сарасина ничего не говорится о ее создании, равно как и других повестей, поэтому естественно думать, что произведение было написано после Дневника. Но против подобного предположения высказывается Усуда Дзингоро. В конце Дневника сказано: «Если бы я с давних пор не отдавалась всей душой одним только вздорным повестям и стихотворениям, а днем и ночью сосредоточенно выполняла обряды, мне бы не суждено было испытать сейчас, как преходящ этот мир, подобный сновидению»[6]. На основании этого Усуда Дзингоро считает маловероятным, что после обращения к буддизму дочь Такасуэ стала бы сочинять «вздорные» повести[7]. Таким образом, нельзя безоговорочно приписывать авторство Повести о Хамамацу дочери Такасуэ.
Накано Коити считает, что для создания произведения о путешествии в Китай надо было обладать мужской начитанностью и знанием предмета; поэтому, по его мнению, Повесть о Хамамацу была создана мужчиной[8].
В настоящее время текст романа представляет собой пять свитков. Последний из них был обнаружен в 1930 году, а в следующем — еще один список того же свитка. По-прежнему недостает начала произведения, но сохранилось несколько стихотворений из этой части, и ее содержание довольно подробно восстанавливается по различным источникам.
Некоторые исследователи (Фудзита Токутаро и Какимото Сусуму) считают, что роман не кончался на пятой части и что существовало продолжение, ныне утерянное. Возражение на это предположение, как нам кажется, довольно убедительно: ни в одном источнике конца эпохи Хэйан нет стихотворений, которые были бы заимствованы из якобы несохранившегося продолжения[9]. Некоторые японские средневековые романы производят впечатление неоконченных. Заключение Повести о Гэндзи заставляет предполагать, что создательница ее, Мурасаки-сикибу, не довела свой замысел до конца. Неожиданно прерывается изложение в Повести о Сагоромо («Сагоромо моногатари»), принадлежащей кисти дамы Сэндзи, хотя здесь мы имеем дело с тщательно рассчитанным приемом. Во Дворце в Мацура Фудзивара Тэйка обрывает повествование под предлогом, что оригинальная рукопись истлела и, таким образом, окончание утеряно. Стремился ли автор Повести о Хамамацу к созданию подобного эффекта или он прекратил работу в силу неизвестных нам причин? Нам остается только гадать.
2
Основным аргументом в пользу авторства дочери Такасуэ является выраженная в ее дневнике и в Повести о Хамамацу вера в сны и перерождение после смерти. Этот мотив образует наиболее оригинальную черту повести и отличает ее от других романов эпохи Хэйан.
Дочь Такасуэ несколько раз видела вещие сны. В начале Дневника из Сарасина она пишет: «Во сне мне явился красивый монах в желтой рясе и сказал: "Поскорее выучи пятый свиток Лотосовой сутры"»[10]. Кроме того, ей являлся во сне посланец от богини Аматэрасу, который предсказал, что она будет служить в свите императрицы, — значение этого сна девица до времени не поняла[11].
Идея перерождения является одним из краеугольных положений буддизма, и нет ничего удивительного, что она получила отражение в литературе. Собственно говоря, ни Дневник из Сарасина, ни Повесть о Хамамацу не были первыми произведениями, трактующими эту тему. В Повести о дупле («Уцухо моногатари») Будда упоминает о прошлом воплощении Тосикагэ и объявляет, что один из его учителей возродится в облике его внука. Таким образом, для читателей эпохи Хэйан ни в возрождении отца Тюнагона в облике китайского принца, ни в возрождении китайской императрицы в облике дочери ее единоутробной сестры не было ничего необычного. Однако в Дневнике из Сарасина и в Повести о Хамамацу мотив буддийского перерождения имеет особенность. Буддисты знают, что их нынешнее рождение обусловлено прошлыми воплощениями и что они возродятся в том или ином облике после смерти, но они не сохраняют память о прошлом и не знают, что ждет их в будущем. Героине же Дневника из Сарасина было дано узнать, кем она была и где она возродится после смерти. В Дневнике содержится следующий эпизод:
«Я слышала, что даже добродетельным монахам невозможно во сне увидеть себя в прошлых воплощениях, но я, находясь в рассеянном и неопределенном состоянии души, видела сон. Я находилась в передней часовне храма Киёмидзу, и передо мной предстал человек, которого я приняла за главного управляющего. "В предыдущем воплощении ты была в этом храме монахом-резчиком статуй, который сделал очень много изображений Будды, — сказал он. — Благодаря этим добрым деяниям твоя карма улучшилась, и ты опять возродилась в человеческом облике. Статуя Будды в один дзё и шесть сяку[12], которая стоит в восточной части этой часовни, — творение его рук. Он начал покрывать ее позолотой, но скончался, не довершив этого". Я сказала: "Как нехорошо! Я покрою статую позолотой". — "Поскольку монах умер, другой человек покрыл статую позолотой и выполнил обряд[13]", — ответил он»[14].
Автору Дневника явился во сне Будда Амитабха и открыл ей тайну будущего рождения.
«В 3 году Тэнги (1055 г.) 13 дня 10 месяца я видела сон. В саду перед той комнатой, где я находилась, стоял Будда Амитабха. Я не видела его ясно, его облик был окутан туманом; я стала пристально вглядываться и сквозь просветы в тумане различила, что он стоит на лотосе высотой в три-четыре сяку. Сам Будда был ростом в шесть сяку и сиял золотым блеском. Одна ладонь его была раскрыта, пальцы другой сложены особым образом. Никто, кроме меня, его не видел. Я, как и следовало ожидать, прониклась благоговением, но меня охватил страх, и я не могла, приблизившись к занавеси, взирать на него. Будда произнес: "Сейчас я уйду, но потом я опять явлюсь за тобой". Голосу его могла внимать я одна, другие ничего не слышали. Я неожиданно открыла глаза, — был четырнадцатый день. Этот сон вселил в меня надежду на возрождение в Чистой земле»[15].
Кроме того, в Дневнике содержится еще одно указание, что живое существо сохраняет память о своем прошлом воплощении. Однажды ночью возле героини, погруженной в чтение, появилась неизвестно откуда кошка. Ее оставили в доме, и героиня с сестрой взяли на себя заботу о ней. Вскоре сестра увидела во сне кошку, которая объявила, что является воплощением незадолго до этого умершей дочери старшего советника. Когда героиня сказала, что нужно было бы известить отца покойной, кошка пристально посмотрела на нее и, кажется, поняла ее слова. Когда ее звали «дочь советника», она с понимающим видом мяукала и приближалась к зовущему[16].
Убеждения в том, что живое существо сохраняет память о своем предыдущем воплощении, содержатся и в Повести о Хамамацу. Третий принц знал, что был отцом Тюнагона. Когда он увидел Тюнагона, «выражение лица его изменилось; он произносил обычные слова и ничего не сказал о глубоком чувстве, охватившем его, своего прошлого не забывавшего, по поводу их новой встречи, но выразил его в стихах и передал написанное Тюнагону»[17].
Далее об этом говорится еще более определенно. Третий принц сообщает матери:
«Я сам в действительности японец. В моем предыдущем воплощении Тюнагон был моим единственным сыном, я очень любил его, и от стремления возродиться в Чистой земле меня удержала любовь к нему»[18].
Сны в Повести о Хамамацу являются важным элементом развития сюжета. Например, получив подтверждение о возрождении отца в облике китайского принца, Тюнагон отправляется в Китай. Сновидение играет решающую роль и в эпизоде возвращения китайского принца Цинь с дочерью (будущей китайской императрицей) на родину. Принц, покидая Японию, собирался взять дочь с собой, но женщины в то время не отваживались плавать по морю. Причина была в следующем:
«Когда-то некто Сасэмаро, взяв с собой девочку по имени Унахаси, пустился в плавание. Унахаси очень понравилась царю драконов, обитавшему в морской пучине, и он остановил корабль. На водную поверхность положили циновку и посадили на нее девочку. Поэтому с тех пор не было случаев, чтобы женщины отправлялись в Китай. Принц все время думал, как быть, и скорбел о том, что после пяти лет пребывания на Цукуси ему придется оставить дочь в Японии. Он обращался к царю драконов с многочисленными молитвами, и тот явился ему во сне: "Поскорее отправляйся в путь, взяв девочку с собой. Она будет в Китае императрицей. Вы благополучно пересечете море". Принц обрадовался и пустился в плавание с пятилетней дочерью»[19].
Императрица из Хэян получает во сне указание отправить сына (Молодого господина) в Японию. «Ей явился во сне некто и сказал: "Молодой господин не должен стать человеком из страны Тан. Он будет столпом японской земли. Поскорее отправь его туда"»[20].
Таким образом, между Дневником из Сарасина и Повестью о Хамамацу наблюдается определенное сходство. Трудно сказать, является ли оно достаточным для признания дочери Такасуэ автором Повести.
3
Второе отличие Повести о Хамамацу от других сохранившихся романов эпохи Хэйан заключалось в том, что в ней рассказывается о путешествии в Китай. Среди утерянных произведений хэйанской литературы было несколько, рассказывающих о Китае. В Повести о Хамамацу упоминается одно из них: «Их (китайцев) вид был таким, как изображено на картинках в Повести о Китае»[21].
Китай постоянно присутствовал в сознании хэйанцев; литература, письменность, предметы обихода — все говорило о далекой стране. Официальные отношения с Танской империей прервались, готовящееся в конце IX в. посольство в Китай так и не было отправлено, в 907 г. династия Тан пала, следующая династия, Сун, стала править с 960 г. Контакты с Китаем возобновились, они осуществлялись благодаря китайским торговцам, приплывавшим в Японию. В X-XI вв. в Китай отправлялись монахи на поклонение святым местам. В 983 г. в Китай отправился в сопровождении учеников монах Тёнин (938-1016), происходивший из рода Хата; там он посетил знаменитые в истории китайского буддизма горы Тяньтайшань, где оформилось учение секты Тянь-тай (яп. Тэндай), и Утайшань, где находились знаменитые буддийские храмы, и был принят императором. Тёнин возвратился в Японию через три года. Он привез с собой 5048 свитков буддийского канона и статую. В 987 г. 11-го дня второго месяца Тёнин прибыл в столицу: сопровождавшие его несли статую и книги; процессия в сопровождении музыкантов двигалась по проспекту Судзаку к императорскому дворцу.
В 1003 г. в Китай в сопровождении учеников отправился монах Дзякусё (962?-1034). Он был представителем знаменитой семьи Оэ, в миру носил имя Садамото. В молодости сделал блестящую карьеру, но в 968 г. после смерти жены и отца принял монашество. Его учителем был знаменитый Гэнсин (942-1017), монах секты Тэндай, автор многих известных буддийских сочинений. Дзякусё, отправляясь в Китай, взял с собой сочинения учителя, которые он представил китайским монахам. Сам Дзякусё на родину не вернулся, но его ученики привезли с собой книги, среди которых был сунский ксилограф сочинений Бо Цзюйи.
В Повести о Хамамацу в Китай, кроме Тюнагона, отправился отшельник, живший в горах Ёсино, который встретился с китайской императрицей и получил от нее письмо для ее матери.
Знание Китая, отраженное в Повести о Хамамацу, было книжным. Автор обнаруживает довольно смутное представление о китайской географии. Он пишет, что японцы прибыли в местечко Вэньмин (яп. Унрэй), где они сошли на берег, и остановились на ночлег в бухте Ханчжоу (яп. Коею), но между этими двумя пунктами довольно большое расстояние, которое было невозможно преодолеть за один день. Далее из текста следует, что Хэян (яп. Коё), где живет императрица, находится недалеко от столицы, и Тюнагон, живущий в столице, ездит туда и обратно. В Хамамацу сказано, что каждые два-три дня принца привозили из Хэян в императорский дворец[22]. Однако провинция Хэян в реальности находится далеко от столицы, и невозможно было совершать туда поездки так часто. Возможно ли, чтобы любимая супруга императора с сыном жили так далеко от императорского дворца? Или автор под «столицей Китайской империи» подразумевал вторую столицу Лоян? Столь же непонятна сцена выезда императора для любования кленами на озеро Дунтин, которое в действительности находится очень далеко от столицы, так что такой выезд был невозможен.
Икэда Тосио предполагает, что китайские топонимы в романе появились, скорее всего, под влиянием китайской литературы и стихов на китайском языке. Император Сага (809-823), который страстно любил Китай, построил загородный дворец в местечке Ямадзаки (на запад от святилища Ивасимидзу на реке Ёдо) и назвал его Коёкэн (провинция Хэян), в который приглашались поэты и проводились, в частности, соревнования по сочинению китайских стихов. Возможно, что название Коёкэн в повести появилось как воспоминание об этом. Часто упоминалось в китайских стихах, в том числе сочиняемых в Японии, озеро Дунтин, и японский автор ввел этот топоним в повествование, плохо представляя или мало заботясь о том, где реально находится это место[23].
Автор романа обнаруживает определенное знание китайской литературы. В самом начале первого свитка упоминается история Мэнчан-цзюня, виднейшего политического деятеля царства Ци конца IV — первой трети III в. до н. э.[24], далее Тюнагон вспоминает знаменитое произведение Тао Юаньмина «Персиковый источник»[25]. В этой части упоминаются знаменитые китайские поэты, например, Пань Юэ (Ань-жэнь, 247-300), а также Бо Цзюйи и его Песнь о бесконечной тоске[26], произведение чрезвычайно популярное в эпоху Хэйан (которое цитировалось не только в произведениях мужчин, но и женщин, в частности в Повести о Гэндзи).
Не зная китайских реалий по личному опыту, автор, должно быть, вдохновлялся иллюстрациями, которые несколько раз упомянуты в тексте. В самом начале говорится, что китайцы были похожи на их изображение на картинках к Повести о Танской земле[27]. Когда Тюнагон приезжает во дворец императрицы в Хэян, он видит прислуживающих императрице дам, сидящих на веранде. «Все было точно так, как изображается на китайских картонах, нарисованных знаменитыми художниками»[28]. И еще раз: «Дамы были похожи на тех, которых рисуют на картинах»[29]. Таинственный старец, которого Тюнагон повстречал у реки по дороге в Шаньинь, тоже напоминает картину: «В облике старца было что-то священное, как на картине»[30]. Если же взять содержание всей части в целом, в ней мало рассказывается о Китае, но больше о японцах, тоскующих в Китае по родине.
Тюнагон отправляется в Китай, чтобы встретиться со своим отцом. На первых же страницах он вспоминает озеро Бива и храм Исияма и думает об оставшейся в Японии Ооикими. Китайская императрица тоскует по матери и, глядя на гребни восточных гор, спрашивает себя: «Как живет там моя мать?» Она создает вокруг себя подобие далекой страны. Прислуживающие ей дамы распевают японские стихи (роэй) и на стихотворение Тюнагона отвечают ему японским стихотворением. Подобная сцена изображается еще раз: приехав к отцу императрицы, Тюнагон сочиняет стихотворение, и дамы отвечают ему японским же стихотворением.
Сын императрицы «был похож на мать, и его поведение и манера говорить совсем не отличались от японских»[31]. Принц держался отчужденно от китайцев и привязался к Тюнагону. Императрица тоже похожа на японку, а ее отец казался японцем[32].
4
Как и герои других романов хэйанского периода, Тюнагон принадлежит к высшему слою общества: отец его был принцем. В сфере общественной жизни герой не показан, он не стремится к достижению почестей и редко посещает императорский дворец. Тюнагон наделен необыкновенной красотой и редкими талантами. Отшельник из Миёсино, впервые увидев его, удивляется: «Не воплощение ли это Будды?»[33] В Китае все поражены его красотой и сравнивают со знаменитым красавцем Пань Юэ, классиком литературы эпохи Цзинь. Таланты Тюнагона таковы, что в ранней молодости он получил чин второго советника, а в Китае он поражает всех своим музыкальным мастерством и искусством в китайском стихосложении.
В характере героя Повести о Хамамацу обнаруживаются внутренние противоречия, типичные и для других героев хэйанской литературы — Каору из Повести о Гэндзи или Сагоромо из Повести о Сагоромо. Все они серьёзно задумываются о принятии монашества, но не могут разорвать связь с миром из-за чувства долга перед родителями и из-за невозможности отказаться от чувственных наслаждений. После смерти отца Тюнагон хотел уйти в монастырь, но его удержала мысль об овдовевшей матери. Любовь его к отцу такова, что он отправляется в Китай, чтобы увидеться с ним в его новом воплощении. Сам Тюнагон несколько раз говорит о своем стремлении стать монахом, которое не может быть выполнено из-за того, что у него нет братьев, которые заботились бы о матери.
И наконец, третье слагаемое образа: как ни добродетелен Тюнагон, он не может противиться искушениям плоти. Он сам говорит о себе: «Мое стремление уйти от суетного мира глубоко, <...> но поскольку я должен жить в этом мире, я не могу не запачкаться»[34].
В утерянной части рассказывалось о том, что он завязал отношения с Ооикими. В первой части повествуется о его любви к китайской императрице, в пятой — к барышне из Миёсино. Он не вступаете близкие отношения с пятой дочерью китайского министра (о чем сожалеет впоследствии), и во время свидания на Цукуси удерживается от близости с дочерью заместителя губернатора, но в столице он не в силах подавить свое влечение к ней.
Возвратившись в Японию и узнав о пострижении Ооикими, Тюнагон испытывает глубокое раскаяние: «С давних пор, размышляя об отношениях мужчин и женщин, я твердо решил, что не дам моему сердцу поддаться увлечению, что не вызову к себе неприязни с чьей бы то ни было стороны и никого не заставлю стенать; но все оказалось пустым. И в нашей стране, и в Китае я погрузился в беспримерное любовное смятение и причинил глубокие страдания. Не только посторонние, но и родители обижены мной и считают меня легкомысленным человеком. Я стал совсем не тем, кем хотел быть!»[35]
Раскаяние и искупление грехов становятся важной темой романа. Тюнагон оставляет Ооикими у себя в доме, окружает ее всевозможной заботой, ведет себя по отношению к ней как к единственной жене и отказывается от женитьбы на дочери императора.
Добродетельное поведение героя после возвращения из Китая можно объяснить тем, что он охвачен непреодолимой страстью к китайской императрице, которую не может победить ни разлука, ни расстояние между ними, ни невозможность встретиться вновь. Выполняя просьбу императрицы, он отыскивает ее мать-монахиню. В память об императрице он берет на себя заботу о ней и ее дочери, а после смерти монахини выполняет все похоронные обряды, которые должна была бы совершить императрица.
В конце романа рассказывается, что герой испытывает глубокие чувства к девице из Миёсино, в которых воспоминание о китайской императрице (ее единоутробной сестре) играет большую роль, но жизнь решительно их разводит: девицу похищает принц Сикибукё, и чтобы вернуть девицу в свой дом, Тюнагон объявляет, что она его единокровная сестра; его ложь становится препятствием к их сближению, так как в глазах всего света они были связаны родственными узами.
В связи с усилением в образе главного героя темы моральной ответственности за содеянное автор касается проблемы многоженства. Оно было в порядке вещей, и в романах эпохи Хэйан многие герои имеют несколько жен. В Повести о Хамамацу герой выступает против этого обычая.
Возвратившись в Японию, Тюнагон ведет себя по отношению к Ооикими как примерный супруг. Когда он получил от императора предложение взять в жены принцессу, в его доме воцарилась тревога. Ооикими, понимая, что ее присутствие будет несовместимо с изменившимся положением Тюнагона, намерена покинуть усадьбу и перебраться в какое-нибудь уединенное место; отец обеспокоен ее дальнейшей судьбой. Тюнагон, однако, от предложения императора отказывается. В дальнейшем, когда начальник Дворцовой стражи женится на дочери заместителя губернатора, Тюнагон видит мельком его покинутую жену и слышит разговоры присутствующих дам о совершившейся церемонии. В связи с этим он осуждает начальника Дворцовой стражи и, приехав домой, уверяет Ооикими, что сам он никогда не женится и официально никого рядом с ней не поставит.
Подобное отношение мужчины к женщине в хэйанской литературе было весьма необычным, оно не встречается в других романах.
5
Героини в Повести о Хамамацу, как и большинство женских образов в других романах эпохи Хэйан, являются представительницами высшего японского общества: все они дочери принцев или важных сановников. Относительно скромное положение занимает только дочь заместителя губернатора на Цукуси. Женщины в романе необыкновенно красивы, получили великолепное образование и обладают прекрасными манерами.
Важное место занимаете произведении образ китайской императрицы. По сравнению с другими героинями хэйанских романов биография ее очень сложна. Дочь китайского принца и японской аристократки, родившаяся в Японии, она была увезена в Китай и стала императрицей. Страдая от дворцовых интриг, императрица удалилась в провинцию Хэян и жила там со своим сыном. Главной характеристикой образа является тоска императрицы по Японии и по своей матери. Тянувшаяся ко всему японскому, она полюбила приехавшего в Китай Тюнагона и внушила ему необыкновенную любовь. В описании ее судьбы в китайском императорском дворце и интриг против нее автор, может быть, вдохновлялся первой главой Повести о Гэндзи, рассказывающей о страданиях наложницы Кирицубо.
Другие героини романа — японки. Ооикими отводилось значительное место в начале произведения, где рассказывалось о ее сближении с Тюнагоном, беременности и страданиях после его отъезда вплоть до принятия пострига, но в сохранившихся частях ее роль довольно пассивна: она подчиняется обстоятельствам и страдает от того, что условия ее жизни, созданные Тюнагоном, не соответствуют положению монахини.
Большей независимостью отличаются характеры монахини из Миёсино и ее дочери. В молодости монахиня последовала вслед за отцом на Цукуси, где после его смерти вышла замуж за китайского принца Цинь. После отъезда на родину принца, взявшего с собой их дочь, женщина перебралась в столицу, где жила одна и бедствовала. Её стал посещать принц Соти, но женщина решила: «Моя неслыханно жестокая судьба связала меня с принцем Цинь, и выходить замуж за обычного человека я не хочу»[36]. Она приняла монашество и скрылась из столицы, ничего не сказав принцу. Подобный поступок в хэйанской литературе был редким. В некоторых произведениях героини принимали монашество, потому что не могли более терпеть своего безвыходного положения или своих нравственных мук. В Повести о Хамамацу женщина, оставшись одна и живущая в бедности, отвергла ухаживания богатого аристократа и приняла монашество, чтобы сохранить верность своему первому мужу, с которым она в силу обстоятельств рассталась и которого она больше никогда не увидит.
Читатель встречается с монахиней в горах Ёсино после ее пострига. Она обеспокоена судьбой младшей дочери, что может стать препятствием на ее пути к возрождению в Чистой земле. Поручив дочь Тюнагону, монахиня скончалась. Описание ее смерти близко к житиям святых: она до последнего мгновения произносила имя Будды Амитабха, а когда дыхание ее прервалось, в воздухе разлился невыразимый аромат, над хижиной показались пурпурные облака[37]. Все указывает на то, что ее жизнь была исполнена святости и что после смерти она возродится в Чистой земле.
В образе ее дочери автор вновь рисует самостоятельный, независимый характер. После того как принц Сикибукё похитил девицу, он был избран наследником престола и должен был взять в жены дочь верховного советника. Кроме того, во дворец въехала его жена Нака-но кими (сестра Ооикими). Принц был влюблен в девицу из Миёсино и, отпустив ее в дом Тюнагона, писал ей письма, моля о возвращении во дворец, но она сама решила, что во дворце ее ничего хорошего не ждет, оставила эту мысль и совершенно не обращала внимания на письма принца.
Условия существования хэйанских аристократок не оставляли им большой свободы распоряжаться собственной судьбой. Женщина, оставшаяся без отца и не вышедшая замуж, была обречена на нищенское существование. Отцы старались пристроить их к какому-нибудь богатому и влиятельному мужчине, который взял бы на себя заботу о материальном положении девицы. У женщины, попавшей в трудное положение, оставалось практически два выхода — монашество или самоубийство. В Повести о Гэндзи оба варианта осуждались и считались проявлением своеволия; Мура-саки-сикибу считала, что женщина должна быть покорна мужчине и во всем полагаться на него. В Повести о Хамамацу выражена другая точка зрения: женщина способна отстаивать свою независимость, хотя это грозит ей отречением от мира.
6
В Записках без названия содержится высокая оценка Повести о советнике Хамамацу: «Повесть Сосны в бухте Нанива не столь известна, как Проснувшись ночью и Повесть о Сагоромо, но начиная с использования слов и содержания все в ней удивительно, глубоко по чувству и производит сильное впечатление»[38].
Современные исследователи с этим не согласны. Мацуо Отоси, приведя мнение автора Записок, замечает: «Мы не думаем, что повесть настолько хороша, но по крайней мере тот факт, что по прошествии ста с лишним лет после создания она оценивалась почти как Проснувшись ночью и Сагоромо, означает, что ее ставили в ряд с этими произведениями»[39]. Тем не менее исследователь подытоживает: «С точки зрения композиции, как и с точки зрения стиля, трудно назвать Повесть о Хамамацу произведением первого класса»[40].
Повесть о Хамамацу никогда не пользовалась такой популярностью у читателя, как Повесть о Гэндзи или Сагоромо, но она обладает рядом собственных достоинств. Она отличается от других романов эпохи Хэйан прежде всего тем, что значительная ее часть развертывается вне японской столицы: в Китае, на Цукуси и в горах Ёсино. Японский императорский двор играет в ней несравненно меньшую роль, чем в прочих сочинениях. Такая широта изображения приводит к появлению новых образов. В частности, подробно описывается в романе жизнь затворников в горах. Здесь все, по-видимому, было довольно необычно для столичного читателя. В романе нет развернутых пейзажей, образы природы довольно стереотипны, обычно это цветущие вишни и ветер в кронах сосен. Но описание природы оживляется стихотворениями, которые слагают герои, упоминанием звуков кото, на котором играют герои. В описании жизни отшельников автор создает атмосферу буддийской отрешенности.
Стиль произведения гораздо менее индивидуален, чем стиль романов Мурасаки-сикибу и Сэндзи. Автор вводит в повествование стихотворные цитаты, как делали его предшественницы, но не пытается подражать характерному стилю их сочинений. Он не прибегает к разговорной манере рассказа Мурасаки-сикибу и не создает атмосферу полной очарования таинственности. Он не пытается также насытить изложение цитатами из стихотворений до такой степени, как это сделала Сэндзи в Повести о Сагоромо. Время в Повести о Хамамацу движется ровно и довольно быстро. В ней нет обилия сцен, рисующих повседневную жизнь аристократической усадьбы и не связанных с основным развитием повествования эпизодов, составляющих характерную черту Гэндзи. Не обладая характерными признаками предшествующих произведений, Повесть о Хамамацу имеет несомненное достоинство: автор стремился создать увлекательное произведение, изложение его просто и определенно.
7
Повесть Дворец на горе Мацура была создана Фудзивара Тэйка. Свидетельство об этом автора Записок без названия, которая была племянницей Тэйка, не вызывает сомнений. Она пишет: «Тэйка сочинил много повестей, но в них интересен только стиль, правдивости же нет никакой; повесть Дворец на горе Мацура отличается изысканностью в духе Собрания мириад листьев, что-то в ней напоминает Повесть о дупле, но сердца моего она не трогает»[41].
Тэйка сочинил эту повесть в молодости, вероятнее всего в 1189 г. или в 1190 г.[42] Он был известен как поэт, его стихи вошли в Новое собрание старых и новых японских песен и другие императорские антологии. Кисти Тэйка принадлежат работы по японской поэтике. Кроме того, он известен как исследователь и комментатор произведений эпохи Хэйан, таких как Повесть о Гэндзи, Дневник путешествия из Тоса и Дневник из Сарасина. Автор Записок без названия относится к его опытам создания прозаических повестей довольно равнодушно, но нас не может не интересовать единственное дошедшее до нашего времени сочинение такого литератора, как Тэйка.
Повесть тесно связана с романами эпохи Хэйан, в ней отчетливо прослеживается влияние двух произведений хэйанского периода — Повести о дупле и Повести о советнике Хамамацу. О том, что Фудзивара Тэйка довольно высоко ставил последнюю, можно предполагать по Запискам без названия, где содержится ее высокая оценка (приведенная выше). Некоторые ученые считают, что Записки написаны Тэйка или его единоутробным братом Таканобу; если же автором сочинения была их племянница, то вполне вероятно, что она в некоторой степени учитывала точку зрения того и другого.
Влияние Повести о Хамамацу на произведение Тэйка несомненно. Оба сочинения рассказывают о путешествии в Китай, и в том и в другом герой влюбляется в китайскую императрицу. Даже названия обоих произведений близки друг к другу[43]. Как говорилось, хамамацу значит «сосны на взморье», а Мацура, являясь топонимом, по иероглифическому написанию означает «бухта (или побережье), где растут сосны». В обоих случаях название содержит указание на место в Японии, находясь в котором женщины (Ооикими или мать Удзитада) думают об отправившемся в Китай герое. Обращает на себя внимание, что и в той и в другой повести герои сочиняют стихотворения, в которых используют указанные образы для выражения своей тоски по родине. Стихотворение из Повести о Хамамацу приводилось выше, а Удзитада сочиняет следующее стихотворение:
«За морем широким, За грядой облаков В далеком пределе, Все мысли будут стремиться К бухте, где сосны растут»[44].Такое совпадение кажется неслучайным. Тэйка в своем поэтическом творчестве часто обращался к стихотворениям предшественников и вводил в свои сочинения цитаты из них. Может быть, выбором названия, в котором содержался намек на Повесть о Хамамацу, он хотел специально подчеркнуть родство двух повестей. Более глубоким является влияние Повести о дупле, на которое указывалось в Записках без названия. В начале своей повести Тэйка довольно близко следует за ее автором, описывающим детство и юность своего героя Тосикагэ. Оба персонажа принадлежали к самому высшему обществу, оба отличались незаурядной внешностью и необыкновенными талантами. В частности, и в том и в другом произведении рассказывается об умении героев в раннем возрасте сочинять китайские стихи. И Тосикагэ, и Удзитада пишут по повелению императора сочинения, т. е. сдают экзамены на ученую степень. И тот и другой были отправлены в составе посольства в Китай.
Наиболее важными общими моментами двух произведений являются понимание героя как воплотившегося на земле небесного существа, миссия, которую он должен выполнить, и передача герою тайной музыкальной традиции, что является указанием на избранность героя
У героя повести Тэйка не одна, а две миссии. Он должен сразиться с сильным противником, который является воплощением в человеческом облике страшного асуры, победить его и восстановить мир в Китае. Вторая миссия заключается в том, что он должен выучиться у принцессы Хуаян тайной музыкальной традиции и передать ее в Японию. Тэйка придает сокровенному искусству не буддийский, как в предшествующем произведении, а даосский характер.
Герой встречается в Китае с Тао Хунъином, старцем, играющем на цине. Хотя Тао Хунъин сообщает, что стал буддистом, общий характер эпизода говорит о влиянии даосизма. Комментатор повести Хигути Ёсимаро предполагает, что этот эпизод возник под влиянием истории Цзи Кана (223-262), замечательного поэта, одного из Семи мудрецов Бамбуковой рощи (общества поэтов и музыкантов), друзей Цзи Кана, увлекавшихся даосизмом. Даосский характер музыки подчеркивается и тем, что принцесса Хуаян обучилась ей у магов-волшебников.
Однако во всем прочем Тэйка следует за автором Дупла: герой должен передать тайную традицию на родину, ребенок Удзитада и китайской принцессы, об ожидании которого говорится в финале произведения, должен будет, несомненно, сохранять ее в Японии, герои не должны играть на цине перед непосвященными. Тэйка указывает, что игра на волшебном инструменте сопровождается изменениями в природе. Когда принцесса Хуаян перед смертью играла на цине, «на небе показались удивительные облака, и засверкала молния»[45]. Так же влияет на природу исполнение музыки в Повести о дупле
8
Большое место в произведении Тэйка занимает описание военных действий и справедливого правления императрицы-матери. Борьба с мятежниками закончилась победой императорской армии, императрица с сыном возвратились в Чанъань. Молодой император стал официально правителем страны, но фактически власть находилась в руках вдовствующей императрицы. Тэйка описывает ее правление как правление идеальной государыни. Придворные сравнивают ее с легендарными императорами Яо и Шунем, и Тэйка показывает, что такое сравнение не было проявлением угодливости, управление императрицы действительно было образцовым. Приведем примеры.
Главной заботой было спокойствие в стране и ее процветание. Взяв в руки правление, она первым делом добилась мира: «Не прошло и тридцати дней после восшествия на престол императора, как повсюду, вплоть до границ страны, воцарился порядок»[46].
«Императрица постановила денег безрассудно не тратить и старалась чем только могла облегчить участь подданных. Заботясь о народе, императрица отменила налоги, все были довольны и радовались этому»[47].
Императрица пыталась привести свое правление в соответствие с древними принципами и для этого устраивала каждый день диспуты ученых-конфуцианцев. Она «с учеными мужами читала старые книги[48], обсуждала вопросы справедливого правления и обучала этому императора. Она учила сына тому, чтобы страна процветала и народ был спокоен»[49].
«Императрица велела читать Избранные места из книг об управлении государством[50] и объясняла государю смысл прочитанного»[51].
Императрица установила «доски для порицания» — доски, которые выставлялись в древности на дорогах и на которых народ мог давать оценки правителям, в том числе императору, надеясь таким образом узнать объективное мнение народа о своей политике[52].
Взяв в руки власть, императрица не способствовала продвижению своих родственников. «Ее старший брат был полководцем охраны и в нынешнее царствование мог бы стать влиятельным лицом, но после того, как в стране воцарился мир, императрица сказала: "Когда родственники государя со стороны матери лезут к правлению, жди беспорядков", и не отличала брата перед другими. Она избирала и возвышала людей, обращая внимание на их талант и выдающиеся способности к правлению, всеми силами стремилась к достижению мира. Императрица не кичилась своим высоким положением, ни одно дело не считала недостойным себя, была усердна, не знала отдыха и не совершала оплошностей. <...> Такие выдающиеся правительницы были редки и в древности»[53].
В этом идеальном портрете, вероятно, можно различить скрытую критику современных автору правителей. Во всех случаях Тэйка описывал политическую ситуацию, которая сложилась в Японии в конце эпохи Хэйан. Он всячески постарался скрыть злободневность своего произведения: все, что в ней рассказано, имело место в далеком Китае, герой жил в далекое время, когда японская столица находилась в местечке Фудзивара, т. е. с 694 по 710 г. Давняя старина, заморские страны. Но Тэйка явно думал о том, что происходило у него перед глазами, и рисовал образ идеального правления, которому следовало подражать.
9
Двойственный характер повести Тэйка, в которой используются темы старых сочинений, а с другой стороны, рассказывается о новом времени, отразился и в ее стиле.
В любовных сценах повести автор следует за своими предшественниками. В повести семьдесят одно стихотворение, что немало для прозаического произведения небольшого объема. Очень часто стихотворения основаны на образах Собрания мириад листьев. Вполне возможно, что Тэйка сделал это специально, чтобы придать сочинению налет старины. Кроме того, он вводит в прозаический текст стихотворные цитаты, и по насыщенности ими стиль его можно сравнить со стилем Повести о Сагоромо. Положение совершенно меняется, когда автор покидает область любовных чувств и переходит к военным действиям и принципам государственного правления. За исключением описания политических интриг в Повести о дупле, подобные темы не получали отражения в романах эпохи Хэйан. Выйдя из круга образов поэзии и большинства прозаических романов, Тэйка вышел из сложившейся системы выразительных средств, но другой системы в его распоряжении не было, и в указанных эпизодах нет никаких риторических украшений, нет стихотворных цитат, изложение крайне просто и почти протокольно. Автор отдавал себе отчет в стилистическом разнобое произведения и попытался «объяснить» его в примечании воображаемого переписчика.
Тесно связанная с предшествующими произведениями повесть Фудзивара Тэйка обладает рядом самостоятельных черт: с одной стороны, она подытоживает развитие хэйанского романа, но в то же время обращена к современности и затрагивает актуальные проблемы сложного периода, в котором жил автор. В японоведении, как русском, так и зарубежном, бытует точка зрения, что вершиной развития прозы в эпоху Хэйан была Повесть о Гэндзи, после которой последовал неминуемый спад. Знакомство с другими произведениями заставляет пересмотреть эту концепцию. Японские средневековые романы отличаются достаточным разнообразием. Они изображают одно и то же общество, но каждый автор рисует его под особым углом зрения. Каждый роман расширяет наши представления о литературе и жизни средневековой Японии.
Настоящий перевод Повести о втором советнике Хамамацу выполнен по изданию: «Хамамацу-тюнагон моногатари», под редакцией Мацуо Отоси, в издании: Такамура моногатари, Хэйтю моногатари, Хамамацу-тюнагон моногатари, в серии: Нихон котэн бунгаку тайкэй, т. 77, Токио, 1964. Кроме того, мы пользовались еще одним изданием произведения: Хамамацу-тюнагон моногатари, под редакцией Икэда Тосио, в серии: Симпэй Нихон котэн бунгаку дзэнсю, т. 27, Токио, 2001.
Перевод Дворца в Мацура выполнен по изданию: «Мацура-мия моногатари», под редакцией Хигути Ёсимаро, в издании: Мацура-мия моногатари, Мумё дзоси, в серии: Симпэй Нихон котэн бунгаку дзэнсю, т. 40, Токио, 1999.
Повесть о втором советнике Хамамацу (Хамамацу-тюнагон моногатари)
Содержание несохранившейся части
У принца, занимавшего должность главы Палаты обрядов (Сикибукё-но мия)[54], был единственный сын, затмевавший своей красотой и талантами всех молодых людей столицы. После обряда надевания головного убора взрослых ему была присвоена фамилия Минамото[55]. Отец мечтал женить его на принцессе и рассчитывал, что сын сделает блистательную карьеру, но ему не суждено было дожить до этого. Он неожиданно скончался, когда сын был еще очень молод.
Сын и вдова принца были погружены в скорбь. Юноша впервые столкнулся с людской неискренностью: окружающие, говоря, что смерть принца — ужасное горе для них, на самом деле оставались глубоко равнодушны. Горячо любивший отца молодой человек почувствовал отвращение к миру и решил было немедленно уйти в монастырь. Но у матери после смерти мужа кроме него не оставалось никого, кто бы ее утешил и заботился о ней. Почтительный сын не мог оставить ее. Молодой человек начал служить и обнаружил такие необыкновенный способности, что его немедленно сделали вторым советником (тюнагон)[56]. Он был очень серьезен, намерение принять монашество его не оставляло, и ни одна девица в мире не смущала его мыслей.
Тем временем его мать начал посещать левый генерал[57], и вскоре их отношения стали гласными. Страстно влюбленный генерал настаивал, чтобы дама стала его официальной женой. Второе замужество матери потрясло молодого человека. Его тоска по отцу не только не ослабевала со временем, но стала еще сильнее. Ему было неприятно видеть генерала в усадьбе, где все напоминало об умершем. Тот же старался вести себя по отношению к Тюнагону как отец, что только увеличивало неприязнь юноши. Он не пытался скрывать своего отношения к отчиму: когда последний появлялся у них, молодой человек всячески избегал его. Генерала такое поведение обижало и приводило в недоумение. Мать тоже страдала от создавшегося положения.
Тем не менее официальный брак привел к тому, что оба дома — и господа, и слуги — начали общаться между собой, вместе справляли ежегодные праздники, соблюдали посты, ездили друг к другу, когда нужно было изменить направление[58]. От покойной жены у генерала остались сыновья и две дочери: Ооикими и Нака-но кими, обе необыкновенные красавицы. Отец особенно заботливо воспитывал старшую из них, лелея надежды отдать ее в жены наследнику. Однажды весенним вечером Тюнагон, находясь в доме генерала, увидел в просвет между занавесями его дочерей. Молва недаром расхваливала Ооикими: она была несравненной красавицей, у нее были великолепные длинные волосы (чему в Японии в эпоху Хэйан придавалось особенное значение). При взгляде на нее дрогнуло даже сердце серьезного Тюнагона. Нака-но кими была еще подростком и проигрывала по сравнению с сестрой. Молодой человек стал видеться с девицами. Они не избегали его: он приходился им сводным братом и казался человеком, не думающим о любовных приключениях, как большинство молодых людей. Однако прислуживающая Ооикими дама Сайсё, глядя на общающихся молодых людей, испытывала опасения.
Как-то раз, глядя на дым, поднимавшийся над равниной Торибэно (место сожжения трупов), молодой человек спросил у Ооикими:
— Если я отойду в иной мир, будете ли вы печалиться?
Девица сразу не нашлась, что ответить, но через некоторое время произнесла:
— Даже не зная, Кто сгорел на костре погребальном, Могу ль на столб дыма, Тающий в небе вечернем, Взирать равнодушно?У императора был единственный сын, глава Палаты обрядов (принц Сикибукё). Полная противоположность религиозному Тюнагону, он не пропускал ни одной красавицы и, прослышав о старшей дочери генерала, стал всячески добиваться ее, но отец девицы желал видеть ее супругой наследника престола и впоследствии императрицей и не давал принцу положительного ответа.
Тюнагон и Ооикими сопровождали жену генерала в паломничество в храм Исияма[59], который находился недалеко от озера Бива. Они отправились на озеро и, разговаривая, глядели на свое отражение в воде (о чем молодой человек вспоминал впоследствии). Постепенно Тюнагон стал отдавать себе отчет, что его чувства к Ооикими перерастают в любовь. Он старался подавлять их, потому что Ооикими была ему сводной сестрой, а кроме того, потому что все непереносимее становилась его тоска по отцу и все труднее было ему сдерживать желание уйти в монастырь.
В то время некто, прибывший из Китая, тайно известил Тюнагона о том, что его отец возродился в облике Третьего сына китайского императора и ему уже четыре-пять лет. Тюнагон решил отправиться в далекую страну, преодолеть все препятствия, которые встанут на его пути, и увидеться с принцем Пересечь море и добраться до китайской столицы было рискованным предприятием. К тому же он занимал важную должность второго советника и надолго покинуть Японию не мог. Тюнагон не знал, как ему осуществить свое намерение. Через некоторое время молодой человек увидел во сне отца, который подтвердил сказанное и сообщил, что он отказался от воплощения в Чистой земле[60] и возродился в человеческом облике, чтобы еще раз встретиться с сыном.
Проснувшись, Тюнагон сел за чтение сутр. Как раз в это время, ранним утром, к нему зашел его друг, второй военачальник. Тюнагон, не вытерпев, рассказал ему о виденном сне. Тот ответил:
— Неужто был ты один? Кто-то нежданный К постели твоей подошел — Шумом волн Полнится гавань[61].Решив немедленно отправиться в путешествие, Тюнагон подал прошение об отпуске. Император считал нежелательным отъезд из Японии таких выдающихся людей, как Тюнагон, и беспокоился за молодого человека из-за опасностей, ожидающих его в путешествии. Он советовал юноше отказаться от намерения, мать молила сына не уезжать, но тот оставался непоколебим.
Тем временем генерал решил-таки отдать Ооикими в жены принцу Сикибукё. Его давнее желание видеть дочь супругой наследника престола стало казаться ему неосуществимым, а принц, хотя и закоренелый ловелас, был единственным сыном императора, и положение Ооикими было бы достаточно высоким
Тюнагону был предоставлен трехгодичный отпуск, и он усердно занимался подготовкой к отъезду. Каждый раз, когда молодой человек встречался с Ооикими, ему все труднее становилось справляться с нарастающими чувствами к ней. Однажды ночью неожиданно, не обращая внимания на предостережения дамы Сайсе, Тюнагон вошел к девице и овладел ею. После первого свидания он почувствовал к Ооикими такую горячую любовь, что ему хотелось проводить с ней каждую ночь, но дама Сайсё, опасаясь последствий, препятствовала свиданиям.
Тюнагон оказался в сложном положении. При натянутых отношениях с отчимом ему было трудно открыто заявить о своей любви к Ооикими, что равнялось бы просьбе взять ее в жены. Неминуемо приближался день отплытия. После того как он с таким трудом получил разрешение от императора, отменить отъезд без объяснения причин было невозможно. Да он и не мог отказаться от намерения ехать в Китай и увидеться с Третьим принцем. При этом же он был уверен, что за три года отсутствия Ооикими ста нет женой принца Сикибукё.
Ооикими тоже была в смятении. Ее мачеха была в таком отчаянии от предстоящего отъезда сына, что обращаться к ней за советом было бы напрасно.
Тюнагон наносил прощальные визиты аристократам. В лунную весеннюю ночь он посетил принца Сикибукё, и тот, выражая сожаление по поводу отъезда друга, сложил стихотворение:
— В думах о тебе Выплачу все глаза, Глядя, как луна В западный край Уплывает.Тюнагон на это ответил:
— Как дорога мне Будет луна на чужбине При воспоминанье, Что светила она в родной стороне, Над Микаса-горой![62]Они не замечали, как летело время. Думая, что Ооикими должна стать женой принца, Тюнагон испытывал сложные чувства.
Наступил день отъезда. Сопровождаемый близкими родственниками и друзьями, Тюнагон в бухте Нанива[63] сел на корабль и отправился на Цукуси[64]. Глядя на сосны на берегу, он думал: «Если благополучно вернусь через три года, я вновь увижу эти деревья».
На Цукуси друзья и родственники Тюнагона, а также чиновники генерал-губернаторства устраивали прощальные пиры. Тюнагон, ожидавший погоды, уже тосковал по столице, раскаивался, что оставил мать и расстался с Ооикими, не дав обещаний, как следовало бы, в нерушимой любви. Он послал даме Сайсё стихотворение для передачи Ооикими:
«В далекий предел Уплывает корабль, И рядом с ним Лик твой бежит По синим волнам».В тот момент, когда он должен был садиться на корабль, Тюнагон написал стихотворение матери:
«В глазах потемнело, Мокры от слез рукава, Грудь тревогой объята... На корабль всхожу, В Морокоси плывущий»[65].Получив через возвратившихся в столицу друзей Тюнагона эти стихотворения и услышав рассказ об отплытии, его мать и Ооикими погрузились в глубокую печаль, им оставалось только молиться о благополучном плавании.
В доме генерала постепенно все вошло в обычный порядок. В тот момент, когда снова пошли разговоры о замужестве Ооикими, обнаружилось, что она беременна от Тюнагона. Это первыми заметили ее кормилица Сёсё и дама Сайсё. Дело было никак не скрыть, и они сообщили генералу и матери Тюнагона. Негодование отца девицы не имело пределов, но он таил свое возмущение в сердце: Тюнагон был далеко, а жене своей, из уважения к ней, генерал ничего не говорил, что было для нее еще горше.
Беременность девицы постарались скрыть от окружающих. Посоветовавшись с женой, отец поместил дочь в усадьбу Тюнагона, а мачеха взяла на себя заботу о ней. Не зная, как быть с принцем Сикибукё, который все настойчивее добивался осуществления своих желаний, генерал множил отговорки и в конце концов выдал за принца свою вторую дочь, Нака-но кими. Разговоры об этом Ооикими слушала молча, думая, что у нее нет никаких надежд на брак с Тюнагоном. С разбитым сердцем она сложила:
— Мрачные мысли гоню от себя, Но, вспоминая На рассвете наше прощанье, Знаю, что мужу мне дверь не открыть И что в мире нельзя оставаться.Находившиеся рядом с ней кормилица и дама Сайсё похолодели от ужаса.
— Не знаю, что будет со мной. В стенаньях и муках Дни провожу. Печально уйти от мира, Но ненавистнее — жить в нем[66], —сложила Ооикими.
Не спросив разрешения ни отца, ни мачехи, она сбрила свои великолепные волосы длиной в восемь сяку[67]. Невозможно выразить, как были потрясены ее родители. Генерал не мог сдержать своей злобы на Тюнагона, да и мать не могла не упрекать сына. Но Ооикими, став монахиней, не обрела душевного покоя. Она выразила свои чувства в стихотворении:
— Разве думал об этом отец, Волосы гладя мои? С печалью гляжу: Черные, как вороново крыло, Пряди лежат предо мной.Сайсё, глядя на нее, днем и ночью проливала слезы.
Ооикими родила девочку, очень похожую на Тюнагона. Монахиню мучил стыд. Ее заветным желанием было скрыться в глухих горах, где бы ее никто не мог видеть.
Наступил новый год. И генерал, и его жена, глядя на внучку, чувствовали, как смягчалось у них сердце, в усадьбе стало не так мрачно, как прежде. Мать и Ооикими беспокоились, благополучно ли Тюнагон добрался до Китая, и не было дня, чтобы они не обращались мыслями к дальней стране.
Часть первая
1
Пускаясь в путь, Тюнагон представлял, что плавание в далекую страну будет опасным, но — не оттого ли, что его стремление выполнить долг перед отцом[68] было глубоким? — ни разу их не настигла буря, и казалось, что, следуя желанию путешественников, корабль гнало попутным ветром.
Мореплаватели прибыли в Китай, в местечко Вэньлин[69] в двадцатый день седьмого месяца. Они поплыли дальше и остановились на ночлег в Ханчжоу. Вид бухты, в которой находился порт, веселил душу, но Тюнагону вспомнилось озеро Бива, храм Исияма, и он почувствовал безграничную печаль и любовь к Ооикими.
— Воспоминанье храню О родной стороне — Двух фигур отраженье В светлых водах Озера Нио[70] , —сложил он.
Оттуда они поплыли в ...[71]. Городок с множеством домов путешественникам очень понравился. Люди выходили на улицу посмотреть на проплывающих мимо японцев и переговаривались между собой. Выглядели они удивительно. Корабль остановился в местечке, которое называлось Лиян. Оттуда путешественники поднялись на гору Хуашань: высокие пики, глубокие долины, повсюду страшные пропасти.
Тоска охватила Тюнагона, и он произнес:
— «Синие волны, путь далек, облака на тысячу верст..»
А сопровождавшие его начитанные люди, проливая слезы, продолжили:
— «Белый туман, глухие горы, где-то в одиночестве поет кукушка»[72].
Когда, перевалив через гору, путники подошли к заставе Хань-гу, солнце уже село, и им пришлось ночевать возле заставы. Кто-то из путешественников спросил: «Правда ли, что эта застава открывается, когда начинают петь петухи?» Один из сопровождавших Тюнагона был по-детски легкомыслен. «Ну-ка попробуем», — сказал он и начал кукарекать. Издали ему ответили петухи, и стражники на заставе, проснувшись, открыли ее. «Недопустимое ребячество!» — заворчали они. Тюнагон засмеялся: «Очевидно, ему вспомнилось происшествие, бывшее когда-то на этой заставе»[73].
Когда рассвело, явились люди встречать путешественников. У встречавших вид был совершенно такой же, как на картинках в повести «Китай»[74]. Прибывшие вручили разрешение на проезд, привезенное из Японии[75], и их пропустили через заставу. Тюнагон привел в порядок одежду. От лица его как будто исходило сияние, китайцы смотрели на него с изумлением и ощущали беспредельную радость.
В высоком строении, где в древности жил Ван Сичжи[76], тщательно убрали помещения, обставили их со всевозможной роскошью и поселили там Тюнагона.
Постепенно сердце его успокаивалось. Молодой человек вспоминал о родине за далекими облаками и туманами, путь к которой лежал через моря и горы, и перед глазами вставали лица его близких, полные беспокойства за него. Печаль охватывала Тюнагона, но его утешала мысль, что скоро он увидит Третьего сына китайского императора.
Государь распорядился, чтобы Тюнагона пригласили во дворец Чэнъюань[77]. Юноша явился на аудиенцию. Императору было только за тридцать, он был замечательно красив. При первом же взгляде на пришельца становилось ясно, что сравнить его не с кем. Толпившиеся вокруг придворные восторгались: «Япония — замечательная страна, если в ней есть подобные люди. С давних пор считалось, что не было никого, подобного Пань Юэ[78], который жил в Хэян[79], но и его полный очарования облик нельзя сравнить с внешностью этого японца».
Тюнагону предложили сочинить стихи на заданную тему и поиграть на музыкальных инструментах, и все убедились, что в Китае никто не может его превзойти. Сам император думал в изумлении: «Мы должны взять за образец умение этого человека. Какому из искусств нашей страны можем мы научить его?» Государь[80] сблизился с Тюнагоном, проводил время только с ним, они вместе исполняли музыку. Муки молодого человека мало-помалу утихли, и на душе воцарился покой.
2
Третий принц жил недалеко от императорской крепости, в месте, которое называлось Хэянсянь, в красивом дворце. Мать его, императрица, жила вместе с ним. Тюнагон получил от Третьего принца приглашение посетить его. Охваченный беспредельной радостью, японец отправился на аудиенцию. Такого красивого места Тюнагон никогда не видел: чистые ручьи, красиво расставленные камни, сад, отдельные деревья — все пленяло взор. Тюнагона пригласили в покои принца. Ему было лет семь-восемь, ему сделали прическу бидзура[81], он был в парадной одежде и очень мил. Вид его был совсем иной, чем раньше[82], но грудь у Тюнагона сдавило. «Это он», — думал он, разглядывая принца. Его охватила печаль, и слезы полились из глаз. Принц тоже изменился в лице. Он заговорил об обычных вещах и не выражал своего волнения, однако помнил, кем он был раньше, и глубокие чувства, охватившие его при встрече с сыном, описал в стихах, которые передал Тюнагону[83]. Как тот ни старался, он опять не мог удержать слез.
В ответных стихах Тюнагон написал: «Отправясь в далекий путь, сквозь волны облаков и волны тумана[84], разлученный новым возрождением[85], вижу иной лик, но привычной любовью наполнилось сердце, и я забыл дорогую родину».
Когда принц прочитал стихи, полные столь глубокого чувства, он тоже заплакал. В Японии, видя, как печалилась и тревожилась за него мать, Тюнагон упрекал себя: «Почему я задумал отправиться в Китай?», а в течение всего долгого плавания со страхом думал: «Что же со мной будет?» Но в тот миг он сказал себе: «Если бы я не решил встретиться с ним, моя душа никогда бы не прояснилась». Стоя перед принцем, он чувствовал, как все мучения его утихли.
Принц был глубоко растроган, но перед посторонними ничем не выдавал своих чувств. Тюнагон думал: «Он так красив, что внушает страх».
Мать принца была в фаворе, государь беспредельно любил сына и начинал беспокоиться, если не видел его даже малое время, поэтому принц не мог оставаться долго в Хэян, где спокойно проводил время; но ему все время хотелось наслаждаться общением с Тюнагоном, и под тем или иным предлогом он часто уезжал в свой дворец.
3
Однажды в середине восьмого месяца Тюнагон вечером находился у себя. Он с тоской вспоминал родные места и, подняв занавесь, лежа, пристально смотрел на деревья в саду. Его сопровождавшие тоже думали о японской столице и переговаривались между собой, а один из них, человек тонкого ума, сложил:
— И стрекотанье цикад, и запах цветов, И шум ветра в соснах — Все точно такое же, Как осенью В нашей стране.Остальные, что-то мыча с закрытыми ртами, пытались сложить в ответ. Через некоторое время Тюнагон с улыбкой произнес:
— Это действительно так, но в Китае многое поражает.
Все отчего-то смутились, а Тюнагон медленно продекламировал:
— Казалось бы, та же на листьях роса, Тот же туман, И крик оленя такой же, И так же гуси летят По шири небесной...Сопровождавшие его больше не пытались сложить что-то свое, а только повторяли стихотворение Тюнагона.
4
В первый день десятого месяца в западной части дворца, в Дунтин[86], клены были более красивы, чем в каком-либо другом месте, и император сделал туда выезд. Тюнагон находился в свите, и гости из далеких стран хотели посмотреть на него. При взгляде на красоту и превосходные манеры молодого японца все пришли в изумление, с горечью осознали, насколько им до него далеко, и не оставалось ни одной женщины, которая не почувствовала бы любви к нему. Те, которые не могли ни на что надеяться, заболели, а дамы, которые высоко ценили себя, воспылали желанием: «Если бы Тюнагон посмотрел на меня и приблизил к себе хотя бы на то время, пока он остается в Китае!» Принцы и сановники сочиняли стихи и играли на музыкальных инструментах, но все они уступали Тюнагону, и собравшиеся, начиная с самого императора, беспредельно изумлялись: «Из какой замечательной страны прибыл этот человек!»
На следующий день Тюнагон узнал, что принц изволил отбыть в Хэян, и отправился туда. Был вечер, дул сильный ветер, небо покрывали тучи, то и дело начинал моросить дождь, все навевало на душу беспредельное уныние. Погруженный в печальные думы, Тюнагон неожиданно услышал, как кто-то играет на цине[87]. Он пришел в восхищение: такого замечательного исполнения ему никогда слышать не приходилось. Он притаился в месте, где его никто не мог видеть. Перед ним было строение, которое не было покрыто корой кипарисовика, как в японской столице, но крыша была в несколько слоев выкрашена синим цветом. Большая часть утвари была красная, покрытая киноварью, повсюду в доме висели занавеси, края которых были обшиты парчой. С высокой горки низвергался водопад, брызжущая влага падала на массивные камни. Такого прекрасного пейзажа нигде больше в мире не сыщешь. Возле быстро струящихся ручьев росли великолепные хризантемы всевозможных цветов. Принц и его свита срывали и любовались ими. В доме были подняты занавеси, и более десяти дам, в роскошных одеждах, с поясами и шарфами, с красиво причесанными волосами, сидели на покрытой парчой веранде, закрывая лица веерами, — точь-в-точь как на китайской картине какого-нибудь знаменитого мастера.
Возле поднятой занавеси, рядом с переносной занавеской, ленты которой были подняты (цвет лент книзу становился темнее), расположилась дама, которая играла на цине. «Это императрица», — подумал Тюнагон и, позабыв все на свете, стал рассматривать ее. На вид ей было не более двадцати лет, лицо было прекрасно: оно не было плоским, не слишком длинное и не слишком круглое и столь белое, что даже Харисэраму[88] рядом с императрицей показалась бы чернушкой. От лица императрицы исходило чарующее благоухание. Прелестно изогнутые брови придавали ему благородное выражение, губы были свежи, и можно было подумать, что они выкрашены киноварью. В ее внешности не было ни малейшего изъяна — казалось, что ее красота освещала все вокруг. Волосы были красиво зачесаны наверх, поза спокойна; глядя куда-то вдаль, она играла на цине. «Неужели в нашем мире может существовать подобная красота?» — подумал Тюнагон изумленно.
У японок волосы спускаются вниз, на лоб падает челка, по бокам пряди касаются плеч, это кажется нам милым и очаровательным, а здесь волосы подняты вверх, прическа украшена шпильками, но императрица была столь утонченна, что и ее китайская прическа показалось юноше безупречно красивой. Звучание циня было великолепно, и подобного в этом мире Тюнагон не слышал.
Семь или восемь молодых дам, казавшихся спустившимися на землю небожительницами, срывая, любовались хризантемами и пели нежными голосами: «В саду орхидей осенняя буря...»[89] На это дамы, находившиеся в помещении, пропели: «После этих цветов...»[90]
Тюнагон думал, что китайцы любили японские стихотворения, но могли ли их сочинять женщины? Или, любуясь цветами, они слагают китайские стихи? В это время императрица приказала опустить занавеси и скрылась в помещении. Тюнагон был разочарован: ему казалось, что вместо полной он видит ущербную луну. Не вытерпев, он двинулся к цветам. Дамы не были удивлены его появлением. Тюнагон, сорвав цветок, подошел к группе сидевших дам, которые немного склонились, как будто хотели скрыть лица.
— Столь прелестны цветы В вашем саду, Что вечером этим Утихла тоска По родине дальней[91], —произнес он.
Дамы, протянув веера, ждали, когда он положит на них цветок, — точь-в-точь как женщины в Японии.
— О, если бы хризантемы, Не увядая, долго цвели И лили свой аромат! Тогда бы пришельцы Не мучились воспоминаньем, —ответила одна из них.
Тюнагон с изумлением подумал: «Так они могут слагать и японские песни!»
Появился принц, и Тюнагон сел в формальную позу.
— Какой прекрасный вечер! — сказал принц.
Он велел поставить перед гостем цинь. Тюнагон был под впечатлением безупречной красоты императрицы; ему казалось, что он все еще чувствует неизъяснимый аромат, а гармония струн все еще звучала у него в ушах, и он не представлял, как он сможет играть на этом инструменте.
Императрица смотрела на него из-за занавеси. «Во всем он замечателен! Как печально, что вскоре он возвратится к себе на родину и я никогда больше его не увижу!» — думала она и тайно от всех проливала слезы.
5
История императрицы была такова. Ее отец, принц Цинь, был потомком танского Тай-цзуна[92], он был необыкновенно хорош собой и блистал поразительными талантами. Между Китаем и Японией по какому-то вопросу велись переговоры, принц был назначен послом и отправился в заморскую страну. В то время на Цукуси был сослан японский принц, который там умер, оставив дочь. Она жила с бедной кормилицей и не имела средств для возвращения в столицу. Принц Цинь обменялся с ней любовными клятвами, и у них родилась дочь, подобная сияющей драгоценности. Отец очень любил ее и, возвращаясь на родину, не мог оставить ее в Японии. Он хотел взять ее с собой, но не решался, и вот почему. Когда-то некий Сасэмаро плыл по морю вместе с девицей по имени Унахаси. Ее полюбил Царь драконов, живущий в море, и остановил корабль. Что было делать? На волны опустили циновку и положили на нее девицу. После этого ни одна женщина в Китай плыть не осмеливалась. Принц мучился, не зная, как быть. Он провел на Цукуси пять лет и с тоской думал, что навсегда останется там. Он горячо молился Царю драконов, и тот возвестил ему во сне: «Отправляйся немедля в Китай. Твоей дочери суждено стать там императрицей, поэтому она благополучно переплывет море». Принц донельзя обрадовался и пустился в плавание с дочерью, которой было тогда пять лет. Он воспитывал ее очень заботливо, и она выросла несравненной красавицей. О ней услышал император и выразил желание, чтобы она въехала к нему во дворец.
— Отец Первой императрицы, матери принцев, старший из которых объявлен наследником престола, министр[93], облечен огромной властью. Если я предложу государю свою несравненную дочь, неминуемо возникнут осложнения, — ответил, робея, принц Цинь и не отпустил девицу.
Но император неожиданно посетил дом принца, и в четырнадцать лет его дочь въехала в императорский дворец[94]. Государь очень полюбил ее и забыл о других своих женах. Отец ее сделался министром[95]. Дочь его в шестнадцать лет родила сына и вскоре была провозглашена императрицей. Она достигла такого положения, что никто не мог с ней сравниться.
Отец Первой императрицы негодовал, пылал к новой фаворитке ненавистью и всеми способами призывал на ее голову злых духов. Было сделано много ужасного. Две другие императрицы и десять наложниц встали на сторону Первой императрицы, и все в один голос повторяли старинную историю Ян Гуй-фэй[96]. Тогда принц Цинь, чувствуя отвращение к миру, подал в отставку, построил возле монастыря на горе Шушань[97] на север от столицы дом и стал жить в нем затворником. Дочь его спрашивала себя: «Кто же теперь будет мне защитой? Как я буду служить императору?» Она хотела вместе с отцом принять монашество, но государь этому воспротивился. Проклинаемая многими дамами императрица сильно заболела, положение ее стало опасным, и находиться более во дворце она не могла. Тогда император приказал выстроить поблизости, в Хэян, необыкновенно красивый дворец и поселить в нем императрицу, а принца каждые три-четыре дня привозили оттуда к отцу. В Китае тщательно соблюдали обычаи, но монарх был не так строго ограничен в передвижениях, как наш государь в Японии, и, когда он не мог сдержать своей тоски по императрице, он тайно навещал ее, но часто делать этого не мог. Император очень страдал и стал чахнуть. Множество молитв было вознесено за его здравие, но безрезультатно, и боялись, что император скоро покинет этот мир. Как раз в это время ко двору прибыл Тюнагон. Государь выезжал с ним в разные места, чтобы любоваться пейзажем, они сочиняли стихи, музицировали; все это отвлекло от печальных мыслей. Все решили, что это результат многочисленных молений.
Императрица рассталась с матерью в возрасте пяти лет. Девочка была взрослее, чем обычно бывают дети в ее возрасте, и хорошо помнила то время. В ее сердце навсегда запечатлелся образ матери, когда, услыхав: «Пора!», она обняла дочь и, горько рыдая, сказала:
— Мы расстаемся в этом мире навеки. Вряд ли вы узнаете о моей смерти. Считайте, что мой конец пришел сегодня.
С возрастом императрица, все чаще глядя на гребни восточных гор[98], размышляла: «Как живет там моя мать?» Она хотела покинуть этот мир, все пробуждало в ней глубокую печаль. Она въехала в императорский дворец, государь денно и нощно клялся ей: «Будем птицами бииняо»[99], его слова проникали ей в сердце и доставляли глубокое наслаждение, но вражда во дворце внушала ей страх и отвращение к нашему миру. Сын ее, принц, был необыкновенно мил и не годам рассудителен, он утешал мать в ее скорби. Она спокойно жила в Хэян, где все успокаивало ей душу, днем она читала «Лотосовую сутру», а в ясные лунные ночи до рассвета играла на цине. Для обычного человека такое существование полно печали, но императрица с самого начала поняла, что не создана для жизни во дворце государя. Она не считала пустыми глубокие клятвы своего супруга. О своей матери она ничего не знала и не надеялась еще раз ее увидеть. Императрица жила в очень красивом месте, любовалась луной и цветами и ни о чем не тревожилась, но сердце ее не было привязано к этому миру. Она была похожа на мать: ее осанка, внешность и манера говорить совсем не отличались от японских, она была приветлива, всегда благожелательна, ее мягкое, спокойное поведение было непохоже на китайское. Такими же были прислуживающие ей дамы. Глядя в тот вечер, как они любовались цветами, Тюнагон чувствовал, что манеры императрицы и дам совершенно не отличаются от японских.
Императрица мечтала, чтобы хотя бы ветер принес ей весточку из Японии. Однажды оттуда в Китай приехал монах. Императрица встретилась и долго разговаривала с ним. На прощанье она попросила, чтобы он разыскал ее мать. Когда же она услышала, что приехал Тюнагон, она с нетерпением ждала встречи с ним, желая услышать новости из Японии.
Принц сторонился людей своей страны, а Тюнагона все время хотел видеть и чувствовал к нему расположение, поэтому юноша часто бывал во дворце, и каждый раз, видя его, императрица думала: «Этот человек прибыл оттуда, где живет моя мать, по которой я так сильно тоскую», и проливала слезы. Можно ли представить ее чувства? Тюнагон со своей стороны не мог забыть облик, который видел в тот вечер любования хризантемами, и с тоской спрашивал себя: «Увижу ли я ее еще раз?»
6
Однажды принц, беседуя с матерью, сказал ей тихо, чтобы никто больше его не слышал:
— Многие докучают мне, утверждая, что мы с Тюнагоном так похожи друг на друга. Я вовсе не так хорош, как он; подобные разговоры — глупый вздор, и я ничего не могу сказать по этому поводу. Но в действительности я был японцем, и в моем прошлом воплощении Тюнагон был моим единственным сыном. Я очень любил его, и от возрождения в Чистой земле меня удержала только привязанность к нему, поэтому я возродился здесь. Тюнагон узнал об этом и решил встретиться со мной. Японский правитель не давал разрешения на отъезд, а мать Тюнагона горевала так, что, казалось, вот-вот расстанется с жизнью, но он не поддался на уговоры, выпросил трехгодичный отпуск и прибыл сюда. Придворные негодуют: «Вы так неожиданно сблизились с человеком, прибывшим из неизвестной страны, и так полюбили его!», а я помню любовь, которая существовала между нами в предыдущем воплощении, все время жажду его видеть и, встречаясь с ним, испытываю наслаждение. Прошу вас, не относитесь к нему как к чужому. Я знаю, что он не может у нас долго оставаться, и уже сейчас представляю, как сильно буду печалиться после его отъезда
Принц заплакал. Императрица была потрясена, она не могла прийти в себя от изумления.
— Почему вы до сих пор ничего не говорили об этом? — произнесла она наконец. — Я мимоходом отмечала, что вы с ним похожи, но и предположить не могла о связи между вами в предыдущем воплощении. Я думала, что вы чувствуете к нему дружеское расположение из-за его безупречной внешности, и каждый раз, видя его, чувствовала, как будет печально, когда он возвратится на родину. А оказывается, между вами существует глубокая связь отца с сыном. Въехав в императорский дворец, я должна была бы искать почестей и добиваться доходных должностей для семьи, но я не такова. Мой отец, подвергшись жестоким нападкам, не захотел оставаться в этом мире и удалился в затворничество в глухие горы. Я сама не смогла жить во дворце, уединилась здесь, как дама, которая в древности прозябала во дворце Шанъян[100], и веду унылое, пустое существование. Вы рассудительны и прекрасно во всем разбираетесь. Сейчас вы один являетесь моей опорой, только вы успокаиваете мое сердце. Если бы вы чувствовали обычное дружеское расположение к Тюнагону, я бы к нему относилась так же; но ваше признание так глубоко потрясло меня, и я ощущаю такие глубокие чувства к нему, что я и сама хотела бы видеться и беседовать с ним, не стесняясь ничьих взглядов.
Она и раньше была расположена к Тюнагону, он становился ей все милее, а после рассказа принца ей хотелось, не обращая ни на кого внимания, встречаться с ним. Но Первая императрица и другие наложницы распространяли о ней отвратительные сплетни и только ждали повода, чтобы погубить ее; и если бы пошли толки, что она, отдалившись от государя, ведет беседы с японским путешественником, она сама погибла бы, а ее сын и Тюнагон оказались бы в чрезвычайно трудном положении. По этой причине она воздерживалась от встреч с Тюнагоном.
7
Тюнагон о чувствах императрицы не догадывался и мечтал еще раз увидеть ее. «Издали она кажется похожей на японку, но своей манерой говорить совершенно отличается от Ооикими», — думал он. Императрица завладела его помыслами, но он ни на мгновение не забывал о своей родине.
Однажды, когда он невольно забылся, к нему приблизилась дочь генерала. Она казалось страдающей, глаза ее были устремлены в пустоту. Тюнагон хотел было рассказать ей о тоске по ней, которой постоянно была охвачена его душа, но в это мгновение Ооикими, роняя слезы, произнесла:
— Знаешь ли ты, Кто виной, Что я в море слез Погрузилась И стала рыбачкой?[101]Тронутый ее печалью, Тюнагон сам горько заплакал и, залитый слезами, проснулся. Он долго находился под впечатлением сна. «Если Ооикими так неотступно думает обо мне после моего отъезда, то любовь ее ко мне велика. Я бездумно сблизился с ней, очень скоро оставил ее и отправился в дальнее плавание. Что она думает обо мне?» — размышлял он и уже не во сне, а наяву проливал слезы.
«Увидел во сне: В стране, где солнца восход, В сумерки Сосны на взморье С любовью меня вспоминают»[102], —сложил он. Тюнагон вспомнил Ооикими, которая на рассвете в момент их прощания не могла сдержать своей печали и на которую нельзя было смотреть без жалости. «Если не прервется моя жизнь и я возвращусь в Японию, смогу ли загладить обиду, которую я причинил, покинув ее? Она, наверное, стала-таки женой принца Сикибукё. В таком случае положение Ооикими, любившей меня, очень печально», — размышлял он. Несколько дней Тюнагон не мог думать ни о чем другом.
8
Без особых событий год подошел к концу. В стране, куда Тюнагон прибыл по собственной воле, многое было для него мучительно, но принц, который внешне был непохож на отца Тюнагона, питал к нему те же чувства, которые существовали между ними в предыдущем рождении, и это давало Тюнагону силы с твердостью переносить тяготы в чужом краю.
Утро Нового года было таким же, как в любой другой стране, и подернутое дымкой небо и пение соловья[103] напоминали день Нового года в Японии. На ум приходило старое стихотворение: «А весна — не та же это весна?»[104]
Тюнагон вспомнил, как в былое время встречал с близкими Новый год, и, чтобы развеять тоску, охватившую его при мысли о дорогих его сердцу людях, оставшихся на родине, отправился в горы, сплошь, как ему рассказывали, покрытые цветущими сливами. Еще издали почувствовал Тюнагон аромат, далеко разносимый ветром, который нельзя было спутать ни с каким другим благоуханием, — сливы цвели повсюду, и гора казалась белой.
«Казалось издали, Что белым полотном Окутал гору снег. Но вижу: склоны побелели Отелив цветущих», —сложил Тюнагон.
Затем он направился в местечко, которое называлось Персиковый источник. По берегам реки тянулись одни только персиковые деревья. Картина была столь прекрасна, что юноша не верил, что видит ее наяву.
«В древности очарованный цветами человек хотел дойти до места, где кончались эти персиковые деревья, он шел и шел, конца им не было, но он продолжал настойчиво искать и, наконец, услышал, как лаяли собаки. В том месте были какие-то люди. Ему дали персик, и он сделался магом. Вот как рассказывает легенда. Это те же самые цветы», — вспомнил Тюнагон. Предание об этом в далекие времена дошло до Японии, и Тюнагон знал его[105]. Многие об этом слышали, и юноше доставляло удовольствие думать, что только ему выпала такая удача видеть воочию это место.
9
Министры и другие важные сановники, у кого были дочери на выданье, размышляли: «Пусть Тюнагон чужеземец и останется у нас недолго, но если бы он женился на моей дочери! А если бы у них родился ребенок, это была бы память о таком необыкновенном человеке. Какая была бы радость!» Сделав необходимые приготовления, они приглашали Тюнагона к себе в дом, но сам он думал: «Я и у себя на родине не помышлял о таких соблазнах, а уж в чужой стране и вовсе не пристало. Если бы я отважился на такое, то столкнулся бы с большими препятствиями, собравшись возвращаться домой».
Третий принц говорил ему по секрету:
— Очень многие лелеют в душе желание женить вас на своих дочерях, но вы ни в коем случае не соглашайтесь. Люди в этой стране кажутся вежливыми, но сердца у них жестокие, и если кто-нибудь задумает не отпустить вас отсюда, это будет грозить вам печальными последствиями. В силу своей кармы[106] вы родились в Японии, и было бы ужасно, если бы вам пришлось окончить жизнь в Китае. А самое главное заключается в том, что, не выполнив обещания вашей матушке вернуться через три года, вы совершите страшное преступление против сыновнего долга
Сам Тюнагон думал так же и не соглашался на предложения сановников.
У отца Первой императрицы, министра, было много дочерей. Из них пятая была утонченной непревзойденной красавицей, которую отец воспитывал особенно заботливо. В десятом месяце предыдущего года, во время выезда императора в Дунтин для любования красными листьями кленов, она увидела Тюнагона, заболела, слегла, побледнела лицом. Министр всполошился, заказывал молебны за здравие и чтения сутр, но результата это не давало.
— Что с тобой? — со слезами спрашивал он дочь.
— Мне хотелось бы услышать, как играет на цине японский советник. Может быть, музыка немного развеет мою печаль, — ответила она. — Я не так плохо себя чувствую, чтобы поднимать тревогу, только на сердце у меня тяжело.
— Действительно, при одном взгляде на советника забываешь о болезнях и кажется, что собственная жизнь удлиняется, — сказал отец. — Тебе пришла в голову превосходная мысль. Я привезу его сюда.
Был прекрасный день. Повсюду цвели деревья. У всех на душе царила радость. Министр в сопровождении великолепной свиты прибыл в башню, где жил Тюнагон.
«Здесь это первое лицо, он заставляет всю страну подчиняться своим желаниям. С какой целью прибыл ко мне столь важный вельможа?» — с удивлением спрашивал себя Тюнагон. Он почтительно приветствовал гостя.
— Многие именитые персоны высказывают вам свои заветные намерения, но вы пропускаете их мимо ушей, — сказал министр. — Тем не менее, в день, когда повсюду распустились цветы, я прибыл, чтобы пригласить вас в свою лачугу.
Отказаться было невозможно.
— Я очень тронут, — ответил Тюнагон. — Если таково ваше желание, я охотно поеду с вами.
Он тщательно оделся и вместе с министром отправился к нему.
Великолепный дом министра был роскошно обставлен и убран — казалось, что это дворец самого императора. Когда Тюнагон вошел, раздалась музыка[107]. Семь или восемь знатных придворных, среди которых были советники министра, торжественно встретили молодого человека. Все уселись в непринужденных позах в тени ив у пруда, возле которого росли прекрасные цветы. Справа и слева от них расположились музыканты, игравшие на различных инструментах[108]. Собравшиеся танцевали, сочиняли стихи и музицировали; все было исполнено глубокого вкуса. Об угощении нечего и говорить министр позаботился о всевозможных редких яствах.
Хозяин вошел в дом и увидел свою пятую дочь, которая в последнее время не поднималась с постели и была погружена в печальные думы; она стояла у парчовой занавеси, ее волосы были украшены драгоценными шпильками, и она, улыбаясь, смотрела на Тюнагона.
— Ты мне ничего не говорила о столь простой причине твоего недомогания, и я понапрасну заставлял тебя мучиться, — сказал ей отец.
В мире таких обычаев не было[109].
Пока собравшиеся развлекались, наступил вечер.
— Оставайтесь у нас ночевать, — стал настойчиво уговаривать Тюнагона министр и ввел молодого человека в дом, за занавесь.
Тюнагон вспомнил, как Третий принц предупреждал его: «У этого человека страшное сердце». Ему стало не по себе. Тюнагон обратился к третьему сыну министра, второму советнику, который часто приходил к нему и вел с ним долгие разговоры:
— С какой стати ваш батюшка оставляет меня ночевать? Я не могу ответить, не зная его истинных намерений.
— Моя пятая сестра — любимица отца. Вот уже несколько месяцев, как она больна и не встаете постели. Отец печалится и не сводите нее глаз. Она сказала: «Если я увижу японского советника, болезнь, вероятно, пройдет». Отец хотел только развеять ее уныние, — выложил тот.
Никто так откровенно не выражал своих мыслей, и Тюнагон подумал: «В этой стране принято говорить прямо, ничего не утаивая. Сын министра не имеет ни одного недостатка, он блещет талантами, у него внушительная внешность, и он благороден; такая привычка происходит не из недостатка воспитания. Вероятно, здесь такой обычай».
В нашей стране в разговоре тщательно выбирают слова и смягчают выражения, поэтому китайская манера удивила Тюнагона, и он невольно засмеялся.
— Доставить ей утешение нетрудно, — ответил он. — Почему бы я не согласился на это? Я мог и раньше посетить ваш дом и увидеться с вашей сестрой, но наш мир кажется мне подобным краткому сновидению[110], и я никогда не входил в комнату к женщинам и не встречался с ними. Если бы какая-нибудь женщина завладела моим сердцем, разве я решил бы покинуть родину и отправиться так далеко? Рассудите сами. Некоторые причины заставили меня устремиться в ваши края. Я совсем не похож на обычных людей, которые не стали бы возражать на предложение стать вашим зятем и немедленно явились на приглашение. Неужели первый министр представлял меня заурядным молодцом?
Третий сын направился к отцу и передал ему слова Тюнагона. Министр вышел к молодому человеку и сказал ему:
— Я прекрасно понимаю вашу твердость. Пожалуйста, не беспокойтесь. Моя молоденькая дочь хотела всего лишь увидеть вас и все просила: «Пригласи да пригласи его к нам».
Он настойчиво убеждал Тюнагона войти в комнату, и тот, как ни противился, отказаться не смог.
Нечего и говорить, что помещение было убрано с чрезвычайной роскошью. Пятнадцать прислуживающих дам в изысканных нарядах, с красивыми прическами, пряча лица за веерами, сидели друг подле друга у столбов. Возле них были расставлены светильники. Полог, за которым лежала дочь министра, был немного приподнят; она вертела в руках веер и смотрела на Тюнагона. Картина удивила молодого человека[111], и он не знал, как быть. «Что делать? Если бы она была даже похожа на императрицу из Хэян, я бы все равно не устремился к своей погибели», — подумал он.
Тюнагон приблизился и заговорил с девицей. В ней не было заметно ни малейшей робости. При блеске светильников Тюнагон увидел, что ей только семнадцать-восемнадцать лет, она была белолица и мила, но с императрицей нечего было и сравнивать. Многие из ее слов были ему непонятны[112], ему показалось, что он очутился в каком-то другом мире. Тюнагон был разочарован[113]. Сев возле дочери министра, он стал играть на цине. Ему стало жалко девицу, и он сказал:
— Я чувствую к вам глубокое расположение. Пока я здесь, я буду время от времени навещать вас.
Он оставил ей на память флейту, которая была при нем, и до рассвета ушел из дома министра.
Не желая раздражать ее отца, о котором говорили как о страшном человеке, Тюнагон стал посылать его дочери письма. Болезнь ее происходила оттого, что она всей душой влюбилась в красивого, великолепного Тюнагона. Принес ли ей действительно его визит облегчение? Увидев его и поговорив с ним, она почувствовала, что ей стало лучше, и от нее не слышали больше жалоб, которые внушали бы тревогу.
Министр и раньше слышал, что Тюнагон очень тверд духом, поэтому решил не настаивать. Он радовался, что дочь его выздоровела, и много раз благодарил молодого человека за излечение. Тюнагон жалел министра и в то же время думал, что такое открытое изъявление чувств необычно для японцев.
10
После встречи с пятой дочерью министра Тюнагон почувствовал сильное желание увидеть еще раз императрицу из Хэян, но возможности такой не представлялось. Он не знал, как поступить. Ему говорили, что Будда из храма Прозрения[114] обладал чудодейственной силой, и отправился туда. «Дай мне только еще раз увидеть императрицу», — молил он.
Во сне он увидел человека, по-видимому священника этого храма, который в сияющих одеждах, излучая благодать, приблизился к нему и произнес:
— Не посторонним взглядом, Вблизи увидишь, О чем взываешь. Судьба в былых мирах Связует жизни.Тюнагон проснулся. Сколько ни думал, он не мог догадаться, что значил этот сон.
В то время императрица получила важное откровение[115]. Каждый раз, когда она должна была ехать в Янчжоу[116], грудь ее стесняла тревога, и императрица теряла сознание. Поэтому она, плача, просила разрешения у императора не являться во дворец; мол, лучше государю знать, что она жива, чем стремиться к непосредственным встречам и слышать о печальных намерениях, которые глубоко проникли ей в душу. Таким образом, императрица оставалась в Хэян, но существование ее не было спокойным. Она жила в страшном мире, непрестанно беспокоилась, что с ней в конце концов будет, и тайно обращалась к гадателям, известным в то время своей мудростью. Они в один голос твердили: «Вам надо уехать из дворца, в котором вы ныне находитесь, и выдержать строгий пост».
В Китае императрицы пользуются большей свободой передвижения, чем в Японии. Государыня отправила сына в столицу, а сама, объявив, что будет в полном уединении поститься, тайно перебралась в Шаньинь в сопровождении всего лишь нескольких близких прислужниц. Это местечко было в одном дне пути от ее жилища в Хэян.
11
Тюнагону захотелось посетить места, где в былые времена жил Ван Цзыю[117], который в лунные ночи катался на лодке, наслаждаясь музыкой и сочиняя стихи, и он отправился туда. Ночь была прекрасна, луна в дымке казалась необыкновенно красивой, повсюду благоухали цветы.
«Точно такое небо было и у меня на родине», — подумал молодой человек. Может быть, кто-то в Японии, глядя в ту ночь на луну, вспоминал о нем[118]. В такие ночи он принимал участие в исполнении музыки в императорском дворце, а в прошлом году, весной, в прекрасную лунную ночь, он явился с прощальным визитом к принцу Сикибукё, и тот сожалея о предстоящей разлуке, сложил стихотворение о луне, уплывающей на запад. О многом вспомнил Тюнагон и не мог сдержать слез.
«Луна сквозь дымку Льет тусклые лучи. Когда увижу Ночное небо, Которым раньше любовался?» —сложил он.
Погруженный в думы, ехал он вдоль реки. Время от времени он различал какие-то дома. На берегу росли сосны и вишни. Под одним деревом стоял, опираясь на железный посох, глубокий старец в шапке и любовался сквозь цветущие ветви сиянием луны. Старец казался богом, как их изображают на картине. За ним стояла девочка в прическе бидзура с веером в руках. Пораженный этой чарующей картиной, Тюнагон остановился.
Не сводя глаз с луны, старец произнес:
— Быть может, на рассвете Прервется жизни нить. Любуйся же луной, Что блеском наполняет Простор небесный.Стихотворение было исполнено глубокого чувства. Тюнагон ответил:
— Сколько ни черпай, Бежит поток И струится лик лунный. Много веков будешь взирать На ночное светило[119].Неподалеку от них раздались обворожительные звуки лютни. Тюнагон двинулся в ту сторону, откуда доносилась музыка, и у подножия горы, недалеко от реки увидел очень красивый дом. Он не производил впечатления заброшенного и, несомненно, принадлежал благородному лицу, но был не достроен. Возле него никого не было видно. Тюнагон с осторожностью приблизился к уединенному строению
Ярко светила луна. Перед верандой цвели прекрасные цветы Занавеси в доме были подняты. На веранде сидели женщины в роскошных нарядах, какие Тюнагон часто видел в той стране. Одна из них играла на лютне. Посреди этой пленительной картины, в глубине помещения полулежала, положив голову на руку, дама, пристально смотревшая на луну. По-видимому, это была хозяйка дома. Ее лица Тюнагон ясно видеть не мог, он смотрел на нее сбоку, но ему показалось, что эта освещенная луной бесподобная красавица похожа на императрицу в Хэян, которую он видел вечером, когда она любовалась хризантемами. Мог ли он представить, что это она и была?
«Я считал, что второй такой красавицы на свете нет, — подумал он, — но вот женщина, так разительно на нее похожая».
Через некоторое время музыка стихла. Тюнагон вошел в дом.
Его появление было так неожиданно, что прислуживающие дамы спрашивали себя, не сон ли это; но когда их сомнения рассеялись и они убедились, что перед ними Тюнагон, они поняли, в какое трудное положение попали. Прислуживающие в ту ночь дамы были умны[120] и решили между собой: «Делать нечего. Но он не должен догадаться, что это государыня». Они не подавали виду, что испуганы или озадачены.
Императрица же думала в замешательстве: «Я связана с Тюнагоном судьбой! По велению Будды я удалилась в неизвестное никому место. Во дворце я бы в таком положении не оказалась. Я никак этого не ожидала, но так распорядилась сама судьба, которая связала нас в предшествующих рождениях. Сейчас уже делать нечего. Только надо постараться, чтобы он не узнал меня».
Она ничем не обнаруживала своего волнения. А Тюнагон думал, пораженный: «В этой стране спокойного изящества не встретишь, а эта дама совсем не отличается от японских женщин. Такого дружелюбия, такого благородства, мягкости, проникновенного сочувствия нигде больше не увидишь. И такая красавица существует в этом мире!»
Проливая слезы, Тюнагон клялся даме в любви.
— Неожиданно Будда связал меня с вами глубокими клятвами, подобной вам в этой стране больше нет. Но кто вы? Я не смогу жить, если никогда больше не увижу вас. Если бы вы тайно пришли ко мне! — сказал он.
— Я связана неким повелением и должна быть очень осторожной, — ответила она. — Выполнить вашу просьбу я не могу. Действительно, наша встреча совершенно неожиданна, но судьбы, которая нас соединила, избежать невозможно, поэтому для будущих встреч у нас не будет препятствий. Спросите обо мне у присутствующих здесь дам, они все вам расскажут.
Слова ее были дружелюбны, манеры безупречны; видно было, что это не рядовая женщина.
Начало светать
— Лучше вам здесь не оставаться. Простимся немедля... — сказала императрица.
Тюнагон и сам понимал, что надо торопиться, но справиться с чувствами было нелегко и уйти он не мог.
— Раньше не знал, Как горько На заре расставанье Сердце напрасно Ищет покоя, —сложил он, проливая слезы. — Оставив в Японии родных и друзей, я, как в непонятном сне, прибыл в эту страну. Сейчас я думаю, что все это было для того, чтобы мы, соединенные клятвами в предыдущих рождениях, встретились снова.
Его слова отзывались в душе императрицы, ей было очень тяжело, и, проливая слезы, она произнесла
— Не знаю, что думать: Горе ли это Иль наслажденье? Посланцем неба чужого Сюда ты явился.Вид ее был очень трогателен. Тюнагон не мог встать и распрощаться с ней Неожиданно он с тоской вспомнил о расставании с Ооикими. Однако нельзя было оставаться дольше, не обращая внимания на беспокойство дамы.
— Вы велите мне уйти, и я вынужден подчиниться, но очень хочу вечером опять встретиться с вами. Как мне найти вас? — спросил он.
— Сегодня и завтра — дни очень строгого поста, и сюда приходить вам нельзя. Я пробуду два или три дня там-то и там-то. Там есть место, которое называется Чанли[121], и когда наступит ночь, приходите туда. В этом доме я останусь недолго, и я должна соблюдать строгий пост. Некоторых людей здесь следует сторониться. Пожалуйста, даже писем сюда не присылайте. Мы увидимся в месте, которое я указала.
Она подробно объяснила, где остановится в Чанли. Слова императрицы не вызвали у молодого человека ни малейшего сомнения. Ее поведение было совершенно естественно. Она велела ему обо всем расспросить прислуживающих дам — это значило, что она не собиралась избегать его и положить конец их отношениям. Тюнагон вообще верил китайцам на слово и не предполагал, что императрица обманет его. Повторив свои клятвы, он удалился.
Тем не менее, он послал гуда слугу. Вернувшись, тот доложил
— Там даже заделали замочную скважину. Внутри очень много народу, а снаружи дом окружен стражниками.
«Похоже, что она понимает, как вести себя. Действительно, следует быть осторожным. Даже в Японии, где все мне привычно, в поисках любовных приключений надо многого опасаться, а тем более нехорошо, если в чужой стране обо мне пойдет слава ловеласа», — подумал Тюнагон.
Успокоившись, он вернулся домой.
12
Указанное место Чанли соответствовало западной части японской столицы[122]. На третью ночь после таинственного свидания Тюнагон отправился гуда и спросил, как ему было велено, но ему ответили: «Никто в округе о таких людях не слышал». Он попытался осторожно заглянуть в дом, но никого, похожего на императрицу, не увидел. Он был в растерянности, грудь у него стеснило. Он опять послал слугу в Шаньинь, но императрица приняла необходимые меры и дом был пуст. Даже в Японии, где Тюнагону было все известно, невозможно было отыскать человека, если он хотел скрыться. Тем более что он, иноземец, приехавший на некоторое время, не знал здешних обычаев и не догадывался, как люди вели себя в подобных обстоятельствах. Он не хотел, чтобы о нем начали судачить: «Откуда только выискался такой повеса?» Возможности отыскать императрицу у него не было. Он беспрестанно посылал слугу в Чанли, но никто ничего не мог ему сообщить.
Тюнагон ни на мгновение не мог забыть императрицу и ни в чем не находил утешения. Он сосредоточенно думал только о ней и донельзя страдал.
«По бурному морю, До нитки промокнув, Сюда я прибыл, Чтобы на горных тропах Любви заблудиться», —сложил он.
Тюнагон оставался погруженным в мрачные думы. Все вокруг отмечали, что он впал в уныние и осунулся.
«Прибыв сюда, Тюнагон некоторое время дивился необычным порядкам, — думал Третий принц. — Но жить в чужой стране нелегко, и он все больше и больше тоскует по родине».
Это было естественно, и принц жалел Тюнагона.
Как-то раз он сказал матери:
— Жизнь в нашей стране для Тюнагона, кажется, тягостна. Он старается не показывать виду, но скрыть этого нельзя. Неужели ему так невесело в Танском государстве?
На глазах его показались слезы, и он тяжело вздохнул.
Грудь у императрицы затрепетала. «Как ни безупречен Тюнагон, но я императрица. Как я могла, словно во сне, завязать отношения с чужеземцем?» — терзалась она. Императрица убеждала себя, что нельзя было избежать судьбы, но чувствовала неясный страх. После возвращения из Шаньинь она ничего не ела. Время шло, и императрица поняла, что она не такова, как обычно[123]. «Так было предопределено в предыдущих рождениях», — повторяла она, но ничто не могло сравниться с ее тревогой.
Все искусные гадатели говорили, что у императора, кроме трех, не будет других сыновей. «Я давно удалилась из дворца, и никто не поверит, что я ношу ребенка государя. Что начнут говорить обо мне другие императрицы! Они погубят и меня, и моего сына. Что предпринять?» — проливая слезы, думала императрица.
Шло время. Императрица беспокоилась: «Что будет, если государь приедет сюда и увидит, какой огромный у меня живот?» Она решила воспользоваться предлогом, что Первая императрица замышляет причинить ей большое горе, и покинуть свой дворец. «В разлуке с сыном я не смогу жить, а государь хочет, чтобы принц был рядом с ним. Если я буду противиться его желанию, это будет грозить мне страшными последствиями. Но жить здесь, как будто ничего не случилось, и не принять меры против возможного заговора — неразумно», — думала она, чувствуя отвращение к делам нынешнего мира[124].
Поручив принца верным прислужникам, в сопровождении только семи или восьми дам она тайно переехала к отцу в Шушань. Принц очень тосковал по ней и плакал. Императора отъезд императрицы встревожил, и он каждый день писал ее отцу такие письма:
«Государыня говорит, что хочет удалиться от мира, но я никак не могу этого допустить. Пока я нахожусь на престоле, она не должна по собственному произволу принимать монашество. Я правлю миром и не могу следовать своим желаниям, но через некоторое время я передам престол Третьему принцу и буду жить беззаботно, ни о чем не тревожась. Пусть ваша дочь потерпит немного, подождет до этого времени».
Не думал ли и сам отец, что при такой красоте, как у его дочери, было бы грешно отрекаться от мира? Он говорил, что ее ждут большие почести, и всячески утешал ее. Императрица же, читая послания государя, думала: «Если узнают о моем положении, я сразу удалюсь в монастырь». Она, горюя и проливая слезы, читала «Лотосовую сутру», выполняла обряды и, никому не показываясь, проводила дни и ночи перед статуей Будды. В столице сожалели, что императрица больше не появится при дворе.
Тюнагон никак не мог подавить страсть к даме из Шаньинь. Она была очень похожа на императрицу, и юноша думал: «Если бы я встретился с государыней, я бы немного успокоился». Когда же он узнал, что императрица удалилась далеко в горы и живет там безвыездно, он очень опечалился
Тюнагон поехал в Хэян. Несмотря на отсутствие императрицы, во дворце не было уныло. Юный принц принял Тюнагона совсем как взрослый и пригласил сесть. Все то время принц был погружен в глубокие размышления и очень обрадовался приехавшему.
— Сердца танских людей надежны, но и в незначительных делах, и в крайне серьезных они часто ведут себя неразумно[125]. Китайцы холодны сердцем, они не знают, что такое сочувствие, и меня страшит, что вы так долго остаетесь в этой стране, хотя, когда вы уедете, я буду безутешен. Что вы на это скажете? — обратился принц к Тюнагону.
Видя, что принц печален и то и дело глубоко вздыхает, Тюнагон не мог сдержать слез. Они долго говорили о разных вещах.
— Без матушки мне очень грустно, — сказал принц, — но когда я вижу вас, мое сердце успокаивается. Пока матушка пребывает в затворничестве в горах Шушань, оставайтесь со мной.
Он велел красиво убрать комнату для Тюнагона. Они вместе музицировали, сочиняли стихи и таким образом утешали друг друга. Принц, как и его мать, чувствовал отвращение к делам нынешнего мира, он редко появлялся при дворе и все свое время проводил с Тюнагоном. Пока императрица находилась в Хэян, при появлении там Тюнагона принц опасался, что поползут нехорошие слухи, а теперь, ничем не стесняясь, он с наслаждением подолгу беседовал с гостем.
Тюнагон, погрузившись в воспоминания о своих любовных муках, сложил:
— Куда исчезла луна, Что ночью весенней Так ярко светила? Безутешно в пустые Гляжу небеса.Видя, что Тюнагон то и дело неожиданно начинает плакать и погружается в глубокую печаль, принц делал вид, что ничего не замечает, но, услышав стихотворение, подумал: «Он не только тоскует по родине, что-то еще лишает его покоя. Не смутила ли его сердце какая-то здешняя женщина? Начиная с весны он непохож на себя. Он знает, куда исчезла луна, — это значит, что он хочет отыскать женщину. За этим что-то кроется. Кто бы это был?» — снова и снова думал принц, склонив в сомнении голову.
13
В последних числах шестого месяца император вместе с Третьим принцем и Тюнагоном выполнял обряд очищения на широкой реке, которая называлась Длинной и протекала на юг от дворца[126]. Собравшиеся наслаждались прохладой, все были в прекрасном настроении. Широкая быстрая река напоминала Тюнагону реки Оои и Удзи у него на родине. На берегу были натянуты парчовые навесы и расставлены сиденья. Собравшиеся сочиняли стихи, потом музыканты сели в лодки с носами дракона и цапли[127] и, плавая по реке, стали исполнять музыку. Все получали огромное удовольствие. Императрица из Хэян в результате интриг удалилась из дворца государя и в то время была в затворничестве в глухих горах, но Третий принц своим безупречным видом превосходил всех вокруг, и с этим приходилось считаться его недоброжелателям. Государь беспредельно любил его и во время подобных выездов особенно о нем заботился. Тюнагон даже во время развлечений чувствовал муки и сидел около прохладной воды, опершись в задумчивости на руку. Никто не мог сравниться с ним, все с наслаждением любовались его красотой.
Принц приблизился к нему и, улыбаясь, сказал:
— Думал, найдешь очищенье От любовных желаний Не вняли боги мольбам. По-прежнему сердце Страстью пылает.«Как он догадался, что у меня на душе?» — изумился Тюнагон и нерешительно ответил:
— Богов речных Не надо просить Об очищенье. От любви искушений Сердце свободно.Седьмого дня седьмого месяца[128] в императорском дворце Чэн-хуан[129], где когда то встречались Си Ванму[130] и Дунфан Шо[131], император изволил заниматься сочинением стихотворений и исполнять музыку. На пир был приглашен и Тюнагон. Государь, обладающий тонкой душой, был очень красив. Он достиг высокого мастерства в исполнении музыки и был столь же опытен в делах, требующих разумного решения. Тюнагон предполагал, что он во всем уступал первому министру и императрицам, и совершенно прервал отношения с императрицей из Хэян, которая ему так нравилась, из-за слабости своего характера.
Ветер к вечеру посвежел, на небе показалась чарующая взор луна. Император, задумчиво глядя в небо, произнес:
— Я хочу, чтобы в небесах мы были птицами бииняо; хочу, чтобы на земле мы были подобными сросшимся деревьям[132].
Тюнагон, с жалостью глядя на него, догадался, что он вспомнил об императрице из Хэян.
Император выпил вина и предложил Тюнагону. Тот, приняв чашу, произнес:
— Быть раздвоенной веткой Когда-то клялись... Но пусты обещанья, И, как горная птица, Пребывает вдали от столицы...Императору стало ясно, что Тюнагон понял его душевное состояние, и слезами, которых не смог сдержать, он вымочил рукава. В ответ государь сложил:
— В далекие годы Такая же ночь Клятвам страстным внимала. И в мой век бывает Любовь без конца[133].Император относился к Тюнагону очень милостиво. В душе же Тюнагон все время думал о той женщине из Шаньинь, с которой он, как в каком-то сне, обменялся клятвами. «Если бы она была женщиной из Японии, — думал он, — то как бы ни страшилась света, она бы не скрылась, не оставив никаких известий, а у этой женщины, как у всех китаянок, нет никакого сочувствия и душа у нее злобная». Он старался презирать ее, но не смог бы забыть, сколько бы не прошло веков, как она, плача, ответила ему: «Посланцем неба чужого сюда ты явился». И как ни мучила его тоска по родине, он не мог бы уехать из Китая, не встретившись еще раз с этой женщиной.
14
Стояла поздняя осень. Долгие ночи казались еще длиннее оттого, что Тюнагон, вспоминая о свидании с незнакомкой, не спал до рассвета. Его беспокоила обстановка, и он не смыкал глаз. Он с тревогой наблюдал, что происходит при дворе, и часто думал об императрице из Хэян, которая была очень похожа на ту даму.
Третий принц попросил его отвезти матери письмо, и Тюнагон отправился в горы Шушань. Высились неприступные пики, шумели водопады, даже деревья и травы поражали необычным видом. Бывший министр жил в чрезвычайно красивом месте. Никого не было видно вокруг, безлюдье не было жутким, но навевало уныние. Вокруг было очень тихо. Императрица несколько месяцев жила там, слушая завывания ветра и проливая слезы. Она никому не показывалась, выполняла обряды или сидела неподвижно перед статуей Будды, размышляя о своей жизни.
Ей доложили, что прибыл Тюнагон с письмом от принца. Императрица испугалась, но, взяв себя в руки, подумала: «Он не знает, что в ту весеннюю ночь встретился со мной, наших сердец мы не открыли друг другу. Как во сне, я неожиданно для самой себя обменялась с ним клятвами. Такова горькая судьба, связавшая нас в прошлых рождениях. Я не должна относится к нему, как к чужому». Она погрузилась в глубокую печаль.
«Он приехал сюда специально. Принц поручил ему доставить мне письмо. Сын мой очень прозорлив, у него не такое сердце, как у столичных жителей. С какой целью он решил, чтобы я здесь встретилась с Тюнагоном?» — подумала она и, приказав разложить подушки у двери часовни, сказала:
— Пригласите сюда советника.
На фоне гор вид приближающегося Тюнагона был удивителен, красота его ослепляла глаза, и, хотя императрица страшилась встречи, ей захотелось увидеть гостя. Когда она немного продвинулась вперед и взглянула на него, то почувствовала страх. Тюнагон через прислуживающую даму передал ей письмо. Государыня не могла непосредственно отвечать ему, она написала стихотворение и передала ему:
«От мира страданий В горы глухие идя, Веток в пути не бросала. Как же ты смог Здесь меня отыскать?»[134]На Тюнагона, должно быть, подействовала окружающая обстановка, он был очень взволнован и не мог удержаться от слез. В ответ он сложил:
— Далеко ли, близко ли — Все тропы в горах Мне открыты. В уединенный скит Вело меня сердце.Стояла глубокая тишина. Тюнагон почувствовал несказанно прекрасный аромат от одежд императрицы, который будил воспоминания о сне в весеннюю ночь. Он долго чувствовал на своих рукавах благоухание от одежд той дамы, которое распространялось более чем на сто шагов[135] и не походило на другие составы. Аромат, плавающий в часовне, напомнил ему его печальную любовь. Он не мог догадаться, в чем дело, и неутешно плакал.
Отец императрицы с изумлением услышал, что пожаловал Тюнагон. Он давно хотел познакомиться с ним, но, живя в глухих горах, с сожалением думал: «С чего бы советник без всякой надобности появился здесь?» Вне себя от радости он распорядился: «Пригласите гостя сюда».
Министру было за пятьдесят. Он был очень красив. Увидев Тюнагона, он заплакал крупными слезами. Он в давние времена ездил в Японию и подробно рассказал Тюнагону о своей жизни. Министр совсем не казался иностранцем, он ничем не отличался от жителей нашей страны. Его манера говорить была совсем японской и вызвала расположение Тюнагона. Они дружески беседовали на разные темы, и на молодого человека произвел глубокое впечатление рассказ о том, как министр расстался с матерью императрицы. Потом они играли на музыкальных инструментах и сочиняли стихи. Когда рассвело и Тюнагону надо было возвращаться в столицу, министр пожалел, что визит был слишком кратким; ему казалось, что еще никогда он не общался с таким замечательным человеком
На заре поддеревьями лежала густая тень, горы окутал туман. Двери помещения, в котором жила императрица, открылись, и показались прислуживающие дамы с великолепными шпильками в волосах. Вышедшие проводить Тюнагона, они казались сошедшими с картины. Юноше захотелось остаться в горах, и он произнес:
— В белом тумане Ни подножья горы, Ни вершины не различаю. Куда направиться мне, Чтобы домой возвратиться?На это одна из дам ответила:
— С нами побудьте, Пока не рассеется Белый туман, Скрывший проходы В горных долинах.Все было, как у него на родине.
«Министр привык к японцам, а мать императрицы сама была японкой, поэтому все вокруг нее так хорошо знают наши обычаи, — размышлял Тюнагон. — А вот когда я смотрю на первого министра и слушаю, что говорят окружающие его, мне кажется, что я совсем в другом мире. Я не знаю, откуда эта дама, из-за которой я так мучаюсь и по которой стенаю, но мне показалось, что она похожа на японку. Не из окружения ли она этого министра? Другие люди не кажутся до такой степени моими земляками».
Разыскать даму у него не было никакой возможности. Вдыхая аромат, который проник в его рукава, он сложил:
«Как сон, пролетела Весенняя ночь, И безутешна разлука. Лишь аромат рукавов Остался в воспоминанье».15
Никаких особых происшествий не случалось. Наступила зима. Императрица, удалившаяся в затворничество в Шушань, думала: «Не подошли ли сроки?» За все то время она ни разу не встретилась с государем и даже не видела Третьего принца. Ее мучили предчувствия близкой смерти, но роды не были тяжелыми, какими бывают обычно. Она совсем не страдала, дитя появилось как будто из рукава Это был мальчик, поразительно похожий на Тюнагона. По всем признакам это был воплотившийся Будда. Две-три дамы, знавшие, в чем дело, и опасавшиеся за императрицу, беспредельно радовались, что роды были легкими, и окружили мать и ребенка нежной заботой. Императрица вспомнила то время, когда родила Третьего принца: государь и ее отец были в восторге, к ней самой все относились чрезвычайно внимательно, а сейчас все было очень печально, но тем более младенец был ей мил. Она смотрела на него и думала, что клятвы, которыми она обменялась с Тюнагоном в предыдущих рождениях, были глубокими. Что будет дальше? Доверенные дамы, рассказывая, что речь шла о ребенке одной из них, нашли кормилицу, у которой было достаточно молока. Младенца растили в глубокой тайне. С каждым днем он делался таким большим и красивым, что за него становилось страшно[136]. Глядя на него, мать думала с печалью: «Что с ним будет в будущем?»
Как мог Тюнагон знать об этом? Наступил новый год. Отправляясь в путешествие, он обещал государю и своей матери в тот год возвратиться на родину. «Скоро я должен буду ехать домой», — думал он. Со многим ему было трудно расстаться, но больше всего он горевал о том, что покинет Китай, так и не увидев еще раз незнакомку. Узнав о его приготовлениях к возвращению, все, начиная с императора, были охвачены сожалением и старались удержать Тюнагона. «В былые времена японские послы жили у нас по двенадцать лет, оставайтесь же здесь хотя бы еще на пять», — уговаривали его, но при мысли, что он навсегда останется в чужой стране, Тюнагону казалось, что его душа готова покинуть тело. Он с беспокойством спрашивал себя, что стало с его матерью, с Ооикими и со многими другими. Та женщина из Шаньинь была очень тверда. После единственной встречи она бесследно исчезла и заставила его стенать, но после возвращения в Японию он так или иначе утешится. У него не было причин оставаться на чужбине.
Принц не пытался задержать Тюнагона, но часто думал: «Приедет ли он еще раз сюда? Наверное, нет», — и его охватывала тоска. Тюнагон понимал это, и на сердце у него становилось тяжело.
— Казалось бы, можно всю жизнь прожить в этой земле, но я в момент отъезда не обращал внимания, до какой степени удручена моя мать. Что с ней стало? Беспокоясь о ней, я и решил возвратиться, — сказал он.
Принц не мог просить его: «Побудьте здесь еще немного».
«Чтобы встретиться со мной, возродившимся здесь, он отправился в плавание по бурному морю и оставил дома безутешную мать, — думал принц. — Ясно без слов, что он беспокоится о ней, которая к тому же, в отличие от меня, еще остается в своем прежнем воплощении». Принц ничего не ел, не играл на музыкальных инструментах; видно было, что он страдал. Он очень тосковал по матери, а государь, все более страшась, что императрица навсегда останется в Шушань, беспрерывно посылал ей повеления возвратиться во дворец. Императрица давно чувствовала жестокость нашего мира, но не собиралась удалиться в монастырь; она постаралась, чтобы император не узнал о ее беременности и родах, и под благовидным предлогом отправилась в горы, а после того, как все благополучно кончилось, у нее не было причин не возвращаться к государю. Кроме того, она очень беспокоилась и тосковала по Третьему принцу. Поэтому она решила переехать в Хэян
Узнав о ее приезде, император сразу же сделал туда выезд и встретился с государыней. От длительных служб и тяжелых дум она похудела, но казалась еще более очаровательной, ни одна дама во дворце не могла с ней сравниться. Государь беспредельно любил ее, но они не могли быть все время вместе в столице, а без нее все в этом мире казалось ему неинтересным и горьким. Императрица же, связанная с Тюнагоном нерушимыми клятвами в предыдущих рождениях, хранила тайну. Когда она укрылась в глухих горах, другие императрицы и первый министр немного успокоились, а когда она опять появилась во дворце, государь стал беспрестанно ее навещать и снова подпал под ее очарование; ненависть ее врагов разгорелась еще пуще, и вновь начались интриги против нее. Третий принц после возвращения матери немного успокоился, начал есть, и это доставляло императрице необыкновенную радость.
16
Приближалось время отъезда Тюнагона на родину, все печалились и сожалели, но удержать его было нельзя. Император то и дело думал в связи с его отъездом: «Советник прожил в нашей стране три года. Он во всем обнаружил такие таланты, что никого здесь поставить рядом с ним невозможно. Ничто из того, что он видел и слышал, его не поразило, в Японии ему нечего будет вспомнить, а нам останется только стыдиться. В нашей стране и во сне не увидишь такого, что могло бы изумить советника. Однако красота императрицы, ее облик, ее мастерство игры на цине могли бы изумить его, об этом он не сможет забыть и у себя на родине. Дать ему увидеть и услышать императрицу, чтобы о ней узнали в Японии, — дело нетрудное. Если бы советник дольше оставался у нас, надо было бы опасаться, что он стал бы все время думать о ней и у него возникли бы неподобающие желания. Я представлю ее как одну из моих наложниц, дам ему услышать, как она играет на цине, и это останется у него в памяти».
Отъезд Тюнагона был назначен на последний день девятого месяца. В пятнадцатую ночь восьмого месяца, в которую должны были любоваться луной, император устроил прощальный пир. Все было сделано пышнее обычного. Дворец Вэйян[137] был похож на японский Рэйдзэй[138]. Там имелось тринадцать прудов, сад был разбит с глубоким вкусом, и все радовало взор. В том дворце император и решил провести пир по поводу любования луной.
Он не сообщал императрице из Хэян о своем намерении и только сказал:
— Японский советник нас покидает. В его честь я хочу провести в пятнадцатую ночь во дворце Вэйян пир. Устраивать вам пышный выезд было бы слишком церемонно, да и другие императрицы выйдут из себя от злости. Явитесь на пир тайно, в сопровождении двух или трех прислуживающих дам. Советник на прощанье полностью проявит свое искусство, в этом мире мы ничего подобного больше не услышим. Будет жаль, если вы не будете присутствовать.
У императрицы и в мыслях не было появляться перед Тюнагоном. Услышав слова государя, она почувствовала, как сердце ее сильно забилось и она побледнела, но подумала, что будет сожалеть, если упустит такую возможность и не увидит Тюнагона.
— Это было бы замечательно, — ответила она. — Но если, при всем старании присутствовать тайно, меня заметят на пиру, обо мне будут злословить.
— Вряд ли до этого дойдет, — успокоил ее император. — Постараемся все держать в секрете.
На заре императрица, одевшись как императорская наложница, в сопровождении двух дам, отлично разбирающихся в музыке, явилась во дворец Вэйян. Телохранителям было сказано, что это одна из наложниц, захотевшая полюбоваться зрелищем
В час дракона[139] сам государь пожаловал во дворец. Ему хотелось как-нибудь еще украсить помещение, и без того великолепное. Роскошь ослепляла глаза. Министры, знать, мастера в различных искусствах хотели полностью проявить перед Тюнагоном свои таланты. Исполнение танцев под звуки оркестра было поразительным. Темой для стихов избрали печаль от разлуки с Тюнагоном, и самые знаменитые стихотворцы представили блестящие сочинения, в которых выражали тоску. Стихи же самого Тюнагона были так красивы, что невозможно было сдержать слез. От его лица как будто исходило сияние, и императрица, разглядывая его из-за занавеси, не могла отвести от него взора. Их участь была безжалостна. Однако в тот вечер она не укоряла судьбу, а только проливала слезы, что никогда больше не увидит и не услышит Тюнагона.
Шум вечернего ветра навевал печаль. В саду перед дворцом распустилось множество цветов. Началось исполнение музыки на различных инструментах. Тюнагон попеременно играл то на лютне, то на цине и с неподражаемым искусством исполнил пьесу «Осенний ветер»[140]. Лицо его при этом было столь вдохновенно, что император в полном восторге вошел в помещение, где расположилась императрица, и сказал ей:
— Никто в моем государстве ни в чем не может сравниться с этим советником. Со стыдом и сожалением вспоминаю, что он ни разу не был ни удивлен, ни поражен чем-либо. Я хотел бы защитить честь нашей земли. Под видом моей наложницы низкого ранга дайте ему услышать, как вы играете на цине.
Императрица стала отказываться, но государь снова и снова настойчиво уговаривал ее и, наконец, сказал:
— Послужите сегодня к чести моей земли, и я, несмотря на то, что это может привести к беспорядкам в стране, передам престол Третьему принцу.
Императрица была поражена. Наверное, китайцы ничем особенно не смущаются, и она сказала:
— В таком случае я выполню ваше желание.
Государь обрадовался и велел ввести Тюнагона во внутренние помещения. Тот, не догадываясь, в чем дело, спокойно вошел в покои. Занавесь возле сиденья императора была приподнята, за ней стояла переносная занавеска, красные ленты которой, темнеющие книзу и окаймленные золотым шитьем, тоже были подняты, и Тюнагон увидел поразительной красоты даму, сидевшую боком в тени столба. Она была в парадном платье, ее талию стягивал пояс от шлейфа, на плечах был шарф. Казалось, что она находилась там, чтобы прислуживать государю. При виде ее Тюнагон почувствовал крайнее смущение. Император обратился к нему:
— Три года вы пробыли у нас и теперь собираетесь уезжать. Скорбь наша очень сильна, мы с трудом сдерживаем слезы. Не зная, что придумать, мы хотели бы, чтобы вы услышали, как в нашей стране играют на цине.
Дама хранила молчание. Тюнагон сел в церемониальную позу Кто-то щелкнул веером, и он услышал, как красиво запели «Благословение»[141] в сопровождении различных музыкальных инструментов. Император пододвинул цинь к даме, и она, положив на пол веер, попыталась скрыться за столб, но одного мгновения было достаточно, чтобы Тюнагон увидел ее очаровательный облик и невольно вспомнил императрицу из Хэян, любовавшуюся хризантемами. Однако он никак не мог предположить, что императрицу усадят перед ним и заставят играть на цине. Он искоса бросал взгляды на прячущуюся даму и, когда ему удалось разглядеть ее, понял, что это та самая женщина, с которой он встретился весенней ночью при лунном сиянии. В глазах у него потемнело.
Император снова и снова просил императрицу поиграть на цине, и она сыграла пьесу под названием «Кансу»[142]. Тюнагон слушал ясные, чистые звуки инструмента, которые так напоминали ему звучание циня императрицы, что он не верил ушам. «Каким образом два инструмента могут звучать совершенно одинаково?» — думал он.
Внешность дамы нельзя было ни с чем сравнить, ее ослепительная красота была подобна блеску полной луны, показавшейся из-за туч. Он невольно вспоминал вечер, когда императрица в Хэян любовалась хризантемами, и весенний вечер в Шаньинь — и сердце его сдавила беспредельная печаль. На безоблачном небе ярко сияла луна. Императрица, затаив в груди печальные думы, играла проникновенно, и звуки музыки поднимались высоко в небо.
«Не так ли звучали волшебные инструменты нан-фу и хаси-фу под пальцами дочери Тосикагэ?»[143] — подумал Тюнагон. Он внимал музыке в самозабвении и изо всех сил старался сдержать слезы, но не мог. Император, глядя на него, с удовлетворением думал: «Я так и предполагал!»
В Японии с Тюнагоном было некого сравнить, императрица являлась несравненной в Китае красавицей; переводя взгляд с одного на другую, император сравнивал их с солнцем и луной. «Пусть все знают, что в нашей стране имело место подобное событие! — решил он. — Пусть об этом напишут и станут передавать из поколение в поколение!»
Тюнагон не мог совладать с чувствами, он принял от императора лютню и стал вторить императрице, поражая слушателей всеми известными ему приемами. Исполнение было поразительным, императрица внимала в восхищении, и ей казалось, что душа ее очищается. По ее щекам струились слезы, и она играла, полностью отдаваясь исполнению. Присутствующие во дворце слушали музыку, позабыв обо всем на свете, и все как один проливали слезы. Когда стало рассветать, император и императрица покинули собрание.
17
Как мог Тюнагон догадаться, что он видел и слышал в ту ночь саму императрицу? Дама из Шаньинь и внешностью и манерой играть на цине напоминала ее. Тюнагон находился в недоумении и не знал, каким образом разрешить его. Он послал надежного человека, который отличался большой сообразительностью, в Шаньинь и велел все разузнать. Ему там рассказали:
— Это дом родственницы императрицы из Хэян, которая находится в ее свите и которую императрица очень любит. Ее зовут принцессой[144]. Шаньинь довольно далеко от столицы, поэтому дама обычно сюда не приезжает, а ездит куда-то в Чанли.
Возвратившись, слуга доложил Тюнагону: так, мол, и так.
Тюнагон подумал: «Та редкая красавица — близкая родственница императрицы, и, может быть, поэтому так похожа на нее лицом и манерой играть на цине. Не оттого л и она решила скрыться, не оставив возможности встретиться и что-либо узнать о ней, — не оттого ли, что приближенные императрицы не должны входить в тесные отношения с чужеземцами?»
Он ждал с нетерпением наступления вечера. В сумерки, когда все полно глубокого очарования и влюбленные не могут усидеть на месте, Тюнагон отправился в Чанли. Женщины недалеко от указанного дома собирали цветы и любовались букетами. Он узнал среди них одну, которую видел тогда, в Шаньинь, и сердце его радостно забилось. Он подошел ближе. В прошлый раз принцесса, увидев Тюнагона, спряталась, чтобы сбить его со следа. Теперь же, зная, что он, без сомнения, уедет на родину, и потому, что императрица тайно связала с ним свою судьбу, она не пыталась скрыться; но нельзя было, чтобы окружающие о чем-то догадались, и она сделала вид, что не узнаёт прибывшего. Он же по ее ответам решил, что это происходит из-за ее высокого положения, и с горечью подумал: «Неужели она до такой степени равнодушна?» — и сложил:
— Не узнало холодное сердце О моей глубокой печали. Вечер осенний... Конец моему Здесь пребыванью.Чинно, подавляя слезы, он поднялся, стараясь не показывать, как он сердит на нее. Она же, глядя, как он с поникшей головой уходит, любовалась его безупречной красотой, забыв обо всем на свете. С сердцем, полным глубокой печали, она заиграла на лютне чудесным звуком пьесу «Томарэ»[145]. Тюнагон возвратился и, стоя на камнях у потока, который струился по саду, стал вторить ей на флейте. Удержать слезы было невозможно, отношение принцессы совершенно изменилось: она велела прислуживающим дамам пригласить гостя за занавесь и любезно принять его.
Сама же она думала вот о чем: «После того как императрица тайно уехала из Шушань и здесь разрешилась от бремени, она поручила младенца мне. Я живу здесь и заботливо его воспитываю. Идет время, мальчик растет и становится все больше похожим на императрицу и на советника. Он уже начинает ходить. Я очень привязалась к ребенку и беспокоюсь о нем. Я даже во дворец к императрице не отлучаюсь без крайней надобности и днем и ночью ухаживаю за ее сыном. Связь родителей и детей не ограничена нашим миром, и если императрица не сообщит советнику о рождении сына, она совершит страшное преступление, и последствия будут прискорбными». Зная, что в скором времени Тюнагон отбывает на родину, она остро осознала всю необходимость открыть ему тайну. В Китае могут глубоко восхищаться превосходными вещами и ценить их, могут понять глубокие чувства, но лишены сострадания. Можно ли откровенность считать особенностью страны? Такого рода тайну в Японии постарались бы скрыть, в этом отношении мы тверды. В той стране тайны не хранят[146].
Принцесса заговорила с Тюнагоном[147], но это не был голос той женщины, которая сложила о посланце неба чужого. «Может быть, это ее сестра?» — подумал Тюнагон. Он, глотая слезы, признался, что все эти месяцы не переставал с большой обидой думать о даме, с которой встретился в Шаньинь. Принцесса, не выдержав, произнесла:
— Я не должна говорить об этом страшном деле, и лучше было бы не разглашать его. Но связь между родителями и детьми простирается за пределы нашего мира, и умолчать о ней — значит совершить тяжелое преступление. Поэтому я вам все открою. Если в другой стране узнают об этом, императрица из Хэян будет очень страдать, но если у человека, который собирается покинуть нашу страну и отправиться на родину, есть хоть капелька благоразумия, он никому не обмолвится об этой тайне.
Принцесса рассказала Тюнагону обо всем в подробностях. Он подумал, что если бы принцесса была японкой, она и сейчас бы ничего не рассказала. Он должен был хранить верность слову больше того, кто был отпущен на свободу вместе с девятьюстами девяносто девятью царями[148], в то же время все казалось более невероятным, чем самый причудливый сон. Какие слезы он проливал! Он и предположить не мог, что встретился с самой императрицей, и как ни в чем не бывало ездил в Хэян. Что она должна была чувствовать? Он думал о глубокой связи между ним и императрицей, и множество самых различных чувств, выразить которые словами невозможно, теснили его грудь.
Принцесса вынесла ребенка и поставила его перед Тюнагоном. Он был несказанно мил и улыбался Тюнагону, как будто понимал, что это его отец. Наверное, Тюнагона влекла из Японии в Китай удивительная судьба, в предыдущих рождениях связавшая его с императрицей. Во сне монах предсказывал ему: «Судьба в былых мирах связует жизни», — и он только теперь полностью понял значение этого пророчества. Императрица играла перед ним на цине во дворце Вэйян, император почему-то хотел, чтобы он увидел и услышал что-то замечательное, но устроил так, что Тюнагон не понял, кто перед ним. Такие порядки совершенно отличались от японских. Тюнагон очень любил императрицу, но, даже находясь с ней в одной стране, не мог послать ей письма и от этого страдал.
Тюнагон оставался в Чанли. Молодой господин к нему очень привязался, и Тюнагон не отпускал его от себя ни на миг. Когда же он собрался уезжать, ребенок так плакал, что тот не мог его покинуть. Тюнагон хотел взять его с собой в Японию.
— Вскоре я уеду отсюда, — сказал он принцессе. — Я должен еще раз встретиться с императрицей и поговорить с ней. Если бы я совершил грех похоти, зная, кто она, это было бы преступлением. С тех пор как я увидел ее, любующуюся хризантемами, в душе я мечтал только об одном: увидеть ее еще раз. Но я и предполагать не мог, что нас связывают столь глубокие узы. Императрица сама, должно быть, понимает, что мы не можем избежать нашей судьбы. Поэтому, пока я здесь, я хочу еще раз встретиться с ней.
Он снова и снова, плача, настоятельно просил принцессу устроить свидание.
Принцесса не знала, как быть. Она отправилась во дворец к императрице и, не признаваясь, что сама открыла все обстоятельства Тюнагону, сказала:
— В ночь, когда вы любовались хризантемами, советник услышал, как вы играли на цине, и видел вас. Он не догадывался, что в Шаньинь встретился с вами, и ломал голову. Но в ночь любования луной во дворце Вэйян он услышал вашу игру, мельком вас увидел и, сопоставив с ночью любования хризантемами, понял, что это были вы. Он стал вас разыскивать, отыскал Молодого господина. Душа его в смятении, он не перестает упрашивать меня, чтобы я устроила свидание с вами.
Императрица была поражена. Она изо всех сил старалась скрыть тайну от Тюнагона, но, к сожалению, ему стало все известно. Никого нельзя было в этом винить. Она понимала, что такова была судьба, но связь с Тюнагоном была преступна, и еще раз встречаться с ним императрица отказывалась.
— Действительно, нельзя избежать судьбы, которая связала нас в прошлых рождениях, — сказала она принцессе. — Но свидание принесет и мне и ему одни неприятности. Третий принц печалится по поводу отъезда советника, он очень расстроен. Кажется, никто никогда в нашем мире так не печалился. Глядя на него, я не знаю, что делать. Сейчас мы с советником в одной и той же стране, но через несколько дней я уже не смогу послать ему письма. Даже связь, определенная предыдущими рождениями, кратка, как сон.
Она заставляла себя больше не думать о второй встрече с Тюнагоном[149].
Тюнагона ее ответ не удивил, но как было уехать, не увидев императрицу? Она запретила Тюнагону приезжать и не хотела больше с ним видеться. В стране, с ее неизвестными порядками, если бы дело хоть частично раскрылось, и императрице и ему несдобровать. Тюнагон все время плакал, муки его становились нестерпимы, и он не мог решиться на отъезд. Он тайно навещал Молодого господина и, глядя на ребенка, чувствовал, как беспокойство его немного утихало.
18
Наступил девятый месяц. Пребывание в Китае приносило Тюнагону одни страдания, но он и не помышлял об отъезде. Каждую ночь ему являлась во сне мать, с нетерпением ожидавшая его возвращения. У молодого человека не оставалось надежд вновь пережить сон свидания с императрицей, но мысль навсегда оставить чужой край была для него невыносима. Тюнагон не знал, на что решиться. Раньше он жил, не испытывая тягот жизни, хотя с давних пор глубоко задумывался о непостоянстве мира. На родине и на чужбине ему было суждено узнать любовные муки. Ныне его пугала мысль, что он долгое время будет блуждать по волнам в открытом море. Тюнагон сделался ко всему безучастен и не думал о возвращении домой.
Императрица сокрушалась, что принцесса позволяла Тюнагону время от времени видеть Молодого господина. Тюнагон так полюбил ребенка, что не мог уехать, оставив его в Китае. Если она отдаст ему сына, то сама никогда не сможет разговаривать с ним и не будет знать, где он находится. Эта мысль приводила ее в отчаяние. Но при взгляде на Молодого господина не оставалось сомнений, что он — сын Тюнагона. Но что с ним будет в Китае, когда он вырастет? Императрицу охватывал страх. И без того наша жизнь очень запутана, и что будет, если сын, став взрослым, узнает правду о своем рождении? Как сильно ни страдал Тюнагон перед отъездом, страдания императрицы были не менее мучительны. В те дни Тюнагон совсем не был похож на человека, который всегда твердо разрешает все сомнения, и императрица, слушая рассказы принцессы о его состоянии, чрезвычайно его жалела. Он прислал ей письмо:
«Ветер ревет, И огромные волны Гибелью лодке грозят. Но в сердце моем Буря страшнее».Разве чувства Тюнагона были ординарными? Прочитав письмо, императрица сложила:
«По бурному морю Плывущий корабль Причала достигнет. А тоскою моей волны По-прежнему будут играть»[150].«Я впал в такое состояние, что скоро окружающие будут спрашивать[151], — думал Тюнагон. — Если так пойдет дальше и если китайцы станут обращать внимание, мне несдобровать. Я сильно горевал, оставив в Японии Ооикими и свою мать. Не потому ли я твердо решил отправиться в Китай, что был связан с императрицей клятвами в предыдущих рождениях? Разве время после моего отъезда из Японии было напрасно потерянным?[152] Здесь мне не надо больше медлить. Пусть будет что будет!» Он настаивал, что тайно увезет Молодого господина с собой.
Императрица не знала, как быть. Плача легла она спать. Во сне ей явился человек и сказал: «Твой сын не должен оставаться в этой стране. Он будет защитником японской земли. Поскорее отправь его туда!» После этого ничего другого не оставалось, как отпустить ребенка с Тюнагоном. Грудь ей сдавила печаль. «Я сама родилась в той стране и покинула ее, расставшись с матерью, — думала императрица. — На рассвете, когда мы прощались, она, обнимая меня, горько плакала; облик ее до сих пор стоит у меня перед глазами. За это я сама, отправляя сына в Японию, должна испытать такое же горе. Никто не может избежать возмездия».
За два дня до отъезда, ночью, когда окрестности были залиты сиянием луны, Тюнагон явился в Хэян. Третий принц был в отчаянии: ничто не могло задержать Тюнагона. Горе принца нельзя было ни с чем сравнить. Но не только вид принца поверг Тюнагона в печаль; ему было трудно представить, что он больше никогда не увидит деревьев и трав в саду, клонящихся под порывами ветра, к которым он привык, и не услышит, как журчат ручьи.
Передать императрице письмо не было никакой возможности. Становилось поздно, все затихло. Вокруг никого не было. Тюнагон сидел, погрузившись в глубокую задумчивость. Неожиданно его пригласили к государыне.
Справившись с волнением, он вошел в комнату и встал на колени. Его освещенная луной фигура казалась еще красивее, чем обычно, и императрица за занавесью не могла сдержать слез. Третий принц тоже пришел туда.
Из-за занавеси раздался голос императрицы: «Прислуживают ли дамы советнику?», и она спокойно появилась на коленях[153]. Тюнагон почувствовал неизъяснимый аромат, тот самый, который пропитал его платье во время встречи, похожей на сон, в весеннюю ночь. При этом воспоминании сердце его сильно забилось.
— После того как я узнала, что принц не только в нашем мире, но и в прошлых и в будущих рождениях любил и будет любить вас, я привязалась к вам больше, чем к кому-либо в этой стране, — сказала императрица. — Но я опасалась враждебных глаз, корила себя за то, что зашла слишком далеко, и с вами не говорила. Сейчас вы бесповоротно решили возвратиться домой и очень страдаете. Мне вас стало жаль, но я сама нахожусь в затруднительном положении.
Она держалась и говорила с Тюнагоном не как с посторонним человеком, было видно, что она расположена к нему. Казалось, что ее блистающая красота заполняла все помещение. Мог ли Тюнагон скрыть свое волнение? Взяв наконец себя в руки, Тюнагон отвечал чрезвычайно почтительно, в его словах невозможно было заметить какую-либо вольность.
— О моем происхождении вы, должно быть, слышали, — продолжала императрица. — Мать моя живет в Японии. Как-то к нам оттуда прибыл достопочтенный монах, и я велела спросить у него, не слышал ли он что-нибудь о ней. Он знал, что она стала монахиней и поселилась на горе Ооути[154]. Когда он собрался возвращаться на родину, я попросила его передать моей матери письмо. Я думала: «Если она еще здравствует в нашем мире, он, несомненно, передал ей мое послание». Этот монах производил впечатление заслуживающего доверие, но определенно я ничего не знала. Я не надеялась, что в дальнейшем смогу посылать весточку в вашу страну. У меня к вам просьба. Дело это трудно выполнимо, но обязательно постарайтесь разыскать мою мать и передать ей вот это. Сюда то и дело приезжают люди из Японии, пришлите мне с ними известие о ней. Если же она покинула наш мир, напишите об этом и возвратите эту коробку
Она пододвинула к Тюнагону довольно большую коробку для писем из аквилярии и горько заплакала. Молодой человек чувствовал к ней такую же любовь, как в далекую весеннюю ночь. Он сам не мог оставаться спокойным. Сделав вид, что скорбит о непостоянстве нашего мира[155], он проливал потоки слез. Кое-как овладев собой, он ответил:
— Если в пути по неверным волнам боги сохранят мне жизнь, я, как только прибуду на родину, сделаю все, что будет в моих силах, чтобы разыскать вашу мать и передать ей письмо, а ответ ее обязательно привезу сам, несмотря на то что два раза в Китай никто не ездит. А если вы ничего не получите, это будет значить, что я не доехал до Японии и на полпути погиб в морской пучине.
В Японии не принято говорить о чувствах мужчин и женщин друг к другу, и на родине Тюнагон даже не заикнулся бы перед императрицей и прислуживающими дамами о том, что у него на душе. Он подумал, что в Китае порядки были менее строгими, но тем не менее не решался заговорить о своих чувствах. Он ощущал себя глубоко несчастным. Улучив мгновение, когда принц куда-то отошел, а прислуживающие дамы беседовали друг с другом, он очень тихо, сделав вид, что бормочет что то сам себе, произнес перед занавеской:
— Мне не будет дано Второй раз узнать, Как сбывается сон. Что же я видел В ту весеннюю ночь?Не в силах сдержать мук, императрица, глядя на Тюнагона, еле слышно произнесла:
— К чему вспоминать О снах улетевших? Была ли встреча В весеннюю ночь Виденьем пустым? —и скрылась за занавесью.
Из задних покоев появился принц и начал играть с гостем на музыкальных инструментах. Никакая музыка на свете не могла в то время затронуть Тюнагона, но он находился во дворце Хэян в последний раз и постарался успокоиться. Молодой человек принял от принца лютню и заиграл на ней. Он был как во сне. Из-за занавеси послышались звуки циня, вторившие лютне. Это был тот же инструмент, который он слышал во дворце Вэйян. Когда исполнение музыки окончилось, императрица вручила ему этот цинь в подарок. Хотя решение возвратиться на родину было твердо, ему казалось, что у него в ушах все еще звучат слова императрицы, и он чувствовал, как воля его слабеет. С его нынешними чувствами не могла сравниться даже печаль расставания с матерью и Ооикими. Тогда его утешала мысль, что если он останется жив, то через три года вернется домой, а сейчас он твердо знал, что в эту страну больше никогда не вернется. Все, на что падал его взор, глубоко проникало ему в душу.
Императрица, размышляя о том, что она должна еще раз встретиться с Тюнагоном в каком-нибудь уединенном месте, держалась как обычно. Из-за такого внешне сдержанного отношения муки Тюнагона только усиливались. Он думал, что, опасаясь, как бы толки, которые могут возникнуть в свете, не привели бы к страшным последствиям и для него и для нее самой, она воздерживается от свидания. Роптать на нее за это было нельзя. Тюнагон находился в отчаянии, но делать было нечего даже в том случае, если бы императрица вела себя намеренно холодно, не обнаруживала бы никакой привязанности и была жестока. «Поскольку нас связывает Молодой господин, она не сможет совершенно забыть меня», — говорил он себе. При мысли о разлуке он испытывал такой упадок духа, что, казалось, вот-вот умрет. Поздней осенью расставание особенно печально. Император и наследник престола были погружены в уныние, и их сожаление превосходило даже сожаление родных Тюнагона при его отъезде из Японии.
19
Пятая дочь министра, которая совершенно выздоровела все время была погружена в печальные мысли и посылала Тюнагону очень изящные письма. На китайской бледно-лиловой бумаге было написано необычайно красивым почерком:
«Придет ли сегодня? Увижу его ли? Пока пребывал в нашей стране, Сердце мое Обольщалось надеждой».Он раньше слышал, что девица очень талантлива, но настолько его мысли были заняты одной императрицей, что он ни о ком больше не думал, а теперь, прочитав стихотворение, удивился: «Действительно, она очень умна. Я должен проститься с ней». Ему стало грустно, и в ответ он послал ей стихотворение:
«Если бы знал О печали твоей После нашего расставанья. Разве заставил бы ждать Днем и ночью меня?»Накануне отъезда он отправился к императрице в Хэян, но в тот вечер императрица с ним не говорила. Проливая слезы, он сидел с тяжелым сердцем; и его скорбь оттого, что они так и не увидятся, не затихла бы, сколько бы ни прошло лет.
«Не ропщу на судьбу, Которая нас связала. Хотелось бы мне Речам твоим Беспрестанно внимать», —подумал он удрученно. Ничто не могло его утешить, и, плача, он покинул Хэян.
От пятой дочери министра пришло письмо, прекрасно написанное, и Тюнагон тайно отправился в дом первого министра. Глубокой ночью на безоблачном небе светила луна, и в башне, на острове посреди широкого пруда третья, четвертая и пятая дочери министра, любуясь ее сиянием, играли вместе на струнных инструментах. Тюнагону сказали: «Пожалуйте сюда», — и повели в башню.
На берегу острова раскинулся клен, его ветви, покрытые красными листьями, нависали над башней; казалось, это парча[156]. Занавеси были подняты, девицы расположились за переносными занавесками. Наверное, они часто музицировали вместе. Над чистым прудом, в тени кленовых ветвей, в красивых платьях и с великолепными прическами девицы казались нарисованными на картине. Трудно было решить, кого из них можно сравнить с блеском луны. Третья барышня играла на цине, четвертая — на цитре чжэн, а пятая — на лютне. Девица, игравшая на цине, не была столь искусна, как императрица, но в ту осеннюю ночь ее игра казалась чудесной, чжэн звучал очень красиво, но лучше всех была исполнительница на лютне. Сын министра играл на флейте вместе с сестрами. Печаль от близкой разлуки переполняла сердце Тюнагона. Когда начало светать, он произнес, приблизившись к занавеске, за которой сидела пятая барышня:
— Когда, домой возвратись, Увижу, как из-за гор Лунный лик показался, Сразу сегодняшний вечер Вспомню с тоской.Слезы застлали ей глаза, она не смогла вымолвить ни слова и сыграла на лютне[157]:
«Мне на память Полумесяц остался. Каждую ночь, Глядя на небо, Буду искать утешенья»[158].Звуки были редкими по красоте. «Почему в течение многих месяцев я не удосужился услышать, как она играет?» — думал Тюнагон с непереносимой печалью.
Часть вторая
1
Плывя три года назад в Китай, Тюнагон испытывал глубокую печаль. Он не знал, в какую страну он направлялся, и среди множества унылых мыслей только одна немного утешала его: если ему суждено остаться в живых, он через три года обязательно возвратится домой. Тюнагон провел на чужбине не так уж много лет; ныне, садясь на корабль, он был уверен, что никогда в Китай не вернется. Люди, прощаясь даже с ничем не примечательными травами и деревьями, испытывают скорбь, а Тюнагон расставался с небывалой в мире любовью, и в воспоминание о ней ему оставался только Молодой господин. Плывя по бурному морю, Тюнагон беспрерывно проливал слезы. В глазах у него было темно, он не различал ни дня ни ночи. Наконец путешественники услышали, что корабль приближается к Цукуси.
Когда на рассвете императрица из Хэян, плача и обнимая сына, прощалась с ним, она вручила Тюнагону пилюлю[159]: «Давайте ему вместо молока». От этого лекарства Молодой господин в пути совсем не похудел, и цвет лица у него не изменился. Он становился все красивее и как будто излучал сияние. На корабле он ни разу не заплакал, спокойно переносил окружение грубых мужланов и не причинял отцу беспокойства. Он был красив, как воплотившиеся на земле боги или будды, и вызывал у окружающих страх за свою жизнь.
«Когда он вырастет, люди, зная, что он родился на чужбине, будут его сторониться. Надо постараться скрыть это», — думал Тюнагон. Он послал своей матери письмо:
«Надеюсь, что Вы пребываете в добром здравии. Мне можно было бы не торопиться с возвращением, ноя страшился, как бы не опоздать к назначенному сроку, и поспешил в обратный путь. Я беспредельно радуюсь скорой встрече с Вами. Обо всем, что произошло со мной в Китае, я расскажу Вам сам, когда приеду. Пошлите сюда ко мне кормилицу Тюдзё, несмотря на неминуемые пересуды, что она не могла дождаться меня в столице и сама отправилась навстречу. Я хочу поручить ей кое-что еще до моего приезда домой. Пусть она едет на Цукуси, не останавливаясь ни днем, ни ночью. Меня сюда провожает несколько китайцев, которые в скором времени должны возвратиться на родину. Если Вы найдете что-нибудь редкостное, что удивило бы их, пришлите мне».
Он написал письмо даме Сайсё для передачи Ооикими, тщательно выбирая слова:
«Из дальнего края На быстроходном судне К тебе я стремился. Ветер гнал волны, На веслах сидела любовь»[160].В столице придворные сожалели об отъезде Тюнагона и строили разные предположения: «Он стал служить у правителя той страны. Он остался в Китае. Скоро он сюда не вернется». Подобные разговоры терзали сердце несчастной матери, и, получив от него письмо, она, как во сне, ничего вокруг не осознавала и только плакала от радости. Она передала просьбу сына кормилице Тюдзё
— Я и сама хочу поехать на Цукуси навстречу Тюнагону, и пусть обо мне говорят, что хотят, — сказала та.
Нельзя выразить словами ее радость. Она, не мешкая, пустилась в путь в сопровождении слуг. В столице говорили: «Кормилица Тюдзё не могла дождаться прибытия Тюнагона и помчалась к нему. Этого можно было бы и не делать, но даже посторонние не находят себе места от нетерпения, а она тем более не могла оставаться здесь. К тому же сам Тюнагон просил ее приехать на Цукуси, не разбирая ни дня ни ночи».
2
При известии о возвращении Тюнагона у принявшей постриг Ооикими забилось сердце. Она подумала, что отныне ей нельзя оставаться в доме, в котором по настоянию мачехи жила эти годы. Самовольно покинуть предоставленный ей кров значило проявить непочтительность к мачехе, но и оставаться ей там после приезда Тюнагона было неудобно. Она не знала, как поступить, и обратилась к кормилице Сёсё:
— Я поселилась в этом доме, но скоро Тюнагон должен вернуться. Мое положение всем будет бросаться в глаза. Сюда будет приходить множество народу, и мне при этом нельзя будет здесь оставаться. Монахиня должна жить тихо в уединенном месте. Скажите об этом моему отцу и мачехе.
Разумность ее слов была очевидна, положение было крайне затруднительно. Сёсё часто думала с печалью: «Если бы она не приняла монашества и дождалась возвращения Тюнагона!» Услышав слова Ооикими, она горько заплакала.
Генерал и его жена забавлялись с внучкой, когда Сёсё явилась к ним и передала слова монахини.
Когда генерал услышал о возвращении Тюнагона, он очень обрадовался, но потом его охватили противоречивые чувства, а услышав о решении дочери, он не мог сдержать слез. Мать Тюнагона, жалея мужа, подумала, что ничего другого нельзя было ожидать.
— Почему она думает, что, оставаясь в этом доме, она будет у всех на виду? То, что ей пришлось принять монашество, — это моя вина, и я об этом постоянно горюю. Пока я жива, пусть она остается здесь, чтобы я могла видеть ее утром и вечером. Меня огорчает, что она относится ко мне как к постороннему человеку. Тюнагон поселится в восточном флигеле, и ей нечего думать о переезде. Она монахиня, и сейчас бессмысленно что-либо говорить. Все будет, как я сказала, — ответила она кормилице.
Генерал заботы о дочери поручил жене и ни во что не вмешивался. Сам он считал, что монахиня права и лучше бы Ооикими не оставаться под одной крышей с Тюнагоном, но если увезти ее отсюда, не обращая внимания на слова жены, то не оберешься неприятностей в доме. Коль скоро родилась внучка, Тюнагон и Ооикими не были чужими друг для друга. Тюнагон еше ничего не знал, но вряд ли он после возвращения домой станет притворяться непонимающим, в чем дело.
— Лучше поступить так, как говорит жена, пусть моя дочь остается здесь. Ее желание не оставаться в одном доме с Тюнагоном происходит из беспокойства, как на это посмотрят и что скажут посторонние. Прискорбно, что из-за такого же страха она приняла монашество. Слишком беспокоиться о том, что будут говорить в свете, значит быть чересчур осмотрительным; человек, который вовсе не обращает внимания на разговоры и хулу, предоставляет делу идти своим чередом, спокойно полагается на решение других и ни о чем глубоко не задумывается, производит впечатление непредубежденного, по-детски наивного и милого. Наоборот, чрезмерная осмотрительность и стремление все предвидеть неприятны, — сказал он, жалея Ооикими.
Кормилица оробела и только повторяла: «Это действительно так. Вы правы».
Когда она вышла из комнаты, генерал последовал за ней и там, где их никто не мог слышать, спросил со страдальческим видом:
— Не получала ли моя дочь письма от Тюнагона?
Кормилице стало его жаль, и она ответила: «Получала». Она принесла письма, адресованные даме Сайсё и самой Ооикими, и показала их генералу.
Как только он взглянул на письмо, он совершенно позабыл свой гнев на Тюнагона и свое беспокойство насчет будущего дочери. Проникновенно написанное письмо дышало глубокой искренностью. Если бы чувства Тюнагона были неглубокими, он не стал бы писать этого, как пишут опытные в обольщении волокиты, ловко сплетая сети из нежных слов. Генерал никак не мог вернуть письма. Желание дочери как можно скорее уехать отсюда казалось ему ребяческим и бессердечным.
Кормилица передала монахине слова отца и мачехи.
«Напрасно хотела я не видеть этого жестокого мира и ничего не слышать о нем. Мачеха решила, что я должна по-прежнему жить здесь, и отец согласился с ней», — подумала печально Ооикими и горько заплакала. Родители не считали нужным прислушаться к ее словам. Переехать ей было некуда. Если бы она убежала из усадьбы и где-то скрылась, было бы еще хуже: отец и мачеха разгневались бы, и как бы тогда она доживала свою жизнь? Она с горечью думала о цветах горных груш[161].
Получив письмо от Тюнагона, мать его пребывала в превосходном настроении. Полным ходом шли приготовления к его приезду. Все обновлялось, от лент переносных занавесок до одежд приставленных к нему служанок. Для него самого шились одежды, бесподобные по подбору цветов.
В столице распространились слухи: «Самые благородные господа из Китая провожали Тюнагона на родину». Услышав об этом, император велел приготовить богатые подарки, множество золотых и серебряных изделий, и отправил с ними на Цукуси сына левого министра, служившего заместителем второго военачальника, который отличался большой красотой и незаурядными талантами.
3
Когда Тюнагон прибыл на Цукуси, заместитель губернатора[162] и правители провинций острова беспредельно радовались его возвращению. Посланные из столицы ему навстречу и кормилица Тюдзё спешили, не останавливаясь ни на мгновение.
Когда кормилица увидела Тюнагона, о котором так долго тосковала, она от радости ничего не могла сообразить, и слезы застилали ей глаза. Тюнагон, глядя на нее, подумал: «Она была так красива и моложава! От слез и беспокойства обо мне она превратилась в кожу да кости, даже выражение лица ее изменилось. Неужели так же подурнела и моя мать?»
Он никому не сообщал, что Молодой господин — сын китайской императрицы, а кормилице сказал так:
— Когда я находился в той стране, у одной дамы из очень знатного дома родился ребенок. Мне было бы очень жаль оставлять его там, и, как ни тяжело было его матери расстаться с ним, я взял его с собой. Когда он повзрослеет, возможно, станет известно о его происхождении, но пока не надо никому говорить, что он родился в чужой стране. Если он будет оставаться среди грубых мужланов, тайна очень быстро раскроется. Поэтому я решил отдать его на ваше попечение и с этой целью вызвал вас сюда.
Он вынес ребенка и показал его кормилице. Все, кто видел дочь Ооикими, в один голос утверждали, что второй такой красавицы на свете нет, но Молодой господин ни в чем ей не уступал. Его безупречная красота излучала сияние, и он как две капли воды был похож на Тюнагона. «В пути он находился среди простых мужчин, его не кормили молоком, но он ни чуточки не похудел и лицом не изменился — как это могло быть?» — удивлялась кормилица. Его красота внушала ей страх.
— Он совсем не плачет. В нашем мире подобного ему не найти. Это воплотившийся на земле Будда, — сказал Тюнагон, и по его виду кормилица догадалась, что это ребенок от женщины, которую он глубоко любил.
Она рассказала Тюнагону о дочери генерала, начиная с того дня, как он покинул столицу, и сообщила, что она стала монахиней. Генерал никогда бы не дал разрешения на брак Тюнагона с дочерью, и он не должен был и думать о каких-то отношениях с ней. Но приближалось время отплытия, и в смятении чувств он сблизился с Ооикими. Ему было очень жаль ее, он очень страдал; он не предполагал, что она так сильно полюбила его и что их отношения неожиданно получили огласку. Ее беременность стала явной, и она решилась на роковой шаг. Брак ее с принцем Сикибукё расстроился. Отец так ее любил и так холил, а когда Тюнагона погубил ее, генерал, конечно же, пришел в страшное негодование и считал пасынка безмозглым и легкомысленным человеком. Могла ли оставаться спокойной его мать, глядя, как гневался генерала? Ооикими душевно, как с братом, беседовала с ним, она совсем не остерегалась, по наивности привязалась к нему, и вдруг оказалась связанной с ним нерасторжимыми клятвами, — все это было безжалостно и горько. Тюнагон глубоко скорбел о содеянном. В какое смятение она должна была прийти, когда поняла, что беременна, и когда расстроился ее брак с принцем! Ее положение было столь мучительным, что она сбрила свои прекрасные, несравненные волосы и стала монахиней. Тюнагон ощущал к Ооикими любовь, которая не уступала его чувствам к императрице в Китае. Находясь на чужбине, он тосковал по родным местам, но на самом деле это была тоска по несравненной девице. Слушая рассказ кормилицы, он осознавал, как бесконечно дорога Ооикими его сердцу. «С давних пор, размышляя об отношениях между мужчинами и женщинами, я твердо решил, что не дам моему сердцу поддаться увлечению, что никто не будет испытывать ко мне неприязни и что я не заставлю никого стенать, но это оказалось пустым; и в нашей стране, и в Китае я погрузился в беспримерное любовное смятение и причинил глубокие страдания; не только посторонние, но и родители считают меня легкомысленным и обижены на меня. Я стал совсем не тем, кем раньше хотел быть!» — думал Тюнагон Когда он размышлял о прошлом и о том, что его ожидает, слезы застилали ему глаза, и он ничего не различал. «Может быть, в послании дамы Сайсё содержится ответ от самой Ооикими?» — подумал он и в нетерпении открыл письмо. Оно не было многословным. Там было написано только вот что:
«Та, что стала рыбачкой, Ныне в бухте живет. А мне остается При утреннем моря затишье Слезы лить на морскую траву»[163].Прочитав это, он вспомнил сон, который видел в Китае, когда Ооикими сказала: «Я в море слез погрузилась». Беспредельная печаль охватила его, и он не мог успокоиться, Кормилица, видя, в каком он отчаянии, всячески его утешала.
Тюнагон хотел поручить воспитание Молодого господина своей матери, но теперь, когда он узнал о дочери монахини, которую мать сердечно растила, он не мог бы просить ее, чтобы она без сожалений оставила девочку и взяла на себя заботы о внуке. Да и монахиня, испытывая противоречивые чувства по поводу его возвращения, станет думать: мол, уехал в дальнюю страну, а теперь все видят, что он привез с собой траву воспоминаний[164]. Впоследствии это скрыть не удастся, но лучше будет, если пока что она ничего не будет знать. Жалея монахиню, он сказал кормилице:
— Не надо рассказывать о Молодом господине даже в доме генерала.
4
Тюнагон не переставал тосковать о китайской императрице и в то же время он чувствовал горячую любовь к Ооикими. Находясь в Китае, он размышлял: «Если генерал за время моего отсутствия не отдаст ее кому-нибудь в жены, я тайно, без его разрешения, увезу ее куда-нибудь, где, соединенные не людскими законами, а сердечными узами, мы будет мужем и женой». Но Ооикими стала монахиней, все надежды на брак с ней рухнули. Любовные думы подступали и с изголовья, и с ног[165], Тюнагону казалось, он не мог пошевелиться. Он не знал, что придумать, и только стенал.
Заместитель губернатора обо всем этом и не догадывался. Это был утонченный человек, очень восторженный. Свою дочь, в которой он не чаял души и которую заботливо воспитывал, он уже давно мечтал предложить Тюнагону в жены. Молодой человек об этом не догадывался. Заместитель губернатора решил, что дело не безнадежно. «Тюнагон очень горд и прекрасно разбирается в женщинах, к нему трудно приблизиться, и он более далек, чем Облачный чертог[166]. Как же мне быть? Он теперь в самом цветущем возрасте, во внешности и в манерах у него не отыщешь ни единого изъяна. Один взгляд на него продлевает жизнь. Пока он на Цукуси, надо предложить ему дочь в жены. Если даже она ему не особенно понравится и он будет приходить к ней один раз в году, это будет для нее как явление Небесного пастуха[167]», — думал он, но не знал, как приступить к делу.
Заместитель губернатора часто музицировал в прекрасной башне, которая стояла в живописном месте. В прекрасную лунную ночь он тайком привез туда свою дочь. Он пригласил в башню гостей, и все начали играть на музыкальных инструментах. Тюнагон жил неподалеку, и заместитель губернатора послал к нему племянника, правителя провинции Тикудзэн, с письмом:
«В чужой стороне О луне над Микаса-горой Путник томился. Взгляните: в наших горах Она всходит»[168].В то время Тюнагон, глядя на луну, вспоминал о своей жизни в Китае. В такую же лунную ночь он отправился с прощальным визитом к первому министру. Сидя под сенью клена, пятая дочь сыграла на лютне: «Буду искать утешенья», — и он подумал: «Почему в течение многих месяцев я не удосужился услышать, как она играет?» Даже то, что в далекой стране не производило на него особенно сильного впечатления, сейчас пробуждало в нем глубокие сожаления.
«Почему на чужбине Яркой луной С девицей не любовался? А ныне в тоске Дни провожу», —сложил он
При воспоминаниях о своих посещениях дворца в Хэян Тюнагон терял покой и ощущал глубокую скорбь. Он сидел, погруженный в задумчивость, и повторял про себя: «Знать не дано, куда влечет...»[169] и «Заполнил огромное небо...»[170] Охватившие Тюнагона страсти ясно читались на его лице.
Правитель провинции Тикудзэн пригласил его в башню. Отказаться значило обидеть заместителя губернатора, но и идти не хотелось. Решив, что визит отвлечет его от скорбных воспоминаний, Тюнагон отправился туда.
Собравшихся было немного, пять или шесть человек, все степенные люди со сдержанными манерами. Они ждали Тюнагона и очень обрадовались его появлению.
Из башни с одной стороны было видно море и с другой море. Вид водной глади был великолепен, и Тюнагон невольно вспомнил усадьбу отца китайской императрицы в Шушань. Заместитель губернатора поставил перед Тюнагоном тринадцати струнную цитру, сам взял лютню, а правитель Тикудзэн играл то на японской цитре, то на органчике. Остальные присутствующие были правителями провинций. Все они были превосходными музыкантами.
Шло время. Стали рассказывать интересные старинные повести. Они отвлекли Тюнагона от его мучительных дум, и он не спешил уходить. Было поздно. Заместитель губернатора настойчиво уговаривал Тюнагона переночевать в башне. Тюнагон не знал, как быть. До рассвета было недалеко, он вошел во внутреннее помещение и собрался лечь в постель. Заместитель губернатора не мог сдержать радости. Он вывел из задней комнаты небольшого роста девицу и сказал:
— Пожалуйста, дайте моей дочери помассировать вам ноги.
С этими словами он покинул молодых людей.
Тюнагон сразу не понял, в чем дело и кто это, и не собирался проявлять к ней внимания. Девица была крайне смущена, и ему стало жаль ее.
— Как велел ваш отец, пожалуйста, помассируйте мне ноги, — сказал он, привлекая ее к себе.
Он почувствовал приятный аромат от ее одежд, она казалось изящной, с изысканными манерами, прикосновения ее рук были нежны, она явно не была заурядной женщиной. «Это по ее поводу заместитель губернатора то и дело жалуется, что, несмотря на все очарование, он никак не может пристроить ее, — подумал Тюнагон. — Он считает меня обычным повесой. Но сейчас, если бы даже передо мной была небожительница, я не должен заблуждаться сердцем». Однако он не мог сказать ей: «Вернитесь к себе», и, хотя и знал, что это все пустое, обнял девицу и уложил ее рядом с собой, подостлав под голову рукава своего платья. Она казалась очень милой, но он оставался тверд. Китайцы, которые сопровождали его до Японии, находились еще на острове. Не станут ли они рассказывать, что он отказался от дочери первого министра в Китае, а как только прибыл на Цукуси, женился на дочери заместителя губернатора? А если дойдут слухи до принявшей монашество Ооикими, что, вовсе не вспоминая о ней, он сблизился с дочерью заместителя губернатора, она будет оскорблена.
Он мягко и дружелюбно заговорил с девицей. Она, без сомнения, не подозревала о планах отца. Некоторое время она не могла прийти в себя от неожиданности, но Тюнагоном можно было только восхищаться, он продолжал доверчиво говорить с ней, и она чувствовала к нему расположение. Девица не понимала причины его сдержанности и сама, неловко и невинно, прильнула к нему. Тюнагон при этом испытывал глубокое к ней сочувствие. Но мысль покинуть ее до рассвета, как обычно бывало в таких случаях[171], при водила его в крайнее смущение. Он сделал вид, что крепко спал до самого утра. Когда он открыл дверь со стороны, которая выходила на море, и взглянул при солнечном свете на девицу, он был поражен. Поверх одежд разных цветов на ней было голубое платье. Ей должно было быть не более семнадцати-восемнадцати лет. Молоденькая, изящная, очень стройная, она была необычайно привлекательна. Ее блестящие волосы, черные, как крыло зимородка, и такие густые, что нельзя было различить отдельного волоса, не были слишком пышными и, красиво струясь по спине, опускались до пола Кончики волос походили на колосья китайского мисканта. Лицо было белым, без единого пятнышка, и лоб казался сверкающим сквозь падающие на него пряди. В волосах были великолепные шпильки. В девице нельзя было отыскать ни единого недостатка Как можно было покинуть такую красавицу? От изумления Тюнагон широко раскрыл глаза. Сожалея, что пренебрег ею, Тюнагон рассыпался в обещаниях, незыблемых, как гора «Потом, любимый»[172], в скором времени навестить ее и, собравшись уходить, произнес:
— Далеко-далеко Тянутся лозы лианы. Эту ночь никогда не забуду, И долго-долго Будет жить в сердце любовь.Она, робея, не хотела отвечать, но все же произнесла застенчиво, стараясь, чтобы он ее не видел:
— Коль не забудешь, То с ветром, Что лозы лианы колеблет И травы волнует, Весть мне пришли.У нее был милый, очень молодой голос. Казалось, что она не собиралась слагать стихотворения, но, не раздумывая, высказала то, что было у нее на сердце. В будущем, несомненно, она станет безупречной красавицей. Тюнагон, повторив все, что говорят в таких случаях, ушел.
Заместитель губернатора всю ночь с бьющимся сердцем гадал, чем все это кончится. Он услышал утром, что Тюнагон наконец поднялся, и с нетерпением ждал его появления. Грудь его теснило Тюнагон вышел из комнаты и обратился к нему:
— Я предполагал, что вы велели помассировать мне ноги прислуживающей даме, но оказалось, что это не простая женщина. Все было так неожиданно, я не знаю, что и думать.
Он улыбался, но было видно, что он смущен. Заместитель губернатора покраснел.
— Я давно мечтал отдать вам свою дочь в услужение. Я намекал о своем намерении, но вы не обращали внимания. Тем не менее, воспользовавшись случаем, я велел помассировать вам ноги. Если бы один раз в году вы вспоминали о ней, это было бы для нас наивысшей радостью. Я пытался самовольно все устроить и всю ночь от беспокойства не мог сомкнуть глаз, — сказал он и заплакал.
«Девица оказалась очень милой, — думал Тюнагон, — но я не завязал с ней отношений, и отец, должно быть, обижен, что его планы не осуществились. Мое поведение кажется ему странным, я должен все ему подробно объяснить, и он поймет меня». Он обратился к заместителю губернатора:
— Когда я был в Китае, первый министр через посредника настойчиво предлагал мне в жены свою любимую дочь. Можно ли было, находясь за границей, беспечно сближаться с девицей? Я, естественно, сдержался. Я знал, что, если свяжу свою судьбу с их домом, мне будет трудно в скором времени возвратиться на родину. Поэтому я всеми силами противился его желаниям, и дело таким образом окончилось. Среди китайцев, которые отправились провожать меня и которые находятся здесь, много людей из дома министра. Возвратись в Китай, они будут рассказывать: «Как только Тюнагон приехал в Японию, он стал посещать дочь обычного человека». Во всех странах люди судачат одинаково и добавляют то, чего никогда не было. И в Китае первый министр рано или поздно услышал бы, что я, так решительно убежавший от него в Китае, в Японии совершил то-то и то-то. Кроме того, я робею, что такие разговоры дойдут до монахини, с которой я обменялся клятвами. Она живет не в чужой стране, и, несомненно, до нее дошли бы слухи. Я серьезно думаю удалиться от суетного мира, а до сих пор жил безнравственно, не так, как достойные люди. Но, пребывая в грешном мире, нельзя не запачкаться. Генерал беспредельно любил свою дочь и заботливо ее воспитывал, и после того, как я с той несравненной в мире девицей, без особого намерения, как во сне, вступил в серьезные отношения, когда стала явной ее беременность, все очень сокрушались, а она сама приняла постриг. В таких случаях считается, что все определено клятвами в предыдущих рождениях, но генерал полагает, что это мой грех. Если бы даже девица была не из столь знатного дома, если бы она была более скромного происхождения, ее судьба у всех вызвала бы жалость, а меня, решившего жить так, чтобы ни у кого не вызывать недоброжелательства и никому не причинять горестей, судьба ее повергла в глубокую скорбь. Вызвать гнев человека, которого я должен считать своим вторым отцом, заставить его страдать и печалиться, явиться причиной того, что дочь его приняла постриг, и знать, что это все из-за моего легкомыслия! Я плавал по бурному морю, отправился в неведомую страну из-за желания увидеть моего отца, возродившегося там. Я догадываюсь, как страдала и убивалась моя мать, видя, как из-за ее сына гневается генерал, и я понимаю, что совершил страшный грех. Эта мысль ужасает меня и заставляет стенать. А если по возвращении на родину пошли бы слухи, что в своей же стране, на Цукуси, я таким образом обменялся клятвами с вашей дочерью, я выглядел бы глупцом, и мне было бы стыдно. Если бы, как это бывает сплошь и рядом, я, не раздумывая, сблизился с вашей дочерью, ее было бы еще более жалко, и я сам бы донельзя страдал. Обо всем этом я думал в смятении до самого рассвета. Но вы, понимая причины моего поведения, ни в коем случае не отдавайте ее другому. Мог ли я жениться на вашей дочери, едва узнав, что дочь генерала стала монахиней? Я сдержал себя, не желая подвергаться подобным упрекам. Через некоторое время я обязательно возьму вашу дочь в жены. Если же вы передумаете и решите, что мои обещания ничего не стоят, я обижусь на вас.
Он говорил с глубокой печалью, то и дело вздыхая.
Заместитель губернатора был поражен его признанием и раскаивался в том, что, не зная причин сдержанности Тюнагона, он так неделикатно послал к нему свою дочь, но делать было нечего.
— Меня тоже заботит, что будут говорить обо мне, и я, конечно же, не должен был так бесцеремонно и неожиданно посылать ее к вам. Узнав сейчас глубину ваших побуждений, я понимаю, что вы не хотели легкомысленно сближаться с моей дочерью. Но как я могу хотеть отдать ее кому-нибудь другому? — сказал он, заплакав. —
Напрасно ждала Тебя в Хакодзаки Вековая сосна. На что же теперь Надеяться можно?[173]— Я не перестаю сожалеть о том, что не обменялся с ней клятвами, — сказал Тюнагон и, неожиданно засмеявшись, добавил: — Но почему вы утверждаете, что все отношения между нами прерваны?
Нет, не напрасно Вековая сосна Ждала в Хакодзаки. Непременно услышит она В верности клятвы.Он простился с заместителем губернатора и двинулся к выходу. Тот пошел его провожать, обиженно думая про себя: «Я хочу, пока я живу...»[174]
Тюнагон сожалел, что не пошел навстречу намерениям заместителя губернатора, потому что девица действительно была очаровательна. Он сам невольно дивился тому, что не поступает так, как все мужчины в нашем мире. Время клонилось к вечеру. Тюнагон попросил правителя провинции Тикудзэн передать девице письмо.
Мать ее горевала, что из сватовства ничего не вышло. Проливая слезы, она обвиняла мужа:
— Как бы он ни был хорош, это не про нас. Как вы могли так безрассудно предлагать свою дочь человеку, который совсем о ней не думал! Обойтись с ней так грубо! Можно пойти на это, когда у девицы нет родителей и она влачит жалкое существование. Но что теперь сожалеть об этом!
Заместитель губернатора не мог не соглашаться с ней и не знал, как быть Он очень обрадовался, когда от Тюнагона пришло письмо. Он открыл его и прочитал:
«В вечернее небо гляжу... Не обменялся Клятвой с тобой, Но отрадной надеждой Полнится сердце...»Почерк был превосходен.
— Посмотрите все же на письмо Тюнагона, — сказал заместитель губернатора жене. — Как можно не желать породниться с таким человеком? Различные причины вынуждают его быть сдержанным. Он с нашей дочерью был откровенен и настроен к ней дружелюбно, ему жалко ее, и душа его, должно быть, неспокойна. Не имея серьезных намерений, Тюнагон не обменялся с ней клятвами, — такое благоразумие встречается редко. И то, что, не желая, чтобы у нашей дочери были причины жаловаться и чтобы она была в обиде, он во всем признался, — такое поведение в мире беспримерно
Он пытался успокоить жену, сам же был доволен и глубоко растроган отношением Тюнагона.
Жена, слушая его, не унималась: «Так поступить с родной дочерью!», но, взглянув на письмо, не могла оторвать от него глаз. Действительно, оно было безукоризненно.
Девице было тяжело слушать причитания матери, она упрекала себя, а кроме того, хотела спать, так как ночью не сомкнула глаз, и удалилась в спальню. Отец ее тихонько вошел в комнату, разбудил девицу и сказал:
— Напиши ответ так, чтобы Тюнагон ахнул!
Она написала:
«Гаснет закат, И огромное небо Ничего не пророчит. К чему смотреть На уплывающие облака?»В почерке ее оставалось еще что-то детское, но письмо производило приятное впечатление. «Вероятно, заместитель губернатора велел написать ей такое сердитое стихотворение», — подумал с жалостью Тюнагон. В тот вечер он тайком появился у заместителя губернатора. Он не собирался обмениваться клятвами с девицей; отец опасался, как бы не поползли сплетни, и не дал ему встретиться с дочерью. Это было в высшей степени разумно, и обижаться было не на что.
5
Когда провожавшие Тюнагона китайцы собрались возвращаться на родину, он послал с ними так много подарков, что они с трудом поместились бы в огромной империи (это все были редкостные вещицы, которые там, несомненно, понравились бы), и сел писать письма. Третьему принцу он, не сдерживая себя, написал, как печалится в разлуке, а когда принялся за послание императрице, мысль, как бы его не прочли посторонние, сковывала Тюнагона, и он решил не упоминать о Молодом господине Непереносимая тоска охватила его душу. Если бы его отношения с императрицей не были столь исключительны, он нашел бы слова для выражения своих чувств. Он хотел поведать ей обо всем, но какая бумага могла бы вместить рассказ о вещах, столь же многочисленных, сколько песчинок на морской берегу? Если бы он, заливаясь слезами, изложил все, что было у него на сердце, того, кому бы это довелось прочитать и проникнуть в смысл, охватила бы скорбь. Слезы лились и лились у него из глаз, и он не мог писать того, о чем хотел. В конце концов он сочинил самое избитое письмо императрице:
«Подберу ли сравненье? За морем широким, За дальними облаками, О том же самом Тяжелые думы...»Когда же он собрался писать пятой дочери первого министра, мысль о ней не вызвала так много слез. Он погрузился в воспоминания о встрече с ней, писал свободно, и письмо вышло более искренним:
«В землях каких Встретимся снова? Суждено ли опять Вместе увидеть Блеск той лунной ночи?»«Если бы я возродился в Китае, то слушал бы, как она играет на лютне», — подумал он. Тюнагон не испытывал к дочери министра таких чувств, как к императрице, и слезы его не были такими горькими
Вечером, накануне отплытия корабля в Китай, у Тюнагона собралось много народу. Кроме отъезжающих пришли второй военачальник, который по приказу императора прибыл встречать Тюнагона на Цукуси, заместитель губернатора, правители провинций Тикудзэн и Бинго. Все они были хорошо образованны и начали сочинять китайские стихи. И китайцы, и японцы, слушая сочинения Тюнагона, испытывали глубокое волнение, заливались слезами и рассыпались в похвалах ему.
— Даже в одном пределе Прощанье печалит. Нас же отныне Разъединит Бескрайнее море, —сочинил Тюнагон и заплакал. На всех, любующихся его внешностью и манерами, эта японская песня произвела еще более сильное впечатление, чем сочиненные им китайские стихи. Заместитель губернатора был глубоко растроган. Среди присутствующих находился китайский императорский советник. Это был красивый мужчина с благородной душой, с которым мало кто мог сравниться. В течение трех лет он, восхищенный совершенствами Тюнагона, не отходил от него ни днем ни ночью и отправился провожать его до Цукуси, а сейчас, подавленный мыслью о разлуке, сочинил:
— По бурному морю За беспредельные тучи Домой возвратившись, Тоской изойду, Тебя вспоминая.Собравшись уезжать в столицу, Тюнагон испытывал сожаление, что не женился на дочери заместителя губернатора, и ему захотелось еще раз увидеть красавицу. На небе показалась яркая луна, и когда достаточно стемнело, Тюнагон тайком, чтобы не привлекать посторонних взглядов, направился к дому девицы. Заместитель губернатора подумал: «Я сам предлагал ему дочь в жены, и если сейчас не разрешу ему встретиться с ней, это будет необъяснимо». Тюнагон совершенно отличался от других мужчин, и заместитель губернатора, поразмыслив, открыл дверь из твердых пород[175], положил подушку для сиденья и пригласил Тюнагона в комнату. Луна заливала помещение своим блеском. Отец вызвал девицу из покоев и посадил ее у переносной занавески возле раздвижных перегородок.
— К чему так далеко сидеть нам друг от друга? — недовольно сказал Тюнагон. — Или причина в том, что прошлой ночью я не обменялся с вами клятвами? Ваше отношение безжалостно.
Он привлек девицу к себе. В лунном сиянии она казалась еще красивее и очаровательнее, чем прежде. Он не должен быть обходить вниманием такую необыкновенную красавицу. Отец ее был удручен, что дело не состоялось, но Тюнагон не собирался подчиняться чужим намерениям, тем более что, по всеобщему мнению, заместитель был человеком своенравным. Тюнагон подавил желания, возникшие у него в груди при взгляде на девицу, и сказал проникновенно, что для его нынешней сдержанности есть основания, но обещал встретиться с девицей в будущем. Она же с печалью думала, что Тюнагон должен уехать в далекую столицу, и, наверное, от этого была особенно пленительна.
Стало светать. С сокрушенным сердцем покидал Тюнагон дом заместителя губернатора. Он вспомнил такой же рассвет в Китае, когда он прощался с пятой дочерью первого министра и она сыграла на лютне: «Мне на память полумесяц остался».
— Льются горькие слезы И замутняют Чистый источник. Но успокоится водная гладь, И разлуке настанет конец[176], —произнес Тюнагон. — Если родители захотят выдать вас замуж за другого, ни в коем случае не соглашайтесь. Я твердо решил в будущем взять вас к себе. Не считайте это пустыми словами.
Он снова и снова повторял свои обещания. Девица была так неопытна, что и не пыталась понять, искренно ли он говорит. Она чувствовала, как его слова проникают ей в сердце, стыдилась, что вот-вот заплачет, но сдержать слез не могла.
— Если б в источнике Твой облик не отразился, Оставалась б спокойной. А сейчас — слезы руками Черпать могу, —произнесла она очаровательным голосом. Тюнагону становилось все труднее покинуть ее.
Он отправлялся в столицу со смущенным сердцем, ему казалось, что он движется как во сне. Заместитель губернатора проводил его до заставы.
6
Кормилица Тюдзё вместе с Молодым господином плыла в столицу другим кораблем. Посторонние, видя, как она заботливо ухаживает за Молодым господином, восхищались ее преданностью Тюнагону. Вскоре они прибыли в столицу. Кормилица была замужем за правителем провинции Сануки. Муж ее умер. У нее были дочери, жившие в просторном доме вместе с прислуживающими дамами. От мужа осталось порядочное наследство. Кормилица решила, что с Молодым господином ей лучше всего обосноваться в своей родной деревне, и сразу же по приезде отправилась туда.
Тюнагона выехало встречать много народу: его дядя с семьей, генерал, его сыновья, придворные, которые были дружны с ним. Увидев их всех после долгой разлуки, Тюнагон пришел в сильное волнение. Взглянув на генерала, он подумал: «Он чувствует ко мне неприязнь и злится на меня». На сердце у Тюнагона стало тяжело, и он заплакал.
Глядя после долгих лет разлуки на необыкновенную красоту Тюнагона, генерал думал: «Когда женятся между собой близкие родственники, они, хорошо зная друг друга, не испытывают особенных тонких чувств, но если бы моя дочь стала женой Тюнагона, вряд ли можно было о чем-то сожалеть. Прискорбно, что она приняла постриг. Судьбой было определено, что она никогда не выйдет замуж. А я мечтал увидеть ее императрицей и так заботливо воспитывал! Как ненадежна наша жизнь!» Он заплакал. И Тюнагон, и генерал догадывались о мыслях друг друга, но завели самый обычный разговор.
В столице, в усадьбе покойного главы Палаты обрядов много народу с нетерпением ожидало прибытия Тюнагона. «Разговор с матерью будет долгим, — подумал генерал. — Он увидит свою дочку. Я при этом буду только стеснять его». Проводив Тюнагона до его усадьбы, он отправился к себе.
Взглянув на мать, Тюнагон увидел, что ее моложавое лицо женщины в самом расцвете, какой она была перед его отъездом, осунулось и подурнело. Она так изменилась, что казалась ему совсем другим человеком. Когда она увидела сына, слезы хлынули у нее из глаз, и она не могла вымолвить ни слова. У Тюнагона стало тяжело на сердце, он глубоко проникся мыслью, что, причинив ей такие мучения, он совершил преступление. Невозможно было в тот вечер рассказать обо всем, что произошло за столько лет. Мать сразу же вынесла на руках и показала Тюнагону его дочь. На вид ей было года три. Челка спускалась до бровей. Она была очень красива, и казалось, что вокруг нее витает неуловимый аромат. Она оставалась на руках у бабки и при блеске светильников пристально смотрела на незнакомого человека. Ее робкий вид проникал ему в сердце. Девочка неожиданно заплакала; при этом она по-прежнему оставалась красивой и казалась еще трогательнее.
— Генерал, несомненно, считает меня распутником, бездумно поступившим с его дочерью, — тихо сказал Тюнагон. — Мне ее чрезвычайно жалко, и я остро чувствую, какой непоправимый грех я совершил. Надеюсь, что, глядя на этого ребенка, он понимает, что нельзя избежать предопределения в предыдущих рождениях, и прощает нас. Дочь его отвернулась от мира и стала монахиней; это все произошло из-за меня, и грех мне не смыть, — продолжал он со скорбью.
У него на душе оставалось еще много такого, что он хотел бы сказать. Тюнагон осторожно завел разговор о Молодом господине:
— Я узнал о рождении ребенка неожиданно и привез его с собой. Пока мне не хотелось бы, чтобы о нем узнали. На Цукуси я поручил его кормилице Тюдзё.
Его мать все время с беспокойством думала, что девочка — ее единственная внучка, и не дай Бог что случится... Ее заветным желанием было видеть вокруг себя как можно больше внуков, которых бы она воспитывала.
— Почему же вы не привели его с собой сегодня? — спросила она с досадой.
— Я не хотел, чтобы о нем узнали раньше времени, — ответил Тюнагон. — Скоро, когда уляжется волнение, вы его увидите. Я снова с вами, и мне не о чем беспокоиться. Теперь можно отдохнуть. Я хочу послать привет монахине, но не покажется ли это бесцеремонным?
Тюнагон подошел к раздвижным перегородкам и позвал даму Сайсё. Она явилась к нему.
Монахиня, видя и слыша, как все в усадьбе от радости проливали слезы, толпились в коридорах и радостно переговаривались, сама оставалась безучастной и чувствовала себя несчастной. С большей горечью, чем обычно, она думала о том, как неожиданно для себя оказалась неразрывно связанной с Тюнагоном. Сделав вид, что хочет отдохнуть, она спряталась за переносными занавесками и, размышляя о своей судьбе, о своей опрометчивости, плакала так, что изголовье могло бы уплыть в ее слезах[177].
Вошла дама Сайсё с известием от Тюнагона. И не успела она на коленях приблизиться к переносной занавеске, как в комнате появился он сам. Сердце у монахини сильно забилось, она смутилась еще больше, чем при встрече с ним в давние времена. На душе у нее стало так тяжело, что она хотела было уйти, но Тюнагон удержал ее. Дама Сайсё оторопела от появления молодого человека, но увещевать его было не время. Она немного отодвинулась от занавески и сидела не шевелясь.
Проливая слезы, Тюнагон рассказал монахине обо всем, что произошло со времени их прощания на рассвете.
— Я ничего не знал, что стало с вами. Судьба в предыдущих рождениях определила нашу горькую участь[178]. Я не смогу быстро смыть с моего имени это пятно. Принц Сикибукё, наверное, догадался о наших с вами отношениях. Мир стал вам горек, и вы приняли постриг. Однако о вашем решении стали судачить в столице, и вам, оставленной принцем, пришлось все выслушивать[179].
Чувствуя в сердце обиду, Тюнагон говорил довольно холодно. Он приблизился к монахине и тронул ее рукой. Она, как прежде, была мила и изящна, только волосы были коротко острижены. «Какая жалость! В каком она была отчаянии, если решила сбрить такие великолепные волосы!» — подумал Тюнагон. Ее безвыходное положение живо представилось ему, и он в голос зарыдал. Глубина его чувств была такова, что у любого человека негодование к нему исчезло бы без следа.
— Так много клятв Принес я тебя Никогда не забыть. Почему же, не вняв им, Ты отвернулась от мира? —сложил он.
Монахиня молча проливала слезы. Она никогда, даже во сне, не укоряла Тюнагона за то, что он ее покинул. Глядя на Ооикими, Тюнагон глубоко раскаивался в том, что, чувствуя к ней сильную любовь, он расстался с ней, отправился в дальнее плавание, воспылал желанием к той, о ком ему и думать не следовало бы[180], страдал в чужом краю и навеки погубил Ооикими.
Монахиня давно сказала себе, что она больше никогда с ним не встретится, но облик Тюнагона, который никак не мог сдержать слез, проникал ей в сердце. Она вспомнила ту роковую ночь (как она мечтала, чтобы пережить ее снова!), и прошлое встало у нее перед глазами. Глядя на Тюнагона и слушая его, она ощущала в груди боль.
— Мечтала о смерти... Но срок бытия Не нами назначен, И тянется существованье. Жаль, что узнал ты об этом, —сложила она, и слезы полились у нее из глаз.
Она по-прежнему была изысканна, утонченна и необыкновенно очаровательна. Ее стихотворение показалось Тюнагону замечательным и глубоко взволновало его. Не бывало, чтобы он, случайно встретив женщину и почувствовав к ней влечение, не задумался о ее прошлом и будущем и бросился к ней с сумасбродными признаниями, а тем более он не должен приближаться с ухаживаниями к Ооикими, посвятившей все свои помыслы Будде. Они оба не могли сдержать слез и провели в разговорах всю зимнюю ночь до рассвета. Описать их свидание в подробностях невозможно, и никак нельзя выразить глубину их чувств.
Генерала мучили мысли: что почувствует Тюнагон, увидя свою дочку? Как он встретится с Ооикими? Придется ли переселять монахиню с дочкой в другое место? Он представлял себе, как будет раздосадован Тюнагон, увидев перед собой Ооикими в монашеской рясе. Будет прискорбно, если Тюнагон отвернется от нее. От этих дум генерал до рассвета не смыкал глаз.
Чуть свет он явился в усадьбу Тюнагона, вызвал к себе кормилицу Сёсё и стал ее расспрашивать. Было видно, что он страдает, и кормилица выложила ему все, как было:
— Господин Тюнагон позвал даму Сайсё и велел передать привет вашей дочери. Но едва она вошла в комнату, чтобы исполнить поручение, он появился вслед за ней. До самого рассвета он разговаривал с вашей дочерью. Его чувства показались мне искренними. Он вышел от нее совсем недавно.
Генерал радостно улыбнулся. Родительское сердце всегда готово заблуждаться[181]. Он не думал, что дочь его, связав свою судьбу с Тюнагоном, совершила грех, за который ей придется расплачиваться в будущих рождениях. Пусть она и стала монахиней, хорошо, что отношения между ними были глубокими.
— Надев рясу, дочь должна вести себя, как Будда, повторять молитвы и не встречаться с Тюнагоном[182], — сказал он кормилице.
«Какая жалость! Как все это неожиданно!» — думал он, прослезившись.
7
Узнав о возвращении Тюнагона, к нему приходило много народу, и в усадьбе бывало шумно. Но, несмотря на приход гостей, он часто посещал монахиню, играл с дочерью и что-то ей рассказывал. Он привязался к ней так же сильно, как к сыну китайской императрицы, о которой ни на мгновение не забывал. Девочка была очень мила, и он часто брал ее на руки. «Как утка не может скрыться под водой[183], так и я не могу скрыть свою глубокую связь с монахиней, и стесняться мне не надо», — думал Тюнагон. Он раздвигал перегородки и без предупрежденья входил к Ооикими. Прислуживающие дамы были озадачены такой вольностью. Он появлялся днем, когда они не предполагали, что он может прийти, и непринужденно занимались своими делами. Монахиня была этим очень смущена, но скрыться было некуда, и она сидела отвернувшись.
Когда Тюнагон смотрел на Ооикими, она казалась ему пленительнее, чем аромат редкого цветка. Ее волосы, раньше придававшие ей необыкновенное очарование и утонченность, отрасли настолько, что, когда она сидела, они касались пола. Они были пострижены и спускались по спине колеблющейся волной, расширяющейся, как складной веер. Она была по-прежнему необыкновенно изысканна. Ее спокойные манеры поражали своей утонченностью. На лоб спускалась челка, и ее профиль казался Тюнагону еще краше, чем в былое время. Даже в монашеской одежде с ней никого нельзя было сравнить. Покрытое румянцем лицо, казалось, излучало сияние, и блеск его придавал особую прелесть всему, что ее окружало. Как подобает монахине, она была одета в несколько темно-серых и оранжевых одеяний, так отличавшихся от разноцветных платьев, которыми щеголяют барышни в миру; они придавали ее облику что-то, вызывающее почтение, отражение лика самого Будды. Можно было подумать, что при полной отрешенности от мира Ооикими должна производить неприятное впечатление, но нет — ею можно было любоваться. Тюнагон, без сомнения, подумал, что ее отец, мечтавший для нее о ранге императрицы, был поражен ее постригом. Он в глубине души чувствовал, что генерал негодует на него и только сдерживает себя из уважения к матери Тюнагона. Но сам молодой человек знал, что, сколько бы лет ни прошло, он никогда не сможет искупить свой страшный грех.
Когда Тюнагон сидел рядом с монахиней, ему казалось, что душа воспаряет над землей и блуждает в неведомых просторах, и слезы беспрерывно катились по его щекам. Китайская императрица была так ослепительна, что поразила Тюнагона даже в стране, где имелось множество диковин, и привела его в смятение. Так же хороша была Ооикими; ему казалось, что в Японии таких красавиц больше нет. Он сожалел о том, что из-за него она оказалась погибшей для мира, и ничего не могло облегчить тяжести у него в груди. Но Будда ясно видел, что ныне Тюнагон подавил в душе все неподобающие желания. Молодому человеку было все равно, что будут говорить о нем; он хотел постоянно общаться с монахиней в каком-нибудь спокойном месте. Возможно, тогда утихло бы и негодование ее отца.
С тех пор, как расстроились все планы относительно брака Ооикими и за принца Сикибукё вышла замуж ее сестра Нака-но кими, кормилица Сёсё находилась в подавленном состоянии. Тюнагон призвал ее к себе и сказал:
— Сколько бы я ни молил монахиню о прощении, ничего изменить нельзя. С ней всегда находится моя мать, а кормилица Тюдзё, которая должна заботиться о монахине, очень устает и то и дело уезжает в деревню. Поэтому отныне возьмите все заботы о монахине на себя. Я буду о многом просить вас.
Кормилица повеселела. Она частенько с сожалением думала: «Теперь, когда моя госпожа приняла постриг, он станет навещать других женщин», но когда услышала его слова, донельзя обрадовалась.
8
Император настойчиво призывал Тюнагона к себе, и тот отправился во дворец. В великолепном костюме, который он редко надевал, юноша выглядел столь блистательно, что ослеплял глаза. Несравненный аромат от его одежд распространялся на расстояние ста шагов. Снег, который шел в течение нескольких дней, покрывал всю землю, и на его фоне Тюнагон выглядел еще наряднее. Попадавшиеся ему по дороге жители столицы могли любоваться столь редким зрелищем.
Тюнагон через караульное помещение вошел в крепость. Люди, которые, казалось, совсем не обладали тонкостью, и прислуживающие во дворце дамы невысокого ранга, глядя на него, от восхищения проливали слезы. Высшие же императорские наложницы высыпали из внутренних покоев и провожали его глазами. Тюнагон прошел, лишь искоса взглянув на них, и их сердца были полны досадой и сожалением.
Государь не видел Тюнагона несколько лет, и молодой человек показался ему существом не нашего мира. На глазах правителя заблистали слезы восхищения, и некоторое время он не мог вымолвить ни слова. Тюнагон в свою очередь от благоговения не мог сдержать слез. Император подробно расспрашивал пришедшего обо всем, что он видел в Китае, и долго не отпускал от себя.
Наступил вечер. Снег перестал сыпать, небо расчистилось, и показалась яркая луна.
— Во время вашего отсутствия у меня не было никакого желания музицировать, — сказал император, — и я проводил время, не слушая музыки.
Они сели за инструменты. Тюнагон давно не слышал исполнения музыки в Японии, и звуки глубоко проникали ему в душу. Время года напоминало ту весну, когда он в Хэян слушал игру на лютне. Погруженный в воспоминания об императрице, он с просветленной душой играл на цитре, и извлекаемые им звуки были ярки и чисты. Тюнагон всегда играл мастерски, и все, кому доводилось его слышать, проливали слезы. Для него такое исполнение не было необыкновенным. Добавить к сказанному я ничего не могу. Как часто бывало и раньше, он получил от императора в награду одежду[184].
— Три года луну Мы видеть могли Только в тумане от слез. Наконец-то дано нам Насладиться чистым сияньем! —сложил император. Стихотворение было необыкновенно хорошо, и Тюнагон, охваченный благоговением, сочинил в ответ
— В пределе чужом Без слез к вышине Не мог глаз поднять. Луна о родной стороне Была мне напоминаньем.Он спустился с лестницы и исполнил благодарственный танец[185].
Было уже поздно. Тюнагон направился в покои императрицы. Дамы в изысканных нарядах, предполагая, что Тюнагон непременно явится, собрались там все до одной и с нетерпением ожидали его. Они зажгли выбранные с особым тщанием курения и расставили курильницы так, что их не было видно. Аромат наполнил все помещение.
Тюнагон вошел, распространяя несказанно прекрасный аромат от своих одежд. После долгого отсутствия он вновь очутился в покоях императрицы, и все его поражало. Возможно, что сама государыня находилась близко от занавеси и смотрела на него. При этой мысли у Тюнагона невольно забилось сердце. Он вспомнил, как сидел перед занавесью во дворце в Хэян. Китайская императрица была так далека от него, но неожиданно все изменилось, и перед отъездом с Молодым господином в Японию она говорила с ним как с родным человеком и через занавеску протянула ему руку. Все это ожило в его душе, и он рассеянно отвечал дамам. Ему пришло на ум, что он может чего доброго сказать что-нибудь невпопад[186]. Душа его стремилась за занавесь, где находилась государыня, и он подумал:
«Так далеко от нас Пурпурные облака, Что, тоскою томясь, Как ни стремлюсь к ним, Приблизиться не могу»[187].Это была нелепая мысль, Тюнагон совершенно забыл о своем положении. Обеспокоенные дамы, находившиеся за занавесью, завели с гостем разговор. Одна из них произнесла:
— Как только глаза к небесам поднимала, Следя, как луна В западный край уплывает, Мечтой за ней устремлялась. Но ты об этом не знаешь.Тюнагон на это ответил:
— Сияющий диск В западный край стремился. Разве кому-нибудь На ум приходило спросить, Путник жив или нет?[188]Среди дам, вспоминавших о своих отношениях с Тюнагоном, некоторые испытывали к нему глубокие чувства. Может быть, он восхищался ими только потому, что давно их не видел. Тюнагон понимал, что, погруженный в мысли об императрице, он обмолвился, и, наскоро простившись, ушел[189].
Ему понравилось стихотворение о блеске луны, плывущей на запад, и он хотел узнать, кто его сочинил. Это была Сёсё, главная распорядительница Отделения дворцовых прислужниц. Ему сказали, что она знаменитая красавица, и ему захотелось познакомиться с ней поближе. Он отправил ей письмо:
«Как ни далек Небесный чертог, В котором ты пребываешь, Сердце, любовью горя, Надеется на свиданье»[190].Дама Сёсё ждала его послания, оно доставило ей необыкновенное наслаждение, и она написала в ответ
«Как ни стремилась Вслед за луной В дальний небесный чертог, В него лишь мечтой Могла проникнуть»[191].Почерк был прекрасный, им можно было любоваться. «Она мила и, должно быть, блестящая красавица», — подумал Тюнагон. Он вспомнил стихотворение дочери заместителя губернатора на Цукуси о слезах, которые можно черпать руками, простодушное и милое, но для дамы столь высокого ранга, какой была Сёсё, такие чувства были непозволительными. Он нашел посредника, и переписка между ним и дамой не прекращалась.
9
Тюнагон решил устроить «хижину из камыша для рыбачки»[192], жилище для Ооикими, где бы она могла в уединении отдыхать. Их дочке исполнилось три года. В конце месяца он перевел мать и дочь жить в главное помещение, где собирался провести обряд надевания штанов[193].
В западной комнате установили статую Будды, и украшения в ней ослепляли взор. Средняя комната предназначалась для монахини; от северной и южной комнат она была отгорожена бледно-фиолетовыми переносными занавесками, и в ней была расставлена великолепная утварь. В восточной комнате жила дочка, все там было небольших размеров — казалось, что это помещение для кукол. Заботы о девочке были возложены на двух кормилиц. Все было устроено самым лучшим образом. Генерал и мать Тюнагона были чрезвычайно довольны. Ооикими в душе думала, что ее положению более пристала бы скромная хижина, но отец и мачеха укоряли ее за такие нелепые мысли. Монахиня скорбела, что против воли должна жить в обстановке, отличающейся от монашеского уклада, ей казалось это суетным, и она проливала слезы, но изменить ничего не могла. Тюнагон окружил ее беспрерывной заботой. Убедившись, что молодой человек ни в чем не отходил от строгих предписаний правильного поведения и его ни в чем нельзя было упрекнуть, генерал с женой предоставили ему заботу о монахине и девочке, а сами возвратились к себе.
В северо-западной части дома были устроены покои для прислуживающих дам. Все в доме, в том числе забота о гардеробе хозяина, было поручено кормилице Сёсё. Сам Тюнагон постоянно находился подле монахини. Сдвинув разделявшие их перегородки, они беседовали, сидя друг против друга. Глядя на Ооикими, молодой человек думал: «Как было бы жаль, если бы она лишилась своей красоты!», но ничего подобного не произошло. Она по-прежнему была необыкновенно хороша собой, ни единого недостатка нельзя было отыскать во всем ее милом облике, ничто не вызывало неприятного чувства. Ночью, расстелив рядом свои постели, они вспоминали прошлое и говорили о настоящем, то плакали, то смеялись. Тюнагон клялся монахине: «Об этом мире и говорить нечего, но и в будущем рождении мы возродимся в одном лотосе»[194]. Каждый месяц в день вхождения в нирвану Будды Шакьямуни[195] они выполняли обряды почитания сутр и изображений Будды. Они вместе молились бодхисаттве Фугэн[196] и Амитабха. Казалось, что они приняли обет царя Шубхавьюха[197].
Когда генерал убедился, сколь возвышенны их отношения, сердечная тревога его окончательно рассеялась. У Тюнагона и в мыслях не было выйти из рамок предписанных отношений. А вот принц Сикибукё доставлял генералу множество огорчений. Он занимал столь высокое положение, что ничего поделать было нельзя. Принц не посещал жену, и генерал совсем не видел зятя у себя в доме. Тюнагон вел себя сдержанно и спокойно; было видно, что он не собирался расставаться с монахиней и что они связаны глубокими клятвами и в этом и в будущих мирах. Все это доставляло генералу удовольствие.
После того как Ооикими приняла монашество, прислуживающие ей дамы бессердечно покинули ее, но, узнав, что Тюнагон окружил ее роскошью и что они могут носить великолепные платья, возвратились. Дама же Сайсё и не думала куда-либо переезжать и всегда оставалась рядом со своей госпожой. Такое отношение встречается редко, оно заслуживает всяческого поощрения, и Тюнагон возвысил ее над другими прислуживающими дамами, а для его дочери она стала второй матерью.
Тюнагон задумал выстроить в усадьбе прекрасную часовню, обращенную задней стороной к горе и передней к пруду, в которой монахиня могла бы молиться. Строительство шло быстро.
В лунные ночи, бодрствуя до рассвета, Тюнагон и Ооикими перед статуей Будды выполняли обряды. В такое время они были похожи на супругов, которые пребывают в согласии и проводят время, не ведая, что уже наступило утро[198]. Хотя и Тюнагон и монахиня были еще молоды, они всей душой отдавались выполнению обрядов и давали друг другу клятвы, что вместе возродятся в Чистой земле. Взирая на монахиню, Тюнагон чувствовал в сердце неизбывную печаль. Она же в течение некоторого времени с неудовольствием думала, что в ее положении не подобает жить в столь роскошно убранном помещении. Генерал опекал ее. Он был заботливым отцом, но к чему такая защита?[199] Не думая о вознаграждении в будущем рождении, она всей душой отдавалась очищению от скверны. У Тюнагона совсем не появлялось мыслей, которые смутили бы его покой. В полном согласии с ее настроением он размышлял о будущих мирах и отдавался выполнению обрядов; ей было радостно, как будто она встретила верного друга, и постепенно она перестала держаться скованно, беседовала и общалась с ним как с родным.
У монахини не было ни одного недостатка; черты лица и манеры были исполнены очарования, она была предупредительна, благоразумна и с любой точки зрения годилась в спутницы жизни. Глядя на нее, Тюнагон сокрушался: было бы лучше, если бы она была обыкновенной женщиной. Но разве он сам мечтал прожить жизнь как обыкновенный мужчина? Если бы Ооикими оставалась в миру и вышла замуж, ее бесстрастность была бы недостатком, и возможно, что муж время от времени злился бы на нее; тогда бы она не столь ревностно стремилась очиститься от житейской скверны и не думала бы о спокойном существовании в будущем рождении. Ныне же у Тюнагона не было никаких причин быть недовольным. Такие чистые отношения только углубляли их любовь друг к другу.
Тюнагон рассказывал монахине о происходящем в столице и своих делах. Она не испытывала недовольства и думала, что обрела надежного друга. Во время пребывания Тюнагона в Китае о монахине заботилась кормилица, но она не могла быть постоянно рядом, и когда Ооикими лежала ночью одна, у нее на душе было уныло. Теперь же ей не оставалось ничего желать и в этом и в будущем мирах. Недовольство и печаль окружающих[200] рассеялись. Всем условия жизни Тюнагона и Ооикими казались совершенно естественными.
Кормилица Тюдзё в усадьбе Тюнагона не показывалась, она была поглощена воспитанием Молодого господина; Тюнагону не нужно было беспокоиться о сыне. Путь до деревни был небольшой, он часто навещал ребенка, а иногда оставался там на ночь. Мальчик рос, и Тюнагон любил его все сильнее. Он думал, что сын, так же как и дочь, которую он сам воспитывал, был существом не нашего мира. Молодой господин был дорог Тюнагону, и от него нельзя было отвести глаз, но отец думал, что пока ребенка лучше никому не показывать Матери Тюнагона очень хотелось увидеть мальчика, она воспользовалась предлогом, что надо было сменить направление[201], и поехала к кормилице. Могла ли она оставаться равнодушной при виде внука? Тюнагон понимал, что ей хотелось бы видеть Молодого господина вместе с внучкой в своем доме, но по-прежнему скрывал его от чужих глаз у кормилицы.
10
Бодрствуя долгими ночами, Тюнагон рассказывал монахине о том, что было с ним в нашей стране, и о том, что произошло в Китае. И только об императрице из Хэян он ничего не говорил. Тюнагон мог бы поведать о красоте императрицы в тот вечер, когда она любовалась хризантемами, о ее великолепной игре на цине перед расставанием, но как только он вспоминал об этом, его начинали душить слезы, и он не мог вымолвить ни слова. Сразу после возвращения в столицу, когда он вновь встретился с матерью и монахиней, когда впервые увидел дочь, Тюнагона охватила радость; он погрузился в заботы, вокруг него всегда было много народу, и не то чтобы он забыл императрицу, но был отвлечен от воспоминаний различными делами. Ныне ему не надо было беспокоиться об Ооикими, и по мере того, как дух его успокаивался, мысли его все чаще обращались к китайской государыне. Наверное, он никогда не посетит Китай и больше не увидит ее. Тюнагон тосковал о возможности снова отправиться в Китай и еще раз встретиться с императрицей. Она обращалась с ним сердечно, не как с посторонним. Он не мог скрыть своих чувств к ней, и тоска его становилась все заметней. Из-за своей любви к императрице он ощущал в чужой стране безотчётный страх; он опасался, что, выдав свою страсть, сам окажется в трудном положении и явится причиной несчастья для нее и для Третьего принца; поэтому он так опрометчиво поспешил уехать из Китая, а теперь испытывал непереносимую тоску.
Тюнагон вытащил полученную от императрицы коробку. Она была сделана из такой пахучей аквилярии, что аромат переходил на руки того, кто к ней прикасался. Тюнагон осторожно открыл ее, в ней были письма на нескольких листах китайской бумаги.
«С тех пор, как постепенно я стала понимать, что к чему, я все время, без мгновения душевного отдыха думаю, что стало с Вами в Японии. Ветер не приносит мне оттуда новостей, и, может быть, Вы уже покинули наш мир. Глядя на луну и солнце, которые приходят к нам с востока, я, проливая слезы, вспоминаю Вас. Кроме них у меня ничего не осталось на память о Вас. За какие прегрешения в прошлых рождениях мы не можем жить в одной и той же стране и беседовать друг с другом? Находясь под разными небесами, мы даже не знаем, пребываем ли мы еще в этом мире. Радостно было бы жить, надеясь, что, разделенные тучами и горами, мы дождемся дня, когда сможем встретиться, но я этого лишена. Жизнь, которую я до сих пор веду, доставляет мне одни мучения. Разве смогу я и дальше терпеть такое существование, если Вы совсем не вспоминаете обо мне? Ваш образ до сих пор стоит у меня перед глазами, когда на рассвете, услышав, что пора расставаться, Вы, плача, произнесли: "Знай, что сейчас мы видимся в последний раз". Может быть, будды и боги вняли моим непрестанным молитвам: "Дайте мне услышать, как живет моя мать", и к нам из Японии прибыл святой отец, который рассказал мне о Вас. Я была вне себя от радости, получив такую милость будд и богов. Когда он должен был возвращаться на родину, я послала с ним подробное письмо. Получили ли Вы его? После его отъезда прошло не так уж много времени, и сюда приехал из Японии советник. Возможно, что Вы о нем слышали. Его отец возродился в облике моего сына, и советник захотел еще раз встретиться с отцом в новом обличье. Ответа на письмо, посланное со святым отцом, я не получила. Я тревожусь, не покинули ли Вы уже этот мир. С советником отношения у меня не поверхностные, поэтому я могу откровенно писать обо всем. К нам долго не приезжал никто из Японии, и прибытие одного за другим двух японцев — знак, что будды и боги вняли моим неустанным молитвам. Это мое утешение и моя печаль. Положение императрицы в этой стране меня совсем не радует. Я вовсе не дорожу своей жизнью и хотела бы в следующем рождении быть хотя бы травой или деревом, но в одной стране с Вами. Надеюсь, что советник разыщет Вас и все обо мне расскажет. Я знаю, что Вы, отринув суетный мир, стали монахиней. Неужели Вы совершили что-то такое, что хотели бы скрыть? Монах рассказал, что у меня есть сестра. Как я хотела бы ее увидеть! Как я завидую, что она может быть рядом с Вами! Если бы она была мужчиной, она, может быть, приехала бы сюда, но женщине этого не дано. Как это прискорбно. Советник чрезвычайно любит моего сына, я прошу Вас ему верить. Полностью доверяйте ему, считайте, что это я сама в его облике явилась к Вам. Не относитесь к нему как к постороннему.
Нет участи горше, Чем наша судьба Ни в одном из миров Рядом нам Жить не дано.В таком случае нет смысла возрождаться в человеческом облике. Слушая, как шумит ветер и дождь, глядя, как опадают цветы и осыпаются деревья, я думаю об одном: где именно в той стране Вы живете и как Вы проводите время?»
Когда Тюнагон это прочитал, у него потемнело в глазах и по щекам покатились безудержные слезы, в которых он мог бы уплыть и сам. Снова и снова императрица писала, что для нее он не посторонний человек, а когда он прочитал: «Считайте, что это я сама», непереносимая печаль наполнила его грудь. Императрица считала его человеком не нашего мира, она рекомендовала его матери как свое собственное воплощение; это его потрясло.
Из письма Тюнагон узнал, что у императрицы есть единоутробная сестра. Он развернул второе послание. Оно было адресовано сестре.
«Вы, конечно, не знаете, кто я, но прибывший из Японии святой отец рассказал мне о Вас, и с тех пор Вы не покидаете моих мыслей. Пока я не смогу возродиться в новом обличье, у меня нет надежды воочию встретиться с Вами. Как это безутешно, как горько!
Друг друга нам не увидеть. Но если ветер Домчит до тебя Далеких цветов аромат, Знай: то весть от меня!Ребенка, которого советник увез с собой, я забыть не смогу, он мне очень дорог. Когда Вы его увидите, относитесь к нему как к родному».
Такими часто повторяемыми словами, как «проникающая в сердце печаль», совершенно не выразить чувств Тюнагона. Он свернул письма и положил их в коробку. Грудь его переполняли глубокие переживания, ему страстно хотелось одного: птицей улететь в Хэян.
Немного успокоившись, Тюнагон принялся расспрашивать, где живет монах. Ему сказали: «В горах Ёсино, в местечке Миёси-но он построил часовню и живет в ней затворником». Тюнагон решил навестить отшельника и расспросить его о матери императрицы.
— Китайский принц просил меня самому передать письмо святому отцу, который ездил в Китай, — сказал он Ооикими. — Мне сказали, что он живет в горах Ёсино, я хочу его разыскать и вручить письмо. Я не буду там задерживаться, но путешествие займет несколько дней. В прошлом я отправился в Китай и оставил вас, но после того, как мы снова встретились, даже недолгая разлука будет мне тяжела, и я буду тревожиться, — продолжал он, проливая слезы — Во время моего отсутствия усердно выполняйте обряды.
Монахиню охватила печаль, и, сама заплакав, она ответила:
— Как бы я хотела посетить этого отшельника!
Как бы хотела, Пыль этого мира От себя отряхнув, В горах Ёсино Приют обрести.Ее слова были столь проникновенны, а весь облик столь пленителен, что, если бы он был ни в чем не разбирающимся грубым мужланом, он бы немедленно обменялся с Ооикими клятвами, не заботясь о возмездии в последующих рождениях. Тюнагон же подумал, что ему, как никому в мире, надо очищать душу, но, с другой стороны, он по-прежнему испытывал к монахине бесконечную любовь.
— С суетным миром Все связи порвав, Вслед за тобой В горний предел И я б устремился...Долгое время я думал, что нерасторжимые узы связывают меня только с матерью, а сейчас убедился, что наши с вами отношения еще более тесные. Наверное, в предыдущих рождениях было предопределено, что я никак не могу отвернуться от суетного мира, и расстаться с вами мне очень трудно.
Хотя им предстояла временная разлука, любовь его была так глубока, что он никак не мог проститься с монахиней и долго с ней беседовал. Таких глубоких чувств в мире больше не встретишь.
Тюнагон поехал к Молодому господину. Он знал, что во время своего путешествия будет беспокоиться о сыне, и долго играл с ним. Мальчик был очень мил. Тюнагон вспомнил письмо императрицы, где она писала о том, что никогда не забудет ребенка, и не мог удержать слез.
Тюнагон пришел прощаться с матерью, и она спросила, неожиданно заплакав:
— Куда вы собрались?
— Вряд ли снова в Китай, — засмеялся он.
— Ну, я ваших настроений не понимаю. Вы так от всех отличаетесь, что я все время пребываю в нестерпимой тревоге. Как бы мне хотелось, чтобы мои опасения не сбылись! — ответила она.
«Как жаль ее! — подумал Тюнагон. — Ее тревога не безосновательна».
Часть третья
1
Ёсино — самые крутые горы во всем мире, а жилище отшельника находилось в самой неприступной их части, местечке Миёсино. Несколько лет назад Тюнагон отплывал в невыразимой печали в Китай в сопровождении многих спутников, а на этот раз он, чтобы не привлекать ничьих взоров, отправился в горы всего с несколькими слугами. На душе у него было уныло.
Был двадцатый день третьего месяца. Снег уже сошел, и только на дне долин можно было видеть там и сям тающие белые пятна. В столице вишневые деревья были одеты листвой, а в горах их ветви еще покрывали цветы, но об этом уже стало известно ветру, и он, срывая, уносил лепестки[202]. Как грустно было смотреть на это! Тюнагон ехал, погруженный в воспоминания о китайской императрице.
«Куда ни уеду, Даже в горы глухие, Где вишни еще не опали, Любовь в душе, Как прежде, пылает», —сложил он.
Путники добрались до жилища монаха. Часовня была красива. Отшельник жил в боковой пристройке с перегородками из черного бамбука, казавшейся временной хижиной. В глухих горах не раздавалось голосов, которые переполняют наш грешный мир, даже птичьего гомона не было слышно.
«Кто же этот человек?» — подумал Тюнагон, входя в помещение. Монах, увидя его, крайне изумился. Ученики его с шумом поднялись, обмахнули пыль, положили подушку для гостя и пригласили его в комнату.
Отшельнику было лет шестьдесят. По происхождению он не был простого звания. Опрятный и худой, он не выглядел стариком и не производил жалкого впечатления. Жилище не казалось неприглядным, а часовня выглядела превосходно. Монах, пристально посмотрев на Тюнагона, невольно подумал: «Не воплощение ли это самого Будды?» — и неожиданно заплакал
Он стал рассказывать о жизни в горах, которую вел в течение нескольких лет. Тюнагон сказал ему:
— Китайская императрица, мать Третьего принца, сказала мне: «Со святым отцом я передала письмо для моей матери. Получила ли она его? Обязательно посетите достопочтенного монаха и спросите, жива ли еще моя мать?» Она мне вручила письмо для своей матери. Вернувшись на родину, я хотел сразу же выполнить ее просьбу, но был занят различными неотложными делами и быстро найти вас не мог. Только недавно мне удалось узнать, где вы живете, и я, обрадовавшись, пустился в путь.
— Когда я был в той стране, я рассказал императрице о ее матери, — ответил монах. — Императрица часто призывала меня к себе и, плача, с большим чувством говорила о ней. Письмо я, конечно, доставил. Монахиня очень печалилась и все время спрашивала, не представится ли удобный случай ответить на него. Но такой возможности не было. Мы не знали, что вы направляетесь в Китай, и не послали с вами вести. Монахиня очень жалеет свою дочь, и ваш приход будет для нее настоящей радостью.
— Где живет она? — спросил Тюнагон.
— Здесь неподалеку, на восток
Тюнагон удивился и спросил:
— Кто она по происхождению? Каким образом она оказалась связанной с вами?
— Может быть, вам приходилось слышать о ее отце, — стал рассказывать монах. — Он был принц, правитель провинции Канцукэ[203]. Человек огромных талантов и необыкновенной мудрости, он был обвинен в злых умыслах против государя и сослан на Цукуси. У него была единственная дочь, мать которой уже скончалась; оставить ее в столице было невозможно. Принц мучился, не зная, как поступить, и в конце концов неосмотрительно увез ее с собой. Сам он в изгнании скончался. Девица жила с одной кормилицей, от которой помощи было мало. В то время к нам прибыл посол из Китая, отец нынешней китайской императрицы. Каким образом это произошло — не знаю, но как будто он попал в дом девицы с помощью кормилицы. Родилась дочка. Ей было пять лет, когда отец решил забрать ее в Китай. Но как девочка могла пуститься в путь, если ни одна женщина по морю не плавала? Отец беспрестанно молился морскому царю, и тот возвестил ему во сне: «Это дитя будет императрицей китайской земли. Увези ее с собой, не медля». Отец с дочерью отправились в Китай. Тем временем дядя матери, которая так и оставалась на острове, начальник Императорского эскорта, был назначен генерал-губернатором Цукуси и отправился туда. Он разыскал племянницу, а когда пришло время возвращаться в столицу, забрал ее с собой. Ее полюбил и стал тайно навещать принц Соти[204]. Она же думала, что ее печальная судьба связала ее в предыдущих рождениях с китайским послом, и не хотела выходить замуж за обычного человека Она тайно приняла постриг и скрылась из столицы. Больше она с принцем не встречалась, а он, не зная, куда она исчезла, очень страдал. Так прекратились их отношения. Но в то время она была беременна, и ребенок родился после принятия пострига. Это была девочка. Рождение ребенка у монахини — непредставимое несчастье; не в силах освободиться от земной любви к своему младенцу, она взяла его с собой, потому что в горах, где живут только отшельники и ничто не отвлекает дух от выполнения обрядов, некому было поручить его. После родов мать совсем сбрила волосы, которые до тех пор оставались лишь остриженными, и стала выполнять обряды столь же ревностно, как монахи. Когда я построил эту часовню и стал жить в ней, монахиня, чувствуя, что не может жить в суетном мире, и испытывая ко мне доверие, перебралась сюда. В свое время я был знаком с ее отцом, а после того, как я доставил письмо от ее дочери, монахиня все больше и больше на меня полагалась. Это меня глубоко трогало. Судьба человека определяется его прошлыми воплощениями, но ее участь особенно беспримерна. Вы сами могли видеть, как любит и как почитает ее дочь китайский император. Монахиня считает, что разлука с дочерью — воздаяние за какое-то прегрешение в ее прошлых рождениях. Но она, в этом мире испытывая страшные бедствия, в будущем воплощении обязательно достигнет Просветления. Будучи женщиной, она, тем не менее, всем сердцем отдается выполнению обрядов, и ее приверженность заповедям необыкновенно глубока.
Тюнагон, слушая монаха, думал, что, действительно, у монахини была редкостная судьба. Она не поступила безрассудно, отвернувшись от мира и приняв монашество.
— Я тревожился, что мать императрицы живет где-то далеко и мне трудно будет ее отыскать, — сказал он. — Но оказалось, что она находится совсем рядом. Это поистине радостная неожиданность. Скажите ей, пожалуйста, что я здесь, и передайте вот это.
Он вручил монаху коробку для писем, и тот по дорожке через бамбуковую рощу отправился к монахине. В ту ночь она видела во сне китайскую императрицу и, весь день, выполняя службы, снова и снова вспоминала о ней. Когда ей сказали о неожиданном визите, сердце ее сильно забилось: неужели сбывается ее сон? Она развернула и стала читать письмо, и ее охватила невыразимая печаль. Читая, она думала, что, несмотря на все усилия, она так и не может отрешиться от земных чувств. «Какими грехами в предыдущих рождениях определено, что мы с дочерью, связанные неразрывными кровными узами, не можем беседовать друг с другом, и вынуждены жить в разлуке, как ласточки[205]?» — думала она. Судьба их действительно была безжалостной.
Монах сказал ей:
— Это человек благородный. Он проделал путь, который обычным людям не под силу, и разыскал нас в этих неприступных горах. Такую доброту редко увидишь в мире, и я привел его сюда, чтобы вы сами его подробно расспросили. Думаю, это доставит вам радость.
Монахиня почувствовала стыд, что она, отвернувшись от мира, живет в такой жалкой хижине, и если посланец увидит ее, честь дочери, хотя та и находится в дальней стране, будет запятнана; поэтому ей было неловко принимать Тюнагона, но императрица писала: «Не чуждайтесь его и сами поговорите с ним[206]. Считайте, что это я сама в его облике явилась к Вам». Между дочерью и незнакомцем явно была связь в предыдущих рождениях. Сама монахиня настолько далеко отошла от бренного мира, что сама за себя никакого стыда не ощущала. Да и письмо императрицы, наверное, заставило ее забыть обо всем на свете. Прибрав помещение, выходящее на юг, в котором она спала, она попросила их войти. Отшельник сказал Тюнагону:
— Монахиня просит вас к себе.
Это было жилище матери императрицы, жилище женщины, тоскующей о дочери, которая находилась так далеко, что не было никакой возможности передать ей свои думы. Тюнагон был заранее благожелательно настроен и, радуясь, что настал долгожданный час, вошел в помещение.
2
Сумерки уже сгустились, и в темноте гор не было видно. Тюнагона ввели за занавесь, и он увидел монахиню. Ее облик был замечательно красив и внушал какой-то страх. Оба они были неразрывно связаны с одним и тем же несравненным существом, и в течение некоторого времени от волнения они ничего не могли промолвить. Наконец, кое-как справившись со своими чувствами, монахиня произнесла:
— Мое положение вам понятно без слов. Если я со смущением и скорбью вступаю в разговор с незнакомым мне человеком, то только потому, что китайская императрица ждет от меня известий[207]. Один раз отвернувшись от мира, я не могу сделать этого вторично, но, когда я думаю о своей дочери, моя душа блуждает в потемках любви[208]. Когда через святого отца я получила от нее письмо, то печалилась и тревожилась за нее больше, чем когда я о ней вовсе ничего не знала. А от письма, которое вы принесли, мне стало еще тяжелее. Я совершенно не ожидала, что вы приедете в эти неприступные горы, где не раздается даже пения птиц[209]. Причины всего этого мне непонятны.
Ждала, не надеясь, — Ведь в жизни Таких чудес не бывает. И ныне не верю глазам. Не сон ли обманчивый вижу?Монахиня заплакала. И во сне нельзя было представить, что это отшельница, удалившаяся от мира и живущая далеко от людских поселений. Она была еще молодой, располагала к себе и была чарующе красива. Она напомнила Тюнагону китайскую императрицу в тот момент, когда та сложила: «Посланцем неба чужого сюда ты явился». Он не мог сдержать слез и сказал:
— Не верю глазам, Сон ли, явь ли — Сказать не могу. Не от мира сего Эти безлюдные горы.Я должен был встретиться с китайским принцем и отправился в далекие края. Я видел там много такого, что вызывало глубокую печаль. Когда мне надо было возвращаться на родину, императрица призвала меня к себе и сказала: «Оставив в Японии близких родственников, вы отправились в опасный путь; такую глубокую почтительность к родителям часто не увидеть; поэтому, если по возвращении на родину вы будете вспоминать обо мне, обязательно разыщите мою мать. Мы разлучены друг с другом, я не знаю, где она живет; наше существование кажется мне бессмысленным, и мне остается только оплакивать свою жестокую судьбу». И она, и принц при этом плакали. Если бы вы жили в еще более глухих горах, я бы все равно разыскал вас там и передал письмо. Но мне и сейчас кажется сном, что я своими глазами вижу вас.
Монахиня слушала, как проникновенно он рассказывал о свидании с императрицей, и тоска ее только увеличивалась.
— Мне неловко, что нам рассказали о нашей беспримерной судьбе. Сейчас мне, горной отшельнице, не следует думать о суетном мире. В письме сказано, чтобы я доверяла вам. Для этого должна быть какая-то причина, и пока я живу в этом мире, я во всем буду полагаться на вас, — сказала она.
«Как красива она должна была быть в молодости! В нашем мире ее и сравнить не с кем», — подумал Тюнагон. Ему хотелось долго говорить с ней. Встреча с монахиней его не разочаровала, и ни о чем другом он не мог думать
— Дорога из столицы сюда очень длинна, без особой причины к вам не поедешь. Если уж я здесь, то на некоторое время останусь в келье у святого отца и насыщу сердце разговором с ним, — сказал Тюнагон и вышел из комнаты.
На небе уже показалась луна. Оглядевшись по сторонам, он увидел на вершине горы под соснами маленькое строение. Был ли это северный флигель? Никаких других домов не было видно. Вокруг пустынно, и не слышалось ничьих голосов. Хоть и говорили, что это глухие горы, но все-таки в них кто-то жил. Картина вызывала уныние. Слушая, как с горы бурно низвергается водопад и как с его шумом сливается завывание ветра, Тюнагон чувствовал неизбывную печаль.
Было холодно, на душе у Тюнагона стало грустно. Почему монахиня живет здесь? Китайская императрица окружена всевозможной роскошью, о ней заботится множество слуг, а мать ее влачит жалкое существование. Ему захотелось стать птицей Гаруда[210] и полететь к императрице, чтобы рассказать, как живет ее мать.
В келье отшельника было много учеников и монахов. Все они внимательно посмотрели на вошедшего. «Монахиня живет в полной зависимости от отшельника», — подумал Тюнагон с жалостью.
— Здесь ли та молодая девушка, о которой вы говорили? — спросил он отшельника.
— Разумеется. Где еще она может быть? Мать родила ее после принятия пострига. Она очень горевала и прятала новорожденную, чтобы никто ее не видел и ничего не знал о ней. Девочка выросла замечательной красавицей. Мать не могла заставить себя забыть о ней, часто между службами думала о дочери и так скорбела, что ее становилось жалко. Иногда до меня доносятся прекрасные чистые звуки; это ее дочь играет на кото.
Тюнагон подумал, что человек, отринувший мир, еще так-сяк, но как молоденькая девушка может жить в столь страшном месте? В старых повестях рассказываются истории в таком духе, но в жизни Тюнагон никогда ничего похожего не слышал. Женщины были родственницами китайской императрицы, и Тюнагон, слушая рассказ о них, проливал слезы. После всего, что он узнал, он не мог покинуть их. Ему казалось, он слышит слова императрицы: «Если мать моя жива, поручаю ее вам». Но в письме она этого не написала. Тюнагон чувствовал, что связан с монахиней крепкими узами. Он сказал отшельнику, что на некоторое время останется в Миёсино, и, написав письмо в столицу, отправил его с одним из своих слуг.
В той провинции у Тюнагона были поместья, и он написал туда. Когда управляющие узнали, что господин находится недалеко от них, они с угощением прибыли в Миёсино. Местечко оживилось и заблистало. Тюнагон, якобы по распоряжению отшельника, послал монахине подарки. Длинными весенними днями даже в столице трудно переносить скуку, а в горах, где не слышалось даже пения птиц, где цветущие деревья были окутаны туманом, все рождало невыносимую грусть. Для людей, отвернувшихся от мира и помышляющих только о возрождении в будущих мирах, это было самое подходящее место. Он и сам мог бы жить здесь, с благоговением читать сутры и выполнять обряды. Он думал, что отшельник — воплотившийся на земле Будда, что в прежних рождениях он совершил множество достойных дел и поэтому ныне возродился в таком прекрасном облике, но за какой-то проступок вынужден еще пребывать на земле.
В Миёсино не нужно было сдерживать себя предписаниями этикета, и Тюнагон часто посещал монахиню. Ночью ее облик менее контрастировал с окружающей обстановкой. От изгороди из хвороста почти ничего не осталось, так что даже росе было негде лежать. «Как можно так жить?» — думал Тюнагон. Место было глухое, все вокруг обветшало. Переносными занавесками, узор на которых представлял древесину, тронутую гниением, пользовались уже много лет. При этом из-за занавески доносился прекрасный аромат, который смешивался с курением перед статуей Будды. Монахиня старалась, чтобы ее жилище выглядело как можно лучше.
Однажды, когда они спокойно беседовали, монахиня неожиданно спросила:
— Где сейчас ребенок, с которым императрица не могла расстаться и которого вы привезли с собой? В письме она написала, чтобы я увидела его.
Тюнагон подумал, что пока лучше не рассказывать всю правду, и ответил:
— Этот младенец — сын дамы, которая прислуживала императрице. Его было очень жалко, в той стране у него нет родственников, которым его можно было бы поручить. Императрица часто видела его в своем дворце. Она, наверное, так и написала в письме? Как-нибудь я привезу его к вам.
Вечерний туман покрыл все небо, в комнате и снаружи стояла глубокая тишина. На душе было печально. Из часовни донесся вечерний колокол.
— Вечерней порой В пустынных горах Замерли звуки. На сердце еще печальней От колокольного звона, —произнес он.
Тюнагон, сидевший неподвижно и погруженный в глубокую задумчивость, в вечернем сумраке выглядел необыкновенно красиво.
— Вы догадываетесь, что мы здесь только тогда, когда слышим вечерний колокол, отдаем себе отчет, что проходит время, — плача, произнесла монахиня. —
В темном ущелье Дня от ночи не различаешь. И только звон на закате Нас извещает, Что день отошел.Тем временем вернулся посланный в столицу слуга, и Тюнагон преподнес монахине подарки от китайской императрицы, к которым он добавил много своих; это были вещи, выбранные с большим вкусом.
Он повелел привезти отшельнику одежду из пеньки, а его ученикам — все, что полагается низшим священнослужителям. Он сделал подношения монахам, которым жили по склону горы до самой ее подошвы. Тюнагон вызвал управляющих из своих поместий в той провинции и повелел: «Отныне не посылайте урожай мне в столицу, а привозите его монахине. Назначайте каждую ночь по три-четыре человека сюда в охрану, пусть они ходят вокруг этого места». Такой же приказ он дал управляющим своих поместий в соседних провинциях, Идзуми и Коти. Тюнагон оставил в горах своих сопровождающих, сообразительных, верно служивших ему людей, чтобы они заботились о монахине, вызвал из своих ближних поместий слуг и велел им привести в порядок ее жилище и поставить новую изгородь. Они прорыли канавы и разложили камни. Поселение приняло другой вид и не напоминало более печальную деревню Фусими[211]. Тюнагон и сам бы прожил там всю жизнь, но дома его ждало много неотложных дел, и он собрался возвращаться в столицу.
— Миёсино находится так далеко в горах, — сказал Тюнагон монахине, — что, даже получая от вас письма, я все время буду беспокоиться о вас. Не переехать ли вам жить куда-нибудь поближе, куда мне было бы легче ездить? Ведь выполнять обряды и очищать душу можно повсюду.
— Когда я, задумавшись о своем горьком положении, решила стать монахиней, мне хотелось поселиться в месте, еще более удаленном от грешного мира, чем эти горы. О многолюдных селениях я и думать не могла. Сейчас, доверившись вам, я последовала бы вашему совету. Однако моя жизнь и в далекие времена отличалась от жизни обычных людей, и когда я бесследно скрылась в горах, никто не мог знать, жива я или нет. Вы разыскали меня, и если я перееду в деревню поближе к людям, на это будут смотреть косо. Станут говорить, что, поддавшись вашим настояниям, я неожиданно возвратилась к прежней жизни, а это будет прискорбно и для моей дочери, с которой мы разделены широким морем.
Она заплакала. Ее слова глубоко проникли ему в сердце, и он подумал, что монахиня права.
— Я сам современный человек[212], — сказал Тюнагон, — никто не станет болтать, почему я кого-то отыскал. Я вам сочувствую, и по отношению к вашей дочери у меня совершенно нет ни легкомысленных желаний, ни дурных побуждений.
Они говорил и друг с другом все более доверительно. Беспокоясь о монахине, Тюнагон несколько раз повторил, проливая слезы:
— Я буду навещать вас здесь. Не сомневайтесь, что мы еще увидимся.
Он попросил отшельника сделать все, чтобы монахиня жила спокойно, и возвратился в столицу. Хоть и говорят, что отшельники — воплощение на земле Будды или святые, но пока они живы, им надо добывать средства к существованию Ученики отшельника уныло взирали на окружавшие их горы, сплошь поросшие лесом. Но раз у монахини и у их наставника появился такой благодетель, как Тюнагон, они, уверенные, что это сам Будда в новом обличье пришел им на помощь, смотрели вслед удаляющемуся в столицу молодому человеку, проливая слезы и молитвенно сложив руки.
3
Отец монахини был сыном пожилой принцессы, отставшей от времени и не пользующейся влиянием. Он думал только о том, как преуспеть в науках и музыкальном искусстве. Связей, необходимых для успехов в нашем мире, у него не было. Его обвинили в государственном преступлении и сослали на Цукуси. Всю жизнь ему не везло, дом его бесследно исчез, и в глухой, никому не известной деревне он не мог долго поддерживать свое существование.
Дочь после смерти принца осталась с неумной кормилицей, на которую нельзя было рассчитывать. Девицу разыскал ее дядя, назначенный губернатором на Цукуси, взял на свое попечение и увез в столицу. Но у него было множество собственных забот, и, хотя он кое-какую помощь племяннице оказывал, она жила довольно безрадостно. Вскоре дядя скончался, оставив ее совершенно беспомощной. Тогда-то ее и стал навещать принц Соти. Можно было бы сказать, что ей необыкновенно повезло, но она не хотела второй раз связывать жизнь с мужчиной и выходить за него замуж. После долгих размышлений, как ей быть, девица решила принять постриг и скрылась от принца. Когда она поняла, что беременна, то пришла в такое отчаяние, что готова была погибнуть в морской пучине, но срок человеческой жизни определен не нами. У нее родилась очаровательная девочка. «Бросьте ее в глубокую реку. Я не хочу ни видеть ее, ни слышать о ней», — говорила монахиня, негодуя на свою судьбу. Но прислужницы пожалели ребенка: «Как отдать чужим людям такого прелестного ребенка?» Они баловали девочку и заботились о ней.
Девочке исполнилось четыре-пять лет, она очень мило резвилась, бегая вокруг. Она была разительно похожа на свою сестру в то время, когда отец увозил ее в Китай. Им предстояла вечная разлука, у матери не было надежды ни встретиться еще раз с дочерью, ни получить от нее письмо, а малолетняя дочь, обнимая ее, говорила: «Мама, поедем вместе». Горечь последних мгновений их прощания — ее торопили, корабль уже отчаливал — была ни с чем не сравнима во всей ее печальной судьбе. Даже приняв монашество, мать не переставала горевать о том, что она никогда ничего не узнает об уехавшей дочери. А ее вторая дочь, барышня из Миёсино, жила в той же самой стране, все время находилась возле нее — и монахиня с годами привязывалась к ней, и если раньше она не хотела и смотреть на нее, то ныне думала о ней с любовью и в перерывах между службами заботливо воспитывала ее. Девочка выросла очень милой, у нее не было ни единого недостатка. Она стала утешением в суровой жизни, в которой не было никаких развлечений. Если бы это была самая обычная девица, то и тогда было бы жаль, что она живет в горах среди зверей и птиц, а красота барышни с каждым годом и с каждым днем становилась все ослепительней, и мать все чаще задумывалась о ее будущем: «Я сама ношу одежду из мха и питаюсь иглами сосен. Моя дочь погребена вместе со мной в этих горах, где не раздается даже птичьего пения, живет в такой ветхой лачуге, что роса не может удержаться на крыше и протекает сквозь дыры в ней, и ходит без каких-либо украшений, в изношенной одежде, мокрой от слез. Такое существование пристало бы прислуге. Дочь моя живет как затворница и никого не знает в суетном мире. Кто возьмет ее в жены? Приличные молодые люди находят себе пару в других местах, а если отдать ее в жены самому низкому из простолюдинов, она будет вечно нуждаться и скитаться без своего угла».
Три дочери кормилицы монахини когда-то были довольно миловидны. Они были уже немолоды, красота их увяла. Старшая сестра приняла постриг. Две другие, хотя и состарились, все еще прислуживали барышне — оставить ее они не могли, очень ее жалели и, глядя на нее, все время вздыхали. Третью дочь время от времени навещал некий Котэнарисо, который жил в той же провинции Ямато. Никаких других мужчин в Миёсино не видели.
Сама монахиня, давно отказавшаяся от мирской жизни, проводила время в благочестивых размышлениях. Но можно было ли обрекать девицу на такое безрадостное существование? Если бы у нее не было дочери, она, очистившись душой и выполняя обряды, достигла бы состояния будды, как дочь царя драконов[213]. Не дьявол ли, воплотившись в ее дочь, стоял на ее пути к Просветлению? Днем и ночью, пренебрегая молитвами о достижении Чистой земли, она просила Будду: «Избавь меня от страшного беспокойства, сделай так, чтобы дочь моя в этой жизни была счастлива». Иногда она думала: «Если так и не появится человек, которому можно поручить дочь, вынужденную страдать за какие-то прошлые грехи, не лучше было бы ей умереть раньше меня?» Сердце ее начинало сильно биться, душа приходила в смятение, ночью она не могла заснуть, на следующее утро просыпалась поздно или спала весь день. Она не могла думать ни о чем другом и не молилась о достижении Чистой земли. Тщетны были надежды достичь покоя в будущей жизни. В течение трех лет она просила у Будды одного: «Пусть придет человек, которой стал бы опорой дочери, пусть это принесет мне спокойствие. Внемли моим мольбам о достижении безмятежной будущей жизни».
Однажды во сне ей явился исполненный благодати монах, необыкновенно красивый, так что она подумала, что это сам Будда изменил свой облик.
— Китайская императрица, не зная, пребывает ее мать в добром здравии или нет, днем и ночью молит Будду только о том, чтобы получить весть о ней. Чувство любви к матери полностью заполнило ее сердце. Но после того как вы расстались и она уехала в чужие края, ее желания неосуществимы. Она связала свою жизнь с человеком из Японии, рассказала ему о своих глубоких чувствах к вам и просила его позаботиться о вас. Таким образом, Будда исполнил ее просьбы. Скоро вы увидите здесь этого человека. С ее молитвами совпадут и ваши: он будет заботиться о вашей второй дочери, — сказал он.
Монахиня хотела почтить его и в то мгновение проснулась
Вскоре после этого монахиню разыскал Тюнагон и подробно рассказал ей о китайской императрице, вести о которой не доносил до нее даже ветер. Она получила письмо от дочери. Монахиня сама могла убедиться в неограниченных возможностях Тюнагона: его слуги все время суетились вокруг нее, починяли и перестраивали ее крайне ветхое жилище, возводили амбары, чтобы складывать в них урожай, привозили запасы из всех поместий. Монахиня понимала, что все это — милости Будды, отныне она не сомневалась в своем возрождении в Чистой земле и чувствовала радость.
Монахине издавна прислуживали пять или шесть женщин. Они очень жалели госпожу: «Как можно жить в таких горах, не имея никакой поддержки? Разве мы сами вечно будем прислуживать ей?» После появления в Миёсино Тюнагона их положение совершенно изменилось; от изумления у них отнялись языки, и они были не сказать как довольны.
4
С возрастом барышня из Миёсино стала понимать, что к чему. Она слышала, как прислужницы, разговаривая между собой, жаловались и оплакивали свою судьбу; и хоть речь шла о других, могла ли она при этом оставаться веселой?[214] В таких глухих горах нельзя было найти даже повестей с картинками, рассматривая которые люди развлекаются. Рядом не было никого, с кем можно было бы вместе наблюдать, как увядают осенью цветы, и слушать пение птиц, кто бы чувствовал то же, что она, и приходил бы вместе с нею в восхищение от увиденного. Она проводила время в одиночестве, погруженная в задумчивость, и утешалась душой в сочинении стихов. Мать обучила ее игре на кото, и барышня быстро овладела этим искусством, но в Миёсино не было никого, кто бы ее слушал, и она одна-одинешенька, в задумчивости глядя на гребни далеких гор, исполняла музыку. Других занятий она не знала.
Когда барышня, не видевшая даже заурядных мужчин, взглянула на прибывшего к ним Тюнагона, она была поражена: «Неужели в столице живут такие красивые люди?» Ей стало стыдно этой мысли, и, видя, как все вокруг нее радовались Тюнагону, она сложила:
«Все говорят, Что гора вознеслась Посреди печального мира. Где же кончается Скорбный предел?»Она хотела бы скрыться в еще более далеких горах. Погруженная в задумчивость, она проникновенно играла на кото, а служанки, глядя на нее в лучах вечернего солнца, думали: «Несколько лет мы слушаем, как она играет; каждый раз мы приходим в трепет и душа наша очищается». Слушая ее кото, они приходили в хорошее расположение духа и чувствовали умиротворение. Но сама барышня была безутешна, ей было стыдно самое себя, и она считала, что жизнь ее исполнена горечи.
В середине четвертого месяца Тюнагон приготовил для смены одежд[215] две пары переносных занавесок в четыре сяку[216], одну пару в три сяку, по две пары в три и четыре сяку с лентами из ткани цвета летней и осенней листвы[217]; для монахини и барышни два короба с одеждой: платьями из красного отбитого шелка и лилового шелка, лиловой тканью, красными платьями, темно-серыми одеяниями для монахини, платьями из полупрозрачной ткани темного желто-красного цвета и покрытыми узорами штанами. Прислужницам он послал платья из узорчатой шелковой ткани, красные платья, занавеси и матрасы. В короба для одежд он положил различные благовония, в два небольших китайских короба — разноцветную бумагу, отличную тушь и кисти, а кроме того, повести с превосходными иллюстрациями. Барышня, должно быть, была очень несчастна. Чем еще она могла утешиться в горах? Он написал монахине:
«Я хотел сразу же отправиться к Вам, но меня задерживают различные дела, и я посылаю письмо. Внезапно я подумал вот что. Я очень беспокоюсь, как Вы живете в таких глухих местах. Как было бы хорошо, если бы Вы переехали куда-нибудь поближе к столице. Такие повести с картинками — в столице обычное развлечение. Я подумал, не развлекут ли они Вас в горах?»
Тюнагон позаботился обо всем, и монахиня испытывала невыразимую благодарность. Она сопоставила в мыслях благодеяния Тюнагона с письмом от китайской императрицы и с виденным сном и уверилась, что это милость самого Будды и что такое отношение определено связью между ними в предыдущих рождениях. Нечего и говорить, что все прислужницы с наслаждением читали письмо Тюнагона.
«И знатные, и простые мужчины, услышав, что в самом неожиданном месте живет молоденькая девица, этого мимо ушей пропустить не могут и немедленно устремляются к ней, — думала монахиня, — и Тюнагон, несомненно, узнал все в подробностях о моей дочери. Но он не обнаружил особых намерений, а то, что он послал повести, чтобы развеять ее скуку, свидетельствует о его деликатности, которая так отличается от обычных манер». В ее обстоятельствах одарить посланцев выглядело бы неблагородно и суетно, поэтому она ограничилась одним подробным письмом к Тюнагону. Оно произвело очень приятное впечатление. Монахиня писала:
«Долгими весенними днями здесь очень скучно, дочь моя обычно погружена в печальные размышления, поэтому повестям Вашим она очень обрадовалась».
«Какова эта барышня? Похожа ли она на свою сестру, императрицу? С отрешившейся от мира матерью она прозябает в этом месте и, наверное, неграциозна и вряд ли разбирается в вещах и может обходиться с людьми», — размышлял Тюнагон. У него не возникло намерения искать с ней знакомства. Он думал только о том, что должен оказывать помощь родственницам китайской императрицы, которая о них тоскует, поскольку находится далеко. Ему казалось, что недостижимый облик, к которому неудержимо стремился, витает вокруг него, и он непрерывно заботился о монахине с дочерью. Ему хотелось показать им Молодого господина, но можно ли было везти так далеко маленького ребенка? Тюнагон ломал голову, как это осуществить.
5
Тем временем заместитель губернатора на Цукуси отправил в столицу жену с дочерью и сам вслед за ними прибыл туда. Жене его рассказали, что, несмотря на постриг дочери генерала, Тюнагон ведет себя как ее муж и ни на одну женщину не смотрит. «Так я и знала, — подумала она. — Мы определенно выразили ему свое желание, но он решил не связывать себя клятвами с нашей дочерью и только надавал ей пустых обещаний. Зачем мы, понадеявшись на них, нагрянули в столицу?» Как раз в то время Тюнагон отправился в Миёсино и не мог написать письма девице. «Если он испытывает к ней какие-то чувства, — продолжала размышлять госпожа, — почему же, узнав о нашем приезде в столицу, он не прислал ей хотя бы коротенького письмеца, пусть и неискреннего? Он совсем не любит ее, как мы предполагали». Надежды заместителя губернатора не оправдались, он был разочарован; к тому же его жена, дама своенравная, стала мужа открыто презирать. После приезда в столицу у него не было ни мгновения душевного покоя, и он отчаялся устроить судьбу дочери.
Начальник Дворцовой стражи был генеральский сын и приходился дядей Тюнагону[218]. Он был женат на дочери принца Соти[219]. У жены его был благородный характер, но она была значительно старше мужа, и он с самого начала не испытывал к ней особой любви, а потом расстаться они не расстались, но отчуждение между ними все увеличивалось. Начальник стражи хотел найти себе жену по сердцу. Он подумал, что дочь заместителя губернатора является такой женщиной, и заговорил о том, что хочет жениться и никогда не расставаться с ней.
Как-то раз заместитель губернатора с семьей из-за возмущения места[220] находился в чужом доме, где начальник Дворцовой стражи случайно увидел девицу. Он вообще терял от красавиц голову и с тех пор только и думал, как бы встретиться с дочерью заместителя. Она, несомненно, была женщиной, которую он искал. Через родственника он передал письмо с изложением чувств, в котором сообщал, что супруге его много лет и что отношения между ними разладились. Жена заместителя губернатора задумалась. Начальник Дворцовой стражи был человек благородный, внешность у него была замечательная. Он женат, и будет ли он относиться к их дочери серьезно? Но вокруг сколько угодно случаев, когда у важных сановников жены нет, но о них идет дурная слава и у них плохой характер. Однако что будет, когда об этом узнает Тюнагон? Конечно, плохо, что у начальника стражи была жена, но репутация и внешность у него превосходны, он очень любезен, и нельзя сказать, что это нежелательная партия. Им повезло, что он обратил внимание на их дочь.
Начали готовиться к приему жениха так пышно, как будто у него жены не было. Правда, сам он не хотел привлекать внимание к новому браку. Родители девицы не колебались и провели его в комнату дочери.
Девица слышала разговоры о сватовстве, но у нее и в мыслях не было, что ее брак решится так быстро. Жениху было лет тридцать пять — тридцать шесть, это был мужчина в расцвете сил, он шумно выражал свою радость, но она помнила, как красив Тюнагон, и ни о каком сравнении не было и речи. Вдобавок начальник стражи вел себя довольно бесцеремонно, а она не могла забыть деликатного отношения Тюнагона, давшего ей обещание снова встретиться с ней. Слезы душили ее, она проплакала до рассвета и укоряла мать в бессердечности.
Тюнагон не забывал прелестную дочь заместителя губернатора, и ему захотелось непременно тайно встретиться с ней. Когда она приехала в столицу, поползли слухи, что Тюнагон завел шашни, а если бы он посетил девицу, сплетни бы усилились. Он хотел дождаться, когда толки стихнут, открыть девице свои глубокие чувства, со временем сблизиться с ней и увезти в горную деревушку, где он мог бы навещать ее, не опасаясь посторонних взглядов. Узнав о ее замужестве, он стал упрекать себя за то, что так медлил, и решил узнать, как она относится к нему ныне. Тюнагон тайно послал ей письмо:
«Снова и снова Мыслью к тебе Возвращаюсь. Помни мое обещанье, Что не изменится сердце».Письмо было написано превосходно. Дочь заместителя вспомнила, как Тюнагон был взволнован, расставаясь с ней в утро отъезда в столицу, и на его прекрасном лице отражались глубокие чувства. Когда она смотрела на заурядного начальника стражи, облик Тюнагона в ее душе становился еще более привлекательным. «Он вспомнил меня, но теперь я замужем», — думала она с непередаваемой мукой. Она хотела выразить в ответном письме свои переживания:
«Клятвы твои Я не забыла. Но кто слышал, Чтоб полотно Снова пряжею стало?[221]Как печально, когда не сбываются обещания!»
«Она не ломается и не важничает, а просто написала то, что чувствовала», — подумал Тюнагон. Ему стало очень жаль ее, и он еще более захотел встретиться с ней.
Как раз в то время генерал[222] простудился и слег. Жена и вся семья были постоянно при нем. Начальник Дворцовой стражи в сумерки незаметно вышел из усадьбы генерала, по-видимому чтобы предупредить, что ночью останется у больного и к дочери заместителя губернатора не придет[223]. Когда стемнело, он возвратился к генералу и расположился на ночь возле него. Увидев это, Тюнагон сказал:
— Сегодня здесь собралось так много народа. Я пойду к себе и отдохну, а завтра вечером приду сюда.
Тюнагон покинул усадьбу отчима и направился к дочери заместителя губернатора. Он постучал в ворота. Луна еще не появилась на небе, было темно и ничего нельзя было различить Охранники, без сомнения, решили, что явился начальник стражи, открыли ворота и впустили его. Тюнагон приблизился к дому и щелкнул веером. Сонный слуга в доме тоже решил, что это начальник стражи, и открыл дверь. Тюнагон вошел в комнату госпожи. В душе он упрекал себя, в то же время ему было жаль госпожу. Светильник горел где-то в углу и еле-еле освещал помещение. Прислуживающие дамы спокойно спали. Не произнося ни слова, Тюнагон приблизился к пологу, за которым находилась дочь заместителя, и раздвинул занавески. Положение было забавное.
Спокойно спавшая после ухода начальника стражи госпожа открыла глаза и заметила постороннего мужчину. Она была ошеломлена, но быстро догадалась, кто это. Она не могла ошибиться, образ Тюнагона ни на мгновение не покидал ее мыслей, и, как ни была она поражена, сердце ее затрепетало от радости.
— Я все время думал о вас и хотел поскорее увидеться с вами, — сказал ей Тюнагон. — Узнав, что вы приехали в столицу, я с нетерпением ожидал, когда представится возможность спокойно встретиться. Неожиданно, как дым от сжигаемых водорослей, вы отклонились в другую сторону[224]. Представьте себе, как я был раздосадован. «Почему она ничего не сказала мне? — думал я. — Почему не подала какого-либо знака?» Как бы я хотел, чтобы вы не пропустили мимо ушей моих слов, сказанных на Цукуси, и тайно пригласили к себе.
Госпожа стала упрекать себя, что по собственной воле она отдалилась от Тюнагона и предпочла ему другого мужчину. В ту ночь на Цукуси Тюнагон не проявил интереса к ней и оставался совершенно спокойным[225]. Сейчас он делал вид, что он сам ни в чем не виноват, а ее чувства, мол, оказались неглубокими. Если бы госпожа была опытна в любовных делах, она непременно возразила бы, что за ней никакой вины нет, что сейчас он ропщет на нее, а в то время не обнаружил никаких чувств. Дочери же заместителя губернатора стало стыдно за себя. Она была так мила и трогательна, что Тюнагон не мог представить себе, как он сможет дожить до следующего свидания, если сейчас покинет ее, не обменявшись клятвами. Госпожа с мукой глядела на обиженного Тюнагона. Видя, что она, в отличие от обычных женщин, совсем не пришла в смятение и оставалась спокойной[226], Тюнагон думал: «Пока я остаюсь в мире, в котором нельзя избежать игры страстей, она могла бы быть моей очень приятной тайной возлюбленной». Неожиданно послышалось пение птиц.
Госпожа была в ужасном страхе и растерянности.
— Я не сдержала обещаний, и вы меня заслуженно презираете... — сказала она.
Тюнагон же думал: «Вчера вечером по виду дяди было заметно, что он, проводя ночь далеко от нее, был недоволен и все время вздыхал. Как бы он не явился чуть свет». Он беспокоился, что его здесь узнают. Если бы речь шла о жене постороннего человека, еще так-сяк, но госпожа была замужем за его родственником. Он увлек ее к выходу и распахнул дверь.
Светила яркая луна, поддеревьями было темно. Пахли цветущие померанцы, слышалось пение кукушки. Ночь была чарующей.
— В померанцевой роще Скрылась кукушка, И только, не прерываясь. Доносится к нам Таинственный голос[227], —произнес Тюнагон.
Каждый мужчина, расставаясь на рассвете с дамой, старается, чтобы в памяти у нее осталось приятное воспоминание. Тюнагон же мог этого не делать; госпожа, глядя на его прекрасный облик, понимала, что сравнить его не с кем. Она сложила:
— Миг этот не повторится. Аромат померанца Меня так окутал, Что даже мой плач Тебе не услышать[228].Тюнагон никак не мог покинуть ее и сказал:
— Что, если я вас увезу и спрячу где-нибудь?
Она едва заметно кивнула и приникла к нему. Она была необыкновенно мила, но Тюнагон, все больше и больше беспокоясь, стал объяснять ей как можно мягче:
— Начальник стражи старше меня, мы связаны неразрывными кровными узами и мы в дружеских отношениях, — такой поступок с моей стороны был бы предосудительным. Я познакомился с вами раньше него, и не существовало никаких препятствий, когда я сегодня направился к вам. Если же я увезу вас с собой, об этом начнут судачить, и дядю будет жалко. Иначе я бы немедленно взял вас с собой. Ночь темна, я еще могу оставаться здесь, — добавил он и вернулся с ней в комнату.
Тюнагон покинул дом дяди, когда прислуживающие дамы стали просыпаться. Он расстался с госпожой молча, так, чтобы его никто не услышал.
«Удивительно, как она пленительна! — думал он. — Она не занимает недостижимо высокого положения, это обычная женщина, из-за которой не надо мучиться душой, но характер превосходен, манеры грациозны». Тюнагон чувствовал, что не сможет забыть ее. Это было сильное увлечение.
6
Тюнагон вернулся в свою усадьбу, когда прислуживающие дамы еще не просыпались. Присутствие Тюнагона при выполнении обрядов смущало Ооикими, а когда он куда-нибудь отлучался, она все время проводила в часовне. Вернувшись от дочери заместителя губернатора, Тюнагон сразу же направился туда. Летнее небо чуть-чуть светлело, вид его был так же хорош, как весной, когда оно покрыто легкой дымкой, или осенью в туманное утро. На ветках распустились почки, и деревья казались окутанными зеленым дымом. Монахиня задумчиво смотрела на эту картину. Сидя у столба недалеко от входа, она выполняла обряд.
Она увидела Тюнагона. Он даже в измятом костюма, в котором спал ночью, показался ей очень красивым. Молодой человек приподнял занавесь и сел, опираясь спиной на балку между столбами. Монахиня, как всегда при его появлении, застыдилась и, стараясь не подавать виду, что он отвлек ее, спрятала четки. Она была смущена настолько, что, казалось, потеряет сознание[229]. На Ооикими была обычная серая ряса; ее красивое, благородное лицо, без каких-либо признаков пудры, выглядело так, как будто она искусно наложила косметику. Казалось, ее красота озаряла все помещение. Во всем ее облике невозможно было отыскать ни малейшего изъяна. Тюнагон подумал, что даже в лунном свете лик дочери заместителя губернатора, к которой он чувствовал большую нежность, был не столь хорош. Мысль о госпоже, свидание с которой было таким кратким, смутила Тюнагона, и он заплакал.
— Как только увижу тебя, Сердце приходит в волненье. Но радует мысль. Что в лотосе Чистой земли Вместе мы возвратимся.Какая печаль! — произнесла с чувством монахиня[230]
Облик погруженного в думы молодого человека был столь великолепен, что, если бы сейчас за монахиней явился посланец рая и она взошла на пурпурное облако, при взгляде на Тюнагона она не смогла бы его покинуть.
Тюнагон ответил:
— Если бы капли росы По лотоса листьям Вниз не струились, Печальное сердце В них бы уплыть не могло[231]Монахиня всегда чувствовала беспредельное отвращение к миру и выражала его даже в связи с невинной шуткой; и ныне в своем стихотворении она сказала об этом с такой силой, что Тюнагону показалось, что сердце его разбивается на куски.
Две молоденькие монахини, красивые и подобающе одетые, выполняли церемонию подношения Будде святой воды. Тюнагон видел этот обряд в разных храмах, но нигде он производил на него столь сильного впечатления, и он был так растроган, что готов был заплакать.
— Наверное, потому, что я совершил тяжкое преступление, все волнует меня больше, чем обычно. Сегодня я огорчен, настроение у меня плохое. Пойдемте в комнату, — сказал он.
Он прошел в ее помещение. Присутствующие дамы от такой вольности широко раскрыли глаза и зашумели. «Идите же ко мне», — настойчиво просил он, но Ооикими медлила. Ей не нравились манеры, напоминающие ненавистные ей отношения обычных мужчин и женщин. Когда она вошла в свои покои, Тюнагон убрал переносные занавески в три сяку вышиной, которые их обычно разделяли, приблизился к монахине и лег возле нее. Он рассказал ей о дочери заместителя губернатора с самого начала до конца, рассказал, как он вздремнул ночью у нее, как в момент расставания послышалось пение кукушки.
— Если бы вы ждали меня, как ждет мужа жена, у меня и в мыслях бы не было бродить где-то, посещая женщин. Как подумаю об этом, начинаю волноваться и на душе становится нехорошо, — сказал он.
Он попросил прислуживающую даму помассировать ему ноги и вскоре заснул возле монахини.
7
Слуги рассказали жене заместителя губернатора, что начальник стражи крайне неохотно отправился к больному генералу, на ночь там не остался и вскоре возвратился. Она была довольна и, улыбаясь, сказала:
— Мы ничего не потеряли оттого, что великолепный Тюнагон не обратил на нашу дочь внимания. Мой муж думает, что он выдающийся человек, а разве начальник стражи в чем-нибудь уступает ему?
Когда дочь ее услышала эти разговоры, сердце ее забилось. Она боялась, что рано или поздно дознаются, что ее посетил Тюнагон. Она вышла из комнаты, и как раз в то время в дом доставили письмо. Домочадцы приняли его, уверенные, что оно от начальника стражи, а госпожа, опасаясь, как бы кто-нибудь не прочитал написанного, быстро схватила послание. Прислуживающие дамы про себя отметили, что никогда она не была так нетерпелива. В письме Тюнагон писал:
«Несколько раз вы являлись мне во сне. В краткую летнюю ночь Пеньем кукушки Не насытил души. И осенью в долгие ночи Лишь об этом мечтаю».Госпожа читала и перечитывала письмо, а потом, взяв тушечницу, старательно замазала тушью написанное, чтобы никто не понял, от кого оно. К ней вошла мать.
— Когда пришло письмо? — спросила она. — Вы как будто не в себе. Почему вы так замазали письмо?
Она встревожилась, не повздорила ли ее дочь с начальником стражи, но не подала виду и добродушно засмеялась. Дочь ее внезапно покраснела и потупилась. Волосы падали ей на лицо, прическа была украшена изящными шпильками, она была очаровательна. Как мог мужчина, разбирающийся в женской красоте, не обратить на нее внимания? Мать возненавидела Тюнагона за то, что он бессердечно отклонил предложение мужа. Она сказала, что надо ответить начальнику стражи, но дочь писать не собиралась, а когда мать взяла в руки полученное послание и стала его внимательно рассматривать, сказала, что плохо себя чувствует, и легла в постель.
— Нет, я не понимаю, как можно не написать ответа? — продолжала мать. — Вы похожи на своего отца. Вы мечтаете об одном Тюнагоне, на которого нет никаких надежд, и отчего-то измазали все письмо.
Дочь все более и более раздражали ее упреки. Мать так и не смогла убедить ее взяться за кисть и вышла из комнаты.
Вечером от Тюнагона тайно доставили еще одно письмо:
«Мыслей любовных не разогнать. Вечерней порой Горько вздыхаю: Когда удастся Снова увидеть тебя?»Госпожа весь день была расстроена и, увидев послание, внезапно заплакала.
«Непрестанно плывут Плоты по реке — Так же меня Слез теченье уносит. И слов не найду...» —ответила она.
Любил ли ее Тюнагон по-настоящему? Или он плыл, как плот, по течению? Показав монахине полученное письмо, он сказал:
— Девица очень трогательна, я невольно почувствовал к ней влечение и завязал с ней отношения. Если это дойдет до дяди, брака с которым ей не избежать, меня ждут большие неприятности. Но будет жалко, если по этой причине мои с ней отношения прервутся Опытные повесы никогда не теряют хладнокровия, что бы ни случилось, но у меня нет опыта в любовных интригах, и я не знаю, как поступить.
Монахиня пожалела его.
— Вам надо было до брака с дядей взять девицу к себе, — сказала она.
Ее слова были вполне разумны.
— Из-за кого я так себя веду? — возразил Тюнагон. — Только из-за вас. Вы отвернулась от семьи, но в глазах света вы моя жена, и я не хочу вводить в дом и ставить рядом с вами другую женщину.
Она покраснела и ничего не ответила. Тюнагон, глядя на нее, подумал, что такой великолепной женщины в мире больше не сыщешь. Он почувствовал к ней нежность, и сердце его сильно забилось.
У Тюнагона совершенно не было возможности тайно встречаться с дочерью заместителя губернатора. Они любили друг друга и все время думали о том, как бы им встретиться, но ничего придумать не могли. Как только наступал вечер, Тюнагону казалось, что он идет по плавучему мосту грез[232].
К нему пришел начальник Дворцовой стражи и стал рассказывать:
— Вот какое дело. Уже несколько лет, как я оставил жену, но опасался, что, если возьму в жены молоденькую девицу, меня начнут осуждать. Однако на этот раз я ничего не могу поделать, наверное, так определено в предыдущих рождениях, и как я ни старался выкинуть дочь заместителя губернатора из головы, все напрасно. Если ты решаешь связать судьбу с женщиной, не обращая внимания на то, что о тебе будут говорить, лучше выбрать такую, у которой нет родственников и которая живет в заросшем полынью доме[233], а заместитель губернатора — богач, и будет казаться, что я охочусь за состоянием. При продолжительных отношениях не имеет значения, посещаешь ли ты женщину у родителей или берешь ее к себе. Поэтому я решил поселить дочь заместителя губернатора в своем большом доме.
Тюнагон был тронут, что дядя так откровенно говорил с ним о своей женитьбе. Он как ни в чем не бывало слушал об опасениях родственника, как бы после неожиданного въезда девицы не решили, что он хотел таким образом привлечь общее внимание. Начальник стражи был страстно влюблен, и было бы неразумно отговаривать его. Поэтому Тюнагон сказал «Поистине это превосходная мысль».
В середине шестого месяца в нарядно украшенный западный флигель большого дворца начальника стражи въехала дочь заместителя губернатора. Тюнагон решил присутствовать на церемонии бракосочетания и то и дело останавливался, чтобы посмотреть, как все было устроено. Начальник стражи ехал вместе с девицей, свита была пышной, их сопровождало пять экипажей, поезд выглядел помпезно. Все были довольны.
«Как считает мать девицы, мой дядя — более выгодная партия, чем я. Как бы я ни любил ее, я никогда не смог бы устроить ей такое роскошное существование. Если бы я и связал с ней свою жизнь, то, хотя донельзя и жалел бы ее, поселил в горной деревушке и посещал бы редко, так, чтобы никто не видел. Как бы она печалились!» — думал Тюнагон, направляясь домой.
Он проезжал мимо усадьбы начальника стражи, в которой жила его первая жена. В воротах не было ни души, вид был унылым. «Какая печаль!» — вздохнул Тюнагон. Он не мог проехать мимо, остановил экипаж и вошел в ворота.
В доме, подняв занавеси, дамы дышали прохладой. Они сердито говорили о том, что той ночью во дворец начальника стражи въехала новобрачная. Как это было безжалостно! Из глубины помещения показалась старуха и стала рассказывать, проливая слезы:
— Недавно проехали мимо нас. Наш хозяин сегодня вечером принимает новую жену в свой дом. Ехал с ней вместе в экипаже, двадцать человек передовых, сопровождающие в пяти экипажах с поднятыми занавесками. Все приготовлено превосходно. И мы принесли ему поздравления. Все это ужасно! И на это приходится смотреть!
Без сомнения, это была кормилица госпожи Дамы, слушая ее, выражали сожаление и возмущение. На веранду вышла дама, по всем признакам — жена начальника стражи.
— Хватит об этом! Слушать неприятно, и лучше ничего не говорить. Поделать все равно ничего нельзя, — произнесла она негромко.
Вид у нее был благородный.
— Столько лет вы вели здесь уединенное существование, чтобы в конце концов увидеть такое! — продолжала старуха. — Если бы еще люди так много не болтали! Ваше положение так бедственно!
— Если бы плачем можно было удержать![234] — тяжело вздохнула госпожа.
Ее красота начала уже увядать, манеры были сдержанны. Смотреть на нее без жалости было невозможно, и у Тюнагона на глазах показались слезы. Госпожа была гораздо красивее, чем можно было судить по рассказам. Не нанести ли ей визит? Но неожиданно появиться, когда она была так расстроена, было бы дерзко. Слухи о посещении дошли бы до родственника. Тюнагон никогда не бывал в этом доме, и визит в то время, когда хозяин праздновал въезд невесты к нему во дворец, выглядел как порицание ему. Тюнагон поехал дальше. По дороге он размышлял: «Дядя всегда думает только о себе. Он человек неглубокий. Дочь заместителя губернатора молода и находится в расцвете красоты. Вздохами обо мне она наполнила небо[235] и страшно мучается из-за связи со мной. Я не повеса, но и мне она кажется очень милой и вызывает жалость к себе; ничего удивительного, что дядя, у которого нет глубоких устремлений, потерял из-за нее рассудок. Но так быстро оставить жену, обставить нынешнюю свадьбу так пышно! Все это очень печально».
Сердце Тюнагона было свободно от волнений страсти, и он не мог в душе не упрекать родственника. Приехав домой, он, как обычно, рассказал монахине обо всем, что видел, и в том числе о жене начальника стражи.
— Пока вы пребываете в этом мире живой и невредимой, я буду возле вас. Я никогда не приму в дом другую женщину, как мой дядя, и официально никого рядом с вами не поставлю. Я слышал, как жаловались люди, находящиеся возле первой жены дяди. Вы отреклись от суетного мира, и вам нет дела до происходящего в нем, а меня заботит, что говорят обо мне, что думает ваш отец и что кормилица Сёсё убивается, глядя на вас. Знайте, мы всегда будем жить как супруги, удалившиеся от мира, и у вас не должно быть причин для беспокойства. Я никому не дам оснований говорить обо мне плохо и больше ни с одной женщиной не завяжу отношений, — сказал он.
Он стремился думать только о буддах и богах и поклялся Ооикими в верности, что бы ни произошло.
Однако Ооикими по-прежнему считала, что ей, монахине, не подобает жить в одном доме с Тюнагоном. Если в столице узнают о таком образе жизни, их станут осуждать. Если Тюнагон женится, она не будет страдать от этого и ее сердце не придет в волнение; но если они будут продолжать жить так, как живут сейчас, и появится женщина, которая завладеет его сердцем, ее положение станет более мучительным, чем оно было после отъезда Тюнагона в Китай. Она будет чувствовать себя лишней в доме, а жена Тюнагона не захочет терпеть ее присутствия. Долго так, как сейчас, Тюнагон долго жить не сможет, и надо поскорее, пока он не женился, расстаться с ним, перебраться в уединенное жилище и обрести душевный покой. Если бы речь шла только о ней, монахиня не колебалась бы ни мгновения, но она заставит тяжело страдать отца и, таким образом, совершит тяжелое преступление. Могла ли она причинить отцу еще раз такое горе? Она высказала все это Тюнагону, и он возразил ей:
— Какое безжалостное намерение! Если вы переедете в уединенное место, я все равно буду навещать вас. О наших встречах неизбежно узнают. Подумайте об этом!
Такой ответ испугал монахиню, но у нее не хватало духа сопротивляться и высказывать свои сомнения. «Пусть будет как будет, — думала она. — Мачеха души не чает в моей дочке, за ее будущее можно быть спокойной. Да и сам Тюнагон не будет относиться к дочери равнодушно». Но не станет ли она сама всеобщим посмешищем? Она усердно выполняет все обряды и мысли ее чисты, но отношения двух молодых людей, даже если нет причин для опасений, влекут за собой сердечное волнение, поэтому она просила Будду послать ей смерть прежде, чем это произойдет, и принять ее в Чистую землю.
8
Часовня была готова. Она стояла неподалеку от павильона для уженья рыбы. Туда перенесли статуи будд, а когда расцвели лотосы, выполнили предписанные службы. Тюнагон решил провести церемонию восьми чтений «Лотосовой сутры»[236]. Благочестие его было исключительным.
Красота пагоды и ее убранства превосходила любое воображение, присутствующим казалось, что они перенеслись в другой мир. Утром Тюнагон с семьей отправился в часовню. Среди присутствующих находились жена генерала и его младшая дочь, жена принца Сикибукё. Часовня была просторна, и присутствующие удобно расположились в ней. Над прозрачной водой вычищенного пруда плавала зеленая дымка, поверхность была полностью покрыта раскрывшимися лотосами разных оттенков. Невольно казалось, что это пруд Хатикудоку[237] в Чистой земле.
Лицо и манеры самого Тюнагона пленяли благородством и очарованием; казалось, что его красота озаряла все вокруг. Готовясь к церемонии, он вникал в каждую деталь, и все — и свитки сутр, и статуи будд — были великолепны. Монахиня осознавала, что даже для императрицы церемония не могла быть подготовлена с большим тщанием. Тюнагон столь почтительно относился к монахине, что негодование генерала исчезло без следа, и, находясь в часовне, он проливал слезы умиления. «В прошлом он недолюбливал меня, ревновал и даже, находясь рядом, совсем не смотрел на меня, — думал генерал. — Почему он так вел себя? После того как он возвратился из Китая и узнал, что за время его отсутствия моя дочь, ожидая ребенка, приняла постриг, он стал понимать, что я должен был чувствовать, стал жалеть меня и вести себя почтительно. Дочь моя приняла монашество, и пусть он время от времени куда-то шляется, ни к одной женщине он серьезно не относится и заботится только об Ооикими. Таких людей в мире не встретишь». Генерал глубоко восхищался Тюнагоном и относился к нему сердечнее, чем к собственным сыновьям. Мать Тюнагона тоже успокоилась. Когда ранее муж сердился и жаловался на отношение пасынка, она очень страдала. Сын считал, что ей не следовало выходить второй раз замуж, и ей было стыдно и больно, а сейчас она с большой радостью видела, что отношения между мужчинами улучшились.
Кроме членов семьи на церемонии восьми чтений присутствовали многие сановники.
В шестом месяце[238], в прекрасную лунную ночь, состоялось исполнение музыки. Ясные, чистые звуки инструментов заполнили сад. Тюнагона радовало, что присутствующие получали удовольствие. Все были спокойны, но сам он вспомнил то время, когда отправлялся в Китай. Незадолго до отплытия он сблизился с Ооикими и горько сетовал, что должен с ней расстаться. «Я так домогался разрешения на отъезд, — думал он с мукой, — что сейчас никак не могу остаться дома». Грудь его разрывалась, когда он садился на корабль. В Китае он все время думал: «Вспоминает ли она меня добрым словом?» А в Японии в то время положение было серьезное: признаки беременности стали явны, Ооикими донельзя страдала, вся семья была в горе. Тюнагон возвратился домой и, хотя Ооикими приняла постриг, взял на себя заботу о ней и радовался, видя, что семья его воспряла духом. Но его томили думы о китайской императрице. Их разделяло огромное пространство, и в разлуке, может быть, чувства императрицы к нему охладели. Тем не менее она знает, что Третий принц в предыдущем воплощении был его отцом, и эта связь неразрывна, как бы ни изменились их обличья и в каких далеких одна от другой странах они не жили бы. Поэтому она так сильно любила Молодого господина, и расстаться с ним ей было так трудно. Тюнагон представлял, как она печалится, вспоминая сына, которого никогда не увидит, и сам испытывал невыразимую печаль. Он знал, что в этом мире с императрицей больше не встретится, но если будет так же усердно выполнять обряды, как святые отшельники древности, которые на скалах предавались аскезе, то сможет вместе с ней возродиться в Чистой земле. «Только в будущем рождении увижу я ее, — думал Тюнагон, — в этом же мире нам было суждено лишь увидеть весенний сон в Шаньинь». Он чувствовал невыразимую скорбь, ему казалось, что жизнь его покидает. Если они возродятся не в раю, а на земле — узнают ли они друг друга? Если он встретится с императрицей в новом обличье, как встретился с Третьим принцем, какие чувства она будет питать к нему? Тюнагон мучился сомнениями и горестно думал, что ему ничего другого не остается, как молиться, чтобы в каком угодно облике он возродился возле китайской государыни. Разве мечтал Тюнагон когда-нибудь так глубоко погрузиться в греховную страсть, чтобы потом тяжело страдать? Он старался оставить все мысли о любви, заставлял себя не смотреть на прелестную Ооикими, но напрасно он проявлял упорство, по поводу которого в столице над ним только бы смеялись; в неизвестной ему стране он вступил в мимолетную, как сон, связь с женщиной, занимающей недостижимо высокое положение, и этим обрек себя на вечные страдания. Он горевал и укорял себя за то, что и на родине и в далеком Китае завязал отношения с женщинами.
Тюнагон не навещал монахиню в Миёсино и только каждые четыре-пять дней посылал ей письма. Он оказывал женщинам в горах всяческую помощь, надеясь таким образом утишить тоску по императрице, но все было напрасно: возможности встретиться с императрицей у него так и не было.
9
Вечером седьмого дня седьмого месяца[239] Тюнагон отправился в императорский дворец. Веял прохладный ветер, в саду пестрели цветы, у собравшихся было праздничное настроение. Среди придворных находился принц Сикибукё. Услышав, что прибыл Тюнагон, государь подозвал его к себе. Озаренная лучами заходящего солнца фигура Тюнагона была великолепна, император, как всегда, восхищался молодым человеком. Когда возле государя не было других придворных, он, как часто делал в последнее время, стал расспрашивать Тюнагона о Китае.
— Что показалось вам в Китае особенно поразительным? — спросил он.
— Мне приходилось видеть множество превосходных вещей, но подобные есть и у нас. На чужбине я не видел ничего, чего бы не было здесь, — ответил Тюнагон.
При этом он подумал: «Что можно было бы привести в качестве необыкновенной редкости?» Он мог бы рассказать, как в пятнадцатую ночь восьмого месяца на дворцовом пиршестве императрица играла на цине, но его удержала мысль, что он не сможет справиться с горькими слезами. Император часто расспрашивал его о чудесах в Китае, и было бы естественно упомянуть о государыне, но Тюнагон хранил воспоминания в душе и ничего не рассказывал. Однако он сожалел, что никто не знал о красавице, которую он так беспредельно любил. Поразмыслив и успокоившись, он сказал:
— Китайские мужи превосходно образованны и очень искусны. Женщины в Китае замечательны.
— Это необыкновенно интересно, расскажите-ка поподробнее, — сказал император.
— Первая императрица — дочь первого министра, сын ее — наследник престола. Она многих превосходит в учености, мудрости и умении управлять. Все очень ее почитают. Первая, третья и четвертая дочери министра ей не уступают, они все очень искусны, но пятая дочь превосходит других. Она пишет лучше всех иероглифами и азбукой[240], прекрасно сочиняет стихи, выбирает звучные и глубокие по смыслу слова, за ней не могут угнаться обычные ученые, — сказал Тюнагон и стал читать отрывки из письма пятой дочери министра.
Все были поражены, послышались восторженные восклицания. Император не мог сдержать слез.
— Кроме того, в местечке Хэян живет императрица, дочь третьего министра,— продолжал Тюнагон. — Молва утверждает, что она прекрасна, как Ян Гуйфэй, император оказывает ей беспредельные милости. Все, начиная с первой императрицы, ей завидовали, это ее очень огорчало, поэтому она уехала из императорского дворца и пребывает в Хэян. Ее окружение ни разговором, ни манерами не отличается от японцев. В десятом месяце пошли дожди, меня мучила тоска по родным местам, и я отправился в Хэян. Там я случайно увидел, как при поднятых занавесях дама играла на цине. Лицо, манеры, прелесть звуков музыки вообразить невозможно, я увидел поистине прекрасную женщину.
— Это была императрица? — спросил государь.
— Может быть, и нет, я не мог узнать. Дама была столь блистательна, что должна была быть самой императрицей. При ней было семь или восемь дам в великолепных нарядах. Они сидели в саду, где цвели хризантемы, и чарующими юными голосами пели: «Над Хорай льет сиянье...»[241] Услышать это в Китае было столь неожиданно! Я слушал и смотрел на них как зачарованный. Еще я видел в Шаньинь в третьем месяце, когда луна в дымке и на сердце нисходит покой, как дамы любовались луной и рвали цветы. Среди них была одна, безупречная красавица. Перед моим отплытием государь на прощанье во дворце Вэйян устроил пир любования луной пятнадцатой ночи. Редкие таланты блистали своим мастерством, великолепно играли на струнных и духовых инструментах и сочиняли превосходные стихи. На небе показалась луна и своим сиянием залила все вокруг до последних углов. Когда она поднялась высоко, император призвал к себе одну даму и велел ей играть на цине. Ее красоту, манеры и звучание ее инструмента не с чем сравнить ни в нашей стране, ни в Китае, — рассказывал Тюнагон, погруженный в воспоминания об императрице.
— Все это захватывающе интересно, — сказал император. — Женщины в Китае, без сомнения, вызывают удивление. В прошлом там было много известных красавиц: Ян Гуйфэй, Ван Чжао-цзюнь[242], госпожа Ли[243]. И дама, погруженная в грустные размышления во дворце Шанъян, была прекрасна: «Веки подобны лотосу, грудь — белоснежной яшме»[244]. А кто среди мужчин оставил по себе такую славу?
— Некогда славился своей красотой Пань Юэ из Хэян. Жившая неподалеку дама была влюблена в него и три года вздыхала, глядя на него, но он внимания на нее не обращал[245]. В китайской столице я видел много красавиц, но они не могут сравниться с дамами, о которых я рассказываю. Даже знаменитые Ян Гуйфэй и Ван Чжаоцзюнь, насколько можно судить по изображению, имели лишь правильные черты лица. Сколько ни ищи, таких красавиц, как виденные мною дамы, нигде не найти. Они не только красивы и изящны, они полны милого очарования, и кажется, что их красота озаряет все вокруг, — рассказывал Тюнагон.
Глядя, как он изменился в лице, император догадался, что он глубоко любит даму, которую видел в Китае, и до сих пор носит в душе ее образ. Должно быть, это необычная женщина, и император вообразил себе безупречное существо.
— Необычные люди так редки. Чтобы увидеть таких красавиц, нужно отправиться в чужую страну, — сказал он.
— Увидев подобную женщину, я бы все на свете оставил и домой не возвратился, — вставил принц Сикибукё.
Он подумал, что в Японии такой красавицей была дочь генерала, которую он никогда бы не покинул. При воспоминании о ней принца охватили сожаления, он почувствовал боль в груди, но не показывал виду. Тюнагон, понимая, что принц был готов птицей лететь в Китай, подумал: «Если бы он увидел императрицу, он бы согласился поплатиться за это жизнью». Сам он, невероятными усилиями смирив свое сердце, влачил печальное существование. Чтобы развеять охватившую его тоску, Тюнагон опять заговорил о пятой дочери первого министра. Ее красоту не расхваливали на всех углах, но она была необычайно мила, превосходно владела искусством каллиграфии, сочиняла замечательные стихи, у нее был настоящий талант. Ее письмо к Тюнагону перед его отъездом на родину и игра на лютне были поистине превосходны. Тюнагон прочитал сочиненное девицей стихотворение, и восхищенный император сказал:
— Обязательно покажи мне это письмо. Жаль, что ты до сих пор не рассказывал о таких редких вещах.
У императора был один сын Сикибукё и много дочерей. От наложницы, проживающей во Дворце одаривания ароматами, у него была любимая дочь. Со стороны матери у нее не было родственников, на поддержку которых можно было бы рассчитывать, и ее ждало печальное существование. Император решил, пока он находится на престоле, отдать ее в жены Тюнагону. Дочь генерала приняла постриг и не могла быть Тюнагону настоящей женой. В ту ночь во дворце, беседуя по душам с молодым человеком, император восхищался его безупречными манерами и в конце разговора сказал:
— Мне кажется, что мне осталось недолго царствовать, и у меня тяжело на сердце. Я не могу не задумываться о судьбе моих дочерей. Почти у всех есть надежные покровители, и я надеюсь, что будущее их обеспечено. Но у принцессы от наложницы, проживающей во Дворце одаривания ароматами, кроме меня самого никакой поддержки нет. Будущее дочери туманно, и мне ее жалко. Возьми на себя заботу об этой принцессе.
Что было делать Тюнагону? Он был глубоко признателен государю и выразил свою благодарность. Но когда он покинул дворец и лег почивать в комнате монахини, заснуть он не мог и беспрестанно думал о словах государя. Император, без сомнения, считал его обыкновенным повесой. Когда-то Тюнагон решил, что вовсе не будет смущать свое сердце любовными приключениями, но, в далекой стране полюбив императрицу, не переставал блуждать на тропах любви, и ему не следовало брать в жены дочь государя, перед которым он благоговел. Кроме того, отправляясь в дальнее плавание, он необдуманно сблизился с дочерью генерала. Как она страдала во время его отсутствия! Она испытывала не только сердечные муки; когда стало известно, что она ждет ребенка, принц Сикибукё женился на ее младшей сестре. Какую горечь она испытывала, когда представляла себе, что думают и что говорят о ней окружающие! В каком смятении она пребывала, когда сбрила свои прекрасные волосы и стала монахиней! Кроме того, Тюнагон не забывал о страданиях, которые причинил генералу. В этом мире ему было бы не избежать возмездия за такой грех, если, узнав о монашестве Ооикими, он бы отвернулся от нее. Тюнагон полностью обеспечил монахиню и все время был рядом с ней, и генерал был этому очень рад. Ооикими, решив, что такова судьба, во всем полагалась на Тюнагона. Если он примет столь необыкновенное предложение императора, его чувства к монахине не изменятся, но Ооикими давно подумывала: «Он рано или поздно женится, надо мне заранее устроить спокойное житье», и тогда этого не избежать. Когда Тюнагон представлял себе, что произойдет после его женитьбы и что будут чувствовать в этой связи домашние, у него становилось тяжело на душе и, беспредельно жалея монахиню, он проливал слезы. Сейчас Тюнагон пользовался полной свободой и, когда хотел, уединялся для выполнения обрядов или отправлялся в горы, а став мужем принцессы, он будет вынужден вести непривычный образ жизни, и, без сомнения, это будет нелегко. Что он должен ответить на предложение, лично высказанное государем? Не зная, как быть, он, плача, изложил дело монахине.
Монахине казались неисполнимыми намерения Тюнагона до самой смерти жить с ней как с женой в монашестве. Но как отвернуться от человека, который так сердечно к ней относился, и покинуть его дом. Все бы решили, что она поступает своевольно. Тем не менее в глубине души она понимала, что так и следовало бы поступить. Домашние, не понимая ее, стали бы горевать. Ей лучше было бы с самого начала жить отдельно от Тюнагона. Как все это она могла сказать ему?
— Почему вы колеблетесь? Если бы я и не была монахиней, вы, получив предложение императора, не должны были бы думать обо мне, а теперь и подавно, — спокойно ответила монахиня Тюнагону.
Ее слова проникли ему в сердце. Он снова стал жаловаться, что ее монашество отдалило их друг от друга. Он откровенно рассказывал ей обо всем, что с ним происходило, и молчал только о своей встрече с императрицей из Хэян. Однако он сказал ей о Молодом господине, отданном на воспитание кормилице:
— Я узнал, что в доме женщины, единственная встреча с которой была подобна сновидению, родился очаровательный ребенок. Я привез его с собой и хотел бы отдать его вам на воспитание, но пусть пока никто не знает, что он родился в чужой стране. Поэтому я оставил его на время в деревне.
Однажды, когда никто не мог этого видеть, он показал мальчика монахине. Мать его считала, что такой замечательной девочки, как ее внучка, на свете нет, она все больше и больше привязывалась к ней и не отпускала от себя ни на шаг. Для нее девочка не была травкой, которая растет на каменистом берегу[246], а монахиня, как ни любила свою дочь, часто видеть ее не могла. Чтобы утешить ее, Тюнагон и хотел навсегда перевезти в усадьбу сына, но пока привозил с собой ребенка тайно и только на небольшое время.
10
Ни на мгновение не забывая о китайской императрице, Тюнагон заботился о ее близких из Миёсино. Имея много дел, он не мог часто, как хотел бы, уезжать из столицы. Беспокоясь, как живет монахиня, молодой человек в середине восьмого месяца отправился к ней. По дороге он с болью подумал: «Ради кого я преодолеваю такие непроходимые дороги?» Если бы он мог с ветром послать весть императрице! Душа его была объята печалью. Пробираясь через высокие травы, он добрался до места. В дуновении ветра чувствовалась осень. Грусть этого времени года проникала в сердце. Цветы радовали глаз бесчисленными оттенками. Ему было приятнее в горах, чем в столице, и он глубоко чувствовал очарование осени. По мере того, как он приближался к скиту, все громче раздавались звуки кото, смешиваясь с шумом ветра в соснах, которые привели Тюнагона в трепет. Он вспомнил вечер, когда в Хэян любовался хризантемами, и не мог сдержать слез. Ему хотелось слушать и дальше, и он притаился под деревом. Вскоре музыкант доиграл пьесу, а душа Тюнагона так и не насытилась прекрасными звуками.
Жилище монахини починили, и оно не отличалось от дома обычных людей, живущих в уединении. В Миёсино редко появлялись даже простолюдины, и монахиня за много лет привыкла к одиночеству. Но ныне она часто вспоминала, как весной ее разыскал Тюнагон, и спрашивала себя: «Не появится ли он скоро?» Он был связан с китайской императрицей, и монахиня с нетерпением ожидала его приезда.
Стоял печальный осенний вечер, кое-где вставал туман. Неожиданно увидев перед собой Тюнагона, монахиня почувствовала невольный трепет и произнесла:
— Как случилось, Что в горной глуши, Где и щебета птиц не услышишь, С нетерпением жду Столичного гостя?Тюнагон ответил ей:
— Сколько раз По обрывам крутым Из далекой столицы В горный предел Ёсино Сердце стремилось!Он расположился в заново отстроенном коридоре.
Слуги, переселившиеся в горы из поместий, принялись готовить еду, а Тюнагон стал осматривать все вокруг. Перед домом вырыли канаву и красиво разложили камни, местечко стало таким очаровательным, что казалось нарисованным. Яркая луна заливала своим сиянием окрестности, это была ночь пятнадцатого дня. В прошлом году, на банкете любования луной во дворце Вэй-янгун, многое доставило ему наслаждение, но больше всего ему вспоминалось лицо императрицы, движения ее рук и звуки циня. Слезы потоками заструились по его лицу, и Тюнагон несколько раз пропел: «Кто находится за две тысячи верст»[247]. Его голос проник в души слушавших и вспугнул горных птиц. В ту ночь он глубоко почувствовал, какими неразрывными узами связан с китайской императрицей. На душе было тяжело, и он направился к монахине. Они говорили о прошлом и о настоящем, и казалось, ничто не разделяло их сердец.
— Когда сил жить у меня совсем не оставалось, — рассказывала монахиня, — понимая, что обрету покой только в будущей жизни, я поселилась в этих неприступных горах и полностью посвятила себя выполнению обрядов. В своей жизни я узнала все мыслимые горести, участь моя беспримерна. Говорить мне об этом неловко. В том, что вы так неожиданно отыскали меня, я вижу перст судьбы, связавшей нас в предыдущих рождениях, поэтому я от вас ничего не скрою Может быть, отшельник вам об этом уже рассказал. В этом мире, полном страданий, от которого я удалилась, остается существо, забыть которое я не могу, с которым я связана неразрывными узами и которое здесь со мною. Положение моего отца, принца Канцукэ, было незавидным, но он заботился и всячески оберегал меня. Сосланный на Цукуси, он там скончался. Не зная, куда податься, я скиталась с места на место, у меня не было никого, на кого можно было бы положиться. Однако участь моей дочери, которая живет со мной, еще ужаснее: она погребена в снегах, далеко от людей, одевается в одежду из мха и питается сосновыми иглами. Я монахиня, живу так же, как живут горные птицы, и ни о чем не жалею. Я знаю, что недолго задержусь в этом мире, но меня мучит тревога, как после моей смерти она проживет положенный ей век. Хуже положения, чем у нее, нет ни у кого. Я сказала, что ни о чем не жалею, но это неправда. Я молюсь, чтобы устроилась судьба дочери, чтобы я могла не беспокоиться о ней и, ничем не отвлекаясь, всей душой думать о сияющем Пути. Бывало и раньше, что люди вашего положения встречались с обитателями бедных хижин из сплетенной травы, но, когда вы неожиданно появились здесь, я поняла, что вас направил сам Будда. Вот уже несколько месяцев, как я чувствую бодрость и могу молиться с умиротворенным сердцем.
Она заплакала. Тюнагон чувствовал невыразимую печаль.
— Может быть, вы думаете, что я посещаю вас без серьезных оснований. Если я начну рассказывать о них, изумятся даже горные птицы. Я никому не открываю тайны, но причина, почему я сюда приезжаю, глубока: меня ведет беспредельная любовь. Представить этого даже отдаленно невозможно. С тех пор как я узнал, что вы живете в такой бедности, я все время думаю: «Она монахиня и ведет такую жизнь с глубокой верой в душе, но как молодая барышня может влачить подобное существование?» Не перевезти ли ее куда-нибудь поближе к столице? Во всех случаях, пока я жив, я буду заботиться о ней, насколько смогу. Пожалуйста, больше об этом не беспокойтесь.
— Я догадываюсь, что вас вели к нам серьезные намерения, — ответила монахиня — Мысли о дочери не дают мне покоя, и печаль терзает меня. Однако она выросла здесь, делит со мной заботы бренного существования и совсем не мечтает о жизни обычных людей. Пока мы благополучно пребываем в Миёсино, пока буря не разрушила нашу хижину и нас не замело снегом, мы будем посылать вам вести с ветром и птицами, и ей незачем думать о переезде отсюда.
Действительно, представляя жизнь барышни, можно было подумать, что она существо не нашего мира.
— Пожалуйста, не думайте, что я похож на обычных людей и что мною движет стремление к наслаждениям. Отец очень любил меня, подобную любовь в мире больше не встретишь; после его смерти я решил, что покину наш бренный мир. Но нет никого, кто бы утешил мою мать, и я стал колебаться. Я продолжаю жить в столице, но желание скрыться в еще более глухих горах, чем эти, не угасает. Я по влечению сердца поехал даже в Китай, а сейчас я хочу порвать все связи с суетным существованием и, чтобы ни случилось, никогда не возвращаться в столицу.
Они говорили по душам всю ночь.
Монахиня отправилась в часовню выполнять предутренние службы. Перед уходом она сказала дочери:
— Мы живем здесь очень уединенно и слишком удалены от света, в отношениях с людьми наши привычки не всегда уместны. Тюнагон производит хорошее впечатление. Если он заговорите тобой, ответь ему.
Небо постепенно светлело, луна становилась прозрачнее, и шум водопада сливался с шумом ветра в соснах. Тюнагон чувствовал, что барышня где-то рядом. «Живя в таком месте, утром и вечером созерцая окрестности, погруженная в размышления, она должна достичь глубокого понимания вещей», — подумал он. И произнес:
— Что чувствует дева В пустынных просторах, Взирая, как всходит Ночное светило Над горным хребтом?Барышня не бывала окружена прислуживающими дамами, которые научили бы ее, как отвечать молодому человеку. Она засмущалась, долго думала и, наконец, сыграла на кото[248]:
— Над горной вершиной Сквозь густые деревья Вижу сиянье, И все сильнее печаль Сердце стесняет.Звуки инструмента были очаровательны, из-за переносной занавески показался подол платья. В Китае Тюнагон два раза слышал, как несравненно играла на цине императрица, и думал, что никто больше так превосходно играть не может, но в безлюдных горах, под чистой луной тихие, еле различимые звуки показались ему необыкновенно красивыми. В них ему послышался чарующий благородный голос китайской императрицы, столь любимой, что он был готов отдать за нее жизнь. В груди у него защемило, глубокая печаль охватила его. Звуки смолкли, оставив чувство неудовлетворенности. Барышня не стала отвечать ему живым голосом, а сыграла на кото, совсем как модная столичная девица, а не как затворница, всю жизнь проведшая в горах. Тюнагон был заинтригован. Неужели он больше ничего не услышит? Надежды его не оправдались. Он несколько раз пытался заговорить, но она не отвечала. Он придвинул к себе инструмент и почувствовал аромат от одежд девицы, который перешел на него. Тюнагон не стал перестраивать кото и заиграл на нем, вспоминая, как играла китайская императрица. Слезы затуманили в его глазах лунное сияние.
— Слышу в музыки звуках Шум ветра в соснах, Тот, что звучал В далекой стране На холме Кирифу[249], —произнес он, и даже монахиня, перестав молиться, прислушалась к его голосу.
Часть четвертая
1
Тюнагон томился душой в полях и в глухих горах; у него не появлялось и мысли связать свою жизнь с какой-нибудь девицей и, слушая, как она играет на кото, сливая звуки с шумом ветра в соснах, обрести утешение от сердечных мук. Император ни о чем таком не догадывался. Он решил до своего отречения от престола устроить бракосочетание дочери и Тюнагона столь пышно, что все изумились бы. В столице поговаривали, что Тюнагон станет зятем императора еще до конца года. Таким образом, должны были исполниться чаяния его покойного отца, да и ему такая честь приносила удовлетворение. Но генерал совсем пал духом и упрекал себя за то, что неразумно отговаривал дочь от ее намерения перебраться в уединенное место, где она была бы спокойна. Тюнагон, может быть, и продолжал бы в сердце питать к ней глубокие чувства, но, женившись на принцессе, он не смог бы вести себя с монахиней так, как раньше. Ооикими прекрасно понимала, что не может больше оставаться в доме Тюнагона, и не колебалась бы в своем решении покинуть его. Домашние беспокоились и оплакивали ее участь, а сама она с горечью думала о своем положении. Монахиня старалась не видеть Тюнагона, оставалась в часовне более, чем обычно, погруженная в благочестивые мысли. Молодому человеку было очень жаль ее. «Если бы я вознамерился жить, как живут другие, я бы постарался приспособиться к духу времени и жениться на принцессе. Отказавшись от высочайшего предложения, я, по крайней мере, не буду страдать сам и не буду мучить других. Бывшая жена дяди, урезонивая возмущавшихся прислужниц, сама страдала. Даже со стороны было так тяжело смотреть на нее, что мне казалось, это я виноват в ее участи. В подобном положении благородная женщина не может вести себя иначе; поэтому и Ооикими порицает прислужниц», — думал он. Он не мог согласиться на брак с принцессой.
Главная распорядительница Отделения дворцовых прислужниц Тюдзё, которая написала ему о сияющей луне, уплывающей в западный край[250], состояла в свите императрицы и служила также в покоях императора. Однажды, разговаривая с ней, Тюнагон сказал:
— В Китае выдающиеся физиономисты предупреждали меня, что период с двадцати четырех до двадцати шести лет будет для меня опасным. Я сам думаю, что мне не суждено долго жить в суетном мире. Я уверен, что мне нагадали правильно, и хочу три года посвятить затворничеству и воздержанию. Если это время минует благополучно, я обрету покой и буду знать, что смогу продолжать жить в этом мире, тогда устрою свою жизнь. Многие предлагают мне своих дочерей в жены, но я пропускаю их слова мимо ушей. Государь оказал мне незаслуженную честь, но мне нельзя жениться на принцессе раньше, чем пройдут три года. В течение этого времени я буду оставаться преданным слугой государя, а там станет ясно — жить мне или нет в этом мире.
Даме стало ясно, что Тюнагон хотел бы жениться на одной только дочери генерала — монахине, которая, по слухам, была непревзойденной красавицей. Такое отношение было очень благородно. «Какая это, должно быть, великолепная женщина! — думала дама. — Она отвернулась от мира, а он, тем не менее, на других женщин и не смотрит и готов легкомысленно отказаться от предложения государя». Она была озадачена и произнесла
— Как могут волны Лишь к острову в бухте Стремиться? Почему милый берег Их не прельщает?[251]Тюнагон рассмеялся, но тут же серьезно стал рассказывать, как уныло у него на душе. Дама, упрекая его, ответила:
— Возле дальнего берега Долгое время Волны плескались, Но неожиданно ветер Прочь их погнал[252]. На этом они расстались.Дама Тюдзё, будучи у императора, завела разговор о том, каких только красавиц не видел Тюнагон в Китае, и необычайно ловко дошла до того, что хотела сообщить.
— После того как он видел таких замечательных женщин, к нам, японским, у него пропал всякий интерес. Но очарование дочери господина генерала, должно быть, поистине бесконечно. Она приняла монашество, а он, тем не менее, мыслей о ней не оставил. Он говорит: «Увидев таких красавиц, я, возвратившись на родину, тоскую о них. Я решил до конца жизни заботиться о дочери генерала. Физиономисты сказали мне то-то и то-то, и пока не пройдет этот срок, я ни на ком не женюсь. А после этого я возьму на себя заботу о принцессе и днем и ночью буду все силы отдавать службе во дворце».
Император был поражен. Он был уверен, что женитьба на принцессе — несказанное благо и что тут и раздумывать нечего, и слова дамы были для него полной неожиданностью.
— Действительно, все говорят, что Тюнагон не намерен долго оставаться в суетном мире, — сказал он, а сам подумал: «Тюнагон еще молод и занимает невысокое положение; характер у него безупречный, поэтому я и решил возвысить его, женив на моей дочери. Но если у него душа до такой степени к браку не лежит, я принуждать его не стану».
Во дворце готовились к церемонии надевания шлейфа на принцессу[253], но о женитьбе Тюнагона больше не заговаривали, и он понял, что дама Тюдзё выполнила его просьбу. Он рассказал обо всем Ооикими. Когда придворные узнали, что Тюнагон отказался жениться на дочери императора, его объявили сумасбродом. Молодой человек знал об этом и делал вид, что ничего другого и не ожидал, однако он понимал, что его решение отзовется неблагоприятно на его положении, и всей душой предался служению Будде[254]. Генерал же думал, что это совершенно непредставимое проявление заботы Тюнагона о дочери, и проливал слезы благодарности.
2
Тюнагону часто являлась во сне монахиня из Миёсино, и каждый раз его охватывало беспокойство. В начале десятого месяца, бросив все дела, он отправился в горы. Состояние здоровья монахини с середины девятого месяца ухудшилось. Услышав ее ослабевший голос, Тюнагон испугался и упрекнул ее:
— Вы мне писали, что нет оснований для беспокойства. Почему вы ничего не сообщили о вашей болезни?
— Я думала, не стоит вас беспокоить. Мне казалось, что это всего лишь простуда и я скоро выздоровею, но мне становилось все хуже и хуже. Наверное, кончается срок моей жизни, и я хотела еще раз увидеть вас, — ответила она, проливая слезы.
Она была очень слаба.
— Вы не хотели сообщать мне, что это не обычное недомогание. Если бы я сегодня не приехал, так ничего бы не узнал, — сказал он.
Тюнагон послал за монахом из храма Ямасина-дэра[255], который был известен своей святостью, и попросил его каждый день служить молебны. Ученикам отшельника он велел утром и вечером читать «Сутру об Амитабха», а у изголовья больной монахам беспрерывно торжественными голосами читать другие сутры. Так, несомненно, хотела сама монахиня. Тюнагон все время находился подле нее и ухаживал за ней, как за собственной матерью, заботясь о ее состоянии в этом и в будущем мирах. Монахине казалось, что по неизреченной милости Будды к ней явился родственник китайской императрицы, и она испытывала глубокую благодарность. В промежутке между произнесениями имени Амитабха она поманила Тюнагона к себе.
— Я просила вас позаботиться о дочери, которую я оставляю в этом мире. Больше мне беспокоиться не о чем. Я радостно прошу Будду, чтобы он исполнил мое давнишнее желание и явился за мной, — произнесла она еле слышно с чувством глубокого удовлетворения.
Ее слова тронули Тюнагона до глубины души. «Если бы она еще немного могла остаться в этом мире!» — подумал он с сожалением. Тюнагон старался оказывать монахине помощь вместо ее дочери, которая находилась в Китае и тосковала по матери, и ему хотелось таким образом хоть немного облегчить свою печаль, но что можно было сделать перед лицом смерти? Душа его была охвачена скорбью.
Рано утром пятнадцатого дня монахиня сказала:
— Покиньте меня. У меня есть основания просить об этом.
Дочь ее перевели в другое помещение. Монахиня, опираясь на скамеечку-подлокотник, сосредоточенно молилась перед статуей Будды. Прислужницы радовались: «Ее самочувствие улучшилось. Она весь день сидит, опираясь на подлокотник». Когда наступил вечер, она позвала отшельника и сказала:
— Мне кажется, что я слышу звуки райской музыки. Пожалуйста, не прекращайте произносить имя Амитабха.
Все монахи прилежно взывали к Будде, и она сама усердно повторяла его имя. Дыхание ее прервалось. В помещении разлилось невообразимо прекрасное благоухание. Все с изумлением увидели, как над горой встали пурпурные облака.
Прислужницы, которым недавно казалось, что монахиня почувствовала себя лучше, не радовались, что исполнилось ее желание и она вознеслась в Чистую землю, а глупо плакали и стенали. Тюнагон вышел во двор и сел, опираясь на столб веранды. Он слышал раньше, что пурпурные облака и особое благоухание появляются в момент успения праведника, но видеть своими глазами подобное чудо ему не приходилось. Он был глубоко взволнован, завидовал монахине и печалился о ней. В то время в помещении барышня упала без чувств. Прислужницы были в растерянности. Одна из них, женщина уже пожилая, приблизилась к Тюнагону и спросила, что делать.
— Душа ее пришла в смятение, и она потеряла сознание, — сказал он. — Срок нашей жизни положен свыше, сердце ее обеспокоено, и она жива.
Он сказал монахам: «Пойдите в помещение и начинайте заупокойные службы», а сам, оставшись на веранде, погрузился в размышления. Их встреча здесь была предопределена свыше. Он не был связан родственными узами с монахиней, но ему захотелось отыскать ее. Видя, какую жизнь она ведет, он почувствовал глубокую жалость и беспрерывно поддерживал ее. Некоторое время он не появлялся в скиту, но не мог справиться с тревогой и приехал, чтобы присутствовать при последнем часе монахини. Для него все это было очень важно, но в столице будут говорить, что он опять сумасбродит и неизвестно почему уединился в глухих горах. Как подумаешь, в мире множество людей и многие отправляются в Китай, но ни у одного из них не было подобного жребия. Его влекла неумолимая судьба, в предыдущих рождениях связавшая его с китайской императрицей, он отправился в невероятное плавание, встретился с императрицей и обменялся с ней клятвами. Казалось, их связь на этом и должна была закончиться, но у них родился сын — связывающие их узы были нерасторжимы. Императрица не могла знать, что с ее матерью. Ведя роскошную жизнь, любуясь весной цветущими вишнями, а осенью листьями кленов, она не очищалась душой, и грех был глубок. Тюнагон должен был вместо нее выполнять погребальные обряды. Он чувствовал к императрице глубокую любовь, подобной которой не было в прошлом и не будет ни в этом, ни в будущем мирах. Ни одна женщина в Японии не могла вытеснить из его сердца ее облик. Из-за этой любви он был готов опять отправиться в Китай, лишиться должности и ранга и даже совершить преступление против государя. Что ему было обращать внимание на людские толки о его сумасбродстве?
Тюнагон сидел, погруженный в мечтания, а следовало бы оказать помощь барышне. Не зная, что готовит ему судьба, он вернулся в помещение.
В скиту можно было не стесняться и не беспокоиться, что подумают посторонние. Тюнагон вошел в комнату к девице и приблизился к переносной занавеске.
— Как вы себя чувствуете? Кто-нибудь прислуживает вам? — спросил он.
Расторопной служанки рядом не было, все сидели с убитым видом, ничего не делая. Тюнагон подвинулся поближе. Барышня не пошевелилась; казалось, она не смутилась, увидев мужчину, но ничего не ответила.
— Как странно! — произнес Тюнагон. — Почему никто мне не отвечает?
Подняв ленты занавески, он увидел девицу, одетую в белое нижнее и красное с черным отливом платья. Тюнагон обратил внимание на ее пышные волосы. Он осторожно протянул руку и дотронулся до нее: казалось, девица не дышала, и руки у нее были ледяные. Молодой человек испугался, но придвинуться вплотную не решился. От прислужницы никакого толку не было. Не умерла ли барышня? Он позвал монахов и попросил их читать заклинания, сутры и молитвы. В темном помещении было трудно что-нибудь разглядеть, но фигура лежащей девицы казалась очаровательной. Тюнагон, прикоснувшись к ней рукой, почувствовал, как она изящна. Жаль было бы, если бы такое милое существо покинуло мир.
— Почему вы так опешили? Здесь очень темно. Принесите светильник, — сказал Тюнагон служанкам.
Если бы там была взрослая прислужница с достаточным опытом, она, даже в тот момент потрясения от смерти монахини, возразила бы: «Как можно, чтобы вы увидели барышню при ярком свете?» Пусть Тюнагон и благородный человек, но надо было соблюдать приличия. Однако в Миёсино ни о чем подобном не заботились, условия существования были жалкими, к тому же в то время монахиня, которой служанки так долго прислуживали, скончалась, а дочь ее лежала без сознания и, казалось, не дышала.
Пока все пребывали в растерянности, Тюнагон прошел за занавеску. Он попросил монахов усердно молить Будду проникнуться жалостью и оживить барышню. Он поднес к девице светильник. Сознание к ней не возвращалось, она не шевелилась, не прятала лицо в ночное платье и казалась умершей. Черты ее белого лица были безукоризненными, волосы великолепными, их линия на лбу прекрасна. Тюнагон в изумлении глядел на барышню и не мог сдержать слез. Он прилег рядом с ней и, молясь Будде, брызнул в лицо водой, но она не пошевелилась. Тюнагон был в сильном беспокойстве. Барышня была редкой красавицей, и ему было бы жаль потерять ее.
Стало светать. Тело девицы чуть-чуть потеплело, и лицо немного ожило. Обрадованный Тюнагон, не сводя с нее глаз, усердно взывал к Будде. Барышня пошевелилась и приоткрыла глаза - возле нее стоял светильник и рядом лежал необыкновенный красавец, смотрел ей в лицо и проливал слезы. Она постепенно осознала, где она, тихонько отвернулась от Тюнагона и натянула на голову ночное платье. Он беспредельно обрадовался этим признакам жизни. Ни одной прислужницы в комнате не было. Девица стыдилась незнакомого Тюнагона и была крайне смущена, что ее оставили наедине с ним. Лицо ее опять стало безжизненным, и только слезы струились по нему. Нельзя было уверенно сказать, что она возвратилась к жизни, и беспокойство Тюнагона все возрастало. Он не собирался ее покинуть, подозвал служанок и велел приготовить лечебный отвар, но девица на него и не взглянула. Иначе и не могло быть. Он — мужчина и находился совсем в других обстоятельствах, но разве он не потерял способность понимать что-либо, когда скончался его отец? Тогда ему выражали соболезнование, однако все считали, что смерть отца — дело обычное Барышня же жила в безлюдных горах, имея защитой одну только мать, которая сама была совершенно беспомощна. Как она могла быть спокойна после смерти матери? Для Тюнагона она была единственной памятью о китайской императрице и монахине. Пусть бы девица была страшна, пусть на ее голове росли бы рога, он не отвернулся бы и не покинул ее. Не сводя глаз с барышни, он стал расчесывать ее волосы. Ни один волосок не запутался — казалось, что это золотой лак, блестевший так, что в него можно было смотреться, как в зеркало. Волосы были длиной в семь-восемь сяку и расстилались по полу, как раскрытый складной веер. Такие великолепные волосы были редкостью в нашем мире. Девица лежала на боку, спрятав лицо в платье. Фигура ее была замечательна
Она была сестрой необыкновенной красавицы, с которой Тюнагон был связан узами еще в предыдущих рождениях, была существом безупречным, ионе любопытством задавался вопросом: «А какова эта барышня? Вряд ли она может быть так же хороша, как ее сестра». Оказалось, что и она редкая красавица, и у Тюнагона и в мыслях не было покинуть ее.
Через несколько дней на вершине горы, как сама монахиня завещала отшельнику, были совершены похоронные обряды. Присутствовало много монахов, известных своей ученостью и глубоким прозрением. О будущем воплощении усопшей беспокоиться не стоило, последний час ее жизни был отмечен чудесами и вызывал почтительный трепет, но Тюнагон просил усердно молиться, чтобы монахиня как можно скорее достигла состояния бодхисаттвы[256].
Он послал письмо в столицу матери и Ооикими: «Неожиданно я соприкоснулся с осквернением и вынужден оставаться в горах[257]. Никому не говорите об этом, а если будут спрашивать, скажите, что я на некоторое время уединился в горном храме».
Мать ответила ему: «С каким осквернением вы соприкоснулись? Вы должны знать, что осквернение приносит несчастье и его нужно всячески избегать. Вы всегда поступаете не так, как все, — это меня гнетет, и я сама хочу поскорее удалиться от мира».
«Как можно во всем видеть дурное предзнаменование? — подумал Тюнагон. — В нашем изменчивом мире монахиня была обделена счастьем и всю жизнь провела в скитаниях, но в следующем рождении, несомненно, будет испытывать блаженство». Он думал об усопшей с глубоким волнением, выполнял обряды и проводил время в благочестивых размышлениях.
Весной и осенью жизнь в горах была сносной, а зимой становилось очень тягостно. Во время страшных бурь в соснах завывал ветер и срывал листья с деревьев. Погода редко прояснялась, было темно, моросящий дождь наводил на душу уныние. Тюнагон не был горным монахом, и ему было так грустно, что он не мог остановить слез. Если хотя бы во сне он мог сообщить китайской императрице, что он, оставив служебные и личные дела, выполнял в горах поминальные обряды по ее матери! Но императрица знать об этом не могла. Играя на кото и созерцая окрестности, он печально сложил:
«Если бы даосский мудрец Мог тебе рассказать, Как в скорбные думы, Что думать пристало тебе, Я один погружен!»[258]В Японии было много прелестных красавиц, но Тюнагон, не обращая на них внимания, завязал непрочные, как сон, отношения с женщиной, живущей в далекой стране. Он беспредельно любил ее, печалился о ней, и на душе у него было уныло.
«Императрица — редкое существо, а барышня — ее единственная сестра, которая из-за этого испытала множество несчастий, — думал Тюнагон ночи напролет. — Какое тяжелое и печальное существование ожидает ее, если я покину ее! Когда она меня видит, то стесняется и робеет, но, надеюсь, чувствует, что на меня можно положиться».
Тюнагон обратился к барышне:
— Наш мир непостоянен, и всем суждено терять близких. Однако все, как правило, утешаются. Мне больно видеть, как вы упали духом. Я без разрешения уехал из столицы и остаюсь подле вас, и если вы чувствуете хоть какое-то расположение ко мне, это вознаграждает меня за усилия.
Он говорил чрезвычайно учтиво, проливая слезы.
Постепенно барышня приходила в себя и начала обращать внимание на то, что происходит вокруг. Она спрашивала себя, как случилось, что такой прекрасный, приводящий в смущение мужчина вошел в ее жизнь? Что он думал, видя ее простое платье? За свою жизнь она привыкла к ужасному завыванию бури зимой, но ныне рев непогоды не рассеивал ее печальных дум, а угнетал и даже пугал ее. Тюнагон, находясь рядом, то что-нибудь рассказывал, то читал сутры, она проникалась к нему доверием и думала, что таких людей больше нет. Барышня все еще не утешилась от своей утраты, у нее не было сил о чем-то судить, она оставалась все время в унынии. Тюнагон понимал, что так и должно быть, и жалел ее. Сдвинув переносные занавески, он смотрел на горы: листья с деревьев опали, земля была покрыта снегом, с громкими криками там и сям взлетали птицы. Грусть, разлитая в природе, проникала в сердце, и Тюнагон продекламировал:
— Птицы в верности лесу клялись,
Но листья с деревьев опали...[259]
Он не мог дождаться времени, когда сможет утешать барышню, она привыкнет к нему, и они вместе будут любоваться небом и слушать щебетанье птиц.
«Зимой в горах Ёсино В уединенье живу. Кто по заснеженным тропам Может пробраться, Чтобы меня навестить?» —сложил он.
Горные деревни горным деревням рознь, в некоторых из них, находящихся недалеко от столицы, люди живут обычной жизнью, а в далеком Миёсино все было удивительно. Он прибыл туда в силу исключительных причин — это был последний час монахини, отмеченный чудесными явлениями. Даже для мужчины, даже для отшельника такая желанная кончина была труднодостижима. Как могла монахиня, так и не разорвавшая узы с дочерью, достичь такой святости? Когда Тюнагон задумывался об этом, он чувствовал необыкновенное благоговение. Поминальные службы выполнялись самым тщательным образом. Кто, кроме него, мог позаботиться об этом?
3
Шло время, сугробы снега становились все выше. Все необходимые службы по монахине были выполнены. Тюнагон не мог больше оставаться в скиту и решил возвращаться в столицу. Но как оставить барышню? Возле нее не было ни одной сообразительной служанки. Пока монахиня была жива, он, при всей своей благожелательности к барышне, мог оставаться в столице и не устремляться по непроходимым, занесенным снегом тропам в скит. Лишившись материнской заботы, барышня не могла жить в горах. Но забрать ее с собой тотчас же было нельзя; сначала надо было устроить для нее жилище. Тюнагон вспомнил о младшей сестре кормилицы, которая воспитывала Молодого господина. Она была женой правителя провинции Канцукэ. Ее муж делами своими не занимался и промотал состояние; тогда он решил, что нельзя продолжать беспутную жизнь, взял в жены дочь влиятельного человека из местных, а о сестре кормилицы и не вспоминал. Она же с сокрушенным сердцем хотела удалиться в горы, где можно было бы не знать о скорби нашего мира[260], но в конце концов вместе со своей милой дочерью семнадцати-восемнадцати лет поселилась у кормилицы Тюнагона. У нее был прекрасный характер, и если бы Тюнагон поручил барышню ее заботам, беспокоиться было не о чем: она заботилась бы о ней как о собственной дочери. Тюнагон написал письмо:
«Вам, конечно, моя просьба покажется странной. Подробно обо всем я вам расскажу лично. Обязательно привезите с собой вашу дочь. Ни о чем не беспокойтесь».
Он отправил ей несколько писем и послал за ней людей.
Младшая сестра кормилицы действительно удивилась просьбе Тюнагона, но ее сестра растила его с самого детства, она сама считала молодого человека надежным покровителем и бросилась бы за него в морскую пучину.
— Он не стал бы просить тебя о чем-то недостойном. Раздумывать нечего, соглашайся немедленно, — сказала она младшей сестре.
Тюнагон обратился к барышне:
— Уже давно я, как тень, постоянно нахожусь при вас. Меня обижает, что вы побаиваетесь и сторонитесь меня. Я не могу оставаться здесь все время и возвращаюсь в столицу. Я устрою для вас пристойное жилище и приеду за вами. Мне не хочется оставлять вас даже на некоторое время, но важные дела призывают меня. На время моего отсутствия я решил поручить вас заботам одной дамы и уже отправил за ней. Дочь ее довольно миловидна. Не чуждайтесь их, относитесь к ним как к родственницам.
Барышня не нашлась, что ответить, застеснялась, заплакала и только спрятала лицо — она была прелестна. Тюнагон подумал: «Ничего странного в этом нет. Незнакомый мужчина неожиданно появился в ее доме, не расстается с ней и, хотя не завязывает с ней глубоких отношений, ни на шаг от нее не отходит. Какой определенный ответ может дать в таких условиях женщина?» Он чувствовал к ней нежность и говорил о своих серьезных намерениях, в которых не было ничего от обычных для наших нравов страстей.
Тем временем прибыла сестра кормилицы с дочерью.
Поместив обеих в отведенное им помещение, Тюнагон подробно объяснил, почему пригласил их в горы.
— Дело обстоит так-то и так-то. Здесь нет никого, кому можно было бы поручить заботу о барышне. Везти же ее в столицу одну без сопровождающих дам нельзя. Прислужницы, которые заботились о ней, после смерти ее матери разбрелись кто куда, так что преданной служанки не осталось ни одной. Барышня очень подавлена. Я поручаю ее вам, относитесь к ней так, как относится ко мне кормилица Тюдзё. Старайтесь утешить ее и до моего возвращения не отходите от нее.
Ни мать, ни дочь не могли понять, кто эта девица, каким образом Тюнагон разыскал ее среди снегов и почему так заботится о ней, но его доверие польстило им. Сестра кормилицы сказала:
— Мы сделаем все, что в наших возможностях, и будем находиться при барышне неотлучно. Это служба нетрудная. Но она нас не знает и будет стесняться. Расскажите ей о нас.
— Надеясь, что вы согласитесь на мою просьбу, я уже ей все рассказал, — ответил Тюнагон.
Он сказал барышне:
— Прибыли дамы, о которых я говорил. Пожалуйста, не будьте холодны с ними, как вы холодны со мной. Если вы будете чуждаться их, они не будут стараться услужить вам. Надо относиться ко всем с сочувствием и любовью.
Наказав барышне, как надо вести себя, Тюнагон позвал в комнату мать и дочь. Барышня оторопела и не знала, как быть. Она старалась побороть свою робость перед Тюнагоном, который все время заботился о ней, приблизилась к неярко горевшему светильнику, подняла голову и ответила на приветствие прибывших. Ее молодой голос и манеры были очаровательны, и они заподозрили банальную любовную историю.
На сорок девятый день после смерти монахини были проведены поминальные обряды. Тюнагон тщательно все предусмотрел. Барышня проплакала весь день. Она спрашивала себя, что будете ней дальше, и чувствовала себя совершенно беспомощной, но срок человеческого существования определен свыше, и время приносит облегчение. Сестра кормилицы и ее дочь были заурядными женщинами, но они казались барышне красавицами, а манеры их безукоризненными, и, когда барышня представляла себе, что они могли бы подумать о неуклюжих женщинах, которые прислуживали ей до тех пор, ей становилось стыдно за самое себя. Но хотя в горах не было средств заботиться о внешности, ее простодушное лицо, за которым она вовсе не ухаживала, было прелестно.
Когда рядом с барышней находился один Тюнагон, она беспрерывно проливала слезы и лежала, закрыв лицо рукавом одежды, а когда появились женщины, ей стало неловко отворачиваться от них. Тяжесть на сердце немного отпустила, время от времени она поднимала голову, то просила расчесать ей волосы, то примеряла платья. Постепенно она привыкла к тому, что рядом с ней все время находилась очень милая девушка. Самочувствие барышни улучшилось. Тюнагон этому очень радовался. При мысли, что он должен уехать в столицу, его охватывало беспокойство, ночами он оставался возле лежавшей в тоске барышни и всячески старался ее утешить. Она каждую ночь ждала его прихода, необыкновенно ему радовалась и потом весь день вспоминала его слова. Она все больше и больше привязывалась к Тюнагону. Он вызвал в Миёсино многих надежных слуг и наказал им во время своего отсутствия заботиться о барышне. Он то и дело повторял свои наставления, и казалось, что он никогда не уедет. Он говорил, что скоро перевезет барышню в столицу, и при мысли о предстоящей разлуке не мог сдержать слез.
— Как отныне одна Будешь взирать на луну? Сквозь траурный дым Вижу в сиянье Исчезнувший лик, —сложил он.
В течение многих дней он находился возле девицы как тень, говорил с ней и утешал ее, а она не знала, что ответить, и только плакала. Когда она думала, что Тюнагон уедет из скита, ее охватывала тревога. Кроме него, она никого не знала, и с его отъездом ее жизнь изменилась бы. Она осознавала, что ее печаль сравнить в мире не с чем. Она сложила:
— Траурный дым Очи застлал, И в небесах Ночное светило Мне не увидеть.В черном траурном платье она лежала, свернувшись и прикрыв рукавом лицо. Глядя на ее голову и великолепные волосы, Тюнагон думал, что в мире второй такой красавицы нет. Ее сдержанные манеры пленяли молодостью. Каждый раз, когда Тюнагон смотрел на нее, он изумлялся, как будто видел ее впервые.
Блестевшие волосы барышни были великолепны, они струились по спине и лежали на полу, как раскрытый веер. Как в глухих горах могла вырасти такая красавица? Читая о чем-то подобном в повестях, все думают, что это небылицы. Тем не менее так оно и было. Это была такая красавица, что, сколько бы принц Сикибукё ни рыскал по всему свету, подобную ей он найти бы не смог. Тюнагон радовался в душе, что судьба предназначила ему, а не принцу, узнать о такой девице. Мог ли он встретиться с ней, если бы не разыскал в горах монахиню? Истоком таких необычайных обстоятельств была китайская императрица. Тюнагон подумал с печалью, что она и сейчас не сменила своих радужных одежд на траурное платье. Императрица была так красива, будто излучала сияние; барышня из Миёсино, деликатная и скромная, была очень похожа на нее, но у Тюнагона не появлялось стремления вступить с ней в обычные любовные отношения. Если бы он мог послать с ветром в далекий Китай весть о том, что здесь произошло и что он взял на себя заботу о барышне! Думая об императрице, он чувствовал какой-то страх и смущение, но ничто не могло отвлечь его от мыслей о ней. Он заботился о барышне, потому что она была сестрой императрицы и напоминала ему о ней. Тюнагон по-прежнему тосковал по далекой возлюбленной и вспоминал об их пролетевшем, как сон, свидании. Он молился, чтобы в последующем рождении он был поближе к ней, пусть даже травой или деревом в ее саду. Если сердце его останется чистым, императрица будет любить его. Видя, как похожа барышня на сестру, он чувствовал, что тоска по императрице только усиливается. У него не появлялось мысли повести себя иначе с барышней и опрометчиво найти утешение. Почему он неразрывно связан с императрицей? Его любовь определена судьбой, но почему судьба не предназначила им встретиться еще раз? Он все время упорно думал об этом, и его влечение к барышне само собой затихало. Он вспоминал императрицу в то мгновение, когда она сложила стихотворение о посланце чужого неба, и в то же время осознавал, как усиливалось его чувство к ее сестре. Тюнагон мучился донельзя. Повторяя, что его давно ждут в столице, он снова и снова утешал ее и, наконец, пустился в путь.
Она, раздвинув занавески, смотрела ему вслед. Снегу навалило так много, что от высоких сугробов в доме было темно. Тюнагон, одетый в желтое и красное платье, бледно-лиловые шаровары, затканные китайским узором, и охотничий костюм[261], двигался по расчищаемой перед ним тропе. Он был так необыкновенно красив, что барышня не могла отвести глаз и стыдилась, что рядом с ним она сама выглядит безобразно. Пока Тюнагон находился рядом, ей не приходило в голову, что ее существование ужасно, а после его ухода все показалось ей чужим в этом месте, где она так долго жила Она не могла превозмочь своего уныния и сложила:
«Хоть грустна моя жизнь В горах Ёсино Среди снежных сугробов, Но ныне к чему Горы другие искать?»Глядя на погруженную в мрачные мысли барышню, приставленные к ней женщины очень ее жалели. Они и сами были грустны из-за отъезда Тюнагона и утешались, глядя на красавицу-барышню. Они не отходили от полюбившейся им девицы и рассказывали ей разные столичные истории. Молоденькая дочь была очень красива, а ее разговор еще больше располагал к ней. Тюнагон часто с ней беседовал. После его отъезда она, оставив барышню, вошла в комнату покойной монахини. Все, как раньше, лежало на своих местах: сутры, которые она постоянно читала, четки, предметы, которыми она пользовалась при выполнении обрядов; только ее самой не было. Как все говорили, она была столь благочестива, что возродилась в Чистой земле, и, наверное, так и было. Барышня все еще сожалела, что мать оставила ее, беззащитную, в этом мире.
Снег все валил и валил, было темно, небо было совершенно покрыто тучами. Племянница кормилицы была погружена в уныние и вздыхала: «Какая печаль!» Барышня, слушая ее, сложила:
«Сыплет снег беспрерывно, И не светлеет небо, Медленно тянется Утро за утром, За вечером вечер».Она заплакала. Она была так прелестна, что племянница кормилицы не захотела бы уехать из этой хижины даже в сверкающий драгоценными камнями дворец. Она произнесла, стараясь утешить барышню:
— Скучно, бесцельно В суетном мире Время влачим Лучше в снежных просторах Приют обрести.4
Тюнагон ехал, не переставая думать о барышне, и ему хотелось вернуться в скит; но он беспокоился о своей дочери, Молодом господине и матери и погонял коня. Дети за время его пребывания в горах очень выросли. Монахиня встретила его приветливо и не упрекала за столь длительное отсутствие. Она была в простой рясе и, хотя лицо ее не было нагримировано, казалась красивее барышни из Миёсино. От ее умиротворенного облика исходило сияние. В нашем мире не было женщины великолепнее. Сожаление Тюнагона, что он, находясь рядом, не может обменяться с ней клятвами, было таким же сильным, как тоска по китайской императрице. Какие бы узы ни связывали его с Миёсино, разве оставался бы он в скиту так долго, если бы Ооикими была его женой? Тюнагон вспоминал ее прежний облик, и в то же время перед ним всплывало лицо поразительной красавицы, выросшей в глухих горах.
— Неожиданно я соприкоснулся со скверной, — сказал он монахине, — избежать этого было невозможно. Я видел поразительные вещи. — И он рассказал ей, как над жилищем умершей монахини встали пурпурные облака.
— Как я хотела бы прожить свою жизнь и умереть в таком же безлюдном месте! Но мне этого не дано, — сказала Ооикими и заплакала.
Ее слова глубоко тронули Тюнагона.
— Разве имеет значение, где умирает человек, в глухих горах или близ селенья? Все зависит от одних только его помыслов. И в городской толчее истинный святой достигает Прозрения и возрождается в раю, — сказал Тюнагон.
— Я не способна на настоящее подвижничество, и для меня имеет значение, где я живу, — возразила монахиня.
— Человек должен быть уверен в себе, — ответил Тюнагон. — Ведь сказано: «Правильно думая, достигнешь состояния Будды»[262]. Потерпите немного. Когда наша дочь подрастет и я устрою ее будущее, мы непременно уедем с вами в Ёсино. Мы думаем, что наша жизнь кратка, но никому не дано ее измерить.
Как в «Повести о реке Оои», они вместе ожидали, как услышат музыку явления Майтреи[263], и клялись друг другу возродиться вместе в Чистой земле
Натянутость в отношениях Тюнагона и генерала исчезла без следа. Они сблизились, и молодой человек во всем повиновался отчиму. Ему было неприятно слышать, как о нем говорили: «Он не может здраво мыслить, он поступает своевольно, сумасбродит, то и дело удаляется в горы».
Поначалу Тюнагон решил поселить барышню из Миёсино в восточном флигеле своей усадьбы и сказал об этом монахине. Благожелательно настроенные к нему люди одобрили бы его, но не знавшие о его истинных отношениях с Ооикими стали бы говорить: «Этого-то и следовало ожидать. Он делал вид, что относится к дочери генерала серьезно, но вот у нее появилась соперница». Это было бы тяжело для всех, и даже прислуживающие монахине дамы начали бы беспокоиться. Существовала еще одна причина для беспокойства. Он отказался от предложения императора взять в жены принцессу под предлогом, что для него это тяжелый год, он должен быть осмотрителен и не думать о любви; и если до государя дойдет, что в то же время Тюнагон поселил у себя молоденькую девицу, он, без сомнения, разгневается. Поэтому Тюнагон решил отвезти барышню в деревню, где жила его кормилица с Молодым господином. Дом там был очень просторный и красивый. Его надо было привести в порядок и обставить. В деревне начались работы.
Тюнагон сказал Ооикими:
— Будут говорить, что я влюбился. Но у барышни, кроме матери, не было никого, кто бы о ней заботился, и сейчас она осталась совершенно одна. Перед смертью мать ее очень беспокоилась, как дочь одна будет жить в горах, и просила меня взять ее на попечение. Я хочу поселить девицу недалеко от столицы. Она мне как сестра, относитесь и вы к ней так же. Вы знаете, что я отказался от предложения императора взять в жены принцессу. Я думаю, что, какие бы ни пошли слухи, вы не станете сомневаться в моем к вам отношении.
— Мне ваши слова неприятны, — ответила монахиня. — Не подозреваете ли вы меня в ревности? Даже если бы я не была монахиней, чем бы я могла быть недовольна? Я страдаю от одиночества и буду рада видеть девицу здесь.
— Я и сам хотел так сделать, но боюсь, что будут судачить и дело дойдет до государя. Тогда и вам будет плохо. Поэтому я решил перевезти ее в такое место, где о ней никто не узнает. Я и матери еще ничего не сказал.
Они, как всегда, говорили откровенно и дружелюбно. Тюнагон послал гонца с письмом в Миёсино. Он написал также сестре кормилицы с дочерью, напоминая им свой наказ: «Не оставляйте барышню одну и утешайте ее. Скоро я пришлю за вами».
Когда приготовления были завершены, он написал девице письмо:
«Мыслью лечу К глубоким сугробам В горах Ёсино, И от боли сердечной Дыханье прерваться готово...»В ответ она написала на голубовато-серой бумаге[264]:
«В Ёсино чем дольше живу, Тем сильнее печаль. Кто, мир дольний отвергнув И сюда устремившись, Снес бы ее?»Письмо было написано превосходно, оно свидетельствовало о совершенном владении кистью. Изумленный Тюнагон не мог наглядеться на послание. Красота барышни была дана вследствие ее добродетельного существования в предыдущих рождениях. Но столь великолепный почерк! Живя подле матери, которая совершенно отреклась от суетного мира, девица всей душой отдавалась упражнениям в каллиграфии и приобрела такое необыкновенное мастерство!
В Миёсино сестра кормилицы сказала барышне:
— Господин пообещал, что скоро за нами приедет.
Она велела прислужницам сделать необходимые приготовления к отъезду.
— Господин, несомненно, привезете собой новые одежды для переезда в столицу. А мы позаботимся о спальных принадлежностях, чтобы они казались новыми, — сказала она.
Барышня была не сказать в каком унынии. Она жила в таких страшных условиях, что, куда бы ни повлекла ее вода, она должна была последовать за ней[265]. Но покинуть привычное место, направиться неизвестно куда, не имея никого, кто бы позаботился о ней, — к чему было покидать скит? Среди прислужниц, которые с давних пор находились при ней, ни одна не могла дать разумного совета. Недоброжелательно относящиеся к барышне думали злорадно: «Будущее непредставимо, пусть едет в неведомые края»[266]. А у нее самой на душе было тревожно. Когда племянница кормилицы, с которой она подружилась, сказала ей: «Когда вы будете жить в столице...», — барышня, проливая слезы, ответила:
— Пока я ношу траур по матери, я хочу удалиться отсюда дальше в горы. К чему мне перебираться поближе к людям?
Дочь, наверное, передала ее слова матери, и та, когда приехал Тюнагон, рассказала ему об этом разговоре. Он вошел в комнату к барышне и отодвинул переносные занавески, за которыми она сидела.
— Я о вас очень сильно беспокоился, и путь сюда показался мне труднее, чем обычно. Посмотрите, вся моя одежда вымокла от росы. Почему вы решили не ехать в столицу, а удалиться еще дальше в горы? Я и там разыщу вас, — сказал он, блистая красотой и улыбаясь.
Барышня оробела, лицо ее покрылось потом, и она не могла сообразить, что ответить. Ей было тяжело покинуть родные места и отправиться неизвестно куда. Как могла она сказать об этом? Ей ничего другого не оставалось, как, подавив свой страх и проливая слезы, во всем положиться на Тюнагона.
Молодой человек навестил отшельника и сказал ему:
— При жизни монахини, отличавшейся необыкновенной мудростью, барышня могла оставаться в столь необыкновенном месте. Но как быть сейчас? Я хочу тайно перевезти ее в столицу.
— Покойная монахиня была к дочери чрезвычайно привязана, — ответил отшельник, — и больше, чем о собственном возрождении в Чистой земле, молилась о судьбе своего чада. И меня, недостойного монаха, она просила: найдите надежного человека, которому я поручила бы дочь. Когда вы ее отыскали, она уверилась, что Будда услышал ее молитвы, и с радостью повторяла, что отныне она всей душой будет молить о своем возрождении в раю. Ее кончина была совершенно великолепна и благостна[267]. Но я, глядя на девицу, снова и снова размышлял: это несравненная красавица, и ей обязательно надо быть благоразумной. Связать свою судьбу с мужчиной до двадцати лет значит погубить себя, мне такая судьба кажется очень страшной. В последнее время подобное происходит сплошь и рядом, но я думаю, что, если девица моложе двадцати лет беременеет, жизнь ее не складывается благополучно[268]. Это было бы обидно. Барышне сейчас семнадцать, подождите ещё три года.
Услышав его слова, Тюнагон невольно ахнул: неужели он мог, подобно самому обычному мужчине, как можно раньше связать себя клятвами с ней?
— Я вовсе не собирался сразу же жениться на ней, — ответил он, — но после ваших слов я еще более терпеливо буду ждать три года. Я хочу построить здесь часовню. Работы можно начать после нового года, весной.
Он стал подробно рассказывать, что собирался сделать. Отшельник, слушая его, проливал от радости слезы.
Кормилице покойной монахини, которая и сама приняла постриг, было лет шестьдесят. Она решила остаться в скиту и, плача, ответила Тюнагону на его предложение взять ее в столицу: «К чему мне теперь уезжать отсюда?» Утварь и одежду, которую Тюнагон присылал туда, он велел разделить между отшельником и кормилицей и приказал заботиться о них своим слугам, которым поручал прислуживать покойной.
Наступил день, когда барышня должна была расстаться с родными стенами. Прошлое вставало у нее перед глазами с того дня, когда ее, ничего не понимающую крошку, привезли в скит. От слез у нее становилось темно в глазах, она все медлила и не садилась в экипаж.
«Не знаю сама, Куда направляюсь, Но слезы льются Неудержимым потоком вперед И манят вслед за собой», —сложила она.
Снега выпало очень много. Солнце стояло уже высоко, когда путники добрались до постоялого двора на полпути к столице, на котором Тюнагон останавливался раньше. Он подошел к экипажу девицы, чтобы помочь ей выйти. Хотя за несколько месяцев она привыкла к Тюнагону, но всегда, когда он приходил к ней, оставалась в глубине комнаты за переносными занавесками и искоса бросала на него взор, а сейчас выйти из экипажа у него перед глазами — она и представить себе этого не могла. Нельзя было колебаться до бесконечности, и, закрывая насколько возможно веером лицо, она не помня себя вышла из экипажа. Место для нее было приготовлено у всех на виду, она почувствовала себя неловко и, как только вошла в помещение, заплакала и легла на пол. Переход от привычного сумрака гор к мирской суете был слишком быстр, и барышня никак не могла собраться с мыслями.
Снег все еще шел, но вскоре небо расчистилось, показалась луна, и ее сиянье проникло в самые удаленные уголки комнаты. Сад перед домом в лунном блеске должен быть несказанно красив, и, подняв занавеску, Тюнагон, чтобы развлечь барышню, настойчиво приглашал ее приблизиться к порогу. Она немного перестала стесняться и, подавив слезы, нерешительно последовала его совету. Девица была похожа на колеблющуюся на ветру ветку ивы. Тюнагон подумал, что у нее глубокое сердце. Он невольно залюбовался барышней, освещенной лунным светом, она поистине была редкой красавицей. На постоялом дворе все, кроме них, спали. Вокруг было тихо. Тюнагон прилег возле барышни и развлекал ее рассказами. Она отвечала сдержанно. Тюнагон поразился, как она была похожа на свою сестру.
Об императрице он не рассказывал даже Ооикими, которой поверял все. Но в ту ночь на постоялом дворе он подумал, что барышне можно все рассказать и даже показать письмо, в котором императрица намеками сообщала о Молодом господине. От девицы ничего не надо было скрывать, и Тюнагон начал рассказывать, как решил плыть в Китай и как прибыл туда. Он говорил о празднике хризантем в Хэян, об игре императрицы на цине, о том, как с первого взгляда в его душе закипела любовь к ней, и хотя у него не было возможности открыть ей свои чувства, избежать судьбы было невозможно, как они встретились весенней порой в Шаньинь и провели вместе всего лишь одну ночь. Он не знал, кто она, где находится, не мог отыскать ее в чужой стране и оплакивал свою участь. Ему было дано на миг снова встретиться с ней, и она поведала ему о Молодом господине. Увидеть и услышать императрицу еще раз он не надеялся. Он взял с собой на родину Молодого господина как память об их пролетевшей, как сон, встрече. Так, безостановочно проливая слезы, он открыл барышне все.
Когда умные люди с чувством рассказывают о неизвестных странах, слушатели не могут сдержать слез, тем более была взволнована барышня: речь шла о ее старшей сестре, находившейся в дальнем краю. Девица всю жизнь провела с матерью, отвергшей суетный мир и удалившейся в глухие горы, где не раздавалось даже птичьего пения; у нее не было подруги, с которой можно было бы вместе любоваться луной и снегом и с которой можно было бы поговорить, развеять скуку и утишить тоску. Почему сестра не находилась с ней в одной стране? В Японии они жили бы в одном доме и могли утешать друг друга, а из тех далеких краев было невозможно получить даже письмо. В каком из миров, не во сне, а наяву, сможет она увидеть и услышать ее? После смерти матери она еще сильнее тосковала по сестре. Но разве у нее была бы надежда жить вместе с ней, если бы та была императрицей в Японии? Услышав, что Тюнагон сам видел и разговаривал с императрицей, барышня забыла и свое смущение, и свою робость. Если бы не он, как бы она узнала о сестре? Ее любовь к ней была столь же безнадежна, как попытка связать веревкой небо[269]. Оба они оплакивали свою любовь к императрице, их слезы сливались в один поток, и они чувствовали, как близко связаны друг с другом.
— Я решил разыскать ее близких, — сказал Тюнагон. — Отныне относитесь ко мне, как к ее родственнику, а я так же буду относиться к вам. Молодой господин остался мне на память о ней. Думайте и вы, что он — память о сестре.
Они проговорили всю долгую ночь. Стало светать. Луна лила печальный блеск, чистое небо казалось бледно-зеленым, снег искрился. Погруженный в думы Тюнагон взглянул на сад. Картина была столь прекрасна, что он подумал: «Мы в каком-то другом мире». Он сказал:
— Встречей, краткой, как сон, Жизнь на чужбине связав, Не чаял на родине Близких найти, И ныне не верю себе.Мне кажется, что мы перенеслись в волшебный предел.
Барышня ответила:
— Слушая ваши слова, Поняла, как эфемерна Участь моя. Призрак я той, С кем сон вас связал.Стихотворение было трогательным, и Тюнагон почувствовал умиление.
У его кормилицы был сын, заместитель правителя провинции, расторопный молодой человек. Тюнагон приказал ему приготовить дом к приезду барышни: повесить полог вокруг постели, обставить северную комнату, расставить утварь в юго-восточном помещении и оборудовать кухню. Вскоре путники прибыли на место.
Барышне, выросшей в неприступных горах и привыкшей к шуму ветра в соснах, все на новом месте казалось удивительным. Не попала ли она неожиданно в зачарованный мир, о котором рассказывал Тюнагон? Многого она, сколько ни думала, понять не могла. Все в доме окружили ее заботой. Молодой господин был необыкновенно мил. Он весело бегал вокруг. Как только они приехали, Тюнагон привел его к барышне.
— Это о нем писала императрица в своем письме, — сказал он. — Говорят, что против своего желания никто не живет. Я не следую голосу рассудка и остаюсь в этом мире, но в конце концов оставлю суетное существование. Поручаю Молодого господина вашим заботам.
Девица, заплакав, ничего не отвечала Что тут можно было сказать? Барышня внимательно посмотрела на прелестного ребенка, а Тюнагон сказал ему «Это твоя мать». Казалось, мальчик сразу почувствовал, что барышня — его родственница. После того он ни на шаг не отходил от нее, звал матерью и спал, тесно прижимаясь к ней. Барышня тоже очень полюбила Молодого господина и стала его наперсницей в играх. Ребенок отвлек ее от печальных размышлений, и она перестала страшиться будущего.
Молодая девушка, которую Тюнагон выписал в горы, стала кормилицей Молодого господина, и с тех пор ее стали звать Сёсе. Ее поселили в восточном флигеле. Служанки, которые несколько лет заботились о барышне, прибыли вместе с ней. Тюнагон постарался, чтобы все они ни в чем не нуждалась и жили безмятежно, — видно было, что он всячески заботился о барышне.
Кормилица Тюдзе знала, что дочь генерала очень красива и сравнить ее в этом мире не с кем, и каждый раз, приезжая в усадьбу, смотрела на нее с жалостью. В деревне после отъезда Тюнагона кормилица присмотрелась к барышне из Миёсино. Впечатление было другое: кормилице казалось, что жизнь ее удлиняется. Барышня была так же великолепна, как Молодой господин. «Как Тюнагон нашел такую красавицу?» — думала кормилица и всячески старалась помочь ей. Тюнагон относился к барышне, как к собственной дочери; когда он некоторое время не видел ее, им овладевала тревога. Он старался всячески ублажать девицу. Ее жилище было прекрасно обставлено и украшено. Ее мучил стыд, когда она вспоминала, в каких нищенских условиях Тюнагон видел ее. Но говорить об этом было незачем, ныне все вокруг нее старались, чтобы она ничем не была озабочена.
Чем больше Тюнагон видел барышню, тем сильнее любил ее, и все чаще в душе его возникали сладострастные желания, которые он не мог подавить. Однако молодой человек не был похож на обычных ловеласов и не забывал о предостережении отшельника. Кроме того, когда он отказался от предложения императора, генерал и монахиня были столь восхищены его глубокими чувствами, что теперь он не мог никого поселить в одном доме с Ооикими. Если бы он женился на принцессе, то со временем его чувства к ней неминуемо охладели бы; но принцесса окружена всеобщей любовью, и, пока соблюдались бы приличия, охлаждение между супругами не заставило бы ее печалиться. В противоположность этому, если бы он, завязав глубокие отношения с барышней из Миёсино, посещал ее изредка, она, не имея никого из близких, проводила бы время в унынии, и ее было бы жалко. Несмотря на все благоразумные доводы, Тюнагон чувствовал, что трудно пройти мимо такой красавицы. Если он женится на барышне, но будет постоянно жить возле Ооикими, он будет беспокоиться и то и дело ездить в деревню. Что будет чувствовать монахиня, если он будет часто отсутствовать ночами? Она будет обижена, ему самому будет тяжело[270]. Думая обо всем этом и помня о наказе отшельника, Тюнагон всячески сдерживал глубокие чувства к барышне. Как это было ни трудно, он продолжал жить, как раньше, и на ночь оставался в усадьбе возле монахини. Она была уверена, что он заботится о барышне, но никаких других чувств к ней не питает. Она часто говорила с Тюнагоном о девице и пеклась о ней.
5
В усадьбе генерала начались строительные работы, и в конце месяца жена принца Сикибукё с прислуживающими дамами переселилась к Тюнагону. Мать его предоставила ей свое помещение, а сама перебралась в восточное.
В первый день первого месяца дамы, изысканно одетые, собрались вместе. В доме было шумно и торжественно. Мать Тюнагона, Ооикими и жена принца расселись в одной из комнат, дочь Тюнагона была с ними. В день Нового года она стала старше на год[271], и дамы умилялись, любуясь ею. Тюнагон издали смотрел на них. Мать его на восемь белых платьев надела темно-красное. Ее красота привлекала к себе все взоры. Она казалась моложе своих лет. Ее волосы, хотя уже и не очень густые, красиво струились по спине. Жена принца была в розовом платье на темно-красной подкладке и в белой вышитой шелковой накидке на темно-красной подкладке. Когда-то Тюнагон весенним вечером видел ее, с тех пор она повзрослела и изменилась. Она была красива, изысканна и очень мила. Что же касается монахини, то, поскольку ее отец не любил слишком монашеской атмосферы в праздничный день, она надела восемь специально сшитых платьев, красных с желтым оттенком, а поверх — серое платье без узоров, все вместе производило очень изысканное впечатление. Она была очаровательна. Ее красота была в самом расцвете, она была столь великолепна, что внушала робость всем, кто видел ее, Когда она сидела, ее волосы доходили до пола, они струились ровной волной, на лоб падала густая челка, и лицо было ослепительно. Тюнагону она показалась прекраснее, чем обычно, и он подумал, что сравнить ее не с кем. Он равнодушно смотрел на искусно нагримированную и разодетую жену принца, которая не выдерживала никакого сравнения с сестрой. Если бы Ооикими опять могла отрастать волосы длиной в восемь сяку и надеть нарядные одежды, как в былое время, она бы затмила всех красавиц на свете. Непереносимая печаль охватила Тюнагона, и, хотя плакать в день Нового года была дурная примета, справиться с собой он не мог.
В комнату вошел генерал, важный и красиво одетый. Когда он увидел Ооикими рядом с другими дамами, он тоже, как это всегда бывало, почувствовал сожаление, но в Новый год он постарался не давать воли своим чувствам. Тюнагон же понимал, что по его вине Ооикими приняла монашество, и говорил себе, что сейчас ему никак нельзя не щадить ее чувств
Хоть жена принца Сикибукё со своей сияющей красотой и уступала сестре, она была изысканна и привлекала к себе внимание. Дочка Тюнагона была похожа на распускающийся цветок, она обещала быть редкой красавицей. Генерал взял ее к себе на колени, гладил по голове, показывал зеркальные рисовые лепешки[272] и в высокопарных выражениях желал ей счастья в новом году.
— Ваша мать, к сожалению, стала монахиней. То, что я не могу сделать для нее, я делаю для вас и таким образом облегчаю душу, — сказал он. Так оно и было.
— Эту лепешку надо положить на голову, — продолжал генерал. — Это должен сделать Тюнагон. Уже поздно[273]. Скажите ее отцу.
Услышав его слова, Тюнагон вышел из своего укрытая. Слуги сказали ему: «Генерал велел передать вам то-то и то-то».
— Я совершенно ничтожный человек. Генерал по своему положению сам может выполнить церемонию. Ведь в прошлом году так и было, — ответил Тюнагон.
Слуги передали его слова генералу. «Что ж, выполню свой долг», — сказал тот и пошел в комнату Тюнагона. Отец взял девочку на руки, генерал положил лепешку ей на голову и пожелал внучке счастья.
Прибыли сыновья генерала, чтобы вместе ехать в императорский дворец. Однако Тюнагон хотел выполнить обряд пожелания счастья и над Молодым господином и не поехал с родственниками, а направился в деревню к сыну.
Дом был убран и прекрасно украшен, но, в противоположность усадьбе Тюнагона, из-за траура там не использовались яркие ткани, бросающиеся в глаза, а преобладали голубой и синий цвета. Барышня пряталась за занавесью и переносными занавесками высотой в три сяку. На платье глухих тонов она надела белое, на фоне которого особенно выделялись пышные волосы, струившиеся по спине и ложившиеся на пол, как раскрытый веер. Она выглядела безупречно и казалась нарисованной на картине
— Я желаю, чтобы в этом году вы жили спокойно. Я надеялся увидеть, что вы, как полагается на Новый год, чувствуете себя бодро, и поспешил к вам прежде, чем ехать с поздравлениями в императорский дворец, — сказал Тюнагон.
Он сдвинул переносные занавески в сторону. Барышня закрыла лицо веером и немного отвернулась от него. В тот день она была наряднее, чем обычно, и казалась необыкновенно привлекательной. Она была миниатюрна, блестящие волосы были великолепны, ее сияющая красота была пленительна. «Дочь принца Ооэ[274] сравнивали с осенней луной, но была ли она так красива?» — подумал Тюнагон. Манеры барышни были столь же мягки и изысканны, как манеры Ооикими. Неудивительно, что дочь генерала была безупречна: с самого раннего возраста ее холили и лелеяли, она росла в самых благоприятных условиях и стала такой, что невольно думалось: «Жаль, если ее ждет участь обычной женщины». А как смогла барышня в неприступных горах вырасти такой красавицей? то казалось еще более необъяснимым, чем рождение Кагуя-химэ из ствола бамбука[275]. «Принц Сикибукё и в столице, и в глуши рыщет в поисках совершенных женщин, и нет закоулка, который бы он не посетил, но красавицы, подобной барышне, он не нашел», — думал Тюнагон. Необыкновенная судьба вела его к ней: она была сестрой китайской императрицы, которую он так мучительно любил, и он узнал о ней, когда в горах отыскал ее мать. Он с радостью думал, что это сокровище дано ему в утешение оттого, что Ооикими приняла монашество. Он внимательно, не отводя взора, смотрел на девицу. Такой изысканной женщины, как императрица, второй на свете не было, ее красота освещала все вокруг. Он вспомнил, как она была пленительна, и, несмотря на то что плакать на Новый год было дурной приметой, не мог сдержать слез «Сблизившись с девицей, похожей на нее, я мог бы обрести утешение», — думал он. Тюнагон глубоко любил барышню, но боялся нарушить обещание отшельнику. Она была для него воспоминанием об императрице, он всячески заботился о ней, его любовь была возвышенна. Но он думал с сожалением, что, если бы он завязал с девицей любовные отношения, его сердце, вероятно, успокоилось бы; при этом Тюнагон чувствовал, что еще сильнее любит императрицу. Он предполагал, что и барышня вспоминала о нем с глубоким чувством. При их отношениях, если он и не приходил к ней, она не ревновала его, а если бы он обменялся с ней клятвами, ему самому было бы тяжело проводить ночи не с ней, да и она была бы недовольна. Он привык к Ооикими, и у него не появлялось желания переехать от нее в другой дом. Рядом с монахиней никого в Японии поставить было нельзя, и она, даже приняв постриг, была лучше всех. Но, находясь возле монахини, он постоянно думал о барышне из Миёсино. Он не мог справиться со своими чувствами, ему хотелось всегда быть вместе с ней, и он сам не мог понять, как все еще не обменялся с ней клятвами
6
Молодой господин с каждым днем становился все очаровательнее. Он совсем не подходил к своим нянькам, а все время проводил возле барышни, называл ее матерью, и было видно, что он очень полюбил ее. Три дня первого месяца Тюнагон пробыл в деревне, а когда вечером возвратился к себе в усадьбу, к нему заехал принц Сикибукё. Тюнагон радушно принял принца и угостил его сопровождающих. Пришли сыновья генерала, выпили с принцем вина, поздравили с приходом весны и пожелали ему счастья. Когда Сикибукё остался с Тюнагоном наедине, он сказал:
— С давних пор я хотел подружиться с вами, но вы почему-то считаете меня человеком безрассудным и недостойным вашей дружбы. К сожалению, вы очень редко бываете у меня. Всем понятно, почему вы так относитесь ко мне: вы хотите казаться святым.
Он был настроен дружелюбно и говорил искренне. Тюнагон рассмеялся.
— Какой я святой! Я самый обычный человек!
— Может быть, это и так. Вы по всему миру тайком ищете женщин, даже ездили в Китай. Вы встречаетесь с разными людьми. Я вот никуда отсюда не уезжаю. Меня осуждают за то, что я повсюду разыскиваю привлекательных женщин. Если я найду необыкновенную женщину, которая мне понравится, то, пусть она живет в небесном гроте[276], я сделаю ее своей единственной женой и забуду все похождения. Мне все равно, что обо мне говорят и как меня порицают. Даже мой отец, наш государь, сделал мне выговор. Когда видишь много женщин, то понимаешь, что совсем никчемных на свете нет. Каждая из них по-своему хороша, но совершенные красавицы редки. Меня считают бабником, а я провожу ночи в одиночестве, подстелив под голову рукав собственного платья, и в тоске думаю, что надо бы отправиться в Китай, чтобы найти свой идеал.
Принц говорил серьезно и то и дело тяжело вздыхал.
Тюнагон подумал: «Если бы я показал ему монахиню или барышню из Миёсино, он бы убедился, что на свете есть совершенные женщины». Но нельзя было говорить такому волоките, как принц, о существах, которых судьба послала ему, Тюнагону, и глубокое чувство к которым он хранил в сердце.
— В горных деревушках можно встретить довольно привлекательных женщин, — сказал Тюнагон. — Но на дам, живущих в таких условиях, вы не обращаете внимания.
— Мне рассказывали о деревенских красавицах, но, когда я с ними знакомился, оказывалось, что они не так уж хороши, — ответил принц.
Принц напоминал героя повести «Дождливые дни на постоялом дворе в Оно»[277]. Он уже давно не посещал свою жену, и не было заметно, чтобы он собирался отправиться к ней в ту ночь. Разговор затягивался и стал утомлять Тюнагона. «Уже поздно», — сказал он и собрался было распрощаться, но принц возразил: «Подождите немного». Ему хотелось еще поговорить.
Тюнагону было донельзя жалко Нака-но кими, которая ждала посещения супруга, и он стал убеждать принца лечь спать, а сам направился в комнату монахини. Принцу хотелось знать, как красива монахиня, какие у нее манеры и насколько глубокое чувство питает к ней Тюнагон. На сердце у него было тяжело.
Монахиня для выполнения особого обряда ушла в часовню. Тюнагону было жаль терять время на сон. Погода испортилась, пошел снег, завывал ветер; в такое время лежать одному в постели было тоскливо, и Тюнагон поехал к барышне из Миёсино.
Девица спала, прижав к груди Молодого господина. Недалеко от них расположилась Сёсё, племянница кормилицы. Когда Тюнагон приехал, все проснулись и вышли к нему. Он сам лег и начал, как обычно, любезно разговаривать с барышней. Она постепенно привыкла к нему и при его появлении не робела, как прежде. Ему было очень приятно, когда барышня касалась его руки. Он вспомнил свой недавний разговор с принцем Сикибукё. Похоже было, что принц так и не мог забыть Ооикими, несмотря на ее монашество. А если до него дойдет, что Тюнагон втайне поселил в деревне барышню, ему нестерпимо захочется узнать о ней, он начнет строить планы, как бы встретиться с ней, и, не думая о том, какое огорчение доставит другим, не успокоится, пока не добьется своего. Тюнагон испытывал к барышне глубокую любовь, все, что к ней относилось, он принимал близко к сердцу и серьезно задумывался о ее будущем. Он страшился нарушить обещание отшельнику и в течение трех лет, встречаясь с ней, должен был смирять пылающие в груди желания. Принц не догадывался, что Тюнагон никак не связан с барышней, и если он начнет ухаживать за ней, как все повесы, барышня полюбит его. Думая об этом, Тюнагон начинал тревожиться. Он сказал девице:
— Я хотел приехать к вам пораньше, но ко мне пришел принц Сикибукё, мы разговорились, уйти было невозможно. Поэтому я приехал так поздно. Но вы крепко спали, и видно было, что вы меня совсем не ждали. Это меня обидело.
Тюнагон сердился совершенно напрасно, но не мог успокоиться и продолжал:
— Принц непременно будет разыскивать вас. Если он один только раз увидит женщину, тут же начинает писать ей письма, добивается от нее ответа, так он привлекает к себе всех. Если он узнает о вас, то, без сомнения, явится сюда.
Он говорил долго о своих предчувствиях, но по выражению ее лица нельзя было предположить, что она понимает истинный смысл его слов. Ее наивность была трогательна
Утром, когда солнце было уже высоко, но все еще спали, слуга принес Тюнагону письмо.
Взяв в руки изящное послание, Тюнагон подумал, не от дочери заместителя губернатора Цукуси ли оно, но когда открыл, оказалось, что от принца Сикибукё.
«Вчера вечером вы были в тревоге, и я понимаю, почему.
Помню, с каким нетерпеньем В путь ты пустился. Так же неудержимо В бухту Токо Волны стремятся[278]».Каллиграфия не поражала особым мастерством, но почерк был уверенным и достойным внимания. Тюнагон показал письмо барышне и сказал:
— Это письмо от принца, который пользуется большой известностью. Написано превосходно, и каким бы каменным ни был человек[279], он не может остаться равнодушным.
Барышня на письмо не взглянула и ничего не ответила. Ее спутанные со сна волосы были великолепны. Склонив голову, она искоса посмотрела на Тюнагона, и он залюбовался ее лицом и падающими на лоб волосами. Он не мог сразу ответить на письмо принца, подозревая, что тот накануне не пошел в комнату жены, а последовал за ним. «Его всегда нужно опасаться, — подумал Тюнагон. — Узнав, о ком я так забочусь, он будет строить немыслимые планы». Он написал принцу:
«На озере Нио Не ныряет рыбачка За травой мирумэ. Какой ветер Об этом расскажет?[280] Внемлите моим словам».Тюнагона тревожило, что принц выследил его. Он сказал Синано[281], чтобы она ни на мгновение не отходила от барышни, если даже та ни в чем не нуждается, а самой барышне охарактеризовал принца с плохой стороны: «Он не пропускает ни одной женщины и совершенно бессердечен». Но казалось, что барышня не обратила на его слова никакого внимания.
Тюнагон иногда захаживал то к одной, то к другой даме и изредка тайком посещал дочь заместителя губернатора. Их отношения не прерывались. Она страстно любила Тюнагона и, потеряв благоразумие, встречалась с ним[282]. Она горько оплакивала свою судьбу, и Тюнагону было ее донельзя жалко.
8
Когда Тюнагон думал о китайской императрице, он забывал все свои дела. Почему судьба не дает им увидеться еще один раз? Прошло много месяцев с ночи, проведенной в Шаньинь, и даже Молодой господин, бесценная память об императрице, которого Тюнагон мог видеть и днем и ночью, не утишал его печали. Тюнагона охватывала тоска, как человека, который смотрел на луну над Горой брошенной тетки[283].
В середине первого месяца он увидел во сне императрицу, и с тех пор ее лицо то и дело вставало у него перед глазами. Муки его сделались нестерпимыми. Каждую ночь, как только он засыпал, она являлась ему во сне, такая, какая была прежде, но она лежала, и он понимал, что она больна. Тюнагон тревожился, что бы это значило. В шестнадцатый день третьего месяца небо было покрыто тучами. Вечером, подняв занавеси, Тюнагон вместе с барышней из Миёсино сидел на веранде. Он был погружен в думы, вспоминал, как будто это было вчера, мимолетную встречу с императрицей в Шаньинь. Ему показалось, что императрица рядом с ним и он слышит ее слова: «Посланцем неба чужого...» Тюнагон, заплакав, сложил:
«О сне, что мелькнул Ночью весенней В дальнем краю, Только луна Воспоминанье хранит».Он заиграл на стоявшем рядом кото и в глубокой задумчивости смотрел на небо, по которому плыли облака. Луна в дымке светила тускло. Тюнагон подумал, что это его вздохи заполнили весь безбрежный простор[284]. Неожиданно в вышине раздался голос: «Императрица из Хэян завершила свой жизненный путь и возродилась на небе». Тюнагон не поверил своим ушам: не потому ли ему померещился голос, что он упорно думал о ней? Но слова ясно прозвучали три раза. Молодой господин в испуге проснулся и заплакал так горько, как он не плакал никогда. Прислужницы запричитали. Больше в небесах ничего не было слышно.
Тюнагон был в отчаянии. Конечно, императрица не могла жить тысячу лет, как живут сосны. И в Китае, и в Японии жизнь одинаково бренна. Если бы он услышал это во сне, он мог бы утешаться сомнениями, но как можно было не верить голосу с небес? Ни о чем другом он не мог думать, мысли его летели в Китай. Ему казалось, что он снова видит все: любование хризантемами, встречу в Шаньинь, игру на цине на пире пятнадцатого дня во дворце Вэйян. Всю ночь он не спал и рыдал в голос.
— Сил нет переносить такие муки. Разотрите мне грудь, — попросил он барышню.
Ей стало жалко Тюнагона, который был не в себе. Она приблизилась к нему. Глядя на ее прелестный профиль и падающие волосы, Тюнагон не мог сдержать слез. Неожиданно барышня изменилась в лице, как будто чего-то испугалась, и Тюнагон, не вытерпев, обнял ее.
— Каждую ночь, каждую ночь, как только чуть задремлю, вижу во сне китайскую императрицу. Я все время чувствую странную тревогу, а сегодня ночью раздался этот голос. Чем больше думаю, что бы это значило, тем более тревожусь, — сказал он и заплакал.
Барышня, не отвечая, закрыла лицо рукавом и заплакала так же горько, как он.
— Никого не могу Послать в дальний Китай, И если бы тебя В горах Ёсино не нашел, Тайну так и не знал бы[285], —сложил он
Никто не мог сообщить ему, в чем дело. Надежды, что кто-то приедет из Китая и расскажет, что там произошло, не было. В свое время его задерживали: «Останьтесь здесь хотя бы на пять лет», и надо было бы последовать этому совету, но сожалеть об этом было поздно.
Утром следующего дня он решил начать тысячедневный пост и читать «Лотосовую сутру». Он не хотел специально объявлять об этом и уезжать в монастырь для затворничества; во дворец можно было не ходить, если там не было важных дел. Как обычно, ничего не скрывая, он сказал дочери генерала:
— Я часто вижу во сне, что покинул этот мир. На душе у меня печально, и я собираюсь начать длительный пост и читать сутры.
Домашние шептались: «Господин увлечен девицей, которую он привез в столицу». Монахиня видела, что он питает к барышне серьезное чувство и что она — существо неординарное, но Тюнагон говорил, что не собирался жениться на ней. «Не потому ли он не собирается зажить семейной жизнью, что ему не суждено долго оставаться в нашем мире?» — размышляла монахиня. Она во всем полагалась на Тюнагона, привыкла видеть его днем и ночью и, если он покинет мир, была готова последовать за ним. Тюнагон не был похож на себя, и Ооикими, глядя на него, горевала и тревожилась.
Тюнагон опасался, что домашние начнут спрашивать, почему господин то и дело проливает слезы, разговоры дойдут до его матери и генерала, они станут беспокоиться, он не сможет им всего объяснить, и положение станет тягостным.
— Я хочу вдали от людей спокойно читать сутры, а здесь беспрерывно снуют туда и сюда, мать и генерал будут донимать вопросами, почему я решил поститься. Я хочу переехать туда, где бы мне никто не надоедал, — сказал Тюнагон монахине. Он простился с ней и направился в деревню.
Днем он проводил время с Молодым господином, который, забавляясь, беззаботно бегал по комнате, и не мог отвести от него глаз, а ночью вовсе не спал и до рассвета читал сутры. Такое благочестие было необыкновенным. Барышня и раньше не знала, пребывает ли китайская императрица в добром здравии, но одна мысль, что ее сестра живет в чужой стране, доставляла ей беспокойство, а ныне она, замирая от страха, думала: «Неужели она покинула мир?» Видя, что Тюнагон подавлен, она тревожилась. Девица старалась, чтобы он не увидел ее слез, но была более обычного погружена в размышления, и ее было донельзя жаль. Тюнагон еще сильнее, чем раньше, был охвачен ощущением ее прелести. Отодвинув переносные занавески, он все время находился рядом с барышней, читал сутры и рассказывал о китайской императрице. Проливая слезы, они проводили ночи до рассвета. Тюнагон утешал ее, но она видела, какая печаль лежит у него на сердце, и была удручена.
— Я хочу обрить голову и удалиться далеко в горы, — сказал он ей, — но мысль о вас удерживает меня от этого, и до сих пор я решиться не могу.
Он говорил ей, что и в будущих мирах его чувство к ней не изменится. Барышня внимательно слушала его. Однажды, поддавшись своему настроению, она написала:
«Неужто больше Не видеться нам суждено? Друг для друга Мы воспоминанье О тех, с кем расстались».Тюнагон прочитал и написал в свой черед:
«Думать нет сил, И не горько мне С миром расстаться. Понятно ль тебе, Ради кого я живу?»Так они, то печалясь, то шутя, плача и смеясь, говорили друг с другом, и любовь в их сердцах все возрастала. Они привыкли друг к другу и беседовали совершенно откровенно. Глядя на ее красоту и наблюдая ее характер, Тюнагон не мог поверить, что она выросла в безлюдных горах. Она была утонченна и простодушна, застенчива, внимательна и необыкновенно обаятельна. Казалось, характером и утонченностью она могла сравниться с одной только Ооикими. Но в свое время, при всей душевной близости с Ооикими, Тюнагон робел перед ней и не мог пренебречь ее благочестием. Внешне в присутствии других людей она казалась спокойной и доверчивой, но когда они оставались наедине, положение менялось, и если Тюнагон пытался безрассудно приблизиться к ней, она сурово отворачивалась от него, делала вид, что не понимает его, и держалась отчужденно. Тогда он дошел до отчаянного поступка, но ныне она — монахиня, тут ничего нельзя было изменить, и он не мог отдаться желаниям, которые возникали в его душе. Барышня из Миёсино казалась ему беззаботной и доверчивой. Пока Тюнагон терпел муки в этом мире, она могла быть утешением для него. Образ китайской императрицы глубоко врезался ему в душу[286]. Барышне не было неприятно отношение к ней Тюнагона. Даже бесчувственные деревья и камни не могли бы остаться равнодушными к чувствам такого великолепного мужчины.
Находясь возле Тюнагона, барышня все больше и больше проникалась к нему доверием. Тюнагон давно сожалел, почему у него нет сестры. Тогда бы он всячески заботился о ней, они открывали бы друг другу душу. Насколько это бы радостно! При этом его отношение к ней было бы свободно от плотских желаний. Удивительно, что до сих пор он не обменялся клятвами с барышней. Но если бы ее не было возле него, он не мог бы продолжать свое существование. Его безграничная любовь к китайской императрице оставалась безнадежной; Ооикими, о которой он, возвратившись в Японию, заботился и с которой он был связан глубокими отношениями, отреклась от мира, о чем он не переставал горевать. Он ни на миг не забывал ни монахиню, ни китайскую императрицу, но никогда не думал о них легкомысленно, а барышня была необыкновенно мила, не уступала обеим ни в красоте, ни в манерах и могла бы утешить его в печали.
После того как принц Сикибукё прислал Тюнагону письмо о волнах в бухте Токо, он пытался разведать, кто была барышня, и наконец узнал, что Тюнагон нашел ее в горах Ёсино; присутствуя при смерти ее матери, он был вынужден провести там долгое время в затворничестве; никто не знал, где он скрывается; а когда были выполнены все обряды и закончился срок очищения, Тюнагон привез барышню с собой и поселил в деревне; он относится к ней крайне серьезно. Необыкновенная история разожгла любопытство принца. Что за люди жили в горах Ёсино? Вряд ли родители девицы были незначительными людьми. Тюнагон не привязался бы сердцем к женщине низкого положения. Человек, который видел чудеса Китая, не стал бы заботиться о простой женщине. Ведь говорят, что и в горах скрываются необыкновенные красавицы. Почему ему самому не приходила в голову мысль отправиться в горы Ёсино? Женщины, которых не надо разыскивать в недоступных местах, не так уж хороши собой. Тюнагон, притворяясь невинным, в поисках красавиц облазил все горы, мысль о которых не приходила в голову ни одному повесе. В свое время принц в течение долгого времени ухаживал за Ооикими и собирался на ней жениться, но Тюнагон, несмотря на то что находился в родстве с девицей, начал настойчиво склонять ее к любви и погубил ее. Тем не менее монахиня не считала, что ее постигла горькая участь, они с Тюнагоном по-прежнему питали друг к другу глубокие чувства, и между ними была тесная близость. Удивительная новость только усугубила желание принца встретиться с барышней, и он со всем пылом начал искать возможности добиться своего.
В свое время, несмотря на все усилия, Сикибукё ничего не узнал о том, что происходило в покоях Ооикими. Он ничего не мог разведать не только о ней самой, но даже о прислуживающих дамах, которые должны были время от времени выходить из дома. Тогда ему пришлось отказаться от своих намерений, прошло время, но и ныне ему было неприятно слышать, что Тюнагон оставался в прекрасных отношениях с монахиней. Тем более ему хотелось встретиться с девицей из Миёсино, он злился на неудачи, и грудь его горела от нетерпения. Он поручил наблюдения за домом в деревне своим доверенным прислужникам. Недоумевая, как живущая в таком месте женщина могла привлечь их хозяина, они бродили вокруг дома, прислушивались, что там происходит, пытались разузнать, кто там живет, но никто из них не мог завязать знакомства с кем-нибудь из обитателей.
9
В пятом месяце барышня заболела. Тюнагон встревожился, стал заказывать молебны о выздоровлении, но болезнь не проходила. У барышни был сильный жар, лицо ее исхудало и побледнело так, что на нее было жалко смотреть. Тюнагон был готов заболеть сам, лишь бы она выздоровела. В тревоге прошел шестой месяц.
Болезнь не излечивалась, и в седьмом месяце Тюнагон тайно перевез барышню в храм Киёмидзу[287]. Об этом узнал слуга принца, который постоянно, как тень, находился возле дома, стараясь разнюхать, что там происходит.
— Состояние девицы такое-то. Там, где она живет, невозможно познакомиться даже с прислуживающими ей дамами, но в храме может представиться удобный случай, — доложил он.
Принц отправился в храм, ему удалось мельком увидеть барышню, и он пришел в необыкновенное волнение. Когда принц узнал, что Тюнагон кого-то скрывает в деревне, он и предположить не мог, что барышня — такая изумительная красавица. Молодой господин называл ее мамой[288]. Если у нее был ребенок, значит, ее отношения с Тюнагоном начались уже давно. Тюнагон не решался признаться в этом дочери генерала, других причин тщательно скрывать Молодого господина быть не могло. Тюнагон не отдавался полностью своему чувству к такой красавице[289] и прятал ее от посторонних, а все потому, что до сих пор был связан с монахиней нерасторжимыми узами. Поэтому принц, отбросив мысли о барышне, страстно хотел встретиться с дочерью генерала. Похотливые мысли не давали ему покоя.
Принц был крайне раздосадован, что, несмотря на то что он осыпал барышню из Миёсино письмами, она никакого интереса к нему не проявляла. Если он похитит девицу и об этом станет известно, Тюнагон будет в отчаянии, а сам принц окажется в щекотливом положении. Но делать нечего. В других обстоятельствах можно думать о посторонних, а сейчас надо воспользоваться случаем и похитить девицу.
Ничего не подозревавший Тюнагон отправился в храм Киёмидзу. Жара не спадала, и барышня очень страдала. Она исхудала и была измождена до крайности, но ее поразительное очарование от этого только увеличилось. Приезд Тюнагона ее обрадовал, лицо ее оживилось и стало еще прелестнее. Тюнагон подумал, не затвориться ли и ему там, но это могло привлечь к ним излишнее внимание. Пока она в храме, ее вместо него защищает сам Будда.
Тюнагон рассказал барышне о своей непрерывной тоске и беспокойстве о ней. Прислуживавшие дамы сказали ему: «Пять-шесть дней приступов не было. Но ночью госпожа по-прежнему страдает и ничего не ест, даже фруктов».
— Еще немного оставайтесь здесь и выполняйте обряды, а когда вы совсем поправитесь, я перевезу вас домой, — сказал Тюнагон. — Только мыслями о вас я могу успокоить душу, которая объята непереносимым страданием. Если вы хотите, чтобы я еще немного жил, вам надо есть, тогда ваше самочувствие станет лучше.
Тюнагон так страдал в разлуке, что ему был не мил и светлый день, ему казалось, что он не может больше жить, и ныне, глядя на прелестный облик, он беспрерывно проливал слезы. Барышня чувствовала глубокую печаль, но вокруг были незнакомые люди, которых она стеснялась, и она не могла заставить себя ответить Тюнагону. Кроме этого человека у нее не было никого, она привыкла видеть его постоянно возле себя. Видя, что Тюнагон был в таком унынии, она, закрыв лицо рукавом, заплакала. В то время и бесчувственный мужлан не мог бы смотреть на нее без слез. Тюнагон чувствовал бесконечную любовь к ней, и сердце у него болело.
Они беседовали до самого вечера. Это был двадцать первый день, и Тюнагону надо было изменить направление. Когда он собрался уезжать из храма, с гор подул прохладный ветер, на закате послышался колокол, все заставило вспомнить скит в горах. Тюнагон колебался, уезжать ему или остаться, и никак не мог уйти из храма.
— С какою печалью В горах Ёсино Ждал наступления ночи! Ныне такое же чувство Мне сердце стеснило, —сложил он.
Какая-то тяжесть томила барышню. Немного приподнявшись, она смотрела медлившему Тюнагону вслед и сложила:
— С детства привыкла К ветру, шумящему В сосен вершинах. И здесь слышу Те же я звуки.Оба они чувствовали необыкновенную любовь друг к другу, но, к несчастью, тем вечером принц Сикибукё решил осуществить свое намерение и похитить девицу. Что было дальше?
Часть пятая
1
У Тюнагона перед глазами стоял облик барышни, когда она с тоской смотрела ему вслед в храме Киёмидзу[290], и недобрые предчувствия томили его. Всю ночь он читал сутры, а на рассвете послал ей письмо. Слуга вернулся с ответом Синано: «Произошло что-то ужасное. Я в полной растерянности. Я должна вам все подробно рассказать лично». Почерк был тороплив, и некоторые знаки непонятны.
Охваченный тревогой, Тюнагон немедленно отправился в храм Киёмидзу. Прислужницы барышни горько плакали, их ужасный вид поразил Тюнагона.
— После вашего отъезда госпожа долго о чем-то думала. Она сказала «У меня нехорошо на душе». Я опасалась, не начинается ли новый приступ, и попросила монаха прочитать заклинания, но все обошлось. Госпожа легла почивать, и мы все задремали, а когда утром проснулись, оказалось, что ее нет. Что произошло — мы догадаться не можем, — рассказала Синано.
Тюнагон не знал, что думать. Вряд ли барышня могла сама куда-то скрыться. Ее, несомненно, кто-то выследил и похитил. Несомненно, тот человек был с кем-то из окружения барышни в сговоре, какая-то прислужница знала, что произошло; она решилась на злое дело и оставила барышню одну, а теперь притворяется невинной. Вид стенающих женщин стал неприятен Тюнагону. Он не мог обвинять всех, но одна или две из них, несомненно, способствовали похищению. Тюнагон сказал:
— Сколько бы вы ни твердили, что госпожа пропала, она не могла растаять в воздухе. Кто-то из вас знает, куда делась госпожа
Прислужницы ему не ответили и продолжали причитать. Так или иначе, в храме делать было нечего, и Тюнагон сказал:
— Никому об этом не рассказывайте. Исчезновение госпожи ставит меня в глупое положение. Так распорядилась судьба. Не болтайте попусту. На заре сделаем вид, что мы вместе с нею возвращаемся домой.
Он казался спокойным, но, вспоминая, как накануне барышня смотрела ему вслед, никак не мог унять тревогу и проливал слезы.
Тюнагону надрывало сердце, что Молодой господин, тоскуя и плача, зовет «Мама, мама». Тюнагон покинул храм и вернулся в деревню. Когда он увидел комнату барышни и вещи, которыми она все время пользовалась, отчаяние охватило его. Он терялся в догадках, и от этого было еще неприятнее. Если бы окружающие видели, как он страдает, они догадались бы, в чем дело, и не было бы возможности сохранить видимость, поэтому Тюнагон, как будто переселясь в деревню Беззвучная[291], старался, чтобы никто не услышал, как он плачет. Наверное, кто-то стал ухаживать за барышней и завлек ее. Кто бы это мог быть? Подозрение Тюнагона пало на принца Сикибукё и на сына регента[292]. Кто бы ни был соблазнитель, он, даже мельком увидев девицу, сразу должен был понять, что это не обычная женщина, и, похитив ее, грубо с ней не обращался. Тюнагон, страдая, сдерживал себя и плавал в омуте слез[293]; всячески стараясь расположить барышню к себе, он надеялся в конце концов обрести с ней утешение. Женщин прельщают страсти, а он показал себя человеком холодным, и она от него отвернулась. Сердце Тюнагона терзали тайные страдания; барышня, может быть, о них не догадывалась[294]. Оставаясь один. Тюнагон погружался в мрачные размышления и ревновал девицу, и ему казалось, что вот-вот умрет, а на людях он притворялся равнодушным и, когда прислужницы оплакивали исчезновение своей госпожи, говорил, как о чем-то маловажном: «Скоро мы что-нибудь услышим о ней; невозможно, чтобы мы так и не узнали, где она». Каждый день все больше удалял его от китайской императрицы, и хотя у него не оставалось надежды встретиться с ней еще раз, он надеялся обрести утешение с ее сестрой. Но ныне оборвалась связь и с барышней, и его ждали в жизни одни страдания.
Среди прислужниц барышни одна или две, без сомнения, знали, что произошло. Тюнагон набрался терпения и все время проводил за чтением сутр. Но раньше возле него находилась барышня, и, когда он громко и с душой читал священные слова, она заслушивалась, а ее рука с кистью замирала над бумагой. Ее очаровательный облик не выходил у Тюнагона из головы, и когда он невольно впадал в дремоту, барышня сразу же возникала перед ним: она горько плакала и казалась совсем слабой. Какой бы добрый человек ни увез ее к себе, первое время она не могла не мучиться. «Она, может быть, вспоминает меня», — думал Тюнагон с невольным трепетом в сердце. Грудь его была переполнена нестерпимой горечью. Ему и раньше бывало тяжело, но рядом была барышня, они проводили время вместе, плакали и смеялись, ее присутствие доставляло ему несравненное наслаждение, а ныне он будто блуждал в полном мраке, и ему казалось, что скоро умрет.
Кормилица Тюдзё, беспокоясь о его состоянии, пыталась незаметно разузнать, где находится девица.
— Дама по имени Котюдзё поступила к нам на службу недавно. Она молода и красива, и я слышала, что молоденький слуга часто приносил ей письма от сына министра, второго военачальника третьего ранга[295]. Когда госпожа затворилась в храме Киёмидзу, эта самая Котюдзё заболела и долго у нас не появлялась. Не она ли приложила руку к этому делу? — сказала она Тюнагону.
Он спокойно ответил:
— Может быть, это и так.
Тюнагон знал, что сын министра отличался своеволием и был способен на любое сумасбродство. Если бы о барышне узнал понаслышке или увидел ее во сне твердый духом святой, живущий среди скал Сё[296], смог ли бы он остаться спокойным? Что же говорить о придворных, не заботящихся о последствиях и не думающих, что о них скажут? Тюнагона терзала ревность. Как ни безумно было его желание, он хотел разыскать и вернуть барышню. Его душа, настроенная столь благочестиво, ныне была в страшном волнении. Он стремился быть непохожим на других молодых людей и вести себя мудро, но и на чужбине, и на родине из-за китайской императрицы и ее сестры он познал страшное сердечное смятение и не имел сил даже стенать. Судьба связала его с ними в предыдущих рождениях и доставила ему наслаждение и горечь.
«О чем ты горюешь? Ведь наш мир Исчезнет быстрее, Чем промчится Существованье поденки», —сложил он, но напрасны были попытки успокоить себя
2
В таком состоянии Тюнагон совсем забыл о дочери заместителя губернатора и даже не посылал ей писем. Госпожа с двенадцатого месяца была беременна и чувствовала себя плохо. В душе она была уверена, что носит ребенка от Тюнагона. Со второго месяца она иногда видела во сне, что получает от него письмо, но сам он ей не являлся. По мере того как приближались сроки рожать, муж не отходил от нее ни на миг, всячески старался облегчить ее страдания и заказывал молитвы монахам, но она не чувствовала к нему благодарности, думала об одном только Тюнагоне, который вел себя так жестоко, и мечтала встретиться с ним еще раз. Не справившись со своими чувствами, она послала ему письмо:
«Как паутинка, Нить жизни моей Готова порваться Но кто спросит, Жива я еще или нет?[297]И в мире, где я должна существовать...»[298]
Тюнагон, который позабыл обо всем на свете и в течение долгого времени не посылал госпоже ни строчки, получив письмо, раскаивался в своей черствости к ней и, охваченный воспоминаниями, ответил ей:
«Словами не вопрошаю О твоем положенье, Но нет дня, чтобы мысли Мои о тебе не текли, Как лапки паучьи, в восемь сторон»[299].Он отправился к ней. Жена заместителя губернатора находилась с дочерью в одной комнате, в доме было много народу и не было никакой возможности тайно проникнуть к госпоже. Тюнагон остался ночевать в доме генерала[300]. На рассвете начальник Дворцовой стражи поспешно покинул дом и отправился встречать верховного советника, который возвращался из храма Исиямадэра, и, воспользовавшись суматохой, Тюнагон встретился с госпожой.
Дочь заместителя губернатора всегда была стройна, но ныне живот ее стал огромен. Она страдала душой и телом. «Может быть, так же будет выглядеть неизвестно куда скрывшаяся барышня», — подумал Тюнагон, и ему было очень жаль госпожу.
— Я увидел во сне, что мне осталось недолго пребывать на этом свете, и на душе у меня стало совсем тяжело, — сказал ей Тюнагон. — Вы, наверное, об этом слышали. Я стал поститься, так что время от времени терял сознание, и мне ничего другого не оставалось, как следовать Пути Будды. Тем не менее я не забывал вас и беспокоился, как вы живете. Но если за несколько лет, что мне осталось, станет известно о наших встречах, начальник Дворцовой стражи ужаснется и нас возненавидит[301]. Обо мне говорить не будем, но вы окажетесь в крайне прискорбном положении. Думая об этом, я смирил мои чувства к вам.
Тюнагон глубоко задумался и проливал слезы; он казался спокойнее, чем обычно, и его вид болью отзывался в сердце госпожи. Она осознала, что они видятся в последний раз и что отныне ей останется только вспоминать его печальный облик. На душе у нее было мрачно, и она была ненавистна самой себе. По щекам ее струились слезы; погруженная в думы, она сосредоточенно смотрела куда-то в пустоту. В лунном свете она казалась очень красивой, и покинуть ее было тяжело. Тюнагон не сводил с нее глаз. Ночь близилась к рассвету, и он произнес:
— Если бы встречи Могли не скрывать От глаз посторонних! Как горько На рассвете прощанье!Мы непременно встретимся еще, не так торопливо, как сегодня, а спокойно, как обычно.
Он, однако, не мог уйти и сложил:
— Стократно изведал, Как горько Предутреннее расставанье. Но сердце по-прежнему Блуждает во мраке.Тюнагон, глубоко задумавшись о заместителе губернатора, возвращался к себе в усадьбу. Проезжая мимо дома прежней жены начальника Дворцовой стражи, он услышал неясные звуки цитры. «Какая прекрасная музыка!» — подумал Тюнагон. Он вспомнил, как в ночь въезда дочери заместителя губернатора к начальнику Дворцовой стражи госпожа сказала прислуживающим дамам: «Если бы плачем можно было удержать!» Его слова глубоко запечатлелись у него в сердце. Госпожа была дочерью принца Соти и связана родственными узами с исчезнувшей барышней. Вспомнив об этом, Тюнагон не мог удержаться от желания взглянуть на нее. Он приблизился к ограде и, скрытый предутренним туманом, заглянул в дом. Госпожа, подняв занавеси, глядела на светлеющее небо и играла на цитре. Красивое лицо ее было задумчиво, она не думала, что ее кто-то видит. Ясно рассмотреть ее было невозможно, черты казались довольно тонкими, удлиненное лицо должно было быть белым, но о сравнении с барышней из Миёсино, ее единокровной сестрой, не могло быть и речи. Тюнагон был обманут в своих ожиданиях. У дяди были основания предпочесть ей дочь заместителя губернатора. Однако, хотя новая жена, которую он только что с такой мукой покинул, была красивее, смотрящая вдаль и погруженная в задумчивость госпожа была хороша, манеры ее изысканны, и звуки цитры были великолепны. Если бы Тюнагон любил госпожу, он никогда бы не оставил ее в месте, похожем на поле, заросшее дикими травами. Дядя был переменчив и искал, где лучше, но как он мог оставить жену в таких жалких условиях? Охваченный жалостью, Тюнагон никак не мог покинуть дом, заросший травой, и сложил:
«Ни один цветок Не сравнить с мурасаки, Из-за него Мне мила трава, Что выросла рядом»[302].3
«Покойный принц Соти дал своей дочери безупречное воспитание и, наверное, мечтал видеть ее императрицей, — размышлял Тюнагон. — Но даже для начальника Дворцовой стражи она недостаточно красива. Госпожа оказалась связанной родственными узами с монахиней из Миёсино, о чем никто не догадывается, но она не была похожа ни на одну из ее дочерей. Монахиня была необыкновенной красавицей, — этим все и объясняется». Не надо говорить, что Тюнагон постоянно думал о китайской императрице, в то же время мысли об исчезнувшей барышне не давали ему покоя. Даму Котюдзё девица отличала больше других прислужниц и сблизилась с ней. Тюнагон пригласил ее к себе и спросил:
— Приносили ли госпоже письма от мужчины?
— Когда вас не было, ей приносили письма. Но как могла я узнать, от кого они? — ответила Котюдзё.
Тюнагон видел, что она убивалась о барышне больше, чем другие дамы. Он так и не узнал, от кого приходили письма, и стал искать среди вещей барышни, но кроме картинок, которые она рисовала, и стихов, которые она сочиняла, никаких бумаг не обнаружил.
Весной, когда опадали вишни, она сложила:
«В цветочной столице С вишен цветущих Сыплются лепестки. В горах Ёсино так с небес Падает снег». «Мечтой уношусь От цветочной столицы. В далеком Миёсино Снег на дорогах, Верно, уж тает».Однажды, когда она находилась в храме, Тюнагон не мог навестить ее и прислал ей письмо: «Чувствуете ли вы себя сегодня хоть немного лучше? Я очень беспокоюсь о вас и не нахожу себе места. Из жалости ко мне съешьте немного из того, что готовят вам прислужницы. Как бы я радовался, если бы вам стало немного лучше!» Было ли это письмо ей приятно? Сбоку она приписала:
«Не раз и не два Земную юдоль Хотела покинуть, Лишь мысль о тебе Меня удержала. Моя жизнь эфемерна, как росинка».Находя утешение в сочинении стихов, она сложила:
«Над Торибэ-полем Дымом костра поднявшись, Разве смогу Даже среди облаков Забыть о тебе?»[303]Стихов такого рода было несколько; было видно, что девица испытывала к Тюнагону глубокую любовь. У молодого человека от слез потемнело в глазах. Первое время барышня стеснялась и робела его, но у нее больше никого не осталось, она полностью зависела от Тюнагона и постепенно привыкла к нему. Они чувствовали друг к другу любовь. Долгими вечерами она ждала его и радовалась его появлению. Вытирая слезы, Тюнагон снова и снова читал написанные ею строки. После того как он перевез ее из Миёсино, она мало-помалу изучила его почерк, и хотя иероглифы были очень похожи, писала она изящнее, как и подобало женщине. Во всем она превосходила других дам, и, когда он думал, что такая совершенная красавица отныне принадлежит другому, от горьких сожалений не находил себе места.
Светила яркая луна, и шум ветра навевал печаль. Погруженный в думы Тюнагон не мог сдержать тоски, вспоминая, как в такие ночи они вместе любовались луной и задушевно беседовали.
«Если барышню на самом деле похитил второй военачальник третьего ранга, на луну сегодня она не смотрит. Роскошно разодетая, она лежит, тесно прижимаясь к военачальнику. Женщина должна быть покорна мужчине; другого обращения он не знает», — ни о чем другом Тюнагон не мог думать. «Я тоскую, вспоминая о ней, а она и не догадывается, что я сейчас один смотрю на луну». От таких дум на сердце у Тюнагона становилось тяжело. Он сложил:
«Никто обо мне Ныне не вспомнит. В небе высоком Над старой деревней Спокойное сиянье. Проснувшись, вижу покрытую инеем землю»[304].Он невольно задремал. Императрица из Хэян, в том наряде, в каком он видел ее на празднике хризантем, приблизилась к нему и сказала:
— Я вняла вашим мольбам о том, чтобы нам возродиться в одной стране. Срок моей жизни на земле завершился, и я некоторое время нахожусь на небесах. Но я глубоко люблю вас и возрожусь ребенком той, участь которой вы оплакиваете[305]. Я особенно почитаю часть «Лотосовой сутры», посвященной Царю-врачевателю[306], но мы оба чувствуем друг к другу такую сильную любовь, что я опять возрожусь женщиной.
Тюнагон, заливаясь слезами, открыл глаза — это был сон. Ему нестерпимо захотелось встретиться с императрицей, и он плакал наяву так горько, что мог уплыть в море слез. Тюнагон не понимал значения виденного. «Не может быть, чтобы это все было пустым сном. Значит, императрица на самом деле покинула этот мир», — думал он. Он молился, чтобы после смерти возродился возле императрицы, но не мог представить себе, что такое безупречное существо, как она, похожее на сияние мира, может снова быть обречено на земное существование.
Рассвело. Тюнагон заказал монахам в различных храмах читать сутры, сам более усердно, чем обычно, выполнял обряды и молился, но он не верил, что еще раз в этом мире встретится с императрицей.
Барышня, которая взволновала его сердце, по велению судьбы связала жизнь с другим. У него болела душа, он испытывал непереносимые сожаления; он никогда не думал, что барышня станет женой другого. У кого она сейчас? Никто, кроме него, не знал, кто она. Может быть, он узнает, где она находится, что из этого? Она стала женой другого, и муж, обращаясь с ней ласково, разговаривая с ней дружелюбно, в конце концов расположил ее к себе. Может быть, время от времени у нее и щемит сердце, но муж, всячески заботясь о ней, заставляет примириться с новым положением
Ни о чем другом Тюнагон не мог думать; с тех пор как увидел во сне императрицу, он все больше и больше беспокоился о барышне и проводил ночи до рассвета, размышляя о ней.
Тем временем дочь заместителя губернатора без особых мучений родила мальчика. Тюнагону рассказали, что и начальник Дворцовой стражи, и его отец, генерал, были донельзя довольны. Он с грустью вспоминал свое прощание с госпожой в ту ночь, на рассвете, и думал, что она чувствует себя несчастной. Муж ее всячески заботился о младенце. Тюнагон поздравил его, как подобает родственнику, и преподнес великолепные подарки, а госпоже тайно послал одежду для сына и письмо:
«Иль ты забыла, С кем тебя в прошлых мирах Соединила судьба? Ночи минувшей Сон драгоценный».Госпожа была крайне смущена и не знала, что написать. Прошло семь дней после родов, она не бралась за кисть; отвечать на стихотворение Тюнагона ей было стыдно. Нельзя было поручить дело никому другому. Кроме того, ее приводили в отчаяние сомнения: догадывается ли Тюнагон, что это его ребенок? Наконец, чуть касаясь кистью бумаги, она ответила ему довольно бессвязно:
«Нежданно напомнил О ночи, как сон, улетевшей. Судьба в этом мире Приготовила мне Лишь горькую участь».Душа у нее была в разброде, она не осознавала, сон или явь все, что происходит вокруг нее, но сынок был воспоминанием о ее любви, и она чувствовала к нему беспредельную нежность.
4
Неожиданно скончался наследник престола, и на его место должен был быть назначен принц Сикибукё[307]. Император сурово увещевал его:
— Совершенно недопустимо, чтобы вы продолжали жить, как жили до сих пор, частным образом, гоняясь за плотскими удовольствиями.
С седьмого месяца принц находился в покоях в императорском дворце[308], и у него не было возможности тайно встречаться с барышней из Миёсино, поэтому он распорядился, чтобы ее перевезли в императорский дворец. Он поселил ее в Павильоне сливы и приставил к ней прислуживающих дам. Представив девицу как свою наложницу, принц надеялся, что она не привлечет к себе внимания.
После того как Тюнагон покинул ее в храме Киёмидзу, барышня долго смотрела ему вслед. Она была погружена в мрачные думы, чувствовала себя плохо, и ее мучила неясная тревога. Когда она крепко заснула, ей на голову набросили одежду, укутали и куда-то понесли. Барышня поначалу подумала, что на нее напал злой дух, что все это сон, но, когда ее положили в экипаж, запряженный волами, и тронулись с места, она очнулась и в страхе спрашивала себя, что с ней происходит. Она потеряла сознание, и дыхание ее готово было прерваться. Принц подумал, что она перепугана, не зная, кто он, и пожалел ее.
— Вы, наверное, слышали обо мне. Я принц Сикибукё, — сказал он.
Тюнагон часто говорил ей о нем, и новость не должна была удивить ее, но Тюнагон настойчиво предостерегал: «Если принц и будет приглашать вас к себе, вы не должны отвечать ему». Услышав имя принца, она пришла в ужас. Ее мучила одна мысль: «Что подумает Тюнагон, когда узнает об этом?»
После нескольких месяцев болезни барышня была очень слаба, а от упорных дум, что теперь ей положиться не на кого, ей стало совсем плохо, и душа ее была готова покинуть тело. Принцу при этом она казалась в тысячу раз привлекательней, чем когда он ее мельком увидел, вблизи она была необыкновенно хороша[309].
Принц рыскал повсюду в поисках любовных приключений, и часто до него доходили слухи, что такая-то необыкновенно хороша собой, но обычно оказывалось, что безобразной женщина не была, но не была и так прекрасна, как можно было представить. Барышня же была великолепна. Лицо ее не нагримировано; волосы не расчесаны, но не было ни одного запутавшегося волоска, они спускались по спине, как льющаяся вода, и ложились на полу, как раскрытый веер. В ее бесподобной фигуре нельзя было отыскать ни малейшего изъяна. Лицо было залито слезами, и она пребывала в таком состоянии, что нельзя было сказать, жива она или нет, тем не менее она казалась небожительницей, спустившейся на землю, — перед такой красотой можно было только от изумления разинуть рот. Принц был уверен, что для Тюнагона барышня была «бухтой Токо»[310], но когда убедился, что к ней еще не прикасался ни один мужчина, он пришел в недоумение. Сам он с красавицами напрасно времени не терял и с утра до вечера оставался с ними в своей спальне. А Тюнагон с барышней клятвами не обменялся! Хоть и говорили, что он Будда и святой, можно ли было представить что-то подобное? Принц слышал, как малыш называл барышню мамой, и не понимал, в чем же дело. Неужели там была другая женщина, которую любил Тюнагон, так похожая на барышню, как будто она была ее сестра? Неужели он принял одну за другую? Он сам привык во всем видеть любовные связи и решил, что барышня, без сомнения, была сестрой возлюбленной Тюнагона. Но при всем том принц чувствовал, что другой женщины быть не могло. Следя за домом в деревне, он понимал, что между Тюнагоном и женщиной была какая-то преграда. Хоть он видел издали и мельком, ему было ясно, что женщина — несравненная красавица; и ныне, предполагая, что тогда он ясно не мог разглядеть и похитил одну вместо другой, он говорил себе, что в природе не может существовать вторая такая красавица и что он не выбрал худшую из двух.
Сердце, которое до тех пор колебалось между многими женщинами, неожиданно захватила любовь к одной. Принц в страхе думал: «Неужели она покинет этот мир?» Он ни на шаг не отходил от нее, то утешал, то укорял, то клялся в вечной любви, но она думала только об одном: «Знает ли Тюнагон, что стало со мной? Он часто говорил, что я отдам сердце принцу и он увезет меня. Так оно и произошло. Теперь Тюнагон думает, что я поступила жестоко по отношению к нему, и презирает меня. А может быть, он еще ничего не знает и гадает, куда я пропала. Он говорил мне с глубокой убежденностью: "Если бы я не мог проводить с вами каждый день, я бы умер". А сейчас прошло уже столько дней, и его, наверное, уже нет на свете». Мысль была, конечно, ребяческая. Барышня была в таком унынии, что не пила даже горячей воды, и казалось, что жизнь ее растает, как пена на воде. Принц всячески утешал ее, проникновенно говорил о своей глубокой любви, но она никакого внимания на него не обращала и слов его не воспринимала. Когда она забывалась кратким сном, ей казалось, что возле нее Тюнагон. Она открывала глаза — другой мужчина проливал слезы, приближался к ней и ложился возле нее. Барышня впала в бред, надежды на выздоровление не оставалось. Принц был в совершенной растерянности. Имев дело со множеством женщин, он был готов к тому, что поначалу девица будет плакать, но такого он не мог предполагать никогда. Принц все надеялся, что ее состояние улучшится и она воспрянет духом, но барышня день ото дня слабела, и силы к ней не возвращались. Он старался, чтобы о ней никто не знал, а у него самого ныне не было никакой возможности помочь ей. Он думал, что будды и боги, разгневавшись на его безудержное женолюбие, послали барышню ему в наказание.
Приближалось время официального провозглашения принца наследником престола. Все с нетерпением ждали этого важного события. В десятом месяце дочь регента прошла обряд надевания шлейфа, она должна была въехать во дворец наследника, и в доме отца шла к этому подготовка. Но принц о ней вовсе не думал. Он решил, что, если барышня умрет, он сам, не говоря никому ни слова, скроется в горах Ёсино и будет жить отшельником. Какое значение имел для него ранг правителя страны? Если барышня умрет, он последует за ней. Он не брал в рот даже сластей, был подавлен так же, как она, и не поднимался с постели.
Его кормилица понимала, в чем дело, но, поскольку отношения с барышней хранились в строгой тайне, не могла даже посоветоваться с кем-либо и только смотрела на его страдания. Здоровье принца настолько ухудшилось, что император забеспокоился: «Не злой ли дух напал на него?» Стали служить молебны, во дворце царила тревога. Кормилица принца сказала ему:
— Поскольку даже вы так страдаете, то, несмотря на ваши старания держать все в секрете, история с этой дамой станет известна. Все это чрезвычайно неудобно, особенно в такое время, когда вас должны провозгласить наследником престола. Вы должны успокоиться сердцем. В ее доме, наверное, стараются разузнать о ней. Не лучше ли вызвать ее родственника, чтобы он ее утешил?
Совет кормилицы был в высшей степени разумен. «Действительно, не страдает ли она так ужасно оттого, что возле нее нет никого из близких?» — подумал принц. Он наклонился к больной и сказал, заливаясь слезами:
— Я все жду, что не сегодня завтра ваши страдания немного утихнут и что вы развеетесь, но ваша болезнь только обостряется. Это меня очень беспокоит. За какие прегрешения в предыдущих рождениях Будда так сурово наказывает меня? У меня так тяжело на душе, что я готов скрыться в каких угодно горах и стать отшельником, только бы не видеть печальных последствий[311]. Но, покинув мир, я оставил бы вас на произвол судьбы, — этого я сделать не могу. Я хотел бы дать знать вашим родственникам, которые позаботились бы о вас. Скажите, к кому мне обратиться?
Барышня услышала его. Все те месяцы[312] она хотела умереть, чтобы Тюнагон не узнал, что она стала женой другого. Когда Тюнагон найдет заросшую травой могилу, как бы он на нее ни сердился, он вряд ли будет плохо вспоминать о ней. Может быть, за это время его гнев утихнет. Она была так слаба, что, казалось, вот-вот покинет этот мир. Совершенно не представляя, где она и что с ней будет, ей хотелось еще раз увидеть Тюнагона. Лишившись защиты матери, на которую привыкла полагаться, она осталась одна-одинешенька и обречена была блуждать по свету, если бы Тюнагон, питая глубокие чувства, не взял на себя заботу о ней. Ей было больно умереть, так и не увидевшись с ним. Поэтому, когда она услышала слова принца, она не могла сдержать своего желания и прерывающимся голосом произнесла: «Скажите второму советнику».
В течение нескольких месяцев принц все время заговаривал с барышней, но ни разу, даже во сне, не слышал от нее ни одного слова. Ее голос был очень слаб, но манера говорить была благородна и мила, полностью соответствовала ее облику и очаровала принца.
— Я хочу как можно скорее сообщить ему. Но вторых советников много. Кого именно вы имеете в виду? Советника Минамото?— сказал он.
Она была в таком состоянии, что непонятно было, жива она или мертва, и ничего не отвечала.
— Кем вам приходится этот человек? Прежде чем говорить с ним, я хотел бы знать, в каких отношениях вы с ним находитесь, — допытывался принц, но барышня не отвечала и угасала, как тает падающий на воду снег
Принц колебался. Тюнагон не был связан с барышней брачными узами, но на пороге смерти она желала видеть именно его. Что все-таки было между ними? Ее не смущало, что станет думать Тюнагон, когда узнает, что она жена другого. Если бы она обменялась с ним клятвами, она не захотела бы увидеться с ним. Дело было в чем-то ином. Принц написал Тюнагону: «Я должен поговорить с Вами о срочном деле, обязательно придите ко мне».
Он послал письмо с доверенным слугой.
— Второй советник Минамото вот уже несколько месяцев не показывается во дворце. Разыщите его и передайте ему не через людей, а лично, что я хочу переговорить с ним сегодня же о важном деле. Приведите его с собой не медля, — распорядился принц.
Слуга, с почтением выслушав его, отправился на поиски.
5
Тюнагон, находясь в собственной усадьбе и терзаемый беспокойством о девице, подумал: «По крайней мере бамбуковый плетень там, где она жила[313], будет воспоминанием о ней», и переехал в деревню. Стоял девятый месяц. Трава и листья на деревьях перед домом засохли, вид мрачного вечернего неба усиливал тоску. Колосья мисканта качались на ветру и, казалось, манили к себе. При взгляде на них у Тюнагона учащенно забилось сердце, и он сложил:
«В старом доме Под ветром мискант Трепещет и манит, Как хозяйки рукав, Что ныне исчезла».Тюнагон вошел в дом и направился в комнату барышни. Когда она находилась там, блеск ее красоты озарял все вокруг, а ныне Тюнагон уныло обводил помещение глазами. Он чувствовал, как усиливалась его любовь. Молодой господин, тоскуя, спрашивал: «Когда вернется мама? Я хочу поехать за ней в храм Киёмидзу». У Тюнагона при этом становилось еще тяжелее на душе. Разве могла барышня бесследно исчезнуть? Не может быть, чтобы ее уже не было в живых. Он должен узнать, где она находится. У кого бы она ни была, только с Тюнагоном ее связывали нерасторжимые узы. Не разыскал ли ее кто-то, знавший барышню прежде? Но о ней знал только отшельник из Миёсино, только ему было известно, куда уехала барышня. Кто мог бы сомневаться, что Тюнагон, который увез ее с собой, является ее защитником и мужем? Пусть кто-то похитил ее, в каком бы положении она ни была, Тюнагон хотел по-прежнему заботиться о ней, быть возле нее и в этом находить утешение. Не толкнул ли ее к другому злой дух? Она отдалась какому-то мужчине, обменялась с ним клятвами, а он клевещет на него, Тюнагона, говорит, что он бесчестный человек. Эта мысль была непереносима. Но вряд ли она со своим простодушным характером могла ему поверить. Да и ее похититель вряд ли мог иметь на нее такое влияние.
Шло время Тюнагон ни о чем другом не мог думать. Однажды вечером он сидел, погруженный в свои обычные размышления, и к нему явился слуга принца Сикибукё.
— Я должен вам что-то сообщить, — сказал он.
Тюнагон удивленно спросил, в чем дело, и слуга сказал:
— Господин приказал передать вам это письмо и привести вас к нему. Дело не терпит отлагательств.
Тюнагон в раздумье склонил голову: «С седьмого месяца я чувствую себя плохо и, поскольку особенных дел не было, никуда не выхожу. У принца я долго не был. Почему он специально приглашает меня к себе?»
— Где сейчас принц? — спросил он.
— Во дворце, — ответил слуга.
Тюнагон отправил слугу назад, велев передать, что скоро придет. Он спрашивал себя, что понадобилось принцу, и к вечеру отправился к нему. Тот принял гостя в помещении, где их никто не мог слышать.
— Узнав, о чем речь, вы решите, что я безумен. Я и сам понимаю, что, поступив неразумно, нельзя избежать наказания. Делать нечего, я должен во всем признаться. Вот уже несколько месяцев у меня находится женщина, заботу о которой я, не обдумав последствий, взял на себя. Она очень страдает. Когда женщина неожиданно против воли вступает в отношения с мужчиной, некоторое время она горюет, но постепенно к нему привыкает и понимает, что теперь уже делать нечего. Я все это испытал много раз. Но в данном случае дело обстоит иначе. С первого дня, как мы встретились, до сей поры она не дышит, не шевелится и лежит, как мертвая. Прошло много времени, и я все думал: «Вряд ли такое положение будет длиться долго. Через некоторое время она примирится, как все». Но она больше и больше слабела, дыхание ее прерывалось. Я решил известить ее близких, но не знал, откуда она. Трудно знать что-либо определенно о людях. Однако нельзя допустить, чтобы она так вот умерла. Посторонних в такое дело посвящать нельзя. Я подумал, что, если найду ее родственников, может быть, она перед кончиной успокоится, хотя и побаиваюсь, что потом родственники будут жаловаться и возникнут неприятности. Вот в каком безвыходном положении я очутился. Я настойчиво спрашивал у нее: «С кем вы хотели бы поговорить? Кого мне разыскать?» Наконец прерывистым голосом она произнесла: «Скажите второму советнику». Советников несколько, я хотел узнать, кого именно она имеет в виду. «Это советник Минамото?» — спросил я, и она еле заметно кивнула головой. Я боюсь, что вы, узнав обо всем, разгневаетесь, но она должна быть вам известна. Находясь между жизнью и смертью, теряя сознание, она пожелала видеть вас. Я не могу больше скрывать такое дело и послал за вами, — рассказал принц, проливая слезы.
Было видно, что он глубоко скорбит.
Тюнагон слышал, что в течение нескольких месяцев принц был не здоров и что ныне он живет во дворце. Он подозревал, что барышню увез второй военачальник третьего ранга. Услышав неожиданное признание, он не поверил своим ушам. Его тронуло до глубины души, что барышня, находясь в таком тяжелом состоянии, захотела известить его. Некоторое время он не мог успокоиться. Принц ничего не знал о барышне. Он обнаружил «бухту Токо», где, скрываясь от людских глаз, жила барышня, и, улучив удобный момент, увез, как сам Тюнагон увез ее из Миёсино. Однако принц не предполагал, что барышня не знала мужчины, и не понимал, в чем же дело. Она же чувствовала, что судьба неразрывно связала ее с Тюнагоном, и попросила сообщить ему о себе. Теперь принц не думал, что его отношения с барышней поверхностны. Наконец Тюнагон сказал:
— Когда я был в Китае, Третий принц рассказывал о своей прошлой жизни в нашей стране, как будто глядя в зеркало[314]: «Я тогда посещал дочь принца Канцукэ, и у нее родилась дочь. Девочка была очень красива. Мать, однако, обидевшись на меня, скрылась неизвестно куда, взяв с собой ребенка. Больше мы не виделись. Возродившись в Китае, я все время с сожалением думаю о моей дочери. Если вы меня не забудете, разыщите эту девицу и, если она жива, возьмите на себя заботу о ней». Возвратившись на родину, я начал поиски и узнал, что мать, отрекшись от мира, живет в Миёсино. Я стал навещать ее. Прошлой зимой она скончалась, и дочь осталась без какой-либо помощи. Мог ли я оставить ее жить среди снегов? Я перевез девицу в столицу, но тайны никому не открыл. Это дочь моего отца, и я заботился о ней. Все это время я, человек незначительный, думал, как устроить ее судьбу. В пятом месяце она заболела, болезнь долго ее не отпускала, и я перевез ее в храм Киёмидзу, но здоровье ее не поправлялось, она слабела с каждым днем. Мне жаль, что вы увидели ее в таком состоянии. Я-то думал показать ее вам, когда она немного привыкнет к столице.
Рассказ Тюнагона не вызвал у принца ни малейшего недоверия. «Так вот почему он заботился о ней и не обменялся с ней клятвами!» — подумал он. Как ни странно, принц даже нашел, что барышня и Тюнагон похожи друг на друга. Раньше, досадуя, что такую великолепную красавицу отыскал не он, а Тюнагон, принц злился на него, а ныне эти чувства совершенно исчезли, и принц, успокоившись, поспешно ввел Тюнагона в комнату больной.
Рядом с барышней находились две прислуживающих дамы, которые, увидев Тюнагона, поспешно скрылись. Принц приблизился к жене и сказал:
— Это второй советник. Вы узнаете его?
Она, казалось, не дышала. Тюнагон увидел пышные волосы, а тело ее страшно исхудало, и можно было подумать, что под одеждой ничего нет. Он был в крайнем волнении.
— Подойдите ближе, — сказал ему принц.
Тюнагон приблизился к постели, поднял одежду, которой была накрыта барышня, и взглянул ей в лицо. Она ничего не различала и казалась умершей. Наклонившись к ней, он несколько раз повторил: «Я пришел к вам. Вы узнаете меня?» Она подняла к нему глаза, и по ее щекам полились слезы. Увидев ее исхудавшее лицо, Тюнагон был так испуган, что у него потемнело в глазах и ему было трудно сдерживать свое отчаяние, но нельзя было пугать барышню, и он как можно спокойнее сказал:
— Я не догадывался, что вы так больны. Вы совершенно измучены. Мы не можем знать, что с нами произойдет, но вам не следует оставаться здесь. Сегодня ночью я увезу вас с собой.
Он распорядился об отъезде. Принц не произносил ни слова и лил слезы.
— Все это произошло из-за моего легкомыслия Мне не избежать возмездия, — сказал он на прощание.
— Все предопределено в предыдущих рождениях. Не стоит мучить себя за содеянное, — ответил ему Тюнагон и вышел из комнаты.
Он отправил слугу домой с наказом, чтобы Синано немедленно приехала во дворец. Нельзя было увезти барышню и не дать принцу видеться с ней, но во дворце у Тюнагона не было возможности помочь барышне, и даже молебны о выздоровлении лучше было провести в более спокойном месте. Вскоре ему доложили, что Синано прибыла, и Тюнагон двинулся к выходу с барышней, стараясь никому не попадаться на глаза, а когда принц хотел последовать за ними, сказал ему:
— Если вы поедете с нами, это станет всем известно. Вы должны быть провозглашены наследником престола, и различные толки могут повредить вам. Не беспокойтесь о ней. Сейчас вам нельзя сопровождать ее.
Он настойчиво уговаривал принца остаться. Взяв барышню на руки, Тюнагон вышел из помещения. Он вспомнил слова отшельника перед отъездом из Миёсино, и грудь его сдавила печаль. Вот каким образом сбылись опасения святого! Тюнагону было горше, чем тогда, когда она исчезла из храма неизвестно куда. Дома он внес барышню в комнату. Когда слуги их покинули, Тюнагон приблизил светильник к постели и стал рассматривать барышню. Она так ослабела и исхудала, что напоминала тень и была непохожа на самое себя, — казалось, коснись, и она переломится. Сознание ее затуманилось, дыхание было готово вот-вот прерваться. Тюнагон был испуган. Он вызвал монахов, которые находились в его усадьбе, и велел им читать сутры и молитвы о выздоровлении. Сам он безудержно плакал и спрашивал себя, какая судьба связала его с сестрой китайской императрицы, что из-за нее он так страдает, что сердце его готово разбиться.
Принц Сикибукё, беспокоясь о том, как Тюнагон довез барышню, не находил себе места. Надев скромное платье, чтобы не привлекать внимания, он покинул дворец и приехал к Тюнагону. Тот изумился его визиту и проводил к барышне. В обычное время он должен был бы встретить принца с подобающими почестями, но сейчас было не до формальностей. Тюнагон и принц, проливая слезы, до рассвета сидели возле больной.
Принц ни на мгновение не отходил от барышни, но он должен был думать о своей репутации, и Тюнагон всячески успокаивал его и убеждал возвратиться во дворец. Молодой человек думал, что, когда барышня поправиться, он сам будет заботиться о ней, как ему будет угодно, а тогда у него, как и у принца, от слез темнело в глазах. Едва рассвело, он сразу же велел начинать молебен.
Отшельник удалился в горы Ёсино десять лет назад и с тех пор ни разу не приезжал в столицу. Тюнагон настойчиво просил его прибыть к нему в усадьбу. Он ему подробно обо всем рассказал. Крайне изумленный, отшельник приблизился к изголовью барышни. Мать ее в прошлом, настоящем и будущем мирах во всем полагалась только на него одного и просила молиться о дочери. Для нее барышня была обузой, и для того, чтобы монахиня могла возродиться в Чистой земле, он много лет просил Будду, чтобы появился человек, который взял бы на себя заботу о барышне. Вспоминая о том времени, отшельник торжественно начал читать «Лотосовую сутру».
Находясь на пороге смерти, барышня все-таки узнала его. Она не верила, что слышит отшельника наяву, и из глаз ее хлынули слезы. Тюнагон обрадовался этим признакам жизни.
— Сейчас вы должны были бы первым делом выполнить обряды очищения по поводу окончания траура по вашей матушке, — сказал ей Тюнагон, — но когда я обнаружил, что вы так серьезно больны, я забыл обо всем на свете. Сейчас время для очищения неподходящее. Потерпите некоторое время, и, когда вы окрепнете, надо будет поспешить с обрядом.
Барышня не могла вспомнить, когда кончился траур, но, слушая слова Тюнагона, подумала, что, должно быть, это так и есть. Она была как во сне и, закрыв лицо рукавом, лила слезы. Тюнагон радовался, что к ней возвращается сознание. Он велел монахам продолжать молитвы и заказал службы за здравие в различных храмах.
6
Каждый день с наступлением темноты принц Сикибукё приезжал к Тюнагону и возвращался во дворец на рассвете. Дни он проводил в тревоге о барышне и ничем не мог заниматься. Принц забыл всех своих жен, и они горько жаловались на постигшую их участь. Как ни старался принц скрыть, что, забросив обязанности, он проводил ночи в усадьбе Тюнагона, ухаживая за барышней и с жаром молясь Будде о ее выздоровлении, долго этого сохранить в тайне было нельзя. Генерал и его жена знали давно, что Тюнагон тайно заботиться о какой-то девице, что она куда-то исчезла, а он, безрезультатно разыскивая ее, был очень удручен; потом им стали рассказывать, что принц Сикибукё каждую ночь является к Тюнагону, вместе с ним стенает и ухаживает за больной. Так утка не может скрыться в мелком пруду[315]. Генерал с женой, не зная, в чем дело, стали расспрашивать Тюнагона. После того как он рассказал принцу невероятную историю, ему ничего не оставалось, как ее повторить. У его отца было множество приключений. Он любил свою жену, но то и дело тайно отправлялся к какой-нибудь даме. Поэтому мать Тюнагона поверила услышанному и удивилась, почему сын ей ничего до сих пор не рассказывал.
Что же касается жены принца, младшей дочери генерала, то отец и мачеха обычно говорили ей: «Принц знает, что все вас очень любят, когда до него дойдет, что все вам сочувствуют, он, вероятно, изменит свое поведение»[316]. Нака-но кими, конечно, не могла задавать мужу вопросов о его ночных посещениях и делала вид, что вообще ничего не слышала о них, а генерал с женой, услышав, что незнакомка совершенно свела принца с ума, бесконечно ее жалели.
За все время после похищения барышни из храма Тюнагон не посетил ни одной женщины и в тоске как будто блуждал в беспредельном небе, а барышня приходила в отчаяние, думая: «Тюнагон уверен, что я по своей воле покинула его», днем и ночью плакала, не смотрела даже на горячую воду и была в таком состоянии, что душа ее не держалась в теле. Но в усадьбе Тюнагона, где ее окружали знакомые ей люди, она постепенно успокоилась, и самочувствие ее немного улучшилось. Положенный предел ее жизни был еще далек, барышня чувствовала, что возвращается к жизни, и хота она была еще слаба, можно было надеяться на ее выздоровление.
И принц, и Тюнагон донельзя радовались перемене. Принц все время жаловался, что ему невыносимо трудно не видеть барышню, и с нетерпением ждал ее окончательного выздоровления. Барышне были неприятны постоянные посещения принца, и она ничего не отвечала на его слова. Когда она находилась в полузабытьи, присутствие рядом Тюнагона как будто вселяло в нее силы. По мере того как к ней возвращалось сознание, она понимала, что ее положение именно таково, как когда-то предупреждал Тюнагон, и ей становилось стыдно. Когда она задумывалась об этом, ей казалось, что снова впадает в болезнь.
С большим тщанием приготовился Тюнагон к поминальной службе в годовщину смерти монахини: помещение для церемонии было заново обставлено, сшиты одежды для участников. Ничего не было упущено.
Барышня была убеждена, что Тюнагона к ее матери послал сам Будда. Когда она находилась на пороге смерти, Тюнагон входил в ее комнату. Обычно возле нее при этом сидела одна Косёсё[317]. Увидев его, барышня закрывала лицо рукавом.
— Почему вы скрываете от меня лицо? Неужели вы думаете, что я вам чужой человек? Или вам неприятно меня видеть? Ныне, избрав другого, вы отводите мне незначительное место возле себя, но я по-прежнему люблю вас, и мне досадно, что вы изменились ко мне, — укорял он ее и старался убрать рукав с ее лица.
Упорствовать и закутываться в одежду было бы неприлично, но ей было мучительно стыдно. Немного приподнявшись, она отворачивалась от Тюнагона. Нечего и говорить, она все еще была очень слаба. Он рассказывал ей, как страдал в разлуке, начиная с того вечера, когда они расстались в храме Киёмидзу и он поехал домой; как мучился, не зная, куда она скрылась; как решил умереть, если не найдет ее. Он хотел немного успокоить ее и открыл, что было у него на сердце. Плача и гладя ее волосы, он рассказал, что китайская императрица явилась ему во сне.
— Я совсем не думал вновь увидеть вас, — сказал он. —
Не суждено было клятвам В нашей жизни сбыться. Но мы поклялись Встретиться вновь В будущем мире.Лицо Тюнагона было залито слезами. Барышня не отводила глаз, но ничего не говорила. Прижимая к лицу рукав, она орошала его слезами. Глубоко взволнованный, Тюнагон склонился к ней и сказал:
— Сейчас делать нечего. Как дым для выжигания соли[318], вы склонились не туда куда хотели. Все произошло не по вашему собственному желанию. Печальные события, о которых я скорблю без отдыха, произошли не из-за вашей неосторожности. Когда я услышал, что вас похитил принц и вы находитесь в недостижимом дворце, я был в таком отчаянии, что чуть не умер. Вы были в безнадежном состоянии и решили, что обязательно должны дать мне знать о себе. Поэтому принц разыскал меня. Это ваше желание будет моим самым радостным воспоминанием об этом мире, о нем я никогда не забуду даже в последующих рождениях. До самой кончины я хочу, не жалея жизни, заботиться о вас. Я ни в чем не нахожу покоя. Мое сердце не нашло успокоения даже тогда, когда я отправился в Китай. С вами меня связывают такие тесные узы, что я не могу отринуть существование, которое является препятствием на пути к Просветлению.
После долгого молчания прерывающимся голосом она произнесла:
— Долго блуждала И через гору Сидэ Перевалить не смогла: Все ожидала, Что отыщешь меня[319].В этих словах она полностью открыла перед ним свое сердце, высказала свою любовь и сожаление, что он так долго не мог найти ее. От ее неожиданного признания его недовольство полностью рассеялось.
— Если вы хоть немного чувствуете ко мне любовь, выздоравливайте поскорее. Тогда вы утешите меня в страданиях, которые терзают меня в течение нескольких месяцев, — сказал он, плача.
Он заботился о ней и утешал ее. Барышня старалась взять себя в руки, чтобы не огорчать Тюнагона, и телесно чувствовала себя лучше, но духом — неизвестно, по какой причине — была по-прежнему угнетена и казалась росинкой, которая непременно исчезнет, как только дохнет на нее ветер. Тюнагон не переставал беспокоиться о ней.
Принц Сикибукё по ночам тайно навещал барышню. Раньше он оставался подле нее и днем и ночью, и этого ему было мало. Когда он не видел ее, его любовь и беспокойство только возрастали. Приближалось время провозглашения его наследником престола. Однако зная, что после того он не сможет отлучаться из дворца и видеть барышню, он не ощущал никакой радости. Он объявил, что должен поститься, и упорно не хотел никого видеть. Плача, он говорил барышне:
— Никто не будет любить вас больше, чем я. Ради вас я готов расстаться с жизнью. Если меня разлучат с вами, я не выдержу существования.
Отношение Тюнагона к барышне было таким мягким и сердечным, и она видела в нем своего единственного защитника; о принце же она думала с горечью и спрашивала себя: «Как я буду появляться перед ним, когда он будет вознесен на недосягаемую высоту? Я стала его женой, потому что так было велено судьбой и душа повлекла меня к нему»[320]. Барышня все больше и больше стыдилась самое себя, а Тюнагону она представлялась деликатной и нежной, и он уже не проливал таких слез, как раньше, и не страшился за ее жизнь. Сознание возвращалось к ней, и надежда на выздоровление становилась определеннее. Когда приезжал принц, она больше не поворачивалась к нему спиной, но вела себя очень дружелюбно. Он пылал страстью и, когда не видел барышню, раздражался и спрашивал себя, как он сможет жить в разлуке. И Тюнагон, и барышня жалели его, но Тюнагон знал, что, если принц снова увезет ее к себе, сам он будет испытывать такие муки ревности, что в последующих рождениях очутится в аду и будет страдать в пламени и дыму. Он старался всячески быть полезным, приставил к барышне таких прислуживающих дам, что даже принц удивился, насколько они великолепны. Ему такая забота казалась необычайной и глубоко трогала его.
Когда на рассвете принц должен был возвращаться во дворец, он никак не мог покинуть барышню, рукава его одежды были мокры от слез, и ему казалось, что он отправляется от нее не во дворец, а в далекий Китай. Однажды он сложил:
— Верю, что вечно Будет длиться Наша любовь. Но почему так печалит Миг краткий разлуки?Барышня все более и более привыкала к принцу и неожиданно для себя оказалась в затруднительном положении: принц становился нетерпеливее и настойчивее, она сама была несчастна, когда была разлучена с Тюнагоном, но при этом до некоторой степени сочувствовала мужу. Она ответила:
— Слова о вечной любви Долго в мире пребудут. А обо мне только роса На придорожной могиле напомнит, В которой истлею.Когда принц, утирая рукавами горькие слезы, покидал ее, она, казалось, относилась к нему доверительно и разделяла его чувства. Принц, полный признательности, забывал обо всем прочем и повторял про себя: «И если я не смогу видеться с тобой...»[321]
7
Все радостно поздравляли принца с назначением его наследником престола, и только он сам в душе был не весел. Он распорядился назначить Тюнагона главой Ведомства двора наследника престола. Придворные удивились: было много людей более близких к принцу, чем второй советник, а кроме того, Тюнагон вообще редко посещал принца[322], но поскольку он своими способностями превосходил окружающих, все, не зная подробностей отношений его и принца, примирились с назначением.
Наступила середина одиннадцатого месяца. После проведения обряда надевания шлейфа дочь верховного советника в ту же ночь с большой помпой въехала во дворец наследника престола. Церемония была проведена с необычайной роскошью, избранницу сопровождало пятьдесят дам, восемь молоденьких прислужниц и восемь низших служанок. Никто не мог соперничать с ней в великолепии одежд. Дочери советника было тринадцать лет; она блистала молодостью, была довольно полна и обещала стать великолепной красавицей. Волосы у нее были очень густые, но не достигали пола, когда она выпрямлялась во весь рост. Все в семье баловали девицу, но она выросла невинной и простодушной и совсем не была кичлива. В ней не было ни малейшего изъяна, но наследник престола так любил барышню из Миёсино и так страдал в разлуке с ней, что появление в его покоях дочери советника его не взволновало и не утешило. Весь день напролет он сочинял барышне письма. Он распорядился, чтобы кормилица, которая с самого начала ухаживала за барышней, оставалась в ее покоях. Принц не отпускал от себя Тюнагона, советовался с ним и просил втайне от всех привезти барышню во дворец. Он ни о чем другом не думал и очень страдал. Но как могла барышня прибыть во дворец? У наследника престола кроме дочери советника уже проживала дочь генерала[323], и ввезти туда барышню было бы неразумно. Ныне наследник престола не мог поступать так легкомысленно, как в свое время, когда увез ее из храма Киёмидзу. Он сам понимал, что пока резоннее об этом не думать, и был в отчаянии. Принц распорядился поселить во дворце дам, которые ранее проживали у него в доме; те из них, у кого были надежные покровители, с восторгом приняли приглашение, но многие, не имевшие поддержки, с сожалением вернулись в отчий дом.
Когда барышня узнала о дамах, которые собрались во дворце наследника, она поняла, что ей незачем стремиться туда. Некоторое время ее тешили надежды, непрочные, как сон, но ныне она все мысли о вторичном переезде к принцу отбросила и не обращала никакого внимания на его страстные послания. Ее жизнь представлялась ей существованием поденки[324], и у нее не хватало духу думать, что с ней станет.
Начиная с девятого месяца барышня чувствовала сильные приступы тошноты, но их приписывали ее общему состоянию, пока не заметили, что живот ее увеличился.
Услышав об этом, Тюнагон почувствовал разочарование и досаду оттого, что не он обменялся с барышней клятвами, но, вспомнив о пророчестве, полученном во сне, о возрождении китайской императрицы, от переполнивших его чувств он не мог сдержать слез. Пока никто не знал о барышне, она могла жить в скромном жилище кормилицы вдали от столицы, но после того, как стало известно, что Тюнагон отыскал единокровную сестру, надо было заботиться о престиже семьи. Кроме того, когда барышня жила в деревне, Тюнагон постоянно ездил туда и обратно, он не мог оставаться спокойным, не видя один или два дня Ооикими или барышню. Ныне же можно было открыто поселить барышню в усадьбе.
В восточной части дома были великолепно убраны помещения для самой барышни, галереи и помещения для прислуживающих дам. Молодой господин не отходил от барышни ни на шаг, поэтому в усадьбу переехала кормилица Тюдзё, которая воспитывала ребенка и которой было поручено ухаживать за барышней. Комнаты были просторны и красиво обставлены, и все удобно расположились на новом месте.
Мать Тюнагона думала: «До сих пор я не знала, что у покойного мужа была дочь. Я и сейчас сомневаюсь». Она сказала Тюнагону, что хочет встретиться с девицей. Больше было невозможно скрывать ее, и Тюнагон ответил:
— Прекрасно. Вы с давних пор сетовали, что у вас нет дочери, вот вы и получили ее.
Барышня очень стеснялась предстать перед госпожой, и сердце ее замирало, но ей ничего не оставалось, как во всем слушаться Тюнагона и выдавать себя за его сестру. Комната была достаточно освещена, и мать могла хорошо разглядеть прибывшую. Зная, как Тюнагон заботился о ней, мать не сомневалась, что она хороша собой, но ей и в голову не приходило, что барышня столь прекрасна.
— У меня есть единственный сын, но у мужчин своя жизнь, и он не может проводить все время со мной. Меня всегда это печалило, и я сожалела, что у меня нет дочери. Я жалею, что не узнала о вас раньше. Вы будете для меня родной дочерью. Не считайте меня чужой, — обратилась она к барышне сердечно.
Та отвечала очень спокойно, ее сдержанная речь и манеры изумили жену генерала. «Как превосходно она воспитана!» — думала она.
Дочери генерала были великолепные красавицы. Его жена считала, что Ооикими краше своей сестры, но и ее нельзя было сравнить с девицей из Миёсино. «Недаром она так понравилась наследнику престола, — думала мать Тюнагона. — Однако ныне, когда он забыл ее, и она оказалась в весьма плачевном положении». Женщины встречались каждый день, разговаривали откровенно и совершенно сблизились. Жена генерала просила барышню поиграть ей на кото и, слушая ее, не замечала, как тлело топорище[325]. Госпожа часто засиживалась у барышни, приводила с собой дочь Тюнагона; барышня, несмотря на свое недомогание, подолгу играла с девочкой, и на душе у нее становилось легче. Она встречалась и с монахиней, которая, увидев ее впервые, в изумлении подумала: «Какая безупречная красавица! Недаром Тюнагон так сильно полюбил ее». Мать Тюнагона была умудрена годами, и барышня невольно смущалась перед ней, а с монахиней было иначе. В лунном свете фигура монахини была неясной. По ее сдержанным манерам было сразу видно, что это монахиня. Ее умиротворенный облик, молодость и изящество произвели сильное впечатление на барышню. Ранее по разговорам она не могла представить, что Ооикими столь необыкновенно хороша собой. Она понимала, почему Тюнагон, несмотря на ее постриг, навсегда оставил ее в своем доме. Думая о красавице, которая, совершив проступок, приняла монашество, барышня завидовала ее решимости и проливала слезы. В откровенных разговорах женщины облегчали душу. Когда Тюнагон смотрел на них, сидящих рядом, ему казалось, что они взаимно освещают друг друга. Нельзя было сказать, кто из них лучше, и Тюнагон приходил в изумление, видя, насколько безупречна внешность у обеих. Монахиня, к которой он за столько времени пригляделся, в своем монашеском платье ничем не уступала изысканно разодетой барышне. Только китайскую императрицу было невозможно с кем-либо сравнить, она была совершенно безупречна, и он, вспоминая о ней, не чувствовал никакого интереса к другим женщинам и проливал слезы по поводу ее кончины.
Пока барышня жила в деревне, Тюнагон не приближался к ней с любовными признаниями. После ее переезда в усадьбу, глядя, как она и монахиня проводили вместе все время в спокойных разговорах, он радовался. С давних пор он мечтал: «Если бы у меня была младшая сестра, я бы с наслаждением заботился о ней, мог бы видеть ее днем и ночью, по-братски беседовал с ней и отвлекался бы от своих печальных и скучных дел». Тяжело вздыхая, он завидовал тем, у кого были сестры-красавицы. Но вот у него в доме появилась барышня, о которой он заботился, а он по-прежнему чувствовал томление. Если бы даже барышня и не была столь красива, он не мог бы остаться спокойным, а заботясь непрестанно о столь совершенной красавице, он думал: «(...)»[326]
С монахиней, во всем полагавшейся на него, Тюнагон чувствовал себя совершенно свободно, но она не могла быть ему женой; а видеть днем и ночью перед собой барышню и воздерживаться от близких отношений было мучительно, и его страдания с каждым днем увеличивались. Теперь он мог бы не сдерживать своих чувств. Наследник престола не оставил ее, но Тюнагон мог бы перевалить через Заставу встреч[327]. Однако все, и родственники и посторонние, были убеждены, что барышня — дочь покойного главы Палаты обрядов; как бы он ни скрывал их любовь, рано или поздно дело обнаружилось бы, и все решили бы, что это преступная связь людей, связанных кровными узами; о нем пошла бы слава как о грязном развратнике, попиравшем незыблемые устои. О покрыл бы себя позором, ничего более постыдного быть не могло. Многие отдавали жизнь за свидание с любимой[328]. К чему тогда было заботиться о репутации и обращать внимание на молву? Вопреки голосу рассудка Тюнагон и барышня все более привыкали друг к другу, близость между ними все возрастала, однако, если бы Тюнагон поддался своему желанию, ее неутихающие душевные страдания только усугубились бы, да и его душа не обрела бы покоя. Не совладай он со своими чувствами — подвергся бы нареканиям со всех сторон. Однажды, не вытерпев, Тюнагон сказал ей о том, что было у него на сердце, но барышня сделала вид, что не понимает, о чем речь. Она во всем доверяла и полностью зависела от Тюнагона, и было бы грешно воспользоваться таким положением. Он продолжил признания, барышня горько зарыдала, и дыхание ее готово было прерваться. Тюнагон и сам был готов к этому; он страстно любил китайскую императрицу и непрестанно заботился о ее сестре, обе они взволновали его сердце, судьба связала его с обеими и заставила печалиться и страдать. Раньше, когда о ней никто не знал, барышня была готова пойти навстречу желаниям Тюнагона, но после того, как он представил ее как сестру, она не могла относиться к нему иначе. При воспоминании о годах, проведенных среди снегов, ей казалось, что она возродилась в раю. Тюнагон наедине с ней начинал плакать, упрекать ее, говорить, как изболелась его душа. Если бы речь шла о чем-то другом, она, не задумываясь, пожертвовала бы собой, но ныне она хотела, чтобы у Тюнагона не возникало таких греховных желаний. Она хотела скрыться в глухих горах, где ее никто не мог бы отыскать. Покинуть усадьбу было невозможно, и поэтому она предупредила прислуживающих дам: «Господин говорил, чтобы здесь всегда находились прислужницы, он считал, что возле меня мало народу. Поэтому не оставляйте меня одну». Они считали, что из-за беременности она испытывает тревогу и хочет, чтобы ее всегда окружали. У Тюнагона не оставалось возможности, таясь от посторонних взоров, признаваться в любви. Тюнагон не знал ни мгновения покоя, грудь его теснило, но у него и мысли не возникало поступить безрассудно и силой овладеть ею. Он всегда думал: «Пусть меня разобьют на тысячу кусков, но нельзя, чтобы на нее упала хоть одна пылинка». Барышня знала об этом и полагалась на его благородство. Она понимала, что происходит в его душе. Оба они страдали, и положение их было далеко не простым.
Барышня часто погружалась в мрачные размышления, чувствовала себя плохо и не поднималась с постели. Она была очень слаба и несчастна, и Тюнагон в тревоге спрашивал себя, что с ней будет. Со страхом вспоминал он слова отшельника из Миёсино и заказывал молитвы в храмах о благополучном разрешении. Наследник престола тоже был обеспокоен состоянием барышни, хотел знать, как она себя чувствует, и велел служить молебны за ее здравие. Он распорядился, чтобы кормилица, которая с самого начала ухаживала за барышней, неотлучно находилась при ней. Непрерывным дождем сыпались от него письма, тысячу раз на дню приходили посыльные. Он не посвящал посторонних в это дело. Наследник престола был, совершенно в духе времени, заядлым ловеласом и порхал от одной женщины к другой, однако к барышне он испытывал сильное чувство. Если бы он оставил барышню, Тюнагон с радостью принял бы ее на свое попечение, но ее сердце было бы разбито. И как не отклоняется в сторону веревка, намазанная тушью[329], так Тюнагон ни о чем другом не думал, кроме будущего барышни. Год подошел к концу.
8
В тот год из Китая прибыло много народа. Когда Тюнагон услышал об этом, сердце его забилось. Он получил письмо от императорского советника, в свое время провожавшего его до Цукуси. Он сообщил о печальных событиях, которые нашли глубокий отклик в душе Тюнагона:
«В шестнадцатый день третьего месяца прошлого года скончалась императрица, которая освещала мир своим блеском. Страна погрузилась в траур, император отрекся от престола, принял постриг и удалился на гору Куньлунь[330]. Престол перешел к наследнику, государственными делами занимается Первая императрица. Наследником престола назначен Третий принц. Первый министр хотел отправить на службу к императору свою пятую дочь и впоследствии сделать ее императрицей, но она сбрила волосы, надела черную одежду и удалилась в глухие горы. Она оставила письмо:
«Забыть не могу Того, кто наши края Навечно покинул. К чему украшать прическу Нефритовой шпилькой?»Когда Тюнагон прочитал это, он вспомнил предсказание, полученное во сне. Глаза его затуманились, ему казалось, что душа его покидает, и он уплыл в море слез.
Дворец в Мацура
Часть первая
1
В те далекие времена, когда столица находилась в Фудзивара[331], жил на свете Татибана Фуюки, имевший третий старший ранг[332] и занимавший одновременно две должности, старшего государственного советника и генерала Дворцовой стражи. Он был женат на принцессе Асука[333], и у них был единственный сын, который был красивее других детей и поражал своими знаниями и способностями. Не только отец, но все при дворе императора в один голос расхваливали его и пророчили, что он будет светочем эпохи.
В семь лет мальчуган овладел различными науками и превосходно сочинял китайские стихи[334]. Услышав о нем, государь заинтересовался: «Такой ребенок не может стать заурядным человеком» — и велел привести к нему мальчика, решив испытать его способности. Тот без колебаний написал прекрасное сочинение на предложенную тему Сын Фуюки начал изучать музыку и очень быстро превзошел своих учителей, превосходно исполнял самые трудные произведения и без посторонней помощи проник в их сокровенный смысл.
В двенадцать лет над ним в присутствии императора был выполнен обряд надевания головного убора взрослых, он получил имя Удзитада и был назначен на службу в императорский дворец. Целыми днями император играл вместе с ним на музыкальных инструментах.
Удзитада был очень умен и основательно изучил многие предметы. Он стремительно продвигался по службе, в шестнадцать лет получил пятый младший ранг и был назначен младшим помощником главы Палаты обрядов, младшим ревизором Правой канцелярии[335] и младшим военачальником Дворцовой стражи. Отец со страхом смотрел, как его сыну присваивали высокие ранги и давали должности, ведь это было его единственное чадо[336]. Всякий раз, когда Удзитада получал повышение, при дворе говорили только о нем, расточали похвалы только ему. Было ли обычным такое положение?
Щедро одаренный красотой и талантами, Удзитада не проводил время в погоне за любовными наслаждениями, как другие молодые люди в свете. Он усердно служил во дворце и все свободное время посвящал учению. Все, начиная с императора, считали его не по годам взрослым и серьезным юношей. Но он знал, что такое сердечные муки: с детских лет он задумал так или иначе получить в жены принцессу Каннаби, дочь императрицы[337], несравненную красавицу. Даже тем, кто не стремился к победам над женщинами, было суждено в ранней молодости изведать любовные страдания.
Стоял девятый месяц. Праздник любования хризантемами[338] окончился, и вечером придворные покинули дворец. «Не представится ли случай увидеть принцессу?» — подумал Удзитада и направился во дворец императрицы.
Государыня, сидя на веранде, любовалась картиной осеннего сада. Юноша был своим человеком в ее дворце, и при виде его она не скрылась в задних покоях. В глубине помещения принцесса Каннаби наигрывала на лютне, и, увидя ее, молодой человек почувствовал сердечное волнение. Сидевшая неподалеку от принцессы дама Дзёо спросила:
— Разве праздник уже окончился? Мы вас не ждали.
Удзитада, не отвечая ей, написал:
«В саду государя осени холод Красит белые хризантемы. Ужель ты не знаешь, Что сердце мое Безудержно к ним стремится?»[339]Выбрав самую красивую хризантему, он вместе со стихотворением продвинул ее за занавесь. Принцесса, не смущаясь, прочитала написанное и еле слышно произнесла:
— С холодами в саду государя Становятся краше Белые хризантемы. Но дозволено ль рвать их Неверному сердцу?Принцесса была очень дорога сердцу юноши. Он все еще не уходил и стал с наслаждением играть на флейте. Удзитада сидел, опираясь спиной на балюстраду, и был так великолепен, что ни одна женщина, даже дочь императора, не могла бы остаться к нему равнодушной. Он был в бледно-фиолетовой верхней одежде на синей подкладке, в темно-красных шароварах на такой же синей подкладке и в красной накидке; одежды его были пропитаны редкими ароматами, на поясе висел меч. Казалось, что такого великолепного парадного костюма нигде больше не увидишь
Ветер усилился, с деревьев посыпались последние листья, между голыми ветвями было видно, как восходит луна. Помещения дворца были наполнены чарующим ароматом «черных благовоний»[340]. Принцесса Каннаби еще не понимала, что такое любовь, но она часто видела Удзитада во дворце и отдавала себе отчет, что он был красивее всех других. Она, конечно, не вступала с ним в разговор и только еле слышным голосом отвечала на его слова.
Было поздно. Удзитада любил слушать, как принцесса играет на кото, и стал настойчиво просить ее сесть за инструмент. В середине пьесы он, наклонившись вперед, неожиданно схватил ее руку.
— Дни и ночи сменяют друг друга, Но нет конца Горьким мыслям моим. Если есть смерть от любви, То я, несомненно, так и умру[341], —прошептал он.
Он не мог сдержать слез, и рукава его одежд сразу стали мокрыми. Принцесса, испугавшись и смущаясь, что дамы все видят, попыталась скрыться в глубине, но юноша не отпускал ее руку, и она не могла сдвинуться с места. Она недружелюбно произнесла:
— Какой долгожитель Увидел хоть раз, Что кто-то, сыпя словами, На самом деле Угас от любви?От такой жестокости Удзитада показалось, что он вот-вот умрет, но постарался скрыть свое отчаяние. Всю долгую ночь юноша провел в сетованиях
«Долгую ночь провел В ожиданьях напрасных И на рассвете домой Бреду в платье промокшем — От росы иль от слез?»[342]Подобные стихи повторял он про себя вновь и вновь. Удзитада был похож на того, кто в слезах не желает назвать дорогое имя[343]; принцесса, видя, как глубока его любовь, почувствовала жалость и сложила:
«Если утром росистым На улицах имя мое Повторять не станешь, Разве смогу Тебя я забыть?»В глубокой тоске Удзитада возвратился домой и лег в постель, но глаз сомкнуть он не мог. Рано утром он послал на имя дамы Дзёо письмо:
«Вчера впервые мое печальное будущее ясно предстало перед моим взором. До сего времени жизнь доставляла мне радость. Моя любовь только усиливается, как в тысячу рядов встают в море волны[344], но в то же время я с горечью думаю, как непрочен наш мир[345]. Представьте сами мое состояние.
Знаю, тайну не скрыть, Если вырвется пламя наружу, Но скорбь не сдержать, И от вздохов моих Все ярче пылает костер»[346].Когда принцесса прочитала послание, ей стало жалко молодого человека, и она написала в ответ стихотворение:
«Вижу, что вздохи твои Сгорели дотла, Как поленья в костре. И сама я готова Мир этот покинуть».Удзитада страдал все сильнее, и его подавленное состояние бросалось в глаза. Генерал сказал жене:
— Почему он до такой степени погружен в уныние? Мужчина не должен ронять себя и обнаруживать своих чувств, даже менее сильных, чем у него. Его служебное положение превосходно, его осыпают почестями. Почему же он так мрачен? Странно! Его считают спустившимся на землю небожителем. Видя, как он задумчив, я начинаю тревожиться. Скажите мне откровенно, что вы думаете по этому поводу.
Принцесса смущенно ответила:
— Что я могу вам сказать? К чему неразумному дитяти давать советы взрослому человеку? В отношении Удзитада я еще более чем обычно полагаюсь на ваше суждение.
Зная, как сильно любят его родители, Удзитада испытывал к ним глубокую почтительность, но в то время он думал лишь о том, как приблизиться к принцессе Каннаби, и очень горевал.
«Любовь все сильнее горит, И страдаю я пуще, Чем горные птицы, Которых навек разделили Распростертые горы», —сложил он.
Юноша проводил время в думах: «Если бы я мог еще раз увидеть ее, как увидел после праздника любования хризантемами! Тогда бы страдания мои утихли».
Тем временем было решено, что принцесса Каннаби станет супругой императора. Государь уже давно упрашивал императрицу, мать принцессы, отдать дочь ему в жены. Императрица не могла отказать государю и в менее важных делах; поэтому она стала усердно готовиться к церемонии въезда Каннаби в покои императора. Удзитада пришел в отчаяние. В ночи, когда сияла яркая луна, глядя в одиночестве на безоблачное небо, он в задумчивости бормотал стихи:
— Как воздух пуст, Который осветила, Из-за горы поднявшись, Осенняя луна, Так и любовь пуста...[347]Ныне рядом с дочерью постоянно находилась императрица, и дама Дзёо не могла передать принцессе даже его невинные письма.
«Тяжелые запоры, Бамбуковый плетень Без щелочки единой... И даже ветру В покои не проникнуть»[348], —сложил в унынии Удзитада. Он был непрестанно погружен в печаль и ни о чем, кроме своей любви к принцессе, не мог и думать.
2
На следующий год снаряжалось посольство в страну Тан[349], и он был назначен помощником посла. Родители его были в страшном горе, но для посольств всегда выбирали самых выдающихся мужей, и нельзя было воспротивиться назначению. Сам Удзитада был чрезвычайно подавлен и проливал кровавые слезы. Все шло не так, как он хотел. Принцесса Каннаби въехала в покои императора. Видя и слыша, как беспредельно любил и холил государь свою супругу, Удзитада был безутешен и изливал свое горе в следующих стихах:
«О чем теперь тосковать? В далеком краю Морокоси Среди облаков исчезнув, От мучений любви Найду исцеленье»[350].Конечно, лучше было разом прекратить ставшую невыносимой службу во дворце и уплыть в далекий Китай, но при мысли, что он не будет видеть родителей и ничего не знать о принцессе Каннаби, у него на душе становилось тяжело.
Настал день отплытия. Послом был назначен советник санги Абэ Сэкимаро, бывший одновременно старшим помощником главы Палаты обрядов. Для отправления в Китай были избраны выдающиеся ученые-книжники и разного рода мастера. Они были испытаны в науках и искусствах, и Удзитада во всем был первым. Государь подумал, что это действительно выдающийся человек, и весной того года, когда юноше исполнилось семнадцать лет, присвоил ему пятый старший ранг нижней ступени.
Для отъезжающих в столице устраивались прощальные пиры. Всю ночь до рассвета собравшиеся сочиняли китайские стихи. Перед отплытием Удзитада тайно доставили письмо от принцессы Каннаби:
«Сквозь тысячу рядов Высоких волн В далекий край тебя сопровождая, Пусть поскорей домой Душа моя с тобой вернется»[351].После ее въезда к императору он не думал, что когда-нибудь получит от нее слова привета, и, увидев письмо, заплакал кровавыми слезами. Посланец от принцессы, воспользовавшись царившей суматохой, скрылся, и Удзитада послал на имя дамы Дзёо письмо со слугой, который оставался на родине:
«Если твоя душа, Нитью жизни моей обладая. Со мной отправится в путь, Средь тысяч рядов грозных волн Она меня сохранит»[352].Генерал собирался проводить сына до бухты Нанива, а жена его сказала:
— Японские боги защищают только нашу страну, их власть не распространяется на тех, кто отправляется в Китай. Как они оставят Удзитада на границе?
Год назад она распорядилась построить для нее дворец на горе в Мацура[353].
— Оттуда я буду смотреть на далекое небо в Китае и ждать возвращения Удзитада. Смерть приходит одинаково к старым и к малым, наш сын отправляется в дальнее плавание, и если мне не суждено увидеть его еще раз, пусть тело мое останется в той бухте, где осталась размахивающая шарфом дева[354], — сказала она, отправляясь в отстроенный дворец.
Император не отпускал генерала надолго из столицы, но тот настойчиво просил: «Хочу посмотреть, как устроится моя жена на новом месте», и ему было разрешено поехать вместе с ней. В пути ничего особенного не произошло. Дул попутный ветер, и двадцатого дня третьего месяца корабли прибыли на Цукуси.
Поскольку с посольством прибыл генерал, принц Соти[355] устроил торжественный пир, на котором исполняли музыку и сочиняли стихи. На Цукуси путешественники провели несколько дней, и отплытие в Китаи было назначено на середину четвертого месяца. Давно уже, глядя на море, по которому неизвестно куда должен был плыть ее сын, принцесса Асука погружалась в печальные думы. Ныне, слабея сердцем и проливая слезы, она сложила:
— Отныне все думы За ним в далекий предел, Где солнца закат. Здесь в Мацура буду Ждать его возвращения.Генерал ответил ей:
— Здесь будешь ждать Корабля возвращенья Из Морокоси, А я в далекой столице Один в тоске изнывать...Как ни хотел генерал остаться с женой в Мацура, он должен был в срок возвратиться в столицу. Удзитада на прощанье с родителями сложил:
— За морем широким, За грядой облаков, В далеком пределе Все мысли будут стремиться К бухте, где сосны растут[356].Великолепные, не похожие на обыкновенные корабли отчалили от пристани и скоро казались не больше древесных листьев. До тех пор, пока они совершенно не растаяли вдали среди облаков и тумана, мать Удзитада в неизбывной печали, подняв занавеси, смотрела им вслед. Генерал был подавлен. Он беспокоился о жене, жалел ее, и ему было трудно оставить ее одну далеко от дома, но он никогда не отлучался из дворца на столь долгий срок, и император, чего доброго, будет недоволен, поэтому через семь дней генерал возвратился в столицу. Расставанье супругов было печальным. Генерал сложил на прощанье:
— За какие грехи Судьба меня покарала, Что, с сыном расставшись, Должен в жизни впервые Тебя я покинуть?Госпожа ответила ему:
— Горше, чем смерть, Думы о том, Что несу наказанье За неведомый грех В прошлых мирах.Она заплакала и стала утирать слезы рукавом. Генерал всячески утешал жену и наконец пустился в путь. На душе у него было донельзя уныло. С женой генерал знал в жизни много радостного и светлого, а отныне его ждала в жизни одна печаль, и, погруженный в мрачные думы, он горько плакал.
В тот год генералу исполнилось сорок шесть лет. Он был в расцвете сил, чрезвычайно красив. Он не был франтом, но его одежды — затканные узорами бледно-фиолетовые шаровары, светло-зеленая верхняя одежда, бледно-фиолетовое и красное платья — были очень красивы. Принцессе было тридцать четыре года. Она была в белом верхнем платье, надетом на два: бледно-фиолетовое и светло-зеленое. Сочетание цветов было самым обычным, но на ней одежда всегда производила изысканное впечатление.
3
Удзитада все оборачивался назад, в родную сторону, и оставался печален. С письмом принцессы Каннаби он не расставался.
«Не оттого ли, Что душу свою Со мной ты послала, Твой милый облик По волнам рядом плывет?»[357] «Достигнет ли берега, В беспредельном просторе Пену волн разрезая, Неведомый путь Стремящий корабль?» —сложил он.
Посол думал о своей молодой жене и детях, оставленных в Японии, и, проливая старческие слезы, сложил:
«Не та ли луна, Что над Микаса-горой В храме я видел, Явилась сюда, Чтобы нас проводить?»[358]Мореплавателей не застигли ни дожди, ни сильные ветры, чего они страшились, и через семь дней корабли благополучно прибыли в Китай. Путешественники увидели бухту, окруженную причудливой формы скалами. Первую ночь они провели в месте Мин-чжоу[359]. Там они попросили известить императора, что прибыло посольство из Японии. Их встретили чиновники. Прием был любезен, на пирах хозяева и гости сочиняли стихи и исполняли музыку. Все было ново для японцев, даже голоса китайцев и чириканье птиц. Необычные впечатления отвлекали от тщетных дум, и путешественники немного утешились. Но часто они глядели на море; между ними и их родиной плескались синие волны, на небе в несколько слоев висели облака, и сердцами овладевала тоска. У Удзитада перед глазами стояли лица его близких и по щекам непрерывно струились слезы. Китайцы смотрели на молодого человека с глубокой жалостью и старались любезно отвлечь его от грустных дум, от которых он по ночам орошал слезами изголовье. Посол обменивался с хозяевами стихами, китайцы находили их замечательными и думали, что путники прибыли из страны, где процветает культура.
Вскоре японцы получили разрешение императора явиться в столицу[360]. Они двигались по широким равнинам, переправлялись через многоводные реки, переваливали по непроходимым тропам через крутые горы. В пятом месяце пошли дожди, от падающих струй было невозможно укрыться. Наконец японцы прибыли в китайскую столицу.
В то время страной мудро правил император Вэнь. Ему было за тридцать. Он принял послов во дворце Вэйян. Прибывшие под звуки торжественной музыки двигались между рядами стражников и чиновников в парадных одеждах. Все члены посольства были выдающимися мужами, никто из них не посрамил чести своей страны. Один за другим они сочиняли стихи, обнаруживая незаурядные способности. Нечего и говорить, что таланты Удзитада поразили императора. Он также отметил замечательную внешность молодого человека.
— Сколько ему лет? — спросил государь.
— Семнадцать, — ответил глава посольства
— Какой выдающийся таланту такого юноши! — восхищался император.
Молодость и красота Удзитада расположили к нему государя, и он распорядился поселить японца недалеко от своих покоев и обставить жилище с всевозможной роскошью. Каждое утро государь призывал Удзитада к себе, испытывал его в различных науках и рассуждал с ним на различные темы. Во всем молодой японец обнаруживал необыкновенные познания, и в Китае не было никого, кто бы мог с ним сравниться. Многие придворные были настроены к Удзитада недоброжелательно, но, видя милости к нему императора, скрывали свои чувства под маской любезности и старались всячески быть ему полезными. Тем не менее министры и другие важные сановники и в письменной форме, и устно выражали неодобрение, что монарх ведет столь доверительные беседы с иноземцем: «С тех пор как государь взял на себя дела Поднебесной, он прислушивается к мнению различных людей, даже к словам простых косарей и горных жителей, и правление осуществляется так же гладко, как шест входит в воду. Однако государь приблизил к себе человека, прибывшего из далекой страны и годами еще незрелого, и это не служит к украшению его царствования».
На подобные увещания император не обращал ни малейшего внимания.
— Цзинь Жиди, служивший у ханьского императора У-ди, не был уроженцем нашей страны[361]. Возвышать людей надо на основании их внешности и способностей, — отвечал он.
Он все более и более приближал к себе юношу, к чему придворные относились с подозрением. Красота и многочисленные таланты Удзитада были столь необыкновенными, что император с восхищением всячески благоволил ему. Он с глубоким интересом беседовал с приезжим на различные темы, спрашивал о значении стихов, и хотя после приезда японцев прошло не так уж много времени, государь чувствовал, как непомерно расширились его познания. Когда к императору приводили его малолетнего сына, он настаивал, чтобы Удзитада оставался с ними; государь хотел, чтобы принц и молодой японец поближе познакомились друг с другом. Придворные этого вовсе не понимали.
Бывало, что и император в недоумении качал головой. Он призывал множество удивительных танцовщиц, подобных роскошным цветам и исполнявших чудесную музыку, лучших красавиц своей страны и предлагал Удзитада выбрать из них, кого он пожелает, но тот и на родине отличался благонравием, и вид прелестных женщин не возмущал его спокойствия. «Неужели в той стране все так серьезны?» — изумлялся император. Он относился к молодому человеку сердечно, но Удзитада видел, что нравы в Китае были довольно грубые, малейшая оплошность обязательно каралась как тяжелая ошибка. Поэтому он вел себя осторожно и проводил ночи в одиночестве.
Наступила осень.
4
В тринадцатую ночь восьмого месяца на безоблачном небе появилась яркая луна и залила своим блеском тридцать шесть императорских дворцов[362]. В ту ночь государь не устраивал пиршества, и в крепости было тихо. Стража бдительно несла охрану, строго допрашивала входящих и выходящих, и ни одна живая душа не могла войти во дворец, минуя ее.
Удзитада, как всегда один, без дел лежал в своей комнате. Мысли его уносились далеко затри тысячи верст[363] к родным местам, и тоска его не утихала. В сопровождении всего лишь двух слуг он покинул жилище и поскакал куда глаза глядят. Бескрайняя равнина была покрыта известными и неизвестными ему пестрыми цветами. Вдалеке можно было видеть, как в набегающих на берег морских волнах отражалось ночное светило[364]. Удзитада погонял лошадь. Луна сияла так ярко, что было светло, как днем. Далеко разносился шум ветра в соснах. На вершине уходящей в небо горы Удзитада увидел высокую башню, в ней кто-то играл на цине[365]. Звуки музыки завораживали, Удзитада направил коня в ту сторону, остановился у каменной лестницы, спешился и стал подниматься к башне. Лестница казалась бесконечной. Вершина горы была покрыта белым песком, на ней стояла простая башня, с южной стороны обращенная к далекому морю. Вокруг не было ни души. В воздухе реяли чистые звуки циня, и было ясно, что музыкант— непревзойденный мастер. Удзитада захотелось запомнить исполняемое произведение. Его страшило, что он заехал в такое безлюдное место, но он приблизился к башне. Музыкант не предполагал, что кто-то придет к нему. Это был изможденный старец, лет около восьмидесяти, седой как лунь, благородного вида. Думая, что совершенно один, он, нахлобучив на голову шапку и положив возле себя кисть, в чистом лунном сиянии играл на цине.
У входа на башню стоял табурет, Удзитада сел на него и стал слушать. Сердце его все более и более очищалось, по щекам катились слезы. Старец не видел его и красивым голосом запел, аккомпанируя себе на цине. Такого прекрасного исполнения Удзитада никогда не слышал. Музыкант заметил юношу, но не удивился его присутствию; он ничего не сказал. Удзитада сосредоточенно внимал очищающим сердце звукам. Время приближалось к рассвету.
Когда луна начал а садиться, старец спрятал инструмент в лежавший рядом мешок, взял посох, который находился у ограды, и спустился с башни. Молодой человек очень искусно изложил в стихах, как он явился на звуки циня и как всю ночь слушал музыку[366]. Он произнес их как будто про себя. Услышав его, старец остановился на лестнице и немедленно ответил стихами, которые имели следующий смысл: «Оставив службу, я живу на этой башне и любуюсь луной. Я очень рад, что увидел необыкновенную красоту пришельца из Японии». Удзитада хотел научиться у старца мастерству игры на цине, он снова обратился к виртуозу в стихах. Старец ответил ему тоже стихами, а потом сказал:
— Прежде чем я узнал ваше имя и услышал вас, я знал, что этой ночью нам суждено здесь встретиться. Вы расстались с отцом и матерью и прибыли в нашу страну, потому что вам назначено судьбой распространить в Японии искусство игры на цине[367]. Наша встреча тоже предопределена в предыдущих мирах. Семьдесят три года я играю в этой стране на цине. В свое время благодаря игре на цине я получил высокие должности и ранги и знал время небывалого процветания, но из-за игры на нем я также подвергся несправедливым наказаниям и испытал невыразимую печаль. В конце концов я стал высшей опорой государства, помощником наследника трона и правителем провинции Хэнань[368]. Ныне я состарился и одряхлел, мне трудно и сидеть, и стоять. Из-за немощей я отказался от своих должностей, наслаждаюсь покоем и вот уже четыре года прихожу в эту башню любоваться луной. Осенью, когда в небесах сияет яркая луна, и весной, когда цветут вишни, я игрой на цине успокаиваю сердце, и мне кажется, что жизнь моя продлевается. В современном мире никто не может сравниться с принцессой Хуаян[369] в глубоком понимании музыки для этого инструмента. От нее вы узнаете секреты мастерства. В восьмом и девятом месяцах во время полнолуния принцесса уединяется на горе Шаншань[370] и играет на цине. Ей всего лишь двадцать лет, она младше меня на шестьдесят три года. Она женщина, но училась игре на этом инструменте в предыдущих мирах, а в нашем мире достигла внутреннего просветления и под руководством магов-волшебников достигла необыкновенного мастерства[371]. Возвратившись в столицу, вы непременно должны отправиться на эту гору. Если вы хотите выучиться сокровенным произведениям, вы должны успокоить сердце и ни в коем случае не подпадать под власть страстей. Приступайте к учению, полностью освободившись от соблазнов, Храните знание в собственном сердце, никому его не передавайте. Обычаи в этой стране кажутся широкими, но на самом деле узки, кажутся мягкими, но на деле жестоки. Передавать чужеземцам тайные знания запрещено императорским указом, но я уже давно покинул суетный мир, вступил на путь, указанный Буддой, храню в сердце его заветы и боюсь греха лжи. Поэтому вам все это и сообщаю. После того как вы выучитесь искусству игры на цине, никому в этой стране его не передавайте[372]. Когда будете изучать произведения под руководством принцессы, не давайте своему сердцу впасть в заблуждение. Я родился в этом мире больше восьмидесяти лет назад, жить мне осталось мало. Нашу страну вскоре постигнут большие беспорядки. Вряд ли мы увидимся здесь еще раз, но я вам обещаю, что в грядущем мире мы обязательно встретимся. Не забывайте этого.
Старец вновь поднялся на башню, взял цинь, на котором играл, и вручил его Удзитада.
— С этим цинем отправляйтесь на гору Шаншань. После того как вы усвоите все приемы игры, в нашей стране больше на нем не играйте, — снова и снова увещевал он.
Когда стало светать, они расстались. Удзитада был печален и весь обратный путь погружен в задумчивость[373].
5
Возвратившись в столицу, Удзитада в тот же день до захода солнца покинул жилище и направился туда, куда указал ему старец. Он погонял свою лошадь, чтобы прибыть на место до наступления ночи. Наконец он увидел такую же высокую башню, как накануне, из которой доносились громкие звуки циня. Он стал подниматься на гору, дорога была длинной. Блистая, как зеркало, стояли рядом друг с другом покрытые черепицей прекрасные дома; их было немного, и, по-видимому, в них останавливались путешественники. Стараясь держаться в тени деревьев, Удзитада поднялся к башне. Все было именно так, как учил его старец: писаная красавица, сияющая как драгоценность, в одиночестве играла на цине.
Старец строго наказывал, чтобы он не терял сердечного спокойствия, но как только Удзитада увидел принцессу Хуаян, у него потемнело в глазах, и прелестные лица виденных им танцовщиц стали для него все равно что земля, а принцесса Каннаби, которую в Японии он считал прекрасной, по сравнению с Хуаян представилась ему неухоженной деревенской простушкой. Волосы принцессы Хуаян были зачесаны вверх, лицо совсем не было бесстрастным и располагало к себе. Она была подобна осенней луне на безоблачном небе. Сдерживая сильное сердечное волнение, обуреваемый противоречивыми мыслями, Удзитада слушал принцессу. Цинь звучал как множество инструментов, гармонично настроенных[374]. Мастерство принцессы намного превосходило то, что можно было представить по рассказам старца Удзитада не произносил ни слова, ему казалось, что он блуждает по тропам сновидения[375]. Он вытащил из мешка инструмент, подаренный ему старцем, и стал вторить принцессе. Она взглянула на него и снова сыграла ту же пьесу от начала до конца без малейшей запинки. Удзитада стал тут же повторять произведение, которое должен был выучить.
Его сердце было совершенно свободно от земных желаний, и неожиданно из-под его пальцев полились звуки, одинаковые с извлекаемыми принцессой. Играя вместе с ней пьесы, он запоминал произведения без ошибки.
Приближался рассвет. Принцесса, отодвинув от себя инструмент, собралась покинуть башню. Невыразимая печаль сдавила сердце юноши, и невольные слезы полились по щекам. Он не мог вымолвить ни слова. Принцесса сама была в сильном волнении. Она пристально глядела на лунный лик, и ее профиль был несказанно прекрасен[376]. На прощание она сказала:
— Остальным пьесам я буду обучать вас в девятом месяце в течение пяти ночей, начиная с тринадцатой ночи.
Неясно слышала я, Что из далекой страны, Куда ветром гонимые тучи Не могут дойти, К нам прибудет посланец.На это он ответил:
— Даже путник, расставшись С далекой страной, За грядой облаков лежащей, Не изведал печали, Как в нынешнее расставаньеПрислужники принцессы должны были прийти к башне, чтобы сопровождать ее в покои, и она велела Удзитада удалиться, чтобы никто его не заметил.
Он сразу же пустился в путь, чтобы возвратиться в столицу до наступления утра. В час змеи[377] Удзитада добрался до своего дома и лег в постель, но спать не мог. Он впал в рассеянную задумчивость, как будто душа его блуждала где-то далеко от его тела. Он сокрушенно думал о том, что сердце его пришло в смятение, и мечтал увидеть принцессу ночью. Хотя она сказала, что это невозможно и напрасно было бы и стараться, он тешил сердце надеждой. Вечером во дворце начался пир по поводу любования луной, и Удзитада всю ночь до рассвета играл перед императором на музыкальных инструментах. На следующий день государь не отпустил его, и молодой человек весь день оставался во дворце. Лил сильный дождь. К тоске по родине прибавилась тоска по милому облику принцессы, и мучения Удзитада стали нестерпимыми.
«Не знал до сих пор Таких страданий любви Посланец из дальней страны. Бесконечно слезы текут, Как струи дождя», —сложил он.
Время всегда течет одинаково, но тогда ему казалось, что осенняя ночь тянется необычайно медленно, и, лежа один в постели, он передумал обо всем на свете. Он помнил, что старец запретил ему играть перед кем-либо пьесы, которым его научит принцесса; Удзитада не мог нарушить завет и не знал, чем утешиться.
«Если бы мог, На кото играя, Избыть я тоску! Долго тянется Осенняя ночь...»Удары в барабан известили о приближении рассвета. Рано утром к Удзитада прибыл императорский гонец и передал, что и в тот день нужно исполнять музыку перед государем. Когда солнце поднялось высоко, Удзитада направился во дворец, где собрались придворные. Молодой человек, весь день исполняя различные пьесы, витал мыслями далеко. Император не отпускал его от себя до самого утра.
В тот день принцесса Хуаян возвратилась в столицу. Когда она была совсем молоденькой, то удалялась на гору Шаншань, чтобы поститься. Однажды осенней ночью перед ней появился маг-отшельник и обучил ее музыкальным пьесам. После этого в восьмом и девятом месяцах в полнолуние принцесса всегда удалялась в затворничество на гору и в одиночестве играла там на цине. Она была рождена той же императрицей, что и император Вэнь, росла, окруженная любовью и заботой, и все в Поднебесной ее почитали. Находясь во дворце, Удзитада услышал, что принцесса возвратилась в столицу, и тоска охватила его сердце, но ему ничего не оставалось, как ждать назначенного срока. Наступила тринадцатая ночь девятого месяца.
Император накануне чувствовал себя плохо и никого не призывал к себе. Удзитада выехал из дома до наступления темноты. На башне все было, как прежде. Принцесса научила его оставшимся произведениям. Стало светать. Луна склонилась к горизонту, и принцесса сказала: «Пожалуйста, покиньте башню и возвращайтесь домой»[378]. Но Удзитада не мог покинуть башню. О красоте принцессы повторяться не надо, но даже случайно сказанное ею слово, аромат ее одежд — все было поистине несравненным, и когда юноша вблизи увидел принцессу, он совсем потерял сердечную бодрость[379]. Она сказала, что следующей ночью они будут играть. Плача, собравшись уходить, он произнес:
— Хотел бы, чтоб жизни Жемчужная нить Здесь оборвалась! Если бы мог не расставаться С уходящей луной[380].Принцесса стала очень грустна и ответила:
— Звуки жемчужного кото Нас с тобой Клятвой связали. Встреча несла наслажденье, Но сердце полно печалью.Она торопила его с возвращением, и он вышел, стараясь никому не попадаться на глаза. Печаль его была сильнее, чем раньше[381]. Удзитада не вернулся в столицу, но весь день провел неподалеку от горы Шаншань. Он сложил:
«Вечера жду с нетерпеньем, Когда снова смогу Верить луне в беспредельном просторе. От капели в горах Мокры мои рукава»[382].Когда солнце село, он явился на башню. Принцесса, верная своему обещанию, до рассвета обучала его музыкальным пьесам, и перед рассветом, глядя на небо, вкладывая в исполнение всю душу, они играли на цине. Так прошло много ночей[383]. Думая, что он выучил все произведения и видит принцессу в последний раз, Удзитада безутешно рыдал. От слез у него потемнело в глазах. Принцесса взирала на него с неизбывной печалью. Глядя на луну на светлеющем небе и проливая слезы, он произнес:
— Скоро порвется Жизни моей Жемчужная нить, Но судьба еще мне сулит Изведать любовные муки[384]. Без сожалений готов Хоть сегодня расстаться С жизнью, сверкающей, Как драгоценная яшма. Ведь движет мною любовь[385].Схватив ее руку, Удзитада горько рыдал. Принцесса тоже была печальна. Она сказала:
— Эту башню в давние времена построили маги, место это должно оставаться незапятнанным, и нарушить завет никак нельзя. Здесь мы находимся под властью солнца и луны и под покровительством земных богов. Эта долина более, чем другие места, благоприятна для занятия музыкой, поэтому я избрала ее местом затворничества и семь лет играю здесь на цине. Иногда сюда приходят маги, чинят мой инструмент и украшают башню. Я не буду долго оставаться в этом мире, но когда окончится мое существование, я хотела бы являться сюда и слушать звуки циня. Запятнать место, посвященное богам и буддам, проявить недостойные намерения перед божествами неба и земли — значит покрыть себя позором. Я этого не сделаю ни при жизни, ни после смерти. В предыдущих рождениях было определено, чтобы я передала вам секреты игры на цине и чтобы мы испытали друг к другу дружеские чувства. Пусть даже против воли, я должна познать горькую любовь и навлечь на себя осуждение всего мира; потому вы и посетили меня. Жить мне осталось мало, и я знаю, что, испытав смятение любви, я расстанусь с жизнью. Если вы любите меня всем сердцем, если вы готовы пожертвовать ради любви жизнью, третьего дня десятого месяца, ночью, перед заходом луны, приходите к Башне пяти фениксов[386] дворцовой крепости. Я обязательно буду там.
В ту ночь она настойчивее, чем прежде, велела, чтобы он покинул башню, и Удзитада, не произнося ни слова и проливая слезы, вернулся домой. Всю дорогу у него перед глазами стояло прелестное лицо принцессы, и он был печальнее, чем в другие дни.
Жизнь без встреч тяжела, И далек день Обещанного свиданья. Не лучше бы было Существованье на что-нибудь обменять?[387]6
Император принимал лекарства и думал, что его недомогание скоро пройдет, но болезнь обострялась. Приближенные были в тревоге. Несколько дней император никого к себе не призывал, и Удзитада во дворец не являлся, но как только государю стало немного лучше, он, беспредельно любя юношу, пригласил его к себе.
— Вы чужестранец, и нам не суждено долго общаться друг с другом, но по чертам вашего лица видно, что в моем государстве вы усмирите мятеж. Болезнь меня не отпустит, и после моей кончины в стране начнутся беспорядки. Стойте на стороне принца, пусть ваше сердце не знает страха и не будет побуждать вас к бегству. Вашей жизни ничего не угрожает, вы непременно возвратитесь на родину. У меня есть основания так думать, поэтому я открываю вам эту тайну. О том, что вы увидите и услышите здесь, не рассказывайте на родине. Вы покинете мою землю, но мы с вами связаны судьбой в предыдущих мирах и никогда не расстанемся. Не забывайте моих слов и не поступайте иначе, — сказал государь.
Удзитада был очень опечален.
— На родине я совсем не знал, как обращаться с луком и стрелами, в военных делах я совсем неопытен...[388] — начал он, но в то время в покоях показались придворные, и беседа прервалась.
Удзитада был благодарен государю за то, что он говорил с ним доверительнее, чем с приближенными, которые с давних пор служили во дворце. На сердце у него было тяжело.
Наступил третий день десятого месяца. Сдержит ли принцесса свое обещание? Юноша, сгорая от нетерпения, ждал ее у Башни пяти фениксов. Охрана во дворце была бдительнее, чем обычно, и Удзитада старался, чтобы его никто не заметил. Принцесса не заставила себя ждать и, как обещала, появилась, когда луна начала клониться к закату. Она показалась Удзитада прекраснее, чем сияние ночного светила. По щекам его покатились слезы. Они пошли по длинной галерее вокруг здания; красные двери были закрыты, и было темно. Одежды принцессы были окурены какими-то редкими благовониями; сердце молодого человека было во власти прелести принцессы, и сколько он ни смотрел на нее, налюбоваться не мог. У обоих от слез было темно в глазах. Удзитада не мог произнести ни слова. Он пылал любовью, и принцесса утратила свое благоразумие.
«Судьба связала нас в предыдущих рождениях, но я не ошиблась, страшась нашей встречи, — думала она. — В свое время маг-отшельник сказал мне: "Предопределено, что ваше искусство станет причиной вашей кончины". Наступил мой срок». Сердце человеческое таково, что она не могла окончить свои дни, не отдавшись в последние мгновения волнениям любви.
— Если вы глубоко любите меня и будете помнить после возвращения на родину, я, утратив сегодня ночью ничтожную, как исчезающая роса, жизнь[389], в последующих мирах обязательно буду вашей женой, — сказала она и, развязав шнур нижнего платья, достала из него довольно большой кристалл. — Если, как вы обещаете, вы меня никогда не забудете, храните при себе эту драгоценность, не выпускайте из рук даже в страшную бурю, когда будете тонуть, и привезите на родину. Я слышала, что в Японии есть храм Хасэ, в котором пребывает бодхисаттва Гуаннинь[390]. Преподнесите ему эту драгоценность и трижды по семи дней выполняйте службы. Если вы сделаете все это, мы, не навлекая на себя ничьих порицаний, обязательно еще раз встретимся.
Было еще темно, когда принцесса скрылась в башне. Нечего и говорить, как печально было расставание влюбленных. Удзитада плакал, прижимая к лицу рукава. Когда, держа в руках драгоценность, он покидал дворец и шел мимо стражников, то чувствовал скорбь, еще более сильную, чем ранее, когда покидал башню в горах.
«Во сне беспробудном Вижу прямую дорогу к тебе. О, если бы разлуке Конец наступил И явью стала мечта!»[391] —сложил он.
Возвратившись водворен, принцесса погрузилась в задумчивость. «Судьба, связавшая меня с Удзитада, сулит мне несчастья. Если я буду продолжать любить его и останусь жить в этом мире, я несомненно оставлю после себя дурную славу», — думала она, понимая, что должна расстаться с этим светом. Глядя на темное ночное небо она в одиночестве стала играть на цине, и сердце ее успокоилось. Звуки музыки сливались с шумом ветра в вершинах сосен, которые росли у крепостных стен. Печаль принцессы словами выразить невозможно. На небе показались удивительные облака, засверкала молния.
— В молнии блеске Ясно предстал Небесный простор, И в нем отразилось Мечтанье мое.Мое нынешнее существование скоро окончится, но если не прервется связь, которая соединила меня с ним благодаря музыке, которой я обучала его лунными ночами на горе Шаншань, то за морем и за облаками, я возрожусь в другой стране. Буду ли я небожителем или человеческим существом, о, цинь, никогда меня не забывай и будь со мной, — с этими словами принцесса приподняла жемчужную занавесь и толкнула инструмент к веранде. Принцесса взяла в руки лежавший рядом с ней белый веер и взмахнула им — цинь сам собой поднялся и исчез в небесах[392]. Глядя ему вслед, прикрывая веером лицо, по которому струились слезы, принцесса легла на пол. В слабом свете лампад она выглядела великолепнее, чем кто-либо на свете. Жизнь покинула ее, как тает роса под лучами солнца. Дворец огласился стенаниями прислуживающих дам. Император, узнав о происшедшем, безутешно оплакивал сестру. Постепенно светлело. Тело принцессы надо было вынести из дворца, и повсюду раздавался плач. Удзитада узнал о ее смерти утром, когда пришел к себе. Скорбь его выразить словами невозможно. Ему казалось, что он сам умер.
Вскоре пришла другая печальная весть: почил император Вэнь. Страна пришла в страшное беспокойство. Сыну императора, наследнику престола, было мало лет, и его права оспаривал младший брат императора, Янь-ван. Началась борьба за престол, и разразилась война.
Сторонники наследника престола, преданно служившие покойному государю, пришли в растерянность. Воины Янь-вана свирепствовали, и напуганные придворные склонялись на его сторону. Некоторые из них открыто переходили к мятежникам, другие с помощью воинов покушались на жизнь наследника и императрицы-матери. Повсюду шли бои Заговорщиков казнили, мятежники хватали и убивали оставшихся верными престолу военачальников и советников, которые должны были поддерживать порядок в государстве и вести за собой воинов. Многие бежали к Янь-вану. Таких беспорядков страна еще не знала.
Удзитада был чужестранец, он непоколебимо стоял на стороне императрицы и наследника престола и неожиданно оказался в средоточии борьбы. Мечтая только о том, чтобы сохранить полученную драгоценность и возвратиться на родину, он, однако, оставался бдительным, следил за развитием событий и предупреждал об опасности наследника. Если бы он, в силу каких-то необыкновенных обстоятельств, покинул императрицу с сыном, то ни в чем не нашел бы утешения.
И император Вэнь, и принцесса Хуаян оставались непогребенными. Все были заняты борьбой, строили планы военных действий и набирали воинов. Янь-ван был уже немолод; ему недоставало способностей, необходимых для императора, самому вершить все дела, но он был опытным полководцем, и за ним стояло многочисленное войско. Положение его с каждым днем упрочивалось, и в конце концов мятежники перевалили через заставу Тунгуань[393]. «Мятежники храбры и яростны, как дикие звери, необыкновенно искусны в стрельбе из лука, противостоять им невозможно», — говорили защитники столицы, покидая поле боя. Они бежали мимо дворца непрерывно, как льются струи дождя; шум отступления был ужасающ.
Неожиданно малолетний император и императрица-мать, сев в один паланкин, выехали из дворца Вэйян. Их сопровождали военные чины и сановники, они взяли с собой сокровища страны[394]; одолеть мятежников было невозможно, и ничего не оставалось, как бежать, не разбирая ни дня ни ночи. Сильные и жестокие воины Янь-вана шли за ними по пятам. Беглецы поднимались на горные кручи и переправлялись через широкие реки; они двигались медленно и боялись, что мятежники вот-вот настигнут их. Струсив, воины императора сворачивали с дороги, прятались в горах и лесах, вскоре не осталось и половины из тех, кто вышел из столицы.
Солнце село. Императорский поезд достиг разрушенного храма. Избежать мрачного жребия было невозможно. Положение было угрожающим.
Часть вторая
1
Десятый месяц подходил к концу. На вершинах гор ветер, свирепо завывая[395], срывал с деревьев красные и желтые листья. То и дело шел дождь, иногда сквозь разрывы в тучах проглядывало солнце, озаряя окрестности грустным светом. Шелковые занавески паланкина молодого императора и императрицы-матери были единственными яркими пятнами в унылом пейзаже. Флаги с эмблемами Сына Неба, высоко поднятые от дождей и падающей росы, полиняли и бесцветными лоскутами развевались на ветру.
Возле императора оставалось немного верных людей. Даже бежав из императорской армии, сохранить себе жизнь было невозможно. Никто не знал, на что решиться. Императрица, призвав доверенных придворных, обсуждала с ними план действий.
— Я боялась, что стрелы воинов Янь-вана долетят до дворца, и, может быть, неразумно покинула столицу. Горы Шушань[396] находятся далеко, пройти через Цзяньгэ[397] трудно, пробираться надо по висячим мостам. Направляясь сюда, я рассчитывала спасти наши жизни. Но путь длинен, все устали. Мятежники быстро приближаются. Нам грозит гибель, как затравленному оленю, который останавливается на ночлег в ненадежном месте у самой дороги. Такая смерть ляжет на нас позором, и хотя у нас нет времени поразмыслить, мы должны заботиться о том, что будут говорить о каждом из нас в последующих поколениях. Под угрозой гибели нам надо придумать, как расстроить планы врага. Как это сделать?
Никто не мог правильно оценить положение и предложить разумный план. Услышав слова императрицы, все побледнели и в крайней растерянности молчали.
— Войском Янь-вана руководит генерал Юй Вэньхуэй. У него облик человека, но сердце его жестоко, как у тигра, — продолжала императрица. — Своим мечом он пробивает горы, пущенные им стрелы пронзают камни. Обычным людям с Юем не справиться. Даже если бы силы наших войск были равны, быть уверенным в победе было бы нельзя, а наши солдаты бегут, войско противника в десять раз больше нашего. Вступать в сражение в открытом поле нам бессмысленно. Сейчас у нас осталась единственная возможность: часть нашего войска должна немедленно возвратиться в горы, подождать, пока мимо пройдет противник, и атаковать его с тыла; окружив таким образом врага, издавая боевые кличи, сражаться упорно, победить или полечь в битве. Юй Вэньхуэй жаждет погубить страну и мечом разбить наше войско, но действует он поспешно и бросает в битву солдат неосторожно. Поэтому его ждет неминуемое поражение.
Однако в войске недоставало воинов, которые должны были бы залечь в засаду в горах и напасть на врага с тыла. Императрица подозвала к себе Удзитада и любезно к нему обратилась:
— Вы прибыли из неизвестных нам краев, лежащих далеко от нашей страны, и пробыли у нас не столь долго, чтобы возникли крепкие узы верности правителю, поэтому я не должна была бы рассчитывать на вас. Но я знаю, что вас послала к нам судьба. Усопший император любил и отличал вас перед другими, и если бы он был жив и оказался в нашем положении, вы непременно были бы его спутником. Если вы не забыли его милостей, придумайте средство остановить врага, сражайтесь, не жалея сил. Я слышала, что Япония — страна мужественных воинов, что это страна небольшая, но она находится под несокрушимой защитой богов и ее жители очень мудры. Придумайте необыкновенный план, не жалейте усилий, — сказала она, плача.
В сложившихся обстоятельствах трудно было что-либо придумать, даже бежать и спрятаться в горах возможности не оставалось. Лицо императрицы, ее манеры и голос пленяли необыкновенной прелестью, ее высокое положение вызывало к ней сочувствие. Юноша был очарован ее обликом и не мог ответить ей отказом.
— На родине я не знал, как обращаться с луком. Но я хочу воздать за милости, которыми меня осыпал покойный император, и буду сражаться, не щадя живота, — ответил он и возвратился на свое место.
К тому времени многие министры и генералы, которые верно служили покойному императору, в результате козней лишились жизни или были убиты мятежниками. В засаду собрались отправиться четыре военачальника: генерал и глава императорской охраны Дэн Личэн, который был старшим братом императрицы; Чан Суньцин, управитель общественных работ и маркиз[398] уезда Шань-дун; генерал, начальник боевых колесниц и конников Ян Цзюй-юань и «воин-дракон»[399], высшая опора страны Ду Гужун. Возле императрицы-матери и молодого императора должны были неотлучно оставаться министр Ван Ю и левый военачальник Чэнь Сюаньин. Каждый из них был готов сразиться с врагом, но не было достаточно солдат, которые последовали бы за ними. У людей же нашей страны[400] не было ни луков, ни стрел. Вместе с теми, кто занимал самое незначительное положение, их было человек пятьдесят-шестьдесят. Но нельзя было не подчиниться императрице, и, уверенные, что приносят себя в жертву, они печально отправились в первых рядах отряда в обратный путь.
Удзитада, вознеся молитвы Будде и нашим богам, шел вместе с ними. Они ушли довольно далеко, когда наступила ночь. В темноте они продвигались по глухим горам, переваливали через кручи, спотыкались о корни деревьев и часто сбивались с пути. Многие из них погибли еще до встречи с врагом, сорвавшись в пропасть. Воины спустились с горы и увидели вдалеке море. Дальше идти было некуда. Некоторые из них спрятались в лесной чаще у подножия горы, другие — на равнине, собрав ветви и листья и укрывшись за ними. Сам Удзитада вернулся немного назад, на вершине высокой горы слез с коня и стал ждать. Когда занялась заря, он увидел, как по берегу моря движется тридцать тысяч мятежников. Когда до горы им оставалось двадцать с лишним верст, сторонники императора разом зажгли огни, повалил дым, в сумерках мелькали и исчезали фигуры; те, кто был впереди неприятеля, и те, кто был сзади, громко закричали и устремились на врага, который этого совсем не ждал и не был готов к сражению. Боевые кличи раздавались со всех сторон, мятежники решили, что окружены, и в беспорядке бросились к морю. Под градом стрел никто из них не приблизился к горе.
Никого в Поднебесной нельзя было сравнить с главным военачальником Юй Вэньхуэем, он превосходил всех выносливостью и физической силой. Одно его имя повергало в страх. Узнав, что враг за спиной, Юй Вэньхуэй не дрогнул. Он двигался во главе войска; и, заметив перед собой среди сторонников императора «воина-дракона» Ду Гужуна, Юй, как птица, помчался к нему и, не говоря ни слова, отрубил ему голову. Сторонников императора охватил страх: никто, кроме Ду Гужуна, бороться с Юем не мог. Вэньхуэй намеревался подавить императорские силы большим числом мятежников, однако ему доложили, что в задних рядах какой-то искусный стрелок разил стрелами его воинов, и, повернув коня, он помчался туда.
Как только Юй в предутреннем сумраке заметил славного стрелка, он стремительно напал на него и пустил стрелу, которая пробила кольчугу, но тот даже не дрогнул. Выхватив меч, Юй, сопровождаемый семью воинами, решил окружить его и велел направить на него лошадей. Делать было нечего, стрелок обнажил меч и был готов вступить в схватку с ними. Юй Вэньхуэй, не считая его достойным противником, был уверен, что победа достанется ему, но неизвестно откуда рядом с юношей появились четыре воина, совершенно похожих на него лицом и снаряжением; их лошади не отличались одна от другой. Бесстрашный Юй Вэньхуэй несколько опешил. Собравшись с духом, он решил было вступить с ними в схватку, но в то же мгновение сзади к нему приблизились пять таких же всадников. Семь находившихся рядом приспешников обнажили мечи, но воины немедленно изрубили всех вместе с лошадьми так, как будто они рубили бамбук. Среди бунтовщиков, смотревших на это издали, не было ни одного, кто вознамерился бы скрестить с ними меч и пустить в них стрелы. Юй Вэньхуэй вообще слишком полагался на свое выдающееся умение, не признавал способностей других и не рассчитывал на их участие. В войске его был один сброд, никто не думал о чести, никто не знал, что такое стыд. Мятежники в страхе разбежались кто куда, попрятались в горах, устремились в море, сняли с себя доспехи и побросали оружие. Императорские воины преследовали их, и солнце еще не взошло, как от тридцатитысячного войска не осталось ни одного человека, способного вступить в бой. За мятежниками двигался обоз с продовольствием, рассчитанным на долгий срок; голодные императорские воины, захватив его, были донельзя довольны. Никто не знал, куда исчезли десять человек, похожих друг на друга[401]. Могли ли не радоваться успеху Удзитада даже те, кто еще недавно презрительно называл его пришельцем из неведомой страны? Бывшие недоброжелатели, благодаря ему избежавшие неминуемой гибели, теперь стыдились, что плохо отзывались о нем, но сам Удзитада не считал победу своей заслугой и приписывал ее только превосходному плану императрицы-матери. Из тысячного с лишним войска, не считая двадцати сражавшихся, убитых Юем, не было ни одного раненого.
Императорские воины, отдохнув, беспредельно радовались победе, но вскоре заметили, что на берегу моря опять появилось бесчисленное войско. Сердце у них упало, они были готовы бежать в горы. Справиться с такой многочисленной армией они не могли.
— Перед лицом такого противника, даже пустившись в бегство, вы жизнь не спасете, — сказал Удзитада. — Если нам суждено сегодня погибнуть — погибнем, стоя лицом к врагу.
Остановив дрогнувших воинов, он, как и раньше, поднялся на гору. Вероятно, новоприбывшие увидели, что их ожидают, и от них прибыли посланцы.
— Правый генерал Юйчи Сяньдэ, начальник округа Сюйчжоу в Хэнани, который верой и правдой служил покойному государю, находился на месте службы в отдаленных краях и не знал о кончине императора, но, услышав, что вспыхнул мятеж, поспешил по подмогу законному наследнику. Ему преградили путь войска Юй Вэньхуэя и некоторое время он не мог продвигаться вперед. Ему доложили, что сегодня ночью произошло сражение, и он устремился сюда.
Сторонники императора, зная верность Юйчи Сяньдэ, давно ждали его, как избавителя, и, услыша эти слова, проливали слезы радости. Соединившись с прибывшим войском, победители двинулись к императрице-матери. Армия растянулась на большое расстояние, передние не могли видеть идущих сзади. В войске Юйчи Сяньдэ было три тысячи всадников. Они преследовали мятежников, о которых еще накануне думали: «Если мы встретимся с войском Янь-вана, мы найдем свою смерть»; убивали тех, кто прятался в горах и бросился в море; а многие выдающиеся военачальники были схвачены, и им была оставлена бесславная жизнь. Императорская армия ликовала. Увидев, какие страшные раны были нанесены Юй Хуэю и его семерым соратникам, все пришли в изумление. Удзитада и Сяньдэ вместе явились во временную резиденцию, где накануне обосновались император и императрица-мать.
Государыня, услышав, что тридцатитысячная армия мятежников была разбита в один миг и что ее защитники соединились с силами Юйчи Сяньдэ, от радости заплакала. Она обратилась ко всем, кто сопровождал императора на пути в горы:
— Огромное войско противника неожиданным образом разгромлено. Нужно ли нам и дальше блуждать по непроходимым тропам? Возвратимся в столицу! Чего нам ныне страшиться?
Но у многих еще оставались сомнения:
— Янь-ван поднимется против государства вновь, дух в его войске высок, варварские кони упитанны. Наши же воины устали. Разве можно нам сразу повернуть назад?
Императрица еще раз призвала к себе Юйчи Сяньдэ и обратилась к нему:
— Янь-ван вступил в войну, набрав сильное войско, и наша армия неминуемо несла поражение. Потому ли это было, что наши воины робели перед высоким происхождением Янь-вана, или они страшились военного умения Юй Вэньхуэя?
Он ответил, что дело было в доблести последнего, с чем остальные воины были согласны.
— Юй Вэньхуэй и его соратники, известные своим бесстрашием, подверглись небесному наказанию, и трупы их выставлены на всеобщее обозрение, — продолжала императрица. — Юй Вэньхуэй полагался на собственное умение и не выдвигал людей; с помощью кровных родственников и многолетних друзей он был назначен командующим. Он награждал воинов, но, увидя, что Юй Вэньхуэй погиб, они сдались Юйчи Сяньдэ, не заботясь о том, что честь их будет запятнана и что они покрывают себя позором. Янь-ван назначал на высокие посты богатых торговцев и молодых людей, думающих только о вине и красотках. Вряд ли кто-нибудь из них искусен в ведении войны. Есть ли среди них кто-нибудь, добившийся славы?
Никто не мог назвать ни одного имени. Императрица продолжала:
— Я глупая, ничтожная женщина, мне было суждено с юных лет почтительно служить мудрому правителю, я достигла положения государыни, которое не соответствовало моему происхождению; так я прожила десять весен и осеней. Курица не должна, подобно петуху, возвещать рассвет[402], и я, даже когда речь шла о задних покоях[403], без разрешения государя ни одного дела не решала и суждений своих не высказывала. Скоропостижная кончина государя повергла нашу страну в скорбь, и, виновная в том, что не последовала примеру дочери князя царства Юэ, умершей до своего господина[404], я навлекла на себя позор: беспорядки охватили страну. Я должна была выбирать, кому можно доверить управление страной, ноте, на которых указал больной государь, были оклеветаны предателями и погибли. Те же, кто отправился с нами в эти горы, старались защитить нас в пути, но думали только об отступлении. Я, глупая, лишенная талантов женщина, опасаюсь, что навлеку на себя порицания: «Императрица-мать безрассудно взялась управлять государством, как — увы! — бывало в далекие времена, когда страну охватывали беспорядки». Но бедствия постигли нас неожиданно, положение только обостряется, и мы не можем принимать решений по зрелом размышлении. В течение многих летя, соблюдая запрет, в государственные дела не вмешивалась, никто не может сказать, что страна пришла в такое состояние из-за моей глупости. Сегодня впервые я отваживаюсь высказаться по столь важному поводу. Юй Вэньхуэй погиб, и Янь-ван лишился рук и ног. Если мы, не упуская такого благоприятного случая, возвратимся в столицу, вряд ли мы встретим серьезную оборону. Я скрылась в горах, Янь-ван захватил престол, и народ частично подчинился ему, но если я сейчас, покинув крутые горы, появлюсь во дворце, а страна успокоится, кто осмелится поднять мятеж? Когда такие попытки увенчивались успехом? Ныне нет более важного дела, как бросить армию вперед и возвратиться в Чанъань.
Придворные на это ответили:
— Мы, питая опасения, всегда отговаривались тем, что в военных делах неопытны и что воины наши измучены. Но то, что сейчас сказала государыня, благоразумно, и ее мнению нельзя противиться. Нам нужно как можно скорее возвратиться в столицу.
Было принято решение: «Сегодня дадим войску отдохнуть, а завтра на рассвете пустимся в путь». Императрица-мать удалилась на ночь в свое временное помещение.
2
Удзитада, проявив огромное умение, нежданно-негаданно завоевал славу отважного воина. Но он был измучен. Расположившись в тени небольшого дерева, он сидя заснул. Воин, которого он видел накануне[405], явился перед ним и произнес:
— Далекий край, Никому, кроме волн, Не известный. Но я земляков И там не покину.Он пожаловал юноше доспехи, шлем, оружие и оседланную лошадь. Открыв глаза, Удзитада убедился, что это не сон: дары находились перед ним. Такими привычными словами, как «ободренный» или «радостный», состояния его не выразить. Он направился к чистому студеному ручью и, облившись, выполнил церемонию очищения и почтил бога. Сердце его горело отвагой. Близилось утро, и он направился к императрице-матери.
Она, призвав Юйчи Сяньдэ и Дэн Личэна, показала им завещание покойного государя: «Ранг Удзитада невысок и годами он еще молод, но если он совершит славные подвиги, нельзя жалеть для него ни высоких постов, ни рангов». Убедившись, что покойный император уже давно отличил молодого человека, никто не воспротивился последней воле монарха, и для Удзитада было приготовлено снаряжение «воина-дракона». Он повесил на спину невиданно большие лук и стрелы, сел на знаменитого коня, качества которого словами не выразить, и двинулся во главе армии к столице. В руке он держал длинную пику с насаженными на нее головами Юй Вэньхуэя и его семи приспешников, которых все в той стране считали чертями. Когда его увидели воины Янь-вана, у них пропало желание воевать, и они пустились наутек. Почтенные монахи, старцы, у которых не оставалось сил воевать, деревенские женщины выходили на дорогу и радостно глядели на возвращающееся войско. Разбежавшиеся в свое время императорские воины явились толпой, объясняя свое отсутствие кто приступом застарелой болезни, кто необходимостью проведать хворых родителей. Вместе с ними численность армии достигла десяти тысяч человек. Пока войско беспрепятственно двигалось по горам и равнинам, наступил вечер, и воины расположились биваком на ночь. Выбрав отличных солдат, поставили их в дозор. Удзитада предполагал достичь столицы через три дня.
Янь-ван набрал в свое войско варваров из соседних земель. Они не вышли в поход с войском Юй Вэньхуэя и остались защищать столицу. На городских стенах они соорудили сторожевые башни и окружили столицу рвами. Полагаясь на свой огромный рост и большую силу, они не носили доспехов. Вооружившись длинными пиками и напоив ядом стрелы, иноземцы приготовились к обороне. Императорские войска, страшась, не подходили к городу. Тогда Удзитада, горя отвагой, один выехал из рядов воинов и направился к городским стенам. Остановившись на расстоянии, куда не долетали короткие стрелы варваров, он начал стрелять из лука своими необыкновенно длинными стрелами и пробивал ими, как сухие листья деревьев, толстые твердые бревна башен, которые, по мнению врагов, были надежной защитой, и поражал находившихся внутри людей. Объятые страхом, варвары спустились со стен и бросились бежать, но, как и на поле битвы, воины, совершенно не отличающиеся по виду от Удзитада, преградили им путь и разбили их, как Юй Вэньхуэя с соратниками. Ни один из врагов не избег страшной участи, многочисленные мятежники были обращены в пыль и пепел. Разрушив укрепления вокруг городских стен, столичные жители вышли встречать молодого императора и императрицу-мать.
Охрана Янь-вана видела, как девять из десяти похожих друг на друга всадников въехали в ворота и пробивали себе путь. За ними следовали воины императорской армии, но неожиданно встал густой туман и скрыл всадников из виду. Постичь умом этого было невозможно. Через ворота в город вступали императорские воины, и мятежники, лишенные пути к бегству, были разбиты. Повсюду метались лошади, потерявшие всадников. Императорская армия шла по улицам, усеянным, как листьями деревьев, вражескими луками, стрелами и мечами, и воины, видя поверженных противников, испускали радостные крики.
Янь-ван покинул дворец и пытался спастись бегством. Удзитада послал за ним Юйчи Сяньдэ, который захватил живьем Янь-вана и трех его сыновей. Пленников бросили в крепость Цзинь-юн[406] и умертвили, дав отравленное вино. Император и его мать въехали во дворец.
В тех битвах Удзитада лично победил семьдесят с лишним человек, среди которых были семь соратников Юй Вэньхуэя и силачи-варвары. Никто не помогал ему в этих подвигах. Нисколько не чванясь содеянным, Удзитада почтительно отказался от титула «воина-дракона».
— Когда я присоединился к армии и обратился лицом к врагу, трудно было сохранять достоинство, не прибегая к звучному званию, поэтому я не проявил должной решимости и не возвратил его. Однако скромные способности иностранца, незрелого годами и не блещущего талантами, ему совершенно не соответствуют, — с этими словами он собрался покинуть дворец, но императрица не позволила ему уйти.
— Вам даровал победу Небесный император[407], и вы в короткое время истребили армию мятежников, но в нашей стране осталось еще немало предателей, — сказала она и поручила Удзитада охранять дворец.
Тех, кто против воли был вынужден следовать за Янь-ваном, простили, но дезертиров из императорской армии, которые выступили против законного наследника, разыскали, убили и дома их сровняли с землей. Вскоре в стране воцарился покой, на престол взошел молодой император. Покойный государь был торжественно, с соблюдением всех формальностей погребен. Был объявлен годичный национальный траур, управление страной было передано императрице-матери. Она постановила безрассудно денег не тратить и старалась чем только могла облегчить участь подданных. Заботясь о народе, императрица отменила налоги, все были довольны и радовались этому.
Каждый день рано утром, сидя за шелковыми занавесями, императрица-мать занималась государственными делами. После этого, перейдя во дворец императора, она с учеными мужами читала старые книги, обсуждала вопросы справедливого правления и наставляла императора. Она учила сына, как управлять, чтобы страна процветала и народ был спокоен. Государь был еще ребенок, но даже больше, чем отец и мать, хотел следовать заветам мудрецов древних эпох. Все чиновники, с полными верности сердцами, смирив личные интересы, склонились перед волей монарха. Не прошло и тридцати дней после восшествия на престол императора, как повсюду, до самых границ страны, воцарился порядок.
После этого Удзитада стал настойчиво просить о возвращении на родину. Но по примерам прошлых лет послы должны были оставаться в Китае три года. «Не было случая, чтобы кто-нибудь, даже самого невысокого положения, возвратился самовольно на родину», — говорили ему. Дело становилось хлопотливым.
«Удзитада не знает прежних примеров, и вряд ли мы должны ему препятствовать», — думала императрица-мать. Она относилась к молодому человеку чрезвычайно любезно. Зимой море было бурным, и никто в плавание не пускался; императрица говорила юноше, что так или иначе нужно ждать наступления весны. Удзитада, ожидая, когда подойдет время, не спал ночами. Видя, что он мрачно настроен, не принимает участия в выездах правителя и удалился в горный храм, японский посол заподозрил, не собирается ли он, подобно Янь-вану, поднять мятеж, и хотел было покарать его, но Удзитада доказал, что за ним никакой вины нет, и был прощен. Ему продолжали выплачивать жалованье, и было твердо обещано, что, как только пройдут установленные три года, он отправится на родину.
3
Наступил новый год. Весенняя дымка затянула небо, зацвела слива, распространяя чудесный аромат, запел соловей. Удзитада все чаще оставался задумчивым и проводил бессонные ночи. Утром, услышав стук барабанов, возвещавший часы, он спешил во дворец. По вечерам повсюду — и в помещениях государственного совета, и в личных покоях — становилось тихо. Императрица-мать слушала толкования учеными древних книг. Многие придворные, не дожидаясь окончания, уходили, но Удзитада слушал книжников с глубоким интересом и не спешил покинуть собрание. Наступала ночь.
Однажды, когда на небе сияла яркая луна, охваченная глубоким чувством императрица-мать немного придвинулась к занавеси и сказала Удзитада:
— Мысль моя, выраженная словами, может показаться мелкой. Не имея ни мгновения отдыха, я занимаюсь государственными делами. Многого я своим глупым умом постигнуть не могу, мое внимание часто ослабевает, и мне трудно рассеять свои сомнения. В наших землях внезапно вспыхнули страшные беспорядки, и страна находилась на краю гибели. С Юй Вэньхуэем никто не мог сравниться в физической силе, а сердце у него было жестоко, как у дикого зверя. Он питал замыслы подчинить себе всю страну, поэтому покойный государь не давал ему высоких чинов и рангов и к себе не приближал. Нужно было бы своевременно лишить его жизни, но страна окружена сильными варварами, которые могут напасть на нас; поэтому отважного воина не умертвили, но держали в низком звании. По этой причине Юй Вэньхуэй покойного государя люто возненавидел. Когда глупый и жадный Янь-ван пошел против законного наследника, Юй Вэньхуэй подчинил себе всю Поднебесную. Перед противниками он называл себя вассалом Янь-вана, но если бы дело дошло до управления государством, он Янь-вану никогда бы не подчинился. Когда императорский двор готов был погибнуть и нашему управлению чуть не положен был конец, если бы я, необразованная женщина, бесталанная, низкого происхождения, которая, в незрелом возрасте получив не по заслугам титул императрицы, служила покойному государю, попала в пленницы к Юй Вэньхуэю и была бы им обесчещена, это было бы страшным несчастьем; мне предстояло расстаться с жизнью, в которой ничего не совершается по желаниям нашего сердца[408], и мое мертвое тело лежало бы на дороге под открытым небом[409]. Однако неожиданно благодаря вашей отваге мы избежали позора и вновь обрели престол. Глубину нашей благодарности невозможно выразить ни словами, ни письменно, и если, следуя примеру древних правителей, я доверю вам управление государством или отдам вам половину земель, даже этого будет недостаточно. До сих пор мы не выразили вам благодарности и не наградили вас; все этому удивляются и недоумевают. У нас еще никогда не бывало, чтобы кто-нибудь, получив даже незначительный титул, покинул нашу страну и возвратился на родину Памятуя о ваших деяниях и следуя примерам предыдущих времен, мы должны были бы всеми способами убедить вас отказаться от вашего намерения и остаться у нас. Но в отношении вас покойный государь все предвидел. Я, глупая женщина, думаю вот что. Ваше желание возвратиться домой непоколебимо, и, если бы препятствовала ему, я бы проявила черную неблагодарность. К тому же вам покровительствуют боги, они являются перед смертными и помогают вам, отличают вас от обычных людей, это все потому, что они ждут вашего возвращения на родину. Поэтому удерживать вас бесполезно. Мы будем всегда сожалеть по поводу вашего отъезда. В прошлых мирах было предопределено, чтобы вы, вняв приказу вашего государя, отправились по бушующему морю в неизвестную страну[410]. Я не могу до конца выразить вам благодарность и не могу не оплакивать разлуку, чувства в моем сердце выше, чем горы, и глубже, чем море. Время нашего расставания приближается, и остановить его нельзя. Как это горько! Когда я покинула дворец и блуждала по диким полям, те, к кому я долгие годы испытывала дружеские чувства, испугались врага и ему не противостояли, страшась смерти, которой все равно избежать невозможно, тогда-то вы один, чужеземец, не достигший совершеннолетия, встали во главе нашего войска и вселили мужество в сердца наших воинов. Я видела вас в тот день, и с тех пор я хочу сказать вам, насколько искренна моя благодарность, которая с тех пор переполняет мое сердце; ради этого я отказалась бы даже от будущего существования. Но каким образом выразить то, что у меня на сердце?
Слезы катились по ее щекам. С чем можно было сравнить ее прекрасное лицо? С цветами груши, смоченными дождем? Если бы на ветвях ивы распустились цветы вишни и источали аромат, как благоухающая слива, то и этого было бы недостаточно, чтобы сравниться с ее красотой.
Женщины в той стране не смущали покой Удзитада, и он вел скромный и воздержанный образ жизни. А после ночи, когда он получил от принцессы Хуаян зашитую в одежде драгоценность[411], у него и вовсе не возникало намерения полюбить другую женщину. Но увидев близко императрицу-мать, он не мог остаться равнодушным. Даже жизнь, которая была подчинена одной мысли: «поскорее увидеть заждавшихся его родителей», он готов был отдать за одно ее слово. Когда он с глубоким чувством взглянул на нее, по щекам его полились слезы, и он забыл все, что хотел сказать. Император находился совсем близко, слышал все, что говорила мать, и смотрел на Удзитада, который, утирая лицо рукавом, безуспешно пытался успокоиться; его лицо было также прекрасно, как лицо государыни. Императрица ясно видела все, вплоть до прошлого существования. Удзитада, робея и испытывая благодарность, ни о чем не думая, сидел в почтительной позе. Наконец он произнес:
— Когда вы изволили неожиданно выехать из столицы, мог ли я, сопровождая вас, выразить свою преданность иначе, чем по вашему слову отдать свою жизнь и принять участие в непривычных мне военных действиях? Далеко от столицы, под стрелами Юй Вэньхуэя никто не мог избежать своей участи, поэтому я должен был приложить все усилия, хотя бы для сохранения собственной жизни. Нам не суждено было понапрасну превратиться в прах и пепел, но все мы спасли жизнь благодаря вашему мудрому плану. Я, бесталанный и неопытный человек, отправляясь в Китай, думал, что, если не вернусь на родину к любящим меня родителям, я после смерти подвергнусь страшному наказанию; если я, осыпанный вашими милостями, возвращусь на родину, меня будет радовать только то, что я вновь встретился с ними до того, как угаснет их жизнь. Я сразился с могущественным врагом не из-за стремления получить награду от вас, я хотел остаться в этом мире, чтобы снова увидеться с ними. Но если бы речь шла только обо мне, я хотел бы никогда не возвращаться на родину и верою и правдою служить вам.
Он говорил смело, охваченный сердечным волнением.
— Вы понимаете все резоны, и задерживать вас бессмысленно, — произнесла императрица.
Она печально задумалась и смотрела на полную луну четырнадцатой ночи, льющую чистое сияние сквозь разрывы в тучах Обращенный к Удзитада профиль ее был невыразимо прекрасен.
— Куда уходит Сияющая луна? Сердце мое, Тоскуя по ней, В небесных просторах блуждает[412], —произнесла она.
Правильно ли он ее понял? Если она действительно выразила свое сокровенное желание, посторонние, услышав ее, не должны были бы догадаться. Но разве вид утиравшего слезы Удзитада не выражал невольно его любовь?
— По широкому небу Вдаль бегут облака, И неподвижно На месте своем пребывает Одна лишь луна[413].Не сказано разве: «сердце, легко меняющееся?»[414] — продолжала она.
Императрица-мать слыла очень мудрой, но как она могла знать старое японское стихотворение? Удзитада решил, что он неправильно понял ее слова.
Императрица удалилась в глубину помещения, но благоухание ее одежд долго витало вокруг занавеси. Не была ли она подобна полной луне? Удзитада никуда не хотелось уходить, он уносился мечтой в небесные просторы. Всю ночь просидел он у открытой двери, погруженный в задумчивость.
«Каждый раз, как смотрю на луну, Мнится, что освещает она Гору брошенной тетки. И печально взираю На светило в краях неизвестных»[415], —сложил он.
Спать ему не хотелось. Он сидел, вдыхая чудесный аромат.
— Люблю и тоскую, Но кто ты — не знаю. Тайно приходишь, И даже во сне Видеть тебя не могу[416], —пробормотал он. Молодой человек сам удивлялся, что мысли об императрице не оставляли его.
— Думы в сердце таю, Но, проснувшись, горько стенаю, И от безудержных слез кровавых Багровыми стали Мои рукава[417].Утром он, как обычно, отправился в императорский дворец, но был рассеян и мысли его витали далеко. Обсуждение государственных дел подошло к концу. Началось чтение древних книг, но в тот день Удзитада не пытался вникнуть в смысл и не задавал никаких вопросов. Когда императрица-мать удалилась в глубину помещения, присутствующие могли разойтись Удзитада пошел к себе и сразу лег в постель. Более сильный, чем накануне, ветер гнал непрерывно по небу тучи, вот-вот должен был пойти снег. Юноша чувствовал печаль, его куда-то влекло, как в ту ночь, когда он встретился с Тао Хунъином и получил от него цинь. Глубокая печаль овладела Удзитада. Тао Хунъин, страшась жестокого правления Янь-вана, бесследно скрылся в глухих горах, и надежд на встречу с ним не оставалось. Глядя на вечернее небо, Удзитада все больше погружался в размышления. Не в силах оставаться на месте, он вышел из дома, сел на коня и отправился куда глаза глядят. Он прибыл в какую то горную деревушку. Повсюду разливался аромат цветущей сливы, который показался путнику особенно сладостным. В вершинах сосен шумел ветер. Луна показалась из-за гор, но было темно. Ветер разогнал тучи, и небо было чистым. Удзитада въехал в лес и услышал звуки музыки. Он подумал, что это инструмент, который в Японии называется хитирики и который считают неподходящим для выражения радостных чувств[418]. Звуки были замечательными. В этой стране он назывался сяо[419]. «На этом инструменте играла принцесса, жившая в древности, и унеслась в мир небожителей»[420], — подумал Удзитада, не в силах сдержать слез восхищения.
Траур по покойному государю еще не окончился, и было запрещено играть на каких бы то ни было инструментах, но горная деревушка находилась так далеко от столицы, и, наверное, поэтому кто-то отважился взяться за флейту. Юноше захотелось узнать, кто там живет. У простых сосновых ворот стояла красиво одетая дама, закрывая лицо веером. «Кто вы? Почему стоите здесь?» — спросил Удзитада, но дама, не отвечая, вошла в ворота, и он последовал за ней.
Вокруг было тихо. В доме явно жили небедные люди, это было высокое строение, хотя и стояло в заброшенном месте. Столбы были новыми и красивыми; во дворце из-за траура вешали занавеси глухих тонов, а в том доме они были ярко-зелеными и притягивали к себе взор. Из глубины дома доносился аромат сливы и непрерывно слышались звуки музыки.
Удзитада, идя за дамой, начал подниматься по лестнице. Он прислушался в доме, казалось, никого не было. Он заглянул в щель между занавесями и смутно различил женскую фигуру. Доносившееся до него благоухание очаровало юношу. «В этой стране даже в горной глуши живут такие изысканные красавицы!» — изумленно подумал Удзитада. Ему захотелось узнать, что это за место. Он повернул направо, но никого не увидел. Дама исчезла. Спросить было некого, юноша пошел дальше, но и там не было ни одной живой души. Становилось все темнее, звуки флейты слышались ясно, до него доносился чарующий аромат — Удзитада вовсе не хотелось покидать этот дом. Он осторожно вошел внутрь.
Сидящая в глубине комнаты музыкантша при его появлении не испугалась. Удзитада не мог ясно видеть ее. Он почувствовал страх, но аромат сливы неудержимо манил его; он приблизился к даме, но лица ее по-прежнему ясно не видел.
— Звуки флейты и лунное сияние влекли меня сюда, — сказал он, но не получил ответа.
Он потянул ее за рукав, взял за руку — дама не испугалась и не стала укорять его. Сердце Удзитада сильно билось, и он тихонько привлек ее к себе. Она мягко опустилась на пол. Юноша не помнил себя. Неужели он мог испытать чувство более сильное, чем любовь к принцессе Хуаян?
Принцесса была похожа на кружащуюся в небе луну[421] и казалась существом другого мира, а незнакомке отношения между мужчинами и женщинами не были неизвестны. Удзитада казалось, что он давно знает ее, он чувствовал сильную любовь; ничего подобного он раньше не испытывал. Расстаться с ней он не мог. Встреча их была очень кратка, но за этот промежуток времени он испытал необыкновенно сильные чувства. Сколько он ни заговаривал с дамой, она ничего ему не отвечала. Оба они непрерывно проливали слезы.
Послышались крики петухов, возвещавших рассвет. Разве могли они расстаться с легким сердцем, если бы даже та ночь была долгой?[422]
Удзитада даже представить не мог, что он покинет тот дом; он хотел умереть в то самое мгновение. Но дама, встретившая юношу в воротах, начала сильно кашлять. Музыкантша, по-видимому, и сама была в растерянности, но уходить его не понуждала. Только глаза ее были полны слез, и она не произносила ни слова.
Кашлявшая дама подошла ближе и стала торопить Удзитада:
— Скоро станет совсем светло. Если наступит день, будет неудобно...
Музыкантша и Удзитада надели каждый свои одежды и расстались[423]. Ему казалось, что он уже не живет. Он ни на что не обращал внимания, и душа его не следовала за ногами[424]. Тяжесть, которую юноша чувствовал на сердце, невозможно выразить словами. По лицу музыкантши было видно, что она испытывала к Удзитада глубокую любовь, но сказать она этого не сказала. Даме, которая встретила его, он несколько раз повторил, что придет еще раз. Наконец Удзитада покинул дом. Душа его была в смятении, и он не понимал, что с ним происходит. Слуге, который дожидался его, молодой человек сказал:
— Если из этого дома кто-нибудь появится, проследи, куда он пойдет.
Чтобы его никто не заметил, Удзитада поспешно удалился, пока не рассветало. Через некоторое время слуга возвратился.
— Я ждал, не покажется ли кто-нибудь из того дома, но никто не выходил, — сказал он. — Изнутри не доносилось ни звука. Мне это показалось странным, и я вошел, но там никого не было. Только поодаль от дома, в помещении для прислуги, сидела седая старуха. Я спросил, кто приезжает сюда, а она ответила: «В этом доме никто не живет. Говорят, что изредка здесь останавливаются на ночлег путники, но сама я их не видела».
Все это было не сказать как странно. Однако раздумывать над этим было не время, и, переодевшись, Удзитада отправился во дворец.
Как обычно, после государственного совета император призвал Удзитада к себе. Чем больше мог юноша видеть императрицу-мать, тем более он убеждался, как необыкновенно она красива, и невольно сравнивал с ней таинственную музыкантшу, ее стройную фигуру и мягкие прикосновения. Не дух ли какой-нибудь подстрекал его к сравнению двух женщин? Незнакомка не выходила у него из головы, но он не отрывал глаз от императрицы, забывая об окружающем.
Императрица-мать велела читать «Избранные места из книг об основах государственного управления»[425] и объясняла государю смысл прочитанного. Ее ученость была беспредельна. Она была так молода, что титул «матери страны»[426] казался в приложении к ней странным. Она учила сына одному чтобы народ был спокоен и страна процветала. День стал клониться к вечеру, и придворные покинули дворец.
Последние месяцы Удзитада постоянно был печален, и его лицо не высыхало от слез, но в тот день он чувствовал особую тоску, какую не знал раньше, и, не дожидаясь наступления темноты, он отправился в горную деревушку, где в вершинах сосен шумел ветер, но дом был безлюден. Ему казалось, что в помещении еще витал чарующий аромат сливы. Он провел бессонную ночь в стенаниях, лежа один в постели. Беспокоясь, как бы утром в столице не удивились, заметя, что он отсутствовал всю ночь, на заре Удзитада поспешно возвратился домой. Незнакомка не выходила у него из головы, грудь его пылала от любви Удзитада не терял надежды вновь найти музыкантшу в горной деревне и то и дело отправлялся туда, но возвращался, напрасно проездив[427]. Цветы сливы уже осыпались, и не было видно ничьих следов Удзитада очень мало надеялся увидеться вновь с принцессой Хуаян, но хранил полученную драгоценность и часто вспоминал об их встрече; а после единственного, мелькнувшего, как сновидение, свидания с незнакомкой у него не осталось ничего на память, и чем больше проходило времени, тем больше ему казалось, что он уже расстался с жизнью.
«Почему дым от огня любви не клонится в одну лишь сторону?»[428] — думал он. Ему становилось стыдно своей слабости. Удзитада постоянно являлся на службу во дворец, но день ото дня становился все печальнее. Месяц подошел к концу.
4
Растущая перед дворцом красная слива полностью расцвела, и аромат, который приносил с собой вечерний ветер, неотступно преследовал Удзитада воспоминанием о луне над домом в горной деревушке Придворные разошлись, а Удзитада, оставшись один, сочинил:
«Не благоуханье ли Той самой сливы? По дороге прямой В сон стремится душа, Которому не повториться»[429].По щекам его катились безудержные слезы, и, увидев его в то время, любой проникся бы жалостью. Когда взошла луна и император удалился в личные апартаменты, Удзитада покинул дворец. Он жил в государственном помещении, и путь из дворца был недалек. С каждым днем Удзитада терял интерес к окружающему. Дома, сняв пышные одежды, он лег в постель и горестно смотрел на луну. Он сложил:
«Лишь увижу осенней порой На небе луну, Душу полнит печаль. Не так блистала она В весеннюю ночь»[430].Было тихо, слуги крепко спали. Луна зашла. Удзитада услышал, как кто-то затворил за собой дверь, и открыл глаза Он почувствовал знакомый аромат и понял, что рядом с ним музыкантша; радость его невозможно выразить словами. Взяв за руки, он привлек ее к себе Ему не казалось, что это расцветшие в далекой стороне вишневые деревья[431], между ними не было никаких преград. Его любовь с каждым мгновением усиливалась, и обрести покоя он не мог. За какие грехи ему было суждено испытывать такие страдания? Он снова и снова укорял незнакомку, что она, боясь, как бы не пошли дурные слухи, не открывает ему, где живет, но дама по-прежнему ничего не говорила и только безутешно плакала.
— Извините мою бесцеремонность, но нет ли кого-нибудь, кто мог бы объяснить мне? — спросил он, но она покачала головой.
— В таком случае не обманули ли меня облако с горы Ушань[432] и богини реки Сян[433]? — спросил он, но она и на этот раз ничего не ответила.
Он хотел бы удержать ее, чтобы она не скрылась с пением петухов, но помешать этому было невозможно.
— Сколько б ни думал, Сколько бы ни говорил, Не забыть сон тот весенний. О, если бы мог Всю долгую ночь его видеть![434]произнес он.
— Нетрудно тебе Уходить по дороге разлук, Я же ночами по ней Во сне беспробудном Буду блуждать, —прошептала она так тихо, что слова ее было трудно уловить.
Любовь их была печальна; он всеми силами стремился как можно скорее возвратиться на родину, им предстояла вечная разлука, эту мысль было не перенести. Дама опасалась попасться людям на глаза, он тревожился, что она исчезнет, как поденка, но как было воспрепятствовать этому? Они провели ночь, тесно прижавшись друг к другу. Казалось, что женщина вовсе не торопится покинуть его. Она была мягка и нежна, но неожиданно исчезла, как будто погасла свеча. Он даже подумал, не надела ли она плащ-невидимку, и стал шарить вокруг руками, но напрасно. Их свидание было еще более кратким, чем мелькнувшее сновидение[435]. Оставленная дамой накидка источала неизъяснимо прекрасный аромат. Во дворце из-за траура не носили одежд с узорами, а это была прекрасная одежда, затканная золотом и серебром. У него не было надежд увидеть ее еще раз, и, думая, что накидка осталась ему как единственное воспоминание о ее владелице, Удзитада безудержно плакал.
Он не мог собрать мыслей, чувствовал себя плохо, и в тот день ему вовсе не хотелось идти во дворец. Император поднимался рано, и до Удзитада донесся шум шагов придворных, спешивших на службу. Собравшись с силами, он отправился вслед за ними и сел как можно дальше от монарха. Но он никак не мог прийти в себя после промелькнувшего, как сон, ночного свидания. Удзитада стал опасаться, не заметит ли кто-нибудь его состояния и не начнутся ли расспросы[436], и постарался успокоиться.
Император, как всегда, благожелательно заговорил с ним:
— Осталось очень мало дней до конца весны и вашего отъезда на родину. Мы очень привыкли к вам. Сколько нам придется ждать, чтобы мы встретились еще раз? Как горько думать, что мы больше не увидимся! — сказал он, утирая слезы.
За последние месяцы государь вырос, стаи необыкновенно красив и вызывал почтительное восхищение. В такие мгновения решимость Удзитада начинала ослабевать. «Почему на мою долю выпала столь мучительная судьба? — думал он. — Я с каждым днем привязываюсь к милостивому государю и в то же время не могу дождаться отплытия на родину». Многое приводило его в беспокойство.
— Вы не обошли вниманием ничтожного чужеземца, как я, и даже на пути домой, отделенный от вас широким морем, смогу ли я забыть ваши милости? — сказал он.
Сидевшая поодаль императрица услышала его слова и, улыбаясь, произнесла:
— Если бы кто-нибудь, переплыв безбрежное море, перевалив через высокие горы, прибыл в нашу страну, и в то время, когда мог бы вести здесь беззаботное существование, спешил бы нас покинуть; если бы он, поднимаясь на корабль, надеялся еще раз совершить такой путь, его надо было бы считать глупцом.
Глядя в тот момент на императрицу, Удзитада невольно вспомнил незнакомку, игравшую на флейте сяо. «Не является ли она, чего доброго, близкой родственницей императрицы-матери? Они так разительно похожи», — подумал он.
Но императрица была единственной дочерью начальника Дворцовой стражи Дэн Уцзи, имевшего пятый ранг Необыкновенная красавица, она в тринадцать лет была избрана для службы во дворце. Вскоре она получила высокий ранг, а в семнадцать лет была назначена императрицей. Сестер у нее не было. Отец ее скончался молодым, старший брат был полководцем охраны[437] и в нынешнее царствование мог бы стать влиятельным лицом, но после того, как в империи воцарился мир, императрица сказала: «Когда родственники государя со стороны матери стремятся к власти, надо ждать беспорядков в стране», и не отличала брата перед другими. Она избирала и возвышала людей, обращая внимание на их талант и выдающиеся способности к правлению, всеми силами стремясь к достижению мира. Императрица не кичилась своим высоким положением, ни одно дело не считала недостойным себя, была усердна, не знала отдыха и не совершала оплошностей; внешностью она была блистательна, как отполированная драгоценность. Кем она была в предыдущих рождениях? И в древности не было таких выдающихся императриц, как она.
5
— В нашей стране часто императрицы брали в руки правление, и неминуемо возникали беспорядки, — сказала государыня. — Это очень прискорбно. Ни один правитель никогда не осознает собственных ошибок. Я, женщина немудрая, не обладающая познаниями, берусь за решение важных дел и, конечно, допускаю множество промахов. В лицо мне никто ничего не скажет, но за спиной станут злословить, и для страны и для меня выйдет один вред. Надо, чтобы, следуя древним обычаям, мне сообщали, в чем я поступила неправильно.
Она велела выставить доски для порицания[438]. Но с тех пор, как она стала править Поднебесной, не было совершено ни одной несправедливости, и доски оставались чистыми. Императрица была смущена и заплакала.
— В древности мудрые правители, выставляя такую доску, желали знать собственные промахи. Я, глупая женщина, последовала их примеру. Но народ сомневается в моих намерениях и боится навлечь на себя наказания; и никто не решается указать на мои ошибки. Я, недалекая женщина, только покрыла себя несмываемым позором.
В то время ей подали письмо:
«После того как наша государыня взяла на себя бремя правления, с неожиданно возникшими беспорядками в стране покончено, и народ может отдохнуть от непосильных трудов. Наше время совершенно не отличается от эпох Яо и Шуня[439]. Однако в нашей стране никогда не бывало, чтобы "воином-драконом" был назначен иноземец, к тому же молодой годами. Никто не помнит, чтобы такой человек занял столь высокое положение. В древности не было примеров, чтобы люди, которых награждали самыми высшими титулами, возвращались на родину, а ныне всем известно, что "воин-дракон" считает дни до отплытия и торопится отвязать канат корабля. Но, как бы то ни было, нынешним беспримерным правлением мы обязаны ему одному. Если, закрыв глаза на его иноземное происхождение и на его молодость, вознаградить его за выдающиеся успехи, он откажется от намерения возвратиться к себе и будет долго служить нашей стране. Если же он уедет, это будет для нас позором».
Императрица, прочитав письмо, сказала:
— Все, о чем здесь говорится, — совершенная правда. Когда, к нашему несчастью, внезапно скончался государь, которого действительно можно было сравнивать с императорами Яо и Шунем, возникла смута, подобная беспорядкам эпох Цинь и Хань[440]. В двадцати двух уездах, лежащих к северу от реки Хуанхэ[441], не нашлось никого, кто бы преградил путь мятежникам, и вражеская армия наступала быстрее, чем вышедшая из берегов вода затопляет округу. В конце концов мы покинули дворец, защищенный толстыми стенами, и пустились в путь по ненадежным мосткам в ущельях. В открытом поле, когда враг был уже на расстоянии выстрела из лука, ни один из чиновников и военачальников, следующих за нами, не предложил плана, чтобы одолеть неприятеля, и не захотел выйти ему навстречу. Это сделал один только «воин-дракон», погубивший армию Янь-вана и обеспечивший покой в нашей стране. Примеры, когда в исключительных обстоятельствах предоставляли необыкновенные награды, бывали и в древности. Нельзя не вознаградить человека, совершившего славный подвиг; мы пожаловали ему титул, но ему надо было бы даровать земли в десять тысяч домов и тысячу цзиней[442] золота, наши же дары не достигают и десятой доли этого. А все потому, что он сам решительно отказался принять что-либо еще. От возвращения на родину я отговаривала его сама. Но этого юношу направляют и защищают боги, он человек необычный, и если я причиню ему обиду, надо будет и вовсе позабыть о благодеяниях. У меня с самого начала болит сердце при мысли о его отъезде, но задерживать его я не могу. Тем не менее, я еще раз поговорю с ним.
Некоторые придворные замыслили погубить Удзитада, но он один своими силами расправился с приспешниками Юй Вэньхуэя, которых не могли победить двадцать воинов императорской армии, и обратил в пыль и пепел семьдесят варваров. Оружием с ним было не справиться. Его решили отравить, но он мог разгадать коварный замысел и заговорщики могли погибнуть. Опасаясь этого, в течение нескольких месяцев они выражали Удзитада полное повиновение, и ни у кого не возникало желания ему противоречить. Придумать, как осуществить задуманное, никто не мог, и второй раз не стали осуждать правление императрицы-матери. Но в душе придворные считали возвышение Удзитада позором для всей страны. Однако нельзя было забывать, что их всех спас Удзитада, и умудренные годами сановники, признавая его заслуги, не стали нападать на императрицу и не завидовали успеху Удзитада. Ему было совершенно ясно, как относились к нему при дворе но он не думал об этом Его терзали страдания любви, мучительные, как дорога в крутых горах[443]. Многие придворные противились решению императрицы-матери отпустить его на родину, но те, которые хотели отстранить юношу от двора, радовались: никто не будет сравнивать их способности с его талантами и решать, кто умен, а кто нет[444].
Наконец доложили, что можно пуститься в плавание. Удзитада должен был бы радоваться, что путь на родину открыт, но его охватила печаль: он не мог забыть даму-музыкантшу, облик которой он видел лишь смутно[445], и скорбел, что их встречи были так мимолетны. Когда он думал, что должен покинуть Китай, он плакал кровавыми слезами о том, чего лишился[446]. Вдыхая аромат накидки, которую оставила музыкантша, он не мог решить, где ему поставить изголовье, чтобы она явилась ему во сне[447]. Печаль не отпускала его, и он сложил:
«С тех пор как во сне Мне явилась, Глаз сомкнуть не могу, И нет дня, чтоб не грезил О таинственной встрече».Беспрерывно лили дожди. Ночью Удзитада сидел перед открытой дверью, в задумчивости смотрел на покрытое тучами небо, и на душе у него было беспросветное уныние. Ветер донес до него знакомое благоухание, которое, как всегда, заполнило все помещение, и сердце юноши взволнованно забилось. В комнате показалась женская фигура, и Удзитада забыл себя от радости. Дверь закрылась.
«В тоске о пути, Который в сне неверном Ведет к нашей встрече. Хотел бы я на чужбине С возвращеньем желанным помедлить», —сложил он. Удзитада мог бы укорять ее, но их эфемерные отношения должны были так скоро прекратиться, и каждый раз, видя даму, Удзитада остро чувствовал ее необычайную прелесть. Их нижние платья тесно прилегали друг к другу, их любовь становилась все глубже, и им казалось, что встречи их не будут редки[448], но от действительности было не уйти. Удзитада беспредельно досадовал, что она исчезает подобно облаку или туману и он не знает, где она обитает, а она печалилась, что приближается срок его отъезда. Он смотрел на нее, и ему казалось, что он давно ее знает.
— Разительное сходство, А дотронусь рукой — Тень пустая. Так лунный лавр В широком небе недоступен[449].Какая судьба обрекла на меня на такую необычную любовь? — спрашивал он, проливая слезы.
— Как мог ты меня, Ничтожную каплю росы На поле огромном, С лавром сравнить, Что растет на луне?Я не собиралась скрывать, где живу, и ставить между нами преграды, но опасаюсь, что если вы узнаете, кто я, то в страхе будете меня сторониться. Наши встречи останутся тайной, и это будет мне утешением, когда вы навсегда покинете меня и отправитесь на родину, — сказала она тихо, так что он не мог всего расслышать и оставался в сомнениях.
Мысли мешались в его голове, и он сказал: — Весенние ночи проносятся быстро, скоро запоют петухи, а я так и не понял, не пустой ли это сон? Как могу я узнать? Он повторял свои упреки, и дама произнесла:
— Когда утренним облаком В небе исчезну, Над какою горой Тень мою Сможешь увидеть?[450]У меня не осталось никаких надежд. Судьба заставляет вас всем сердцем стремиться на родину, поэтому лучше было бы не завязывать даже кратковременных любовных отношений.
Если спросишь, Где меня разыскать, Все ответят, что долго Придется блуждать По дорогам во снеМы не встретимся больше ни в одном из миров. Это расставание навеки, и мы больше не увидимся.
Не договорив, она заплакала, и горесть, которую они испытывали, словами выразить не возможно.
— Если будет дано Видеть каждую ночь Этот сон мимолетный, Кто станет спешить С отъездом в родную страну?Не открывая своего местонахождения, представляясь блуждающим облаком, не хотите ли вы помешать моему возвращению домой? — упрекнул он ее.
— Расставаясь той порой, когда далеко до порывов осеннего ветра[451], рыбачка, у которой нет дома[452], не назовет вам имени, — ответила она бессердечно, и ее слова не рассеяли его обиду.
Их желание только увеличивалось, и когда они волей-неволей разобрали свои одежды[453], оба были охвачены жалостью друг к другу.
— Этой ночью приду опять, — пообещала она, но Удзитада не мог верить ей.
Она открыла дверь, но было еще так темно, что юноша не мог различить плывущих по небу туч. Бессердечная незнакомка исчезла, и только аромат наполнял комнату.
По мере того как множились ночные встречи, сердце его не успокаивалось, ему стало казаться, что живое существо не может исчезать подобным образом, и он стал опасаться, не является ли к нему привидение.
Часть третья
1
Удзитада не знал, кто принимает вид утреннего облака и вечернего дождя. Женщина избегала показываться ему даже при лунном сиянии или при тусклом огне светильников; они всегда встречались в полной темноте[454]. Опасения Удзитада не рассеивались. Сновидение повторялось каждую ночь[455], дама говорила о своей любви к нему и о своей печали, но он не мог полагаться ни на одно ее слово[456]. Ничто не могло отвлечь юношу от горьких размышлений. Если бы он мог достоверно узнать, что все это проделки какого-то духа! Свидания, неопределенные, как существование поденки[457], прервались. Шло время, и печальных дум его было больше, чем лепестков весенних цветов[458]. Служба во дворце стала для него совсем тягостна, но, затаив в сердце непереносимые терзания[459], он вел себя, как обычно. Уехав из Китая, он оставит все надежды встретиться с незнакомкой еще раз в этом мире Опять сердце его колебалось, как в небе облака[460], и он не знал, возвращаться ли на родину, о чем раньше думал с таким нетерпением, или нет.
Корабельщики сказали ему: «Ветер никак не стихает, в такую погоду в плавание лучше не пускаться». Надо было ждать осени, отсрочка была небольшая, но Удзитада вздохнул с облегчением. Однако он не мог сообщить об этом незнакомке и проводил время, погруженный в размышления, безнадежно глядя на небо. Удзитада не приходилось находиться близко от императрицы-матери, но ветер иногда доносил до него бесподобный аромат ее одежд, так похожий на благовония, которыми пользовалась незнакомка. Он все больше и больше готов был впасть в заблуждение и проливал слезы Императрица была так же недостижима, как багряник на луне, ее красота была безупречна, как драгоценность, на которую не садилось ни одной пылинки[461]. Могли он заговорить с ней как с обычной женщиной, стенать и досаждать ей упреками? «Не проделки ли это какого-то могущественного оборотня? Не пытаются ли меня обмануть коварные духи?» — снова и снова спрашивал он себя в смятении. Могли кто-нибудь догадаться, о чем он думал?
Однажды в четвертом месяце, когда на небесах появилась полная луна, придворные, освободившись от густой заросли дел[462], разошлись по домам; император подозвал к себе Удзитада и сказал:
— Вы должны отправиться в опасное плавание, в котором до самого конца нельзя быть уверенным. Вы отложили отъезд до осени, и мы на некоторое время утешились, но напрасны надежды, что вы останетесь у нас подольше.
— С почтением внимаю вашим милостивым словам, к которым за это время я так привык. Я отложил отъезд на родину, к чему в сердечной слепоте[463] так стремился, но сожалею только о том, что больше не буду служить вам, и с каждым днем печаль по этому поводу только усиливается... — начал Удзитада, но не мог справиться со слезами и вынужден был остановиться.
Императрица-мать сидела поодаль и смотрела на него с невыразимой печалью. Тихо, наверное не желая, чтобы кто-нибудь еще услышал ее, она произнесла:
— В последний раз ощущаю Холод осеннего ветра С миром прощаюсь, В котором больше Тебя не увижу[464].Точно так же говорила незнакомка. Но это, конечно, было проделками оборотня, который мастерски подражал манерам государыни, заблуждение привело бы к непочтительности и никак не было бы утешением.
— Пусть гонит корабль, Скользящий без следа, По волнам ветер осенний С чужих берегов, Которые я покидаю[465], —сложил Удзитада.
Утирая слезы, он смотрел на луну, поднимающуюся в безоблачном небе, и думал о луне, которая вставала над холмом Микаса[466]. Императрица-мать с трудно сдерживаемым чувством смотрела на Удзитада.
Император долго очень любезно разговаривал с Удзитада. Становилось все позднее. Беседа касалась различных серьезных предметов, и государь выразил сожаление, что нельзя отменить отъезд Удзитада. Юноша робко отвечал, но его слова лишь наполовину соответствовали его чувствам, ибо в душе он в растерянности спрашивал себя: «Чего я сам больше хочу: остаться на чужбине или вернуться домой?» Но разве можно колебаться относительно отъезда на родину?
Он покинул дворец, когда время близилось к рассвету. Как обычно оставив дверь открытой, он стал смотреть на небо. Запели петухи, и луна скрылась за облаками.
«Напрасно всю ночь Провел в ожиданье. Поют на заре петухи, Но остается закрытой Застава в груди»[467], —сложил он.
Тихо падали на землю капли утреннего дождя. Рукава Удзитада были насквозь мокры от слез. Он был подавлен и, сказав, что болен, весь день пролежал в постели. Узнав о его недомогании, император послал справиться о здоровье. Удзитада попросил передать государю: «Болезнь не такая уж тяжелая. Наверное, это простуда. К завтрашнему дню я выздоровею».
Он лежал, погруженный думы. К нему прибыл племянник императрицы-матери, Дэн Инчэн. Он очень вежливо осведомился о здоровье, передал больному привет государыни и вручил посланное ею лекарство. Удзитада, изумленный такими знаками внимания, сел в церемониальную позу и поблагодарил Инчэна как полагалось. Его безукоризненные манеры произвели самое благоприятное впечатление на посетителя, и, глядя на него с восхищением, он спрашивал себя: «Как в нашем мире мог родиться такой замечательный человек?» Таким прекрасным благородным лицом, без сомнения, залюбовались бы все женщины; его не портили даже шрамы, свидетельствовавшие о славе несравненного в Поднебесной воина. Инчэн думал, что Удзитада был лучше всех виденных им мужей. Сам он, воспитанный императрицей-матерью, был очень талантлив и образован. На прощание он сочинил стихотворение и получил от хозяина ответ, доставивший ему глубокое наслаждение.
Луна наконец-то показалась из-за гребней гор, и Удзитада не сводил с нее глаз до самого захода[468]. Неожиданно он почувствовал знакомый аромат, и сердце его безудержно забилось. Послышался звук закрываемой двери. Он не собирался изливать в жалобах даже часть того, о чем беспрестанно думал. Жизнь столь же кратковременна, как звук удара в колокол. Мысль, что на рассвете им надо расстаться, приводила обоих в отчаяние. Как им хотелось, чтобы ночь никогда не кончалась!
Незнакомка сложила:
— Известно, где та вершина, На которой лежало Белое облако. Но куда оно С ветром исчезло?[469]Она едва кончила говорить, как Удзитада ответил ей:
— Где та гора, На которой спят Белые облака? И куда они утром Исчезают бесследно?Он был еще более задумчив, чем обычно, и не представлял, чем можно успокоить сердце.
Утром он не мог подняться с постели[470] и сказал, что плохо себя чувствует. Его близкие друзья, постоянно бывавшие у него, услышав об этом, всполошились и пришли его проведать. Им казалось, что они находятся перед водопадом Беззвучный[471], который низвергает влагу, но не издает ни звука. Тревога друзей не утихала. Удзитада хотел одного — лежать и смотреть на огромное небо[472], но тогда от визитов не было бы отбоя. Даже запершись дома, он не мог остаться один, и, сказав, что выздоровел, он отправился во дворец. Одна задругой шли ночи, которые он проводил в одиночестве. На службе он был рассеян и не проявлял усердия даже при изучении классических книг.
2
Прошел двадцатый день, и весь сад перед дворцом покрылся распустившимися пионами. Китайцы любят Пионы и утверждают, что никакие другие цветы с ними несравнимы. Они действительно были так красивы, что, казалось, излучали сияние. Удзитада, сорвав цветок, удалился к себе.
Наступил вечер. Идти юноше никуда не хотелось. Сердечное томление его усиливалось. Небо, на которое он сидя глядел, заволокли тучи, и пошел дождь. Неясно послышалось пение кукушки[473], первое в том году, совершенно такое же, как в родной стороне.
«Внезапный дождь. На родине уже никто Не спросит, что со мною стало. И только ты, кукушка, Меня не забываешь», —сложил он.
Дождь перестал. На прояснившемся небе показались звезды. Укрываясь от их блеска, незнакомка проникла в дом. Удзитада услышал, как закрылась дверь. В темноте он не мог видеть даму, но чувствовал привычный аромат, и страсть его от этого только усиливалась.
— На родине никто Не спросит о тебе, А под чужими небесами птица, Не знаю почему, По-прежнему тебе поет.До вашего отъезда остается так мало времени, и я не могу избежать прегрешений, множа наши встречи, подобные тяжелым сновидениям. Потом, вспоминая их, я буду страдать, — сказала незнакомка.
Им следовало бы сторониться друг друга, но ведь правильно сказано, что пустая затея — скрывать любовь[474], а их страсть была такова, что, даже возродившись в ином обличье, они не нашли бы успокоения. Удзитада снова и снова жаловался, что она подобна поденке[475].
— Открыв перед вами этой ночью сердце, я не должна скрывать от вас свое имя и исчезать, как утреннее облако. Однако если вы узнаете, какая неразрывная связь существовала между нами еще в предыдущих рождениях, мне будет стыдно, что в нынешней горькой жизни я не смогла избежать заблуждений и отдалась страстям; поэтому-то я и не хочу открывать вам имени. Но другая мысль не дает мне покоя: если я не разрешу ваших сомнений, то понесу наказание за то, что ввела вас в заблуждение. Скоро вы все узнаете, — сказала она прямо
Играя пионом, который Удзитада сорвал днем, она сказала, засмеявшись:
— Этот цветок укажет, где я живу. Но боюсь, как бы, узнав, вы не почувствовали отчуждения.
Смех ее невесело отозвался в его сердце.
Раздался звук колокола, возвещавший о том, что краткая летняя ночь промчалась быстрее, чем пение кукушки[476], и незнакомка исчезла
Все утро Удзитада думал об одном: «Где же я найду этот цветок?» Ему хотелось немедленно отправиться на поиски в неведомые горы, но в тот дня служба начиналась с самого утра, и император несколько раз говорил, что хочет его видеть. Удзитада поспешил во дворец. Окончив обычные дела, император очень любезно беседовал с ним до самого вечера. Было объявлено, какие книги будут читаться на следующий день. Свободного времени оставалось еще меньше, чем обычно, и не было никакой возможности отправиться в горы к облакам, чтобы увидеть желанный цветок[477]. Во дворце толпилось много народу, императрица находилась далеко за опущенными занавесками, и до Удзитада не доносился знакомый аромат.
В пятом месяце во дворце, не покладая рук, готовились к отправке людей в Японию, которая была назначена на осень. Один за другим являлись будущие спутники Удзитада. Он всей душой стремился отыскать незнакомку, но времени у него оставалось мало; он не знал ни мгновения душевного покоя. «Может быть, цветок случайно попадется мне на глаза», — думал он и, объявив, что хочет осмотреть места, которых еще не видел, разъезжал по горам и рощам, внимательно смотрел по сторонам, но нигде пионов не видел. Он отправился в горную деревушку, где впервые почувствовал чудесный аромат, но вокруг дома все заросло летними травами и не было видно ничьих следов. Более безлюдного места он никогда не видел.
Внутри помещения были чисто убраны, и в задней комнате, где не было ни пылинки, у стены он заметил лепесток разыскиваемого цветка. Время цветения пионов давно прошло, но, к изумлению Удзитада, лепесток был свеж. Юноше казалось, что он грезит наяву. Если бы там был кто-нибудь, кого можно было бы спросить[478], Удзитада обратился бы к нему: «Кто оставил здесь этот лепесток?» и проник бы в тайну, но в доме не было ни души, и, проливая горькие слезы, он возвратился в столицу, так ничего и не узнав. Найденный лепесток Удзитада взял с собой, но — странное дело! — он не засох, не завял, и цвет его совсем не изменился. Тянулось утро за утром, за вечером вечер[479], Удзитада думал только об одном. Неумолимое время проходило быстро. Он напрасно всю ночь держал открытой деревянную дверь[480].
Наступил шестой месяц. Удзитада устал от беспрерывных дум, и казалось, его душа была готова расстаться с телом. Путешествие предстояло далекое, и отплытие было назначено на двадцатый день того месяца. Он тосковал о бессердечной незнакомке, исчезавшей неизвестно куда, но при мысли, не остаться ли ему в китайской земле еще на осень, он вспоминал о матери, о которой не переставал тревожиться, и о принцессе Хуаян, с которой он надеялся снова увидеться и драгоценность которой он всегда носил с собой. Противоположные мысли мучили его, печаль его усиливалась с каждым днем, и время приносило ему одни горькие страдания.
«С тех пор как корабль В гавань вошел Неизвестной страны Морокоси, От любви, что скользит как в потоке, Я не знаю покоя»[481], —сложил он.
3
Прошел десятый день шестого месяца. Стояла непереносимая жара. Обсуждение государственных дел закончилось, и во дворце оставались лишь самые близкие к государю придворные. Чтобы немного отдохнуть, император и государыня-мать расположились в павильоне для ужения, где веял прохладный ветерок. Император призвал к себе Удзитада, и он, приблизившись, сел на камень под навесом.
— Я давно думаю о вашем отъезде, но сейчас, когда подошел срок, мне он кажется совершенно безжалостным, — сказал император.
На его глазах показались слезы. Удзитада тоже заплакал. Императрица-мать сидела недалеко от них.
Стояла такая непереносимая жара, что даже легкое платье казалось слишком теплым. Ослепительный светлился с безоблачного неба. Красота императрицы казалась более блистательной, чем обычно, и заставляла от изумления широко раскрыть глаза. При взгляде на нее можно было забыть о невероятной духоте — казалось, что это луна поднимается в чистом небе. Удзитада изумленно спрашивал себя: «Неужели в нашем мире может существовать подобная красота?» и не мог произнести ни слова. До него доносился свежий аромат из древесины аквилярии или из коры сандалового дерева, и хотя он совершенно не отличался от аромата одежд таинственной музыкантши, юноша по-прежнему думал, не игра ли это его воображения. Ему казалось, что он перенесся в страну Будды. Он невольно, забыв о почтении и осторожности, смотрел на государыню так же пристально, как взирал на Будду его ученик: «ни на мгновение не отводя от него взора»[482], и по щекам его катились слезы.
И государь, и императрица-мать сожалели, что Удзитада их покидает, что его ничем нельзя было удержать, и, тоже плача, повторяли, что никогда не забудут его преданности.
— Следуя заведенному порядку, и я не люблю голосов царств Чжэн и Вэй[483], мы не должны забывать об истинном значении ритуала и музыки. Я хотел бы наслаждаться музицированием вместе с вами, но из-за траура игра на музыкальных инструментах из металла, камня, нитей и бамбука[484] запрещена, и, к несчастью, время вашего пребывания здесь прошло. Жаль, что вы не можете остаться у нас до того, как снова вернется этот месяц[485]. Месяцы и дни текут быстро...[486] Но мы не можем забывать о глубине ваших побуждений и гневаться на ваш отъезд, — сказал император.
Удзитада так сильно желал возвратиться на родину, что государь не удерживал его.
— Нынешний отъезд отменить невозможно, — продолжал император. — Нельзя обмануть ожидания тех, кто тоскует по вас на родине. Наша жизнь столь же непрочна, как цветение вишен[487], но если вам суждено пережить ваших родителей, не приедете ли вы к нам еще раз? Сейчас я, сожалея о разлуке, не удерживаю вас, но дайте обещание возвратиться и таким образом докажите, насколько искренне ваше отношение к нам.
Когда Удзитада услышал эти слова, слезы сдавили ему горло, и он не мог произнести ни слова.
— Надеюсь, что боги дадут мне Много дней жизни, Чтобы смог я Выполнить ваше желанье И вас еще раз посетить.Император ответил ему:
— О том же и я Молю всемогущих богов. Надеюсь, недолго Придется мне ждать Второго приезда.Пожелаем друг другу, чтобы долго длились наши жизни.
Произнося эти слова, император казался совсем взрослым и был так красив, что, казалось, излучал сияние.
Когда наступил вечер, императрица, произнеся краткие слова прощания, удалилась в задние помещения. Через некоторое время скрылся и император, и тогда от императрицы было передано:
«Возможно, для Вас это будет неожиданностью, но я не могу не досадовать[488], что до сих пор храню пион, время цветения которого давно прошло».
Цветок, который протянула ему прислуживающая дама, казалось, был сорван только что, цвет его совсем не поблек. Он узнал даму это она стояла тогда в воротах дома в горной деревне. У Удзитада отнялся язык.
— Государыня сама рассеет ваши сомнения Подождите немного, — сказала дама.
К стеблю пиона было прикреплено стихотворение:
«Что можно сравнить С ароматом И цветом пиона? На свете не сыщешь Второго такого цветка».Аромат самого цветка улетучился, но пион благоухал хорошо знакомым ароматом одежд императрицы-матери.
На небе показалась луна. «Подойдите сюда», — было сказано ему. Он сел на веранде. Отделенная от него занавесью, императрица сказала, какое глубокое чувство она испытывает к нему. Он не мог придумать, что сказать, и только старался, чтобы в лунном свете никто не заметил его слез, которые, как бесчисленные жемчужины, катились по его щекам.
— Если я не открою вам настоящую причину наших встреч, к которым мы шли прямой дорогой, открывающейся во сне[489], я совершу преступление. Юй Вэньхуэй — в действительности асура[490]. Он возродился в человеческом облике, и приближалось время, когда бы он погубил нашу страну. Наш прежний государь, император Вэнь, тревожился и скорбел; он несколько раз посылал Сюань-цзана, по прозвищу Трипитака[491], передать его жалобы Небесному императору[492]. Я принадлежала к небесной рати, обитающей на Даолитянь[493], и не должна была спускаться в мир людей, но Небесный император проникся жалостью к этой стране и решил дать мне поручение: я должна была возродиться здесь, чтобы усмирить беспорядки и восстановить страну. Я была избрана, потому что между мной и здешними жителями существуют некоторые узы. Но женщине с таким делом не справиться, и надо было послать кого-то мне в подмогу. Вы, в то время небесный отрок, прислуживали Небесному императору, и он приказал вам: «Возьми мои лук и стрелы и сокруши возродившегося на земле асуру». Вы не имели к этой стране никакого отношения, а кроме того, вам было негде хранить лук и стрелы Небесного императора, и это было поручено Сумиёси, богу японской земли. Я о наказе Небесного императора не забыла, и не надо было опасаться и скорбеть, но, получив тело несовершенного человеческого существа, я стала блуждать по греховным путям; правильный взгляд, замутненный темнотой мира, в котором живут злые духи, исчез; вот почему во время важных событий я не могла правильно оценить положение и, охваченная страхом, пустилась в бегство. Тогда-то я убедилась в нерушимости клятв, данных в прошлых мирах, и увидела вашу глубокую преданность. Я не смогла преодолеть радость, с тех пор переполнявшую меня, и испытала глубокое чувство, которое обычными словами не выразить. Я сама родилась в человеческом мире, а у тех, которые смотрят на жизнь обыкновенными глазами, чувства запятнаны, а мысли блуждают далеко. Я в сердечной нерадивости думала, что вы никогда не узнаете, какие чувства дружбы и любви связывали нас раньше; Небесный император накажет меня за опрометчивость, что, получив человеческое тело, я впала в заблуждение, как во сне, встретилась с вами, не смогла заставить себя проснуться и покорно отдалась смятению чувств. Я долго мучилась, не усугубит ли это мою горькую участь, но в конце концов открылась вам в своих чувствах. Это верх неосмотрительности, и я не смогу избежать наказания.
Так перед Удзитада приоткрылась завеса над его прошлым существованием, о котором он смутно догадывался. Он печально задумался и, до конца не осознавая, кто в облике императрицы-матери находится перед ним, хотел еще раз[494] пройти по прямой дороге, открывающейся во сне, но для нее, все полностью ему открывшей, омрачения нашей горькой жизни[495] стали совсем чужими, и она погрузилась в глубокие размышления о скорби бесконечных миров.
— Время, отпущенное Небесным императором для существования в человеческом мире, ограничено, и не так уж много времени я буду управлять страной, — снова заговорила императрица. — Я знаю, что не пройдет и сорока лет, как я вернусь на небо, и совсем не надо будет сожалеть, покидая землю. Но в последний час расставаться с полученным на время телом будет тяжело, и рядом не будет никого, кто бы проникся моей тоской. Хотя получить разрешение будет трудно, не приедете ли вы в момент моей кончины еще раз в Китай?
По чистому небу скользя, Льет на землю Сиянье луна. Последуй за ней до хребта За который она садитсяЧеловеку не дано упорно думать о разлуке; так уж устроено, что даже глубокая печаль проходит. Императрица продолжала, утирая градом лившиеся слезы:
— Находясь во дворце небожителей, мы обменялись крепкими клятвами, которые связали нас на многие века; поэтому и в этом мире наше существование будет долгим. Разве не говорят: «Даже несравненный исполнитель на цине должен оставаться в низком мире»? Избежать судьбы невозможно, наша встреча — не легкомысленное заблуждение сердца. Я хочу ясно объяснить вам этот древний закон. Мне было известно истинное положение вещей, и я вам его открыла; вы теперь знаете, что наша любовь, когда я исчезала подобно утреннему облаку, за что вы осыпали меня упреками, не была подобному сну заблуждением, о котором вам надо было бы тосковать.
Никак нельзя было проверить, что такая красота действительно принадлежит существу нашего мира. Занавесь была приподнята. Очарование сияющего в лучах луны лица было невозможно выразить словами. Потому ли, что в Китае было принято говорить прямо, она, гордясь своей красотой, сказала
— Если влюбленным дано Часто встречаться, Гаснет любовь. Но чтобы, расставшись, Меня не забыть...Когда вспомните меня, посмотрите в это зеркало.
Она вручила ему небольшую шкатулку.
— Сейчас слов моих Тебе не понять, Но непременно В зеркале этом Мой облик увидишь[496].Если оно попадется на глаза той, которая меня знает[497], мне будет стыдно. Впрочем, она не так прозорлива, чтобы понять, каковы были наши отношения. Не говорите ей, что встречались со мной, — сказала она.
Удзитада закрыл лицо рукавом, а императрица выскользнула в задние помещения. Какие чувства он испытывал? Он удалился, готовый разрыдаться в голос. Во дворце находились придворные, и юноша не мог произнести ни одного слова. Жизнь казалась ему так тяжела, что он думал: «Лучше бы сейчас умереть!» О чем ему было беспокоиться? Избегая людских взглядов, Удзитада покинул дворец. Его настроение выразить невозможно.
Дома его ожидало множество молодых людей, пришедших с вином, редкими закусками и каждый со своим особым подарком, оплакивать любовь было не место[498]. Пировали до самого рассвета, но Удзитада в душе думал только об императрице-матери. Он спрашивал себя: «Неужели наша любовь так и вот и кончилась?», и других мыслей у него в голове не было. Чем больше он думал, тем больше теснили его грудь чувства. Она представлялась то утренним облаком, то вечерним туманом, старалась, чтобы он не догадался, кто она, и не было между ними таких клятв, чтобы он хоть немного мог проникнуть в тайну, — когда он вспоминал об этом, ему отчего-то становилось страшно. Душа его больше не стремилась в поля и горы, он хотел только видеть, хотя бы издали, императрицу-мать, и ранним утром устремился во дворец. Он глядел на занавесь, через которую можно было неясно различить ее фигуру, и душу его переполняли печальные мысли.
Императрица-мать удалилась в задние помещения и в тот день не явилась на чтение классических книг. И во дворце, и в частных домах все были заняты отъездом Удзитада, и даже неблизкие ему люди волновались по этому поводу. Он же был занят только своими чувствами и напрасно в задумчивости смотрел на небо. Когда на небе показывалась яркая луна, к нему приходило много народу, но среди них не было той, кого он ждал. Он нехотя пил с гостями вино, и перед ним больше не открывалась дорога.
К нему то и дело являлись императорские посланцы и приносили от государыни великолепные подарки, сопровождаемые любезными письмами. Она позаботилась обо всем, вплоть до различных лекарств, но он бы все это отдал за одно свидание наяву, в полной тьме[499], столь же краткое, как существование поденки.
Накануне отъезда во дворце Вэйян император устроил торжественную церемонию. Одежды присутствующих были очень красивы, но между этим и прошлым годом была существенная разница, и все заставляло с любовью вспомнить покойного императора. Церемония в тот день была великолепна, но на ней не было ничего такого, о чем стоило бы специально говорить.
Солнце поднялось высоко, и когда Удзитада собрался уходить, императрица-мать призвала его к себе. Она находилась в том самом павильоне для уженья. Она сидела, окруженная множеством прислуживающих дам, внешность и необычные наряды которых были замечательны, но рядом с императрицей они совершенно терялись. Освещенное солнцем безукоризненное лицо государыни было очаровательно, дышало любезностью и дружелюбием и само излучало сияние. В людском мире таких лиц больше не было.
— Все это время я проводила здесь, чтобы избежать палящих солнечных лучей. Вот и наступил этот день... Не знаю, что сказать вам, даже банальные слова не приходят на ум. Я с сожалением думаю, что уже завтра вы забудете все, что я говорю, — произнесла она спокойно, но Удзитада видел, что глаза ее полны слез.
Он уже не думал, что на него смотрят посторонние, слезы градом полились у него из глаз, он упал на пол и не мог поднять на императрицу глаз. Многие из прислуживающих дам сопровождали императрицу во время бегства из столицы, и, вспоминая то время, они плакали так, что рукава их стали мокры.
— Забывая о краткости нашего существования, можно было бы надеяться еще на одну встречу. Если бы родители не ждали вас в Японии! — говорила она, утирая слезы.
Ее облик отпечатался у него в сердце, и невозможно равнодушно думать о его состоянии.
(Примечание переписчика: «Здесь в рукописи бумага истлела, текст разобрать невозможно».)
4
Молодежь отправилась провожать Удзитада. В пути он думал о своей любви и не знал ни мгновения душевного покоя. Компания была шумной; пили вино, сочиняли стихи, любовались морем и горами. Столица была уже далеко, за путниками в несколько рядов вставали белые облака[500].
Корабль отплыл пятнадцатого дня седьмого месяца. Провожавшие выражали сожаление по поводу разлуки. Корабль удалялся от берега, и вскоре путешественники могли видеть одни только бесконечные облака и волны, но Удзитада ни на миг не мог забыть императрицу, и ее облик постоянно был рядом с ним.
Путешественники находились под защитой бога Сумиёси, и плавание было благополучным. Представьте сами, как радовалась мать Удзитада, с нетерпением ожидавшая сына во дворце в Мацура.
Удзитада думал только об императрице-матери. Цинь, полученный от принцессы Хуаян, он отправил в усадьбу, как повседневную вещь, к которой он привык, но о которой не стоит особенно распространяться. Никто об этом ничего не знал. Удзитада подумал, что, услышав о его участии в неожиданно вспыхнувшем мятеже в Китае, мать его разволновалась бы, он запретил своим спутникам об этом рассказывать и сам хранил молчание.
Император очень обрадовался его возвращению. Титул «воина-дракона» считался очень высоким в такой могущественной стране, как Тан, поэтому и на родине Удзитада сделали одним из высших сановников[501], он стал советником санги, старшим ревизором Правой канцелярии и вторым военачальником Личной императорской охраны.
Удзитада хотел как можно скорее выполнить обещание, данное принцессе Хуаян, отправился в храм Хасэ и выдержал суровый 21-дневный пост. Ночью на небе показалась яркая луна, и на вершине холма, где росло высокое дерево цуки[502], раздались звуки циня. Выйдя из храма, Удзитада направился туда и увидел сидящую под деревом принцессу Хуаян.
— Наполнив рукав Сиянием лунным, В краю Хацусэ Под деревом цуки Тебя ожидаю[503], —произнесла она.
Удзитада ответил:
— Клятвой глубокой Связаны наши жизни, И в Хацусэ Под священным деревом цуки Мне ты явилась.Они спустились в храм, а оттуда возвратились в усадьбу к родителям Удзитада. Как обрадовалась мать, их увидев!
Цинь взвился в облака, и ветер примчал его в усадьбу. Это был тот самый инструмент, которой всегда находился возле принцессы и который вряд ли отличался от инструментов, на которых играли небожители на горе Пэнлай. Принцесса беспредельно его любила, что делало цинь еще более драгоценным. Отныне Удзитада и принцесса могли, не таясь перед людьми, вместе играть на цинях, и, слушая их, мать чувствовала к ним обоим все более глубокую любовь.
Будучи в Китае, Удзитада всем сердцем стремился на родину, а сейчас все — деревья и травы в полях и на горах, даже птичье пенье — казалось ему жалким, он с чувством стыда переводил глаза с предмета на предмет; все было не таким, как в Китае. Могло ли быть иначе? Принцесса выполнила свое обещание и вместе со своим инструментом явилась в Японию. Она настолько завладела всеми помыслами Удзитада, что он совсем не вспоминал о своих соотечественницах и даже не обращался к ним с любезными словами. Не получая от него письма, принцесса Каннаби подумала с досадой: «Странно! Неужели он совершенно переменился?» Вспомнив былое, она сложила:
«В стране Морокоси К забвенья траве, Наверное, ты прикоснулся И, домой возвратившись, О прошлом не вспоминаешь»[504].Удзитада ответил ей:
«Сквозь ряды грозных волн В край Морокоси плывя, Столько раз в воду Я погружался И, кажется, стал я другим. Проникнутый благоговением, я не осмеливался писать Вам».Удовольствия ей такой ответ не доставил.
Удзитада и принцессу Хуаян связывала глубокая любовь, а когда он понял, что она испытывает недомогание беременных женщин, он и вовсе не думал о каких-то любовных похождениях. Судьба связала их крепкими клятвами не только в нынешнем, но и в будущих мирах, и Удзитада испытывал к ней глубокую нежность.
Шкатулка с зеркалом, полученная от императрицы-матери, была запечатана, и на ней было написано: «Открыть, очистив тело и душу, в уединенном месте». Удзитада отправился в храм Хасэ молиться о благополучном разрешении принцессы и там открыл шкатулку. Он ясно увидел в зеркале знакомый облик. Это был десятый день одиннадцатого месяца. Вечерело, дул холодный ветер, казалось, вот-вот пойдет дождь, вставали высокие волны, но императрица-мать находилась в том же самом павильоне для уженья. Траур по императору кончился, она была в одеждах из прекрасных узорчатых тканей, но было заметно, что она не любила ярких, бросавшихся в глаза цветов. В глубокой задумчивости она играла на цитре. Императрица была по-прежнему так прекрасна, что никакими словами этого не выразить. Удзитада думал, что сердце его утешилось, но при виде императрицы печаль охватила его, и он горько заплакал. Но что толку? Императрица не могла его видеть. До самого вечера глядел он в зеркало. Было напрасно проливать слезы. Стало совсем темно, но Удзитада не мог заставить себя убрать зеркало в шкатулку. Потому ли, что он сроднился с императрицей, или появившаяся в зеркале тень посетила его, он совершенно отчетливо почувствовал знакомый несравненный аромат.
Удзитада вовсе не вспоминал о принцессе Хуаян, разлука с которой, даже очень небольшая, обычно приводила его в беспокойство. Он стал смотреть в зеркало при свете светильников, но блеск сливался с огнем, и образ в зеркале не был так ясен, как раньше. Удзитада спрятал зеркало за пазуху и лег в постель, но спать не мог. Он чувствовал только, как любовь к императрице-матери переполняла его грудь, сердце не могло успокоиться. Но разве мог он расстаться с принцессой Хуаян? Ему стало тяжело оставаться в чужом месте, и, спрятав зеркало в шкатулку, он возвратился домой.
Принцесса Хуаян плохо чувствовала себя и с нетерпением ожидала его возвращения. Когда Удзитада неожиданно вошел в дом, она очень обрадовалась, но с удивлением заметила, что он был непохож на себя и что глаза его заплаканы. Он подошел к ней, начал рассказывать о том о сем, и она почувствовала необычный аромат Благоухание было выразимо прекрасным и похожим на известное принцессе в предыдущем рождении, которым пользовалась императрица-мать. Хуаян насторожилась: «Странно! Неужели и в Японии есть люди, которые пользуются таким ароматом?» Она рассердилась на себя, что так обрадовалась приходу Удзитада, повернулась к нему спиной и заплакала «Это из-за меня, — понял он. — С каких пор она стала меня ревновать?»
Принцесса произнесла:
— Для того ли, от смерти восстав, Отправилась в край неизвестный, Чтобы видеть, как вровень с горой Волны встают, И слезами рукав орошать?[505]Удзитада понял, что она обо всем догадалась. «Ее душа столь же чиста, как у императрицы-матери», — подумал он. Ему стало совестно, и он ответил:
— Когда в далеком краю Чувства мои В смятенье ты привела, Разве в какой-нибудь бухте Вставали мятежные волны?[506]Странно! Не приснилось ли вам что-нибудь? Почему вы говорите такие непонятные вещи?
Он привлек ее к себе, но принцесса не переставала плакать, и вид ее горько отозвался в его душе. «Императрица открыла мне мое необычайное происхождение. Я родился, чтобы, связав себя клятвами с благородным, исключительным существом, чувствовать и думать более глубоко, — подумал он. — Не открыть ли ей всю правду?», но, вспомнив о ее положении, не решился. На душе у него стало грустно, и он не знал, что думать.
(Примечание переписчика: «В рукописи нет конца, поскольку все последующие листы истлели.
Эта повесть рассказывает о далекой старине; стихотворения и стиль в ней кажутся странными и устарелыми. Начиная с описания бегства в горы Шушань изложение, вероятно, было произвольно изменено кем-то из ученых нашего времени, и кажется, что изменения только испортили произведение и производят плохое впечатление. Какая часть соответствует оригиналу? То, что китайцы рассказывают о сновидениях, является вымыслом из вымыслов и довольно интересно[507].
Закончил переписывать в третий год эпохи под девизом правления Дзёган[508] в четвертом месяце в западном помещении дворца Сомэдоно[509].
«Цветок? Нет, не цветок. Туман? Нет, не туман Появляется ночью и исчезает на рассвете. Как весенний сон — кто знает, когда он придет? Как утреннее облако — где отыскать его?»[510]Все, что писал Бо Цзюйи в стихах, — правда. Трудно объяснить, почему поэт, который не отличался ветреностью и который предостерегал от встреч с неотразимыми красавицами, приводящими к разрушению городов[511], оставил такие стихи. Но неужели в стране Тан бывает такой удивительный туман?)
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ В ПРИМЕЧАНИЯХ
BP — Бакан роэйсю (Собрание японских и китайских роэй)
Г — Госэн вакасю (Последующее собрание японских песен)
ГС — Госюи вакасю (Последующее собрание японских песен, не вошедших в прежние антологии)
ИМ — Исэ моногатари (Повесть об Исэ; цитируется в переводе Н. И. Конрада по изданию: Исэ моногатари / Пер. с яп., вступит ст. и примеч. Н. И Конрада М.: Наука, 1979)
К — Кокин вакасю (Собрание старых и новых японских песен)
М — Манъёсю (Собрание мириад листьев; цитируется в переводе А. Е Глускиной по изданию: Манъёсю (Собрание мириад листьев): В 3 т. / Пер. с яп., вступит, ст. и коммент. А. Е. Глускиной. М.: Наука, 1971-1972).
ММ — Мацура-мия моногатари (Дворец в Мацура)
С — Сюи вакасю (Собрание японских песен, не вошедших в прежние антологии)
СК — Син кокин вакасю (Новое собрание старых и новых японских песен)
УМ — Уцухо моногатари (Повесть о дупле; цитируется по изданию: Уцухо моногатари: В 3 т. / Под ред. Коно Тама, в серии: Нихон котэн бунгаку тайкэй, тг. 10-12, Токио, 1961-1962)
ХК — Хоккэкё (Сутра Лотоса; цитируется по изданию: Хоккэкё: В 3 т. / Под ред. Сакамото Юкио и Ивамото Ютака. Токио: Иванами сётэн, 1990.
ХМ — Хамамацу-тюнагон моногатари (Повесть о втором советнике Хамамацу).
Примечания
1
Под «бухтой» (ми-цу, ми — гонорифический префикс) здесь подразумевается бухта Нанива (ныне в городе Осака), откуда корабли отправлялись на остров Цукуси.
(обратно)2
«Хамамацу-тюнагон моногатари» (Повесть о втором советнике Хамамацу), под редакцией Мацуо Отоси, в издании: Такамура моногатари, Хэйтю моногатари, Хамамацу-тюнагон моногатари, в серии: Нихон котэн бунгаку тайкэй, т. 77, Токио, 1964, с. 168.
(обратно)3
Прозвище Фудзивара Митицуна, сына автора Дневника эфемерной жизни.
(обратно)4
«Сарасина никки» (Дневник из Сарасина), под редакцией Нисисита Кёити, в издании: Тоса, Кагэро, Идзуми-сикибу, Сарасина, в серии: Нихон котэн бунгаку тайкэй, т. 20, Токио, 1957, с. 535. Два последних из упомянутых произведений до нашего времени не дошли. Асакура — географическое название.
(обратно)5
Икэда Тосио, послесловие, в издании: «Хамамацу-тюнагон моногатари» (Повесть о втором советнике Хамамацу), под редакцией Икэда Тосио, в серии: Синпэн Нихон котэн бунгакудзэнсю, Токио, 2001, с. 466
(обратно)6
«Сарасина никки», с. 532.
(обратно)7
Мацуо Отоси, предисловие («Хамамацу-тюнагон моногатари»), с. 135
(обратно)8
Накано Коити, «Отоко-но моногатари, онна-но моногатари» (Произведения, написанные мужчинами, и произведения, написанные женщинами), в издании: «Уцухо моногатари» (Повесть о дупле), в 3-х тт., в серии: Симпэн Нихон котэн бунгакудзэнсю, Токио, 1999-2002, т. 2, с. 8.
(обратно)9
Мацуо Отоси, предисловие, с. 145.
(обратно)10
«Сарасина никки», с. 493.
(обратно)11
Там же, с. 494
(обратно)12
Дзё — мера длины, равная 3,03 м, сяку — 30,3 см.
(обратно)13
В данном случае имеется в виду обряд освящения статуи — «открывание глаз».
(обратно)14
«Сарасина никки», с. 512.
(обратно)15
Там же, с. 533.
(обратно)16
«Сарасина никки», с. 494-497.
(обратно)17
«Хамамацу-тюнагон моногатари», в серии: Нихон котэн бунгаку тайкэй, с. 156. (Далее — ХМ.)
(обратно)18
ХМ, с. 165.
(обратно)19
ХМ, с. 161-162.
(обратно)20
ХМ, с. 208.
(обратно)21
ХМ, с. 154.
(обратно)22
ХМ, с. 163.
(обратно)23
Икэда Тосио, послесловие («Хамамацу-тюнагон моногатари»), с. 469-470.
(обратно)24
Сыма Цянь. Исторические записки (Ши цзи) / Пер. с кит. Р. В. Вяткина, коммент. Р. В. Вяткина и А. Р. Вяткина, предисл. Р. В. Вяткина. М.: Восточная литература РАН, 1996. Т. VII. С. 176.
(обратно)25
ХМ, с. 169. Перевод произведения Тао Юаньмина «Персиковый источник» см. в: Китайская классическая проза, в переводах академика В. М. Алексеева. М.: Изд-во АН СССР, 1959. С. 172-174.
(обратно)26
ХМ, с. 187.
(обратно)27
ХМ, с. 154
(обратно)28
ХМ, с. 159.
(обратно)29
ХМ, с. 191.
(обратно)30
ХМ, с. 177.
(обратно)31
ХМ, с. 164.
(обратно)32
ХМ, с. 190.
(обратно)33
ХМ, с. 265.
(обратно)34
ХМ, с. 232.
(обратно)35
ХМ, с. 225.
(обратно)36
ХМ, с. 267.
(обратно)37
ХМ, с. 295-296.
(обратно)38
«Мумё дзоси» (Записки без названия), под редакцией Кубоки Тэцуо, в издании: Мацура-мия моногатари, Мумё дзоси, с. 235.
(обратно)39
Мацуо Отоси, предисловие, с. 126-127.
(обратно)40
Мацуо Отоси, предисловие, с. 135.
(обратно)41
«Мумё дзоси», с. 257.
(обратно)42
Хигути Ёсимаро, послесловие к «Мацура-но мия моногатари» (Дворец на горе Мацура), в издании: Мацура-но мия моногатари, Мумё дзоси, в серии: Сим-пэн Нихон котэн бунгаку дзэнсю, т. 40, Токио, 1999, с. 145-149.
(обратно)43
Хигути Ёсимаро, послесловие («Мацура-но мия моногатари»), с. 150-151.
(обратно)44
«Мацура-но мия моногатари», с. 26. (Далее — ММ.)
(обратно)45
ММ, с. 52.
(обратно)46
ММ, с. 75.
(обратно)47
ММ, с. 74.
(обратно)48
Имеется в виду прежде всего конфуцианское Пятикнижие.
(обратно)49
ММ, с. 75.
(обратно)50
Цзиньшу чжияо содержала примеры государственного управления, начиная с династии Цинь (221-207 гг. до н. э.) до династии Цзинь (265-420).
(обратно)51
ММ, с. 90-91.
(обратно)52
ММ, с. 98.
(обратно)53
ММ, с. 97-98.
(обратно)54
Палата обрядов ведала проведением синтоистских церемоний во дворце и занималась вопросами образования и проведения государственных экзаменов. Главой палаты обычно назначался принц.
(обратно)55
Фамилию присваивали сыновьям императора, которые таким образом лишались положения принца и переходили в разряд императорских подданных. Наиболее часто в таких случаях присваивалась фамилия Минамото. В данном случае фамилия дается внуку императора.
(обратно)56
В произведениях эпохи Хэйан собственные имена встречаются крайне редко. Обычно герои обозначены по занимаемой ими должности, которая в переводе может выступать эквивалентом имени.
(обратно)57
В эпоху Хэйан некоторые должности Государственного совета, Личной императорской охраны, Императорского эскорта и Дворцовой стражи и т. д. делились на две секции: левую (более высокую по положению) и правую.
(обратно)58
Речь идет о запретах, связанных с верой в богов китайского происхождения: Духа земли (Доки) и Срединного бога (Накагами или Тэнъитидзин). Дух земли обитает в каждом доме: весной в очаге, летом в воротах, осенью в колодце и зимой во дворе. При работах, связанных с «возмущением» места, где находится дух, опасались его мести и переселялись в какой-нибудь другой дом. Срединный же бог находится попеременно на земле сорок четыре дня, каждые пять дней меняя местопребывание, и шестнадцать на небе. Двигаться в направлении его местонахождения считалось крайне опасным, поэтому при необходимости сначала двигались в другом направлении, проводили какое-то время в другом доме, а затем ехали туда, куда нужно.
(обратно)59
Храм Исияма был основан в 749-756 гг. по обету императора Сёму (годы правления 724-749). Туда совершил паломничество император Уда (годы правления 887—897), и в течение X-XI вв. храм посещали императоры и императрицы, принявшие монашество, а также многие сановники.
(обратно)60
Рай Будды Амитабха, давшего обет не погружаться в нирвану до тех пор, пока не возродятся в Чистой земле все, кто верует в него.
(обратно)61
Стихотворение построено на параллелизмах, постель — гавань, шум волн — известие Слова «гавань» и «шум волн» выражают мысль об известии из дальней страны
(обратно)62
Тюнагон использует образы стихотворения Абэ Накамаро, К № 406: «Когда я смотрю на широкий небесный простор, думаю: та ли это луна, которая всходила над горой Микаса в храме Касуга?» За стихотворением следует примечание: «Об этом стихотворении рассказывают следующее. В былые годы Накамаро был отправлен в Китай на учебу и оставался там долгое время. Когда на родину возвращался японский посол (Фудзивара Киёкава), Накамаро должен был ехать вместе с ним. Китайские поэты (Ван Вэй и другие) устроили ему прощальный пир на берегу моря в Минчжоу. Глядя на показавшуюся на небе луну, Накамаро сложил эту песню». Гора Микаса — холм, у подножия которого находится храм Касуга.
(обратно)63
В провинции Сэтцу, ныне префектура Осака.
(обратно)64
Старое название острова Кюсю, откуда корабли отправлялись в Китай.
(обратно)65
Морокоси — старое японское название Китая.
(обратно)66
Стихотворение текстуально близко к стихотворениям Идзуми-сикибу, Собрание стихотворений Идзуми-сикибу (Идзуми-сикибу сю и Идзуми-сикибу дзокусю), №№ 438 и 1342.
(обратно)67
Сяку — мера длины, равная 30,3 см.
(обратно)68
В тексте употреблен термин кэё — 1) заботиться (о родителях), 2) будд, выполнять заупокойную службу (по родителям).
(обратно)69
Вэньлин находится в провинции Вэньнань и, по-видимому, упомянут в тексте ошибочно, так как расположен далеко на юг от залива Ханчжоу, предполагаемого места прибытия. Путь Тюнагона до китайской столицы Чанъань (совр. Сиань) можно представить следующим образом: корабль прибыл в залив Ханчжоу, затем поднялся по реке Янцзы до Лияна (в провинции Аньхуэй), где путники сошли на берег и отправились в сторону Чанъани. О пути от Лияна до горы Хуашань ничего не сообщается. Хуашань, являющийся одним из пяти священных пиков Китая, находится к югу от Сианя. Затем путники прошли заставу Хань-гу и вошли в столицу.
(обратно)70
Нио — другое названье озера Бива.
(обратно)71
Место, в тексте по-японски обозначенное как Кодо, не отождествляется с китайским топонимом.
(обратно)72
BP № 646. Две строки составляют текст роэй (музыкальное произведение для голоса с инструментальным сопровождением). Текст, принадлежащий Татибана Тадамото, был сочинен в храме Исияма (чем, по-видимому, объясняется, почему он пришел на ум Тюнагону, тоскующему по Ооикими).
(обратно)73
Имеется в виду история Мэнчан-цзюня, виднейшего политического деятеля царства Ци конца IV — первой трети III в. до н. э. Опасаясь преследований со стороны правителя Чжао-вана, Мэнчан решил бежать. «В полночь он добрался до заставы Ханьгу. Циньский Чжао-ван <...> послал людей догнать его. Мэнчан-цзюнь, достигнув заставы, знал, что по правилам прибывших путников пропускают через заставу с первым криком петуха, поэтому он боялся, что циньские преследователи настигнут его здесь. Но среди сопровождающих его людей нашлись такие, которые умели кричать по-петушиному, и они тут же прокукарекали, так что петухи (в округе) в ответ тоже запели, и путникам разрешили выехать» (Сыма Цянь. Исторические записки (Ши цзи). Т. VII / Пер. с кит. Р. В. Вяткина, ком-мент. Р. В. Вяткина и А. Р. Вяткина, предисл. Р. В. Вяткина. М.: Восточная литература РАН, 1996. С 176).
(обратно)74
«Китай» (Каракуни) — повесть до нашего времени не сохранилась.
(обратно)75
Непонятно, о чем идет речь.
(обратно)76
По-японски имя читается как О Какусё; комментаторы считают, что имеется в виду или Ван Сичжи (Ван Ишао, 321-379), знаменитый каллиграф и поэт, или Ван Цань (Ван Чжунсюань, 177-217), знаменитый поэт.
(обратно)77
В Чанъани не было дворца с таким названием, и возможно, что автор имел в виду Чжэньгуань.
(обратно)78
Пань Юэ (Аньжэнь, 247-300) — китайский поэт, отличался редкой красотой.
(обратно)79
Хэян — уезд в провинции Хэнань, на север от реки Хуанхэ. Ныне уезд Мэн. В эпоху Суй император Вэнь-ди (годы правления 581-605) построил там дворец Хэян. В Японии император Сага (годы правления 809-823) построил загородный дворец на северном берегу реки Ёдогава и назвал его так же (яп. Коё). В повести говорится, что в Хэан жил Третий принц с матерью, но это место находилось далеко от Чанъани и ближе ко второй (восточной) столице, Лояну.
(обратно)80
Возможно, здесь имеются в виду придворные, а не император.
(обратно)81
В эпоху Хэйан эту прическу делали детям аристократов от семи лет до обряда надевания головного убора взрослых.
(обратно)82
То есть он не был похож на отца Тюнагона.
(обратно)83
В японских романах стихи на китайском языке не приводятся, и их содержание излагается в прозе.
(обратно)84
Стихотворение Бо Цзюйи «Бескрайнее море» (Хайманьмань) из цикла «Новые песни юэфу» (третий свиток): «Бескрайнее море. Посмотришь вниз — бездонная пучина, посмотришь по сторонам — не видно берегов. Среди облачных валов, в волнах тумана, на самом глубоком месте, как говорят, высятся три священных горы». Три священных горы — волшебные горы Пэнлай, Фанчжан и Инчжоу, на которых якобы живут небожители.
(обратно)85
То есть смертью отца и его возрождением в новом облике.
(обратно)86
В императорском дворце места с таким названием не было. Озеро Дунтин находится в провинции Хунань, далеко от обеих столиц — и Чанъани, и Лояна.
(обратно)87
Цинь — пяти- или семиструнный инструмент. Создание его приписывалось легендарным правителям Китая. Музыка, исполняемая на этом инструменте, расценивалась как выражение космической гармонии.
(обратно)88
Возможно, это имя известной красавицы.
(обратно)89
BP № 271. Стихотворение Сугавара Фумитоки: «Печально в саду орхидей: осенняя буря сорвала пурпурные цветы. Над Хорай луна льет сиянье на покрытый инеем сад». Под «горой Хорай» (кит Пэнлай), жилищем небожителей, подразумевается императорский дворец.
(обратно)90
BP № 267. Стихотворение Юань Чжэня (Вэй-чжи): «Почему из всех цветов я больше всего люблю хризантемы? Ведь после этих цветов до нового года других больше не будет».
(обратно)91
Под «цветами» подразумеваются не только хризантемы, но и дамы, к которым обращено стихотворение.
(обратно)92
Китайский император династии Тан (годы правления 627-650).
(обратно)93
Автор воспроизводит структуру японского административного аппарата. В Японии было три министра: первый, левый и правый, а кроме того, был министр двора (найдаидзин). Отец Первой императрицы был, должно быть, первым или левым министром.
(обратно)94
В тексте указана Юнчжоу, одна из девяти областей древнего Китая, на территории которой находилась столица Чанъань; таким образом, подчеркивается значение этой столицы и императорского дворца.
(обратно)95
В тексте указаны две должности: сайсё (кит. цзайсян), канцлер, и дайдзин (кит. дачэнь), министр.
(обратно)96
Ян Гуйфэй — фаворитка китайского императора Сюань-цзуна (годы правления 713-755). Любовь к ней часто приводится как пример слепой страсти, заставившей императора отойти от государственных дел.
(обратно)97
Комментаторы полагают, что имелась в виду гора Шушань, которая находится н нынешней провинции Сычуань.
(обратно)98
То есть глядя в сторону Японии.
(обратно)99
Поэма Бо Цзюйи Песнь о вечной тоске («Чанхэнгэ»), рассказывающая о любви Сюань-цзана и Ян Гуйфэй (свиток 12): «Я хочу, чтобы в небесах мы были птицами бииняо; хочу, чтобы на земле мы были подобными сросшимся деревьям». Бииняо — сказочная птица с одним крылом и одним глазом, способная летать только в паре с другой такой же птицей.
(обратно)100
Стихотворение Бо Цзюйи Седая дама во дворце Шанъян («Шанъян байфа жэнь») из Новых песен юэфу (свиток 3). В нем говорится о постаревшей придворной даме, в одиночестве доживающей свой век
(обратно)101
Стихотворение построено на омонимах: ама — «рыбачка» и «монахиня».
(обратно)102
Под «соснами на взморье» подразумевается Ооикими. Под «бухтой» (мицу, ми — гонорифический префикс) подразумевается бухта Нанива (ныне в городе Осака), откуда корабли отправлялись на Цукуси. Это стихотворение и по образу и по настроению близко к песне Яманоэ Окура, сложенной в тоске по родине во время пребывания в Китае, М № 63:
Итак, друзья, скорей в страну Ямато. Туда, где сосны ждут на берегу! В заливе Мицу, Где я жил когда-то, О нас, наверно, память берегут!Переводчица понимает слово «мицу» как название бухты.
(обратно)103
Пение соловья (собственно, певчей камышевки) было одним из признаков Нового года (т. е. весны, так как новый год начинался с первого месяца весны). Стихотворение Мибу Тадамину, К № 11: «Говорят, что пришла весна, но пока не запоет соловей, я не верю, что она наступила». Стихотворение Сосэй хоси, С № 5: «В Новый год с раннего утра я с нетерпением жду, когда запоет соловей».
(обратно)104
Стихотворение Аривара Нарихира, ИМ № 4:
Луна... Иль нет ее? Весна... Иль это все не та же, не прежняя весна? Лишь я один все тот же, что и раньше, но... (обратно)105
Легенда о рыбаке, который попал в зачарованную страну, где жили люди, бежавшие от смуты эпохи Цинь (221-207 гг. до н. э.). Перевод произведения Тао Юаньмина «Персиковый источник» см. в издании: Китайская классическая проза, в переводах академика В. М. Алексеева. М.: Издательство Академии наук СССР, 1959. С. 172-174.
(обратно)106
Совокупность деяний человека, которые определяют его судьбу в настоящей и будущей жизни.
(обратно)107
Музыка рандзё — небольшие композиции, исполнявшиеся во время выхода танцовщиков на сцену или выхода участников соревнований.
(обратно)108
Репертуар японской церемониальной музыки гагаку делился на два отдела: музыка левой и правой стороны, состав оркестров которых отличался друг от друга. Во время танцевальных представлений музыканты располагались соответственно по обеим сторонам сцены.
(обратно)109
По-видимому, имеется в виду Япония. Возможно, автор хочет сказать, что в Японии так бесцеремонно не сватали молодых людей, как этот делал министр
(обратно)110
Тюнагон намекает на свои буддийские устремления.
(обратно)111
По-видимому, потому, что в Японии женщины открыто не показывались перед мужчинами.
(обратно)112
Может быть, потому, что она говорила по-китайски.
(обратно)113
Смысл этой фразы в контексте неясен, и она не согласуется с последующим предложением. Может быть, в этом месте что-то пропущено.
(обратно)114
Храм Прозрения, Путисы (яп. Бодайдзи), находился в западной части Лояна.
(обратно)115
Откровение от богов или от Будды отправиться в Шаньинь. По-видимому, оно было дано ей во сне.
(обратно)116
Уезд в провинции Шаньси, в котором находилась столица Чанъань.
(обратно)117
Ван Цзыю (Хуэйчжи) — сын Ван Сичжи.
(обратно)118
В китайской поэзии луна играет большую роль в стихах, посвященных разлуке родственников, друзей или влюбленных. Заранее условившись, они смотрят в одно и то же время на луну и чувствуют единение друг с другом.
(обратно)119
Смысл стихотворения зависит от понимания выражения мидзу ва куму. Оно означает, по-видимому, «одряхлеть». См. стихотворение Минамото Сигэюки, ГС № 1116: «Через несколько лет увидел свое отражение в чистом источнике; постарел, и показалось, что вся вода вычерпана». Однако указанное выражение можно понимать в смысле «растут зубы», в таком случае оно означает: «и в старости у человека на месте выпавших зубов вырастают новые» и имеет благожелательный смысл.
(обратно)120
Перевод этой фразы зависит от понимания слова «ё», что значит: 1) «ночь» и 2) «мир» Во втором случае фразу можно перевести следующим образом: «В той стране все, даже женщины, были очень умны».
(обратно)121
Согласно иероглифам, приведенным в издании серии «Нихон котэн бунгаку тайкэй», это место называется Динли. См. следующее примечание.
(обратно)122
В период правления императора Сага (годы правления 809-823) восточную часть японской столицы Хэйан называли Лоян (яп. Ракуё), а западную — Чанъань (яп. Тёан) по наименованию двух китайских столиц. Впоследствии всю столицу стали называть Ракуё. Обозначение Тёан вышло из употребления к середине эпохи Хэйан, но им продолжали пользоваться при сочинении китайских стихов. Данная фраза имеет вид примечания, сделанного автором или переписчиком.
(обратно)123
То есть она беременна.
(обратно)124
Отрывок неясен.
(обратно)125
Смысл высказывания непонятен
(обратно)126
Длинная (Чан) может быть собственным именем.
(обратно)127
В Японии при исполнении музыки на воде придворные музыканты садились в две лодки. Нос одной из них был украшен изображением головы дракона, второй — цапли.
(обратно)128
По китайской легенде, в ту ночь единственный раз в году Небесный пастух (звезда Альтаир) может переправиться через Млечный Путь и встретиться с Ткачихой (Вега).
(обратно)129
В оригинале Хокадэн, но комментаторы считают, что имелся в виду Сёка-дэн (кит. Чэнхуадянь).
(обратно)130
Повелительница фей и небожительниц, живущая на далеком Западе, на горе Куньлунь.
(обратно)131
Литератор, служивший при дворе ханьского императора У-ди (годы правления 140-86 до н. э.). Его талант ценился чрезвычайно высоко, и его считали небожителем.
(обратно)132
См. примеч. 32.
(обратно)133
В первой половине стихотворения имеются в виду император Сюань-цзун и Ян Гуйфэй.
(обратно)134
Путники ломали и бросали на землю ветки, чтобы найти дорогу назад или, как в данном случае, указать путь другому человеку.
(обратно)135
В Японии пользовались китайским ароматом, который назывался «сто шагов».
(обратно)136
В Японии, как и в других странах, существовало поверье, что красивые и талантливые люди являются любимцами богов и что им не суждено долго жить на свете.
(обратно)137
Вэйян, «Дворец бесконечной жизни», был построен в эпоху Хань по повелению основоположника династии Гао-цзу. Был разрушен и в эпоху Тан построен снова. Упоминается в «Песне о бесконечной тоске» Бо Цзюйи.
(обратно)138
Рэйдзэй, «Дворец прохладного источника», был построен по повелению императора Сага для жизни в нем после отречения от престола.
(обратно)139
Период с семи до девяти часов утра.
(обратно)140
«Осенний ветер» (Сюфураку) — произведение из репертуара японской церемониальной музыки гагаку.
(обратно)141
«Благословение» (Анатото) — саибара, вокальное произведение, исполнявшееся под аккомпанемент оркестра.
(обратно)142
Возможно, «Кансу» употреблено вместо «Кансю» (Ганьчжоу, округ в Китае, на территории современной области Ганьсу). По преданию, пьеса создана китайским императором Сюань-цзуном (годы правления 712-756). В японском музыкальном трактате «Поучения» (Кёкунсё) содержится легенда о данном произведении: «В этом округе есть озеро, где растет много бамбука (называется он кантику, кит. ганьчжоу). Заросли его кишат ядовитыми змеями, саламандрами и прочими гадами, поэтому резать бамбук там опасно. Множество народу погибло там. Но когда резали бамбук, сидя в лодке и исполняя это произведение, змеи не приносили вреда. Поскольку музыка похожа на "Гаруда", она устрашает гадов и не дает им вредить людям. Так режут бамбук и складывают его в лодку». Гаруда — волшебная птица в индийской мифологии, непримиримый враг змей. Имеется в виду музыкальное произведение под таким названием.
(обратно)143
В «Повести о дупле» (Уцухо моногатари, X в.) рассказывается, как молодой аристократ по имени Тосикагэ, посланный в Китай, попал в страну Будды, получил тридцать циней (яп. кип или кото), сделанных из ветки волшебной павлонии (среди которых нан-фу и хаси-фу отличались способностью приводить в движение небесные светила, вызывать внеочередную смену времен года и т. д.), и выучился музыке Чистой земли. Вернувшись в Японию, он передал свое искусство дочери, а она впоследствии своему сыну.
(обратно)144
В тексте употреблен титул дзёо, который присваивался внучкам императора и их потомкам до третьего поколения.
(обратно)145
Неизвестно, что это за пьеса. Название можно перевести как «Остановись!» Может быть, это слово составили названия нот, сыгранных принцессой. См примеч. 90 к этой части.
(обратно)146
Это рассуждение малопонятно.
(обратно)147
Она говорила с ним через занавеску, и он не видел ее лица.
(обратно)148
Мацуо Отоси считает, что это место непонятно. Икэда Тосио приводит следующую историю, содержащуюся в буддийских текстах. Царь Сюдасюма, захваченный в плен царем Рокусоку (царь Рёси), должен был быть убит вместе с другими девятьюстами девяносто девятью царями. Он попросил об отсрочке в семь дней, чтобы выполнить обещание, данное святому монаху, раздать милостыню. После того как он возвратился в свою страну и раздал милостыню, он вернулся к царю Рокусоку, и это произвело на последнего столь глубокое впечатление, что он простил его вместе с другими пленниками.
(обратно)149
Может быть, в тексте здесь пропуск.
(обратно)150
Это не ответ на письмо Тюнагона. Императрица имеет в виду, что Тюнагон возвратится в Японию, а она в Китае так и будет тосковать по своей матери.
(обратно)151
Стихотворение Тайра Канэмори, С № 622: «Как ни скрывал, но страсть моя стала явной, и уже окружающие спрашивают, не влюблен ли я».
(обратно)152
Может быть, в тексте здесь пропуск.
(обратно)153
Выйдя из-за занавеси, императрица оставалась скрытой для Тюнагона за переносной занавеской.
(обратно)154
Гора недалеко от столицы, у подножия которой располагается храм Нинна. Храм был основан в период Нинна (885-889), отсюда его название.
(обратно)155
Может быть, для того, чтобы об истинной причине не догадались прислуживающие дамы.
(обратно)156
Стихотворение Ки Цураюки, К № 297: «Не видит никто, как в глухих горах осыпавшиеся листья клена сверкают в ночной темноте, как парча». Образ заимствован из седьмой главы «Исторических записок» Сыма Цяня: «Стать знатным, богатым и не вернуться в родные края, все равно, что надеть узорчатые одежды и пойти в них гулять ночью — кто будет знать об этом?» (Пер. Р. В. Вяткина и В. С Таскина). М/ Наука, 1975. Т. 2. С. 137.
(обратно)157
Ноты, как и в европейской музыке, имели слоговое обозначение. Героиня играет таким образом что их названия слагаются в стихотворение.
(обратно)158
Полумесяц в стихотворении, кроме прямого значения, употреблен потому, что так же (хангэцу) называются резонаторные отверстия на лютне.
(обратно)159
Чудодейственное лекарство, пилюля бессмертия небожителей, рассказы о поисках которой были очень популярны в Китае.
(обратно)160
В стихотворении использована игра слов: когарэ — «сгорать от любви» и коги — «грести».
(обратно)161
Стихотворение неизвестного автора, «Кокин вака рокудзё» (Шесть тетрадей старых и новых японских песен) №5111: «Сколько я ни говорю, что безрадостен наш мир, но нет таких гор, чтобы в них скрыться. О, цветы горных груш!» Стихотворение построено на игре слов: яманаси-но хана (цветы горных груш) и яма наси (нет гор).
(обратно)162
На Цукуси было установлено генерал-губернаторство (дадзайфу). Глава его, как правило, оставался в столице, и его заместитель (дайни) представлял на острове верховную власть.
(обратно)163
Стихотворение Аривара Юкихира, К № 962: «Если случайно кто-нибудь спросит обо мне, ответь, что в бухте Сума лью слезы на морскую траву». При выжигании соли из водорослей на них лили морскую воду, чтобы напитать их солью. В стихотворении дамы Сайсё использована игра слов: ама — «рыбачка» и «монахиня», а также асанаги — «утреннее затишье на море» и наки — «плакать».
(обратно)164
Имеется в виду Молодой господин. Возможно, образ восходит к стихотворению кормилицы матери Минамото Канэтада, Г № 1187: «Если бы не память о том, с кем я была связана глубокими клятвами, стала бы я, тоскуя, рвать эту траву?» Стихотворение было послано вместе с подношением, различными травами.
(обратно)165
Шуточное стихотворение неизвестного автора, К№ 1023: «Как только лягу, чувствую, как с изголовья и с ног подступают страдания любви. Остается только сидеть в постели».
(обратно)166
То есть императорский дворец.
(обратно)167
См. примеч. 61 к первой части.
(обратно)168
См. примеч. 9 к содержанию несохранившейся части
(обратно)169
Стихотворение Осикоти Мицунэ, К № 611: «Знать не дано, куда влечет меня любовь. Думаю, что, когда смогу встретиться с милой, это будет моим концом».
(обратно)170
Стихотворение неизвестного автора, К № 448: «Скорбя о своей любви, я заполнил вздохами огромное небо, и тем стенаниям, что теснятся в моем сердце, уже некуда выйти».
(обратно)171
По обычаю мужчина, желая жениться на девице, посещал ее в доме отца три ночи, покидая при этом до рассвета после чего семья устраивала свадебную церемонию.
(обратно)172
Стихотворение старшей дочери Саканоэ, М № 737:
Пусть что угодно Говорит молва, Но все равно, — как на пути в Вакаса Гора «Потом, любимый» поднялась, — И мы потом увидимся, любимый!Гора Нотисэ («Потом, любимый») находится в провинции Фукуи (старое название — Вакаса). Слово «нотисэ» имело значение «будущая встреча»
(обратно)173
В провинции Тикудзэн (на Цукуси) в местечке Хакодзаки располагался храм, посвященный богу войны Хатиман. Там росла сосна, которой, по преданию, была тысяча лет.
(обратно)174
Стихотворение Отомо Момоё, С № 685: «Если я умру от любви, то, пожелай я встретиться с тобой, это будет невозможно. Нет, я хочу встретиться с тобой, пока жив». В М содержится вариант (№ 560):
Когда я от любви к тебе умру, К чему мне радости земные? Ведь только ради дней, Пока я жив на свете. Любимую увидеть я хочу! (обратно)175
Дверь из твердых пород (из дерева маки) — дверь из древесины кипарисовика, криптомерии, сосны и подокарпа, которая в силу своей прочности употреблялась для строительства зданий. Выражение имеет дополнительный смысл «дверь в опочивальню», основанный на стихотворении из М № 2519, народной песни от лица девушки, к которой хочет проникнуть мужчина:
Открывает силой запертые двери Из святого дерева, которое растет Средь ущелий гор. Эй, уходи отсюда! Что потом я буду делать без тебя? (обратно)176
Стихотворение Ки Цураюки, К № 404: «Зачерпнул руками воду из Горного колодца, чтобы напиться, но вода пролилась и замутила источник. Также приходится расстаться с тобой, не насытив души общением». Стихотворение сочинено во время путешествия при прощании с человеком, которого поэт случайно встретил у горного источника.
(обратно)177
Стихотворение дочери Минамото Масанобу, С № 1258: «Все больше наполняется река моих слез, и скоро уплывет в ней изголовье, на котором мы когда-то спали вдвоем».
(обратно)178
Возможно, что в этом месте в тексте пропуск.
(обратно)179
Текст довольно темен.
(обратно)180
Имеется в виду китайская императрица.
(обратно)181
Стихотворение Фудзивара Канэсукэ, Г № 1102: «Совсем не слепо мое сердце, но на путях родительской любви заблудилось».
(обратно)182
Слова генерала находятся в явном противоречии с предшествующим отрывком.
(обратно)183
Стихотворение неизвестного автора, К № 672: «Когда пруд мелеет, как ни старается живущая в нем утка скрыться под водой, это ей не удается».
(обратно)184
В эпоху Хэйан существовал обычай преподносить одежду в подарок и в награду за сочинение стихов, исполнение музыки и т. д. Шелк и одежда являлись эквивалентом денег. Обычно преподносился полный женский наряд, состоявший из множества платьев, который был очень дорог.
(обратно)185
Ритуальный танец, исполняемый в знак благодарности перед императором или какой-либо важной персоной за полученный подарок.
(обратно)186
Подтекст этой сцены неясен. Мацуо Отоси предполагает, что Тюнагон опасался невольно высказать свою любовь к японской императрице.
(обратно)187
Смысл стихотворения неясен. Под «пурпурными облаками» подразумевается жилище императрицы.
(обратно)188
Стихотворение Аривара Нарихира, ИМ № 8:
Если ты такова же, как и имя твое, о «птица столицы», — то вот я спрошу: жива или нет та, что в думах моих? (обратно)189
Отрывок непонятен.
(обратно)190
Под «небесным чертогом» имеется в виду императорский дворец
(обратно)191
Под «небесным чертогом» подразумевается Китай.
(обратно)192
Выражение, использующее омонимы ама — «рыбачка» и «монахиня»
(обратно)193
Обряд надевания штанов совершался над детьми в три-четыре года.
(обратно)194
Имеется в виду Чистая земля, рай Будды Амитабха, в котором возрождаются достигшие Просветления и пребывают в лотосах.
(обратно)195
Шакьямуни скончался в 15-й день второго месяца (по лунному календарю). Здесь имеется в виду: «15-го дня каждого месяца».
(обратно)196
Бодхисаттва Фугэн (санскр. Самантабхадра, кит. Пусянь) — олицетворение Всеобъемлющей мудрости, один из самых почитаемых бодхисаттв. Имеется в виду церемония чтения Сутры бодхисаттвы Фугэн.
(обратно)197
В главе 27 «Лотосовой сутры» рассказывается об обращении в истинную веру (буддизм) царя Шубхавьюха (XK, т. 3, с. 288-315).
(обратно)198
Стихотворение императора Мураками, написанное на ширме, разрисованной иллюстрациями к «Песне о бесконечной тоске» Бо Цзюйи: «Когда-то мы спали вместе за жемчужными занавесями, не ведая, что уже наступило утро, а ныне даже во сне не вижу тебя». Приведено в «Собрании стихотворений Исэ» (Исэсю), № 55.
(обратно)199
Текст, по-видимому, испорчен и не поддается убедительному толкованию.
(обратно)200
По-видимому, имеется в виду генерал.
(обратно)201
См. примеч. 4 к содержанию несохранившейся части
(обратно)202
Стихотворение Сёни-но мёбу, С № 66: «О, цветы прячущейся в горах вишни! Не говорите ветру, что вы еще остаетесь на ветвях».
(обратно)203
Канцукэ (Камуцукэ или Кодзукэ) — одна из трех провинций, вместе с Хитати и Кадзуса, правителями которых назначались принцы. Они, естественно, оставались в столице, поручали правление своим заместителям и только получали с провинций доход.
(обратно)204
Принц, назначенный генерал-губернатором на Цукуси.
(обратно)205
Непонятно.
(обратно)206
Этой фразы в письме императрицы нет.
(обратно)207
Текст неясен.
(обратно)208
См. примеч. 23 ко второй части.
(обратно)209
Стихотворение неизвестного автора, К № 535: «Если б ты могла узнать, что сердце мое столь же глубоко, как глухие горы, в которых не раздается даже птичьего пения!»
(обратно)210
Волшебная птица индийской мифологии.
(обратно)211
Стихотворение неизвестного автора, К № 981: «Здесь окончу свои дни, в заброшенной деревне Фусими, на поле Суга». «Поле Суга» — постоянное дополнение к «деревне Фусими».
(обратно)212
Неясно. Возможно, надо понимать в противоположном смысле.
(обратно)213
В двенадцатой главе «Лотосовой сутры» рассказывается, как дочь царя драконов захотела достичь состояния будды. На что Шарипутра возразил: «Может ли женщина стать буддой?» Дочь царя драконов, преподнеся Будде драгоценность, которая освещала всю Великую вселенную, в мгновение ока превратилась в мужчину, отправилась в чистый мир, находящийся на юге, села на драгоценный лотос и, достигнув Просветления, стала буддой (XK, т. 2, с. 222-224).
(обратно)214
Смысл неясен.
(обратно)215
Смена одежд имела место два раза в год, летом и зимой. Предписывалось менять не только одежду, но и занавеси, переносные занавески в доме.
(обратно)216
Мера длины, равная 30,3 см.
(обратно)217
Ткань из продольных нитей зеленого цвета и поперечных желтого цвета, на зеленой подкладке.
(обратно)218
Вероятно, он был дядей со стороны матери.
(обратно)219
Отец барышни из Миёсино
(обратно)220
См. примеч. 4 к содержанию несохранившейся части.
(обратно)221
Стихотворение Аривара Нарихира, ИМ № 32:
«Ах, если б вновь с пряжей клубок тот минувшего мне намотать! Если бы ушедшее вновь нынешним стало!» (обратно)222
Отчим Тюнагона.
(обратно)223
До въезда к начальнику Дворцовой стражи дочь заместителя губернатора оставалась в своем доме, где муж навещал ее.
(обратно)224
Стихотворение неизвестного автора, К № 708: «В Сума, где рыбаки выжигают соль, из-за сильного ветра дым неожиданно стал клониться в другую сторону».
(обратно)225
Текст непонятен; предполагается, что в этом месте что-то пропущено.
(обратно)226
Это противоречит вышесказанному. Может быть, фраза имеет смысл: «находила в себе силы противостоять его намерениям».
(обратно)227
Под «кукушкой» подразумевается дочь заместителя губернатора, которая скрылась в доме начальника стражи. Во второй половине говорится о тайном свидании.
(обратно)228
Героиня использует образы предыдущего стихотворения Тюнагона.
(обратно)229
Смысл неясен.
(обратно)230
Так по изданию «Нихон котэн бунгаку тайкэй». Икэда Тосио приписывает это стихотворение Тюнагону, а следующее — монахине.
(обратно)231
Под «скользящими каплями росы» подразумевается плавание Тюнагона в Китай, во второй половине стихотворения имеется в виду постриг монахини.
(обратно)232
Соединив на реке лодки и плоты, на них клали доски и таким образом образовывали временный мост. По-видимому, выражение представляет собой цитату из стихотворения, но источник не установлен. Так называется последняя глава «Повести о Гэндзи».
(обратно)233
Образ бедности.
(обратно)234
Стихотворение распорядительницы Отделения дворцовых прислужниц Аманэико (дочери Харудзуми Ёсинава), К № 107: «Если бы сожаление, что осыпаются цветы, могло удержать их на ветках, я бы плакала так же громко, как соловей». В стихотворении использована игра слов: наку — «плакать» и «петь» (о птицах).
(обратно)235
См. примеч. 12 ко второй части.
(обратно)236
Церемония проводилась в течение четырех дней по два сеанса, утром и вечером.
(обратно)237
Хатикудоку — «райская вода восьми достоинств» (сладкая, холодная, мягкая, легкая, чистая, без запаха, безвредная для горла, полезная для желудка).
(обратно)238
В тексте в серии «Нихон котэн бунгаку тайкэй» сказано: «в восьмом месяце», но это явная ошибка.
(обратно)239
См. примеч. 61 к первой части.
(обратно)240
Автор явно имел в виду японцев, так как китайцы не имели азбуки.
(обратно)241
См. примеч. 22 к первой части.
(обратно)242
Супруга императора династии Хань Юань-ди (48-32 гг. до н. э.), отданная им варварам.
(обратно)243
Супруга императора династии Хань У-ди (140-86 гг. до н. э.).
(обратно)244
См. примеч. 33 к первой части.
(обратно)245
История не имеет отношения к Пань Юэ и взята из поэмы «Дэнту сладострастник» Сун Юя (290-223 гг. до н. э.): «Эта девушка все лезет на забор и на меня все смотрит, государь. Так длится третий год, а я до сих пор не соглашаюсь» (пер. В. М. Алексеева).
(обратно)246
Стихотворение из М № 1394:
Не трава ли ты морская, Что растет на каменистом берегу И, когда прилив нахлынет, исчезает? Видишь мало ту зеленую траву, А о ней тоскуешь — много... (обратно)247
В оригинале текст не расшифровывается. Комментаторы полагают, что сюда вкралась ошибка и что автор цитирует здесь роэй на текст стихотворения Бо Цзюйи, BP № 242: «В пятнадцатую ночь показавшаяся над горизонтом луна льет сиянье, мысли мои о том, кто находится за две тысячи верст».
(обратно)248
См. примеч. 90 к первой части.
(обратно)249
Мацуо Отоси отмечает, что слово «кирифу», вероятно, топоним, но значение его непонятно. Икэда Тосио указывает, что это холм, на котором росли деревья, использовавшиеся для изготовления кото, но остается неизвестным, где он находился.
(обратно)250
См. вторую часть. Там дама называлась Сёсё.
(обратно)251
Под «островом в бухте» подразумевается Ооикими, под «берегом» — принцесса.
(обратно)252
Здесь использованы образы предыдущего стихотворения, но в целом смысл непонятен.
(обратно)253
Обряд надевания шлейфа на девушку означал ее вступление во взрослую жизнь, после чего она могла выходить замуж. Шлейф мо был отдельной частью туалета и подвязывался к верхнему платью.
(обратно)254
Не совсем понятно. Всю фразу можно отнести и к Ооикими. что и делает Икэда Тосио.
(обратно)255
В местечке Ямасина находился дом Накатоми Каматари (родоначальника рода Фудзивара), который в 657 г. был преобразован в храм. Сын Катамари, Фудзивара Фухито, перенес храм в столицу Нара, и он стал называться Кофукудзи.
(обратно)256
Бодхисаттва — существо, достигшее прозрения и получившее таким образом возможность стать буддой. Но вместо того, чтобы погрузиться в нирвану, он остается в земном мире и помогает другим живым существам.
(обратно)257
Смерть считалась осквернением, и те, кто присутствовал при кончине кого-либо, должны были пройти период очищения.
(обратно)258
В «Песне о бесконечной тоске» Бо Цзюйи рассказывается, как даос был послан Сюань-цзуном в загробный предел, чтобы встретиться с Ян Гуйфэй.
(обратно)259
Это, несомненно, цитата из китайского стихотворения, но источник не установлен.
(обратно)260
Стихотворение неизвестного автора, К № 952: «Если бы я мог жить среди скал в глухих горах, чтобы ничего не знать о скорби нашего мира!» Также стихотворение Мононобэ Ёсина, К № 955: «Чтобы не знать о скорби нашего мира, я хотел бы удалиться в горы, но не могу оставить любимую».
(обратно)261
Повседневное платье японского аристократа.
(обратно)262
«Правильно думать» — один из восьми правильных путей достижения нирваны.
(обратно)263
«Повесть о реке Оои» — не дошедшая до нашего времени повесть. Предполагается, что в ней рассказывается, как мужчина и женщина, влюбленные друг в друга, завороженные звуками музыки, достигли Чистой земли. Майтрея — бодхисаттва (яп. Мироку), Будда будущих времен.
(обратно)264
Цвет траура.
(обратно)265
Стихотворение Оно Комати, К № 938, написанное в ответна приглашение Фунъя Ясухидэ приехать в провинцию Микава, куда он получил назначение: «Жизнь моя печальна, и если повлечет меня вода, как плавучую траву, у которой нет корней...» (т. е. «если вы приглашаете меня, я покину столицу»).
(обратно)266
Предложение непонятно: кто были эти недоброжелатели?
(обратно)267
По-видимому, здесь пропуск.
(обратно)268
Судя по хэйанским романам, девиц часто отдавали замуж ранее этого возраста.
(обратно)269
Стихотворение неизвестного автора, «Новые японские стихотворения, избранные по императорскому указу» (Синтёкусэн вакасю) № 628: «Я не увижу тебя даже во сне, и любовь к тебе все равно что попытка связать веревкой небо».
(обратно)270
Весь этот отрывок неясен.
(обратно)271
По старому японскому обычаю, к возрасту каждого человека в первый день нового года добавляется один год.
(обратно)272
Рисовые лепешки в форме круглого зеркала. В день Нового года такую лепешку клали на голову ребенку и выполняли обряд пожелания счастья.
(обратно)273
Фраза непонятна
(обратно)274
Неизвестно, реальное это лицо или персонаж повести, до нашего времени не дошедшей.
(обратно)275
Героиня «Повести о Такэтори», Лунная дева, была найдена в стволе бамбука.
(обратно)276
Небесный грот упомянут в мифе о богине солнца Аматэрасу, которая удалилась в него, разгневавшись на своего брата Сусаноо. В данном случае речь идет просто о недоступном месте.
(обратно)277
Повесть до нашего времени не сохранилась, содержание ее неизвестно.
(обратно)278
Токо-но ура (бухта Токо) — место в северо-восточной части города Хико-нэ (провинция Сига), в древности берег озера Бива. Слово «Токо» имеет значение «постель», в этом смысле оно употреблено в стихотворение, и название бухты означает, таким образом, место свидания с женщиной.
(обратно)279
В тексте непонятное выражение.
(обратно)280
Смысл непонятен. Нио — другое название озера Бива. Название водоросли (мирумэ) можно понять как «глаз, который видит».
(обратно)281
По-видимому, имя прислужницы. Ранее не упоминалось.
(обратно)282
Фраза далее непонятна и оставлена без перевода.
(обратно)283
Стихотворение неизвестного автора, К № 878: «Ни в чем не могу найти утешения, глядя на луну, которая светит в Сарасина над горой, где оставил тетку». Намек на легенду, изложенную в «Повести о Ямато», № 156. Под влиянием жены некто, живущий в Сарасина, завел в горы и оставил там старую тетку, которая его воспитала. Всю ночь он не мог заснуть, глядя на луну и представляя, как светит она над горой, и сложил стихотворение, приведенное выше. Утром он отправился в горы и привел тетку домой. С тех пор гора называется Горой брошенной тетки (Обасутэяма).
(обратно)284
См. примеч. 12 ко второй части.
(обратно)285
Текст стихотворения непонятен
(обратно)286
Это упоминание непонятно в контексте отрывка. Далее следует туманная фраза, оставлена без перевода.
(обратно)287
Храм Киёмидзу был основан в 798 г. Саканоэ Тамурамаро. Он был расположен за городской чертой, и в конце лета аристократы часто совершали паломничество туда, спасаясь от жары.
(обратно)288
Далее фраза непонятна и оставлена без перевода.
(обратно)289
Неясно
(обратно)290
Первая фраза этой части неясна и оставлена нами без перевода.
(обратно)291
Стихотворение неизвестного автора, С № 749: «Где находится деревня Беззвучная, в которой не раздавался бы плач от любовной тоски?» Отонаси (Беззвучная) — неизвестно, существовала ли деревня с таким названием.
(обратно)292
Персонаж, ранее не упоминавшийся.
(обратно)293
Вероятно, цитата из стихотворения, но источник не установлен.
(обратно)294
Перевод условен, смысл фразы непонятен.
(обратно)295
Персонаж ранее не упоминался.
(обратно)296
Скалы Сё находятся в горах Ёсино, там издавна селились отшельники.
(обратно)297
Стихотворение Аривара Нарихира, ИМ № 9:
Если ты такова же, Как и имя твое, о «птица столицы», — То вот я спрошу: Жива или нет Та, что в думах моих? (обратно)298
Смысл неясен. Возможно, это цитата из стихотворения, но источник не установлен.
(обратно)299
Стихотворение Ки Томонори, К № 607: «Не могу высказать словами, и течет моя любовь, как подземная река Минасэ». Также ИМ № 8: «Вот достигли они провинции Микава, того места, что зовут "Восемь мостов". Зовут то место "Восемь мостов" потому, что воды, как лапки пауков, текут раздельно, и восемь бревен перекинуто через них».
(обратно)300
Отец начальника Дворцовой стражи.
(обратно)301
В тексте здесь или ошибка или пропуск.
(обратно)302
Стихотворение неизвестного автора, К № 867: «Растет на равнине Мусаси цветок мурасаки, поэтому я чувствую нежность и ко всем остальным там травам». Тюнагон имеет в виду, что так как бывшая жена начальника Дворцовой стражи — сестра барышни из Миёсино, она ему нравится как родственница последней. Мурасаки — многолетняя трава, воробейник аптечный.
(обратно)303
Поле Торибэ — место сжигания трупов
(обратно)304
BP № 702. Роэй на стихи Оэ Асацуна «Ван Чжаоцзюнъ»: «Одиноко звучит варварская свирель. Неожиданно проснувшись, вижу покрытую инеем землю. Родная столица за десять тысяч верст. Глядя на луну, чувствую непереносимую тоску».
(обратно)305
То есть ребенком барышни из Миёсино.
(обратно)306
«Бодхисаттва Царь-врачеватель», глава 23 «Лотосовой сутры», повествует о том, что, если женщина проникнет в смысл этой главы, она после смерти женщиной больше не возродится» (ХК, т. 3, с. 204).
(обратно)307
Повествование возвращается к периоду, предшествующему похищению барышни.
(обратно)308
Барышня была похищена на рассвете 22-го дня седьмого месяца. Переселение принца во дворец произошло, по-видимому, вскоре после того. Наследник престола, как и император, не мог покинуть своей резиденции, кроме специальных выездов, которые обставлялись с соответствующей торжественностью.
(обратно)309
Далее следует фраза: «Тюнагон, по-прежнему испытывая несказанную любовь к китайской императрице, повсюду днем и ночью разыскивал барышню и находил утешение в этих отчаянных усилиях». Она не имеет отношения ник предшествующему, ни к последующему отрывкам.
(обратно)310
Стихотворение принца из предыдущей части.
(обратно)311
По-видимому, принц имеет в виду смерть барышни.
(обратно)312
Со времени похищения героини должно пройти три или четыре месяца.
(обратно)313
Возможно, цитата из какого-то стихотворения
(обратно)314
По поверью, в зеркале можно было видеть не только отражение настоящего, но и прошлое и будущее.
(обратно)315
См. примеч. 25 ко второй части.
(обратно)316
Весь отрывок о Нака-но кими малопонятен.
(обратно)317
Неясно, кто именно.
(обратно)318
См. примеч. 23 к третьей части.
(обратно)319
По синтоистским верованиям, душа умершего должна в течение семи дней после кончины перевалить через гору Смерти (Сидэ).
(обратно)320
Текст неясен
(обратно)321
Стихотворение Суо-но найси, ГС № 765: «Как горько, что нарушил ты свои обещанья! Теперь я не могу видеться с тобой и не могу высказать свою обиду».
(обратно)322
Текст довольно неясен, возможно, что-то пропущено.
(обратно)323
Нака-но кими, супруга принца.
(обратно)324
Популярный в литературе эпохи Хэйан образ эфемерности.
(обратно)325
Намек на китайское предание о горах Ланькэ («горы, где истлело топорище»). В древности (III-V вв.) некий Ван Чжи отправился в эти горы за дровами и увидел в пещере двух юношей, играющих в шашки. Ван Чжи следил за игрой, а когда собрался в обратный путь, обнаружил, что топорище его истлело. Он понял, что пробыл в горах несколько сот лет.
(обратно)326
Текст непонятен, и нет связи с последующим.
(обратно)327
Застава Аусака (встреч) — застава на горе Аусака, на границе провинций Ямасиро и Оми. Часто встречающееся выражение для любовного свидания.
(обратно)328
Стихотворение неизвестного автора, адресованное женщине, и ее ответ, С №№ 674 и 675: «От слез, что я втайне от всех проливаю по тебе, насквозь прогнили мои рукава. Если наступит час свиданья, во что заверну я свою радость?» Ответ. «Можно ль судить о глубине любви по прогнившим от слез рукавам? Говорят, что влюбленные за свиданье готовы с жизнью расстаться».
(обратно)329
Стихотворение, приписываемое Какиномото Хитомаро, М № 2648:
Так и эдак Не раздумываю я. Как в селении Хида у мастеров Черною веревкой мерят напрямик, У меня к тебе — один лишь путь. (обратно)330
Горная цепь Куньлунь. По китайским легендам, высокая гора на Западе, на которой живут маги.
(обратно)331
Город, в котором находился императорский двор с 694 по 710 г.
(обратно)332
Ранги были введены регентом Сётоку-тайси в 603 г., и в течение VII в. табель о рангах несколько раз изменялась. Ранги имели два разряда (старший и младший), которые, с четвертого ранга и ниже, делились на две ступени.
(обратно)333
Так звали дочь императора Тэндзи (годы правления 668-671), которая скончалась в 700 г. В М помещено стихотворение Какиномото Хитомаро, написанное на ее смерть (№ 196). Имеется ли в виду именно она?
(обратно)334
Герой УМ, Киёвара Тосикагэ, в семь лет приветствовал корейского путешественника китайскими стихами. В двенадцать лет над ним был выполнен обряд надевания головного убора взрослых, и он написал прекрасное сочинение на тему, данную по приказу императора (УМ, первая глава).
(обратно)335
См. примеч. 3 к содержанию несохранившейся части «Повести о советнике Хамамацу»
(обратно)336
См. примеч. 69 к первой части «Повести о советнике Хамамацу».
(обратно)337
Речь должна идти о супруге бывшего императора, отрекшегося от престола или скончавшегося.
(обратно)338
Праздник проводился в девятый день девятого месяца по лунному календарю
(обратно)339
Стихотворение неизвестного автора, Г№ 852: «Как падает иней на увядающие белые хризантемы, сердце мое снова к ним стремится». Когда иней падает на увядающие белые хризантемы, они приобретают красноватый оттенок и опять очаровывают любителей этих цветов.
(обратно)340
Аромат, состоявший из нескольких компонентов. Использовался в зимнее время.
(обратно)341
Стихотворение Какимото Хитомаро, М № 2370:
Если умирают от любви, То пускай и я умру, любя. Люди, проходя дорогою прямой, Что лежит копьем из яшмы дорогой, Не приносят вести от тебя.Также стихотворение Накатоми Якамори, М № 3780:
Не хочет ли сказать кукушка мне: «Коль умирают от любви, Умри и ты!» — В часы, когда исполнен я тоски, Она вдруг начинает громко петь! (обратно)342
Стихотворение принцессы Оку, М № 105:
Говорят, в страну Ямато отправляют Брата дорогого моего. Ночь спустилась, И в росе рассветной Я стою, промокшая насквозь... (обратно)343
Стихотворение неизвестного автора, М № 2407:
Много бухт, куда войти возможно, Плавая по морю, кораблю... Пусть меня мать спросит, Пусть гаданье скажет, Все равно тебя не назову!Также стихотворение неизвестного автора, М № 2531:
Милый мой, Чтоб имя не сказать твое, Я ведь жизнь отдала свою, Жизнь, блестевшую подобно жемчугам. Ты не забывай об этом никогда!Стихотворение было сложено, когда девушка, не желая открыть имя возлюбленного родителям, решила покончить с собой.
(обратно)344
Стихотворение Отомо Суругамаро, М № 409:
День целый В тысячи рядов волна здесь приливает за волною, И так же думы непрерывны о тебе... Но почему же трудно в руки взять И завладеть жемчужиною дорогою? (обратно)345
Первые строчки из «Песни сожаления о быстротечности жизни» Яманоэ Окура, М № 804:
Как непрочен этот мир, В нем надежды людям нет! (обратно)346
Стихотворение неизвестного автора, М № 2566:
Когда б любовь Румянцем выдала себя, Его заметив, люди все б узнали, О тайная, любимая жена, Что в сердце глубоко от всех людей скрываю...Также стихотворение кормилицы Ки, К№ 1028: «Пусть поднимается пламя стенаний несчастной любви высоко, как гора Фудзи. Даже богу горы не дано его погасить, и напрасно возносится дым».
(обратно)347
Стихотворение Какиномото Хитомаро М № 2461:
Как светлую луну, что выплывает Из-за высоких гребней дальних гор, Едва-едва Любимую я видел, И как потом я буду тосковать... (обратно)348
Стихотворение неизвестного автора, М № 2530:
О, когда я увидеть мог В Аратама, в стороне Кибэ, Даже сквозь бамбуковый плетень Милую мою, хотя бы через щель, —Разве тосковал бы я тогда?
(обратно)349
В период с 630 по 838 г. в Китай было отправлено пятнадцать посольств. В 894 г. японцы начали готовить шестнадцатое, однако оно не было отправлено. Посольства в Китай, кроме дипломатических, преследовали и другие цели. В составе посольств на континент отправлял и молодых людей, которые должны были овладеть там науками, ремеслами и искусствами. Герои УМ, Тосикагэ, был отправлен в Китай в составе посольства (УМ, первая глава).
(обратно)350
Стихотворение неизвестного автора, М № 2918:
О чем еще мне нынче тосковать? Ведь близок уже год, Когда с моей любимой Без уговоров Вместе мы уснем.Морокоси — старое японское название Китая.
(обратно)351
Стихотворение неизвестного автора, М № 3583:
Когда любимая молитву шлет богам. Чтоб без беды причалил я к родной стране, Пусть волны в море Встанут в тысячу рядов, Они не смогут стать помехой мне!Также стихотворение Икага Ацуюки, К № 373: «Как я ни стремлюсь разделить свое тело, чтобы послать половину с тобой, сделать этого я не могу, но невидимая глазу душа пускается вместе с гобой з путь» (обращено к человеку, уплывающему в восточные провинции).
(обратно)352
Стихотворение неизвестного автора М № 2788:
Когда нить жизни краткой не жалея, Ты любишь всей душой, бывает тяжело. Хочу безумствовать я все равно, Пускай смешались думы, как жемчуг с нити порванной, — пускай, И если обо всем узнают люди, пускай узнают что мне в том! (обратно)353
Гора Кагами в уезде Мацура провинции Хидзэн называлась также Хирэфури, «Гора развевающегося шарфа»; см. следующее примечание.
(обратно)354
Стихотворение Отомо Табито М N9 871:
Ожидающая человека издалече, Мацура Саёхимэ, душою всей любя, Здесь махала мужу шарфом белым. В память этого И названа гора!Песне предпослано предисловие:
«Молодой рыцарь Отомо Садэхико по приказу императора был послан с особым поручением в страну Мимана. Снарядив корабль, он отправился в путь и все дальше и дальше уплывал по голубым волнам.
Его возлюбленная Мацура Саёхимэ, горюя о внезапной разлуке и печалясь, что, может быть, ей не удастся больше встретиться с ним, поднялась на вершину высокой горы и провожала взглядом удалявшийся корабль. Доведенная до отчаяния страданием, убитая горем, она в последний момент сняла с себя белый шарф и стала махать им, а все, кто были рядом, не могли удержаться от слез. С тех пор та гора стала называться "Горой развевающегося шарфа". Об этом я и говорю в своей песне».
(обратно)355
Глава генерал-губернаторства на острове Цукуси (совр. Кюсю).
(обратно)356
Топоним Мацура по иероглифическому написанию имеет значение: «бухта, (где растут) сосны».
(обратно)357
Стихотворение Ооикими, ХМ (несохранившаяся часть):
В далекий предел Уплывает корабль, И рядом с ним Лик твой бежит По синим волнам (обратно)358
См. примеч. 9 к содержанию несохранившейся части «Повести о советнике Хамамацу»
(обратно)359
Ныне Нинбо. По-видимому, упомянуто в связи со стихотворением Абэ Накамаро (см. предыдущее примечание).
(обратно)360
Чанъань, ныне Сиань.
(обратно)361
Цзинь Жиди (Вэншу) был сыном царя гуннов и служил у ханьского императора У-ди (годы правления 140-86 до н. э.).
(обратно)362
BP № 240: «Более тысячи верст вокруг столицы покрыто льдом. Тридцать шесть ханьских дворцов блистают в лунном свете и кажутся обсыпанными пудрой». В эпоху Западная Хань (206-8 гг. до н. э.) вокруг столицы Чанъань было выстроено тридцать шесть загородных императорских дворцов.
(обратно)363
Стихотворение Бо Цзюйи «В зимнее солнцестояние останавливаюсь на подворье Янмэй» (Дунчжи су Янмэй гунь), 13 свиток: «Одиннадцатый месяц. Долгая ночь солнцестояния. Путник ушел от дома на три тысячи верст».
(обратно)364
Автор обнаруживает незнание китайской географии: возле столицы Чанъань никакого моря нет.
(обратно)365
См. примеч. 30 к первой части «Повести о советнике Хамамацу».
(обратно)366
См. примеч. 16 к первой части «Повести о советнике Хамамацу».
(обратно)367
В УМ небожительница возвещает Тосикагэ: «Такова воля небес: ты будешь играть на земле на кото и дашь начало роду музыкантов» (УМ, т. 1, с. 44). Кото — японское название струнных инструментов, и в том числе и кин (кит. цинь).
(обратно)368
Три перечисленные должности являются наивысшими в государственном управлении. Хэнань — область, которая в эпоху Тан включала в себя большую часть провинций Шаньдун и Хэнань, а также часть провинций Цзянсу и Аньхуэй.
(обратно)369
В свитке 83 «Новой истории династии Тан» рассказывается о принцессе Хуаян, дочери императора Дай-цзуна (762-780), которая, заболев, обратилась к даосизму.
(обратно)370
Шаншань, гора Шан, находится в провинции Шэньси. На нее удалились «четверо седовласых», четыре старца, бежавшие в горы при циньском императоре Ши-хуан-ди (годы правления 221-209 до н. э.) и вернувшиеся после установления порядка при династии Хань.
(обратно)371
Тосикагэ учился музыкальному искусству у небожителей (УМ, первая глава).
(обратно)372
В УМ небожительница наказывает Тосикагэ: «Играй на этих инструментах только перед моими сыновьями, которые живут в горах, никто другой не должен слышать их» (УМ, т. 1, с. 44).
(обратно)373
Вероятно, эпизод встречи с Тао Хунъином (как старец обозначен впоследствии) создан под влиянием истории Цзи Кана (223-262), замечательного поэта, одного из Семи мудрецов бамбуковой рощи (общество поэтов и музыкантов, увлекавшихся даосизмом): «Однажды Кан путешествовал в местности, лежащей к западу от реки Лоу. Вечером он остановился в гостинице Хуан-ян. Он вытащил цинь и начал играть. В полночь в его комнате появился незнакомец. Он похвалил игру Кана: "Да, это действительно древний стиль" Оба принялись обсуждать вопросы музыки. Незнакомец был красноречив. Он сел за цинь и начал играть. Это была пьеса "Гуанлинсань". Звучание инструмента и красота музыки были невообразимыми. Незнакомец обучил Кана этому произведению, но заставил его поклясться несколько раз, что он никому не передаст этого произведения. Он не назвал ни своей фамилии, ни имени». Цзинь шу (История династии Цзинь), в 10 тт. Пекин, Чжунхуа шуцзюй, 1974, т. 5, с. 1374
(обратно)374
УМ: «Кото звучало, как множество музыкальных инструментов; казалось, что вместе с госпожой кто-то играл на духовых» (УМ, т. 3, с. 479).
(обратно)375
Стихотворение неизвестного автора, Г № 559: «Бредя в сновидении к тебе, я сбился с дороги, и рукава мои стали мокры от росы, которая пала не с неба, (а из моих глаз)». Также стихотворение неизвестного автора, Г№ 711: «Проснувшись, я не знал, с кем обменялся клятвами в верности. Я заблудился на путях сновидения, и не понимаю, я ли это».
(обратно)376
Возможно, намек на Повесть о Такэтори («Такэтори моногатари»), героиня которой, Лунная дева, за какое-то прегрешение была изгнана на некоторое время на землю.
(обратно)377
Промежуток времени с 9 до 11 часов утра
(обратно)378
Данный отрывок противоречит вышесказанному о том, что принцесса будет обучать Удзитада в течение пяти дней.
(обратно)379
Стихотворение неизвестного автора, М № 2960:
В непрочном этом бренном мире Нет сердца бодрого Отныне у меня. Без встреч с тобой, любимая моя, Проходят чередою годы... (обратно)380
Стихотворение неизвестного автора, М № 2789:
В смятенье от любви. Что порвалась, Как нить, где жемчуг дорогой блистал, Мне остается только умереть И даже не увидеть вновь тебя.См. также М № 2788 (примеч. 22).
(обратно)381
ИМ № 21:
«Забудешь вновь!» — Всплывает мысль... В сомненьях сердца Сильней, чем прежде, Грусть. (обратно)382
Стихотворение принца Оцу, М № 107:
Когда я любимую ждал Под капелью лесною в горах, Распростертых вокруг, Я все время стоял и промок весь насквозь Под капелью лесною в горах... Мокры рукава, конечно, от слез, а не только от капели. (обратно)383
Еще одно противоречие. Описывается вторая ночь, которая и была последним свиданием героев на башне.
(обратно)384
Стих, неизвестного автора, М № 3083:
Мне кажется теперь, когда моя любовь Во много раз становится сильней, В смятенье чувств я умереть могу, Так нить жемчужная порвется — и тогда Рассыплется весь жемчуг дорогой... (обратно)385
Стихотворение неизвестного автора, М № 1455:
Чем тосковать мне, Жизни не щадя, Сверкающей, как дорогая яшма, Хотел бы лучше я на корабле прекрасном Стать ручкой твоего весла! (обратно)386
Башня под таким названием была выстроена основателем династии Лян (502-557 гг.) в Лояне, а не в Чанъани, где происходит действие повести.
(обратно)387
Стихотворение Фудзивара Корэмаса, CK № 1422: «Если умру, так и не встретившись с тобой, то и после смерти не прекратятся мои стенания. Нельзя ли жизнь на что-либо обменять, чтобы тебя позабыть?»
(обратно)388
Место это непонятно, так как Удзитада был военачальником. Может быть, его слова являются выражением скромности.
(обратно)389
Стихотворение Ки Томонори, К № 615: «Что такое жизнь? Она ничтожна, как исчезающая роса. И я не жалел бы если бы смог отдать ее за свидание с тобой».
(обратно)390
Храм в Хацусэ (ныне Хасэ) в провинции Нара, основан во время правления императора Тэмму (672-686). Главной святыней храма была статуя Одиннадцатиликого Каннон (бодхисаттва Авалокитешвара, кит. Гуаннинь), установленная, однако, после конца VII в., к которому приурочено действие повести.
(обратно)391
Стихотворение Фудзивара Тосиюки, К № 558: «Ослабев от любовных страданий, лишь сомкну глаза, вижу прямой путь, по которому иду к тебе. Если бы это было явью!»
(обратно)392
В УМ таким же образом исчезает волшебный инструмент, привезенный героем в Японию из преддверия буддийского рая (УМ, т. 1, с. 155).
(обратно)393
Находилась в провинции Шэньси, на пути из Чанъани в провинцию Хэнань.
(обратно)394
Может быть. имеются в виду регалии императорской власти.
(обратно)395
Стихотворение Фудзивара Тэйка, CK № 952: «Где сегодня остановлюсь на ночлег? Уже наступил вечер. Буря свирепо завывает на вершинах гор».
(обратно)396
Находится в провинции Сычуань.
(обратно)397
Проход между горами Дацзянь и Сяоцзянь (Большой и Малый меч) на пути из Чанъани в провинцию Сычуань. Важный стратегический пункт. Упомянут в «Песне о бесконечной тоске» Бо Цзюйи.
(обратно)398
Хоу, наследственный титул знати, второй из пяти высших классов.
(обратно)399
Начальник императорской гвардии.
(обратно)400
То есть Японии.
(обратно)401
Одним из них был Удзитада, который оставался на месте. Речь, таким образом, должна идти о девяти двойниках.
(обратно)402
Китайская пословица, встречается во многих старых текстах.
(обратно)403
В задних покоях проживали наложницы императора.
(обратно)404
Дочь Гоу Цзяня, князя древнего царства Юэ, была наложницей Чжао, князя царства Чу. Узнав, что Чжао, находясь в армии, тяжело заболел, она, не желая пережить его, покончила с собой.
(обратно)405
Бог Сумиёси, бог мореплавания и воины.
(обратно)406
Находилась в провинции Хэнань, на северо-востоке от Лояна.
(обратно)407
Бог Индра.
(обратно)408
Стихотворение Сиромэ, К № 387: «Если бы в жизни все совершалось по желанию моего сердца, разве я печалился бы по поводу нашего расставания?»
(обратно)409
Стихотворение Фудзивара Митинобу, СК № 1170: «Вопреки увещаниям сердца, мое тело ходит к любимой Чувствую, что оно истает, как роса, у дороги под открытым небом».
(обратно)410
Стихотворение Юки Якамаро, М № 3644:
С трепетом приказу вняв Государя своего, Я отчалил в дальние края И ночую ныне там, где мне прикажет Путь большого корабля! (обратно)411
«Драгоценность, зашитая в одежде» — буддийское выражение, обозначающее истину, которая близка и которую человек тем не менее не понимает. Происходит из эпизода «Лотосовой сутры». Некто, находясь в доме близкого друга, уснул, а хозяин зашил в подкладку его одежды бесценную жемчужину. Не зная об этом, человек отправился в чужую страну, где жил в крайней бедности Случайно он встретился с другом, который сообщил ему о жемчужине (XK, т. 2, с. 114).
(обратно)412
Стихотворение Осикоти Мицунэ, К № 611: «Не знаю, куда отправилась моя любовь, и не могу последовать за ней. И не знаю, когда наступит день встречи». Под «луной» подразумевается императрица.
(обратно)413
Под «луной» подразумевается императрица, под «облаками» — придворные (кроме Удзитада).
(обратно)414
Стихотворение неизвестного автора, М № 3058:
Хоть и при дворе служу теперь, Где указывается людям день работ. Но ведь сердце не такое у меня, Чтоб меняло чувства прежние свои, Как меняет цвет свой лунная трава... (обратно)415
См. примеч. 34 к четвертой части «Повести о советнике Хамамацу». В последних строках стихотворения Удзитада подразумевается императрица.
(обратно)416
Стихотворение неизвестного автора, К № 507: «Люблю и тоскую, но встретиться нам нельзя. Однако руки устали завязывать пояс нижнего платья который развязывается сам собой» (примета, предвещающая свидание).
(обратно)417
Стихотворение неизвестного автора, К № 486: «Почему так люблю эту бессердечную женщину? Как только просыпаюсь, стенаю о ней, как засну — тоскую». Также стихотворение Фудзивара Арииэ, СК № 1638: «Задумался ли я? Или проливал слезы? Ветер, шумящий в соснах во дворе, пригнал дождевые тучи, и мокры мои рукава».
(обратно)418
Инструменте двойной тростью (кит. били). Среди иероглифических написаний его названия было «свирель скорби».
(обратно)419
Духовой инструмент, флейта Пана. Сяо и били — два различных инструмента; возможно, что в текст вкралась ошибка.
(обратно)420
Имеется в виду дочь циньского правителя Му-гуна, Лунъюй. Она вышла замуж за Сяоши, знаменитого исполнителя на флейте сяо. Однажды, когда они с мужем играли на этом инструменте, явились фениксы, и музыканты улетели вместе с ними.
(обратно)421
Стихотворение Татибана Тадамото, С № 470: «Не забывай обо мне! Сейчас мы далеко друг от друга, но, кружа в жизни, как луна кружит по небу, мы встретимся еще раз».
(обратно)422
Стихотворение Аривара Нарихара, ИМ № 22:
Пусть долгая ночь Осенью и будет длинна, Как тысяча долгих ночей, — Не останется разве, что нам говорить, Когда птички уже запоют? (обратно)423
Стихотворение неизвестного автора, К № 637: «Как печально на рассвете, когда небо все больше светлеет, надевать каждому свои одежды, которые ночью были брошены вместе, и прощаться друг с другом!»
(обратно)424
Стихотворение Сайгё, «Собрание стихотворений горного жителя» (Санкасю) № 66: «С тех пор как я увидел цветущие ветви в горах Ёсино, моя душа не следует за телом (и остается там)».
(обратно)425
Цзиныиу чжияо. Книга была составлена начальником Канцелярского приказа Вэй Чжэном и другими по повелению танского императора Тай-цзуна (годы правления 627-650). Она состояла из пятидесяти свитков и содержала примеры государственного управления начиная с династии Цинь (221-207 гг. до н. э.) до династии Цзинь (265-420). Была утеряна в Китае, но сохранилась в Японии
(обратно)426
«Мать страны» — мать императора.
(обратно)427
Стихотворение Аривара Нарихира, ИМ № 65:
Без толку прихожу Сюда я... возвращаюсь... Причина все одна: Влечет меня желанье Тебя увидеть! (обратно)428
Стихотворение Тайра Тадамори, «Собрание японских песен, созданных за тысячу лет» (Сэндзай вакасю) № 732: «Только в одну сторону клонится дым от костра, на котором жгут водоросли для получения соли. Если бы твое безжалостное сердце было ему подобно!»
(обратно)429
Стихотворение из Повести о Гэндзи («Гэндзи моногатари»), глава «Тэнараи»:
Нет здесь того, Кто когда-то задел рукавом Эти цветы. Отчего же такой знакомый Источают они аромат?(Пер. T Соколовой-Делюсиной)
Также стихотворение Фудзивара Тосиюки, К № 558: «Ослабев от любовных страданий, лишь сомкну глаза, вижу прямой путь, по которому иду к тебе. Если бы это стало явью!»
(обратно)430
Стихотворение Оэ Тисано, К № 193: «Лишь взгляну на луну, бесконечная тоска наполняет душу. Разве я один чувствую осеннюю печаль?»
(обратно)431
Стихотворение Домё адзари из личного собрания («Домё адзарисю») № 103: «Днем и ночью рассеивали мое внимание и влекли к себе ветви цветущих вишен, которые росли в отдалении».
(обратно)432
Ушань — место, где князь Чу пережил во сне роман с феей горы Ушань, превращавшейся утром в облако, а вечером — в дождь.
(обратно)433
Две жены легендарного китайского императора Шуня, узнав о его смерти, бросились в реку Сян и стали богинями этой реки.
(обратно)434
Стихотворение Исэ-тайфу, ГС № 1028: «В день, когда обнаружилась зашитая в одежде драгоценность, от горя не знала, что думать и что сказать». (См. примеч. 17. Стихотворение написано в связи с известием о принятии монашества мужем поэтессы.) Также стихотворение из Повести о Сагоромо («Сагоромо моногатари»), четвертая часть:
Семь возов нагрузил Я «любовь-травой», Но не сякнет запас И сколько бы О своей любви не твердил... (обратно)435
Стихотворение неизвестного автора, С № 733: «Наши встречи более кратки, чем свидание во сне, и подобны существованию поденки: здесь ли она или уже нет?» Также стихотворение Мибу Тадаминэ, Г № 170: «Что более эфемерно, чем мелькнувшее свидание? Расставание на рассвете летней ночью».
(обратно)436
См. примеч. 84 к первой части «Повести о советнике Хамамацу».
(обратно)437
Упомянут ранее, Дэн Личэн.
(обратно)438
Доски для порицания выставлялись в древности на дорогах, чтобы народ мог отмечать на них проступки правителей и даже императора.
(обратно)439
Легендарные правители древности.
(обратно)440
Первый император династии Цинь (221-207 гг. до н. э.), Ши-хуан-ди, покорил шесть царств и осуществил объединение страны. Правители династии Западная Хань (206 г. до н. э. — 8 г. н. э.) захватили власть в результате военного переворота.
(обратно)441
По-видимому, ошибка вместо «двадцати четырех уездов».
(обратно)442
Старинная мера веса для драгоценных металлов в эпоху Хань равнялась 0,6 кг.
(обратно)443
Стихотворение из «Повести о советнике Хамамацу» (первая часть):
По бурному морю, До нитки промокнув, Сюда я прибыл, Чтобы на горных тропах Любви заблудиться. (обратно)444
Предисловие Ки Цураюки к К: «В древности, из поколения в поколение, государь по утрам, благоухающим цветами весны, и по ночам, озаряемым осенним месяцем, — каждый раз созывал своих придворных и повелевал им слагать подходящие к моменту песни. И вот, одни говорили о том, как, наслаждаясь цветами, они попадали, не замети в того, в неведомые им места; другие говорили о том, как в мечтах о луне они оказывались блуждающими в безызвестном мраке; а государь вникал в их сердца и определял, что было мудро и что — неразумно» (пер. А. Е. Глускиной).
(обратно)445
Стихотворение неизвестного автора, С № 733: «Что эфемерней свидания во сне? Смутно видневшийся ее облик, мелькнувший, как поденка».
(обратно)446
«Повесть о Ямато» № 29:
Светлая роса, Приставшая к руке, что сорвала Цветок оминаэси, Может быть, это слеза О том, что нет сегодня того, кто был ранее?(Пер. Л. М. Ермаковой)
(обратно)447
Стихотворение неизвестного автора, К № 516: «Каждым вечером думаю, в какую сторону поставить изголовье, чтобы явилась во сне та, кто ныне спит в другом месте».
(обратно)448
Стихотворение неизвестного автора, Г № 230: «Редко, как Ткачиха с Волопасом, я могу встречаться с тобой, и сколько я ни утираю слезы, мое одинокое ложе мокро от них, как гвоздика от росы».
(обратно)449
Стихотворение принца Юхара, М № 632:
Глазами вижу, но руками Дотронуться не смею никогда, Как лавр зеленый, На луне растущий, — Любимая моя, — что делать с ней? (обратно)450
Намек на легенду о фее Ушань.
(обратно)451
Стихотворение Фудзивара Токихира, Г № 1273: «Когда развеет осенний ветер листья, которые окрасила моя глубокая любовь?» Стихотворение построено на омонимах: аки — «осень» и «быть пресыщенным» и ха — «лист» и «слово», и имеет смысл: «Когда я перестану говорить о тебе и забуду тебя?»
(обратно)452
Стихотворение неизвестного автора, СК № 1703: «Там, где на берег набегают белые волны, проводит своей век дочь рыбака, у которой нет своего дома».
(обратно)453
См. примеч. 29.
(обратно)454
Стихотворение неизвестного автора, К № 647: «Наша встреча наяву в полной темноте, черной, как ягода туга, не более реальна, чем встреча во сне, в котором мы ясно видели друг друга».
(обратно)455
Стихотворение неизвестного автора, Г № 766: «Каждую ночь, когда я лежу в постели, охваченный любовными думами, я хотел бы, чтобы сон, в котором мы можем встретиться, стал бы явью хотя бы на краткий миг!»
(обратно)456
Стихотворение Когогу-но нёбэтто («Прислужницы бэтто при дворе государыни»), дочери Фудзивара Мототоси, «Собрание японских песен, подобных золотым листьям» (Кинъё вакасю) № 420: «От тебя нет ни слова, на которое я могла бы полагаться, надеяться мне не на что, и жизнь моя подобна исчезающей росинке».
(обратно)457
См. примеч. 41 ко второй части «Дворца в Мацура».
(обратно)458
Стихотворение Саканоуэ Корэнори, К № 590: «Бесконечно осыпаются лепестки с вишен на горе Курабу, но их меньше, чем моих любовных дум».
(обратно)459
Стихотворение Аривара Нарихира, ИМ № 1:
С равнины Касуга Молодых фиалок на тебе Узоры, платье... И не знаешь ты пределов Мятежным смутам, как и Синобу.Первая половина стихотворения указывает на платье из ткани, сделанной в местности Синобу. Слово синобу имеет также значение «переносить». Вторая половина стихотворения имеет значение: «не могу переносить сердечные терзания».
(обратно)460
Стихотворение Какиномото Хитомаро, М № 2816:
Не беспокойся, Не тоскуй, прошу тебя, Ведь не такое я к тебе питаю чувство, Что колебалось бы, Как в небе облака... (обратно)461
Стихотворение монахини Катано, в котором воспевается храм Ходзё, «Повесть о процветании» (Эйга моногатари), свиток 18: «Ни одной пылинки не может опуститься на отшлифованный яшмовый престол без единого пятнышка».
(обратно)462
Предисловие к К: «Люди, что живут в этом мире, опутаны густой зарослью мирских дел» (пер. А. Е. Глускиной).
(обратно)463
Стихотворение Аривара Нарихира, ИМ № 69:
Я сам блуждаю Во мраке сердца, Обуянного тьмой! И сон то был иль явь — Узнаем ввечеру... (обратно)464
Стихотворение Ниндзё хоси, «Собрание японских песен, созданных за тысячу лет» № 1168: «Отчего такая печаль? Ночью путник проснулся от пронизывающего осеннего ветра». Также стихотворение Сайгё, там же № 605: «В этом мире я его больше не увижу. Я всегда говорил о необходимости обрести душевный покой на смертном одре, но ныне мое сердце в смятении». (Написано в ответ на известие, что Сайдзю хоси находится при смерти.)
(обратно)465
Стихотворение Сами Мандзай, М № 351:
Этот бренный мир! С чем сравнить могу тебя?.. Рано на заре Так от берега ладья Отплывает без следа...Также стихотворение Фудзивара Катиому, К № 472: «У корабля, который по белым волнам плывет туда, где нет никаких следов, единственным проводником служит ветер».
(обратно)466
См. примеч. 9 к содержанию несохранившейся части «Повести о советнике Хамамацу».
(обратно)467
Стихотворение Сэй-сёнагон, ГС № 939: «Если глубокой ночью кто-то и запоет петухом, вряд ли он обманет стражника на Заставе встреч» См. примеч. 6 к первой части «Повести о советнике Хамамацу».
(обратно)468
Стихотворение неизвестного автора, М № 1071:
Пока стоял и ждал, Не выйдет ли луна, Что не решается на небе показаться Из-за высоких гребней дальних гор, Ночь темная уже сошла на землюРечь идет о 16-й ночи четвертого месяца. Также стихотворение Татибана Тамэёси, «Собрание красот поэзии» (Сикасю) № 298: «Ожидая тебя, все время смотрел на луну, которая показалась из-за гребней восточных гор и скрылась за западными».
(обратно)469
Стихотворение Мибу Тадаминэ, К № 601: «Лишь задует ветер, покидает горную вершину белое облако и исчезает неизвестно куда. Не таково ли твое жестокое сердце?» Намек на легенду о фее Ушань.
(обратно)470
Стихотворение Сосэй хоси, К № 575: «Ночью в мимолетном сне увидел любимую, и утром не могу встать с постели».
(обратно)471
См. примеч. 2 к пятой части «Повести о советнике Хамамацу».
(обратно)472
См. примеч. 12 ко второй части «Повести о советнике Хамамацу».
(обратно)473
Стихотворение Тюнагон-но нёо, «Собрание японских песен, подобных золотым листьям» № 118: «Не могу понять, откуда в рассветном небе слышится неясное пенье кукушки».
(обратно)474
Стихотворение неизвестного автора, К№ 503: «Пустая затея скрывать свою любовь. Как ни старайся, все равно дело выйдет наружу».
(обратно)475
См. примеч. 41 ко второй части «Дворца в Мацура». Также стихотворение неизвестного автора, Г № 1264: «Говорят, что наш мир подобен поденке, миг — и не скажешь, есть ли он или уже нет».
(обратно)476
Стихотворение Ки Цураюки, К № 156: «Летней ночью подумал, не лечь ли спать, но заслушался пения кукушки, и незаметно наступил рассвет».
(обратно)477
Стихотворение Сайге, «Собрание стихотворений горного жителя» № 62: «Отправясь к облакам в горы Ёсино, я увижу цветы, которые давно мечтал увидеть».
(обратно)478
Стихотворение Аривара Нарихира, ИМ № 9:
Если ты такова же, Как и имя твое, о «птица столицы»,— То вот я спрошу: Жива или нет Та, что в думах моих? (обратно)479
Стихотворение барышни из Миёсино, «Повесть о советнике Хамамацу», часть четвертая:
Сыплет снег беспрерывно, И не светлеет небо, Медленно тянется Утро за утром, За вечером вечер. (обратно)480
Из песни бога Ятихоко-но ками, «Старых дел записи» (Кодзики), в которой рассказывается, как он явился к Нунакава-химэ:
Деревянную дверь, За которой дева спала, Толкая-тряся, Я там стоял.(Пер. Е. М. Пинус)
(обратно)481
Стихотворение Мибу Тадаминэ, К № 592: «Как в быстром потоке плывет ряска, не прикрепляясь корнями ко дну, так и моя любовь».
(обратно)482
XK, т. 2, с. 92.
(обратно)483
Чувственная музыка, далекая от старинного идеала, искоренения которой добивались конфуцианцы.
(обратно)484
Разновидности музыкальных инструментов: металлические и каменные гонги, струнные и духовые инструменты.
(обратно)485
То есть на год.
(обратно)486
Стихотворение Харумити Цураки, К № 341: «Говорим: "вчера", говорим: "сегодня". Месяцы и дни текут так же быстро, как река Асука».
(обратно)487
Стихотворение Ки Мотиюки, К № 850: «Человек исчезает быстрее, чем весенние цветы. Кто из них раньше прекратит свое существованье, заставя меня тосковать?» (Написано по поводу деревьев, которые зацвели после смерти того, кто их посадил )
(обратно)488
Стихотворение неизвестного автора, С № 759: «Сам виноват, но не могу не досадовать. Почему продолжаю я любить ту, которая вовсе не думает обо мне?»
(обратно)489
Стихотворение Фудзивара Тосиюки, К№ 558: «Ослабев от любовных страданий, лишь сомкну глаза, вижу прямой путь, по которому иду к тебе. Если бы это было явью!»
(обратно)490
Асуры — могущественные демоны, противники богов.
(обратно)491
Сюань-цзан (600-664) — буддийский монах, который отправился в Индию, в течение семнадцати лет изучал там буддийские сочинения и привез в Китай сутры на санскрите. Он получил титул Учителя закона Трипитаки. Трипитака — название буддийского канона.
(обратно)492
Бог войны Индра.
(обратно)493
Трайястримшас (санскр.), одно из шести (второе снизу) небес буддийской космологии, рай бога Индры.
(обратно)494
Стихотворение Идзуми-сикибу, ГС № 763: «Я скоро умру. Но хочу еще раз встретиться с тобой, чтобы унести воспоминанье в будущий мир!»
(обратно)495
Пять омрачений — омрачение всей калпы, омрачение философской мысли, омрачение чувств, омрачение всех живых существ и омрачение жизни.
(обратно)496
«Повесть о Гэндзи», глава «Сума», сцена прощания Гэндзи и Мурасаки.
Стихотворение Гэндзи:
Пусть меня самого Ждут долгие годы скитаний, Рядом с тобой Останется зеркало это, А в нем — отраженье мое.Ответ Мурасаки:
Когда бы со мной В день разлуки твое отраженье Остаться могло, Я бы, в зеркало это глядя, Забывала о горе своем(Пер. Т. Соколовой-Делюсиной)
(обратно)497
Имеется в виду принцесса Хуаян
(обратно)498
См. примеч. 2 к пятой части «Повести о советнике Хамамацу»
(обратно)499
Стихотворение неизвестного автора, К № 647: «Когда мы встречаемся наяву в полной темноте это не более реально, чем когда я ясно вижу тебя во сне».
(обратно)500
Стихотворение Ки Цураюки, К № 380: «Восемь рядов белых облаков отделяют нас друг от друга, но не отдаляйся сердцем от меня, и в столице тебя не забывающего». Также стихотворение Аривара Нарихира, ИМ № 7:
Все дальше за собою Страну ту оставляешь, — И все милей она. О, как завидно мне волнам тем, Что вспять идут. (обратно)501
Указание на высших сановников, имеющих первые три ранга и занимающих высшие должности: сэссе (регент), кампаку (верховный советник) дадзёдай-дзин (первый министр), садаидзин (левый министр), удайдзин (правый министр), дайнагон (старший советник), тюнагон (второй советник) и советник санги
(обратно)502
Дзельква игольчатая.
(обратно)503
Стихотворение Какиномото Хитомаро, М 2353:
О жена, что я скрываю ото всех Под священными деревьями цуки, Здесь, в Хацусэ, средь высоких гор Ночью ясной с ярко рдеющей луной Люди не увидят ли тебя? (обратно)504
Травой забвенья считался желтый лилейник (кандзо).
(обратно)505
Стихотворение неизвестного автора, К № 1093: «Если когда-нибудь я забуду тебя и полюблю другого, пусть морская волна накроет вершину горы Суэ-номацу».
(обратно)506
Стихотворение имеет смысл: «разве я любил другую женщину?»
(обратно)507
Хигути Ёсимаро, комментатор, считает, что речь идет о рассказе императрицы, объясняющем истинное положение описанных событий и божественное происхождение ее и Удзитада.
(обратно)508
То есть в 861 г.
(обратно)509
Усадьба регента Фудзивара Ёсифуса (804-872), где жила его дочь Акира-кэйко, супруга императора Монтоку (годы правления 850-858) и мать императора Сэйва (годы правления 858-876).
(обратно)510
Стихотворение Бо Цзюйи «Цветок? Нет, не цветок» (Хуа фэй хуа), 12 свиток.
(обратно)511
Цитата из стихотворения Бо Цзюйи «Госпожа Ли» (Ли фужэнь), 4 свиток.
(обратно)
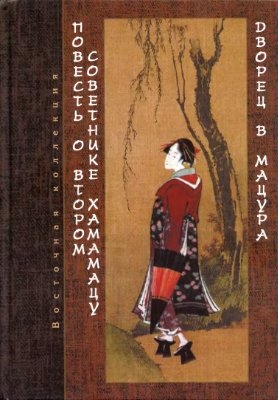

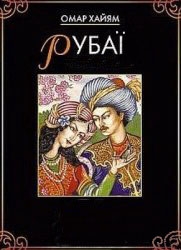

Комментарии к книге «Повесть о втором советнике Хамамацу (Хамамацу-тюнагон моногатари). Дворец в Мацура (Мацура-мия моногатари)», Автор Неизвестен -- Древневосточная литература
Всего 0 комментариев