Кэнко-Хоси ЗАПИСКИ ОТ СКУКИ
Когда весь день праздно сидишь против тушечницы и для чего-то записываешь всякую всячину, что приходит на ум, бывает, такое напишешь — с ума можно сойти.
I
Итак, раз уж вы родились в этом мире страстей, вы много чего можете еще пожелать.
О положении императора и помыслить страшно. Потомки августейшего, вплоть до самых отдаленных, благородны — они ведь не чета простым смертным.
Даже заурядные люди, пожалованные званием тонэри,[1] выглядят внушительно. О первых сановниках и говорить не приходится. Не только их дети, но и внуки — пусть им даже изменит судьба — очаровательны своей утонченностью.
Те, кто ниже их по происхождению, тоже при случае делают доступную для себя карьеру, и тогда у них бывает очень спесивый вид. И хотя они мнят себя великими, это совершенно никчемные люди.
Нет участи незавиднее, чем участь монаха. Сэй-Сёнагон писала: «В глазах людей он подобен чурбану», и верно, так оно и есть.
Оттого что бонзы галдят с огромной силой, внушительнее они не выглядят.
Помнится, будто мудрец Дзога[2] проповедовал, что жажда мирской славы несовместима с учением Будды. Но даже и у праведного отшельника есть, по-видимому, какое-то заветное желание.
У человека, например, может возникнуть желание выделяться своим обликом, прекрасным во всех отношениях. Того, кто говорит мало, не надоест слушать. Когда ваш собеседник приятен в общении, да еще и немногословен, им не пресытишься, с ним всегда хочется общаться. Горько, когда человек, который со стороны кажется превосходным, обнаруживает истинную свою сущность, недостойную вашего расположения. Внешность и положение даны человеку от рождения, а сердце, если его вести от одной мудрости к другой, более совершенной, — разве оно не поддастся?
Если человек с прекрасной внешностью и душой невежествен, он без труда подавляется людьми низкими и некрасивыми и становится таким же, как они. Это прискорбно.
То, что желательно: изучение истинно мудрых сочинений,[3] стихосложения, японских песен, овладение духовными и струнными инструментами, а также знание обрядов и церемоний. Если человек возьмет себе это за образец, превосходно.
Почерк должно иметь не корявый и беглый; обладая приятным голосом, сразу брать верную ноту; не отказываться выпить, несмотря на смущение, — это хорошо для мужчины.
II
Человек с раздутым самомнением, который и принципы управления времен древних мудрецов забыл, и не знает ни скорбей народа, ни причин, от которых дела в стране приходят в упадок, но, во всем стремясь к роскоши, бывает преисполнен самодовольства, кажется мне бездумным до отвращения.
«Используй то, что имеется под рукой — от одежды и головных уборов до коня и бычьей упряжки. Не гонись за внешним великолепием», — значится в завещании светлейшего Кудзё.[4] Рассуждая о придворных делах, монашествующий император Дзюнтоку писал также: «Императорские вещи — и плохие хороши».
III
Мужчина, который не знает толка в любви, будь он хоть семи пядей во лбу, — неполноценен и подобен яшмовому кубку без дна. Нет ничего более трогательного, чем бродить, не находя себе места, вымокнув от росы или инея, когда сердце твое, боясь родительских укоров и мирской хулы, не знает и минуты покоя; когда мысли разбегаются в разные стороны и притом — спать в одиночестве и ни единой ночи не иметь спокойного сна!
При этом, однако, нужно стремиться к тому, чтобы всерьез не потерять голову от любви, чтобы не давать женщине повода считать вас легкой добычей.
IV
Не забывать о грядущем рождении,[5] не отходить от учения Будды — завидный удел.
V
Человеку, который в несчастье впадает в скорбь, лучше не принимать опрометчиво решения о постриге, а затвориться, чтобы не слышно было — есть ли кто за дверью, и жить, не имея никаких надежд на будущее, тихо встречая рассвет и сумерки. Так, видимо, и думал Акимото-но-тюнагон,[6] когда сказал: «Захолустья луну без вины я увижу».
VI
Тем, кто высоко вознесся по своему положению, и тем более таким, кому несть числа, лучше всего не иметь детей.
Прежний принц тюсё, первый министр Кудзё, Левый министр Ханадзоно[7] — все желали прекращения своего рода. А министр Сомэдоно, как написано в «Рассказах Старца Ёцуги»,[8] говаривал: «Чудесно, когда потомков нет, скверно, если они вырождаются». И когда принц Сётоку готовил себе усыпальницу, он, как гласит предание, сказал: «Здесь урежь, там убавь: думаю, что потомков не будет».[9]
VII
Если бы человеческая жизнь была вечной и не исчезала бы в один прекрасный день, подобно росе на равнине Адаси, и не рассеивалась бы, как дым над горой Торибэ,[10] не было бы в ней столько скрытого очарования. В мире замечательно именно непостоянство.
Посмотрите на тех, кто обладает жизнью, — человеческая жизнь самая длинная. Есть существа вроде поденки, что умирает, не дождавшись вечера, и вроде летней цикады, что не ведает ни весны, ни осени. Достаточно долог даже год, если его прожить спокойно.
Если ты жалеешь, что не насытился вдоволь жизнью, то, и тысячу лет прожив, будешь испытывать чувство, будто твоя жизнь была подобна краткому сну. Что ты, долговечный, станешь делать в этом мире, дождавшись, когда облик твой станет безобразным! «Если жизнь длинна, много примешь стыда», поэтому лучше всего умереть, не дожив до сорока лет.
Когда переступаешь этот порог, перестаешь стыдиться своего вида: тянешься к людям и на закате дней печешься лишь о потомках, хочешь дожить до их блестящего будущего: лишь мирскими страстями одержима твоя душа, но сам ты перестаешь постигать очарование вещей — это ужасно.
VIII
Ничто так не приводит в смятение людские сердца, как вожделение. Что за глупая штука — человеческое сердце! Вот хотя бы запах — уж на что вещь преходящая, и всем известно, что аромат — это нечто, ненадолго присущее одежде. Но, несмотря на это, не что иное, как тончайшие благовония неизменно волнуют наши сердца.
Рассказывают, что отшельник Кумэ,[11] узрев однажды белизну ног стирающей женщины, лишился магической силы. Действительно, когда кожа на руках и ногах чистая, формы их округлы, а тело красиво своей первозданной красотой, может, пожалуй, случиться и так.
IX
Женщина, когда у нее красивы волосы, всегда, по-моему, привлекает взоры людей. Такие вещи, как общественное положение и душевные качества, можно распознать и через ширму — по одной только манере высказываться.
Иной раз, если представится случай, женщина способна вскружить голову человеку даже каким-нибудь пустяком. Но вообще-то в ее мыслях одна лишь любовь, — из-за любви она и спать не спит как следует, и себя не жалеет, и даже то, что невозможно снести, переносит терпеливо.
Что же касается природы любовной страсти, поистине — глубоки ее корни, далеки истоки. Хотя и говорят, что шесть скверн[12] изобилуют страстными желаниями, но их можно возненавидеть и отдалить от себя. Среди всех желаний трудно преодолеть только одно — любовную страсть. Здесь, видно, недалеко ушли друг от друга и старый, и молодой, и мудрый, и глупый.
Поэтому-то и говорится, что веревкой, свитой из женских волос, накрепко свяжешь большого слона, а свистком, вырезанным из подметок обуви, которую носит женщина, наверняка приманишь осеннего оленя.
То, с чем нужно быть более всего осмотрительным, и то, чего следует остерегаться больше всего, и есть любовная страсть
X
Когда жилище отвечает своему назначению и нашим желаниям, в нем есть своя прелесть, хоть и считаем мы его пристанищем временным. Там, где живет себе человек с хорошим вкусом, даже лунные лучи, что проникают в дом, кажутся милее.
Пусть даже это и не модно и не блестяще, но когда от дома отходят старинные аллеи, когда трава, как бы ненароком выросшая в садике, создает настроение, когда со вкусом сделаны веранда и редкая изгородь возле дома, когда даже домашняя утварь, навевая мысли о далеком прошлом, остается незаметной — все это кажется изящным.
А когда в домах, отделанных с большим тщанием многими умельцами, все, начиная с выстроенной в ряд невыразимо прекрасной китайской и японской утвари и кончая травой и деревьями в садике, создано нарочито, это и взор утомляет, и кажется совершенно невыносимым.
При взгляде на такое жилище думается: «Тут можно прожить долго, но ведь все это может в одно мгновение превратиться в дым!»
Как правило, по жилищу можно судить о хозяине. Над особняком министра Готокудайдзи[13] якобы для того, чтобы на кровлю не садились ястребы, была протянута веревка. Увидев ее, Сайгё[14] заметил:
— А если ястреб и сядет, что за беда?! Вот какова душа этого вельможи! — и уже не стал, как передают, заходить к нему.
Этот случай припомнился мне, когда на коньке крыши во дворце Кодзакадоно, где жил принц Аяно Кодзи, однажды тоже была протянута веревка. Один человек сказал мне тогда:
— Здесь стаями летают вороны. Его высочеству больно видеть, как они таскают из пруда лягушек.
«Как это замечательно!» — подумал я тогда. Может быть, у Готокудайдзи тоже были какие-нибудь веские причины?
XI
Это было в месяце каннадзуки,[15] в долине под названием Курусу. Бредя в поисках одного горного селения по бесконечно длинной замшелой тропинке, я нашел одинокую заброшенную хижину.
Не раздавалось ни звука, только вода капала из бамбуковой трубы, схороненной под опавшими листьями. В хижине на полке акадана[16] были рассыпаны сорванные хризантемы и алые листья клена: должно быть, здесь кто-то жил. Как зачарованный смотрел я вокруг: «Ну что ж, можно жить и так!»
Тем временем в тамошнем садике я заметил большое мандариновое дерево. Его ветви склонялись под тяжестью плодов, но дерево было обнесено глухой изгородью. Меня это несколько отрезвило. «О, если бы не было этого дерева!» — подумалось мне.
XII
Приятно бывает в задушевной беседе с человеком одних с вами вкусов беспечно поболтать и о чем-нибудь интересном, да и просто так, о разном вздоре. Когда же нет такого человека, а собеседник обеспокоен лишь тем, чтобы не перечить вам в какой-нибудь мелочи, появляется чувство одиночества.
Случается иной раз вести разговоры с разными людьми. От одного только и слышишь: «Да, действительно». Другой не во всем согласен с вами и начинает спорить. «А я так не считаю, — заявляет он, — вот так-то, по таким-то причинам». В этих случаях кажется, что разговор помогает рассеять скуку, но в действительности в разговоре с инакомыслящим человеком можно высказываться лишь о пустяках. Как это грустно, когда близкий ваш друг — далеко!
XIII
Ни с чем не сравнимое наслаждение получаешь, когда в одиночестве, открыв при свете лампады книгу, приглашаешь в друзья людей невидимого мира.[17]
Книги эти — изумительные свитки «Литературного изборника», «Сборник сочинений господина Бо», речения Лао-цзы, «Каноническая книга мудреца из Наньхуа».[19] Древние творения, созданные учеными нашей страны, тоже полны обаяния.
XIV
Очень занятны японские песни. Даже труд презренных лесорубов облагораживается, когда о нем поют; даже ужасный вепрь, если сказать: «Спящего вепря ложе», начинает казаться добрым.
В нынешних песнях отдельные строки кажутся составленными весьма искусно, но они почему-то совсем не то, что старинные песни, где все — не только слова — казалось исполненным очарования.
Цураюки[20] говорил:
Хотя из нитей Не сплетен (разлуки путь)…Говорят, что это стихотворение считалось наихудшим в «Собрании старинных и новых песен»,[21] но тем не менее сразу видно, что такой оборот не мог бы сочинить наш современник. В песнях того времени выражения и слова такого рода встречались особенно часто. Трудно понять, почему такая слава закрепилась именно за этими стихами. В «Повести о Гэндзи»[22] они записаны так:
Хотя и не сплетен (разлуки путь)…Точно так же отзываются и о стихах из «Нового собрания старинных и новых песен»[23]
Даже сосна, что (хвою) сберегает, На вершине унынья полна.Действительно, по форме они выглядят немного бессвязными, однако в дневнике Иэнага[24] написано, что при опросе во время поэтических состязаний это стихотворение было признано отменным, и его величество, особенно этим стихотворением растроганный, отозвался и потом о нем с похвалой.
Говорят, будто исстари не меняются лишь законы стихосложения. Не знаю, так ли это. Когда читаешь стихи древних поэтов, где слова и образы те же, что звучат и поныне, впечатление складывается совсем иное. Они кажутся легкими, изящными, чистыми по форме и глубокими по очарованию. Да и слова песен эйкёку из сборника Рёдзинхисё[25] тоже полны очарования.
Как прекрасно звучало все — даже случайно оброненные слова — в устах древних!
XV
Отправляясь в небольшое путешествие, все равно куда, ты как будто просыпаешься. Когда идешь, глядя окрест, обнаруживаешь множество необычного и в заурядной деревушке, и в горном селении. Улучив момент, отправляешь в столицу послание: «Не забудь при случае того, сего». Это занятно.
В такой обстановке занимает решительно все. Даже привычная утварь кажется прелестной, а люди талантливые или красивые представляются очаровательнее обычного.
Интересно также укрыться тайком в храме или святилище…
XVI
Танец кагура[26] изящен и интересен. Из музыкальных инструментов вообще хороши флейта и хитирики. Но всегда хочется слушать бива и японскую арфу.[27]
XVII
Служить Будде, затворившись в горном храме, — и не наскучит, и создает чувство очищения помраченности в душе.[28]
XVIII
Должно быть, изумительно, когда человек скромно ведет себя, избегает роскоши, не приемлет богатств и не прельщается мирскими страстями. Издревле среди мудрых богатые — редкость. В Китае жил некогда человек по имени Сюй Ю.[29] У него не было ничего — никакого имущества, он даже воду пил, зачерпывая ладонями. Увидев это, кто-то принес ему сосуд из тыквы, но однажды, когда мудрец повесил его на сучок, сосуд загудел под ветром. Сюй Ю выбросил его, сказав: «Как он докучлив!» И опять он стал пить воду, зачерпывая ладонями. Как же, наверное, ясно было у него на душе! Сун Чэнь[30] в зимние месяцы не имел постели — у него была лишь охапка соломы. Вечером он ложился на нее, утром убирал. Китайцы сочли это замечательным, а посему описали и описания эти передали потомкам. А наши даже изустно не могут рассказать о таких поступках.
XIX
Смена времен года очаровательна в любой мелочи. Вероятно, каждый скажет, что очарование вещей осенью всего сильнее. Это, конечно, так, но, по-моему, весна более всего приводит в движение наши чувства.
С той поры как щебет птиц зазвучит как-то особенно по-весеннему, как в мягком солнечном свете возле заборов начинает прорастать травка, весна постепенно вступает в свои права: расстилаются туманы и мало-помалу распускаются цветы. И тут как раз налетают дождь и ветер, суматошно разбрасывают цветы и мчатся дальше. Пока не появится молодая листва, цветы доставляют одни только беспокойства.
Не только прославленный аромат цветущего апельсина,[31] но и благоухание сливы, воскрешая минувшее, любовно напоминает о нем. Много незабываемого таят в себе и красота горных роз, и изменчивый облик глициний.
Кто-то говорил мне, что во время праздника Омовения Будды и в те дни, когда отмечают праздник в святилище Камо,[32] «когда ветки буйно зарастают молодыми листочками, — и очарование мира ощущаешь сильнее, и людская любовь становится совершеннее». Поистине это так.
А разве не сжимается сердце в пятую луну, когда в карнизы втыкают ирис,[33] высаживают рассаду или когда трещат коростели!
В шестую луну чарует вид белеющей возле убогой хижины тыквы-горлянки и дымок костра — защита от москитов. Есть своя прелесть и в заклинаниях шестой луны.[34]
А как прекрасны празднования седьмого вечера![35]
Осенью, в ту пору, когда ночи становятся все холоднее, когда с криком улетают дикие гуси, когда нижние листья кустов хаги меняют окраску, накапливается особенно много дел: сжать рис, просушить поля… Прелестно и утро после бури.
Если продолжать разговор, то окажется, что все это давно уже описано в «Повести о Гэндзи» и «Записках у изголовья», и все-таки невозможно не говорить об этом снова и снова. Поскольку не высказывать того, что думаешь, — это все равно что ходить со вспученным животом, нужно, повинуясь кисти, предаться этой пустой забаве, затем все порвать и выбросить, и тогда люди ничего не смогут увидеть.
Но и картина зимнего увядания едва ли хуже осенней. Восхитительны багряные листья, опавшие на траву возле пруда, белым-белое от инея утро и пар, что поднимается от ручейка. Преисполнена ни с чем не сравнимым очарованием и та пора, когда год кончается и всякий человек занят своими хлопотами. Грустен вид неба после двадцатого числа с его холодным и чистым месяцем, который ничем не интересен и которым никто не любуется. Очаровательны и величественны такие церемонии, как Имена будд или Выход посыльного пред лотосом.[36] В это время процветают дворцовые обряды, среди которых такими значительными бывают непрестанные хлопоты, связанные с заботами о грядущей весне! Интересно, когда Изгнание демона переходит в Почитание четырех сторон.[37]
В новогоднюю ночь в кромешной тьме зажигают сосновые факелы; всю ночь напролет люди бегают по улицам, стуча в чужие ворота, громко кричат и носятся как по воздуху. Но с рассветом, как оно и положено, все звуки затихают. Грустно бывает расставаться со старым годом.
В наше время в столице уже не говорят о том, что это ночь прихода усопших, и не отмечают Праздник душ,[38] но их еще проводят в восточных провинциях, и это очаровательно!
Утром Нового года поражает вид рассветного неба, и кажется, будто оно стало совершенно иным, не таким, как вчера. Красива и вызывает радостное чувство большая улица — сплошь украшенная сосенками,[39] — и это тоже чарует.
XX
Некий отшельник — уже не помню, как его звали, — сказал однажды:
— Того, кто ничем с этим миром не связан, трогает одна только смена времен года.
И действительно, с этим можно согласиться.
XXI
Любование луной всегда действует умиротворяюще. Весьма любопытно, что на слова одного человека, будто ничего нет интереснее, чем любование луной, другой возразил: «Самое глубокое очарование — в росе».
Очаровать может все что угодно — это зависит от случая.
О луне и цветах и говорить нечего. Но что особенно может взволновать человека, так это дуновение ветерка. В любое время года прекрасна и картина чистого водного потока, что бежит, разбиваясь о скалу. Как я был очарован, когда прочитал стихи:
Юань и Сян[40] днем и ночью К востоку стремятся, струясь. Для того, кто в глубокой печали, На миг задержаться не могут они.Цзи Кан[41] тоже говорил: «Гуляя по горам и низинам, любуясь рыбами и птицами, радую сердце свое». Ничто так не утешает, как скитания вдали от людей, там, где свежи воды и травы.
XXII
Мне во всем дорог лишь мир старины. Нынешние нравы, как видно, становятся все хуже и хуже. И даже прекрасный сосуд, изготовленный каким-нибудь искусным мастером резьбы по дереву, тем и приятен, что формы его старинны. Замечательны слова, записанные в старину на клочках бумаги. А вот разговорная речь становится все более и более убогой. Древние говорили: курума мотагэё — «поднять повозку», хи какагэё — «прибавить огня в светильниках»; ныне говорят: мотэ агэё, каки агэё. Придворной прислуге должны говорить: ниндзю татэ — «челядь, стройся!», а говорят: татиакаси[42] сироку сэё — «факелы засветить!» А взять место, откуда августейший внимает церемонии объяснения сутры Всепобеждающего Закона,[43] — его называли Гоко-но ро — «Хижина высочайших размышлений», — ныне называют коротко — «Хижина размышлений». «Жаль», — говорил один старый человек.
XXIII
Хотя и говорят: «Грядущий век упадка», это совсем не относится к Девятивратному.[44] Его священные очертания, непохожие на все мирское, великолепны. Сколь прекрасно звучат такие названия, как Росистый терем, Трапезная,[45] такой-то зал, врата такие-то!
Но даже и в подлом доме обычные названия — «ставенки», «малый дощатый настил»[46] или «высокая раздвижная дверь» — ласкают слух.
Чудесны слова: «Стан к ночи готовь!»[47] Из августейшей опочивальни доносится: «Светильники! Быстро!» Это тоже изумительно. Не говоря уже о посвящении высокого вельможи в должность, интересно смотреть и на привычно спесивые лица чиновной мелюзги. Забавно, когда ночь так холодна, а они, устроившись там и сям, спят до рассвета!
«Приятен и радостен звон священных бубенцов в зале Придворных Дам»,[48] — говорил когда-то первый министр Гокудайдзи.[49]
Когда принцессы пребывают в Храме на равнине,[50] их облик кажется несказанно изящным и привлекательным.
Забавно, что из неприязни к таким словам, как «Будда», «сутра», они говорят: «тот, что в центре» или «цветная бумага».
Покидать святилища богов грустно: они так очаровательны. Совершенно неповторим вид их вековых рощ, а «нефритовая ограда», окружающая святилище, и полотнища, висящие на священном дереве сакаки,[51] — разве они не прелестны?
Особенно интересны святилища Исэ, Камо, Касуга, Хэйя, Сумиёси, Мива, Кибунэ, Ёсида, Охарано, Мацуно-о, Умэ-но мия.
XXIV
Мир изменчив, как заводи и стремнины реки Асукагава. Времена меняются, следы деяний исчезают, уходят, сменяясь, радость и печаль, цветущие некогда долы становятся необитаемыми пустошами, а в неизменных жилищах одни люди сменяют других. С кем побеседуешь о старине, если персик и слива не говорят?[52]
Особенно непостоянным кажется мир при взгляде на некогда достославные останки неведомой им старины.
Когда смотришь на дворец Кёгоку или храм Ходзё,[53] то поражаешься, что желания людей постоянны, деяния же изменчивы. «Вельможа из храма»,[54] строя прекрасные дворцы, жалуя вельможам и храмам бесчисленные поместья, полагал, что и впредь до грядущих веков его лишь род останется опекуном императоров и опорой вселенной. Думал ли он тогда, что все это может прийти в такой упадок?…
До недавнего времени оставались еще и большие ворота,[55] и алтарь, но в годы Сёва[56] южные ворота сгорели. Алтарь оказался опрокинутым, да так и не случилось его восстановить. И только Зал Безмерно Долгой Жизни[57] остался в прежнем своем виде. Стоят в ряду девять будд[58] высотою в дзё и шесть сяку,[59] вызывая всеобщее почитание. Чаруют до сих пор картины Кодзэй-дайнагона[60] и створчатые двери, расписанные Канэюки.[61] Говорят, будто остался еще храм Цветка Закона.[62] Но и это долго ли продержится?…
А что касается мест, где не сохранилось подобных следов, — то хоть и остались там еще основания строений, но нет людей, которые бы точно знали, что это такое. А если это так, бесполезно загадывать наперед, что бы то ни было, включая мир, который не сможешь увидеть.[63]
XXV
Как подумаешь о цветах сердца человеческого, что блекнут и осыпаются даже без дуновения ветерка, — становится печальнее, чем от разлуки с умершим, когда постигаешь переход в мир за пределами нашего, ибо не забыть ни одного слова из тех, коим некогда ты внимал столь проникновенно.
Поэтому были люди, жалевшие, что окрасится белая нить, печалившиеся, что дорога разделится на тропы.[64]
Среди «Ста песен времен экс-императора Хорикава»[65] есть такая:
У дома милой, Что была мне некогда близка, Давно заброшена ограда. Остались лишь фиалки, Но и они смешались с тростником.[66]Грустная картина. Видимо, так все и было.
XXVI
Бывает беспредельно грустно, когда, совершая церемонию Передачи государства,[67] вручают меч, яшму и зерцало.[68] Говорят, что той весной, когда новый монах-император[69] благоволил оставить трон, он сочинил стихи:
Дворцовая челядь Заботы об этом не знает — Цветы, осыпаясь, Неубранный сад Устилают.Люди окунаются в бурные хлопоты нового правления, и к бывшему императору нет ни одного паломника. Вот так и раскрывается человеческая сущность.
Нет ничего более печального, чем год всеобщего траура.[70] Необыкновенно гнетущую картину являет все — от вида августейшей Хижины скорби, где прямо на землю положены доски пола, развешаны шторы из камыша, полотняные ленты над шторами[71] и не отделана утварь, — и до одежды, мечей и поясов придворных.
Если спокойно размышляешь, тебя охватывает неодолимая тяга ко всему безвозвратно ушедшему. После того как в доме все стихнет, долгими вечерами для собственного развлечения разбираешь разный хлам, рвешь и выбрасываешь клочки бумаг. «Зачем это оставлять?» — думаешь при этом. И вдруг среди них натыкаешься на беглые записи или рисунки, сделанные под минутным впечатлением теми, кого уже нет. Тогда-то и всплывает в памяти та минута. Пусть даже это будет записка того, кто еще жив, но если это было давно, — какое очарование вспоминать, по какому случаю да в каком году ее писали!
Глубокое волнение вызывает и привычная утварь, что не имеет души и подолгу остается неизменной.
XXVII
Нет времени более печального, чем время после кончины человека. Пока длится «промежуточная тьма»,[72] множество родственников съезжаются в горы и, сгрудившись в тесной, лишенной удобства хижине, совершают посмертные обряды. Это очень хлопотно. Дни бегут быстро, как никогда. В последний день нет ни настоящего чувства, ни взаимных бесед. Каждый сам по себе забирает свои вещи, и все расходятся разными дорогами.
А по возвращении в родные дома их вновь ожидает много грустного. «Того-то и того-то, — говорят они, — нельзя делать ни в коем случае; а этого следует избегать». Чем бы это ни было вызвано, какими все-таки негодными кажутся мне в подобных случаях людские сердца!
Один за другим проходят месяцы и годы, однако не приносят они ни капли забвения, — и все же говорят ведь: «День за днем все далее покойный»,[73] поэтому, несмотря ни на что, нет уже и дум таких, как в те скорбные мгновения; смотришь, люди уже и о пустяках болтают, и шутят друг с другом.
Прах покойного погребен в забытых всеми горах. И вскоре после того, как придут поклониться ему в Установленный день,[74] надгробие порастает мхом, покрывается осыпавшейся листвой деревьев, ибо не бывает здесь других посетителей, кроме вечерней бури да ночной луны.
Хорошо, пока есть кому пожалеть и вспомнить усопшего. Но и эти люди, недолго пожив, умирают. Станут ли тогда скорбеть об усопшем потомки, которые и знают-то его только понаслышке?
Поэтому, коли над останками уже совершились поминальные службы, после никто уже и не ведает, что это был за человек и каково его имя. Только человек с чувствительной душой с грустью посмотрит на вешние травы, что восходят здесь. В конце концов и сосна, что стонала здесь под натиском бури, не дождавшись своего века, разделывается на дрова; и древнюю могилу распахивают под поле, так что от нее даже и следа не останется. Как это печально!
XXVIII
Однажды утром, когда шел изумительный снег, мне нужно было сообщить кое-что одному человеку, и я отправил ему письмо, в котором, однако, ничего не написал о снегопаде.
«Можно ль понять, — ответил он мне, — чего хочет человек, который до такой степени лишен вкуса, что ни словом ни обмолвился о снегопаде? Сердце ваше еще и еще раз достойно сожаления». Это было очень забавно.
Ныне того человека уже нет, поэтому часто вспоминаю даже такой незначительный случай.
XXIX
Двадцатого дня девятой луны по любезному приглашению одного человека я до рассвета гулял с ним, любуясь луной. Во время прогулки мой спутник вспомнил, что здесь живет одна женщина, и вошел к ней в дом в сопровождении слуги.
В запущенном садике лежала обильная роса. Нежно, неподдельным ароматом благоухали травы, и образ той, что сокрылась здесь от людей, казался мне бесконечно милым.
Некоторое время спустя мой спутник вышел, однако я, занятый своими мыслями, некоторое время еще продолжал наблюдать за хижиной из своего укрытия. Дверь опять чуть приоткрылась — хозяйка, по-видимому, любовалась луной.
Закрой она дверь и скройся сразу же, мне стало бы досадно. Но откуда ей было знать, что тут человек, видевший все от начала до конца? Ведь подобные опасения могут возникнуть лишь из постоянной настороженности.
Потом я узнал, что вскоре та женщина скончалась.
Когда нынешний дворец достраивался, его показали людям, знающим толк в старине. Они заявили, что придраться тут не к чему. Близился уже день переноса резиденции, как вдруг, осматривая новый дворец, Гэнкимонъин[75] соблаговолила заметить:
— Гребневидный проем во дворце Канъиндоно[76] был круглым, никакой выемки там и в помине не было.
Это, по-моему, восхитительно.
Ошибка заключалась в том, что здесь его сделали листовидным, с деревянным обрамлением. Ошибку исправили.
XXX
Раковина кайко похожа на раковину хорагай,[77] однако меньше ее по размерам и у устьица имеет узкую и далеко выступающую крышечку.
Кайко из бухты Канадзава провинции Мусаси, по словам местных жителей, называют энатари.
XXXI
Человек с плохим почерком, невзирая на это, засыпает всех письмами. Заставлять писать других, ссылаясь на то, что у тебя корявый почерк, — дурно.
XXXII
Один человек сказал мне: «Когда ты долгое время не навещаешь любимую женщину, то уже думаешь о том, как она на тебя негодует. Выказав ей свою небрежность, мучаешься тем, что нет тебе никакого оправдания.
И тут ни с чем не сравнимую радость приносит тебе ее письмо, где говорится: „Нет ли у тебя слуги? Мне не хватает одного“. Хорошо, когда у женщины такой характер!»
Действительно, это так.
XXXIII
Бывает, что неразлучный твой приятель вдруг меняется и начинает тебя стесняться. Некоторые говорят в таких случаях: «Ну теперь-то к чему это?» Однако мне такой человек представляется истинно прекрасным.
Бывает, что прекрасным может показаться и не столь близкий человек, если с ним немного поговоришь о том о сем.
XXXIV
Глупо всю жизнь истязать себя, не зная минуты покоя в погоне за славой и выгодой. Когда ты богат, тебе нужно защищать свою плоть. Богатство — это сводня, заманивающая бедствия и навлекающая беспокойства. Пусть после твоей смерти подопрут этими деньгами хоть Большую Медведицу — людям они ничего, кроме обузы, не принесут. И то, что глупцу они радуют взор и доставляют удовольствие, недостойно внимания.
Большие экипажи, откормленных коней, украшения из золота и драгоценных камней — все это разумный человек сочтет ненужным и нелепым.
Следует раскидать золото в горах, а драгоценности выбросить в бездну. Самый глупый человек — это тот, кто пленяется богатством.
Можно желать, чтобы не подлежащее погребению имя твое долго оставалось известным в мире. Но можно ль назвать выдающимися людьми одних только высокопоставленных и высокородных? Бывает, что даже последний дурак, ежели только он родился в знатной семье и к нему благоволит судьба, достигает высоких чинов и утопает в роскоши недосягаемой. И таких примеров много, когда выдающиеся ученые, мудрецы занимали низкие посты, да так и проводили свою жизнь, не встретив удачи. Второе место по глупости занимают те, которые единственно чего жаждут, так это высоких чинов и должностей.
А теперь хорошенько подумаем о желании оставить после себя славу человека незаурядного по уму и по душевным качествам. Что значит «любить славу»? Это значит радоваться известности среди людей. В мире одинаково не задерживаются и тот, кто хвалит, и тот, кто хулит. Да и те, кто слушает их, тоже скоро уходят из этого мира. Захочешь ли после этого кого-то стыдиться, кому-то быть известным? Хвала — это лишний источник хулы. Нет также никакого проку и в посмертной славе. Стремиться к ней — третья по счету глупость.
Однако если говорить об этом людям, которые, изо всех сил набираясь учености, желают преисполниться мудрости, то можно сказать так: где появляется мудрость, там и ложь, а таланты приумножают мирскую суету.
Внимать тому, что передают, познавать то, чему учат люди, не есть истинная мудрость. Что же можно назвать мудростью?
Хорошо и нехорошо суть одно и то же.[78]
Что же называть хорошим?
У истинного человека нет ни мудрости, ни добродетелей, ни достоинств, ни имени. Кто же знает его, кто расскажет о нем? И не потому, что добродетели он прячет, а глупость выгораживает. Это бывает потому, что грани между мудростью и глупостью, прибылью и убытком для него не было изначально.
Те, кто, предавшись омраченности, домогается славы и богатств, подобны перечисленным глупцам.
Все в мире — ничто; ничто не достойно ни речей, ни желаний.
XXXV
Некий человек пожаловался как-то высокомудрому Хонэну:[79]
— Во время молитвы «Поклоняюсь будде Амитабха»[80] меня клонит ко сну, и я пренебрегаю молитвой. Как мне от этого избавиться?
— Как проснешься, твори молитву, — ответил ему святейший.
Ответ, достойный уважения.
— Если думаешь, что возрождение в раю наступит — оно наступит; если думаешь, что не наступит — оно не наступит, — сказал как-то высокомудрый Хонэн.
Это тоже заслуживает уважения.
И еще он говорил:
— Если ты даже сомневаешься, то твори молитву — и ты возродишься.
И эти слова достойны уважения.
XXXVI
В провинции Инаба у одного праведника была красавица дочь. Много молодых людей сваталось к ней. Но эта девица питалась одними только каштанами и ни в каком виде не признавала риса. «Такая странная особа не может вступить в брак»,[81] — говорили ее родители и не отпускали девушку замуж.
XXXVII
В пятый день пятой луны, когда мы приехали на камоские бега,[82] огромная толпа перед нашей повозкой загородила нам зрелище. Поэтому каждый из нас, сойдя с повозки, устремился к краю ограды, но там теснилось особенно много людей, так что между ними было невозможно протиснуться.
По этому случаю какой-то монах взобрался на сандаловое дерево и, устроившись в развилке сучьев, стал наблюдать за бегами. Крепко зажатый ветвями, монах несколько раз крепко засыпал, но всегда, едва только начинало казаться, что он вот-вот свалится, он просыпался. Те, кто видели это, изощрялись в насмешках:
— Какой несусветный болван! Вот ведь сидит на такой хрупкой ветке и преспокойно себе засыпает!
Внезапно мне в голову пришла мысль, которую я тут же и высказал:
— Смерть любого из нас, может быть, наступит сию минуту, не так ли? Мы же забываем об этом и проводим время в зрелищах. Это глупость почище всякой другой!
— Воистину, так оно и есть, совершеннейшая глупость, — откликнулись стоявшие впереди люди и, расступившись, пропустили меня вперед со словами: — Проходите, пожалуйста, сюда!
Правда, подобное соображение могло бы прийти в голову всякому, но тут я высказал мысль свою как раз к случаю, и, видимо, это тронуло людей за душу. Человек ведь не дерево и не камень, и поэтому он не может не поддаться чувству под влиянием минуты.
XXXVIII
У некоего Карахаси-тюдзё[83] был сын по имени Гёгасод-у — священник, наставлявший мирян в учении Будды. Священник этот страдал приливами крови к голове. С годами у него стало закладывать нос, и в конце концов ему сделалось совсем трудно дышать. Он лечился всеми способами, однако болезнь становилась все тяжелее: веки, брови и лоб отекли и закрыли глаза, и больной перестал видеть. Священник стал страшен как дьявол, глаза его ушли под лоб, а вздувшийся лоб слился с носом. Он выглядел как маска в танце ни-номаи.[84]
Потом Гёга затворился у себя в келье, чтобы не показываться другим служителям, и провел так долгие годы. Болезнь все усугублялась, и в конце концов он умер.
Вот какие еще бывают болезни.
XXXIX
Однажды поздней весной, когда стояла великолепная тихая погода, я проходил мимо одной богатой усадьбы. Трудно было не залюбоваться аллеей вековых деревьев и осыпающимися цветами в глубине двора, и я вошел в калитку.
Решетки на южной стороне дома были полностью опущены, здесь царило безмолвие. С восточной стороны дверь была достаточно широко открыта. Заглянув через отверстие, проделанное в бамбуковой шторе, я увидел юношу лет двадцати привлекательной наружности. Он сидел в непринужденной и вместе с тем изысканной позе и читал развернутый на столе свиток. Хотелось бы знать, кто это был?
XL
Из грубо сплетенной бамбуковой калитки вышел очень молодой мужчина. И хотя при свете луны оттенки одежды были видны плохо, в своем блестящем охотничьем платье и густо-фиолетовых шароварах сасинуки[85] он казался особой чрезвычайно знатной.
Пока мужчина в сопровождении мальчика-слуги шел, раздвигая увлажненные росою листья риса, по узкой тропинке, что далеко-далеко вилась среди поля, он с большим искусством самозабвенно играл на флейте, а я с мыслью о том, что в этом захолустье нет никого, кто мог бы, услышав его, проникнуться очарованием, тайком следовал за ним.
Кончив играть, мужчина вошел в храмовые ворота, расположенные у подножия горы. Там виднелась повозка, стоявшая на подставке сидзи;[86] по всему было видно, что она из столицы. Заинтересовавшись этим, я задал вопрос слуге.
— Пока принц здесь, в храме будет служба, — ответил мне он.
К главному храму все подходили и подходили служители. Вдруг мне показалось, будто ночной прохладный ветерок невесть откуда принес аромат благовоний. Несмотря на то что здесь было всего лишь безлюдное горное селение, фрейлины, что прогуливались по галерее, которая ведет от опочивальни к храму, уделяли много внимания тому, чтоб сделать благоуханным ветер, уносящий запахи их одежд.
Буйно заросшая осенняя степь была покрыта обильной росой, на что-то жаловались насекомые. Мирно журчал ручеек. Мне показалось, что бег облаков здесь стремительнее, чем в небе столицы; луна то прояснится, то нахмурится — и все то так непостоянно…
XLI
Старший брат придворного второго ранга Кинъё — епископ Рёгаку[87] был чрезвычайно вспыльчивым человеком. По соседству с его храмом росло большое дерево эноки,[88] и Рёгаку прозвали Эноки-но-содзё — епископ Эноки.
«Не подобает мне носить такое имя», — решил он и велел то дерево срубить. Но от дерева остался пень, и епископа стали звать теперь Кирикуи-но-содзё — епископ Пень. Тогда, рассердившись вконец, он велел выкопать пень и выбросить его вон. Однако, после того как это сделали, на месте пня образовалась большая яма, наполнившаяся водой, и епископа стали звать Хорикэ-но-содзё — епископ Пруд.
XLII
В окрестностях Янагивара жил священник по прозвищу Гото-но-хоин[89] — преосвященный Грабитель. Говорят, что это имя пристало к нему оттого, что на него самого часто нападали грабители.
XLIII
Один человек шел на поклонение в храм Киёмидзу,[90] и попутчицей его была старая монахиня. Старуха всю дорогу приговаривала: «Апчхи! Апчхи!»
— Почтенная монахиня, — осведомился ее спутник, — что это вы все время шепчете?
Ничего не ответила монахиня и продолжала повторять свое. Наконец, устав от расспросов, не выдержала она и говорит:
— Тьфу ты! Да ведь говорят же, что, если человек чихнет и никто не повторит за ним «апчхи» вместо заклинаний, человек этот может и умереть! А молодой господин, у которого я была кормилицей, ходит теперь в послушниках в монастыре на горе Хиэи.[91] «А не чихает ли он сию минуту?» — все время думаю я, потому и приговариваю: «Апчхи! Апчхи!»
Редкостная привязанность, не правда ли?
XLIV
Рассказывают, что, когда сановник Мицутика проводил во дворце экс-императора[92] церемонию объяснений сутры Всепобеждающего Закона, его вызвали перед высочайшие очи, вынесли ему августейшие яства и угостили ими. Отведав угощения, сановник поставил лакированную коробку с остатками пищи за ширму и удалился. Придворные дамы стали говорить между собой:
— Ай-яй, как неряшливо! Кому он думал это подложить?
Однако августейший неоднократно изволил выражать свое восхищение таким поступком.
— То, что сделал этот знаток древних обычаев, — говорил он, — достойно уважения.
Не ждите, пока придет старость, чтобы встать на путь праведный. Многие из тех, кто покоится в старых могилах, — молодые люди.
Впервые осознаешь свои ошибки лишь тогда, когда, пораженный внезапным недугом, ты готов уже оставить этот мир. А ошибаться — это не что иное, как медлить в делах, кои должно вершить быстро, и слишком торопиться с теми, кои должно делать не спеша. За это мы и досадуем на свое прошлое. Но какая же польза раскаиваться в эти последние минуты? Поэтому мы ни на секунду не должны забывать о том, что над нами тяготеет быстротечность времени, помнить о необходимости освободиться от суетности бренного мира и всем сердцем отдаться служению учению Будды!
В старину к одному мудрецу, сказано в «Десяти условиях» из храма Лес Созерцания,[93] приходили за советом люди. И когда речь заходила о каких-либо важных для них или для него делах, мудрец говорил в ответ: «Сейчас у меня очень срочное дело. Я занят с утра до вечера» — и, заткнув уши, продолжал молиться. В конце концов он возродился в раю.
Мудрец по имени Синкай,[94] очень много размышляя о бренности нашего мира, отказывался даже сидеть в удобной позе, — он сидел всегда только на корточках.
XLVI
В годы Отё прошел слух, что одна женщина обернулась дьяволом и прибыла из провинции Исэ в столицу. И тогда дней примерно двадцать подряд люди из Киото и Сиракава[95] каждый день стали собираться «посмотреть дьявола». Встречаясь, они говорили друг другу:
— Вчера он отправился к храму Сайондзи![96]
— Сегодня, видимо, он пошел ко дворцу императора! Вы не видали его?
— Вот только что был там-то и там-то!
Никто не утверждал наверняка, что видел его, но никто и не говорил, что слухи эти — пустая болтовня. У всех — от знати до черни — только и разговоров было что о дьяволе.
Как раз в это время иду я однажды от Хигасияма в сторону Агуи[97] и вижу: от Четвертого проспекта бегут жители окрестностей императорского дворца и в один голос кричат:
— На углу Первого проспекта и Муромати — дьявол!
Гляжу: вокруг галереи императорского дворца стоит такая толпа, что протиснуться сквозь нее и думать нечего. Решив про себя, что вряд ли эта шумиха возникла на пустом месте, я тут же послал узнать, в чем дело, но оказалось, что дьявола-то ни один человек и не видел.
Суматоха эта продолжалась до темноты. В конце концов завязалась потасовка, были всякие неприятности. После этого два или три дня все страдали недомоганием. Некоторые утверждали, что предзнаменованием недомогания и послужили пересуды о дьяволе.
XLVII
Решив провести воду из реки Оигава в пруд дворца Камэяма, его величество вызвал из Ои[98] местных жителей и повелел им соорудить водяное колесо. Крестьянам хорошо заплатили, они работали несколько дней, но когда колесо навесили, оказалось, что вращается оно с трудом, и, несмотря на то что потом его усердно чинили, оно под конец перестало поворачиваться и остановилось совсем.
Тогда позвали жителей селения Удзи,[99] и они без труда сделали ту же работу и доложили об этом. Колесо вращалось легко и прекрасно черпало воду.
И так везде: человек, который знает свое дело, — превосходен!
XLVIII
Один монах преклонных лет из храма Ниннадзи ни разу не был на поклонении в святилище Ивасимидзу,[100] и это доставляло ему много огорчений. Однажды, наконец решившись, он в полном одиночестве отправился на поклонение. Помолившись у храма Крайней Радости святилища Кора,[101] расположенных у подножия горы Отокояма, на подступах к Ивасимидзу, монах решил, что достиг своей цели, и вернулся восвояси.
Теперь, встречаясь со знакомыми, он говорил:
— Наконец-то я исполнил то, о чем мечтал долгие годы! Да, святилище Ивасимидзу почитается гораздо больше, чем я слышал. Только вот зачем это каждый, кто приходит туда, поднимается на гору? Мне хоть и интересно было посмотреть, но я подумал, что истинная моя цель — паломничество к богам, и не полез смотреть на вершину.
В любом, даже малом, деле хорошо, когда есть наставник.
XLIX
А вот еще о монахе из храма Ниннадзи. Во время всеобщего веселья по случаю пострижения одного отрока этот монах опьянел и так разошелся, что схватил стоявший рядом котел-треножник и с силой нахлобучил его себе на голову — расплющил нос, сдавил лицо, а когда в таком виде пустился в пляс, удовольствию присутствующих не было границ.
Вскоре после того как музыка прекратилась, монах захотел снять котел, но не тут-то было. Пьяная братия вмиг отрезвела и стала гадать: как бедняге помочь? Стаскивали треножник и так и этак, но лишь изранили всю шею — закапала кровь, а шея стала пухнуть и заполнять горловину котла, так что монаху стало уже трудно дышать. И тогда решили котел разбить. Однако сделать это было не так-то просто: котел не поддавался, а лишь нестерпимо звенел.
Ничего другого не оставалось: треножник поплотнее обмотали плащом, сунули в руки монаху посох и повели бедолагу к лекарю, что жил в столице. Изумлению прохожих не было предела!
Ну и вид, должно быть, был у хозяина и пациента, когда бонзы ввели его к лекарю в дом! Начинает монах говорить, голос звучит глухо, ничего не разобрать.
— О подобных недугах мне не доводилось ни в книгах читать, — сказал на это лекарь, — ни получать устных наставлений.
И монаху пришлось ни с чем вернуться в храм Ниннадзи.
У его изголовья столпились друзья, пришла старуха мать, все горевали и плакали, но бедняга даже не слышал их. Между тем кто-то возьми да скажи:
— Пусть мы сорвем ему уши и нос, но ведь жизнь-то спасем! Давайте только дернем посильнее!
С этими словами в горловину котла натолкали мякины, чтобы шея не соприкасалась с металлом, и дернули так, что чуть голову не оторвали. Правда, ушей и носа беднягу лишили, однако котел с головы сняли.
Жизнь монаха висела на волоске, и он долго еще болел.
L
Жил когда-то в Омуро очень миловидный мальчик-прислужник. Несколько местных монахов задумали как-то пригласить его поразвлечься. Позвали монахов-музыкантов, заботливо приготовили изящные коробочки-вариго,[102] со вкусом уложили туда закуску, закопали все это в укромном уголке на холмах Нараби-но-ока,[103] а сверху засыпали кленовыми листьями, чтобы нельзя было ничего заметить. Придя затем в храм, они позвали мальчика и, довольные собой, отправились вместе с ним бродить, пока, вконец утомленные, не оказались на облюбованной заранее замшелой полянке.
— О, как мы утомились! — запричитали они. — Ах, нет ли кого здесь «осенние листья разжечь»! О монахи-чудодеи! Постараемся же вознести молитву! — И, обратившись лицами к дереву, под которым были схоронены припасы, принялись перебирать руками четки, с преувеличенным усердием сплетать пальцы,[104] усиленно хлопотать. Потом разгребли листья и… ничего не обнаружили.
Решив, что они ошиблись местом, монахи перерыли всю горку, не оставив на ней живого места, но безуспешно. Кто-то подглядел, как они зарывали коробочки, а когда все ушли в монастырь, украл их. Монахи поначалу лишились дара речи, а потом набросились друг на друга с самой непристойной бранью и, озлобленные, вернулись к себе.
Дело, от которого ждешь слишком большого удовольствия, никогда не получается.
LI
Строя дом, думай о летней поре. Зимой проживешь где угодно, а в жару жизнь в плохонькой хижине невыносима.
Глубокая вода не дает прохлады. Мелкий поток освежает издали.
Если вы читаете мелкий почерк, то знайте: в комнате с раздвижной дверью светлее, чем в комнате со ставнями.
При высоких потолках зимой холодно, со светильником — темно.
«Комнаты, созданные, казалось бы, безо всякой пользы, приятны на взгляд и могут в самых различных случаях оказаться полезными», — рассуждали однажды при встрече знакомые.
LII
Нехорошо, когда человек, с которым ты долго не встречался, без умолку болтает о себе. Когда же после разлуки видишься с близким человеком, почему-то чувствуешь стеснение. Бывает, что человек пустой, никчемный, войдя куда-нибудь на одну минутку, принимается разглагольствовать не переводя дыхания о том, как ему было интересно.
Когда говорит человек достойный, его как-то само собой слушают все присутствующие, как бы много их ни было, хотя обращается он лишь к одному из них.
Никчемный человек, если собеседника у него нет, влезет в самую гущу толпы и начнет сочинять с таким видом, будто видел все это своими глазами; все, как один, хохочут над ним, и шум стоит невыносимый. Такого человека можно узнать уже по тому, что ему не очень интересно, когда рассказывают о чем-либо занимательном, и он громко смеется, когда говорят о чем-то неинтересном.
Если, обсуждая чью-либо внешность или чью-либо ученость, сравнивают их со своими собственными, это низко.
LIII
Когда вы рассуждаете о стихах, читать плохие стихи не годится. Тот, кто хоть чуточку разбирается в поэзии, вряд ли назовет их прекрасными.
Вообще разглагольствования о предмете, в котором толком не смыслишь, со стороны слушать нестерпимо, они режут ухо.
LIV
Тот, кто утверждает, что если Учение у тебя в душе, то неважно, где ты живешь; что можно жить в миру, и это не будет помехой на пути к будущей жизни, — не имеет никакого понятия о будущей жизни.
Действительно, могут ли у тебя появиться какие-то мирские стремления и до того ли тебе, чтобы с утра до вечера служить господину и печься о доме своем, когда ты непрестанно думаешь о бренности мира сего и о том, чтобы непременно переступить границу между жизнью и смертью? Когда же не ведаешь покоя от сует, трудно следовать Учению, ибо влекомые окружающим помыслы легко меняются.
По своим достоинствам современникам нашим далеко до древних. Поскольку даже, сокрывшись в горах, они не могут не испытывать чувство голода и нуждаются в защите от непогоды, то вполне естественно кажется, будто они алчут мирского. А если к тому представляется случай, они и вправду не избегают его. Но рассуждения о том, что «нет смысла в уходе от мира — а если это так, то зачем я его покинул?» — кажутся мне безрассудными. Безусловно, человек, который только что ступил на Путь и ненавидит мирскую суету, даже если он еще полон желаний, не должен в избытке алчности напоминать знатного вельможу. Заботы его не должны идти далее бумажного одеяла, полотняных одежд, приготовления чашки похлебки да супа из лебеды. Тогда запросы его просты и душа легко довольствуется малым. И хотя он из-за чего-то стыдится своего вида, у него гораздо больше такого, что отдаляет дурное и приближает хорошее.
Раз уж ты родился человеком, стремись любыми способами уйти от мира. Разве не возродятся всякого рода животными те, кто всеми помыслами стремится лишь удовлетворить свою жадность и не стремится к спасению?
LV
Человеку, замыслившему осуществить великое дело просветления, надлежит отказаться совершенно от самых необходимых и близких сердцу дел, коль скоро они мешают осуществлению истинного стремления.
Когда вы станете рассуждать таким образом: немного погодя я покончу с этим, потом примусь за то — оно ведь в том же духе! — а вот такие-то и такие-то дела могут вызвать людские насмешки, — времени у меня еще много — подожду вот этого, а потом не спеша, без суеты совершу положенное, — у вас станет копиться все больше неотложных дел и не будет конца-краю этим делам, так что никогда и не наступит заветный день.
В общем-то люди, если они мало разбираются в истине, проводят в подобных упованиях всю свою жизнь.
Разве тот, кто бежит от пожара, кричит: «Минутку погодите!»? Когда хотят спасти свою жизнь, забывают про все и бросают даже имущество. А разве жизнь ждет человека? Смерть приходит быстрее, чем бьет струя воды или столб пламени. Как же трудно он нее скрыться!
Тогда нам тяжело будет оставить своих престарелых родителей, малых детей, милость господина и сострадание ближних, но не оставить их мы не в силах.
LVI
В павильоне Истинной Колесницы[105] был редкой мудрости служитель по имени Дзёсин-содзу. Он очень любил сладкий картофель имогасира и помногу ел его. Даже во время проповеди сидит, бывало, на своем месте, читает святые книги, а сам уплетает из пристроенного на коленях большущего горшка, который доверху засыпан картофелем. Когда этот служитель заболел, то неделю или две пролежал у себя в постели — якобы лечился; и тогда он ел особенно много отличного картофеля, который отбирал по своему вкусу, и таким способом излечился от всех болезней.
Других он никогда не угощал — ел всегда один. Служитель был очень беден, однако его наставник по своей смерти завещал ему двести связок монет[106] и хижину. Хижину служитель продал за сто связок и, предназначив все свои деньги для покупки имогасира, поместил их на хранение к одному столичному жителю. Затем Дзёсин стал брать у него по десять связок монет, так, чтобы можно было есть картофеля вдоволь. И хотя ни на что другое денег он не тратил, монеты эти скоро все вышли.
Говорят, что он был поистине удивительным подвижником, если, живя в бедности, получил триста связок монет и распорядился ими таким вот образом.
Увидал как-то этот служитель одного монаха и прозвал его Сироурури.
— Да что это такое? — спросили его, и он ответил:
— А я и сам не знаю, что это такое, но только если бы оно существовало, то, наверное, смахивало бы на физиономию этого бонзы.
Дзёсин во всем превосходил других — в красоте, в силе, в аппетите, в искусстве письма, в учености, в красноречии; но хотя он и был Светильником Закона[107] в секте, а посему почитался во всем храме, в то же время он был человеком странным, не считавшим мирское суетным, все делал как ему заблагорассудится и никогда не поступал так, как того желало большинство.
Однажды, когда Дзёсин, будучи по делам службы вне храма, был приглашен к обеду, он не стал дожидаться, пока угощения расставят перед всеми присутствующими, — как только перед ним поставили прибор, он тут же все съел, а едва лишь ему вздумалось вернуться домой, он тотчас поднялся и ушел один.
Ни обед, ни ужин он не принимал в положенное для всех время, а ел тогда, когда захочет, неважно, было ли то среди ночи или на рассвете; если же он хотел спать, будь то хоть в полдень, он закрывался у себя и, с каким бы важным делом к нему ни пришли, ничего не хотел слушать. А когда ему не спалось, он не спал и в самый поздний час, невозмутимый, бродил он кругом как ни в чем не бывало. Словом, вел себя Дзёсин не так, как это принято обычно, однако никто не относился к нему неприязненно и все ему позволялось.
Может быть, оттого, что добродетели его достигли совершенства?
LVII
При высочайших родах сбрасывать бочонок не обязательно. Этот обряд совершают лишь тогда, когда высочайший послед задерживается. Если послед выходит, делать ничего не нужно. Обычай этот пришел от черни, и большого значения ему не придают. Наибольшим спросом пользуются бочонки из деревни Охара.[108] На картине в старой сокровищнице изображено, как бросают бочонок в доме простолюдина, у которого рождается ребенок.
LVIII
Когда Энсэй-монъин[109] была еще юной, она послала человека к монарху-государю, повелев передать на словах песню:
Двойной знак, Знак, как рога у быка; Знак прямой, Изогнутый знак — Так думаю я о вас.Это означает: «Думаю о вас с любовью».[110]
LIX
Адзяри, устраивающий церемонию Последующих семи дней,[111] созывает во дворец воинов, называемых ночной стражей. Это вошло в обычай после того, как когда-то во дворец прокрался вор.
Но поскольку в том, как проходит эта церемония, усматривают признаки судьбы на весь год, присутствие солдат спокойствия в души не вносит.
LX
«Кому именно ездить в повозке о пяти шнурах, в точности не определено. В соответствии со своим положением в нее может сесть лишь тот, кто достиг самых высоких чинов». Так мне объяснил один человек.
LXI
Один человек говорил: «Современные шляпы намного выше старинных». Люди, имеющие старомодные шляпные коробки, используют их и теперь, нарастив им, однако, края.
LXII
Когда господин верховный канцлер Окамото,[112] приложив к усыпанной цветами ветке алой сливы пару фазанов, сказал придворному сокольничему Симоцукэ-но Такэкацу: «Птиц следует укрепить на этой ветке и послать в дар», тот почтительно молвил: «Мне неизвестен способ привязывать птицу к цветам; я тем паче несведущ в том, как укрепляют двух птиц на одной ветке».
Верховный канцлер спросил у повара, у других людей, а потом снова обратился к Такэкацу:
— В таком случае посылай их, связав, как тебе вздумается, — после чего тот отправил только одну птицу, привязав ее к сливовой ветке, на которой не было ни цветочка.
Такэкацу говорил так: «Лучше всего их привязывать к сливовой или какой-нибудь другой ветке, когда цветы на ней или еще не распустились, или уже осыпались. Привязывают и к сосне-пятилистнику. Первоначально длина ветки должна равняться шести-семи сяку, потом делают ножом косой срез на пять бу.[113] К середине ветки привязывают птицу. Ветки бывают разные: к одним фазанов привязывают за шею, к другим — за ноги. С двух сторон к веткам принято прикреплять нераспутанные побеги вистарии. Усики ее следует обрезать по длине маховых перьев птицы и загнуть наподобие бычьих рогов.
По первому снегу утром с достоинством входишь в центральные ворота, держа дарственную ветвь на плече. Следуя по каменному настилу под стрехами карниза, ступаешь так, чтобы не оставить следов на снегу, потом выдергиваешь из фазаньего хвоста несколько перьев, разбрасываешь их вокруг и вешаешь птицу на перила дома.
В вознаграждение тебе выдают платье, и ты, набросив его на плечи, с поклоном удаляешься.
Хотя мы и говорим о первом снеге, но если снегу выпало так мало, что он не скрывает носы башмаков, с дарами не ходят. Разбрасывание влажных перьев должно означать, что хвост у фазана вырвал сокол, — значит, фазан добыт на соколиной охоте».
Чем же объясняется то, что сокольничий не стал привязывать птицу к цветущей ветке? В «Повести из Исэ» встречаются слова о том, как в Долгую луну[114] привязывают фазана к самодельной ветке сливы: «Цветы, что сорвал для тебя, никогда не изменятся…» Очевидно, нет большой беды и в искусственных цветах.
LXIII
Святилища Ивамото и Хасимото в Камо посвящены Нарихира и Санэката.[115] Люди обычно путают эти святилища, поэтому, когда мне однажды случилось побывать там, я окликнул проходившего мимо престарелого служителя и осведомился обо всем у него. Он чрезвычайно учтиво отвечал мне:
— Осмелюсь полагать, что, поскольку о Санэката передают, будто его святилище отражается в ручье Омовения рук, а святилище Хасимото расположено тоже вблизи воды, — оно посвящено Санэката. Мне говорили, что сложенные Есимидзу-но-касё[116] стихи:
Луну воспевавший, Взора с цветов не сводивший, Изящества полный, Он здесь — Древний певец Аривара! —воспевают святилище Ивамото, однако, смею заметить, вы осведомлены об этом несравненно более нашего.
Его любезность показалась мне трогательной.
Коноэ, приближенная императрицы Имадэгава,[117] поэтесса, множество стихов которой вошло в стихотворные сборники, в дни своей молодости слагала обычно стострофные песни. Одну из них, написанную над потоком перед двумя святилищами, она поднесла служителям. Коноэ пользуется славой поистине блестящей поэтессы, многие ее песни и теперь на устах у людей. Она была человеком, изумительно тонко писавшим китайские стихи и предисловия к стихотворениям.
LXIV
Жил в Цукуси[118] некий судейский чиновник. Главным лекарством от всех недугов он считал редьку и поэтому каждое утро съедал по две печеные редьки и тем обеспечил себе долголетие.
Однажды, выбрав момент, когда в доме чиновника не было ни души, на усадьбу напали супостаты и окружили ее со всех сторон. Но тут из дома вышли два воина и, беззаветно сражаясь, прогнали всех прочь.
Хозяин, очень этому удивившись, спросил:
— О люди! Обычно вас не было здесь видно, но вы изволили так сражаться за меня! Кто вы такие?
— Мы редьки, в которые вы верили многие годы и вкушали каждое утро, — ответили они и исчезли.
Творились ведь и такие благодеяния, когда человек глубоко веровал.
LXV
«Высокомудрый из храма на горе Сёся»[119] благодаря добродетельному усердию в чтении священной книги «Цветок Закона» достиг чистоты в шести корнях суеты. Однажды, путешествуя, он остановился на ночлег, и тут в клокотании бобов, что варились на огне от пылающих бобовых стручков, ему послышался жалобный писк: «О стручки! Вы же не чужие нам! Как ужасно вы поступаете, что с таким ожесточением кипятите нас!»
В ответ раздалось шипение и потрескивание горящих бобовых стручков: «Разве мы по своей воле делаем это? Ах, как это невыносимо — сгорать в огне, но что мы можем поделать! Не сердитесь так на нас!»
LXVI
На высочайших развлечениях в зале Сэйсёдо в годы Гэнъо, когда была утеряна лютня гэндзё, министр Кикутэй решил сыграть на лютне бокуба.[120] Заняв место, он прежде всего ощупал колки инструмента, и тут один из них выпал. Вынув из-за пазухи рисовый клей, вельможа смазал им колок, и, пока шла церемония подношения богам, клей просох и помеха была устранена.
Был ли здесь какой-нибудь злой умысел? Говорят, что кто-то, облаченный в кикукадзуки,[121] из числа приглашенных, взял инструмент в руки, уронил его, а потом тихонько положил на прежнее место.
LXVII
Когда мы слышим чье-либо имя, мы тотчас же рисуем в своем воображении черты человека, но едва лишь нам случится увидеть его, как оказывается, что лицо этого человека совсем не таково, каким оно нам представлялось. И, слушая древние повествования, мы воображаем, что дома наших современников напоминают, наверное, те, что описаны там, а героев повестей сравниваем с людьми, окружающими нас ныне. Всякий ли представляет это именно так?
И еще — в каких-то определенных случаях мне начинает казаться, что и людские речи, что я слышу теперь, и картины, что проплывают перед моими глазами, и чувства, что испытываю сейчас, — все это когда-то уже было; когда — не могу вспомнить, но ощущение такое, что было наверняка.
Только ли мне так кажется?
LXVIII
То, что неприятно:
множество утвари возле себя;
множество кисточек в тушечнице;
множество будд в домашнем алтаре;
множество камней, травы и деревьев в садике;
множество детей в доме;
многословие при встрече;
когда в молитвенных книгах много понаписано о собственных благих деяниях.
Много, а взору не претит:
книги в книжном ящике;
мусор в мусорнице.
LXIX
Может быть, это потому, что правда никому не интересна, но из того, что рассказывают в этом мире, большая часть — ложь. Сверх того, что было на самом деле, люди рассказывают всякую всячину, а уж ежели с тех пор прошли месяцы и годы, да и было это в дальних местах, то тем более приплетают что кому заблагорассудится. Ну а если запишут все это на бумаге, то подобный рассказ не подвергается сомнению.
О выдающихся успехах какого-нибудь мастера своего дела невежды, которые ничего в этом деле не смыслят, говорят с неумеренным восхищением, как о чем-то священном, но знатоки им не верят ни на грош. Увиденное всегда отличается от того, что мы о нем слышали.
Если человек тараторит что ему заблагорассудится, не задумываясь о том, что его тут же могут обличить сидящие рядом, тогда сразу понимаешь, что он заврался. Бывает, что сам человек сознает, что это неправдоподобно, однако, самодовольно задрав нос, рассказывает все в точности так, как слышал от других. Тогда нельзя сказать, что он врет. Опаснее же всего такая ложь, которую излагают правдоподобно, то тут, то там запинаясь, делая вид, что и сами точно не знают всего, и в то же время тонко сводя концы с концами.
Тому, кто врет, чтобы похвастаться, люди особенно не перечат. Если ложь интересно послушать всем присутствующим, то один человек, пусть даже он заявит: «Нет, такого не было!» — ничего не добьется. Когда же он станет слушать молча, его могут даже в очевидца превратить, и рассказ получится правдоподобным.
В общем, как ни смотри, этот мир полон лжи. Поэтому никогда не ошибешься лишь в том случае, если веришь только тому, что обычно, что из ряда вон не выходит.
Рассказы низкородных людей особенно насыщены поражающими слух происшествиями. Мудрый человек удивительных историй не рассказывает. Но, хоть и говорится так, не следует заодно не верить и в чудесные деяния будд и богов, и в жития перевоплотившихся.[122] Поэтому нельзя, делая вид, что все это считаешь правдоподобным, ничему не верить и, сомневаясь в услышанном, смеяться надо всем на том лишь основании, что безотказно верить мирской лжи — глупо, а заявлять, что такого не могло быть, — бесполезно.
LXX
Подобно суетящимся муравьям, люди спешат на восток и на запад, бегут на север и юг. Есть среди них и высокородные и подлые, есть и старые и молодые, есть места, куда они уходят, и дома, в которые возвращаются. По вечерам они засыпают, по утрам встают. Чем они занимаются? Они никогда не насытятся в желании жить и в жажде доходов. Чего они ждут, ублажая свою плоть? Ведь наверняка грядет лишь старость и смерть. Приход их близок и не задержится ни на миг. Какая же радость в их ожидании? Заблудшие не боятся этого, в безумной страсти к славе и доходам они не оглядываются на приближение конечной точки жизненного пути. А глупые люди, видя приход смерти, падают духом.
И все потому, что, полагая, будто жизнь их вечна, они не знают закона изменчивости.
LXXI
Что переживает человек, пребывающий в уединении? Жить в полном одиночестве, не увлекаясь ничем, лучше всего.
Если ты живешь в миру, то сердце твое, увлеченное прахом суетных забот, легко впадает в заблуждение; если ты смешался с толпой, то даже речь твоя, подлаживаясь под слушателей, не отражает того, что лежит на душе, — ты угождаешь одному, ссоришься с другим, то злишься, то ликуешь.
Но и в этих твоих чувствах нет постоянства; в твоем сердце сама собой возникает расчетливость, и ты беспрестанно думаешь о прибылях и убытках. Заблуждения твои выливаются в пьянство. Пьяным ты погружаешься в грезы. Люди все таковы: они бегут, суетятся, делаются рассеянными, забывают об Учении.
Если даже ты не познал еще истинного Пути, все равно порви узы, что связывают тебя с миром, усмири плоть, не касайся суетных занятий, умиротвори душу — и тогда ты сможешь сказать, что на какой-то миг достиг блаженства.
Кстати, и в «Великом созерцании»[123] сказано: «Порви все узы, что связывают делами, знакомствами, интересами, учением».
LXXII
В домах знатных и процветающих тоже бывают свои печали и свои радости. Много людей приходит к ним с соболезнованием или поздравлениями, но чтобы среди этих людей замешался монах, чтобы он тоже стоял у ворот и ждал приглашения войти, — это, по-моему, не годится. И пусть даже причина кажется достаточной, монаху лучше всего быть подальше от мирян.
LXXIII
В этом мире много вещей, о которых люди ныне спрашивают и болтают при встрече. Я не возьму в толк, как это человек, которому до этих вещей никакого дела не должно быть, бывает великолепно осведомлен обо всех тонкостях, рассказывает другим — и его слушают, сами спрашивают и внимательно выслушивают ответы.
В особенности монахи, что живут в окрестностях селений, — они выпытывают о делах мирян, как о своих собственных, и судачат так, что только диву даешься, откуда бы им все это знать.
LXXIV
И еще не приемлю я тех, кто распространяет всякого рода диковинные новости. Мне по душе человек, который не знает даже того, что для всех стало старо.
Когда в компании появляется новый человек, то для приятелей, с полуслова понимающих все, о чем здесь говорится, — намеки, какие-то имена и т. д., - перебрасываться недомолвками, смеяться, встретившись глазами друг с другом, и тем ставить в тупик новичка, не понимающего, в чем дело, есть, безусловно, занятие людей невежественных и низких.
LXXV
В любом деле лучше делать вид, будто ты в нем несведущ. Разве благородный человек станет выпячивать свои знания, даже когда он действительно знает свое дело? С выражением глубочайших познаний во всех науках поучают других лишь те, кто приехал из деревенской глуши.
Слов нет, встречаются и среди них люди стеснительные, однако весь их вид, говорящий об убеждении в собственном превосходстве, действует отталкивающе.
Быть немногословным в вопросах, в которых прекрасно разбираешься, не открывать рта, когда тебя не спрашивают, — это чудесно.
Всякому человеку нравится лишь то занятие, от которого он далек. Так, монах стремится к ратному делу, а дикарь, делая вид, будто не знает, как согнуть лук, корчит из себя знатока буддийских законов, слагает стихотворные цепочки рэнга[124] и увлекается музыкой.
Однако люди неизменно презирают его за это больше, нежели на нерадение к собственному его делу. Многим не только среди монахов, но и среди придворных, приближенных императора и даже самых высокопоставленных вельмож нравится воинское ремесло.
LXXVI
Славу храброго воина заслужить трудно, даже если в ста сражениях ты одержишь сто побед, потому что нет на свете человека, который не стал бы храбрецом, когда он разбивает противника, пользуясь своим везением. Но достигнуть славы можно лишь после того, как поломаешь в битве меч, истратишь все стрелы и в конце концов, не покорившись врагу, без колебаний примешь смерть. Пока ты жив, похваляться воинской доблестью не следует.
Война — это занятие, чуждое людям и близкое диким зверям и птицам; тот, кто ратником не родился, напрасно увлекается этим занятием.
LXXVII
Когда неумело написанные картины или иероглифы на складных ширмах или раздвижных перегородках неприятны на взгляд, то и о хозяине дома держишься невысокого мнения. Вообще, конечно, духовное убожество владельца отражается и в той утвари, которая ему принадлежит. Отсюда отнюдь не следует, что нужно держать такие уж хорошие вещи! Я говорю о том, что люди чрезмерно увлекаются или изготовлением низкосортных, некрасивых вещей, заявляя, будто делают их потому, что они не ломаются, или приделыванием к вещам различных совершенно ненужных безделушек, заявляя, что вещи станут от этого занятными.
Старинная вещь хороша тем, что она не бросается в глаза, недорога и добротно сделана.
LXXVIII
Когда кто-то сказал, что обложки из тонкого шелка неудобны тем, что быстро портятся, Тонъа[125] заметил в ответ:
— Тонкий шелк становится особенно привлекательным после того, как края его растреплются, а свиток, украшенный перламутром, — когда ракушки осыпятся.
С тех пор я стал считать его человеком очень тонкого вкуса.
В ответ на слова о том, что-де неприятно смотреть на многотомное произведение, если оно не подобрано в одинаковых переплетах, Кою-содзу[126] сказал:
— Стремление всенепременно подбирать предметы воедино есть занятие невежд. Гораздо лучше, если они разрознены.
Эта мысль кажется мне великолепной. Вообще, что ни возьми, собирать части в единое целое нехорошо. Интересно, когда что-либо не закончено и так оставлено, — это вызывает ощущение долговечности жизни. Один человек сказал как-то:
— Даже при строительстве императорского дворца одно место специально оставили незаконченным.
В буддийских и иных сочинениях, написанных древними мудрецами, тоже очень много недостающих глав и разделов.
LXXIX
Когда господин Левый министр Тикурин-ин-но-нюдо[127] мог безо всяких помех стать первым министром, он изволил заявить:
— Что тут за невидаль! Постом Левого министра я и ограничусь, — и с теми словами ушел в монастырь.
Левый министр Тоин, восхищенный этим поступком, тоже отказался от мечты стать премьер-министром. Как говорится, произошло «раскаянье вознесшегося дракона».
Луна, став полной, идет на ущерб; дело, достигнув расцвета, приходит в упадок. Все, что доходит до предела, приближается к разрушению — таков закон.
LXXX
Когда Хоккэн-сандзо[128] прибыл в Индию, то, увидев там однажды веер, изготовленный на его родине, он затосковал, в недуге слег и все хотел отведать китайских кушаний.
Услыхав эту историю, один человек воскликнул:
— И такой великий человек, живя в чужой стране, показал свое слабодушие!
Кою-содзу возразил на это:
— О, это мягкий, чувствительный знаток Трех частей канона!
Это замечание показалось мне очень трогательным, непохожим на то, что его сделал законоучитель.
LXXXI
Ежели нет в человеке смирения, то он не может не быть обманщиком. Однако отчего же нет людей прямодушных от природы? Человек, лишенный смирения, обычно испытывает зависть, видя мудрость другого. Часто последний дурак смотрит на мудрого человека с ненавистью. «Оттого что не может получить великой награды, — поносит он мудрого, — не приемлет этот мудрец мелких выгод, хочет притворством добиться славы!»
Такие насмешки появляются потому, что сам дурак по складу характера совершенно не похож на мудреца. И свойство крайней глупости, присущее этому человеку, измениться не может. Вот потому-то он всеми правдами и неправдами стремится получить хоть самую малую выгоду.
Подражать глупцу нельзя ни в коем случае. Если, уподобляясь помешанному, человек побежит по дороге, — это помешанный. Если, уподобляясь злодею, он убивает другого человека, — это злодей. Подражающий скакуну сродни скакуну, подражающий Шуню — последователь Шуня.[129] И тот, кто, пусть даже обманом, стремится быть похожим на мудреца, должен называться мудрецом.
LXXXII
Корэцугу-но-тюнагон[130] был щедро наделен талантом воспевания ветра и луны. Всю жизнь он хранил чистоту и читал сутры. А жил он вместе с храмовым монахом Энъи-содзё.[131] В годы Бумпо,[132] когда храм Миидэра сгорел, Корэцугу сказал монаху:
— Прежде, обращаясь к вам, мы говорили «храмовый монах». Но так как храма не стало, отныне мы будем называть вас просто монахом!
Очень остроумное замечание!
LXXXIII
Поить вином простолюдина — дело, требующее большой осторожности. Один мужчина, живший в Удзи, знался с неким Гукакубо — священником из столицы. Священник этот был отшельником, человеком весьма изящным и привлекательным и доводился ему шурином, поэтому отношения между ними поддерживались самые сердечные. Однажды за бонзой в столицу был прислан конь и слуга. Гугакубо встретил слугу словами:
— Дорога предстоит дальняя. Прежде всего надо, чтобы ты пропустил разок, — и предложил ему сакэ.
Тот чарочку за чарочкой, чарочку за чарочкой выпил-таки изрядно. Потом он прицепил к поясу меч, что придало ему весьма бравый вид, приведший Гугакубо в хорошее расположение духа, и пустился в дорогу, сопровождая священнослужителя.
Где-то в районе Кобата[133] путники повстречали монаха из Нара, а с ним — большое число воинов. И тут наш провожатый бросился им наперерез и с возгласом:
— Подозрительно, что они делают в горах в такой поздний час? Стой! — выхватил из ножен меч.
Воины все, как один, тоже обнажили мечи и вложили в руки стрелы. Увидев это, Гугакубо умоляюще сложил руки:
— Извольте видеть, он же мертвецки пьян! Простите его великодушно, — после чего все посмеялись над ними и поехали дальше. Провожатый же, обернувшись к Гугакубо, гневно произнес:
— Однако же вы изволили вести себя крайне досадным образом. Я вовсе не пьян. Я желал прославить свое имя, а из-за вас мой меч оказался обнаженным всуе! — и в порыве безрассудства ударил священника мечом, а когда тот рухнул наземь, заорал: «Караул, разбойники!»
Когда же на крик его сбежались всполошившиеся сельские жители, он вдруг заявил: «Это я разбойник!» — и, кидаясь из стороны в сторону, принялся размахивать мечом и очень многих поранил, но в конце концов был схвачен и связан.
Залитый кровью конь священника по той же дороге примчался домой, в Удзи. Домашние перепугались и срочно послали на розыски пропавших большую группу мужчин. Гугакубо нашли на заросшей кустами гардении равнине. Он лежал и тихонько стонал. В Удзи его принесли на руках.
Хотя пострадавшего и спасли от близкой смерти, но ударом меча у него была сильно повреждена поясница, и он остался калекой.
LXXXIV
У одного человека был «Сборник японских и китайских песен», переписанных якобы рукой Оно-но Тофу.[134] Кто-то сказал владельцу:
— У меня, разумеется, нет никаких сомнений относительно вашей семейной реликвии, однако вот что странно: по времени не получается, чтобы Тофу мог переписать сборник, составленный Сидзё-дайнагоном,[135] который жил после него.
— О, значит, это действительно редчайшая вещь! — ответил тот и стал беречь рукопись пуще прежнего.
LXXXV
Как-то заговорили, что в глубине гор водится такая тварь — называется кот-оборотень. Он пожирает людей. Один человек сказал по этому поводу:
— Да вот здесь хоть и не горы, а тоже, говорят, будто кошки с годами становятся оборотнями и случается, что хватают людей.
Эти слухи дошли до некоего Амида-буцу[136] — монаха, сочинявшего стихотворные цепочки рэнга, — он жил поблизости от храма Гёгандзи.[137]
«Я же все время брожу в одиночестве, — подумал он, — надо быть настороже!»
Как-то раз сей монах до поздней ночи сочинял где-то рэнга и возвращался домой один-одинешенек, и вдруг, на берегу речки — кот-оборотень, о котором все толковали, — ну конечно! — кинулся к монаху и готов был уже наброситься на него и впиться в горло!
Обомлев от ужаса, монах вздумал было защищаться — нет сил, не держат ноги. Бултыхнувшись в речку, он завопил:
— Помогите!!! Кот-оборотень! Ой-ой! Ой!!!
На крик с зажженными факелами в руках выскочили из домов люди. Подбегают к речке, смотрят — хорошо известный в округе бонза.
— Что, — говорят, — случилось?
Когда вытащили его из воды, веер и коробочка, которые он получил как призы на стихотворном состязании и спрятал себе за пазуху, исчезли под водой.
С видом человека, спасенного чудом, монах еле притащился домой.
На деле же оказалось, что это прыгнула к нему его собственная собака: она узнала хозяина, несмотря на темноту.
LXXXVI
Отодзурумару, прислуживавший дайнагон-хоину, знался с человеком по имени господин Ясура и постоянно ходил к нему. Однажды, когда послушник вернулся от своего знакомца, хоин спросил его:
— Куда ты ходил?
— Я ходил к господину Ясура, — ответил тот.
— Этот Ясура мирянин или монах? — последовал новый вопрос, и мальчик, смиренно разглаживая рукав, произнес:
— Кто же он такой?… Головы-то его я и не видел.
Он почему-то не видел одной только головы…
LXXXVII
В учении о темном и светлом началах нет никаких наставлений по поводу Дней красного языка.[138] Древние не питали к ним неприязни. Не в наши ли дни из-за чьих-то высказываний возникла к ним нелюбовь?
Говорят, будто дело, начатое в эти дни, не достигает счастливого завершения; будто нельзя в такие дни ничего толком ни сказать, ни сделать; что найдешь — то потеряешь, что задумаешь — не сотворишь. Это глупости.
Стоит попытаться сосчитать дела, окончившиеся несчастливо, хотя исполнение их и было приурочено к благоприятному дню, получится то же самое. Причина этого в том, что безмерны границы изменчивости: кажется, вещь существует, а ее нет, у того же, что имеет начало, нет конца.
Цели недостижимы, стремления безграничны. Сердце человека непостоянно. Все сущее призрачно. Так чему же застыть хотя бы на мгновение?
Причины этого неизвестны. Конечно, плохо, когда в благоприятный день творят зло, и, конечно же, хорошо, когда в неблагоприятный день совершают добро, — так можно сказать. Добро и зло зависят от самого человека, а не от выбора дня.
LXXXVIII
Некто, обучаясь стрельбе из лука, встал перед целью, держа в руке две стрелы. Наставник заметил ему:
— Новичок, не держи две стрелы! Понадеявшись на вторую стрелу, ты беспечно, отнесешься к первой. Всякий раз считай, что другого выхода у тебя нет и попасть ты должен этой единственной стрелой!
Но разве в присутствии наставника можно помыслить о небрежном обращении с одной стрелой, когда их у тебя две? О нет: пусть даже сам ты не знаешь о своем нерадении, знает о нем твой учитель.
Это наставление надо отнести ко всякому занятию. Человек, обучающийся чему-либо, вечером полагается на то, что наступит утро, а утром — на то, что настанет вечер, и при этом каждый раз рассчитывает прилежно позаниматься. Ну а за один миг разве можно распознать в себе нерадение? Неужели это слишком трудно — то, что задумал, исполнить теперь же?
LXXXIX
Однажды какой-то мужчина рассказал:
— Один человек продавал быка. Покупатель сказал ему: «Завтра уплачу за быка и заберу его».
Ночью бык пал. Это было на руку тому, кто хотел его купить, и в убыток тому, кто вздумал продавать его.
Выслушав это, сосед рассказчика возразил:
— Владелец быка действительно потерпел убыток, однако, с другой стороны, он оказался и в большом выигрыше. Дело вот в чем: живое существо приближения смерти не ведает — именно так было с быком, так бывает и с человеком. В неведении пал бык, в неведении остался жив хозяин. Но один день жизни дороже десяти тысяч золотых. А бык — дешевле гусиного перышка. Так нельзя же считать потерпевшим убыток того, кто, получив десять тысяч золотых, потеряет один сэн!
Все посмеялись над ним:
— Но это-то правило не ограничивается одним только владельцем быка!
Но сосед не унимался:
— Значит, всякий человек, раз он ненавидит смерть, должен любить жизнь. Глупый человек, забывая о каждодневном наслаждении радостью жизни, с нетерпением жаждет иных услад; забывая о сокровище жизни, с опасностью ищет иных сокровищ, и нет предела его желаниям. Значит, это рассуждение несправедливо для того человека, который не наслаждается жизнью, пока живет, и боится смерти, когда видит смерть. А люди все же наслаждаются жизнью потому, что не боятся смерти. И не то чтобы они не боялись смерти, просто о приближении смерти забывают. Ежели мы говорим, что человек незаметно пересек рубеж жизни и смерти, мы должны признать, что он постиг истинный принцип.
Над ним посмеялись еще больше.
XC
Прибыв ко двору, первый министр Токиваи[139] был встречен стражником, державшим в руках высочайшее послание. При виде вельможи стражник сошел с коня. После этого первый министр велел уволить стражника, заявив: «Такой-то страж северной стены императорского дворца есть тот самый человек, который спешился, имея на руках высочайшее послание. Как же может подобный человек всеподданнейше служить государю?!»
Высочайшее послание следует и вышестоящим показывать, сидя верхом. Спешиваться недопустимо.
XCI
У одного знатока старинных обычаев спросили: «К куриката[140] на коробке прикрепляют шнурки. С какой стороны их положено прикреплять?!» И он ответил так:
— Существует два мнения: одно — это прикреплять их слева, другое — справа, поэтому, куда их ни приладь, ошибки не будет. Если это коробка для бумаг, шнурок большей частью прикрепляют справа, если это шкатулка для безделушек, обычно его прилаживают слева.
XCII
Есть такая трава — мэнамоми.[141] Если человек, ужаленный гадюкой, разотрет эту траву и приложит ее к ране, он сразу исцелится. Необходимо уметь распознавать ее.
XCIII
Не перечислить того, что, пристав к чему-либо, вредит ему. Для тела это вши; для дома — крысы; для страны — разбойники; для ничтожного человека — богатство; для добродетельного — сострадание; для священника — законоучение.
XCIV
Это — мысли, которые вызвали отклик в моей душе, когда я увидел записки под названием «Немногословные благоуханные беседы»,[142] где собраны высказывания почтенных мудрецов.
1. Если ты раздумываешь, делать это или не делать, то, как правило, бывает лучше этого не делать.
2. Тот, кто думает о грядущем мире, не должен у себя иметь ничего, даже горшка для соуса. Нехорошо иметь дорогую вещь, включая молитвенник и статуэтку Будды-охранителя.
3. Самое лучшее — жить как отшельник: ничего не имея, ни в чем не нуждаясь.
4. Вельможа должен стать простолюдином, мудрец — глупцом, богач — бедняком, талантливый человек — бездарным.
5. Нет ничего особенно сложного в стремлении постичь учение Будды. Главное, что для этого нужно, — освободившись плотью, не обременять душу мирскими заботами.
Кроме этого там и еще что-то было, да я не помню.
XCV
Первый министр Хорикава[143] был красивым и богатым. И еще отличала его любовь к роскоши. Сына своего — сиятельного Мототоси[144] — Хорикава определил управляющим сыскным департаментом и, когда тот приступил к несению службы, заявил, что китайский сундук, стоявший в служебном помещении сына, выглядит безобразно, и распорядился переделать его на более красивый. Однако чиновники, знающие старинные обычаи, доложили ему:
— Этот сундук переходил здесь из рук в руки с глубокой древности, и неизвестно, откуда он взялся: с тех пор прошли уже сотни лет. Когда во дворце от старости приходит в негодность какая-либо вещь из тех, что передаются из поколения в поколение, она служит образцом для изготовления новых, — так что лучше бы его не переделывать.
Распоряжение отменили.
XCVI
Когда первый министр Кога,[145] находясь в императорском дворце, пожелал испить воды, придворная служанка поднесла ему глиняную чашу, однако вельможа распорядился:
— Принеси ковш! — и напился из ковша.
XCVII
Один человек, исполняя обязанности найбэна[146] на церемонии возложения полномочий министра, вошел во дворец, не получив на руки высочайшего рескрипта, находившегося еще у найки.[147] Это было неслыханным нарушением традиций, а вернуться за ним было уже нельзя. Пока он ломал себе голову, как быть, гэки шестого ранга Ясуцуна[148] переговорил с облаченной в кинукадзуки фрейлиной, подучил ее взять этот рескрипт и потихоньку передать его найбэну. Это было восхитительно!
XCVIII
Когда Ин-но-дайнагону Мицутада-нюдо[149] было поручено провести обряд изгнания демона, Правый министр Тоин попросил его рассказать о традиции проведения обряда.
— Нет ничего лучше, чем спросить об этом у Матагоро, — ответил Мицутада.
Этот Матагоро, старый стражник, до мелочей помнил порядок всех дворцовых обрядов. Однажды господин Коноэ,[150] готовя стан, совсем забыл про циновку для сидения. Он уже вызвал гэки, как вдруг Матагоро, зажигавший светильники, тайком шепнул ему: «Прежде полагается потребовать циновку». Это было очень интересно.
XCIX
Когда в храм-резиденцию Дайкаку,[151] где развлекались приближенные экс-императора, загадывая друг другу загадки, пришел придворный лекарь Тадамори, Кинъакира,[152] дайнагон из свиты императора, сразу же обратился к нему с вопросом:
— Тадамори, что кажется не японским?
— Кара-хэйдзи,[153] — ответил кто-то, и все рассмеялись.
Лекарь рассвирепел и вышел вон.
C
В заброшенной лачуге, вдали от людского взора, скрывалась от мира одна женщина. Ее, отдавшую себя во власть скуки, вздумал навестить некий мужчина. Когда, освещенный скудными лучами молодого месяца, он тихонько крался к ограде, громко залаяла собака, и на шум вышла служанка.
— Откуда вы? — спросила она, пропуская посетителя в хижину. Унылая картина, открывшаяся его взору, вызвала щемящее чувство жалости: «Как можно здесь жить?»
Некоторое время гость стоял на грубом дощатом настиле, пока наконец не услышал мелодичный голос молоденькой горничной:
— Сюда, пожалуйста! — и прошел через туго раздвигающиеся двери дальше. Внутренняя часть помещения не казалась столь убогой — это была довольно милая комната; правда, светильник в дальнем углу едва мерцал, однако видно было изящное убранство и чувствовалось, что благовония здесь зажгли не наспех: их аромат пропитал покои. Все жилище вызывало ощущение чего-то родного.
— Хорошенько заприте ворота. Может пойти дождь. Экипаж — под ворота, челядь сюда и вот сюда, — послышались чьи-то голоса.
С другой стороны прошептали:
— Кажется, сегодня поспим вдоволь.
Шептали тихо, но совсем рядом, и поэтому кое-что можно было разобрать.
В хижине между тем подробно обсуждались последние новости, и вот уже запели первые петухи. С былого разговор перешел на мечты о будущем, но тут в задушевную беседу ворвался новый гам — на этот раз петухи пели взапуски, звонкими голосами. Это навело на мысль о том, не светает ли уже, но особой охоты спешить с возвращением, когда на дворе еще глубокая ночь, не было, и они забылись еще на мгновение. Однако вот уже и щели в дверях побелели; тогда мужчина сказал, что этого ему не забыть никогда, и вышел.
Стояло исполненное великолепия утро, какое бывает только в месяц цветка У, когда и ветки деревьев, и трава в садике залиты изумрудом свежей зелени. Вспоминая проведенную здесь ночь, он жадно смотрел назад до тех пор, покуда большое коричное дерево у дома не скрылось из виду.
CI
Нерастаявший снег, что остался за северной стеной дома, крепко подморозило; на оглоблях поставленной здесь повозки, переливаясь, искрился иней. Сколь ни ярко светит предутренняя луна, и при ней нельзя не отыскать укромный уголок.
В галерее стоящего поодаль храма сидит на поперечной балке знатный на вид мужчина и беседует с женщиной. О чем они говорят? Кажется, беседа их никогда не кончится. Очаровательной выглядит ее склоненная головка и силуэт; изумительно, когда вдруг повеет невыразимым благоуханием ее платья. Чарует и шепот, что доносится время от времени.
СII
Когда святейший Сёку[154] из Коя направлялся однажды в столицу, то на узкой тропинке он повстречал женщину, ехавшую верхом на коне. Служка, что вел под уздцы ее коня, по оплошности столкнул лошадь старца в канаву. Сильно разгневавшись, мудрец принялся бранить его:
— Это неслыханная грубость! Из четырех разрядов учеников Шакья-Муни — бикуни ниже бику, убасоку ниже бикуни, убаи ниже убасоку.[155] И бику подобным убаи повергнут в канаву! Это неслыханное доселе злодеяние!
Мужчина-проводник отвечал на это:
— Вы, никак, что-то изволили сказать, да мне ничего не понять.
И тогда святейший взбесился еще больше:
— Что я сказал, говоришь?! Ах ты, невежа и неуч! — выпалил он в гневе, но вдруг со смущенным видом, будто произнес самое невозможное ругательство, повернул коня и ускакал обратно.
Можно сказать, это был диспут, достойный уважения.
CIII
Говорят, будто редко встретишь мужчину, который бы сразу и впопад отвечал на вопрос женщины. Во времена экс-императора Камэяма[156] всякий раз, как во дворец приходили молодые люди, шутницы-фрейлины испытывали их вопросом:
— Приходилось ли вам слышать кукушку?
Какой-то дайнагон ответил на это:
— Такой невежда, как я, и не мог сподобиться слышать ее.
А господин Внутренний министр Хорикава[157] изволил сказать так:
— В Ивакура[158] как будто слыхал…
— Ну, так-то ответить нетрудно, — обсуждали его ответ дамы, — а насчет невежды уже и слушать надоело.
Говорят, что вообще мужчину надо специально воспитывать, чтобы над ним не смеялись женщины. Кто-то рассказывал мне, что прежний регент из храма Чистой Земли в юности получал наставления от монахини-императрицы Анки,[159] потому и был искусен в разговоре.
Левый министр Ямасина[160] признавался, что обращает внимание и очень смущается, когда на него смотрит даже простая служанка.
Если бы не было на свете женщин, мужчины не стали бы следить ни за одеждой, ни за шляпами, какими бы они ни были.
Можно подумать, что женщина, которая так смущает мужчин, — этакое прелестное существо. Нет, по натуре все женщины испорчены. Они глубоко эгоистичны, чрезвычайно жадны, правильного Пути не ведают и очень легко поддаются одним только заблуждениям, а что касается искусства вести разговор, то они не отвечают даже тогда, когда их спрашивают о чем-нибудь незатруднительном.
«Может быть, это из осторожности?» — подумаете вы. Ничуть не бывало: в разговоре они выбалтывают совершенно неожиданные вещи, даже когда их не спрашивают. А если кто-нибудь считает, что их превосходство над мужским умом заключается в мастерстве пускать пыль в глаза, стало быть, он не знает, что все женские уловки обнаруживаются с первого взгляда. Женщина — это существо неискреннее и глупое. Всяческого сожаления достоин тот, кто добивается благосклонности женщины, подчиняясь ее прихотям.
А если это так, зачем же робеть перед женщиной? Если встретится умная женщина, она будет непривлекательна и холодна. Женщина может казаться и изящной и интересной, только когда, ослепленные страстью, вы послушно исполняете ее капризы.
CIV
Никто не ценит мгновения. Отчего это — от больших познаний или по глупости? Допустим, это происходит по глупости нерадивого; но, ведь хотя и ничтожен один сэн, но если его беречь, он сделает богачом бедняка. Поэтому-то и крепка забота торговца сберечь каждый сэн.
Мы не задумываемся над тем, что такое миг, но если миг за мигом проходит, не останавливаясь, вдруг наступает и срок, когда кончается жизнь. Поэтому праведный муж не должен скорбеть о грядущих днях и лунах. Жалеть следует лишь о том, что текущий миг пролетает впустую.
Если к вам придет человек и известит о том, что завтра вы наверняка расстанетесь с жизнью, чего потребуете вы, что совершите, пока не погаснет сегодняшний день? Но почему же сегодняшний день — тот, в котором все мы живем сейчас, — должен отличаться от последнего дня?
Ежедневно мы теряем — и не можем не терять — много времени на еду, естественные надобности, сон, разговоры и ходьбу. А в те немногие минуты, что остаются свободными, мы теряем время, делая бесполезные вещи, говоря о чем-то бесполезном и размышляя о бесполезных предметах; это самая большая глупость, ибо так уходят дни, текут месяцы и проходит вся жизнь. Несмотря на то что Се Лин-юнь был переводчиком свитков «Сутры Лотоса», Хуэй Юань не допустил его в общину Белого Лотоса,[161] так как тот слишком сильно лелеял в своем сердце мысли о ветре и облаках.
В те минуты, когда человек забывает о мгновениях, как бы эти минуты ни были коротки, он подобен покойнику. Когда же спросят, зачем жалеть мгновения, можно ответить, что, если нет внутри человека тревоги, а извне его не беспокоят мирские дела, решивший порвать с миром — порвет, решивший постигнуть Учение — постигнет.
CV
Некий мужчина, слывший знаменитейшим древолазом, по просьбе своего односельчанина взобрался на высокое дерево, чтобы срезать у него верхушку. Одно время казалось, что древолаз вот-вот сорвется вниз, но тот, что стоял на земле, не проронил ни слова; когда же верхолаз, спускаясь, оказался на уровне карниза дома, товарищ предостерег его:
— Не оступись! Спускайся осторожнее!
Услышав эти слова, я заметил ему:
— Уж с такой-то высоты можно и спрыгнуть. Зачем вы говорите ему это сейчас?
Он отвечал:
— Именно сейчас и нужно. Пока у него кружилась голова и ветки были ненадежными, он и сам остерегался, поэтому я ничего и не говорил. Но сейчас, когда ошибка не так страшна, он бы наверняка допустил ее.
Это говорил человек самого низкого сословия, но в наставлениях своих он равнялся мудрецу.
Вот и в игре — после того как возьмешь мяч из труднейшего положения, непременно пропустишь его там, где удар кажется слабым.
CVI
Когда я спросил однажды у человека, слывшего искусным игроком в сугороку, о секрете его успеха, он ответил:
— Не следует играть на выигрыш; нужно стремиться не проиграть. Заранее обдумай, какие именно ходы могут оказаться самыми слабыми и избегай их — выбирай тот вариант, при котором проигрыш можно оттянуть хотя бы на один ход.
Руководствуясь этими же принципами, ты постигнешь Учение. Таковы же приемы усмирения плоти и обороны государства.
CVII
В ушах у меня до сих пор звучит изречение одного мудреца, показавшееся мне изумительным:
— Тот, кто, увлекшись игрой в иго и сугороку, днюет и ночует за игрой, совершает, по-моему, зло большее, чем четыре тяжких и пять великих грехов.[162]
CVIII
Возможно ли человеку, которому завтра отправляться в дальние страны, назвать дело, которое надлежит совершить спокойно, без спешки?
Человек, появится ли у него вдруг важное дело, впадет ли он в неизбывную печаль, не состоянии слышать ни о чем постороннем. Он не спросит ни о горестях, ни о радостях другого.
Все скажут: «Не спрашивает», но никто не вознегодует: «А почему?» Вот и люди, чьи годы становятся все преклоннее, кто скован тяжким недугом, и в еще большей степени те, кто уходит от этого мира, должны быть такими же далекими от треволнений мира.
Нет такого мирского обряда, от которого не хотелось бы уклониться. И если ты находишься во власти мирской суеты, если считаешь ее неизбежной, желания твои умножаются, плоть делается немощной и нет отдыха душе; всю жизнь тебе мешают ничтожные мелкие привычки, и ты проводишь время впустую.
Вот и день меркнет, но дорога еще далека, а жизнь-то уже спотыкается. Настало время оборвать все узы. Стоит ли хранить верность, думать об учтивости?
Те, кому не понять этого, назовут тебя сумасшедшим, посчитают лишенным здравого смысла и бесчувственным. Но не страдай от поношений и не слушай похвал!
CIX
Если человек, которому перевалило за сорок, иногда развратничает украдкой, ничего с ним не поделаешь. Но болтать об этом, ради потехи разглагольствовать о делах, что бывают между мужчиной и женщиной, ему не подобает. Это отвратительно.
По большей части так же омерзительно слышать и видеть, когда старик, затесавшись среди молодых людей, пустословит, чтобы позабавить их; когда какой-нибудь ничтожный человечишка рассказывает о почитаемом всеми господине с таким видом, будто ничто их не разделяет, и когда в бедной семье любят выпить и стремятся блеснуть, угощая гостей.
СХ
Однажды высокородный Имадэгава отправился в Сага. При переправе через реку Арисугава его повозка оказалась в водном потоке, и погонщик Сайомару принялся понукать быка. Бык заупрямился, стал рыть копытом, и брызги из-под его ног окатили весь передок экипажа до самого верха. Тогда сидевший на запятках Тамэнори вскричал:
— Ах, какой неотесанный мальчишка![163] Да разве можно погонять быка в таком месте?
Услышав это, вельможа пришел в дурное расположение духа.
— О том, как заставить повозку двигаться, — сказал он, — ты не можешь знать больше, нежели Саомару. Неотесанный ты мужлан, — и стукнул его головой о повозку.
Достославный наш Сайомару был слугой господина Удзумаса и состоял у его высочества скотником. А в доме Удзумаса даже прислуге присвоены были коровьи клички: одной Хидзасати, другой Котодзути, третьей Хаубара, четвертой Отоуси.[164]
CXI
В местности, называемой Сюкугахара, собралось много бродячих монахов бороборо.[165] Когда однажды они творили молитву о девяти ступенях возрождения в Чистой земле, в помещение вошел незнакомый бороборо и спросил:
— Нет ли случайно среди вас, почтенные, бонзы по имени Ироосибо? — на что из толпы ответили:
— Здесь Ирооси. А кому это я понадобился?
— Меня зовут Сира-бондзи, — последовал ответ, — слышал я, что мой наставник такой-то был убит в восточных землях бродячим монахом по имени Ирооси, поэтому я хотел бы встретиться с этим человеком и отомстить ему. Вот я и ищу его.
— О, как хорошо, что вы нашли меня, — воскликнул Ирооси, — действительно, было такое дело! Но раз уж довелось нам здесь столкнуться лицом к лицу, то, дабы не осквернять святого места, давайте лучше последуем к берегу реки, что перед нами, и сойдемся там. Друзья мои! Что бы ни случилось, ни в коем случае не приходите мне на помощь, — условился он с товарищами. — Ваше вмешательство может явиться помехой для выполнения буддийских обрядов!
После этого противники вдвоем вышли на прибрежную равнину, скрестили мечи и отвели душу, пронзая друг друга, так что вместе и смерть приняли.
Разве могли быть такие бороборо в старину? По-моему, только в наше время появились разные шайки бродячих монахов. Делая вид, что стремятся к учению Будды, они занимаются поединками. Я считаю, что люди эти своевольны и бесстыдны, но они легко относятся к смерти, ни к чему не привязаны и отважны, потому я и записал эту историю в том виде, как мне рассказывал ее один человек.
CXII
Древние нимало не задумывались над тем, какое название присвоить храмам, святилищам и всему на свете. Все называлось легко, в строгом соответствии с событиями, Нынешние названия так трудны, будто люди мучительно над ними думали, чтобы показать свои таланты. Никчемное занятие также стараться подобрать понеобычнее иероглифы для имени.
Говорят ведь, что тяга ко всему редкостному, стремление противоречить есть несомненный признак людей ограниченных.
CXIII
Плохо иметь в друзьях:
во-первых, человека высокого положения и происхождения; во-вторых, молодого человека; в-третьих, человека, никогда не болеющего, крепкого сложения; в-четвертых, любителя выпить; в-пятых, воинственного и жестокого человека; в-шестых, лживого человека; в-седьмых, жадного человека.
Хорошо иметь в друзьях:
во-первых, человека, который делает подарки; во-вторых, лекаря; в-третьих, мудрого человека.
CXIV
В тот день, когда мы едим суп из карпа, наши волосы не бывают растрепаны. Это очень липкая рыба — ведь из нее делают клей. Карп очень благороден, так как из всех рыб одного только карпа можно разделывать в высочайшем присутствии.
А из птиц фазан не имеет себе равных. Фазан и гриб мацутакэ,[166] даже если они висят над Оюдоно — августейшей купальней, возражения не вызывают. Все прочее здесь неуместно.
Однажды Китаяма-нюдо[167] обратил внимание на то, что на полке для снеди над августейшей купальней в покоях императрицы виднеется дикий гусь. По возвращении домой он тут же написал письмо, где указывал: «Мы не привыкли видеть, чтобы подобные вещи открыто хранились на августейшей полке. Это неприлично. И все оттого, что у вас нет надежного слуги».
CXV
Полосатый тунец, что водится близ Камакура, не имеет в этих краях себе равных; в наше время он весьма ценится. Однако камакурские старожилы говорят так: «Еще в дни нашей молодости эту рыбу знатным людям не подавали, а голову не ели даже слуги».
Однако в наш век — век упадка — тунца с удовольствием едят даже вельможи.
CXVI
Если не считать лекарств, то мы вполне могли бы обойтись без китайских изделий. Так как в нашей стране широко распространены китайские сочинения, то и их мы могли бы переписывать сами. То, что множество китайских судов в свой нелегкий путь к нам грузятся одними безделицами, — глупость чрезвычайная.
Недаром в книгах говорится: «Не цени вещей, привезенных издалека» и «Сокровище, которое досталось с трудом, дороже не цени».
CXVII
Лошадей и быков следует держать в хозяйстве. Очень жаль мучить их на привязи, однако ничего не поделаешь. Что касается собак, то задачу сторожить дом и охранять имущество они выполняют лучше человека, а посему безусловно необходимы. Однако собака и так есть в каждом доме, и специально заводить ее не стоит. Во всех прочих животных и птицах никакой надобности нет.
Быстроногие звери запираются в загородки, сажаются на цепь; легкокрылым птицам обрезают крылья, а самих их заключают в клетки. Они же влюблены в облака, грезят дикими горами и долинами, и ни на минуту не затихает в них тоска.
Мысль об этом для меня невыносима, как невыносима она для человека, имеющего сердце! Тот, кто испытывает наслаждение, заставляя страдать живое существо, подобен Цзе и Чжоу.[168] Ван Цзыю[169] любил птиц, наблюдал, как они резвятся в бамбуковых рощах, и они стали его друзьями. Он никогда не ловил птиц и не причинял им страданий. К тому же в одном сочинении сказано: «Нельзя держать в доме никаких редкостных птиц и диковинных зверей».
CXVIII
Прежде всего человеку следует разбираться в писаниях, дабы постигать учения мудрецов. Каллиграфия, даже если не отдаваться ей всецело, должна стать опорой в науках. Следует овладеть искусством врачевания. Без умения врачевать невозможно ни свою плоть поддержать, ни людям помочь, ни выполнить долг в отношении господина и родителей. После этого идет стрельба из лука и верховая езда, входящие в шесть искусств.[170] Все это, безусловно, нужно постигнуть.
Никоим образом нельзя пренебрегать книжной мудростью, военным делом и врачеванием. Если всему этому научишься, никогда не окажешься ненужным человеком.
Далее: пища — небо человека. Человек, который знает толк в приготовлении блюд, может оказаться очень полезным. Кроме того, мастерство: оно важно в любом деле.
А все остальные занятия… — слишком многих талантов благородный человек стыдится. Быть искусным в поэзии и умелым в музыке превосходно, однако, хотя и говорят, что то и другое высоко ценят государь и подданные, похоже, что в наше время с их помощью управлять миром становится все бесполезнее. Золото прекрасно, однако в железе, кажется, гораздо больше пользы.
CXIX
Того, кто праздно проводит время, можно назвать и глупцом, и человеком, совершающим ошибку. Есть множество дел, от которых нельзя уклоняться и которые нужно совершить для страны, для государя. От таких дел совсем не остается свободного времени. Следует подумать об этом.
Для самого человека необходимо следующее: во-первых, еда, во-вторых, одежда, в-третьих, жилье. Основные потребности людей не выходят за пределы перечисленного. Спокойная жизнь без страданий от голода и холода, от ветра и дождя доставляет радость. Однако все люди болеют. Если проникает в тебя болезнь, страдания от нее невыносимы. Ты только и думаешь о лечении. Тех, кто не в силах обеспечить себя всеми необходимыми, включая лекарство, предметами, считают бедняками. Тех, кто не нуждается в них, — богатыми. Тех, кто требует себе чего-то сверх перечисленного, называют расточительными. Если человек бережлив, то, кем бы он ни был, он довольствуется малым.
CXX
Очень привлекателен Дзэхо-хоси,[171] который спокойно коротал свой век, от рассвета дотемна вознося молитвы Будде, и не похвалялся ученостью, несмотря на то что никому из секты Чистой Земли не уступал в ней.
CXXI
Чтобы совершить обряд сорок девятого дня, оставленные в этом мире пригласили некоего мудреца. Проповедь была замечательной, и все присутствующие обливались слезами. После того как священнослужитель ушел, слушатели стали обмениваться впечатлениями. «Сегодня он казался особенно благородным, более благородным, чем всегда», — говорили они. И тут один человек заметил:
— Что ни говорите, а это, видимо, потому, что он так здорово похож на китайскую собаку!
Все очарование пропало, и всем стало смешно. Разве же это способ хвалить проповедника? А еще он сказал:
— Если, вздумав угостить кого-нибудь вином, ты выпьешь прежде сам, а потом попытаешься заставить пить другого — это то же самое, что замахиваться мечом на человека. Меч обоюдоостр, поэтому, подняв его, ты прежде всего отсечешь собственную голову. Коли прежде напьешься и свалишься сам, то не сможешь, вероятно, напоить другого.
Пытался ли он сам-то когда-нибудь рубить мечом? Это очень забавно.
CXXII
Один человек говорил:
— Не следует играть с тем, кто, вконец проигравшись в азартной игре, хочет поставить на карту все без остатка.
Нужно знать, когда наступает время перелома в игре, при котором, продолжая игру, можно победить. Того, кто знает такое время, и называют хорошим игроком.
СXXIII
Лучше не исправлять совсем, чем исправлять без пользы.
СXXIV
Масафуса-дайнагон[172] был человеком настолько талантливым, умным и приятным, что его намерены были уже возвести в генералы, но тут один из приближенных доложил экс-императору:
— Только что я наблюдал ужасную сцену.
И августейший спросил его:
— Что именно?
— Через дыру в заборе я видел, как господин Масафуса отрубил живой собаке лапы, чтобы накормить сокола.
Это вызвало негодование и отвращение экс-императора, который переменил свое высокое благоволение к Масафуса и не изволил допустить его продвижение по службе. Удивительно, конечно, что такой человек держал сокола, однако рассказ о лапах собаки не имел основания.
Ложь предосудительна, но сердце государя, воспылавшее негодованием при сообщении о такой жестокости, достойно глубокого уважения. Вообще говоря, люди, которые развлекаются, убивая, мучая и заставляя драться живые существа, подобны зверям, пожирающим друг друга.
Если внимательно присмотреться ко всевозможным птицам, животным и даже крохотным насекомым, то окажется, что они заботятся о детенышах, привязаны к родителям, обзаводятся парами, ревнуют, сердятся, кипят страстями, ублажают свою плоть и цепляются за жизнь, — и во всем этом значительно превосходят людей по той причине, что совершенно глупы.
Разве не больно бывает всякий раз, когда им достаются мучения, когда у них отнимают жизнь? Тот, чье сердце не проникается состраданием при взгляде на любого, кто обладает чувствами, — не человек.
СXXV
Янь Хуай[173] ставил целью не причинять людям беспокойства. Вообще говоря, мучить людей и доставлять им несчастье не следует, даже у людей низкого сословия нельзя отнять волю. Кроме того, иногда развлекаются тем, что обманывают, запугивают или стыдят малых детей. Взрослый человек к заведомой неправде относится равнодушно, а в младенческое сердце глубоко западает боязнь, стыд и душевные муки, оставляя там действительно тяжелый след. Развлекаться, доставляя ребенку муки, — значит не иметь в душе сострадания.
И радость, и гнев, и печаль, и наслаждения взрослого человека — все тщета и заблуждение. Но кто не подвержен влиянию кажущихся реальными призраков!
Причинить человеку душевную боль значит сделать ему гораздо больнее, нежели даже изувечив его тело. Болезни наши тоже в большинстве своем проистекают из души. Извне приходящих болезней мало. Необходимо знать следующее: бывает, что, желая вызвать пот, мы принимаем лекарство, но проку от этого нет, однако же стоит нам хоть раз испытать страх или стыд — пот выступит непременно; причина тому — душа. Известен даже такой случай, когда человек стал седым, делая надпись на башне Линъюнь.[174]
CXXVI
Нет ничего лучше, чем, ни с кем не споря и обуздав себя, согласиться с противником. Отложить свои дела, чтобы позаботиться о другом человеке, прекрасно.
Как известно, человек, любящий состязания, всегда стремится к победе. Ведь радость от своего превосходства над противником связана с невозможностью получить удовлетворение от проигрыша. А мысль о том, что, проигрывая сам, ты доставляешь удовольствие противнику, лишала бы нас интереса к игре. Но желать победы, чтобы принести другому разочарование, безнравственно.
Находятся и такие люди, которые, играя даже в дружеской компании, вовсю обманывают партнеров и при этом упиваются своим превосходством. Это тоже непорядочно. Поэтому во многих случаях длительная неприязнь начинается с первой совместной пирушки. Это все вред, наносимый пристрастием к спорам.
Чтобы превзойти в чем-то людей, следует думать лишь о том, чтобы, занявшись науками, превзойти их в мудрости. Когда вы постигнете Учение, то поймете, что не должно похваляться добродетелью и ссориться с товарищами. Только сила Учения позволяет нам отказаться от высокого поста и отвергнуть выгоду.
CXXVII
Тот, кто беден, стремится воздавать почести богатству, тот, кто стар, стремится воздавать почести силе. Если человек не может достигнуть цели, ему разумнее всего остановиться как можно быстрее. Мешать ему значит совершать ошибку. Усердствовать через силу, не считаясь со своими возможностями, значит совершать ошибку самому.
Если бедный не знает своего места, он ворует; если не знает слабосильный, он заболевает.
CXXVIII
Дорога Тоба получила свое название не после того, как был построен дворец Тоба.[175] Говорят, будто еще в «Записках принца Рихо» сказано: наследный принц Мотоёси так громко возглашал новогодние приветствия, что голос его был слышен от дворца Дайгоку до дороги Тоба.[176]
CXXIX
В ночных покоях августейшее изголовье обращено на восток. Конфуций тоже ложился головой на восток, потому что, обратив изголовье к востоку, можно почерпнуть животворную силу.
В опочивальнях столь же общепринято обращать изголовье и на юг. Экс-император Сиракава[177] почивал головой на север, однако север не пользуется любовью. Кроме того, говорят так: «Провинция Исэ расположена на юге. Как можно, чтобы государь ложился ногами в сторону святилищ Дайдзингу!»[178]
Но в императорском дворце поклонения святилищам Дайдзингу совершают, обратясь к юго-востоку, а не к югу.
CXXX
Однажды какой-то наставник в монашеской дисциплине — имени его я не помню — саммайсо из храма секты Цветка Закона, в котором погребен экс-император Такакура,[179] взял зеркало и принялся внимательнейшим образом рассматривать свое лицо. В конце концов, безмерно расстроенный тем, что вид его безобразен и жалок, законоучитель возненавидел само зеркало, долго после этого боялся зеркал и никогда уже не брал их в руки. Кроме того, он перестал общаться с людьми и заперся в келье, откуда стал выходить только для исполнения храмовых служб. Услышав эту историю, я подумал, что это очень редкий случай.
Даже мудрейшие люди, умея судить о других, ничего не знают о себе. Но не познав себя, нельзя познать других. Следовательно, того, кто познал себя, можно считать человеком, способным познать суть вещей.
Не сознавая безобразности собственного обличья, не сознавая собственной глупости, не сознавая своего невежества в искусствах, не сознавая ничтожности своего общественного положения, не сознавая того, что годы твои преклонны, не сознавая того, что сам ты полон недугов, не сознавая близости своей смерти, не сознавая, как несовершенен Путь, которому ты следуешь, не сознавая собственных своих недостатков, — тем более не постигнешь чужих поношений.
Однако облик свой можно увидеть в зеркале; годы можно узнать, сосчитать. Но когда о своей внешности знают все, а поделать с нею ничего не могут, это все равно как если бы о ней и не знали. О том, чтобы улучшить свою внешность или уменьшить возраст, не может быть и речи. Но как же можно не отступиться от дела, едва только узнаешь о своей непригодности к нему? Как можно не смирить плоть, если узнал ты о своей старости? Как можно не призадуматься, коли узнал ты о том, что глупо ведешь себя?
Вообще-то стыдно навязываться людям, когда тебя никто не любит. Безобразные обличьем и подлые сердцем выходят на люди и занимаются службой; недоумки водятся с талантами; бездарные в искусствах — завсегдатаи у тончайших мастеров; дожившие до белоснежной головы равняются на цветущую молодежь. Хуже того, люди желают недостижимого, убиваются по тому, что невыполнимо; ждут того, что заведомо не явится; боясь кого-то, льстят ему — и это не тот позор, который навлекается посторонними, этим позорят себя сами люди, отдавшиеся во власть алчной своей души.
А не сдерживают они свою алчность лишь потому, что не знают, что великий момент, завершающий жизнь, — уже вот он, приблизился!
CXXXI
Кто-то, кажется Сукэсуэ-дайнагон-нюдо, встретившись с советником двора генералом Томоудзи,[180] сказал:
— Если ты меня о чем-нибудь спросишь, все равно о чем, я отвечу!
— Да неужели? — усомнился Томоудзи.
— Ну тогда давай поспорим!
— Я ведь серьезным вещам не обучался и не знаю их, так мне и спросить тебя не о чем. Сделай милость, позволь спросить о том, что непонятно мне в каких-нибудь пустяках, не стоящих внимания.
Сукэсуэ воскликнул:
— Тем более! Из здешних-то глупых загадок я тебе любую растолкую в момент!
Собравшиеся вокруг них приближенные императора и фрейлины тут же порешили:
— О, это очень интересный спор! В таких случаях лучше всего спорить пред очами государя. Кто проиграет, должен устроить пирушку.
Государь пригласил их, и тогда Томоудзи проговорил:
— Правда, слыхивал я это еще с младенчества, а вот смысла до сих пор не знаю. Хочу спросить у тебя, объясни, пожалуйста, что это значит, когда говорят: «Ума-но кицурёкицу-ниноока, накакуборэирикурэндо?»[181]
Преподобный дайнагон сразу оторопел и сказал:
— Это такая глупая фраза, что не заслуживает того, что бы на нее тратили слова.
Томоудзи возразил на это:
— Но я с самого начала сказал, что не обладаю познаниями в мудрых учениях и спросить осмелюсь только о какой-нибудь глупости, — после чего дайнагон-нюдо был признан проигравшим и, как рассказывают, вынужден был согласно условию устроить отменный пир.
CXXXII
Однажды во время аудиенции лекаря Ацусигэ у покойного монаха-государя внесли августейшие яства. Увидев их, Ацусигэ почтительно обратился к его величеству со словами:
— Снизойдите спросить меня об иероглифических написаниях названий и о питательности всех яств, что находятся на внесенном сейчас столике. Я буду отвечать по памяти, а ваше величество проверять меня по фармацевтическим трактатам. Осмелюсь заметить, что не ошибусь ни разу.
В этот момент к государю вошел ныне покойный министр двора Рокудзё.[182]
— Мне тоже хотелось бы воспользоваться этим случаем и чему-нибудь поучиться, — сказал он и тут же задал вопрос: — Ну, во-первых, с каким ключом пишется иероглиф «соль»?[183]
— С вашего позволения, с ключом «земля», — ответил тот.
— О, вы уже блеснули ученостью! На сегодня довольно и этого. Больше вопросов не имею!
За этими словами последовал такой взрыв смеха, что лекарь поспешил ретироваться.
CXXXIII
Можно ли любоваться лишь вишнями в разгар цветения и полной луной на безоблачном небе? Тосковать по луне, скрытой пеленой дождя; сидя взаперти, не видеть поступи весны — это тоже глубоко волнует своим очарованием. Многое трогает нас и в веточках, что должны вот-вот распуститься, и в садике, что осыпается и увядает.
В прозаических вступлениях к стихам пишут: «Я пришел любоваться цветами, а они давным-давно осыпались» — или: «Не пришел любоваться цветами из-за такой помехи». Чем это хуже вступления: «Любуясь цветами…»? Мне понятно пристрастие к любованию осыпающимися цветами или луной, что клонится к закату, но подчас встречаются безнадежные глупцы, которые говорят: «Осыпалась эта ветка и та. Нынче уже любоваться нечем».
Все на свете имеет особенную прелесть в своем начале и в завершении. А любовь между мужчиной и женщиной — разве она в том только, чтобы свидеться? Любовь — это когда с горечью думаешь, что время прошло без встречи; когда сожалеешь о пустых клятвах; когда одиноко проводишь долгие ночи; когда думаешь лишь о любимой, далекой как небо; когда в пристанище, заросшем вокруг камышом, тоскуешь о былом.
Глубже, чем полная луна на безоблачном небе, что глядится вдаль на тысячи ри, трогает за душу лунный серп, взошедший в предвестье близкого рассвета. Ничто не чарует более, чем бледный луч его, когда он проглядывает сквозь верхушки криптомерии в диких горах или спрятался за быстро бегущую стайку туч, что брызжет на нас мимолетным дождем. Когда лунный свет переливается на увлажненной листве буков и дубов, он проникает в сердце, он приносит тоску по душевному другу, по столице.
Но вообще-то луна и цветы заслуживают не только любования. Ведь даже думать о них весной, не выходя из дому, а лунной ночью затворившись в спальне, сладко и привлекательно.
Благовоспитанный человек никогда не подаст виду, что он страстно увлечен чем-то, у него не заметишь интереса к чему-либо. Но кто бурно изливает чувства по всякому поводу, так это житель глухого селения. Он проталкивается, пролезает под самое дерево, усыпанное цветами; уставившись на цветы, глаз с них не сводит; пьет сакэ, сочиняет стихотворные цепочки рэнга, а под конец, ничтоже сумняшеся, ломает для себя самую крупную ветвь. В источник он погрузит руки и ноги; по снегу он непременно пройдет, чтобы оставить следы, — ничем он не может любоваться со стороны.
Очень странное зрелище являют подобного рода люди, когда они наблюдают за празднеством.
— Зрелище слишком запаздывает, — говорят они, — и пока нет нужды оставаться на помосте, — после чего идут в помещение, пьют сакэ, закусывают, развлекаются игрой в иго и сугороку, а караулить процессию оставляют на помосте человека, и как только он закричит: «Идет!» — все вскакивают, будто у них раскрошилась печень, и наперегонки, чуть не сбивая друг друга с ног, взлетают на помост, толкаются, колыша бамбуковую штору пред помостом, впиваются в улицу глазами: как бы чего не пропустить! — о каждом посплетничают: кто да что. А когда процессия проходит, говорят: «Теперь до следующей» — и спускаются вниз. Вероятно, главное для них — поглазеть на что-нибудь, и только.
Вельможный житель столицы, напротив того, вид имеет сонный и на это как следует не смотрит. Молодые люди низшего сословия, те, кто является сюда исполнять обязанности, или те, кто сопровождает кого-нибудь, никогда не высунутся до неприличия вперед; никто из них не рвется без толку глазеть на зрелище.
Мальва, которой увешано вокруг все без разбора, прелестна, но, пока еще не наступил рассвет, все сгорают от любопытства: чьи повозки, что прибывают сюда под покровом темноты; гадают, чья, интересно, та, а чья эта. И вот уже можно распознать и бычников и слуг. Любуясь на то, как прибывают самые разнообразные экипажи и люди — то изящные, то пышные, не заскучаешь.
По мере того как спускаются сумерки, и повозки, выстроенные рядами, и люди, стоящие тесной толпой, начинают куда-то исчезать. Вскоре толпа редеет, стройные ряды повозок приходят в беспорядок, приезжие разбирают себе для устройства на ночлег бамбуковые шторы и циновки, а все вокруг утихает и смолкает. Размышлять над этим, узнавать здесь прообраз мирской суеты и бренности. В этом тоже таится очарование. Наблюдать за главной дорогой столицы — это наблюдать за праздником. Среди тьмы людей, что ходят взад-вперед перед помостом, встречается такое множество знакомых, что кажется, будто даже во всем мире людей не так много, как здесь. Но если мы решим, что сами должны будем умереть только после того, как потеряем их всех до одного, то этого нам долго ждать не придется.
Когда, наполнив водой большой сосуд, мы сделаем в нем крохотное отверстие, то, как бы ни скудно капала из него вода, если она будет сочиться беспрерывно, в конце концов должен будет иссякнуть. В столице полно народу, и не бывает дня, когда бы кто-нибудь не умер. И не всегда по одному или по двое в день. В иные дни не только на Торибэно и Фунаока, но и на другие кладбища приносят очень много усопших, а таких дней, когда бы никто не умирал, не случается. Следовательно, не бывает и случаев, когда бы изготовленные гробы остались лежать без спроса.
Смертный час — он приходит нежданно, невзирая на то что ты молод, что еще полон сил. Поразительно еще, как мы избегали его до сих пор. Разве можно хотя бы на минутку легкомысленно отнестись к этой жизни?
Это похоже на фигуру под названием «пасынки», которую сооружают из шашек. Пока эти шашки выстраивают в ряд, никто не знает, какую именно взять первой, но как только, отсчитав нужное число, одну из них берут, мы сразу видим и остальные, а отсчитав еще и еще раз, начинаем вытаскивать шашки одну за другой, пока их не останется вовсе.
Когда воин, идущий в сражение, знает, что смерть его близка, он забывает о семье, забывает и о самом себе. Очень недолговечен и тот, кто, покинув суетный мир, затворившись в хижине, сплетенной из травы, и мирно наслаждаясь ручейком и камешками на дне его, считает, что все это обойдет его стороной. Разве не может враг по имени быстротечность, то есть смерть наша, нагрянуть в глубину спокойных гор? Глянуть в лицо смерти отшельник может наравне с воином, не покидающим ратного стана.
CXXXIV
Один вельможа, считая, что коль скоро празднества прошли, то оставшиеся мальвы никому не нужны, приказал убрать все их стебельки, что были развешаны на шторах в его доме. Такие поступки я всегда считал продиктованными безвкусицей, но так как здесь был человек с тонким пониманием, я подумал: «А может быть, так и следует?» Однако Суо-но-найси[184] писала
Хоть и висят они, Но уже бесполезны Все вместе На шторах Увядшие мальвы цветы. (Хоть и тоскую я, Это уже бесполезно — Вместе с любимым Ничем нам не любоваться, День нашей встречи далек.)Стихи эти, посвященные увядшим лепесткам мальвы, висящей на шторах спальной, вошли в сборник стихов поэтессы. Кроме того, в пояснении к одной старинной песне сказано: «Ее послали, прикрепив к увядшей мальве».
В «Записках у изголовья» написано: «То, что дорого как воспоминание — засохшие листья мальвы». Мне эти слова кажутся бесконечно близкими. Камо-но Тёмэй в «Повести о четырех временах года»[185] также писал:
На яшмовых[186] шторах остались От праздника мальвы цветы.Как же можно без сожаления выбросить вон цветы, которые даже при увядании вызывают такие чувства? Поскольку говорят, что целебные кусудама,[187] висящие на занавесях в знатных домах, меняют на хризантемы в девятый день девятой луны, то и ирисы следует оставлять до праздника хризантем. После кончины Бива — августейшей супруги — кормилица Бэн[188] увидела, что ирисы и целебные шары на старинных шторах завяли. Она произнесла:
Здесь корни ириса висят, Не к этому случаю сорванные.Фрейлина Ко-но-дзидзю[189] в ответ ей сложила такие стихи:
Стебли ириса Все те же, что и прежде…CXXXV
Деревья, которые хочется иметь возле дома, — это сосна и вишня. Из сосен хороша и пятилистница. Цветы хороши простые. Прежде махровые вишни разводили лишь в столице Нара, а в наше время они распространились очень широко. Цветы вишни с горы Ёсино и «ближняя левая» вишня[190] — относятся к простым.
Махровые же вишни принадлежат к особому сорту. Они навязчиво причудливы. Лучше их не сажать. Поздние сорта вишни также лишены интереса: цветы, попорченные гусеницами, неприятны.
Сливы хороши и белые и бледно-алые. Простые сливы рано зацветают, а алые махровые сливы чаруют своим ароматом. Поздние сливы не пользуются успехом. Они цветут в одно время с вишнями, однако ценятся меньше их, их подавляет цветение вишни; лепестки их держатся на ветках еле-еле. «Простые сливы раньше всех зацветают и осыпаются, они всегда спешат — и тем интересны», — сказал Кёгоку-нюдо-тюнагон,[191] сажая возле фасада своего дома еще и простые сливы. У южной стены дома Кёгоку и поныне растут два дерева.
Ивы тоже интересны. А молодой клен где-нибудь в месяце цветка У[192] прекрасен: своей красотой он превосходит все — любые цветы и багряные осенние листья. А если взять апельсиновое или коричное дерево, они хороши, когда стары и велики.
Луговые цветы — это желтая роза, глициния, ирис, гвоздика. В прудах — лотос. Осенние травы — тростник, эвлария, колокольчик, петушечник, валериана, репейник, астра, бедринец, карукая,[193] гречавка, хризантема или желтая хризантема, плющ, лоза, вьюнок. Хорошо, когда все они растут на не слишком высокой, скромной изгороди и не густо.
Другие же травы — те, что встречаются редко, чьи названия режут слух непривычными китайскими созвучиями или чье цветение трудно увидеть, — не так интересны. По большей части редкие, необычные цветы, как и все прочее в этом роде, возбуждают крайний интерес лишь у людей с дурным вкусом. Лучше обходиться без таких вещей.
CXXXVI
Оставлять после своей смерти имущество — недостойно мудреца. Накапливать плохие вещи — нелепо, к хорошим же вещам — жаль привязываться. Тем прискорбнее, когда их очень много.
Совершенно непристойно, когда потом у людей вспыхивает перебранка: «Это я должен получить!» Если у вас есть что оставить кому-нибудь после своей смерти, лучше всего отдать это еще при жизни. Желательно пользоваться лишь тем, без чего нельзя обойтись каждодневно, и, кроме этого, ничем себя не обременять.
CXXXVII
Преосвященный Гёрэн из храма Печальных Полей,[194] мирским именем которого было, кажется, Миура, был непревзойденным воином. Однажды к нему пришел земляк и в разговоре сказал:
— На то, что скажет житель восточных провинций, можно смело положиться. А столичные жители хороши лишь на посулы, правды от них не жди.
Мудрейший принялся втолковывать ему:
— Вот ты уверен, что это так и есть, а я, прожив долго в столице, попривык к ним, присмотрелся и теперь вовсе не считаю их хуже других. В душе все они очень мягкосердечны, поэтому им трудно бывает решительно возражать против того, что говорят другие; у них не хватает духу высказаться до конца, и по слабости характера они с тобой соглашаются. Я не думаю, чтобы они хотели кого-то обманывать, но, поскольку это сплошь и рядом люди бедные, невезучие, они часто поступают не так, как хотели бы сами. Жители восточных провинций — мои земляки. Но уж если сказать по правде, они невежливы, скупы на ласку, да и прямолинейны, поэтому как скажут с самого начала «нет», то как отрежут. Однако люди они все зажиточные, крепкие, и положиться на них можно.
Мудрец этот отличался грубым, просторечным выговором, по каковой причине все полагали, что он, наверное, не очень тверд в тонкостях учения мудрецов. Однако после одного этого высказывания к нему настолько прониклись уважением, что из многих других монахов выбрали его настоятелем храма. Это навело меня на мысль о том, что такая вот спокойная рассудительность и приносит пользу.
CXXXVIII
Бывает, что человек, который всем кажется бесчувственным, скажет доброе слово. Некий устрашающего вида дикий варвар спросил однажды своего соседа:
— Детишки-то у вас есть?
— Нет, ни одного нету, — ответил тот, и тогда этот дикарь заметил ему:
— Ну, тогда вряд ли вам дано знать очарование вещей. Я очень опасаюсь, что вашими поступками движет бесчувственное сердце. Всякое очарование можно постичь лишь через детей.
И по-видимому, это действительно так. Вряд ли у человека, не знающего душевной привязанности, есть в сердце чувство сострадания. Даже тот, кто сам не испытывал чувства сыновнего долга, начинает познавать думы родителей, едва только он обзаводится детьми. Человек, отказавшийся от суетного мира, ничем на свете не обременен, однако и он не должен относиться с презрением к тем, кто по рукам и ногам связан семейной обузой, видя в них одну только лесть и алчность.
Если мы поставим себя на их место, то поймем, что действительно ради любимых родителей, ради жены и детей можно забыть стыд, можно даже украсть. Следовательно, вместо того чтобы хватать воров или судить за дурные поступки, лучше так управлять миром, чтобы люди в нем не терпели голода и холода. Человек, когда он не имеет установленных занятий, бывает лишен свойственного ему благодушия. Человек, доведенный до крайности, ворует. Если мир будет плохо управляться и люди будут мучиться от голода и холода, преступники не переведутся никогда.
Доставляя людям страдания, их толкают на нарушение закона, а затем вменяют им это в вину — вот что печально.
Итак, каким, спрашивается, образом сотворить людям благо? Не может быть никаких сомнений в том, что низшим слоям будет на пользу, если высшие прекратят расточительство и излишние расходы, станут жалеть народ и поощрять земледелие. Если же случится, что люди, обеспеченные одеждой и пищей, все-таки будут совершать дурные поступки, — их-то и надобно считать истинными ворами.
CXXXIX
Когда слушаешь, как люди рассказывают о том, что вид кончины человека был прекрасен: «Он был спокоен и невозмутим», — то испытываешь почтение. Глупцы присовокупляют к этому россказни о чем-нибудь странном и необычном, хвалят и речи, и поступки усопшего, соответственно тому, что нравится им самим, но всегда в таких случаях чувствуется, что это все не может ладиться с последними помыслами того человека.
Кончина — великое событие, и оно не поддается определению ни перевоплотившемуся в облике человека Будде, ни ученому мужу. Если ты сам следуешь правильной стезе, тебе нет дела до того, что видят и слышат другие.
CXL
Рассказывают, что однажды высокомудрый Тоганоо, идя по дороге, увидел мужчину, который купал в реке коня, приговаривая: «Аси, аси!» — «Ногу, ногу!»[195] Высокомудрый остановился и вопросил:
— О, как это благородно! Вот человек, развивший добродетели прежнего своего существования. Разве не говорил он сейчас: «А-дзи, А-дзи»?[196] Кому же принадлежит сей конь? Его хозяин, надо полагать, весьма почтенный господин?
— С вашего позволения, это конь господина Фусё,[197] — ответил мужчина.
— Как это великолепно! Выходит совсем а-дзи-хон фусё — «Ничто не рождается и не уничтожается». Вы, значит, и есть тот, кто наследовал счастливое воздаяние за прошлое! — сказал старец, утирая слезы умиления.
CXLI
Императорский телохранитель Хада-но Сигэми сказал как-то о страже северной стены императорского дворца, Сингане, монахе в миру из провинции Симоцукэ:
— Вот человек, вид которого говорит, что он упадет с коня. Будьте очень осторожны!
Никто этому не поверил, тогда как Синган действительно упал с коня и разбился насмерть. И люди решили, что всякое слово того, кто достиг совершенства на данном поприще, подобно слову богов. Тогда кто-то спросил телохранителя:
— Что же за вид у него был?
— У него же был зад персиком,[198] и при этом покойный любил норовистых коней, поэтому я и сказал так о его виде. Разве я ошибся? — ответил тот.
CXLII
Встретив физиономиста, Мёун-дзасу[199] осведомился у него:
— Не пострадаю ли я случайно от оружия?
— Действительно, — отвечал физиономист, — такие признаки есть.
— Что же это за признаки?
— В вашем сане не следует опасаться быть раненым, и все же вы, пусть на миг, но задумались об этом и спросили меня. Уже это и является предзнаменованием такой опасности, — услышал он в ответ.
И действительно, он погиб, пораженный стрелой.
CXLIII
В последнее время люди стали говорить, что, так как появилось много мест, где лечат прижиганием, пятна от него можно увидеть даже на синтоистских богослужениях. О таких вещах ничего не сказано в Законоположениях.
CXLIV
Если, делая прижигания человеку старше сорока, не прижгут ему коленные впадины, у него случаются головокружения. Нужно их непременно прижечь.
CXLV
Нельзя нюхать панты,[200] прикасаясь к ним носом. Говорят, что там есть маленькие насекомые — они вползают в нос и истачивают мозг.
CXLVI
Обычно говорят: «Человек, вознамерившийся приобщиться к искусству, не должен посвящать необдуманно в это других, пока еще не может делать своего дела хорошо, Когда тайком, обучаясь с усердием, добьешься своего и выдвинешься, тебя премного вознесут». Однако же люди, которые так рассуждают, как правило, не способны обучиться ни одному виду искусства.
Если человек еще с той поры, когда он совершенно неопытен, придет к тем, кто искусен, и, не стыдясь ни поношений, ни насмешек, невозмутимо станет упражняться, совершенствуясь, — то пусть даже и не дано ему врожденного таланта, — когда он проведет годы, день ото дня более искушаясь в своем деле и не проявляя к нему небрежения, в конце концов он достигнет более высокой ступени умения, нежели одаренные, но небрежные, добьется признания как человек высокого достоинства и удостоится несравненного имени.
Даже искуснейшие мастера Поднебесной поначалу и сносили толки о несовершенстве, и страдали немалыми изъянами. Однако люди эти были неукоснительны в установлениях Пути, почитали их и сдерживали свои прихоти, — вот они и стали всемирными учеными и наставниками несметного множества людей. Так бывает всегда, и от выбора поприща это не зависит.
CXLVII
Некто сказал так:
— Искусства, в которых мастерство не достигнуто и к пятидесяти годам, следует оставить. Тут уже некогда усердно трудиться. Правда, над тем, что делает старец, люди смеяться не могут, но навязываться людям тоже неловко и непристойно. Но что благопристойно и заманчиво — это, начисто отказавшись от всяческих занятий, обрести досуг. Тот, кто проводит свою жизнь, обременившись житейской суетой, тот последний глупец. Если что-то вызывает ваше восхищение, нужно бросить это, не входя с головой в постижение предмета, едва только вы узнаете смысл его, пусть даже понаслышке. Но самое лучшее — это бросить занятия с самого начала, когда еще не появилась тяга к предмету.
CXLVIII
У высокомудрого Дзёнэна из храма Сайдайдзи[201] была согбенная спина, совершенно седые брови и вид, воистину говорящий об обилии добродетелей. Однажды старца пригласили ко двору. При взгляде на него господин Внутренний министр Сайондзи[202] воскликнул:
— О, какой благородный у него вид! — и проникся к монаху благоговением.
Заметив это, князь Сукэтомо[203] сказал:
— Это все из-за преклонного возраста.
Как-то после этого Сукэтомо притащил лохматую собаку, страшную, тощую и облезлую от старости, и поволок ее к министру, говоря:
— Ну чем у нее не благородный вид?
CXLIX
Когда арестовали монаха, в миру Тамэканэ-но-дайнагона, и в оцеплении воинов препровождали в Рокухара,[204] где-то в окрестностях Итидзё его встретил князь Сукэтомо. Он изволил промолвить:
— Завидная участь! Именно такие воспоминания об этом мире хочется иметь.
CL
Однажды тот же Сукэтомо укрывался от дождя в воротах Восточного храма.[205] Там собралось много нищих, у которых были уродливо скрючены, искривлены или вывернуты руки и ноги. Увидев этих людей, он было подумал: «Это — диковины, каждая из которых не имеет себе равных. Они достойны всемерного восхищения».
Однако по мере того, как вельможа всматривался в калек, исчезал и его интерес к ним, и он, вдруг почувствовав глубокое отвращение, подумал: «Люди должны выглядеть обычно, а не казаться диковинами», — и ушел домой. После этого он потерял интерес и к своим насаждениям, решив: «В наше время стараться из любви к садовым деревьям скручивать и надламывать ветки, чтобы придать им причудливые формы и тем тешить свой взор, — это все равно что питать пристрастие к любованию такими вот калеками», и приказал вырвать и выбросить вон все деревца, посаженные в горшках. И это тоже поступок похвальный.
CLI
Человек, который собирается следовать мирским обычаям, прежде всего должен знать, что такое подходящий случай. Дело, предпринятое в неподходящий момент, душе людей претит, слышать о нем противно, и оканчивается оно ничем. Такие моменты надо уметь угадывать. Подходящего случая нельзя выбрать лишь для болезни, для рождения ребенка и для смерти. Здесь хоть и знаешь, что случай неподходящий, дела не остановишь.
Истинно великие события, знаменующие такие перемены, как рождение, жизнь в этом мире, тяжкий недуг и смерть, подобны бурной реке, что течет, затопляя берега. Они не задерживаются ни на миг, а надвигаются и приходят неотвратимо.
Поэтому, когда ты задумаешь непременно свершить некое дело — духовное или мирское, нельзя говорить о подходящем случае. Здесь не место колебаниям, здесь не годится топтаться в нерешительности.
Никогда не бывает так, чтобы лето наступало после того, как пройдет весна, а осень приходила, когда кончится лето. Весна в своем разгаре уже рождает признаки лета, уже с лета подступает осень, а осенью, когда делается холодно, среди десятой луны наступает «малая весна», зеленеет трава, сливы покрываются бутонами.
Так же и с листопадом: почки распускаются не после того, как облетит листва, — лист опадает лишь тогда, когда его выталкивает вылезающая из-под него почка. Приветствующие ее силы поддерживают почку изнутри, поэтому ожидаемый черед наступает скоро.
А взаимная смена рождения, старости, болезни и смерти случается и того скорее. У четырех времен года тоже есть свой установившийся черед. Только смерть не ждет своего череда. Впереди смерть никогда не подходит, она всегда наседает сзади. Люди все знают, что на свете бывает смерть, но приходит она негаданно, когда ее не ждут так скоро. Сколь далеко ни простирается в открытое море сухая отмель, но и ее скрывает приливная волна, отхлынувшая вдруг от берега.
Так заведено, что для проведения пиршества по случаю назначения министра испрашивают соответствующее помещение. Левый министр из Удзи[206] устраивал его в Павильоне трех восточных дорог.[207] Поскольку он обратился с просьбой о том помещении, где находилась резиденция, его величество изволил отбыть в другое место.
Даже если бы министр не был родственником матушки государя, он поступил бы так же. Говорят, существует старинный обычай испрашивать помещение монашествующей императрицы.
CLII
Когда берешь кисть, хочется что-нибудь написать; когда берешь музыкальный инструмент, хочется извлечь из него звук. Когда берешь рюмку, думаешь о сакэ; когда берешь игральные кости, думаешь, как их бросить. Обстоятельства непременно рождают стремления, поэтому не следует даже на короткое время предаваться нехорошим забавам.
Если мельком взглянуть на одну какую-нибудь фразу из учения мудрецов, то в поле зрения невольно попадает текст до и после нее. Случается, что благодаря этому мы вдруг исправляем многолетнюю ошибку. Разве узнать бы нам о ней, если бы мы теперь на минутку не раскрыли этого писания? Следовательно, есть польза от такого соприкосновения.
Пусть даже ничуть не пробуждается твое сердце, но если ты, находясь пред Буддой, возьмешь четки и сутры, то, как бы нерадив ни был ты, все равно сам по себе настроишься на добрые поступки, как бы смятенна ни была твоя душа; если ты сядешь на веревочное ложе, все равно, не думая ни о чем, должен будешь достигнуть отрешенности.
Восприятие явления и сущность его — это не две абсолютно разные вещи. Если не отклоняешься от Пути во внешних проявлениях, в тебе непременно созревает способность проникновения в истину. Неверия выражать нельзя. Надо положиться на этот закон и уважать его.
CLIII
— Как вы понимаете «выплескивание со дна бокала»? — спросил меня один человек.
— Это называют гёто — «сгуститься на дне». Очевидно, имеется в виду выплеснуть то, что сгустилось на дне бокала, — ответил я, но собеседник возразил на это:
— Нет, это не так. Здесь гёто — «рыбный путь»: оставить в бокале немного влаги, чтобы омыть его края, которые прикладывают к губам.
CLIV
— То, что мы называем минамусуби[208] зовется так потому, что плетение нитей в нем похоже на раковину мина,[209] — сказал мне один знатный человек.
Говорить нина неверно.
CLV
Пожалуй, нехорошо, когда вместо «прикреплять на воротах табличку» говорят «прибивать». Чиновник второго ранга — монах Кадэнокодзи[210] говорил: «Прикреплять табличку».
Нехорошо также, пожалуй, когда говорят «сколотить помост» для зрелищ. Обычно скажут «сколотить навес», а о помосте следует говорить: «устроить помост».
Плохо также звучит «жечь гома». Лучше сказать «заняться гома» или «совершать гома».[211]
— Неправильно в слове гёбо[212] слог бо произносить глухо, как хо. Он произносится звонко, — говорил настоятель храма Чистого Покоя.[213]
В обыденной речи такого рода ошибок встречается много.
CLVI
Одни говорят, что цветение вишен начинается через сто пятьдесят дней после зимнего солнцестояния, другие — на седьмой день после весеннего равноденствия, однако большей частью оно падает ровно на семьдесят пятый день от начала весны.
CLVII
Монах-служка при храме Повсюду Сияющего[214] долгое время подкармливал на пруду диких гусей. Однажды, насыпав приманки до внутренних помещений пагоды, он открыл одну из ее дверей и, после того как туда набралось несчетное множество птиц, вошел к ним сам, притворил дверь и бросился ловить и умерщвлять их.
Страшный гвалт, поднятый гусями, услышал мальчик, косивший поблизости траву. Он сообщил об этом людям, и, когда из деревни прибежали и ворвались в пагоду крестьяне, они увидели, что в самую гущу отчаянно хлопавших крыльями больших гусей затесался молодой монах, который хватал их и откручивал им головы.
Монаха этого схватили и прямо с места отправили в сыскной департамент. Там его бросили в тюрьму, приказав повесить себе на шею всех убитых им птиц.
Это было во времена, когда управляющим департаментом был Мототоси-дайнагон.
CLVIII
Вопрос о том, писать ли иероглиф тай из сочетания тайсё[215] с точкой или без точки, явился как-то предметом спора между чиновниками из ведомства Темного и Светлого начал. Монах, в миру Моритика,[216] сказал тогда:
— У канцлера Коноэ имеются записки, начертанные на обратной стороне гадательного текста кистью самого Ёсихира.[217] Там этот знак написан с точкой.
CLIX
Встретившись друг с другом, люди не молчат ни минуты, непременно находят слова. Но если послушаешь их разговоры — большей частью это бесполезная болтовня. Мирские пересуды, похвалы и хула ближнего — и себе и другому приносят много вреда, мало толку. Когда двое болтают вот так, ни тот, ни другой в душе своей не подозревают, что это занятие никчемное.
CLX
Неприятно, когда жители восточных провинций смешиваются со столичными, когда столичные жители отправляются в восточные провинции делать карьеру и еще когда служители Ясного и Тайного учений,[218] расставшись с исконными храмами, исконными горами, отступают от своих обычаев и смешиваются с мирянами.
CLXI
Когда я наблюдаю дела, которыми поглощены люди, они напоминают мне статую Будды, вылепленную весенним днем из снега, для которой изготавливают украшения из золота, серебра, жемчуга и яшмы и собираются воздвигнуть пагоду. Можно ль будет благополучно установить эту статую в пагоде, если ждать, пока пагоду построят?
Человеку кажется, что он живет, между тем как жизнь его, подобно снегу, тает у самого своего основания, а человек еще ждет успеха, — и так бывает очень часто.
CLXII
По-моему, это очень плохо, хотя обычно так оно и бывает, что человек, посвятивший себя какому-то определенному виду занятий, наблюдая результаты мастерства в чужой ему области, говорит или думает про себя: «О, если бы это было моей стезей, я б не стал смотреть на это вот так, со стороны!» Если ты с завистью думаешь о неведомом поприще, лучше всего сказать: «Ах, как завидно! И почему я не обучился этому?»
Тот, кто спорит с другими, выставляя напоказ свой ум, подобен рогатому животному, что угрожающе наклоняет рога, и клыкастому хищнику, что обнажает стиснутые клыки. Для человека же добродетелью является не чваниться достоинствами и ни с кем не вздорить. Обладать чем-нибудь, дающим превосходство над другими, — большой порок. Человек, считающий, что он выделяется среди других тем, что высокороден, или тем, что превосходит их талантами, или тем, что славен предками, — даже если он никогда не говорит об этом вслух, — в душе совершает большую провинность. Нужно следить за собой и забыть об этом. Из-за одной лишь спеси люди часто выглядят дураками, подвергаются поношениям, вовлекаются в беду.
Тот, кто действительно, хотя бы на одном поприще, продвинулся вперед, сам ясно представляет свои недостатки и потому, не чувствуя, как правило, в душе удовлетворения, никогда и никому не станет хвастаться.
CLXIII
Когда человек преклонного возраста в какой-нибудь области обладает выдающимися талантами, то в том лишь случае можно считать, что он не зря прожил долгую жизнь, если о нем говорят: «У кого же мы будем спрашивать, когда этого человека не станет?»
Но пусть даже это и так, все-таки и он, не имеющий изъянов, кажется глупым, потому что истратил всю свою жизнь на одно-единственное дело. Лучше, когда он говорит: «Что-то я уже позабыл это».
По большей части бывает так: если человек знает много, но без меры болтает об этом, люди считают, что, пожалуй, за ним особых талантов и не водится. Да и сам он не может не допустить ошибки. А о том, кто говорит: «Я в этом не вполне разбираюсь», всегда думают, что в действительности-то он выдающийся мастер своего дела.
Тем более очень горько слушать, как человек, по положению и возрасту своему не допускающий возражения, с видом знатока говорит о неведомых ему самому вещах. Невольно думаешь: «Но ведь это же не так!»
CLXIV
— «Такая-то церемония» — подобных слов до времени августейшего правления императора Госага[219] не произносили. Так стали говорить уже в последнее время, — сказал мне один человек.
Однако Укё, дама из свиты монахини-императрицы Кэнрэй, вспоминая о том, как после восшествия на престол императора Готоба[220] она вновь поселилась во дворце, писала: «И хотя ничто не изменилось в церемониях, принятых в свете…»
CLXV
Нехорошо без дела приходить в чужой дом. Но даже если ты пришел по делу, следует возвращаться к себе тотчас же, как только с ним покончено. Когда засиживаешься, становишься в тягость. Если ты много с человеком болтаешь, то и тело утомляешь, и душе не даешь покоя. Тратить время в ущерб всем делам — обоим невыгодно.
Разговаривать с неприязненной миной тоже нехорошо. Если тебе что-то не по душе, сейчас же скажи почему.
Совсем другое дело, когда к тебе придет человек, с которым приятно посидеть. «Ну, еще немножко. Сегодня не будем торопиться», — говоришь ему, когда он начинает скучать. Каждый может иметь голубые глаза Юань Цзе.[221] Очень хорошо, если к тебе без особого дела зайдет приятель, спокойно обо всем переговорит и уйдет.
И еще приятно бывает получить письмо, где всего-то и написано, что: «Давно вы не давали о себе знать…»
CLXVI
Пока человек, покрывающий ракушки,[222] пропускает те, что у него под рукой, и, оглядывая остальные, снует глазами от рукавов к коленям соперника, ракушки, лежащие подле него, покрывает другой. Хороший игрок вроде бы и не особенно тщится достать ракушки противника: кажется, будто он покрывает лишь ближние, и тем не менее он покрывает много.
Когда, расставив фишки по углам доски для игры в го, ты делаешь ход, то не достигнешь цели, если при этом видишь только дальние фишки соперника. А если, хорошо посмотрев перед собой, ты сразу сделаешь ход в ближний «глаз мудреца», то обязательно настигнешь фишки противника.
В любом деле нельзя ничего добиваться, обратясь вовне себя.
Надлежит правильно делать то, что тебе ближе всего. Как говорил Цин Сяньгун,[223] «творя благо, не спрашивай о грядущем воздаянии». Не таков ли и путь управления миром? Если ты небрежен к владениям, легкомыслен, своенравен и нерассудителен, то дальние провинции непременно взбунтуются, и тогда ты впервые обратишься за советом. Получится вроде того, как сказано в медицинском сочинении: «Глуп тот, кто простудился и, лежа в сыром месте, молится об исцелении от недуга».
Когда же следуешь правильному Пути, устраняя страдания ближних и даруя милость, то невозможно предвидеть, сколь далеко распространится от этого благотворное влияние. Хотя, выступив в поход против саньямяо, Юй и заставил их покориться, он не добился того успеха, который имел, когда, повернув войско назад, стал распространять добродетель.[224]
CLXVII
Когда человек молод, горячая кровь переполняет его тело, сердце легко поддается любому влиянию, и в нем кипят страсти. За него боязно: он может легко расшибиться и этим напоминает драгоценный камень, который пустили катиться.
Юноша любит великолепие, проматывает богатство, потом облачается в отшельничьи одеяния из мха; в приливе душевной отваги он задирист с людьми, стыдлив и завистлив, его привязанности день ото дня меняются. Отдаваясь весь без остатка любви, переполненный чувствами, он совершает решительные поступки и, желая видеть примером для себя тех кто губит плоть свою, коей предопределено столетие, расстается с жизнью. Он совершенно не заботится о долгой жизни. Всей душой он отдается своим влечениям, и это для многих поколений становится темой разговоров.
Совершать ошибки — это особенность молодого возраста. Пожилой человек усмиряет желания, для него все просто, и он становится равнодушным, и ничем его не растрогать. Когда сердце само по себе успокоится, деяний идущих во вред себе, не совершишь. Спасая плоть, ты ни о чем не горюешь и тем лишь озабочен, чтобы не тревожили тебя другие.
В старости человек мудрее, чем в юном возрасте, подобно тому как в юности он совершеннее телом.
CLXVIII
Все, что касается личности Оно-но Комати,[225] крайне неопределенно.
Какой она была в пору своего заката, можно увидеть из сочинения под названием «Ювелирная». Существует мнение, что эту книгу написал Киёюки, однако она вошла в перечень творений Коя-но-дайси.[226] Дайси скончался в начале годов Дзёва.[227] Расцвет же Комати относится как будто к более позднему времени. Еще одна неясность.
CLXIX
Говорят, что если с собакой, великолепной в охоте на мелкую дичь, пойти на крупную, она станет плохо брать мелкую. Вообще оставить малое во имя большого — принцип поистине правильный.
Среди великого множества человеческих занятий ни одно не заключает в себе смысла более глубокого, чем наслаждение Учением. Это воистину великое дело. Так разве не бросит какое угодно занятие тот человек, который, однажды услышав об Учении, вознамерился постигнуть его? Сможет ли он заняться чем-либо еще? Возможно ли, чтобы человек, каким бы глупым он ни был, в душе своей был хуже пусть даже самой умной собаки?
CLXX
Много есть в мире непонятного. Непонятны, например, причины, по которым находят интерес в том, чтобы по любому поводу выставлять сакэ и принуждать напиваться им.
Лицо пьющего совершенно невыносимо: он страдальчески морщит брови, пытается исподтишка выплеснуть сакэ, норовит сбежать, но его хватают, удерживают, не в меру напаивают — и тогда даже сдержанный человек вдруг делается сумасшедшим и выглядит дураком, а совершенно здоровый на глазах превращается в тяжело больного и падает, ничего не соображая.
Так праздничный день делается отвратительным. У человека до рассвета болит голова, он ничего не ест, лежит, стеная; о вчерашнем ничего не помнит, как будто это было в другом перерождении. Он пренебрегает важнейшими делами — служебными и личными, — и это обращается ему во вред.
Навлекать такое на человека значит не иметь в душе сострадания и нарушать правила вежливости. Разве же не станет тот, кто столкнется с этакой напастью, думать о ней с горечью и негодованием? Скажи нам, что подобный обычай существует в другой стране, мы должны были бы найти его странным и непостижимым, когда б он не был принят у нас.
Тут больно смотреть даже постороннему человеку. Ведь даже люди, кажущиеся разумными, имеющие благородный вид, выпив, без видимой причины заливаются смехом и шумят, бывают многословны, не обращают внимания на то, что шляпа сбита набок, шнурки на платье развязаны, колени высоко задраны и оголены; в неряшливости своей они и сами на себя не похожи. А женщины откидывают со лба свалившиеся пряди волос, запрокинув бесстыжие лица, оглушительно хохочут, хватают других за руки, держащие бокалы с вином. Презренные типы берут закуску, суют ее другим в рот, жрут сами — это отвратительно.
Омерзительны и те, кто с удовольствием наблюдает, как пьяные что есть мочи голосят, как каждый из них поет и пляшет, а старые монахи, что приглашены на попойку, оголив свои черные грязные тела, безобразно извиваются в танце.
Иные же заставляют своих соседей выслушивать хвастливые россказни о собственном величии; иные, упившись, плачут; чернь переругивается и ссорится — это гадко и страшно.
Здесь творится лишь постыдное и достойное сожаления. А под конец, хватив лишнего, люди сваливаются с обрывов, падают с коней и повозок, ушибаются. Когда же ехать не на чем, то бредут по дороге, шатаясь из стороны в сторону, потом упираются в земляной вал или подворотню и изрыгают невыразимое; старые монахи с шарфами через плечо, вцепившись в плечо послушника, бредут, пошатываясь и бормоча нечто невнятное, — смотреть на них невозможно.
Ну, будь это занятие таким, которое бы в этой или будущей жизни приносило какую-то пользу, тогда бы делать нечего. Но в этом мире из-за него совершают множество ошибок, лишаются богатства, навлекают на себя болезни. Хотя сакэ и называют главным из ста лекарств, все недуги проистекают от него. Хотя и говорят, что из-за него ты забываешь свое горе, но именно пьяный, вспоминая даже прошлое горе, плачет. Если говорить о будущей жизни, то из-за сакэ человек лишается разума, оно, как пламя, сжигает корень добра, увеличивает зло и, ломая всяческие заповеди, повергает человека в преисподнюю. Ведь проповедовал же Будда, что «тот, кто взяв вино, поит другого человека, в течение пятисот перерождений родится безруким существом».
Но несмотря на то что мы считаем вино таким противным, бывают случаи, когда и самим нам трудно от него отказаться. В лунную ли ночь, или снежным утром, или же при распустившихся цветах сакуры, безмятежно разговаривая, достать бокалы — занятие, усугубляющее всякое удовольствие. Если в тот день, когда тебя одолевает скука, к тебе неожиданно приходит друг, то приятно бывает и пирушку устроить.
Очень хорошо, когда в доме, где вы чувствуете себя не совсем удобно, какое-то прелестное существо протягивает вам из-за бамбуковой шторы фрукты и вино. Зимою бывает очаровательно где-нибудь в тесном помещении подогреть на огне сакэ и наедине с задушевными друзьями пить его вволю. А во время путешествия на стоянке где-нибудь в глухих горах неплохо выпить прямо на дерне, говоря: «А что у нас на закуску?» Очень хорошо также выпить для восстановления сил тяжелобольному. Особенно приятно, когда знатный человек обращается к себе: «Ну еще по одной: этого мало!» А еще приятно, когда человек, с которым хочешь сблизиться, — любитель выпить и близко с тобою сходится.
Что ни говори, а пьяница — человек интересный и безгрешный. Когда в комнате, где он спит утром, утомленный попойкой, появляется хозяин, он теряется и с заспанным лицом, с жидким узлом волос на макушке, не успев ничего надеть на себя, бросается наутек, схватив одежду в охапку и волоча ее за собой. Сзади его фигура с задранным подолом, его тощие волосатые ноги забавны и удивительно вяжутся со всей обстановкой.
CLXXI
Куродо, Черная дверь, — это комната, в которой император Комацу,[228] уже будучи коронованной особой, обычно занимался собственноручным приготовлением пищи — любимым своим делом, не забытым его величеством еще с тех далеких времен, когда он был просто принцем.
Говорят, что название «Черная дверь» эта комната получила из-за того, что прокоптела от очага.
CLXXII
Однажды, когда у принца Камакура-но-тюсё играли в кэмари,[229] прошел дождь, после которого во дворике никак не просыхала грязь. Стали обсуждать, как быть. И тут-то монах, в миру Сасаки-но Оки,[230] нагрузил в тележку опилок и, поскольку их оказалось достаточно, покрыл ими весь дворик, так что грязь перестала мешать игре. Все решили, что предусмотрительность, благодаря которой опилки оказались под рукой, была редкостной.
Когда один человек рассказал об этом случае, Ёсида-но-тюнагон[231] изволил заметить:
— Однако никто не позаботился о сухом песке! — И рассказчику стало совестно. Опилки, которые ему только что казались изумительными, представились никуда не годными.
Ведь говорят, существует старинное правило: людям, которым поручено следить за порядком во дворике, надо запасаться сухим песком.
CLXXIII
Слуги из одного дома, увидев однажды священные танцы кагура в Найсидокоро,[232] рассказывали людям:
— А какой-то человек был опоясан священным мечом![233]
Услышав этот разговор, одна из придворных дам после по секрету рассказывала:
— При выходе в Отдельном павильоне его величество был с мечом из Полуденных покоев.
Как это тонко!
Говорят, будто эта дама была старой фрейлиной.
Высокомудрый Догэн — шрамана, ходивший в страну Сун, — привез свитки «Всех сутр»[234] и поместил их в местности, называемой Якэно, поблизости от Рокухара. Там он особенно ревностно объяснял сутру Сюрёгон, и храм нарекли храмом Наранда.[235] Мудрец сей говорил когда-то:
— Люди, ссылаясь на мнение Косоцу, передают, будто главные ворота в индийском храме Наланда обращены на север, однако этого не видно ни из «Записок о путешествии на запад»,[236] ни из «Биографии Фа Сяня». Там нет и намека на это. Я понятия не имею, на каких таких сведениях основывался Косоцу[237] в своих утверждениях. Вот что храм Западного Просветления[238] в Китае обращен к северу, это бесспорно.
CLXXIV
Факелы сагитё[239] появились оттого, что стали возжигать молоточки, которыми бьют по мячу в первую луну, вынося их из павильона Истинного Слова в Парк Священного Источника.[240] Когда же поют: «В Пруду Исполнения Молений»,[241] то имеют в виду не что иное, как пруд в Парке Священного Источника.
Фурэ-фурэ, коюки, Тамба-но коюки! Падай-падай, снежок, Из Тамба[242] снежок! —поется в детской песенке. Снегопад напоминает просеивание истолченного риса, поэтому и говорят: «снежная крупа».
Говорить Тамба-но коюки — «Из Тамба снежок» неправильно, нужно говорить: тамарэ, коюки — «сугробами наваливай, снежная крупа!»
Один знаток говорил мне:
— Следует далее петь: каки-я ки-но мата-ни — «на заборы и развилки дерев».
Возможно, что эта песенка распевается с древнейших времен. В дневнике Сануки-но Сукэ[243] сказано, что, когда экс-император Тоба был ребенком, он любил напевать ее во время снегопада.
CLXXV
К высочайшему столу подали сушеного лосося, и один человек сказал по этому поводу:
— Вряд ли августейший вкусит столь презренное блюдо!
Услышав это, вельможный Сидзё-дайнагон Такатика[244] заметил:
— Допустим, что такая рыба, как лосось, и не годится в яства его величеству. Но что худого в сушеном-то лососе? Разве не вкушает августейший сушеной форели?
CLXXVI
Если бык бодается, ему обрезают рога; если лошадь кусается, ей обрезают уши, и этим отмечают животных. Когда этого не сделали, а кто-то пострадал, — вина хозяина.
Если собака кусается, ее не надо держать. Все это вменяется в вину хозяину и запрещено законом.
CLXXVII
Мать Токиёри,[245] владетеля провинции Сагами, звали монахиней Мацусита. Однажды она ожидала светлейшего к себе в гости, а черные от копоти сёдзи[246] оказались прорванными. Монахиня принялась собственноручно маленьким ножичком вырезать заплаты и заклеивать дырки. На это ее старший брат Ёсикагэ,[247] управитель замка, помогавший ей в тот день по дому, заметил:
— Оставь это мне: я распоряжусь, чтобы заклеил такой-то человек. Он в подобных вещах хорошо разбирается.
— Не думаю, чтобы тот человек проделал такую тонкую работу лучше монахини, — ответила она, продолжая кусочек за кусочком клеить дальше.
Ёсикагэ опять обратился к ней:
— Гораздо легче было бы заново оклеить всю поверхность. Неужели тебе приятно смотреть на эту пестроту?
— Я тоже считаю, что как-нибудь потом нужно будет переклеить все целиком, но на сегодня сойдет и так. Я нарочно решила залатать только те места, которые повреждены, чтобы они попали на глаза молодому человеку и он обратил на них внимание, — проговорила женщина.
Это были поистине удивительные слова.
Управляя миром, во главу угла нужно ставить экономию. Мацусита, несмотря на то что была женщиной, по уму годилась в мудрецы. И действительно: разве можно назвать простой смертной ту, что с детства воспитывала человека, ставшего опорой Поднебесной?
CLXXVIII
Управитель замка, губернатор провинции Муцу — Ясумори[248] был непревзойденным наездником. Однажды, увидев, как конь, которого ему выводили, подобрал ноги и разом перемахнул через порог, Ясумори сказал:
— О, это слишком горячий скакун! — и велел переложить свое седло на другого.
Но когда этот другой, вытянув ноги, задел ими за порог, Ясумори заявил:
— Он глуп, и с ним не миновать неприятностей.
Может ли быть столь осторожным человек, который не знает своего дела?
CLXXIX
Наездник по фамилии Ёсида говаривал так:
— Надо понять, что всякий конь силен и что силой человеку с ним не справиться. Если вы намерены объездить коня, то прежде всего вам следует хорошенько присмотреться к нему и узнать его сильные и слабые стороны.
Далее: если, после того как вы проверили, нет ли какой опасности в удилах и сбруе, у вас остаются сомнения, — вы не должны скакать на том коне. Тех, кто не забывает об этих предосторожностях, считают настоящими наездниками. Вот и весь секрет.
CLXXX
Какое бы поприще вы ни взяли, профессионал, пусть даже он будет и не очень искусен, при сравнении с любителем, хотя бы и большим умельцем, всегда выигрывает. Причина этого кроется в том, что первый занимается своим делом усердно, без небрежения и легкомыслия, второй же не бывает поглощен им без остатка. Это относится не только к изящным искусствам — в любом деле, любом занятии трудиться прилежно, невзирая на отсутствие таланта, — основа успеха. Но следовать собственным прихотям, полагаясь на мастерство, — основа неудачи.
CLXXXI
Некий господин, отдавая сына в монахи, напутствовал его:
— Занимаясь науками, постигай сущность причины и следствия, а читая проповеди, набирайся житейской мудрости.
И сын, чтобы стать, согласно родительскому наказу, проповедником, первым делом принялся обучаться верховой езде. «Когда я прослыву наставником, не имеющим ни паланкина, ни упряжки, — думал он, — будет, должно быть, нехорошо, если за мной пришлют коня, а я буду сидеть на нем, как собака на заборе, и упаду с него». Потом он стал обучаться стихосложению, решив, что верующие могут подумать о нем с пренебрежением, — мол, наставник ничего не смыслит в искусствах, — если им случится после службы угостить его вином.
Молодой человек все более и более входил во вкус этих двух занятий и, питая надежду стать замечательным мастером, все упражнялся в них, между тем как для штудирования проповедей времени не оставалось совсем, а годы его стали преклонными.
Это касается не только того монаха — люди в этом мире вообще склонны так поступать. Пока мы молоды, мы преуспеваем во всем, чем бы ни вздумали заняться, а потому, лелея в душе надежду когда-нибудь в отдаленном будущем и великие дела совершить, и к искусству приобщиться, и в науках продвинуться, к жизни своей относимся с крайним легкомыслием, распускаемся, отдаемся прежде всего заботам лишь о самых неотложных делах, что попадаются на глаза ежечасно, и вот проходят дни и месяцы, глядь — ты уже и состарился, так и не завершив ни одного дела. В конце концов ты и мастером не стал, и карьеры, о которой некогда мечтал, не сделал; тебя мучит раскаяние, однако тех лет уже не вернуть назад, ты двигаешься к гибели, как колесо, что, разогнавшись, скатывается по склону холма.
Поэтому-то занятия, которые пришлись тебе по душе, нужно тщательнейшим образом мысленно сравнить между собой и на всю жизнь определить, которое же из них самое достойное, а затем выбрать для себя ближайшую цель и целиком посвятить себя только одному делу, все же прочие навсегда выбросить из головы. Из великого множества дел, что являются нам ежедневно и даже ежечасно, заняться следует именно тем, которое сулит хотя бы на немного, но более пользы, нежели другие, а эти другие отбросить прочь, дабы сейчас же заняться самым главным.
Если ты всей душой привязался ко многим занятиям, так что не в силах оставить их, то не сможешь завершить ни одного дела. В этом мы уподобляемся игроку в го — он не сделает зря ни одного хода: сначала он выиграет темп, а затем жертвует малым числом фишек во имя большого. Пользуясь этим примером, можно сказать, что легко согласиться пожертвовать три фишки против десяти, но согласиться пожертвовать десять фишек против одиннадцати — трудно. Безусловно, выигрыш за тем, кто имеет перевес хотя бы в одну фишку, но игроку жаль отдавать десять фишек, тяжко обменивать их на фишки, сулящие немного выгоды. Когда у тебя в голове сидит лишь мысль о том, чтобы, не жертвуя одним, заполучить еще и другое, — это верный способ и того не получить, и это потерять.
Если бы столичный житель по какому-то срочному делу отправился в Восточные горы и, уже достигнув цели, вдруг подумал, что, пойди он в Западные горы, толку, вероятно, было бы гораздо больше, он должен, повернув от ворот, направиться в Западные горы. Иные думают так: «Уж раз я добрался сюда, то первым делом расскажу о своей цели. Ну, и так как срок мне не заказан, то насчет того дела, что в Западных горах, я решу, вернувшись домой». От этих мыслей — минутная распущенность, а стало быть, и распущенность всей жизни. Этого нужно опасаться.
Если задумаешь непременно совершить одно дело, то нечего жалеть, что отвергаешь остальные. Не надо стыдиться и людских насмешек. Не пожертвовав десятью тысячами дел, невозможно совершить одного значительного.
Как-то при большом собрании людей один человек сказал:
— Вот говорят: масуо-но сусуки и масоо-но сусуки — мискант с красной метелкой. Как правильнее сказать, знает со слов своего наставника мудрец из Ватанобэ.[249]
В этот момент шел дождь, и закононаставник Торэн,[250] который сидел здесь же, услышав эти слова, проговорил:
— Наверное, у кого-нибудь есть соломенная накидка и широкополая шляпа. Одолжите их мне! Я отправлюсь к мудрецу из Ватанобэ и попрошу научить меня, как правильно называть этот мискант.
— К чему такая спешка, — сказали ему, — вот перестанет дождик… — но закононаставник заявил в ответ:
— Так вы изволили сказать, что не к спеху? Но станет ли ждать вёдра жизнь человеческая? А если и я умру, и мудрец оставит этот мир, у кого же тогда вы осведомитесь об этом? — И, не теряя времени, он вышел из помещения, отправился к мудрецу и узнал у него, что хотел.
Так мне рассказали, и я посчитал это восхитительным и редкостным.
В сочинении, называемом «Беседы и суждения», тоже сказано: «Когда человек расторопен, успех ему обеспечен». Как Торэн, у которого возникли сомнения, пожелал узнать название мисканта, так же надо стремиться познать причины и возможность достижения просветления.
CLXXXII
Вы думаете: «Сегодня я займусь таким-то делом», но тут возникает какая-то другая неотложная работа, вы начинаете заниматься ею, и с тем проходит весь день. Тому, кого вы ждали, что-то помешало, а человек, которого вы и не думали просить, является; то, что вы надеялись сделать, не делается, зато вы с успехом выполняете работу, о которой и не помышляли. То, за что вы беспокоились более всего, не представило трудности, а дело, которое казалось легче легкого, оказывается очень хлопотным. То, что происходит с вами день за днем, совершенно не похоже на то, что было задумано. И так весь год. И точно так же всю жизнь.
Можно подумать, что все наши планы не сбываются. Но это не так: кое-что все-таки само по себе делается, как задумано, однако установить достоверно, что именно, трудно. Непреходящая истина — понять, что все неустойчиво.
CLXXXIII
Не годится мужчине обременять себя женой. Отрадно слышать слова вроде: «Он постоянно одинок». А для того чтобы презирать человека, нет ничего хуже, чем услышать о нем: «Такой-то пошел в зятья» — или: «Взял такую-то в жены, и теперь они живут вместе».
О мужчине часто говорят с пренебрежением: «Ничем не приметную женщину считает, наверное, премиленькой и связал с нею свою судьбу», а если она хорошенькая, обычно судят так: «Эту, должно быть, муж лелеет и дрожит на нею, как над домашним Буддой. Да, по правде сказать, оно и похоже».
Еще более печально, когда женщина заправляет всеми делами в доме. Горько видеть, как ребенку, что появляется на свет, она отдает всю свою любовь. А если посмотреть на женщину, которая после смерти мужа постриглась в монахини, постарела, то кажется, что и до смерти мужа она была жалкой.
Как бы хороша ни была женщина, но попробуй жить с нею с глазу на глаз с утра до ночи — и к ней не станет лежать сердце, ты возненавидишь ее. Да и для женщины это ни то ни се. А если жить отдельно, время от времени ненадолго наезжая к ней, то пусть пройдут месяцы и годы, привязанность никогда не исчезнет. Должно быть, испытываешь редкой силы чувство, когда заглянув к ней на минутку, остаешься ночевать.
CLXXXIV
Человек, утверждающий, что с приходом ночи все предметы теряют вид, достоин глубокого сожаления. Внутренняя красота, великолепие вещей во всей красоте проявляется только по ночам. Днем надо выглядеть просто и скромно, а ночью лучше одеваться пышно и ярко.
Внешность человека, если она и так хороша, при ночном освещении во сто крат лучше, а самый обыкновенный голос, если он слышится в сумраке ночи, возбуждает интерес, он прекрасен. И ароматы, и звуки природы по-настоящему прекрасны лишь в ночные часы.
Поистине бесподобно платье человека, что навещает вас за полночь, даже если ночь самая обыкновенная. Молодежь, то есть люди, которые на все обращают внимание и присматриваются друг к другу, не делает скидок на время суток, и потому даже ночью, когда уж, казалось бы, человек должен быть совсем непринужденным, она стремится строго следить за своей внешностью, не меньше, чем среди бела дня. Красивый мужчина с наступлением сумерек принимается делать прическу, а женщина с приходом глубокой ночи встает с постели, берет в руки зеркало, приводит в порядок лицо и выходит из дому. Это приятно.
К богам или Будде хорошо приходить ночью по тем числам, когда там нет людей.
CLXXXV
Невежда любит судить о других и полагает, что он не ниже их по способностям, но куда ему до этого! Дурак, который достиг большого мастерства в одной, например, только игре в го, видя, как умный человек беспомощен в этом искусстве, делает вывод, что тому вообще не тягаться с ним. И так в любой отрасли знаний: нет большей ошибки, чем считать, будто ты выше другого потому лишь, что он не знает тонкостей твоей специальности.
Если монах-книжник и отшельник-созерцатель посмотрят друг на друга придирчиво и один о другом подумает, что ему-де до меня далеко, оба они одинаково не правы. Того, что выходит за границы известного тебе, оспаривать нельзя и осуждать не годится.
CLXXXVI
В оценке, которую дает людям совершенно мудрый человек, ни малейшей ошибки быть не может.
Возьмем такой пример: допустим, кто-то перед всем честным народом несет заведомый вздор и обманывает людей. Есть люди, которые легко попадаются на его удочку и охотно верят, что он говорит сущую правду. А некоторые начинают верить ему настолько сильно, что старательнейшим образом раздувают эту ложь еще больше. Есть и такие, которым все безразлично, и они все слухи пропускают мимо ушей. Другие же, заподозрив, что здесь что-то неладно, думают про себя: «Вроде бы и поверить нельзя, и не верить нельзя».
А еще бывают люди, которые заглушают свои сомнения, полагая, что раз уж люди говорят, то вполне может статься, что так оно и есть. Иные же, лишь смутно кое о чем догадываясь, уже делают знающий вид и с умной миной кивают головами, понимающе ухмыляются, а сами ровным счетом ничего не знают. Кроме того, встречаются люди, которые, строя разного рода предположения, то вдруг думают, что может случиться и такое, то начинают сомневаться: возможно, мол, что это и ошибка.
Случаются и такие, кто, всплеснув руками, рассмеется: «Ну, а что в этом особенного!» А некоторые, несмотря на то что все досконально знают, ни словом об этом не обмолвятся; их не терзают сомнения, но они и не станут издеваться над лгунишкой, а точно так же, как и те, кто ни о чем не подозревает, пойдут его слушать. Иногда попадаются люди, которые с самого начала знают истинную цель этой лжи, но не пошевелят и пальцем, чтобы помешать ей, даже наоборот, всей душой сочувствуют тому, кто плетет небылицы, стараются помочь ему в этом.
Когда человек знающий слышит даже шутовские побасенки дурачков, то и по словам его, и по выражению лица можно понять, что он понимает все до мелочей. Более того, можно утверждать, что умудренный человек видит нас, заблудших, так, как видят предметы, лежащие на ладони.
Однако с подобными догадками не годится доходить до критики буддийских повествований.
CLXXXVII
Некий человек, проходя по тракту Кога-наватэ, с удивлением обнаружил, что мужчина, одетый в косодэ[251] и широкие шаровары, старательно моет в воде рисового поля деревянную статуэтку бодхисаттвы Дзидзо. Тем временем откуда-то появились два или три человека, одетых в охотничьи платья, и с возгласом: «О, да вы здесь!» — увели того незнакомца. Оказалось, что это был сиятельный министр двора Кога.[252]
А во времена душевного равновесия это был человек замечательный, достойный всяческого уважения.
CLXXXVIII
Когда священный ковчег, принадлежащий храму Тодайдзи, собрались из святилища Вакамия, что входит в состав Восточного храма,[253] вернуть на место, с ним отправились вельможи и сановники из рода Минамото. И тут господин Кога, который был тогда генералом, выехал вперед и принялся криками разгонять толпу перед процессией.
— Может быть, около самого-то храма и не полагается расчищать путь? — заметил ему Первый министр Цутимикадо.[254]
— Кому, как не воину, знать обязанности конвоя! — только и ответил на это генерал.
Позже, когда об этом случае зашла речь, он сказал: — Наш Первый министр «Извлечения из Северных гор» видел, а «Толкование Сайкю»[255] не знает. Ведь священный ковчег боится сонмища злых демонов и недобрых богов, поэтому есть особые причины расчищать путь перед ним именно при подходе к храму.
CLXXXIX
Термин «численно определенные» относится не только к храмовым монахам. В «Установлениях годов Энги» встречается формула: «численно определенные нёдзю».[256] Это прозвание относилось прежде ко всем служащим, число которых было строго установлено.
CXC
Достославные имена не ограничиваются сукэ; к именам достославным принадлежат также и сакан.[257] Это есть в «Кратком изложении важнейших принципов управления».[258]
CXCI
Гёсэн-хоин из Ёкава[259] говаривал так:
— Китай — страна мелодии, там нет ритмичной музыки. Япония — страна четкого ритма, где нет мелодичной музыки.
CXCII
У китайского бамбука лист узкий, у речного — широкий. В окрестностях императорских каналов растет речной бамбук, а поблизости от дворца Нидзю[260] — китайский.
CXCIII
Ступа[261] бывает или «отвлекающей путника», или «спешивающей всадника»: под горой ставится «спешивающая всадника», на горе — «отвлекающая путника».
CXCIV
Десятую луну называют каминадзуки — «месяц без богов», но нигде не написано, что во время десятой луны нужно избегать праздников. Из священных книг этого тоже не видно. Однако не обязано ли это название тому, что в десятую луну нет ни одного праздника в синтоистских святилищах?
Правда, есть предание о том, что в десятую луну все сонмище богов собирается у святилищ Дайдзингу, но оно безосновательно. Если бы так было на самом деле, то в Исэ десятая луна должна бы быть специально временем праздников, но и этого нет. Часты в десятую луну поклонения августейшего в святилищах, это верно. Но чаще всего они безуспешны.
CXCV
В наше время никто не знает, как вешался колчан в доме человека, отстраненного высочайшим повелением от должности.
Когда болел государь или повсюду в стране вспыхивала моровая болезнь, колчан подвешивали в алтаре святилища Годзё.[262] В Курама[263] есть святыня, называемая Юги-но мёдзин — Пресветлый бог с колчаном, к нему тоже крепили колчаны.
Если колчан, которым в былые времена опоясывался глава департамента дознаний, вывешивали на доме, входить туда воспрещалось. В наше время, когда обычай этот исчез, в таких случаях дом стали опечатывать.
CXCVI
Раньше прежде чем виновного высечь розгами, его подводили к станку для порки и привязывали. В наше время уже никто не разбирается ни в этих станках, ни в том, как привязывать к ним.
CXCVII
Сочинение под названием «Запись обетов, клятвенно произносимых наставниками» начал писать на горе Хиэйдзан высокомудрый Дзиэ.[264] Среди законодателей ни о каких «записях обетов» не было и речи. Во времена древних мудрецов управление осуществлялось безо всяких «записей обетов», это вошло в обычай лишь в последнее время.
И еще: в законах говорится, что вода и огонь не бывают грязными, грязным может быть лишь сосуд.
CXCVIII
Это случилось в те времена, когда его высочество Правый министр Токудайдзи стоял во главе департамента дознаний. Однажды во время заседания департамента, происходившего в Средних воротах, бык чиновника Акиканэ выпрягся, вошел в помещение и, поднявшись на возвышение для управляющего, улегся там, пережевывая свою жвачку.
Присутствующие решили, что это очень дурной знак, и заявили, что быка-де следует препроводить к чиновникам из Ведомства светлого и темного начал. Услышав это, отец Токудайдзи — Первый министр — заметил:
— А для быка нет никакой разницы, хорошо это или плохо. У него есть ноги, и не вольно ли ему взбираться куда вздумается? Такой непредвиденный случай — не причина для того, чтобы у несчастного чиновника отнимали его жалкого быка, на котором он случайно приехал на службу.
Тогда быка вернули владельцу, а циновку, на которой бык лежал, заменили. И как будто решительно никакой беды не стряслось.
Говорят же: «Если, встречаясь с бедой, ты не думаешь, что это беда, то она о себе и не напомнит».
CXCIX
Когда стали копать землю для закладки дворца Камэяма, то обнаружили бесчисленное количество огромных сплетенных в клубок змей. Признав их за божества сих мест, обратились за благоволением августейшего, и он вопросил:
— Как надлежит нам поступить?
На это все отвечали так:
— Ежели существа эти издревле правили здешними землями, то, пожалуй, и не следовало бы просто так откапывать и выбрасывать их вон без особой нужды.
Лишь один только этот министр почтительно молвил:
— Могут ли гады, что населяют подвластное августейшему царство, навлечь какое-либо бедствие при возведении императорских покоев? Боги же не ведают зла. Они не должны укорять нас. Их нужно всех откопать и повыбрасывать.
Тогда змей бросили в поток реки Оои. И беды опять не случилось.
СС
Когда хотят тесемкой перевязать свиток сутры, обычно делают так: обвязывают свиток крест-накрест, а конец продергивают под скрещением, поперек свитка. Если свиток в таком виде попадал на глаза Косюн-содзё из храма Кэгон,[265] он расшнуровывал его и перевязывал заново.
— Это сделано на новый лад, — говорил при этом старец, — очень плохо! Чтобы было красиво, надобно просто обмотать свиток, а конец тесьмы просунуть под завязку сверху вниз.
Он был древним старцем и хорошо в подобных делах разбирался.
CCI
Некий господин, оспаривавший право на чужое поле, проиграл тяжбу и с досады послал туда работников, повелев сжать его, а рис забрать. Жнецы, однако, начали убирать другое поле, лежавшее при дороге. Увидев это, кто-то им заметил:
— Но ведь это не то поле, из-за которого разгорелась тяжба. Почему же вы жнете здесь?
И работники ответили:
— Это верно: у нас нет основания жать здесь, но раз уж мы пришли вершить неправедное дело, так не все ли равно, где мы жнем?
Обоснование изумительнейшее!
ССII
Обычно только и говорят, что ёбуко-дори[266] — птица весенняя, но нигде в точности не сказано, что это за птица. В одной из книг секты Сингон расписано таинство вызова душ умерших, когда запевает птица ёбуко. Но там имеется в виду нуэ.[267] В одной нагаута[268] из «Собрания мириад листьев»[269] говорится о нуэ, поющей «долгим днем весенним, когда поднимается мгла…»… Образ нуэ похож здесь, мне кажется, на образ птицы ёбуко.
CCIII
Нельзя требовать всего. Глупцы негодуют и сердятся оттого, что чрезмерно полагаются на что-то. Нельзя полагаться на свое могущество — сильные гибнут прежде других. Нельзя полагаться на то, что обладаешь многими сокровищами, — проходит время, и их легко теряют. Нельзя полагаться на свои таланты — и Конфуций не устоял против времени. Нельзя полагаться на свои добродетели — и Янь Хуай[270] не был счастлив. Нельзя добиваться и благосклонности государя — к казни приговорить недолго. Нельзя полагаться на повиновение слуг — ослушаются и сбегут. Нельзя добиваться и благорасположения человека — оно, безусловно, изменчиво. Нельзя полагаться на обещания — в них мало правды. Если ты не требуешь ничего ни от себя, ни от других — то, когда хорошо, радуешься, когда плохо, не ропщешь.
Если пределы широки направо и налево, ничто тебе не мешает. Если пределы далеки вперед и назад, ничто тебя не ограничивает. Когда же тесно, тебя сдавливают и разрушают. Когда душа твоя ограничена узкими и строгими рамками, ты вступаешь в борьбу с другими людьми и бываешь разбит. Когда же душа свободна и гармонична, ты не теряешь ни волоска.
Человек — душа вселенной. Вселенная же не имеет пределов. Тогда почему должны быть отличны от нее свойства человека? Когда ты великодушен и не стеснен, тебе не мешают ни радость, ни печаль и люди тебе не причиняют вреда.
CCIV
Осенний месяц беспредельно прекрасен. Человек, который не видит разницы и считает, что месяц всегда таков, вызывает жалость.
CCV
Когда добавляют огня в императорскую жаровню, угли щипцами не берут. Их положено руками перекладывать прямо из глиняного горшка. И делать это следует осторожно, чтобы угли не рассыпались.
Во время одного из высочайших выездов в Яхата[271] кто-то из свиты, облаченный в белые одежды для молений, взял раскаленные угли руками. Тут случился один знающий человек, который заметил:
— В тот день, когда ты облачен в белые одеяния, пользоваться щипцами не возбраняется.
CCVI
Название музыкальной мелодии софурэн, записываемое иероглифами «думать о мужской любви», вовсе не означает «женщина любит мужчину». Первоначально название записывалось другими знаками и читалось: «лотос из резиденции Первого министра». Это та самая мелодия, которую наигрывали, когда цзиньский Ван Цзянь[272] (он был в те времена министром) занимался любимым делом — сажал у своего дома лотосы. Отсюда и самого министра стали называть Лотосовой резиденцией.
А мелодия кайкоцу[273] — «внезапно кружиться» обозначалась теми же знаками, что и страна Кайкоцу. Страна Кайкоцу — это могущественное варварское государство. Тех варваров когда-то покорили ханьцы, потом жители Кайкоцу сами пришли в Китай и исполняли там эту свою национальную мелодию.
CCVII
Придворный Тайра-но Нобутоки,[274] после того как уже состарился, рассказывал, вспоминая старину:
«Однажды вечером монах, в миру Саймёдзи,[275] пригласил меня в гости.
— Сейчас, — ответил я посыльному, но, как нарочно, никак не мог отыскать свой халат хитатарэ.[276] Пока я копался, он снова пришел.
— Может быть, у вашей милости нет хитатарэ или еще чего? — спросил он. — Так сейчас ночь, и велено передать, чтобы вы одевались как придется. Только поскорее!
В своем поношенном хитатарэ, который носил постоянно, я отправился в гости. Хозяин вышел ко мне с бутылкой сакэ и глиняными плошками в руках.
— Пить сакэ одному, — сказал он, — тоскливо и неинтересно, поэтому я и послал за вами. Только у меня нет закуски. В доме, наверное, все уже спят. Поищите, пожалуйста, сами на кухне: ведь должно найтись что-нибудь подходящее.
Я засветил бумажный фонарик и принялся обшаривать все закоулки, пока на одной из кухонных полок не нашел маленький горшок, в котором было немного мисо.[277]
— Мне удалось найти вот что! — воскликнул я.
— О, этого вполне достаточно, — обрадованно ответил Саймёдзи, после чего протянул мне вино, и мы с удовольствием выпили.
— В те времена это делалось так», — добавил при этом старик.
CCVIII
Однажды, возвращаясь после поклонения из святилища Цуругаока,[278] монах, в миру Саймёдзи, заехал по пути к ушедшему в веру управляющему монаршими конюшнями Асикага,[279] выслав предварительно к нему гонца с предупреждением. Угощая гостей, хозяин предложил им на закуску: во-первых, сушеные ломтики морского ушка, во-вторых, омаров и, в-третьих, лепешки — и на том угощение закончил. За обедом присутствовали хозяин с супругой и приглашенный к ним в гости Рюбэн-содзё.[280] И вот Саймёдзи сказал:
— Я беспокоюсь о тех крашеных вещах из Асикага, что вы изволите присылать ко мне ежегодно.
— Все уже приготовлено! — ответил хозяин и в его же присутствии велел служанке сшить из тридцати кусков материи всевозможных расцветок халаты, а потом отправил их в резиденцию Саймёдзи.
Мне рассказывал об этом человек, который видел это своими глазами. Да он и сам до последнего времени был жив.
CCIX
Один очень богатый человек говорил так: «Человек должен в первую очередь добиваться одного лишь богатства. В бедности и жить ни к чему. Человеком можно считать лишь богатого. Если ты хочешь стать богачом, то прежде всего должен развивать в себе соответствующие настроения. Только эти настроения и ничего другого. Живи с мыслью о вечности человеческой жизни и даже временно не смей задумываться о ее быстротечности. Это первая заповедь.
Вторая заповедь: нельзя гнаться за всем на свете. Пока жив человек в этом мире, у него возникает несметное количество желаний и для себя, и для других. Если ты намерен отдаться во власть желаний и подавить волю, то, будь у тебя хоть миллион монет, тебе не прожить с ними и минуты. Желания никогда не истощаются; сокровищам положен предел. Невозможно, обладая имеющими предел сокровищами, подчиняться беспредельным желаниям. Коль скоро желаниям случится пустить ростки в твоем сердце, то придут и дурные стремления, которые могут погубить тебя самого. Лишь неусыпно остерегаясь этого, ты никогда не совершишь проступка, даже самого незначительного.
Заповедь третья: когда ты уподобляешь деньги рабам своим, когда считаешь, что можешь использовать их как угодно, то тебе долго не избавиться от нищеты. Боясь и почитая деньги, как государя, как божество, нельзя использовать их по своей прихоти.
Четвертая заповедь: не впадай во гнев и не ропщи, даже когда тебе стыдно из-за денег.
Пятая заповедь: будь честен и строго держись своих обещаний.
Если все эти принципы будет строго блюсти тот, кто добивается богатства, оно воспоследует с такой же неизбежностью, с какою пламя охватывает все сухое, а вода устремляется вниз. Когда у тебя накопится много денег, душа твоя вечно будет пребывать в умиротворении и радости, даже и при том условии, что тебя не увлекут пирушки, развлечения и сладострастие, что не станешь ты разукрашивать своего жилища и не отдашься во власть желаний».
Вообще говоря, человек добивается богатства для того, чтобы исполнить свои желания. Деньги считают богатством потому, что с их помощью удовлетворяют желания. Но тот, кто не удовлетворяет желания, хотя они и есть у него, ничем не отличается от бедняка. Так в чем же здесь радость? Эти заповеди богача можно истолковать так: отвергая простые человеческие желания, не нужно огорчаться бедности.
Чем радоваться, исполняя свои желания, лучше не иметь богатства. Для того, кто покрыт нарывами и язвами, лучше не болеть совсем, чем радоваться, омывая их водою.
Таким образом, нет никакой разницы между бедностью и богатством. «Постигнувший суть вещей» не отличается от «знакомого с принципами».[281] Необъятность желаний подобна отсутствию желаний.
CCX
Лиса — животное, которое может укусить человека.
Однажды — это было во дворце Хорикава[282] — лиса укусила за ногу спящего слугу. В храме Ниннадзи однажды ночью к служителю низшего ранга, что проходил мимо центрального храма, подскочили три лисы и вцепились в него зубами. Тогда он выхватил меч и, защищаясь, ударил им лис. Одну ударом меча убил, а две другие убежали.
Монах был весь покусан, однако последствий никаких не было.
CCXI
Однажды Сидзё-но-комон[283] удостоил меня такой речью:
— Тацуаки[284] — непревзойденный в своем деле мастер. Приходит он на днях ко мне и говорит: «Хотя я глуп и неучтив, но осмелюсь полагать, что пятое отверстие во флейте расположено, может быть, самую малость не на том месте. Щитовому отверстию должна соответствовать нота хё, пятому отверстию — нота симому. Между ними располагается нота сёдзэцу. Верхнему отверстию соответствует нота со, далее следует нота фусё, за которой идет вечернее отверстие, дающее ноту осики. После этого следует нота ранкэй. Среднему отверстию соответствует нота бансики, а между средним и шестым отверстиями находится нота синсэн.
Если мы внимательно просмотрим весь ряд, то убедимся, что промежуточной ноты нет только между пятым и верхним отверстиями. Однако промежуток между ними оставляют обычный, из-за чего в этом месте часто фальшивят. По этой причине, в то время когда нужно дуть в это отверстие, флейту обязательно отнимают от губ. Когда же это сделать не умеют, не попадают в тон. Редкий человек может хорошо сыграть на флейте!»
— Превосходная мысль! — продолжал Сидзё. — Именно о таком человеке сказано, что предшественник должен опасаться позже родившегося.
В другой раз я разговаривал с Кагэмоти,[285] и он сказал мне:
— Поскольку у сё[286] все тона расположены равномерно, в него просто дуют — и все. А что касается флейты, то при игре на ней характер тона зависит от того, как в нее дуть, поэтому помимо устных наставлений, которые ты получил относительно каждого отверстия, для игры на ней требуется внимание в сочетании с талантом, и это касается не только пятого отверстия. Значит, нельзя ограничиться только тем, чтобы отнимать мундштук от губ. Если играть неумело, то из любого отверстия звук выйдет фальшивым. У большого мастера любой тон вливается в мелодию. Если мелодия не получается, виноват музыкант. Недостатки инструмента здесь ни при чем.
CCXII
Однажды я сказал музыкантам из храма Небесных Королей:[287]
— Что бы мы ни взяли, в провинции все грубо и неотесанно, и только музыку, исполняемую в храме Небесных Королей во время ритуальных танцев, не стыдно сравнить со столичной.
— Мелодии в том храме, — ответили они, — хорошо сыгрываются по нотам, так что в смысле стройности и красоты звучания инструментов у нас даже лучше, чем у всех прочих. Секрет же заключается в том, что за образец мы берем сохранившуюся по сию пору ноту времен принца. Ее воспроизводит колокол, что находится перед пагодой Шести времен.[288] Он звучит как раз в тоне осики. От похолодания или потепления воздуха тон его может понижаться или повышаться, поэтому за образец мы принимаем тот тон, что бывает во вторую луну в промежутке от собрания в честь нирваны до собрания в память принца Сётоку.[289] В этом весь секрет. При помощи одного этого тона мы можем подобрать любой звук.
Колокола вообще положено настраивать на тон осики. Тон этот символизирует быстротечность. Это — звук колокола из Уголка Быстротечности в Обители Чистоты Священного Сада.[290] Говорят, что колокол для храма Сайондзи[291] тоже должны были отлить в расчете на тон осики, но, сколько его ни переплавляли, никак не могли добиться чистого тона, так что колокол пришлось завозить из дальних стран. Колокол в храме Чистого Алмаза звучит также в тоне осики.
CCXIII
Старые толкователи законов[292] и теперь еще говорят между собой:
— В годы Кэндзи-Коан во время праздника для украшения хобэну[293] из четырех-пяти кусков необычной темно-синей материи делали коня с фитилями от фонарика вместо хвоста и гривы, набрасывали на коня одежды с нарисованной на них паутиной, и хобэн шествовал так, толкуя людям смысл старинной песни. Мы всегда смотрели на него и думали: «Как это интересно!»
В наше время в украшениях год от года стремятся все к большей роскоши: на хобэна цепляют уйму тяжеловесных предметов, так что он с трудом переводит дыхание и идет, поддерживаемый с обеих сторон под руки, не в состоянии сам даже копье держать, — очень неприятное зрелище.
CCXIV
Когда Дзёган — бонза из Такэдани — удостоился однажды чести навестить в монастыре экс-императрицу Тонидзё,[294] она соблаговолила обратиться к нему с вопросом:
— Что более всего способствует упокоению души умершего?
— Комё сингон, Хокёин дхарани,[295] — почтительно ответил тот.
После этого ученики Дзёгана спросили у него:
— Отчего вы изволили отвечать так? Почему же не сказали, что ничего более важного, нежели Нэмбуцу,[296] нет?
— Таково учение моей секты, — ответил им наставник, — и поэтому я хотел было ответить именно так, но вдруг мне пришло в голову: а что я стану отвечать, если императрица изволит задать еще один вопрос: «Где об этом написано?» — ведь я никогда не встречал сутры, где было бы подробно растолковано, что наибольшее упокоение достигается чтением имени Учителя? Тогда я и решил назвать Сингон и Дхарани, как наиболее авторитетные из сутр.
CCXV
Тадзугими — Журавлик — детское имя светлейшего министра Тадзу.[297] Говорят, будто его прозвали так потому, что он съел журавля. Так это неправда.
CCXVI
Монах, в миру Аримунэ,[298] из Ведомства светлого и темного начал по пути из Камакура в столицу попросил позволения зайти ко мне. Не успев войти в хижину, он посоветовал мне:
— Сей дворик не в меру велик, и это нехорошо, так быть не должно. Сажать и взращивать — это долг тех, кто познал Путь. Оставьте здесь лишь узенькую тропку, а все остальное разделайте под садик.
Действительно, оставлять втуне даже крохотный участок земли бессмысленно. Следует всюду посадить съедобные или лекарственные растения.
CCXVII
Преподобный Митинори, по свидетельству О-но Хисасукэ,[299] выбрав из танцевальных приемов самые интересные, обучил им женщину по имени Исо-дзэндзи. Танец был назван Отокомаи — «мужской танец», потому что танцовщица поверх белого суйкана[300] подпоясывалась коротким мечом сомаки, а на голову надевала шапку эбоси. Дочь Дзэн-дзи — Сидзука переняла ее искусство. Отсюда и пошли «танцовщицы в белом». Во время танца они распевали истории из жизни Будды и богов.
Впоследствии Минамото Мицуюки[301] сложил много таких песенок. Некоторые складывал и экс-император Готоба. Говорят, что он изволил обучить им Камэгику.[302]
CCXVIII
В правление экс-императора Готоба своей ученостью славился Юкинага,[303] бывший губернатор провинции Синано. Однажды он в числе других знатоков был приглашен ко двору на диспут об юэфу.[304] В разгар спора Юкинага забыл название двух добродетелей из «Танца семи добродетелей»,[305] за что его прозвали Молокососом Пяти Добродетелей. Это было очень обидно, и Юкинага, забросив науки, ушел от мира.
Наставник Дзитин[306] приглашал к себе всех, кто обладал каким-нибудь талантом, даже простолюдинов, и когда Юкинага попал в неловкое положение, он предложил ему свое покровительство.
Монах Юкинага создал «Повесть о доме Тайра»[307] и обучил слепца по имени Сёбуцу рассказывать ее. Поэтому особенно красочно описан в том сочинении монастырь Энрякудзи. Близко зная Куро Хогана,[308] Юкинага описал его жизнь. С Каба-но Кандзя[309] он, по-видимому, не был так хорошо знаком и многие из его деяний в своем описании упустил.
Сёбуцу был родом из восточных провинций и, в разговорах с воинами узнав многое и о самих ратниках, и о воинском искусстве, помог Юкинага описать все это.
Теперешние бива-хоси[310] учатся подражать природному голосу Сёбуцу.
CCXIX
Книга «Славословие Шести времен» создана радением ученика высокомудрого Хонэна, бонзы по имени Анраку,[311] который выбрал для нее соответствующие места из сутр. После него бонза из Удзумаса по имени Дзэнкан[312] разместил текст по частям и переложил его на речитатив. Это было самым началом однократного Нэмбуцу. Подобный обычай был введен во времена правления императора Госага. С Дзэнкана же началось и исполнение «Славословий в поминальной службе».
CCXX
Нэмбуцу в Сэмбонском храме начал высокомудрый Нёрин в годы Бунъэй.[313]
CCXXI
Говорят, что настоящий резчик всегда работает слегка туповатым резцом. Резец Мёкана,[314] например, был не очень острым.
CCXXII
В императорском дворце Годзё водились оборотни. Как рассказывал вельможный То-дайнагон,[315] однажды, когда в зале Черных дверей несколько высокопоставленных особ собрались поиграть в го, кто-то вдруг приподнял бамбуковую штору и посмотрел на них.
— Кто там? — оглянулись придворные.
Из-за шторы выглядывала лиса в облике человека.
— Ах! Это же лиса! — зашумели все, и лиса в замешательстве пустилась наутек. Должно быть, это была неопытная лиса, и перевоплощение ей не удалось как следует.
CCXXIII
Монах Соно-но-бэтто[316] в поварском деле не знал себе равных. Как-то в одном доме подали к столу замечательного карпа, и всем захотелось узнать: а как приготовил бы его преподобный Бэтто? Однако сказать об этом открыто никто не решался из опасения быть нетактичным. Монах, в миру Бэтто, как человек проницательный, понял это и сказал:
— Вот уже сто дней, как я занимаюсь приготовлением карпа, но как раз сегодня у меня не было рыбы. Мне очень хочется приготовить ее.
С теми словами он и разделал карпа. Этот поступок показался присутствующим весьма подходящим случаю и чрезвычайно любопытным. Когда же кто-то рассказал о нем господину Китаяма — Первому министру, монаху в миру, — его светлость заметил:
— Меня лично такие вещи в крайней степени раздражают. Гораздо лучше было бы сказать так: «Так как у вас это блюдо приготовить некому, извольте, я приготовлю». Вряд ли он тогда сто дней занимался приготовлением карпа.
— Его слова, — говорил мне один знакомый, передавший этот разговор, — показались мне занимательными.
Они действительно очень занимательны.
Вообще, чем вызывать интерес, всячески изощряясь, лучше не быть интересным, но жить спокойно.
Слов нет, хорошо, когда удачно выбирают случай созвать гостей на угощение, однако лучше всего, когда это делается просто так, без особого предлога. То же самое, когда делают подарок: если не выбирают особого случая, но просто говорят: «Это вам», значит, от чистого сердца.
Неприятно, когда человек ломается и ждет, что его станут упрашивать, или проиграет в споре — и из этого хочет извлечь выгоду.
CCXXIV
Вообще говоря, лучше, когда человек неумен и бездарен. Сын одного уважаемого человека и собою был недурен, и в разговоре — на глазах у папаши — исторические сочинения не преминет, бывало, процитировать, и выглядел весьма толковым, и тем не менее, мне кажется, в присутствии почтенных людей ему не следовало бы так вести себя.
Однажды к дому одного человека послушать сказания монахов-слепцов собрался народ. Кто-то из гостей взял в руки бива, но тут из инструмента выпал колок.
— Эй, приладьте его! — распорядился хозяин.
В числе присутствующих находился и один молодой мужчина привлекательной внешности.
— Нет ли здесь ручки от старого ковша? — спросил он, и все оглянулись на его голос.
У говорившего на пальцы были надеты длинные когти, свидетельствующие об увлечении игрой на бива. Но в такие вещи, как бива слепых музыкантов, ему лучше было бы не вмешиваться. Со стороны неприятно было смотреть, как он стремился показать, что хорошо в этом деле разбирается. Кто-то заметил ему:
— Ручки от ковшей как будто кипарисовые, а кипарис сюда не годится.
Во всяком поступке молодого человека — пусть самом незначительном — видят хорошее, но замечают в нем и дурное.
CCXXV
Если вы стремитесь не совершать никаких ошибок, то не должны отступать от правила: во всем быть правдивым, ко всем без исключения относиться с почтением и быть немногословным.
Хорошо, когда любой человек — и мужчина, и женщина, и стар, и млад — следует этому правилу, но особо неизгладимое впечатление производят молодые, приятной наружности люди, если они продумывают каждое слово.
Всякие ошибки проистекают оттого, что люди мнят себя мастерами, для которых все — дело привычное, принимают высокомерный вид и ни во что не ставят других.
CCXXVI
Когда вас о чем-либо спрашивают, нехорошо своим ответом вводить собеседника в заблуждение из-за одного только опасения, что он и сам прекрасно все знает, а ежели ему-де сказать правду, то можно показаться глупым. Бывает, видимо, и так, что, желая лишний раз убедиться в справедливости своего мнения, люди спрашивают о том, что знают. И наконец, разве нет таких, кто знает то, о чем спрашивает, но не наверняка! Если вы расскажете им без обиняков, вас выслушают спокойно.
Если ваш знакомый слыхом не слыхал о деле, которое вам хорошо известно, а вы пишете ему: «Да, плохи дела такого-то» — вам станет неудобно, если в ответ он спросит: «А в чем, собственно, дело?»
Бывает, что человек как-то само собой упускает случай узнать то, что для всех давным-давно устарело. И тогда разве плохо, если ему объяснят все так, что для сомнений не останется места?
Боится дать ясный ответ тот, кому недостает житейского опыта.
CCXXVII
Человек просто так не явится в дом, где кто-то живет. Если же дом необитаем, туда не задумываясь заходит путник, а разные твари, вроде лис и сов,[317] коль не отпугивать их людским духом, с торжествующим видом войдут туда и заселят дом, и объявятся в доме безобразные чудища, вроде духов дерева.
И еще: у зеркала нет ни своего цвета, ни своей формы, и потому оно отражает любую фигуру, что появляется перед ним. Если бы зеркало имело цвет и форму, оно, вероятно, ничего не отражало бы. Пустота свободно вмещает разные предметы. И когда к нам в душу произвольно одна за другой наплывают разные думы, это, может быть, случается оттого, что самой души-то в нас и нет. Когда бы в душе у нас был свой хозяин, то не теснилась бы, наверное, грудь от бесконечных забот.
CCXXVIII
В Тамба есть местность под названием Идзумо. По образцу Великого святилища[318] там была выстроена прекрасная молельня. Владел теми местами некий Сида, который пригласил к себе однажды осенью множество людей, и в том числе высокомудрого Сёкая.[319]
— Милости прошу, посетите Идзумо, — говорил он, — а я угощу вас лепешками!
Отправившись вместе с хозяином к святым местам, каждый из паломников побывал в святилище, и каждый из них еще глубже укрепился в вере. Высокомудрый же, увидев, что лев и злая собака[320] перед святыней поставлены друг к другу спиной, несказанно умилился.
— О, это изумительно! Такое взаиморасположение животных очень редко встречается. В этом, надо полагать, есть глубокий смысл! — воскликнул он и со слезами на глазах продолжал: — Послушайте, друзья мои! Задержались ли ваши взоры на сем похвальном обстоятельстве? Это весьма примечательно.
Тут все взглянули на каменные фигуры и удивились:
— Действительно, сделано не так, как в других местах. Надо будет поделиться впечатлением от этого в столице.
Тогда высокомудрому Сёкаю еще больше захотелось узнать, в чем здесь секрет, и он окликнул какого-то внушительного на вид служителя, который проходил мимо и казался человеком знающим:
— По поводу того, в каких позах поставлены фигуры животных перед сим святилищем, — обратился старец к служителю, — можно, вероятно, рассказать кое-что поучительное. Ах, если бы вы нам поведали об этом немного!
— Вы насчет этих? Это проказники-мальчишки натворили. Куда ж такое годится! — сказал в ответ служитель, после чего подошел к изваяниям, поставил их как полагается и удалился.
Чувствительные слезы старца оказались пролитыми зря.
Каким образом кладут предмет на ивовый ящик — вдоль или поперек, — и от чего это зависит? Свитки, к примеру, располагают вдоль ящика; сквозь щели между палочками протягивают бумажный шпагат, которым перевязывают свиток.
Правый министр Сандзё когда-то говорил:
— Тушечницу тоже кладут вдоль ящика: так не скатываются на пол кисточки.
А каллиграфы из дома Кадэнокодзи никогда, даже на короткое время, не помещали своих тушечниц вдоль ящика, а обязательно — поперек.
CCXXIX
Придворный Тикатомо[321] набросал для самовосхваления заметки, состоящие из семи пунктов. Все они касаются искусства верховой езды и ничего особенного собой не представляют. По его примеру я тоже приведу здесь семь пунктов самовосхваления.
Когда в сопровождении множества людей я отправился однажды любоваться цветами, то, увидев в окрестностях храма Света Победы Истины[322] мужчину, который скакал на коне, сказал:
— Обратите внимание: если всадник сейчас хотя бы раз пришпорит коня, конь упадет и всадник свалится.
Все остановились, а всадник пустил коня вскачь. Когда же пришло время остановиться, он осадил коня и кубарем полетел в грязь. Свидетели были потрясены безошибочностью моих слов.
В то время когда Ныне Царствующий был еще принцем, а его резиденцией служил дворец Мадэ-но-кодзи, я зашел однажды по делу в приемную Хорикава-дайнагона.[323] Развернув свиток с четвертой, пятой и шестой главами «Бесед и суждений», дайнагон обратился ко мне со словами:
— Только что я навестил его высочество в покоях. Его высочеству захотелось взглянуть на раздел: «Не люблю фиолетовый цвет, потому что он затмевает красный», но сколько он ни искал его в своей книге, найти так и не смог. Тогда я получил высочайшее повеление: «Ступай, еще раз посмотри и найди!»
— Это же в девятом свитке, в таком-то и таком-то месте, — ответил я.
— Ах, как я рад! — воскликнул дайнагон и со свитком в руке бросился к принцу.
Правда, подобные вопросы обычно не представляют трудности даже для ребенка, но в старину люди пользовались для пышного самовосхваления и самой малостью.
— Может быть, это нехорошо, — спросил однажды экс-император Готоба сиятельного Тэйка об одном из своих стихотворений, — что в одном и том же месте встречается и слово содэ, «рукав», и слово тамото, «нижняя часть рукава»?
— Что в этом такого, — отвечал поэт, — ведь писали же так:
То не метелки ли мисканта Колышутся, как чьи-то рукава (тамото), В траве, в осеннем поле? Но кажется, что это ты Призывно машешь рукавами (содэ).Излагая этот разговор, поэт напыщенно писал: «То, что я кстати вспомнил нужные стихи, означает, что в искусстве поэзии мне покровительствуют боги и что удел мой счастлив».
Первый министр Кудзё, князь Корэмити, в своих челобитных грамотах тоже занимался самовосхвалением, описывая моменты, не представляющие ничего особенного.
Надпись на колоколе в храме Дзёдзайко составлена была сановником Ариканэ.[324] Придворный чиновник Юкифуса переписал текст набело и уже приготовился было отдать залить металл в форму, когда монах-литейщик взял черновик с текстом надписи и показал его мне.
В тексте была строфа:
Когда наступает в природе Безмолвье вечерних часов, Ко мне твои звуки приходят За сотни ри.— Здесь я вижу женскую и мужскую рифму, — сказал я, — не ошибка ли это — «сотня ри»?
— Как хорошо, что я вам показал надпись, в этом ведь будет и моя заслуга! — обрадовался монах и помчался к каллиграфу.
— Да, я ошибся, — ответил тот, — нужно исправить на «много рядов».
Однако что значит это «много рядов»? Может быть, он имел в виду «много шагов»? Я так и не понял.
Однажды с большой группой попутчиков я отправился в паломничество к Трем пагодам.[325] В Ёкава,[326] в зале Неизменного обряда, мы увидели старинную картину с надписью «Павильон Цветка Дракона». Сторож при храме объяснил нам:
— Рассказывают, что авторство надписи приписывают либо Сари, либо Кодзэю.[327] Но достоверно автор еще не установлен.
— Если это Кодзэй, — заметил я, — на обороте должна быть подпись; если же автор Сари, подписи на обороте быть не должно.
Оборотная сторона картины была покрыта толстым слоем пыли и затянута паутиной. Когда убрали грязь, все явственно увидели надпись, указывающую чин и имя Кодзэя и дату.
Все были поражены.
Когда высокомудрый Догэн читал в храме Наранда наставления, он позабыл так называемые «восемь несчастий».[328]
— Не помните ли вы их? — обратился он к присутствующим. Никто из его учеников вспомнить не мог. Тогда я выглянул из соседней комнаты и сказал: «Наверное, это то-то и то-то», чем вызвал всеобщее восхищение.
Как-то мы с содзё Кэндзё пришли посмотреть церемонию с наговорной водой.[329] Содзё, не дожидаясь окончания церемонии, собрался домой, а содзу, пришедшего вместе с нами, нигде не было видно. Монахи, посланные его разыскивать, очень долго не возвращались, а потом вышли из храма и заявили:
— Очень уж много там монахов, и все одинаково одеты. Никак невозможно его отыскать.
— Какая жалость, — воскликнул Кэндзё и обратился ко мне, — поищите, пожалуйста, его вы!
Я вернулся в храм и сейчас же привел содзу.
В пятнадцатый день второй луны[330] была ясная лунная ночь. Стало уже совсем поздно, когда я направился к Сэмбонскому храму. Войдя в него через черный ход, я расположился в стороне ото всех и, поглубже спрятав лицо в одежды, стал слушать чтение сутр. В это время от молящихся отделилась прекрасной наружности женщина. Она подсела ко мне и прислонилась к моим коленям.
«Если на меня перейдет аромат ее благовоний, — подумал я, — будет неловко», — и тихонько отодвинулся.
Женщина снова придвинулась ко мне, тогда я встал.
Некоторое время спустя одна дама, давно служившая при дворе, говоря со мной о разных пустяках, между прочим, заметила:
— Тут о вас отзывались весьма пренебрежительно, будто вы совершенно бесстрастны. Есть один человек, который невзлюбил вас за бесчувственность.
— Простите, я вас совсем не понимаю, — только и мог я ответить.
Обо всем я узнал позже. Оказывается, той ночью, когда я пришел послушать сутры, из особого помещения меня заприметил один знакомый. Он подослал ко мне сопровождавшую его жену, переодетую до неузнаваемости, и наказал ей:
— Если будет подходящий момент, попробуй заговорить с ним. Вернешься — расскажешь, как он себя вел. Это интересно.
CCXXX
Пятнадцатый день восьмой луны и тринадцатый день девятой луны соответствуют созвездию Овна.[331] Небосклон тогда бывает чист и ясен, и поэтому ночь хороша для воспевания луны.
CCXXXI
Неуютно то место, где растут водоросли, что собирают рыбаки из бухты Синобу (Спрятавшейся); немало людей охраняют гору Курабу (Темную), но вместе с тем как много незабываемого в глубоких чувствах и проникновенных думах человека, чье сердце полно безрассудной решимости пойти туда!
Очень, должно быть, совестно заручаться согласием родителей и братьев девушки, чтобы навсегда взять ее в свой дом.
Стесненную в средствах женщину, которую в любом мужчине — в безобразном ли старом монахе, в грубом ли дикаре — влечет лишь его богатство и которая говорит, что, мол, «был бы поток увлекающий», — сводник кому угодно представит прекрасной, поэтому не годится вступать в брак с тем, кого не знаешь и кому незнаком. Иначе вам не о чем будет перекинуться словом. Когда же вы станете говорить друг с другом о горестях прожитых лет или о непроходимых зарослях на склоне горы, беседе вашей не будет конца.
Но если все улаживают посторонние, вы неминуемо сталкиваетесь со множеством неприятного. Скажем, жена прекрасна собой, а муж и по происхождению ниже ее, и видом безобразен, и годами уже стар. Тогда он думает: «Ради такого страшилища обрекла она на погибель свою красу», а сам и жену начинает презирать и, оставшись с нею наедине, стыдится своего вида. Это очень прискорбно.
Человеку, который сам не испытывал, что значит недвижно стоять под луной, затянутой облаками, когда ночь благоухает цветением слив, или брести, сбивая росу, по равнине Августейшей Ограды[332] при полной луне, — не стоит ввязываться ни в какие любовные дела.
CCXXXII
Полный месяц ни на один миг не остается круглым, он тут же идет на ущерб. Ненаблюдательный человек, пожалуй, и не заметит, насколько изменились его очертания за ночь.
То же происходит и при тяжелой болезни: уже не остается времени, чтобы пожить, близится смертный час!
Однако пока болезнь еще не опасна и не грозит вам смертью, вы привычно считаете, что жизнь неизменна, и думаете, что спокойно ступите на истинный Путь только после того, как многое успеете свершить в своей жизни, а между тем вас настигает болезнь, вы заглядываете в ворота смерти — и тогда вы не исполните уже ни одно из своих желаний.
Напрасно станете вы раскаиваться в нерадиво прожитых годах и лунах. У вас возникнет желание, как только ночь сменится днем, свершить и это деяние, и то, если на сей раз недуг отступит и сохранит вам жизнь. Но вам делается все хуже, и вы кончаетесь, метаясь без сознания. Видимо, только так оно и бывает. Именно это люди должны прежде всего и спешно вместить в сердце свое.
Если вы захотите обратиться к Учению на досуге, после того как исполните свои желания, — помните, что этому не суждено сбыться, так как предела желаниям нет. Что же можно сделать за нашу жизнь, подобную призраку?
Вообще, наши желания все суть пустомыслие.
Зная, что, как только в сердце западет желание, беспутное сердце лишь ввергнется в заблуждения, самое лучшее — ничего не делать для его исполнения. Когда вы обращаетесь к Учению, враз отбросив все дела прочь, — исчезают помехи, исчезают заботы, а дух и плоть надолго умиротворяются.
CCXXXIII
Неустанные заботы наши о том, что неблагоприятно и что благоприятно, проистекают лишь от отношения к трудностям и удовольствиям.
Все любят удовольствия и никогда не перестают искать их. Доставляет удовольствие, во-первых, слава. Слава бывает двоякого рода. Это — восхваление поступков и восхваление таланта. Во-вторых, доставляет удовольствие вожделение, в-третьих, чревоугодие. Со стремлением к этим трем удовольствиям не сравнится ни одно из тьмы желаний. Возникает это стремление от извращенного взгляда на жизнь и влечет за собой многие бедствия. Лучше всего не искать удовольствий.
CCXXXIV
Когда мне было восемь лет, я спросил отца:
— А кто такой Будда?
— Буддами становятся люди, — ответил отец.
— А как они становятся буддами?
— Благодаря учению Будды, — ответил отец.
И снова я спрашиваю:
— А того Будду, который обучал будд, кто обучал?
— Он тоже стал Буддой благодаря учению прежнего Будды, — опять ответил отец. Я снова спросил:
— А вот самый первый Будда, который начал всех обучать, — как он стал Буддой?
И тогда отец рассмеялся:
— Ну, этот либо с неба свалился, либо из земли выскочил.
Потом отец потешался, рассказывая об этом всем:
— До того привяжется, что и ответить не можешь.
Примечания
1
Тонэри — младшие придворные чиновники.
(обратно)2
Мудрец Дзога (917—1003) — ученый-буддист, сын крупного придворного чиновника Татибана Цунэхира.
(обратно)3
Истинно мудрые сочинения — книги конфуцианского канона.
(обратно)4
Кудзё — Фудзивара Моросукэ (908–900), министр при дворе императоров Сюдзяку и Мураками.
(обратно)5
Не забывать о грядущем рождении… — соблюдать предписания буддийского учения в надежде на воздаяние в следующей жизни.
(обратно)6
Акимото-но-тюнагон — хэйанский вельможа Минамото Акимото (1000–1047).
(обратно)7
Прежний принц тюсё — принц Канэакира (914–987), ученый и поэт, глава придворного ведомства Накацукаса (тюсё). Один из его сыновей был слабоумным.
Первый министр Кудзё — Фудзивара Корэмити (1093–1165). Два его сына отличались слабым здоровьем и рано умерли.
Левый министр Ханадзоно — Минамото Арихито (1103–1147), внук императора Сиракава (1073–1086). Увидев однажды сына принца Канэакира, он заявил, что лучше не иметь детей, чем иметь недостойных.
(обратно)8
Министр Самэдоно — прозвище Фудзивара Ёсифуса (804–872), основоположника системы регентства рода Фудзивара. Не имея сына, он усыновил своего племянника Мотоцунэ (836–891).
«Рассказы Старца Ёцуги» — другое название сборника исторических повествований Оокагами («Великое зерцало», XII в.).
(обратно)9
Принц Сётоку (574–622) — крупнейший государственный деятель древней Японии. Оставил после себя 14 детей.
«Здесь урежь, там убавь: думаю, что потомков не будет». — По-видимому, имеются в виду потомки, достойные самого принца или близкие к нему по вере и духовным интересам.
(обратно)10
Равнина Адаси — место, где находилось обширное кладбище; в традиционной поэзии — символ эфемерности земной жизни, постоянный эпитет к слову «роса».
Торибэ — гора, возле которой располагалось старинное кладбище. Дым над горой Торибэ — символ непрочности земного бытия.
(обратно)11
Отшельник Кумэ — буддийский монах, который, по преданию, вознесся было на небо, но, узрев сверху стирающую женщину, засмотрелся на ее обнаженные ноги, лишился святости и свалился на землю.
(обратно)12
Шесть скверн (буд.) — цвет (сладострастные грезы), голос (любовные песни), аромат (запах плоти), вкус (чревоугодие), касание (прикосновение к обнаженному телу) и закон (суесловие). Каждая из них может охватить человека мраком страстей и отдалить достижение «истинного просветления».
(обратно)13
Готокудайдзи — прозвище Фудзивара Санэсада (1138–1190), который последовательно занимал посты Министра двора, Левого и Правого министров.
(обратно)14
Сайгё — знаменитый поэт (1118–1190).
(обратно)15
Каннадзуки — старинное название 10-й луны.
(обратно)16
Акадана — полка перед изображением Будды, на которую ставят ритуальный сосуд с водой и живые цветы.
(обратно)17
…приглашаешь в друзья людей невидимого мира — читаешь сочинения древних мудрецов.
(обратно)18
(обратно)19
«Литературный изборник» — Вэньсюань (VI в.), китайский сборник поэтических и прозаических образцов.
«Сборник сочинений господина Бо» — сборник стихов знаменитого китайского поэта Бо Лэтяня (Бо Цзюйи, 772–846).
«Каноническая книга мудреца из Наньхуа» — Нань хуадцзин, трактат древнекитайского философа Чжуан Чжоу.
(обратно)20
Цураюки — Ки-но Цураюки (883–946), крупнейший поэт, филолог и писатель хэйанской Японии.
(обратно)21
«Собрание старинных и новых песен» (Кокинсю) — поэтическая антология (20 книг, более 1100 стихотворений), составленная в 905–922 гг. специальной коллегией под руководством Ки-но Цураюки.
(обратно)22
«Повесть о Гэндзи» — роман Мурасаки Сикибу (978—1016), одно из величайших художественных полотен своего времени.
(обратно)23
«Новое собрание старинных и новых песен» (Синко-кинсю) — поэтическая антология (20 книг, ок. 2000 стихотворений), составленная в 1205 г. Фудзивара Тэйка (1162–1241) и другими поэтами.
(обратно)24
Иэнага — поэт рубежа XII–XIII вв. Минамото Иэнага. С конца XII в. 20 лет вел дневник, в который включил многие исторические события.
(обратно)25
Эйкёку — собирательное название песен, в сопровождении которых исполнялись древние ритуальные танцы.
Рёдзинхисё — антология стихотворений в жанре имаё. Составлена ок. 1169 г. императором Госиракава (1127–1192). Сохранилась небольшая ее часть (ок. 500 стихотворений) — буддийские песнопения, синтоистские обрядовые и праздничные песни и народные песни.
(обратно)26
Кагура — ритуальные синтоистские пляски. Исполняются в масках.
(обратно)27
Хитирики — бамбуковая свирель.
Бива — разновидность лютни.
Японская арфа (яп. вагой, яматогото) — инструмент, отдаленно напоминающий гусли.
(обратно)28
Помраченность (буд.) — следствие мирских желаний, источник страданий. Очищение от помраченности приводит к нирване.
(обратно)29
Сюй Ю — по преданию, китайский отшельник. Император Яо (XXII в. до н. э.) предложил ему свой престол, однако Сюй Ю заявил, что это предложение осквернило его уши, и омыл их в реке Инчуань.
(обратно)30
Сун Чэнь. — В собрании биографий знаменитых мужей Китая — Мэнцю (746 г.) упоминается отшельник Сун Чэнь, происходивший из знатной семьи. Там говорится, что в зимние месяцы он спал на охапке соломы, которую утром убирал.
(обратно)31
Аромат цветущего апельсина — в японской поэзии воспевается как воскрешающий нежные воспоминания.
(обратно)32
Омовение Будды — храмовая служба и церемония по случаю годовщины со дня рождения будды Шакья-Муни (в Средние века — 2-й день 4-й луны, ныне — 8 апреля).
Праздник — синтоистское празднество в святилищах Камо, совершавшееся в день Птицы 4-й луны (ныне — 15 мая) после полудня.
(обратно)33
…когда в карнизы втыкают ирис… — Имеется в виду праздник ириса, или праздник мальчиков, проводимый в 5-й день 5-й луны.
(обратно)34
Заклинания шестой луны — синтоистская церемония, совершавшаяся в последний день 6-й луны для умиротворения злых божеств.
(обратно)35
Празднования седьмого вечера — праздник Танабата (встречи двух звезд, Пастуха и Ткачихи), отмечавшийся в 7-й день 7-й луны.
(обратно)36
Имена будд — буддийская церемония, проводившаяся при дворе с 19-го по 21-й день 12-й луны, когда возглашались имена будд прошедшего, настоящего и будущего миров из «Сутры имен будд».
Выход посыльного пред лотосом — обряд приношения жертвенного риса гробницам предков императора. Совершался в специально выбранный день 12-й луны.
(обратно)37
Изгнание демона — пантомима ритуального характера. Проводилась в ночь на Новый год.
Почитание четырех сторон — церемония поклонения предкам, совершаемая императором утром первого дня нового года.
(обратно)38
Праздник душ — синтоистский праздник встречи с душами усопших предков. В XIV в. в столице проводился в середине 7-й луны, а в отдаленных провинциях — в последний день года.
(обратно)39
…украшенная сосенками… — Согласно поверью новогодние украшения из сосновых веток на воротах угодны богам и предохраняют от болезней.
(обратно)40
Юань и Сян — реки в Китае, в провинции Хунань, где долгое время служил автор стихотворения, Дай Шулунь (732–789).
(обратно)41
Цзи Кан (223–262) — китайский поэт, один из Семи мудрых бамбуковой рощи.
(обратно)42
Татиакаси (татэакаси) — разновидность сосновых факелов.
(обратно)43
Церемония объяснений сутры Всепобеждающего Закона — проводилась во дворце Чистой Прохлады в 5-ю луну настоятелями крупных буддийских храмов в присутствии императора.
(обратно)44
Девятивратный — поэтическое название императорского дворца.
(обратно)45
Росистый терем — открытая беседка с помостом, где во время празднеств при дворе исполнялись ритуальные танцы.
Трапезная — комната в западной части дворца Сэйрёдэн, в которой император завтракал и принимал придворных.
(обратно)46
Малый дощатый настил — мощеный дворик во дворце Сэйрёдэн.
(обратно)47
«Стан к ночи готовь» — команда дворцовым слугам для зажжения факелов во время празднеств; подавалась с наступлением сумерек.
(обратно)48
Зал Придворных Дам — зал в императорском дворце, в котором хранился один из символов императорской власти — священное зерцало Ята-но микагами. Его охрану несли дамы из свиты императора.
(обратно)49
Первый министр Гокудайдзи — Фудзивара Кинтака (1253–1305).
(обратно)50
Храм на равнине — Но-но мия, синтоистское святилище, в котором принцессы крови проходили обряд очищения перед отправлением на посвящение в синтоистский комплекс Исэ по случаю вступления на престол нового императора.
(обратно)51
Вековые рощи — синтоистские святилища располагаются, как правило, в живописных местах среди старинных рощ.
Нефритовая ограда — поэтическое название ограды вокруг святилища.
Полотнища, висящие на священном дереве сакаки — обрядовые очистительные полотнища из луба тутового дерева, которые развешиваются вокруг святилища. В наше время заменяются полосами бумаги.
(обратно)52
С кем побеседуешь о старине, если персик и слива не говорят? — намек на стихотворение Сугавара Фумитоки (899–981): «Персик и слива не говорят,// Много весен прожив.//Дым и туман не имеют следов —//Это то, что жило в старину».
(обратно)53
Кёгоку — резиденция Фудзивара Митинага (966 — 1027), который свыше 30 лет занимал высшие государственные посты и был фактическим правителем Японии.
Ходзё — буддийский храм, в котором Митинага поселился после пострижения в монахи.
(обратно)54
Вельможа из храма — прозвище, которое Фудзивара Митинага получил после пострижения.
(обратно)55
Большие ворота — главные ворота в храме.
(обратно)56
Сёва (Справедливый мир) — девиз, под которым правил император Ханадзоно (1308–1318) в 1312–1316 гг.
(обратно)57
Зал Безмерно Долгой Жизни — один из павильонов храма Ходзё.
(обратно)58
Девять будд — 9 статуй будды Амитабха, олицетворяющие 9 ступеней буддийского рая.
(обратно)59
Дзё и шесть сяку — меры длины: дзё — 3,79 м, сяку — 3,79 см. См. с. 201.
(обратно)60
Кодзэй-дайнагон — прозвище знаменитого каллиграфа Фудзивара Юкинари (972—1027).
(обратно)61
Канэюки — Минамото Канэюки, художник и каллиграф; годы жизни не установлены.
(обратно)62
Храм Цветка Закона — храм буддийской секты Хоккэ, считающей основой веры «Сутру лотоса» (или Цветка Закона).
(обратно)63
…мир, который не сможешь увидеть — мир, каким он станет после твоей смерти.
(обратно)64
…были люди, жалевшие, что окрасится белая нить, печалившиеся, что дорога разделится на тропы. — В сочинении Лю Аня (178–122 гг. до н. э.) Хуайнань-цзы есть такое место: «Ян-цзы, увидев развилок дороги, заплакал, сказав, что по ней можно поехать и на юг и на север. Мо-цзы, увидев шелковую нить, заплакал, сказав, что ее можно окрасить и в желтый и в черный цвет».
(обратно)65
«Сто песен времен экс-императора Хорикава» — сборник, составленный в 1100 г. Фудзивара Кимидзанэ (1053–1107) из стихотворений 16 поэтов (по сто стихотворений каждого поэта), живших в правление Хорикава (1079–1107).
(обратно)66
«Остались лишь фиалки,//Но и они смешались с тростником» — из танка Фудзивара Кимидзанэ. Фиалки в зарослях тростника — образ заброшенного сада, бывшего когда-то местом свиданий.
(обратно)67
Церемония Передачи государства — имеется в виду передача символов власти новому императору.
(обратно)68
Меч, яшма и зерцало — символы императорской власти в Японии.
(обратно)69
Новый монах-император — здесь: Ханадзоно, отрекшийся в 1318 г.
(обратно)70
Год всеобщего траура — год траура по умершему императору или императрице.
(обратно)71
Хижина Скорби — временная постройка, в которой на период траура по императору поселялся наследный принц.
…на землю положены доски пола… — в Хижине Скорби черный пол настилали прямо на землю.
Шторы из камыша — в обычное время вешали бамбуковые шторы.
Ленты над шторами — во дворце над шторами протягивались ленты из яркой тонкой ткани. Во время траура на ленты шло грубое полотно мышиного цвета.
(обратно)72
«Промежуточная тьма» (буд. «семь седьмин») — 49 дней после смерти человека, состояние между прежней жизнью и новым рождением.
(обратно)73
«День за днем все далее покойный» — строфа из стихотворения в «Литературном изборнике»: «С каждым днем все далее покойный.//С каждым днем все ближе нам живые…»
(обратно)74
Установленный день — годовщина смерти.
(обратно)75
День переноса резиденции — имеется в виду церемония освящения нового дворца.
Гэнкимоньин (1246–1329) — монашеское имя матери императора Фусими (1288–1298).
(обратно)76
Гребневидный проем — проход в стене дворца, имеющий в центре выемку для укрепления фонаря.
Каньиндоно — один из императорских дворцов в Киото.
(обратно)77
Кайко — раковина со своеобразным запахом. Использовалась для приготовления ароматических составов.
Хорагай — раковина. Буддисты-отшельники дуют в ее отверстие, чтобы извлечь звук, якобы настраивающий на благочестивые размышления.
(обратно)78
Хорошо и нехорошо суть одно и то же — даосское положение. Истинный человек стоит выше различия между мудростью и глупостью, добром и злом.
(обратно)79
Хонэн (1133–1212) — основатель и проповедник буддийской секты Чистой земли Дзёдо.
(обратно)80
«Поклоняюсь будде Амитабха» — молитвенная формула, которую произносят адепты секты Чистой земли. По учению Хонэна, ее следует произносить непрерывно, 60 тысяч раз в день.
(обратно)81
Такая странная особа не может вступить в брак — отрывок имеет юмористический подтекст. В старинных медицинских сочинениях говорится, что, если у девушки на выданье брак почему-либо задерживается, она может впасть в недуг, выражающийся в «пристрастии к необычайным вкусам». Лекарством от недуга считался брак.
(обратно)82
Камоские бега — скачки ритуального характера, проводившиеся в 5-й день 5-й луны в святилище Верхний Камо.
(обратно)83
Карахаси-тюдзё — Карахаси Масакиё (1182–1230) из рода Мураками Гэндзи. Тюдзё — одно из высших воинских званий.
(обратно)84
Ни-номаи — шуточный танец, один из двух участников которого выступает в маске, изображающей безобразно опухшее женское лицо. Маска окрашивается в красный и черный цвета.
(обратно)85
Сасинуки — разновидность старинных японских шаровар.
(обратно)86
Сидзи — подставка в форме скамеечки для оглобель порожней повозки.
(обратно)87
Кинъё — Фудзивара Кинъё (ум. в 1301 г.), член свиты императора.
Епископ Рёгаку — настоятель монастыря Энрякудзи, поэт. Годы жизни не установлены.
(обратно)88
Эноки — железное дерево (китайское).
(обратно)89
Янагивара — район средневекового Киото.
Хоин — «Печать Закона» — высший буддийский сан.
(обратно)90
Киёмидзу — храм буддийской секты Хоссо в Киото.
(обратно)91
Хиэ — гора на северо-востоке от Киото, на которой расположен монастырь Энрякудзи.
(обратно)92
Сановник Мицутика — один из активных противников диктатуры рода Ходзё, Фудзивара Мицутика (1176–1221). Убит политическими противниками.
Экс-император — здесь: Готоба, постригшийся в монахи в 1198 г. после отречения от престола.
(обратно)93
«Десять условий» из храма Лес Созерцания — «Десять условий, необходимых для возрождения в раю» (Одзё дзюин), трактат (Эйкан-рисси (1032–1111), настоятеля храма Лес Созерцания Дзэнрин).
(обратно)94
Синкай — монашеское имя Тайра (Ханадзоно) Мунэтика, сюзерена провинции Ава. В конце XII в., после поражения в междоусобной войне с Минамото, он постригся в буддийские монахи, много странствовал.
(обратно)95
Сиракава — поселок; ныне — район г. Киото.
(обратно)96
Сайондзи — буддийский храм в селении Кинугаса (ныне — храм Каэндзи в районе Кинугаса г. Киото).
(обратно)97
Хигасияма — гряда холмов к востоку от г. Киото.
Агуи (Агоин) — буддийский храм возле г. Киото.
(обратно)98
Оигава — горная речка на юго-востоке провинции Ямасиро.
Камэяма — дворец в уезде Кацурано провинции Ямасиро.
Ои — название местности в провинции Ямасиро.
(обратно)99
Удзи — селение, известное искусством плотников. Ныне город.
(обратно)100
Ниннадзи — буддийский храм. Другое название — Омуро.
Ивасимидзу — одно из крупнейших синтоистских святилищ, Ивасимидзу Хатимангу. Посвящено культу бога Хатимана.
(обратно)101
Храмы Крайней Радости — амида-буддийские храмы у подножия горы Отокояма, подчиненные святилищу Ивасимидзу Хатимангу.
Кора — два вспомогательных святилища у подножия Отокояма.
(обратно)102
Вариго — набор лакированных коробочек для хранения пищи.
(обратно)103
Нараби-но ока — гряда холмов в окрестностях Киото.
(обратно)104
Сплетать пальцы — один из мистических приемов монахов буддийской секты Сингон.
(обратно)105
Павильон Истинной Колесницы — часть храма Ниннадзи.
(обратно)106
Двести связок монет — старинные монеты отливались с отверстиями посредине, чтобы их можно было нанизать на шнур.
(обратно)107
Светильник Закона — глава буддийской секты.
(обратно)108
Бочонки из деревни Охара — обычай связан с игрой слов: в другом написании это словосочетание означает «послед из чрева».
(обратно)109
Энсэй-монъин — монашеское имя принцессы Эцуко (1259–1332).
(обратно)110
«Думаю о вас с любовью» — в стихотворении рисуется внешний вид слоговых знаков, образующих слово «коисику» — «любовно».
(обратно)111
Адзяри (санскр. акарья — учитель) — буддийский наставник.
Последующие семь дней — буддийская церемония при дворе во 2-ю неделю нового года.
(обратно)112
Канцлер Окамото — Фудзивара Иэхира (1282–1324).
(обратно)113
Сяку и бу — меры длины: 30,3 см и 3,03 см соответственно. См. с. 196.
(обратно)114
«Повесть из Исэ» — литературный памятник X в.
Долгая луна — 9-й месяц лунного календаря.
(обратно)115
Ивамото и Хасимото — святилища, подчиненные Верхнему Камо.
Аривара Нарихира и Фудзивара Санэката — поэты IX и X вв., культу которых посвящены святилища Ивамото и Хасимото.
(обратно)116
Ёсимидзу-но-касё — поэт, буддийский монах Дзиэн (1155–1225), глава секты Тэндай, выходец из рода Фудзивара.
(обратно)117
Имадэгава — императрица Ёсико, супруга императора Каманма.
(обратно)118
Цукуси — старое название о. Кюсю.
(обратно)119
Высокомудрый из храма на горе Сёся — видный буддийский проповедник Сёку-сёнин (910 — 1007) из храма Энкёдзи.
(обратно)120
Сэйсёдо — зал в павильоне Буракуин императорского дворца. Здесь праздновалось вступление на престол нового императора.
Гэнъо — девиз правления императора Годайго (1319–1320).
Гэндзё, бокуба — музыкальным инструментам присваивались собственные имена, и с ними были связаны разного рода предания.
Кикутэй — Фудзивара Канэсуэ (1275–1339), основатель рода Имадэгава.
(обратно)121
Кинукадзуки — разновидность женской накидки.
(обратно)122
Перевоплотившиеся — бодхисаттвы, праведники, заслужившие права войти в нирвану, но пожелавшие вновь появиться в этом мире в облике человека, чтобы помогать очиститься другим.
(обратно)123
«Великое созерцание» — один из основных трактатов секты Тэндай, Мака сикан (кит. Мокэ чжигуань).
(обратно)124
Рэнга — распространенный в Средние века поэтический жанр. Устраивались состязания в сочинении рэнга.
(обратно)125
Тонъа — монашеское имя поэта Никайдо Садамунэ (1289–1372), близкого друга Кэнко-хоси.
(обратно)126
Кою-содзу — буддийский священнослужитель.
(обратно)127
Тикурин-ин-но-нюдо — монашеское имя Фудзивара Санэясу (1269–1327), продолжавшего после пострига службу при дворе.
(обратно)128
Хоккэн-сандзо — японское звучание имени китайского монаха и путешественника Фа Сянь-саньцзана, который в 399–414 гг. совершил странствие в Индию и на Цейлон.
(обратно)129
Скакун — здесь: мифический скакун сэнри-но ума, в переносном смысле — талантливый, мудрый человек.
Шунь — легендарный китайский император, прославленный мудрец.
(обратно)130
Корэцугу-но-тюнагон — Тайра Корэцугу (1266–1343), поэт, ученый-стилист. В 1342 г. постригся в монахи.
(обратно)131
Энъи-содзё — настоятель храма Миидэра. Годы жизни неизвестны.
(обратно)132
Бумпо — годы правления: 1317–1319.
(обратно)133
Кобата — горное селение к северу от Удзи.
(обратно)134
«Сборник японских и китайских песен» (Бакан роэйсю) — сборник стихотворений японских и китайских поэтов (ок. 1013 г.).
Оно-но Тофу (896–966) — знаменитый каллиграф.
(обратно)135
Сидзё-дайнагон — прозвище поэта Фудзивара Кинто (966-1041).
(обратно)136
Амида-буцу — здесь: буддийский монах секты Дзёдо.
(обратно)137
Гёгандзи — буддийский храм в г. Киото.
(обратно)138
Дни красного языка — 60 дней в году, связанные с именем Расацу, демона-стража Западных ворот, неблагоприятные для начинания или завершения дел. В каждом месяце насчитывали 5 таких дней.
(обратно)139
Токиваи — Фудзивара Санэдзи (1194–1269), сановник.
(обратно)140
Куриката — два углубления на крышках деревянных коробок.
(обратно)141
Мэнамоми — дикорастущая трава семейства хризантем.
(обратно)142
«Немногословные благоуханные беседы» («Итигон ходан») — сборник изречений проповедников секты Дзёдо. Конец XIII в.
(обратно)143
Первый министр Хорикава — прозвище Кога (Минамото) Мототомо (1232–1297).
(обратно)144
Мототоси (1261–1319) — второй сын Кога Мототомо.
(обратно)145
Первый министр Кога — Минамото Митимицу (1187–1248).
(обратно)146
Найбэн — один из двух высших сановников, наблюдавших за ходом церемонии при дворе.
(обратно)147
Найки — секретарь, составлявший текст императорского рескрипта. Утвержденный текст он должен был передать найбэну до начала церемонии.
(обратно)148
Гэки шестого ранга Ясуцуна — Накахара Ясуцуна (1290–1339). Гэки — чиновник Высшего императорского совета.
(обратно)149
Ин-но-дайнагон Мицутада-нюдо — Минамото Мицутада (1284–1331), чиновник придворного юридического управления, монах в миру.
(обратно)150
Коноэ — Коноэ (Фудзивара Иэхира) или его сын Цунэтада.
(обратно)151
Храм-резиденция Дайкаку — буддийский храм в Сага, где жил экс-император Гоуда (отрекся в 1278 г.).
(обратно)152
Тадамори — Тамоа Тадамори, потомок древних иммигрантов из Кореи, потомственный придворный лекарь.
Кинъакира — придворный Фудзивара Кинъакира (1281–1336).
(обратно)153
Кара-хэйдзи — ответ построен на игре слов. Тёзка лекаря Тайра Тадамори (1096–1153) имел прозвище Исэ Хэйдзи. Заменив название японской провинции Исэ древним названием Кореи, получили наименование металлической бутылки для хранения уксуса.
(обратно)154
Сёку — буддийский священнослужитель высшего ранга.
(обратно)155
Бикуни ниже бику… — по традиции, все буддисты делятся на четыре категории (по нисходящей): бику — монахи, бикуни — монахини, убасоку — миряне-мужчины и убаи — миряне-женщины.
(обратно)156
Камэяма — император, был на престоле с 1260 по 1274 год.
(обратно)157
Внутренний министр Хорикава — Минамото Томомори (1249–1316).
(обратно)158
Ивакура — поместье Томомори, ныне в черте г. Киото.
(обратно)159
Прежний регент из храма Чистой Земли — Фудзивара (Кудзё) Моронори (1276?—1320).
Анки (1197–1286) — монашеское имя Арико, супруга императора Гохорикава.
(обратно)160
Левый министр Ямасина — Фудзивара Санэо (1217–1273).
(обратно)161
Се Лин-юнь (385–433) — китайский поэт.
Хуэй Юань (334–416) — основатель Общества верующих в учение Будды.
Белый Лотос — буддийская секта, созданная в Китае в IV в. н. э.
(обратно)162
Иго (го) — игра в шашки на доске с многими делениями, китайского происхождения.
Четыре тяжких и пять великих грехов (буд.) — к первым относятся убийство, воровство, прелюбодеяние и ложь, ко вторым — отцеубийство, убийство матери, убийство архата (человека, достигшего просветленности), пускание крови из тела будды и нарушение гармонии среди священнослужителей.
(обратно)163
Неотесанный мальчишка — слуги, ухаживавшие за быками, носили детскую прическу и одежду.
(обратно)164
Хидзасати и др. — клички, даваемые коровам.
(обратно)165
Сюкугахара — равнина в провинции Мусаси.
Бороборо, бондзи — названия нищенствующих монахов, которые группами бродили по стране, бесчинствовали, вступали в вооруженные схватки между собой.
(обратно)166
Мацутакэ — съедобный гриб.
(обратно)167
Китаяма-нюдо — Фудзивара Санэдзи, отец императрицы.
(обратно)168
Цзе и Чжоу — мифические тираны древности (II тысячелетие до н. э.). Их имена стали символами жестокости.
(обратно)169
Ван Цзыю — китайский каллиграф конца IV — нач. V в. Славился любовью к бамбуку.
(обратно)170
Шесть искусств — правила вежливости, музыка, стрельба из лука, управление экипажем (или верховая езда), каллиграфия и арифметика. Ими должен владеть благородный человек.
(обратно)171
Дзэхо-хоси — поэт, буддийский монах. Жил в XIII–XIV вв.
(обратно)172
Масафуса-дайнагон — Минамото Масафуса (1262–1302).
(обратно)173
Янь Хуай (521–490 гг. до н. э.) — старший ученик Конфуция.
(обратно)174
…стал седым, делая надпись на башне Линъюнь — китайский каллиграф Вэй Дань на высоте около 65 м сделал надпись, признанную образцом уставного письма. Окончив писать, он взглянул вниз и поседел от страха перед высотой.
(обратно)175
Дворец Тоба — построен в 1086 г. в южной части Киото.
(обратно)176
«Записки принца Рихо» — дневник Сигэакира (906–954), сына императора Дайго; был написан по-китайски.
Мотоёси (890–943) — сын императора Ёдзэй, поэт.
Дайгоку — императорская резиденция во Дворце восьми коллегий.
(обратно)177
Экс-император Сиракава (1053–1129) — по преданию, спал в позе Шакья-Муни — на правом боку, головой на север, лицом на запад.
(обратно)178
Дайдзингу — комплекс синтоистских святилищ в провинции Исэ.
(обратно)179
Саммайсо — буддийский монах-аскет.
Такакура — император Японии в 1169–1180 гг. Погребен в храме Сэйкандзи (провинция Ямасиро).
(обратно)180
Сукэсуэ-дайнагон-нюдо — поэт Фудзивара Сукэсуэ (1207–1289), после принятия буддийского сана продолжавший службу при дворе.
Томоудзи — Минамото Томоудзи (1232–1275?), придворный чиновник.
(обратно)181
Ума-но кицурё… — древнее заклинание-перевертыш, позднее — скороговорка, смысл которой был утерян.
(обратно)182
Рокудзё — Минамото Арифуса (1251–1319), каллиграф и поэт.
(обратно)183
…с каким ключом пишется иероглиф «соль»? — иероглиф имеет два варианта написания — полный, с детерминативом «тарелка», и «вульгарный», с детерминативом «земля».
(обратно)184
Суо-но-найси — поэтесса середины XI в.
(обратно)185
«Повесть о четырех временах года» — описание событий, обрядов и явлений природы от начала года до конца. Приписывается Камо-но Тёмэю.
(обратно)186
Яшмовые — поэтическая метафора штор.
(обратно)187
Кусудама — цветочные шары, скрепленные длинными разноцветными шелковыми нитями. Развешивались на шторах в 5-й день 5-й луны.
(обратно)188
Бива — Фудзивара Кадзуко (993—1027), супруга императора Сандзё.
Бэн — Бэн-но Мэното, воспитательница детей императора Сандзё.
(обратно)189
Ко-но-дзидзю — дочь министра Акасоммэ-эмона, поэтесса.
(обратно)190
«Ближняя левая» вишня — сакура, росшая у левого крыла дворца Сисиндэн.
(обратно)191
Кёгоку-нюдо-тюнагон — монашеское прозвище поэта и ученого Фудзивара Тэйка (1162–1241).
(обратно)192
Месяц цветка У — древнее название 4-й луны.
(обратно)193
Карукая — вид степной травы.
(обратно)194
Храм Печальных Полей — буддийский дом призрения.
(обратно)195
Тоганоо — прозвище главы секты Кэгон Миёэ-сёнина (1173–1232).
«Аси, аси!» — Ногу, ногу!
(обратно)196
«А-дзи» — знак А, в толковании буддистов — «ничто».
(обратно)197
Фусё — один из низших придворных чинов. В ином написании может быть истолковано как «не рождается».
(обратно)198
Зад персиком — насмешливое обозначение плохого наездника.
(обратно)199
Мёун-дзасу (1115–1183) — настоятель храма Энрякудзи.
(обратно)200
Нюхать панты — это считалось средством продления жизни.
(обратно)201
Сайдайдзи — один из семи крупнейших буддийских храмов Японии.
(обратно)202
Сайондзи — Минамото Санэхира (1290–1326).
(обратно)203
Сукэтомо — Фудзивара Сукэтомо (1288–1330), приближенный императора Годайго.
(обратно)204
Тамэканэ-но-дайнагон — Фудзивара Тамэканэ (1254–1332), приверженец антикамакурской коалиции, поэт.
Рокухара — район в Киото, где находилось управление сиккэнов Ходзё во главе с двумя наместниками.
(обратно)205
Восточный храм — Тодзи, буддийский храм в Киото.
(обратно)206
Левый министр из Удзи — Фудзивара Ёринага (1120–1156). Погиб под г. Нарой, куда был направлен для подавления мятежа.
(обратно)207
Павильон Трех Восточных Дорог — один из императорских дворцов в Киото.
(обратно)208
Минамусуби — плетеный шнур, служивший украшением в одежде придворной знати и буддийского духовенства.
(обратно)209
Мина — спиралевидная пресноводная ракушка.
(обратно)210
Кадэнокодзи — знаменитый стилист и каллиграф Фудзивара Цунэтада (конец XIII — нач. XIV в.).
(обратно)211
Гома — обряд возжигания кедровых палочек в эзотерическом буддизме.
(обратно)212
Гёбо — совокупность четырех магических обрядов в буддизме.
(обратно)213
Храм Чистого покоя (Сэйгандзи) — буддийский храм в Киото.
(обратно)214
Храм Повсюду Сияющего (Хэндзёдзи) — храм в Киото, посвященный культу будды Шакья-Муни.
(обратно)215
Тайсё — название 9-й луны в гадательных книгах.
(обратно)216
Моритика — предположительно: Фудзивара Моритика (нач. XIV в.).
(обратно)217
Канцлер Коноэ — один из регентов из дома Фудзивара.
Ёсихира — астролог рубежа X–XI вв. Абэ Ёсихира.
(обратно)218
Ясное и Тайное учения — эзотерический и экзотерический буддизм.
(обратно)219
Император Госага — правил в 1243–1246 гг.
(обратно)220
Укё — поэтесса, жившая в конце XII — нач. XIII в.
Кэнрэй — монашеское имя императрицы Токуко (1157–1213).
Император Готоба — занимал престол с 1184 по 1198 г.
(обратно)221
Юань Цзе (210–263) — китайский поэт. Передают, что друга он встречал «голубыми глазами» (с радостью), а недруга — «белыми глазами» (недружелюбно).
(обратно)222
Покрывающий ракушки… — старинная игра каиавасэ, точные правила игры в которую забыты.
(обратно)223
Цин Сяньгун — китайский чиновник; жил в XI в.
(обратно)224
Юй — мифический китайский император (XXII в. до н. э.). Выступив в молодости в поход против племени саньмяо, он встретил решительный отпор, но отослал войско в столицу и принялся «расстилать добродетель», чем и подчинил непокорное племя Китаю.
(обратно)225
Оно-но Комати (834–900) — знаменитая поэтесса.
(обратно)226
Киёюки — Мики Киёюки (847–918), ученый-стилист.
Коя-но-дайси — Кукай (774–835), крупный буддийский проповедник, ученый и каллиграф, основатель секты Сингон.
(обратно)227
Годы Дзёва — 834–847 гг.
(обратно)228
Комацу — император Коко (885–887).
(обратно)229
Принц Камакура-но-тюсё — Мунэтака (1242–1274), второй сын императора Годайго.
Кэмари — игра, напоминающая футбол.
(обратно)230
Сасаки-но Оки — Сасаки Масаеси (1208–1290), служил при сёгунском правительстве; в 1250 г. постригся в монахи.
(обратно)231
Ёсида-но-тюнагон — Фудзивара Фудзифуса, приближенный Годайго.
(обратно)232
Найсидокоро — зал во дворце, где совершались поклонения священному зерцалу и исполнялись ритуальные танцы.
(обратно)233
Священный меч — один из трех символов императорской власти. Хранился в Ночных покоях. В Полуденных покоях хранился меч, надевавшийся императором при обычных выходах.
(обратно)234
Догэн — дзэн-буддийский наставник. В 1309 г. посетил Китай.
Шрамана — буддийский монах-проповедник.
«Все сутры» — «Трипитака», буддийский канон.
(обратно)235
Сюрёгон — одна из основных сутр секты Дзэн.
Храм Наранда — одно из названий сутры Сюрёгон — «Сутра о великом пути из храма Наланда в Центральной Индии». Наранда — японское произношение слова Наланда.
(обратно)236
«Записки о путешествии на запад» (Сиюйцзи) — путевые записки танского монаха Сюань-цзана (600–664) о путешествии в Индию.
(обратно)237
Косоцу — поэт и историк Оэ Тадафуса (1041–1111).
(обратно)238
Храм Западного Просветления — буддийский храм в Чанъани.
(обратно)239
Сагитё — ритуальный факел; возжигался в присутствии императора в 15-й и 18-й день 1-й луны.
(обратно)240
Павильон Истинного Слова, Парк Священного Источника — части императорского дворцового комплекса в Киото.
(обратно)241
«В Пруду Исполнения Молений» — слова обрядовой песни, исполнявшейся при возжигании факелов сагитё.
(обратно)242
Тамба — провинция к северо-западу от Киото.
(обратно)243
Сануки-но Сукэ — фрейлина при дворе императора Хорикава. Дневник вела в 1107–1108 гг.
(обратно)244
Сидзё-дайнагон Такатика — прозвище придворного Фудзивара Такатика (1203–1279).
(обратно)245
Токиёри (1226–1263) — 5-й камакурский сиккэн Ходзё.
(обратно)246
Сёдзи — раздвижные перегородки в японском доме.
(обратно)247
Ёсикагэ — Адати Ёсикагэ (1210–1253), крупный чиновник.
(обратно)248
Ясумори — сын Ёсикагэ. Погиб в 1285 г.
(обратно)249
Ватанобэ — местность в окрестностях г. Осаки.
(обратно)250
Торэн — буддийский монах; поэт. Жил в XII в.
(обратно)251
Кога-наватэ — дорога, проходившая из Киото через селение Кога.
Косодэ — шелковый халат с короткими рукавами.
(обратно)252
Кога — прозвище Минамото Митимото (1240–1308).
(обратно)253
Тодайдзи — крупный буддийский храм в г. Наре.
Восточный храм (Тодзи) — буддийский храм в Киото.
(обратно)254
Цутимикадо — Минамото Сададзанэ (1241–1306).
(обратно)255
«Извлечения из Северных гор» — сочинение Фудзивара Кинто (966—1041), описывающее придворные церемонии. «Толкование Сайкю» — сочинение Минамото Такаакита (898–930), посвященное древним обрядам и церемониям.
(обратно)256
«Установления годов Энги» (Энгисики) — сборник, описывающий обряды, придворные церемонии, официальные приемы. Составлен в 927 г. Фудзивара Токихира (871–909) и Фудзивара Тадахира (880–949).
Нёдзю — женская прислуга при императорском дворе.
(обратно)257
Сукэ, сакан — категории чиновников. Названия этих категорий (ками, сукэ, дзё, сакан) присоединялись к именам собственным.
(обратно)258
«Краткое изложение важнейших принципов управления» (Сэйдзи ёряку) — описание японских законов, составленное в 1008 г. Корэмунэ Токисукэ.
(обратно)259
Гёсэн-хоин из Ёкава — монах, живший в одной из пагод монастыря Энрякудзи.
(обратно)260
Императорские каналы — каналы на территории дворца.
Нидзю — один из флигелей императорского дворца в Киото.
(обратно)261
Ступа — сооружение в форме пагоды, внутри которой хранится буддийская реликвия.
(обратно)262
Годзё — синтоистское святилище в Киото.
(обратно)263
Курама — буддийский храм в окрестностях Киото, которому подчинено синтоистское святилище.
(обратно)264
Дзиэ — посмертное имя настоятеля Энрякудзи Рёгэна (910–983).
(обратно)265
Косюн — буддийский священнослужитель, происходил из рода Кудзё. В 1320 г. стал настоятелем храма Тодзи.
Кэгон — один из павильонов храма Ниннадзи.
(обратно)266
Ёбуко-дори — разновидность кукушки.
(обратно)267
Нуэ — мифический полузверь-полуптица.
(обратно)268
Нагаута — одна из форм древней японской поэзии, «длинная песня».
(обратно)269
«Собрание мириад листьев» — «Манъёсю», древнейшая антология японской поэзии, VIII в.
(обратно)270
Янь Хуай — один из любимых учеников Конфуция.
(обратно)271
Яхата — синтоистское святилище группы Ивасимидзу.
(обратно)272
Ван Цзянь — китайский государственный деятель V в. н. э.
(обратно)273
Кайкоцу — японское произношение названия древних уйгур.
(обратно)274
Тайра-но Нобутоки — Ходзё Нобутоки (1238–1323).
(обратно)275
Саймёдзи — монашеское имя сиккэна Ходзё Токиёри.
(обратно)276
Хитатарэ — простой халат для повседневного пользования.
(обратно)277
Мисо — масса из перебродивших бобов с приправами.
(обратно)278
Святилище Цуругаока — храм в окрестностях Камакура, посвящен культу бога Хатимана.
(обратно)279
Асикага — Асикага Ёсиудзи (1189–1254), крупный феодал и правительственный чиновник.
(обратно)280
Рюбэн-содзё (1208–1283) — настоятель буддийского храма, подчиненного святилищу Цуругаока.
(обратно)281
«Постигнувший суть вещей» не отличается от «знакомого с принципами» — высшая и начальная из шести ступеней познания истины.
(обратно)282
Дворец Хорикава — резиденция Кога Мототомо и его сына.
(обратно)283
Сидзё-но-комон — последователь императора Годайго Фудзивара (Сидзё) Такасукэ (1293–1352).
(обратно)284
Тацуаки — потомственный музыкант Тоёхара Тацуаки (1292–1364).
(обратно)285
Кагэмоти (1292–1376) — флейтист из рода Ога.
(обратно)286
Сё — духовой инструмент из бамбука.
(обратно)287
Храм Небесных Королей — старинный буддийский храм в Осаке.
(обратно)288
Пагода Шести времен в храме Небесных Королей названа по колоколу, в который били 6 раз в сутки.
(обратно)289
…От собрания в честь нирваны до собрания в память принца Сётоку. — Собрание в честь достижения буддой Гаутамой нирваны проводилось в 15-й день 2-й луны, в память Сётоку — в 20-й день.
(обратно)290
Обитель Чистоты Священного Сада — буддийский храм в Индии, где, по преданию, читал проповеди Шакья-Муни.
Уголком Быстротечности называется его северо-западная часть.
(обратно)291
Храм Сайондзи и храм Чистого Алмаза — ныне расположены в черте Киото.
(обратно)292
Толкователь законов — должность в департаменте дознаний.
(обратно)293
Кэндзи-Коан — девизы правления Гоуда (1275–1287).
Хобэн — здесь: персонаж праздничного представления.
(обратно)294
Дзёган (1168–1251) — священнослужитель секты Дзёдо.
Такэдани — долина в окрестностях Киото.
Тонидзё (1242–1304) — монашеское имя Кимико, супруги императора Гофукакуса.
(обратно)295
Комё сингон, Хокёин дхарани — буддийские молитвы.
(обратно)296
Нэмбуцу — возглашение имени будды Амитабха.
(обратно)297
Детское имя — присваивалось на шестые сутки после рождения и заменялось взрослым при достижении совершеннолетия.
Тадзу — крупный чиновник, поэт Фудзивара Мотоиэ (1203–1280).
(обратно)298
Аримунэ — астролог Абэ Аримунэ. Биография не установлена.
(обратно)299
Митинори — Фудзивара Митинори, придворный чиновник, затем буддийский монах. Погиб в 1159 г., во время «мятежа Хэйдзи».
О-но Хисасукэ (1214–1295) — музыкант.
(обратно)300
Суйкан — разновидность охотничьего платья (каришну).
(обратно)301
Минамото Мицуюки (1163–1244) — поэт и филолог.
(обратно)302
Камэгику — танцовщица и певица, фаворитка императора Готоба (правил в 1184–1198 гг.).
(обратно)303
Юкинага — достоверных данных о нем не сохранилось.
(обратно)304
Юэфу — жанр китайской народной поэзии.
(обратно)305
«Танец семи добродетелей» — сборник авторских юэфу VII–X вв.
(обратно)306
Дзитин — посмертное имя Ёсимидзу-но-касё.
(обратно)307
«Повесть о доме Тайра» — военно-феодальная эпопея о событиях междоусобных войн конца XII в. См.: Повесть о доме Тайра. М.: Художественная литература, 1982.
(обратно)308
Куро Хоган — прозвище Минамото Ёсицунэ (1159–1189), одного из героев японского эпоса, героя войн против рода Тайра.
(обратно)309
Каба-но Кандзя — Минамото Нориёри (1156–1193), активный участник войн с Тайра.
(обратно)310
Бива-хоси — слепые монахи-сказители.
(обратно)311
«Славословие Шести времен», «Славословия в поминальной службе» — ритуальные буддийские тексты.
Анраку — буддийский проповедник начала XIII в.
(обратно)312
Удзумаса — местность возле Киото (ныне в черте города).
Дзэнкан — монах, биография не выяснена.
(обратно)313
Сэмбонский храм — находился в одном из районов Киото, Сэмбоне.
Нёрин — буддийское имя Фудзивара Сумисора.
Годы Бунъэй — 1264–1274.
(обратно)314
Мёкан — скульптор, вырезавший в 780 г. статую богини Каннон.
(обратно)315
То-дайнагон — чиновник из рода Фудзивара.
(обратно)316
Соно-но-бэтто — буддийское имя Фудзивара Мотоудзи (1213–1282); до пострижения — крупного придворного чиновника.
(обратно)317
Лисы и совы — считались способными стать оборотнями.
(обратно)318
Великое святилище — один из главных синтоистских комплексов; расположен в провинции Идзумо.
(обратно)319
Сёкай — буддийский священнослужитель; биография неизвестна.
(обратно)320
Лев и злая собака — изваяния перед входом в святилище; выполняют охранительные функции.
(обратно)321
Тикатомо — предположительно: Накахара Тикатомо (рубеж XI–XII вв.), конюший экс-императора Хорикава.
(обратно)322
Храм Света Победы Истины (Сайсёко) — буддийский храм в Киото.
(обратно)323
Мадэ-но-кодзи — дворец для наследных принцев.
Хорикава-дайнагон — Фудзивара Моронобу (1274–1321), приближенный императора Годайго.
(обратно)324
Дзёдзайко — старинный буддийский храм возле Киото.
Ариканэ — стилист Сугавара Ариканэ (1243–1321).
(обратно)325
Три пагоды — три группы буддийских храмов в провинции Оми.
(обратно)326
Ёкава — одна из групп в «Трех пагодах».
(обратно)327
Сари и Кодзэй — знаменитые хэйанские каллиграфы.
(обратно)328
Восемь несчастий (буд.) — 8 обстоятельств, мешающих отрешенности: горе, страдание, радость, наслаждение, желание, любопытство, вдох и выдох.
(обратно)329
Церемония с наговорной водой — эзотерический обряд опрыскивания буддийских святынь.
(обратно)330
Пятнадцатый день второй луны — день поминовения Шакья-Муни.
(обратно)331
…соответствуют созвездию Овна. — Каждая из 28 частей ночного неба соответствовала определенному созвездию, а оно, в свою очередь, определенным дням в календаре.
(обратно)332
Равнина Августейшей Ограды — низина у ограды императорского дворца, поросшая густой травой. В поэзии упоминалась при описании любовного свидания.
В. Н. Горегляд
(обратно)
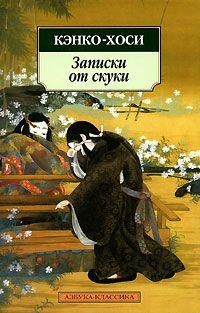



Комментарии к книге «Записки от скуки», Ёсида Кэнко-Хоси
Всего 0 комментариев