Гасьен де Куртиля де Сандр
Мемуары графа де Рошфора, содержащие сведения о том, что важного произошло при кардинале де Ришельё и кардинале Мазарини, со многими отличительными особенностями правления Людовика Великого
Перевод с французского и послесловие Сергея Нечаева
Серия «История – это интересно!» основана в 2009 году
В качестве иллюстраций использованы старинные картины и гравюры, а также фрагменты рисунков Мориса Лелуара
Дизайн – Александр Архутик
Весь мир знакомится с французской историей по романам Дюма. И пусть эта история не во всем верна, зато она интересна и полна самых захватывающих приключений. Более того, его можно даже считать родоначальником нового литературного жанра – эдакой исторической фантастики, в которой автор пишет не о будущем, а о прошлом, используя известные факты всего лишь как иллюстрации к развиваемому сюжету, к собственному взгляду на происходившие события. Конечно, серьезных историков это не может не раздражать.
Мы не будем осуждать Александра Дюма. Он ведь не историк, а романист, и написал увлекательные книги, которыми зачитываются многие поколения людей. А главное – Александр Дюма очаровал нас всех приключениями своего героя.
А что же де Куртиль? Ему просто не так повезло, и его имя долгое время оставалось совершенно забытым. Однако его история графа де Рошфора – это множество весьма метких исторических портретов, масса событий, к которым сам вымышленный граф не имел ни малейшего отношения, обилие интриг, заговоров, любовных приключений, придворных сплетен… И ничего демонического, потому что граф де Рошфор не был негодяем, антигероем или «игроком на поле зла», как его часто называют. Напротив, он был благородного происхождения и очень чтил кодекс чести. Просто он полжизни работал шпионом (есть ведь и такая работа), и обязанности свои он выполнял на совесть
«Мемуары графа де Рошфора» Гасьена де Куртиля де Сандра – это 448 страниц убористого текста, который, если изложить его современным языком, вполне может превратиться в историко-приключенческий бестселлер, действие которого происходит в XVII веке в старой доброй Франции. Что, собственно, мы и попытались сделать.Предисловие
Граф де Рошфор[1] был человеком настолько известным, и он умер настолько недавно[2], что, похоже, не надо уточнять ничего из того, что он говорит в своих воспоминаниях. Все, кто служил в армии или при дворе, прекрасно знают, что он был неспособен выдавать вымысел за правду и уж тем более писать что-либо ради введения публики в заблуждение.
Короче говоря, трудно найти человека более благородного, и я это утверждаю вовсе не потому, что был одним из его друзей, а потому, что считаю себя обязанным отдать ему должное. Если же с самого начала своих воспоминаний он говорит о своем отце нечто такое, что может показаться удивительным, не надо думать, что это неправда. Мы теперь каждый день имеем возможность видеть такие необычные вещи, что люди, хорошо знающие Париж, этому уже не удивляются. Не проходит и года, чтобы этот большой город не дал нам какой-либо весьма болезненный для одних людей сюжет, которым другие бы тут же не воспользовались к своей выгоде. То же, что касается его родственников, например его сестры, выглядит уже не столь удивительно. Сколько мужей бегают за своими женами после того, как бросили их? Я не говорю этого из-за благочестия… Я знаю многих людей, которым стоил немалых денег переход в разряд рогоносцев и которые, тем не менее, получив все, что они заслуживают, потом вдруг начинали предпринимать не меньше усилий для воссоединения, чем ранее – для развода.
Короче, если бы я не был уверен в том, что все это правда, мне это показалось бы еще более невероятным, чем, например, мужчина, который стремится вернуть свою жену, к которой никогда не испытывал ничего, кроме уважения. Но мне могут возразить, что тот, о ком здесь идет речь, был священником, и ему непозволительно вновь брать жену после подобного. Но почему бы и нет, если Парламент[3] решил, что он может это сделать? Как бы то ни было, чтобы воздать должное истине, скажу, что, оказавшись однажды в компании с господином президентом де Байёлем [4], я его спросил, помнит ли он об этом процессе, а также о том, что господин де Рошфор упомянул, рассказывая о нем.
Он мне ответил на это, что помнит, что нечто подобное происходило, после чего уже не о чем было говорить. Действительно, господин де Байёль – это человек такой всем известной порядочности и честности, что одного его свидетельства было бы достаточно, чтобы убедить и самых недоверчивых.
Если господин де Рошфор выказывает себя столь искренним в рассказе, так сильно похожем на вымысел, то тем больше должны мы верить вещам, которые он излагает помимо того. В самом деле, что неправильного можно найти в том, что он говорит о кардинале де Ришельё? Разве мы не знаем, что все первые министры были людьми таинственными, они и должны быть такими, а этот среди всех выделялся именно этим качеством, как и рассказывает господин де Рошфор? Как бы то ни было, разве существует что-либо более естественное, чем то, что делал этот министр, чем его амбиции? В этом даже можно найти определенные уроки того, как надо себя вести, что является главной пользой, которую можно извлечь, прочитав эту книгу.
Я уверен также, что главная причина, толкнувшая графа де Рошфора написать ее, заключалась не в том, чтобы показать, как его использовали в различных секретных делах, а в том, чтобы на своем примере сделать людей мудрее. Мне кажется, что я могу доказать верность этого утверждения на примере того, сколько раз он начинал сначала в самых безнадежных ситуациях, в которые попадал благодаря господину кардиналу де Ришельё. То же самое можно сказать и о его слабости, выражавшейся в том, что он хотел подольше казаться молодым.
Однако, даже если мемуары и не так полезны, как мне кажется, они, бесспорно, очень интересны. В них есть множество весьма захватывающих эпизодов, которые до сих пор еще не были описаны никем другим. Они очень разнообразны, и я не думаю, что кто-то будет скучать, читая эту книгу. Возможно, я испытываю слишком дружеские чувства к тому, кто их написал, но мы были такими друзьями, что имею право на эту слабость. Однако я не единственный, кто их прочитал, и остальные тоже придерживаются того же мнения, а посему я подчеркну еще раз, что мемуары эти великолепны.
При этом признаюсь в одной вещи: я выставляю на ваш суд эти мемуары против воли их автора, который прожил всего два месяца после своего выхода в отставку и распорядился уничтожить их. Не знаю, почему он так захотел. Возможно, перед тем, как покинуть этот мир, он решил пощадить некоторых людей, с которыми у него имелись разногласия и о которых он отзывается не слишком хорошо. Но это не показалось мне достаточной причиной для того, чтобы лишить публику такого занимательного произведения: как бы то ни было, вот оно в том виде, в каком я его получил, а я сам в нем ничего не прибавил и не убавил.
МЕ
Мемуары графа де Рошфора
Между Парижем и Этампом, на прямой линии, проходящей через Шартр, находится замок Оленвиль, который в прежние времена был королевской собственностью, а ныне принадлежит господину де Марийаку.
Как-то раз мой отец отправился к одному из своих родственников и взял с собой мою мать, находившуюся тогда на пятом месяце беременности. По пути они заехали к соседу, которого звали господином Гриньи, и там их кучер изрядно выпил, а потом вдруг свернул с дороги и вывез их к воротам замка Оленвиль.
Это обстоятельство привело к непоправимым последствиям, так как у моей матери вдруг начались роды, она получила при моем рождении серьезные травмы и не прожила после этого и двух дней. Это стало причиной страшной печали для всей семьи, в которой все ее очень уважали. Мой отец был так взбешен произошедшим, что готов был убить кучера, которого он считал виновником смерти моей матери. Однако господин де Марийак помешал ему это сделать, но мой отец все равно добился того, что кучера бросили в тюрьму, из которой, правда, он вышел через два или три месяца, добившись признания своей невиновности.
В связи с тем что никто и не предполагал, что я выживу, меня решили немедленно крестить. Господин де Марийак принял в этом самое деятельное участие вместе с одной дамой, оказавшейся поблизости. Ее звали мадам д'Абрувиль. А меня назвали Шарлем-Сезаром, то есть именем, которое носил мой отец, так как всем показалось, что это доставит ему удовольствие. Мне наняли кормилицу, и мой отец отправил меня в свой замок, находившийся рядом с Орлеанским лесом, а сам поехал в Париж, куда его позвали неотложные дела.
* * *
Я был единственным его ребенком, и, как уже было сказано, никто не верил в то, что я выживу, а посему все советовали моему отцу жениться во второй раз. Он был еще совсем не старым человеком, а посему легко согласился с такой постановкой вопроса. Ему предложили несколько кандидатур из лучших парижских семей, но он захотел посмотреть на всех претенденток прежде, чем принять решение, а посмотрев, не нашел никого, кто бы ему понравился. Либо там действительно не было никого достойного, либо он еще находился под впечатлением несчастного случая, связанного с моим рождением.
Как бы то ни было, но к нему вдруг пришел один из его родственников, служивший кюре в одном из лучших церковных приходов Парижа и имевший репутацию святого человека, каковым он на самом деле и являлся, и объявил, что нашел то, что нужно, – красивую девушку, юную, хорошо сложенную, богатую и во всех отношениях достойную. Короче говоря, он сказал, что это настоящее сокровище и такой случай нельзя упускать.
Конечно, мой отец прекрасно знал, что нет ничего опаснее, чем жениться по совету священника, однако святость его родственника заставила его подумать, что не бывает правил без исключений. Он сказал, что все решено, ибо он полностью доверяет мнению человека, который для других всегда делает даже лучше, чем для самого себя. Кюре ему ответил, что эта партия может принести целое состояние, что девушка в один прекрасный день будет иметь двадцать тысяч ливров ренты, что она происходит из уважаемого семейства де ля Форс и что она сможет сразу же после замужества пользоваться недвижимостью своего отца, так как у того больше нет наследников.
Невозможно с полной уверенностью сказать, какие из этих слов воздействовали на моего отца в наибольшей степени, но он тут же заявил, что хочет видеть мадемуазель, и кюре отвез его в монастырь, где она в то время находилась. Оттуда мой отец вышел под таким впечатлением, что не хотел ничего и слышать, пока дело не будет урегулировано. Однако, так как он не был совсем глупым или, как минимум, не считал себя таковым, он написал нескольким своим друзьям, которые у него были в Ажане, в районе которого находилась недвижимость отца девушки. Они ответили ему, что мадемуазель очень добродетельна, что она богата и что он, если женится на ней, будет самым счастливым из мужей. Его счастье длилось примерно три недели, в течение которых он ласкал ее так часто, как этого не сделал бы со своей любовницей ни один из самых молодых и самых пылких мужчин. Он водил ее на балы, в театр, на прогулки, а когда ему приходилось иногда оставить ее на час или на два, он возвращался к ней с такой поспешностью, которая была просто непростительна для законного супруга. Все вокруг были удивлены тем, что эта его восторженность никак и ничем не регулировалась, но все решили, что, по сути, это обычное дело, когда речь идет о женщине, у которой невозможно найти ничего, что было бы способно вызвать отвращение.
При этом я был совершенно забыт, и если обо мне иногда и спрашивали, то лишь для того, чтобы узнать, не умер ли я еще. Мой отец очень хотел сына от своей новой жены и уже совсем не вспоминал о моей матери, а посему уже заранее был полон чувств к этому второму ребенку от второго брака.
Он ощущал себя в полной безопасности от любых ударов судьбы и думал лишь о том, как лучше провести время в ожидании того, на что рассчитывал в отношении имущества своей жены. При этом он подарил ей великолепную карету, массу соответствующих нарядов, но это не особо ее радовало, и порой ее лицо принимало такое меланхолическое выражение, что мой отец даже удивлялся. Он постоянно ее спрашивал, все ли хорошо и не нуждается ли она в чем. Короче, ей достаточно было одного слова, и человек, сердцем которого она завладела, уже не мог отказать ей ни в чем.
Они предавались всем возможным ласкам, как вдруг однажды мой отец почувствовал у нее на спине нечто такое, что показалось ему ненормальным. Он захотел посмотреть, что это такое, но она предпочла удалиться, не ответив, а это вызвало у моего отца подозрения, которые еще больше возбудили его любопытство. Она попросила его не настаивать, сказала, что там нет ничего, достойного повышенного внимания, но мой отец не остановился и силой сорвал с нее рубашку. Сделав так, он увидел такое, что непременно рухнул бы наземь, если бы не лежал в этот момент. Он увидел, с позволения сказать, ярко выраженный цветок лилии[5], что тут же продемонстрировало ему, в какой степени он заблуждался в отношении ее благочестивости. Она попыталась вернуть ему все те ласки, которые от него успела получить, но он сделался невосприимчивым к подобного рода отвлекающим маневрам. В один миг к нему вернулось чувство реальности, и он воскликнул:
– Бесчестная, вас следовало бы повесить, и, клянусь, если мне не отдадут должное, я собственными руками убью вас!
Потом он быстро вскочил, нашел кюре и высказал ему все, что в тот момент подсказала ему его ярость. Однако, видя, что это ни к чему не может привести, он спросил, каким лекарством тот собирается лечить то зло, которое сотворил.
Бедный кюре поначалу даже отказался поверить в то, что сообщил ему мой отец, но потом, поняв, что это правда, бросился ему в ноги и стал просить прощения, поднимая глаза к небу и понося нечестность девушки, воспользовавшейся его доверчивостью.
Однако мой отец продолжал возмущаться, грозя своими криками собрать всю округу, и тогда священник, который раньше был адвокатом, сказал ему, что совершенное зло велико, но нет такого зла, против которого не существовало бы лекарства. Он сказал, что брак этот недействителен, так как имя жены подложно, что нужно как можно быстрее дать делу ход и что успех гарантирован.
Как во время кораблекрушения нужно привязываться ко всему, с помощью чего можно спастись, так и тут мой отец доверился тому, что сказал этот посланник неба. Он побежал во дворец и нашел там трех самых ловких адвокатов, и те подтвердили ему вышесказанное. Однако они отметили, что неплохо было бы иметь каких-то свидетелей, если молодая женщина заартачится, но это было сложно для моего отца, так как ему было стыдно обращаться к кому-либо с подобного рода просьбой.
Короче говоря, он прождал несколько дней до тех пор, пока не обнаружил, что некое лицо предпринимает усилия, чтобы ей помочь, и лишь это заставило его сделать то, чего в обычных обстоятельствах он не сделал бы никогда.
К несчастью для себя, он обнаружил, что она не брала чужого имени, что ее действительно звали Мадлен де Комон, как и было написано в брачном свидетельстве. Она взяла себе имена своих отца и матери, и единственное, что она придумала, это то, что отца она представила как шевалье и владельца многих имений, а мать – благородной и могущественной дамой, в то время как на самом деле он был простым мельником, а она – мельничихой. Так как дело было весьма деликатным, ему посоветовали дать ей немного денег, чтобы быть уверенным в том, что все пройдет как надо, но ее сторонник, который, видимо, мечтал навредить моему отцу, с которым они когда-то имели какие-то проблемы, не захотел принимать подобные условия. Тогда моему отцу посоветовали подключить к делу генерального прокурора, который потребовал, чтобы ее осудила Церковь. В результате она публично отреклась, хотя и была с рождения католичкой. Это поставило и ее, и ее сторонника в трудное положение, и она вынуждена была согласиться на сумму в тысячу экю[6], хотя раньше ей предлагались две тысячи.
* * *
Мои родственники, прекрасно видевшие, что эта женитьба может меня разорить, не стали особо возмущаться. Они подумали, что это сделает моего отца мудрее, однако он, едва выкарабкавшись из одной проблемы, тут же оказался вмешанным в другую.
Дело в том, что он снимал жилье у одного богатого торговца в начале улицы Сен-Дени, чтобы быть поближе к дворцу. В том доме жила одна-единственная девушка, которой было примерно лет девятнадцать-двадцать. Она была не очень красива, но весьма неплохо сложена. Моему же отцу она показалась очаровательной, так как она часто утешала его именно в те моменты, когда он в этом особенно остро нуждался. И вот, кое-как разрешив свою предыдущую проблему, он вдруг решил, что самым лучшим для него будет жениться на ней. А она была знающей девушкой, выросшей под крылом своей матери, дамы кокетливой и небедной, и она очень хотела выйти замуж.
Перед женитьбой отец решил все же поговорить об этом со своими родственниками. Господин де Марийак[7] был одним из самых высокопоставленных среди них, и он был проинформирован первым. Мой отец рассказал ему о красоте девушки, о ее образованности, уме, богатстве и согласии ее родителей. Короче говоря, он попытался пустить пыль в глаза по поводу женитьбы, которая делала мало чести нашему роду.
Господин де Марийак, бывший человеком благородным, заявил, что удивлен скоростью, с которой мой отец принимает подобные решения, что для него не сюрприз, что девушка хочет замуж, так как все девушки хотят иметь мужа. А вот то, что ее родители так быстро согласились, выглядит подозрительным, и что тут надо разобраться, не скрывается ли здесь какой подвох. Если бы кто-то другой, а не господин де Марийак сказал такое, мой отец не обратил бы на это внимания, но, будучи воспитанным в уважении к нему, он счел нужным ответить, что с этой точки зрения нечего бояться и что он за это отвечает. Господин де Марийак с улыбкой возразил, что это его дела, и если он и высказал свое мнение, то лишь потому, что считал себя обязанным сделать это, и не просто из-за родственных связей, но и из соображений дружбы, которая всегда имела место между двумя семьями.
После этого мой отец, невзирая на добрый совет, который ему дали, рассказал все своему двоюродному брату, весьма пожилому человеку. А тот, перед тем как согласиться присутствовать на свадьбе, захотел одеться соответствующим образом, рассказав при этом обо всем своему портному. То есть он сказал, что собирается ехать на свадьбу своего кузена и своего наследника, который собирается жениться на дочери такого-то торговца.
– О, месье, – воскликнул портной, – что же он делает! Неужели нет других девушек во всем Париже?
Это удивило пожилого дворянина и заставило его поинтересоваться, почему последовал такой вопрос.
– Это связано с тем, – ответил ему портной, – что у нее есть ребенок от молодого человека, который жил у ее отца, но я не стал бы говорить так, если бы дело было только в этом и если бы я был уверен, что она стала благоразумной.
– Как же так, – удивился дворянин, – это разве безделица – иметь ребенка, или в Париже это не считается серьезным делом?
– Я этого не говорил, – ответил портной, – но, если девушка просто потеряла добрую репутацию, я никогда не стал бы касаться этой темы, если бы не было опасности, что благородный человек окажется обманутым. Она же не только продолжает жить во грехе, но и доходит до того, что не проходит и дня, чтобы она не появлялась в публичном месте, которое находится прямо напротив ее дома. Она думает, что ее никто не знает, что она может остаться неузнанной, но она и не подозревает, что я не раз делал покупки у ее отца, а посему прекрасно знаю, кто она такая.
Столь искренний рассказ удивил моего родственника. Через час он послал за моим отцом и спросил, что тот теперь думает о женитьбе на этой девушке. Мой отец ответил, что это все злословие и чистой воды ложь. Тогда, видя его столь слепым, родственник сказал, что не пойдет на свадьбу. Более того, он сказал, что лишит его наследства, если тот проигнорирует его предупреждение, но мой отец, отвергнув все эти угрозы, в тот же день принес ему на подпись брачный договор. После этого наш родственник, взяв документ из рук нотариуса, разорвал его на тысячу мелких кусочков. Но и этим он не удовлетворился, а нашел господина де Марийака, рассказал ему обо всем, что узнал, и попросил использовать весь его авторитет, чтобы помешать этому грязному делу. Господин де Марийак вскочил в карету, нашел моего отца и сказал ему, что прибыл не для того, чтобы просить тут же отказаться от женитьбы, но для того, чтобы прояснить ситуацию: то, что говорят о девушке, это, может быть, и злословие, но все же нужно все тщательно проверить, а для этого нужно лишь сказать, что срочные дела требуют его отъезда на несколько дней, а за это время можно будет узнать всю правду.
Это было слишком разумным, чтобы мой отец мог возражать. Он сделал вид, что отъехал по срочным делам, пообещав вернуться через восемь дней, а сам поселился у портного и стал вести наблюдение.
И уже на следующий день он увидел то, чего совсем не хотел бы видеть, и во всем этом принимала участие его девушка. Он даже сначала не поверил своим глазам, но потом жители квартала подтвердили все то, что рассказывал о ней портной. Убедившись в их правоте, мой отец заплакал, как ребенок, вскочил на коня, никому ничего не сказав, и вернулся к себе, не повидав перед отъездом никого, в том числе и господина де Марийака.
Однако из рук парижан так просто не вырываются, и мой отец, проигнорировавший все, что ему сказали, и оказавшийся настолько безумным, что подписал все статьи брачного договора, был возвращен назад и предстал перед Церковным судом, который приговорил его к двум тысячам франков штрафа. Он не заплатил этих денег, после чего его вызвали в Парламент, потом он обратился в Совет, но это лишь увеличило его проблемы и сумму долга: вместо двух тысяч, к которым он был приговорен ранее, он теперь должен был заплатить три тысячи франков.
* * *
Хотя мой отец и показал себя человеком неисправимым, многие думали, что произошедшее с ним послужит ему хорошим уроком. Но, желая, как я уже говорил, чтобы у меня появилась мачеха, и притом самая злая из тех, что можно было бы себе представить, он женился на женщине, которая так сильно завладела его рассудком, что меня изгнали из дома вместе с моей кормилицей. Меня отвезли в Оленвиль. Как мне кажется, сделано это было для того, чтобы в этом месте, столь губительном с самого моего рождения, для меня все закончилось бы тем же, чем и для моей бедной матери.
Там я прожил целый год, и при этом моя кормилица ни слова не слышала о моем отце, хотя сама она написала ему немало писем, а ее муж находился в его замке. По истечении этого времени кучер моего отца, проезжая мимо Оленвиля, сообщил моей кормилице, что у него есть приказ передать ей сетье[8] зерна, словно этого было достаточно для моего пропитания.
Потом прошел еще один год, когда никто даже не поинтересовался, жив я или уже умер, так все боялись, что в ответ потребуют денег. Ничто не обязывало бедных людей, которые меня приютили, кроме того, что у них самих не было детей, и это стало причиной того, что они рассматривали меня как своего собственного ребенка.
Тем временем моя мачеха не только родила одного мальчика, но уже была готова произвести на свет второго, и это способствовало тому, что моему отцу было совсем легко забыть о моем существовании. Правда, соседи нередко спрашивали его обо мне, и это доставляло ему порой некоторые неудобства, но мачеха каждый раз отвечала, что со мной все хорошо и меня еще не вернули в дом лишь потому, что мое присутствие было бы слишком болезненным, напоминая моему отцу об умершей жене. Только полные дураки могли поверить в эту столь грубо состряпанную сказку, но родственники моей матери, сочувствовавшие мне, жили в восьмидесяти лье[9] от наших мест, и не нашлось никого, кто взял бы на себя заботу обо мне.
Я еще три года прожил у моей кормилицы, и, как мне казалось, я прожил бы у нее и дольше, если бы господин де Марийак, приехав однажды в Оленвиль, не заметил меня во время мессы и не спросил, не являюсь ли я сыном его кузена. Я предпочел предоставить право ответа моей кормилице, а та подтвердила, что я действительно являюсь сыном графа де Рошфора, но, к сожалению, я его не видел с момента рождения. Это было лишь то, что я сам много раз слышал, когда она говорила в моем присутствии, а я был вполне смышленым ребенком.
В результате господин де Марийак взял меня за руку и отвез меня в свой замок. Там меня переодели так, как следовало быть одетым ребенку моего положения. Некоторое время я прожил у него, а потом он объявил, что должен ехать в Париж, а меня отправил к моему отцу, написав ему, что я уже вступил в тот возраст, который требует большей заботы обо мне.
Моему отцу ничего не оставалось, как принять меня, но я вынужден констатировать, что сделано это было с немалым сожалением, так как он с первого же дня начал относиться ко мне весьма сурово, всем своим видом показывая, что он не испытывает ко мне особой любви. Если бы я решился, я спросил бы его, почему все так происходит, а потом вернулся бы к своей кормилице, от которой я получал совсем другое отношение, но, не осмелившись открыть рот, я забился в угол, как если бы я был не его ребенком. А в это время все вокруг продолжали холить его ребенка от второго брака, который представлялся мне весьма нахальным типом. Никогда еще я не чувствовал себя так плохо, а так как мне уже должно было вот-вот исполниться десять лет и я уже начал многое понимать, я не находил себе места от досады. Тем не менее мне пришлось прожить так полтора года, принимая пищу вместе со слугами и не имея никакого иного утешения, кроме нашего кюре, который был очень хорошим человеком. Я попросил его научить меня читать, так как в доме и речи не шло о том, чтобы нанять мне учителя. Он был так рад этой просьбе и с таким рвением принялся за дело, что уже через три или четыре месяца я мог бегло читать даже самые трудные книги.
При этом не проходило и дня, чтобы моя мачеха не расстраивала меня. Она не удовлетворялась тем злом, которое могла мне причинить сама, а посему требовала и от отца, чтобы он тоже очень плохо относился ко мне. Этого она добивалась ложными доносами на меня, которыми она приводила его в ярость. Мой отец не любил меня и всегда верил ей, поэтому он никогда не вдавался в подлинные причины моего поведения.
Мое отчаяние было столь велико, что я даже стал подумывать о том, чтобы отравиться. В саду мне как-то показали ядовитую траву: я нарвал ее и, помолившись, съел достаточное количество, чтобы умереть. Но произошло явное чудо. У меня не только не начались конвульсии, у меня не было вообще никаких симптомов, которые бывают у отравленных, короче, я даже не почувствовал себя больным. Я рассказал об этом кюре, к которому я ходил на исповедь. Он меня сильно отругал, рассказав о великом грехе, который я пытался совершить. Он потребовал, чтобы я попросил прощения у Господа и пообещал ничего не делать отныне без его разрешения. Злоба моей мачехи только увеличивалась, отец тоже не выказывал в мой адрес никаких добрых чувств, а посему я решил уйти из дома при первой же возможности. Я рассказал об этом кюре, но он стал отговаривать меня, утверждая, что я еще слишком мал. Он сказал, что я должен страдать до тех пор, пока не буду способен носить оружие, а я, посчитав, что ждать еще очень долго, заявил ему, что не могу больше. Понимая, что я не переменю своего решения, он рассказал обо всем моему отцу, но тот сказал, что ничего не имеет против и готов отпустить меня.
Кюре, видя такую его суровость, лишь заплакал, обнимая меня, и попросил еще раз набраться терпения. Видя, что я непреклонен, он достал из кармана два экю и сунул их мне в руку. Он сказал, что у него просто больше нет, но он будет молить Бога, чтобы тот позаботился обо мне. Он сказал, чтобы я никогда не забывал, что родился дворянином, то есть что я должен лучше умереть, чем сделать что-то, что было бы недостойно моего происхождения.
* * *
Я думал сначала пойти к господину де Марийаку, который уже один раз так по-доброму отнесся ко мне, но тут в наши места приехали цыгане, и я спросил их, не смогут ли они взять меня с собой. Они ответили, что не возражают при условии, если я буду способен следовать за ними.
Этого оказалось достаточно, чтобы я принял окончательное решение. Я в тот же день ушел из дома, ни с кем не попрощавшись, но очень скоро увидел, насколько молодость неспособна воспринимать преподанные ей уроки. Уйдя с цыганами, я начал таскать кур, как это делали они, не задумываясь, что я еще нахожусь на землях, принадлежащих моим родственникам. Так и дальше, я всегда шел своей дорогой, никогда не думая о том, что я делаю. А пока же каждый из нас со своей добычей направлялся к главарю, а тот, заметив, что однажды я притащил не менее шести кур, налил мне стакан вина, сказав всем остальным, что это весьма неплохо для начала и что из меня может получиться очень хороший мальчик. Почти пять лет я жил подобной жизнью, обойдя не только всю Францию, но и немало иностранных государств, в каждом из которых с нами случались какие-то небольшие неприятности, что означало, что кого-то из нас могли в любой момент повесить, а посему мы приняли решение вернуться в нашу родную страну. Мы вернулись во Францию через Бургундию, идя по дороге на Дижон, потом мы оказались в Лионуа, потом в Дофинэ, потом в Лангедоке и, наконец, в графстве де Фуа. Нам показалось, что эти места окажутся для нас благоприятными, так как они были окружены горами, что представляло для нас прекрасный путь к отступлению в случае, если местным жителям не понравятся наши кражи.
К сожалению, мы очень плохо знали местность, а местные жители знали ее гораздо лучше нас. Ночью они нас подчистую ограбили. Это произошло из-за того, что некоторые из нас подумали, что тут можно легко поживиться курами, но это оказалась засада, и это совершенно расстроило нашу группу. Никому из нас не удалось сохранить хоть что-либо, а местные отобрали не только своих кур, но и все остальное, и нам в результате пришлось спать на голой земле, не поужинав.
Такая жизнь, которая мне очень нравилась поначалу, так как я мало что понимал, через некоторое время стала привлекать меня все меньше и меньше. По мере того как я становился умнее, я начал вспоминать о том, кем я родился и к чему меня обязывало мое происхождение. Частенько я плакал, когда этого никто не видел. Мне так нужен был добрый совет, и я все время вспоминал о том, что мне сказал наш замечательный кюре, прощаясь со мной, а еще я постоянно стал задавать себе вопрос, является ли такая жизнь жизнью настоящего дворянина.
* * *
Эта мысль произвела на меня такое впечатление, что я решил бежать. Воспользовавшись удобным моментом, я ушел в горы Капси и спустился в долину Руссильон. По ходу я увидел справа от себя самую высокую гору Пиренеев. Она называлась Канигур, и на ее вершине было озеро, в котором водилось много рыбы. Но самое необычное заключалось в том, что, как говорили, стоило бросить в него камень, как тут же дождь начинал лить как из ведра; я спросил у местных жителей, почему так происходит, но они не смогли мне ответить.
Я сумел сохранить те два экю, которые мне дал кюре, и они пригодились мне во время этого путешествия. Моей целью было вступить в первую же роту, которая мне попадется, а так как тогда еще не мерили рост солдат аршином, как это принято сейчас, я надеялся, что мой небольшой рост не помешает мне осуществить мою задумку.
Я был очень смуглым (этому способствовал образ жизни, который я вел до этого), а посему во всех испанских населенных пунктах меня принимали за своего, и хотя мы тогда вели войну с Испанией, меня не остановили ни в Перпиньяне, ни в Салсе. Наконец я достиг Локата и вступил в роту господина де Сент-Оне, который был там губернатором.
Эта рота вела боевые действия против гарнизона Салса. Быстро освоив каталонский язык, я подумал, что было бы неплохо воспользоваться моим сходством с испанцами, чтобы совершить что-то такое, что позволило бы мне отличиться. Если честно, мне просто стало надоедать быть обыкновенным солдатом. Мне вот-вот должно было исполниться пятнадцать, и амбиции стали ударять мне в голову, порой даже мешая спокойно спать. Я спросил разрешения у господина де Сент-Оне, и он ответил, что не возражает. Когда же я вернулся назад ни с чем, он сказал:
– Малыш, так дело не пойдет. Лучше уж дать надрать себе уши, чем возвращаться вот так. Противника можно увидеть когда захочешь, и не надо для этого просить разрешения, если на самом деле боишься подойти к нему близко.
– Я находился достаточно близко, месье, – ответил я. – Но нас было слишком много, а мне не нужна слава, которую нужно делить с остальными.
– Сколько же вас было? – спросил господин де Сент-Оне.
– Нас было одиннадцать, месье, – сказал я. – Это очень много, но вот если вы позволите мне с моим другом еще раз вернуться туда завтра, у вас не будет повода быть недовольным.
– А не задумал ли ты дезертировать? – вновь спросил он.
– Если бы я хотел это сделать, месье, – ответил я, – я не пришел бы к вам спрашивать на это разрешение. Уже два раза я ходил до самых укреплений противника, и если бы мне захотелось войти внутрь, никто бы мне не помешал.
Моя храбрость понравилась ему, и он спросил, кто я такой. На это я ему ответил, что если преуспею в своем замысле, то скажу, кто я, а если не преуспею, то для представления подожду какого-нибудь более подходящего случая. Такой ответ понравился ему еще больше, и он сказал, что полюбит меня, как сына, если я не стану затягивать с тем, чтобы доказать ему, что не являюсь простым болтуном.
Таким образом, я получил разрешение назавтра выйти из лагеря, который находился на расстоянии двух мушкетных выстрелов от Салса. Я сказал товарищу, пошедшему со мной, чтобы он спрятался в кустах, а сам двинулся дальше. В свое время я успел отметить, что один из офицеров гарнизона устраивал свидания с девушкой, которая приходила к нему в старый заброшенный дом. Там можно было отлично спрятаться, если бы я захотел, но надо было учитывать, что этот офицер каждый раз посылал на разведку в дом одного из своих солдат, а я не хотел упустить свой шанс.
Придя на место, я сделал вид, что стираю свое белье, и краем глаза стал наблюдать за солдатом, вышедшим на разведку, а потом побежавшим назад с докладом. Через некоторое время с одной стороны появилась девушка, а с другой – офицер. В то время пока они занимались любовью, я вынул из-за пояса два пистолета и незаметно пробрался к ним. Я сказал офицеру, что если он не последует за мной, не произнося ни слова, я продырявлю ему живот. Он не стал рисковать, проверяя, поступлю я так или нет, а девушку я взял с собой, чтобы она не побежала и не рассказала о том, что случилось с ее любовником.
Мы двинулись по дороге, на которой меня ждал мой товарищ. Увидев такое подкрепление, они совсем потеряли всякую надежду на спасение, а я вдруг почувствовал радость, которую невозможно было описать.
Мы шли почти час, а потом мой товарищ, подумав, что мы уже находимся в полной безопасности, принялся разглядывать девушку. Найдя ее красивой, он решил остановиться, чтобы удовлетворить возникшие у него фантазии. Я спросил, не сошел ли он с ума, но он лишь засмеялся в ответ и сказал, что своего решения не отменит. Я был взбешен и пригрозил, что убью его. Он сказал, что я могу попробовать, и показал мне дуло своего пистолета. Это меня не смутило, и я в ответ навел на него свой пистолет, держа другой рукой моего пленника. Желая показать свою решительность, он выстрелил, но, к счастью, не попал и, испугавшись, что я не промахнусь, быстро побежал прочь.
Я не стал преследовать его. Моей задачей теперь было быстрее возвращаться, так как я не сомневался, что он теперь дезертирует и предупредит гарнизон Салса о том, что произошло. Я ускорил шаг и заставил поторопиться тех, кого я сопровождал, что оказалось весьма своевременно. В самом деле, не успел я дойти до ворот города, как появились три офицера, и они помчались было за мной. Но, видя, что я уже почти у входа, они все же сочли благоразумным не приближаться.
Мое возвращение в Локат было триумфальным. Все, кто видел шестнадцатилетнего ребенка, ведущего двух пленников, выходили мне навстречу, и к дому губернатора подошла уже немалая толпа.
– Вот, месье, – сказал ему я, – как я и говорил, слишком большое количество людей – это не всегда хорошо, а тот человек, который был со мной, оказался даже лишним, но и с ним нас было только двое.
Он переспросил, что я хочу этим сказать, и я рассказал ему все, что произошло. Узнав подробности, он похвалил меня, причем гораздо сильнее, чем того заслуживал мой поступок, вручив мне знамя Пикардийского полка, который был поставлен под его командование, а также чин, который оказался на тот момент вакантным. А еще он сказал, что позаботится о моей карьере. Еще большую славу мне принесло то, что мой пленник оказался королевским лейтенантом из Салса. Господин де Сент-Оне доложил об этом наверх, рассказав все в деталях, после чего кардинал де Ришельё написал ему, чтобы он тут же отправил меня в Париж и выдал сто пистолей[10] на это путешествие.
Можете себе представить, как я был рад, и я тут же выразил всю свою признательность господину де Сент-Оне, которого считал своим благодетелем. Перед отъездом он спросил, кто я такой, и я рассказал ему свою историю настолько искренне, насколько это представилось возможным.
– Я уверен, – сказал мне он, – что вы благородный человек. Доблесть уважаема во всем мире, но она всегда гораздо больше свойственна людям благородного происхождения, чем кому-то другому. Поезжайте к кардиналу. Этот человек может очень многое, он любит храбрых людей и делает все возможное, чтобы привлечь их на свою службу.
* * *
Я отправился в путь из Локата, будучи очень довольным. А перед этим я купил две лошади – одну для себя, другую для слуги, которого нанял. Я был еще очень молод, а в юношеских головах всегда так много тщеславия. Именно поэтому я вдруг решил показаться в своем новом состоянии у себя на родине, при этом даже не подумав о том, что это может занять много времени.
Я свернул с большой дороги в Бриаре и к вечеру уже находился в доме кюре. Он был весьма удивлен, увидев меня, и одновременно очень рад этому. Рассказав ему о том, что со мной приключилось и куда я направляюсь, я поблагодарил его за все то, что он для меня сделал, вручил ему десять пистолей и заверил, что в случае, если мне удастся сколотить состояние, он получит от него свою долю. Он в свою очередь рассказал мне, что моя семья сильно разрослась, что у моего отца теперь семеро детей, однако дела его идут неважно и Бог послал ему массу неприятностей в наказание за то, как он в свое время обошелся со мной.
Кроме того, он рассказал мне удивительную историю, которую я попробую сейчас пересказать. Дело в том, что у нас был один родственник, которого звали Куртиль. Это был хороший человек, связанный с лучшими домами Прованса. Впрочем, он не относился к ним напрямую, но делал все, чтобы придать смысл своему появлению на свет и стать одним из самых благополучных людей Франции. Ему очень хотелось разбогатеть, а посему он часто бывал в Париже, где это проще было сделать. Там было много женщин, у которых можно было найти поддержку, а еще можно было преуспеть в игре. Он был удивительно хорош собой и быстро стал появляться в самых лучших обществах. В Париже он влюбился в одну пожилую вдову, обладавшую немалым состоянием, и стал добиваться брака с ней. Но эта дама и слушать его не хотела, так как приняла решение посвятить себя служению Господу.
Короче говоря, она попросила его не докучать ей понапрасну. Но это не остудило его, и, несмотря на то что она попросила его не приходить больше в ее дом, не было и дня, чтобы они не виделись либо в церкви, либо у кого-то из ее знакомых. Чтобы избавить себя от этой навязчивости, она укрылась в монастыре, но Куртиль пригрозил, что подожжет его, и дама вышла оттуда, опасаясь, что он так и сделает. После этого он стал грозить, что похитит ее, а она, чтобы спастись, тайно уехала в деревню, да так, что никто не знал, где она, кроме одной ее самой лучшей подруги. Она уехала туда одна.
Когда она не появилась день, другой и третий и о ней не было никаких известий, ее родственники подумали, что наш родственник похитил ее. Усугублялось дело тем, что он действительно во многих местах говорил, что хотел бы сделать это. После этого ее родственники обратились в органы правосудия, а там стали расспрашивать свидетелей и завели дело против него. Он же был совершенно уверен в своей невиновности и в том, что ему нечего бояться. К тому же он либо был очень занят какими-то другими делами, либо просто не посчитал нужным доказывать свою невиновность, а посему взял да уехал к моему отцу, а потом к другому своему родственнику, будучи уверенным, что все знают, где он.
А как раз в это время мой отец получил за одно дело двадцать тысяч экю. Мошенники как-то прознали об этом, нашли где-то плащи стражников и под предлогом поиска Куртиля явились к нему в дом, приставили ему пистолет к горлу и потребовали деньги. Мой отец не хотел умирать и был вынужден смириться с суровой реальностью. Он сам показал место, куда спрятал деньги, а воры погрузили все на лошадь и уехали по дороге, ведущей в лес, где благополучно скрылись.
Эта потеря была огромной для дворянина, у которого не было двадцати тысяч ливров ренты, но зато было так много детей. И я решил, что он и так огорчен, а если я появлюсь, чтобы повидаться с ним, это не будет для него приятным, а лишь еще больше расстроит его. Однако, подумав, что он может рассердиться за то, что я не выполнил свой долг, я все же пришел к нему, но он принял меня ничуть не лучше, чем я предполагал.
Дело в том, что он думал, что я приехал надолго. Кроме того, моя мачеха, желая показать, что не воспринимает меня как полноправного члена своей семьи, приказала даже не давать овса для моих лошадей. Мой слуга рассказал мне об этом, я послал его к кюре, а мой отец, спустившись в конюшню, видел все это, но не остановил его. Я был очень раздосадован, но, решив уехать уже на следующий день, подумал, что лучше будет тоже ничего не говорить, хотя все происходившее сильно ранило меня.
Очень рано я ушел к себе в комнату, а когда уже приготовился ко сну, мой отец и мачеха вдруг вошли ко мне и спросили, правда ли, как сказал мой слуга, будто бы я направляюсь к господину кардиналу. Я холодно ответил им, что это чистая правда, прекрасно понимая, с чем связан этот вопрос и что за этим может последовать. И точно – мой отец тут же сказал мне, что очень рад, что я так многого добился, а мачеха заявила, что она всегда верила в меня и было бы хорошо, если бы я, сделав карьеру, не забыл и о своих братьях. Подобным же тоном я ответил им, что дело еще не сделано, но, если все закончится так хорошо, как я на то надеюсь, я не забуду то добро, которое было для меня сделано.
После этих моих слов последовали извинения за то, что меня так приняли и не дали овса моим лошадям. Мачеха заверила меня, что произошедшее – это недоразумение, связанное с тем несчастьем, которое с ними произошло, после которого они приказали ничего не давать чужакам, что меня просто не узнали, приняли за постороннего, но это больше не повторится.
Я сделал вид, что поверил. К тому же уважение к отцу не позволяло мне высказать все, что я думаю по этому поводу. Я сказал, что все это пустяки, что об этом не стоит и говорить. Мой отец после этого стал меня расспрашивать, где я был с тех пор, как покинул дом, и даже сделал мне небольшой выговор, как если бы он не помнил всего того, что происходило до моего ухода из дома.
Задав мне еще массу разных вопросов, они оставили меня, а перед этим я объявил им, что собираюсь уехать завтра. Утром меня ждал завтрак. Они подняли всех слуг, позвали моих родственников, живших по соседству, разослав всем торжественное приглашение, как если бы меня вызывали ко двору. Прибыло десять – двенадцать дворян: одни – пешком, другие – на лошадях. На меня посыпались тысячи комплиментов, как будто бы я уже сделал сумасшедшую карьеру. Чтобы избавить себя от этого, я сказал отцу, что не могу терять время и должен отправляться, что господин кардинал любит пунктуальность и ему не понравится, если я опоздаю.
* * *
То, что я увидел у отца, ждало меня и при дворе. Когда я приехал, когда узнали, что я тот самый малыш из Локата, каждый поспешил сделать мне комплимент. Я был удивлен, что все эти люди, с которыми я никогда даже не был знаком, вдруг стали добиваться моей дружбы. Капитан гвардейцев кардинала, к которому я обратился, объявил, что я нахожусь в приемной, мне приказали войти, и все тут же увидели, что у меня нет ни волосинки на подбородке и что ростом я маловат.
– Это же совсем ребенок, – сказал кардинал, со смехом обращаясь к четырем или пяти сеньорам, находившимся рядом с ним. – Господин де Сент-Оне, видимо, решил посмеяться над нами, рассказывая о том, что он совершил.
– Я не знаю, Монсеньор, – заявил я, сделав реверанс, – что он вам рассказал, но если речь шла о том, что я взял в плен лейтенанта из Салса и его любовницу, то это чистая правда.
– Он рассказал нам совсем другое, – ответил господин кардинал, – он сказал, что ты помешал одному из солдат, сопровождавших тебя, заняться любовью с одной девушкой, что ты даже вступил с ним в схватку и он выстрелил в тебя из пистолета, но это все не помешало тебе доставить твоих пленников в целости и сохранности.
– Это правда, Монсеньор, – сказал я, – но это все такая мелочь. Вот если бы мне представилась такая возможность, я надеюсь, что смог бы еще многое сделать, служа королю и Вашему Преосвященству.
– Пусть так и будет, – сказал он и повернулся к тем, кто стоял у него за спиной. – Но это же совсем ребенок. Будет неправильно использовать его в таком возрасте, это будет равносильно насилию над природой.
Эти слова испугали меня. Я подумал, что он хочет отказать мне, а посему я осмелился снова заговорить.
– Монсеньор, – воскликнул я, – не сомневайтесь! Ваше Преосвященство может испытать меня, если у вас есть какое-нибудь поручение.
Он мне ничего не ответил, но, обратившись к капитану своих гвардейцев, приказал, чтобы меня покормили и выяснили подробно, кто я такой. После этого он удалился.
Капитан гвардейцев тут же выполнил то, что приказал ему господин кардинал, а потом он доложил ему, что я родом из дворян. После этого меня вновь позвали в его кабинет, и там господин кардинал сказал мне, что он решил взять меня к себе на службу и что я должен быть благоразумным и преданным, чтобы потом ни в чем не раскаиваться. В благодарность я сделал глубокий реверанс, а руки мои как бы сами раскрылись, чтобы начать получать те милости, на которые я рассчитывал. К сожалению, все мои надежды пока смогли вылиться лишь в получение униформы пажа. Я еще не умел хорошо владеть своими эмоциями, а посему мое лицо выразило такое неудовольствие, что это не осталось незамеченным.
– Пусть это тебя не расстраивает, – сказал кардинал мне очень добрым голосом. – Это значит лишь одно – я хочу иметь тебя рядом, но при этом не желаю раньше времени подвергать тебя каким-либо испытаниям.
Эти слова вернули уверенность моему выражению лица, и я вновь сделал глубокий реверанс. Я решил подождать, пока дорасту до того, как с меня придут снимать мерки для униформы, но управляющий пажами мне сказал, чтобы я написал своему отцу, чтобы тот выслал мне четыреста экю на униформу, и что иным образом я не смогу быть соответствующим образом экипирован.
Мое огорчение при заявлении о том, что я должен обращаться к отцу, было очень велико. Чтобы достать денег без него, я решил продать своих лошадей, но это могло мне принести не больше пятидесяти пистолей, что составляло лишь половину требовавшейся суммы. На родственников рассчитывать не приходилось, они жили так далеко, что помощь от них вряд ли пришла бы скоро. Я провел всю ночь без сна, размышляя, как бы мне выкрутиться из сложившейся ситуации. Подумав, я решил обратиться к господину де Марийаку, который показался мне единственным источником денег, который у меня был. Но, задремав уже под утро, я проснулся слишком поздно, а посему я вынужден был перенести обращение к нему на послеобеденное время. Однако, не желая прогуливать службу, я пошел к господину кардиналу, который сразу же спросил, почему я не переодет.
– Это потому, Монсеньор, – ответил я, – что у меня сейчас нет денег, а наш управляющий сказал мне, чтобы я принес четыреста экю, но это скоро будет сделано.
– Какое незаконное взимание податей, – сказал он тем, кто стоял вокруг него.
Потом он повернулся ко мне и продолжил:
– Скажите ему от моего имени, что если он возьмет с вас хоть одно су, его не будет рядом со мной уже через четверть часа. Скажите ему также, что, если все не будет сделано к завтрашнему утру, он может искать себе другого хозяина.
Подобные слова были мне очень приятны и дали мне почувствовать высочайшую поддержку. Я не упустил ни одного из этих слов и постарался сделать максимум возможного, чтобы унизить нашего управляющего. И он вынужден был повиноваться, а я на остававшиеся у меня еще десять или двенадцать пистолей купил себе кое-какие аксессуары для униформы, но господин кардинал не только вернул мне потом мои деньги, но и наградил тройной суммой.
* * *
Стать пажом – это, оказалось, немалая милость со стороны Его Преосвященства. Я всегда находился позади его кресла, готовый выполнить все, что он мне прикажет. За столом я подавал ему напитки, хотя многие другие тоже хотели бы это делать, и они даже выражали по этому поводу свое ревнивое недовольство, но он называл по имени только меня, хотя ему представляли и других. Когда он посещал мадам д'Эгийон[11], лишь я сопровождал его, и мне позволялось находиться в передней, куда другим вход был запрещен, а еще лишь меня он посылал за теми, с кем ему нужно было поговорить, и они поднимались к нему по узкой лестнице так, что никто не мог их заметить.
Говорили, что он любил эту даму, которая приходилась ему племянницей. Не скажу, что это не так, ибо она была достаточно красива, чтобы выглядеть привлекательной для любого мужчины. Отмечу лишь, что она вполне доверяла мне, а я был горд тем, что считался ее другом. Более того, должен сказать, что он посещал ее не только для развлечения. Они нередко закрывались с некими людьми, выглядевшими довольно подозрительно. Это были иностранцы или какие-то типы, переодетые в монахов, священнослужителей или торговцев. Я вспоминаю, как после одной из таких встреч он приказал мне отнести очень тяжелую сумку по дороге на Понтуаз. При этом мне было сказано, что при входе в деревню, которая называлась Сануа, я найду спящего капуцина. Я должен был положить сумку рядом с ним и вернуться, не произнося ни слова. Я выполнил все, что мне сказали, точно следуя данным мне инструкциям.
Перед тем как поручить мне такое секретное дело, меня испытали весьма необычным образом. Был такой человек, которого звали Сове, которого уже два или три раза посылали в Испанию, чтобы раскрыть там интриги, которые кое-кто затевал при местном дворе против интересов кардинала. Этот человек был женат на красивой женщине, можно даже сказать, на очень красивой женщине. Получив от господина кардинала задание проверить мою верность, он решил задействовать свою жену, от которой он порой терпел такое, что можно было сделать вывод, что он совсем не ревнив. Но эта женщина, не знаю уж почему, прониклась ко мне и предупредила о ловушке, в которую попадали почти все, особенно молодые люди. Она сказала мне, что я хорош собой и должен впредь быть очень осторожным. Потом она рассказала своему мужу то, что было выгодно для меня, а тот тут же проинформировал обо всем кардинала, который после этого решил, что мне вполне можно доверять и что меня можно использовать в самых важных делах.
И точно, через несколько дней мне приказали снять униформу пажа и отправиться к лошадиному рынку в дом, на который мне указали. Я должен был подняться на четвертый этаж, и, если я увижу там крест, нарисованный на двери мелом, я должен был тут же спуститься и ждать внизу, пока не придет Сове. Я нашел то, что мне сказали, и спустился вниз. Сове появился через минуту и спросил, как дела. Я ему ответил, что обнаружил то, что было нужно Его Преосвященству, после чего он спросил, не видел ли я двух мужчин, выходящих из дома: одного – одетого священником, а другого – аббатом. Я ответил, что не видел, а он на это сказал, чтобы я был внимательнее, что, если это произойдет, я должен идти за ними, в противном же случае я должен оставаться на своем посту до того момента, как он вернется. Прошло полтора часа, и он вернулся, но не один, а в неплохой компании – с ним был отряд гвардейцев, часть которых окружила дом, а часть поднялась наверх. В комнате обнаружили двух мужчин, о которых мне говорили, их тут же схватили и отконвоировали в Бастилию. Но лишь один из них остался там, другому же позволили уйти, и на следующий день я доставил ему десять тысяч экю золотом, что, похоже, было наградой за то, что он продал своего товарища. Видя, что меня используют в столь секретных делах, я не мечтал ни о чем другом, кроме как стать старше на год или на два. Я был уверен, что у меня будет другая область деятельности, когда перестану быть пажом, и я хотел бы, чтобы это была война, к которой испытывал особую склонность. При этом во мне сохранялось желание сделать что-нибудь для моих братьев, которые в этом нуждались. Просто, чтобы дать им понять, что я не забыл о них, я написал сначала одному, потом – другому, прося их сообщить мне, если вдруг предоставится какой-то подходящий вариант. Но они мне ответили, что знают, что скоро я буду иметь немалое влияние в обществе, а посему ждут предложений от меня.
Такая постановка вопроса привела меня в ярость, и когда господин кардинал через несколько дней оказался столь добр, что осведомился о моей семье, я рассказал ему все, в том числе и о проблемах, которые у меня были в детстве. Ему понравилась моя искренность, а я, видя, что он действительно беспокоится обо мне, рассказал ему еще и об обязательствах, которые у меня имелись перед нашим кюре, впрочем представив их даже несколько большими, чем это обстояло на самом деле. Он сказал, что ему нравятся благодарные люди, но одновременно, так как я рассказал ему и о господине де Марийаке, он спросил, знают ли они, чем я теперь занимаюсь. Я ответил, что не знают, но что я мечтаю поехать повидать их при первой же возможности, на что он мне сказал, чтобы я этого не делал, если хочу сохранить привязанность, которую он ко мне испытывает. После этого я не решился что-либо говорить, но он все же заметил, что я выгляжу очень удивленным.
– По крайней мере, – пояснил он, – не стоит рассказывать им об этом. Если же это однажды случится, тебе не на что больше будет рассчитывать рядом со мной.
Я ответил, что мне достаточно лишь узнать о том, что он желает, и у меня тут же не станет ни родственников, ни друзей, если речь будет идти о служении ему.
Казалось, он был удовлетворен моим ответом, а посему меня продолжили использовать, как и раньше. В частности, он отправил меня по дороге на Сен-Дени с сумкой, полной золота, с приказом оставить ее под большим камнем, который я найду неподалеку от Монфокона. У меня также был приказ тут же вернуться, так что я даже не знал, для кого это было предназначено и кто должен был забрать сумку. Через несколько дней я отнес еще одну сумку к собору Нотр-Дам для одного человека, который, как мне сказали, должен был сидеть, уткнувшись подбородком в ладонь, а другой человек должен был стоять у него за спиной, точно один из персонажей Мольера, алчный до денег. Я так все и сделал, но мне не было позволено увидеть лицо того, для кого все это предназначалось. Мне кажется, что в этом было больше таинственности, чем серьезной необходимости, и что все было задумано либо для того, чтобы еще раз проверить мою верность, либо чтобы секретное ведомство кардинала пользовалось еще большим уважением. Как бы то ни было, я два года провел, исполняя подобного рода поручения, и в течение этого времени при дворе имело место немало интриг, имевших целью смещение кардинала, но все они закончились безрезультатно.
* * *
В свое время я написал нашему кюре, чтобы он предупредил меня, если возникнет необходимость чего-нибудь для него попросить. И вот теперь он отправил ко мне одного человека, чтобы сообщить, что стало вакантно одно небольшое аббатство, способное приносить четыре тысячи франков ренты. Я тут же обратился к господину кардиналу, и он сказал мне, что дело это верное, но сначала он хотел бы узнать, за кого я прошу.
– За нашего кюре, Монсеньор, – ответил ему я, – за человека, который научил меня читать и к которому я испытываю лишь чувство глубокой благодарности.
– Но почему, – спросил он, – ты не просишь за кого-то из своих братьев? Ты, как мне кажется, говорил, что у тебя их много и они все нуждаются в средствах.
– Это правда, Монсеньор, – сказал я, – но таким уж меня создал Бог: для меня благодарность всегда идет впереди родственных связей. И Вашему Преосвященству судить, хорош ли я с такими убеждениями на службе.
– Посмотрим, – засмеялся он, – и, возможно, я подвергну тебя серьезному испытанию гораздо раньше, чем ты думаешь.
Я уже готовился ему ответить, как вдруг вошел принц де Конде, и я бросился пододвигать ему кресло. Выйдя ему навстречу, господин кардинал вдруг заметил господина де Шаро, того самого, который потом стал капитаном телохранителей, губернатором Кале, герцогом и пэром. Он его тогда терпеть не мог, а посему, едва увидев его, приказал мне срочно найти капитана его гвардии. Найдя его, я вместе с ним вернулся в комнату, где мне было сказано, чтобы я отделался от посетителя, чего бы это ни стоило. Капитан гвардии спросил, не стоит ли вообще выгнать Шаро из прихожей.
– Я вам ничего подобного не говорил, – последовал ответ, – просто не позволяйте ему больше входить.
Это приказание вмиг распространилось по дому, и каждый начал поворачиваться спиной к несчастному, как будто он был прокаженным. Но господин де Шаро проявил упорство и еще почти три часа ждал в прихожей. Господин кардинал, которому нужно было выйти, отправил меня посмотреть, там ли он еще. Я доложил, что он еще ждет, и господин кардинал предпочел задержаться, лишь бы не попадаться ему на глаза.
На другой день Шаро снова пришел, но гвардейцы не пропустили его. Он потребовал вызвать их капитана, но тот сказал, что кардинала нет на месте. Так продолжалось два дня, но он так и не смог увидеться с кардиналом, а на третий, зная, что кардинал поедет на мессу, он расположился на пути его следования. Гвардейцы оттеснили его, но он запрыгнул в нишу в стене, предназначавшуюся для установки мраморной фигуры. Когда господин кардинал приблизился, он крикнул:
– Монсеньор, ваши гвардейцы не пропускают меня, но, когда меня не пускают в дверь, я всегда пролезаю через окно.
Господин кардинал не смог удержаться от смеха, увидев его в нише, а после этого не только отменил свое решение, но и даже сделал для него немало хорошего. Шаро, добившись своего, стал появляться все чаще, при этом ни о чем не прося, хотя ему явно многое было нужно. Это понравилось кардиналу, который ценил людей, не имевших корыстных побуждений, и любивший награждать без принуждения. И тут представился благоприятный случай, когда Шаро показалось, что он может обратиться к Его Преосвященству. Выждав, когда у кардинала будет особенно хорошее настроение, он сказал:
– Если позволите, Монсеньор, я бы попросил вас разрешить мне заработать двести тысяч экю, что не будет стоить ни су ни королю, ни вам.
– Каким же образом, Шаро? – спросил господин кардинал, улыбаясь.
– Женившись, Монсеньор. Я нашел великолепную партию, и если Ваше Преосвященство скажет хоть слово в поддержку моего желания, дело можно будет считать сделанным.
– Если речь идет только об этом, – сказал кардинал, – ты можешь на это рассчитывать.
Беседа с кардиналом
Шаро бросился на колени, стал благодарить кардинала и говорить о том, что единственное, о чем он желал бы, так это о том, чтобы он послал просить для него руки мадемуазель Лекалопье, так как ее родственники не смогут отказать человеку, управляющему всей страной. Так Шаро женился на женщине столь богатой, что это позволило ему купить очень высокую должность, а кардинал, который всегда ставил возле короля лишь лично преданных себе людей, назначил его капитаном его телохранителей.
* * *
Тем временем, как я уже говорил выше, освободилось одно небольшое аббатство, и я отправил все необходимые документы на него нашему кюре, что произвело двоякий эффект. Кюре от этого чуть не умер от радости, а мой отец с мачехой – от зависти. Они все приехали в Париж: кюре для того, чтобы поблагодарить меня, а отец с мачехой – чтобы высказать мне тысячи упреков. Они заявили, что мне должно быть стыдно помогать посторонним в то время, когда мои собственные братья так нуждаются в помощи. Выпустив так весь свой пар, они заговорили в иной манере, то есть стали просить у меня о новом аббатстве. Я им сказал, что вовсе не по моей вине они его не получили, что при дворе не всегда удобно о чем-то просить, что быть навязчивым – это верное средство вообще ничего не получить. А еще я сказал, что, если господин кардинал решил что-то сделать для простого пажа, это значит, что я смогу получить еще больше милостей, но лишь после того, как окажу ему еще какие-то услуги. Слегка умиротворив их подобными перспективами, я напомнил им, что у меня имеется еще много родственников, которые тоже надеются, как и наш кюре, на милости при моем содействии. Они происходили из Берри, и многих из них я даже никогда не видел. Они начали со своей генеалогии, сказав мне, что являются моими родственниками в третьем поколении и что они надеются поэтому на мою помощь. Я ответил, что очень хотел бы, но у меня пока нет такой возможности. Это было понятно, так как я ничего пока не сделал даже для своих братьев, которые были моими прямыми родственниками и шли перед теми, кто находился в третьем поколении. А ведь еще были те, кто находился во втором, и они тоже были в более привилегированном положении. Я сказал, что помогу всем, как только у меня появится такая возможность. Они поняли, что это значит, и оставили меня в покое.
* * *
И вот время, о котором я так мечтал, пришло. Я перестал быть пажом. Господин кардинал дал мне двести пистолей, чтобы я мог переодеться, и я стал думать, что через какое-то время от меня что-то потребуется. Пока же нельзя было сказать, чтобы я ничего не делал: я, например, отвез в Англию и Шотландию шифрованные письма, и там я был задержан сторонниками короля Англии. Меня обыскали, но ничего не нашли, так как я спрятал письма в седле почтовой лошади. Они перерыли все, но так и не обнаружили тайника. Тогда они спросили, откуда я прибыл, куда направляюсь, задали еще тысячу разных вопросов. Я отвечал, как и было договорено, что я – молодой дворянин, который решил попутешествовать. Это вызвало у них подозрения, так как они нашли, что взятая мною карета не соответствует уровню человека, которым я хочу казаться.
Это стало причиной моего задержания на четыре-пять дней, что доставило мне немало беспокойства. Мне было поручено весьма деликатное дело, и я не мог позволить себе быть раскрытым. Единственное, что меня ободряло, так это то, что мои письма были похожи на черную магию, то есть один дьявол мог бы расшифровать их содержание.
В них не было привычного алфавита, и один знак мог обозначать двадцать различных слов. Весь секрет заключался в ключе, без которого ничего невозможно было разобрать. Чтобы было понятно, скажу, что каждый знак соответствовал слову в той или иной строке из «Исповеди» святого Августина, а чтобы узнать какому, номер страницы ставился под стрелкой слева, а справа под стрелкой ставился порядковый номер строки и порядковый номер слова в строке. Например, если речь шла о слове «имею», которое шло на десятой странице «Исповеди» святого Августина, в десятой строке, пятым по счету в строке, фигура выглядела так:
Понятно, что нужно было бы быть волшебником, чтобы догадаться, о чем идет речь. Однако я не переставал дрожать от страха. На мое счастье, они не только ничего не нашли, но еще и поверили в мою молодость, подумав, что столь юное создание не может быть в чем-то замешано, а посему меня отпустили, и я смог передать депеши по назначению, а также взять с собой ответные послания.
Мне неплохо заплатили за эту поездку: я получил ассигнацию на две тысячи экю, с которой банковский чиновник, взяв себе свой процент, выдал мне деньги наличными. За это он был выгнан со службы, когда я рассказал об этом господину кардиналу.
Не знаю, то ли моя поездка произвела такой эффект, то ли еще что, но три королевства, о которых шла речь, вдруг зашевелились, начались неясности и беспорядки, и король Англии стал демонстрировать свою недобрую волю по отношению к нам. Все это подтвердило то, что произошло со мной через три месяца после моего возвращения. Однажды утром господин кардинал сказал мне, чтобы я отправился в пригород Сен-Марсо, а там нашел некий фонтан с фигурой женщины без головы, поднялся на второй этаж дома и сказал человеку, лежащему в кровати с желтыми занавесками, чтобы он был у мадам д'Эгийон в одиннадцать вечера. Я сделал то, что мне сказали, но, так как мне было позволено посмотреть на этого человека, я тут же вспомнил, что видел его в Шотландии, и мне показалось, что он меня тоже узнал. Я заметил, что он пристально на меня смотрит, как человек, который пытается что-то вспомнить. Но мы ничего не сказали друг другу, он лишь заверил меня, что обязательно будет там, где была назначена встреча.
Когда пришло время, я получил приказ идти ждать у двери, чтобы встретить его и провести в кабинет. Он явился переодетым, и я его даже не узнал. Он же меня узнал, и я отвел его к господину кардиналу, с которым он находился до четырех часов ночи. Люди господина кардинала получили приказ удалиться, что дало еще один повод к злословию по поводу его отношений с племянницей, так как каждый думал, что они уединяются исключительно для того, чтобы переспать. Если добавить к этому то, что у него был ключ, позволявший ему приходить и уходить, когда ему вздумается, все это делало слуг этой дамы первыми источниками злословия. Все, что я говорю сейчас, вовсе не означает, что между ними вообще ничего не было, я лишь хочу лишний раз подчеркнуть, что он уединялся с ней не только для того, чтобы заняться любовью.
Когда совещание закончилось, мой человек вышел из кабинета через дверь, за которой я находился по приказу Его Преосвященства. Мне было приказано дать ему мой плащ, а еще мне было приказано сопровождать его до второго перекрестка.
Через два дня мне было поручено еще одно дело. Я должен был найти господина де Буйона, суперинтенданта финансов, и сказать ему, чтобы он передал мне сверток, который я должен был отнести на улицу Юшетт, к человеку, о котором я рассказывал. Я получил сверток, но он оказался настолько тяжелым, что нужна была тачка, чтобы его доставить по назначению. Господин де Буйон, понимавший это, приготовил одну. Одновременно он вручил мне опись, включающую содержимое свертка, подчеркнув, что это нужно передать лично получателю. Прибыв на улицу Юшетт, я нашел нужного человека, передал ему опись и сказал, что сверток находится у двери. Он посмотрел опись и вернул ее мне, заявив, что я ошибся и это не для него, а для кого-то другого. Я ответил, что не мог ошибиться, что я его знаю и что мой приказ касается именно его. В ответ человек обеспокоенно заходил по комнате.
– Это не для меня, – сказал мне он еще раз, – и вы должны уйти.
Я еще раз повторил все, что должен был сделать, но мне не удалось переубедить его, и я вынужден был вернуть сверток господину де Буйону. После этого я доложил господину кардиналу обо всем, что со мной произошло. Он спросил меня, осталась ли у меня опись. Я ответил, что осталась. Он посмотрел в нее и разразился гневом против господина де Буйона, сказав, что научит его точно выполнять то, что ему было приказано. Он послал за ним и спросил, почему тот отправил лишь пятьсот тысяч франков вместо шестисот тысяч франков, которые должны были быть посланы. Господин де Буйон ответил, что он подумал, что получатель удовлетворится и такой суммой, а он должен экономить, но, если тот не удовлетворился, он готов отправить то, что не доложил. Насколько я понял из всего, что было сказано (а я присутствовал при их разговоре), господин де Буйон хотел просто прикарманить сто тысяч франков, хотя он и пытался представить дело так, будто печется об одной лишь экономии. В ожидании того, пока сто тысяч будут приготовлены, Его Преосвященство послал меня найти того человека, чтобы сообщить ему, что произошла ошибка, причем ошибка по вине господина де Буйона, что я должен был особо подчеркнуть, как непосредственный свидетель.
Король Генрих IV
Я нашел его за сбором вещей, и мне показалось, что он был удивлен, увидев меня. Он двинулся мне навстречу и спросил, что мне нужно. Я все объяснил ему.
– Нужно, чтобы все было по совести, – сказал он раздраженно, – и я не понимаю, почему всего два дня назад меня уверяли в одном, а теперь происходит что-то совсем иное.
Я тут же пошел к господину де Буйону, чтобы взять шестьсот тысяч франков, передал их получателю, а потом вернулся к Его Преосвященству, который с нетерпением ждал моего возвращения, обеспокоенный тем, что произошло.
Конечно, подобного рода дела были вовсе не тем, о чем я мечтал, ведь мне больше нравилась война, однако утешало меня то, что я пользовался дружеским расположением своего хозяина. Он еще раз спросил меня, виделся ли я с господином де Марийаком, брат которого не только сделался маршалом Франции, но и женился на родственнице королевы-матери, у которой он оказался теперь в большом фаворе. Я ответил, что прекрасно помню о том, что мне было запрещено это делать, а посему я этого и не делал. А еще я повторил, что для меня не существует родственников, когда речь идет о службе Его Преосвященству, и я очень сожалею, что мне никак не представится возможность доказать это. Он уверил меня, что доволен мной, и сказано это было таким тоном, что я понял, что он действительно доволен.
* * *
Очень скоро он получит возможность убедиться в моей преданности, но, чтобы понять все нюансы произошедшего, нелишним будет сейчас рассказать о том, что всему этому предшествовало.
Король был удивительно хорошим правителем. Он получил корону, будучи еще совсем юным, но вынужден был отдать руководство страной королеве-матери, женщине очень больших амбиций, но мало любимой французами не только потому, что она была итальянкой (а итальянцев, надо сказать, французы никогда не любили), но еще и потому, что она тут же выдвинула вперед своего фаворита, который тоже был ее соотечественником, к тому же низкого происхождения и без особых заслуг[12]. Его многие боялись, и вскоре он стал представлять угрозу даже для принцев крови, а его жена, которая была еще более невыносима, стала столь влиятельной, благодаря милостям королевы, которую она полностью себе подчинила, что все ее просто возненавидели. Чтобы противостоять такому количеству врагов, королева-мать вынуждена была приблизить к себе некоторых людей, в том числе братьев де Марийаков. Оба они были весьма благородными людьми, достойными самых великих дел. Однако, несмотря на все предпринятые меры предосторожности, количество недовольных было так велико, что она не смогла уберечь своего фаворита. Герцог де Люинь, наделенный не меньшими амбициями, нашептал королю, что его мать ненавидима народом именно потому, что отдала страну в руки иностранца. Возможно, он взвалил на нее и вину за смерть короля-отца. Как бы то ни было, король отдал ему приказ найти кого-нибудь, кто убил бы этого проклятого фаворита, что и было сделано капитаном телохранителей де Витри.
Кончино Кончини
Убийство Кончино Кончини
Герцог де Люинь после этого попытался сосредоточить всю власть в стране в своих руках, но его плечи оказались слишком слабыми для такой ноши, а партия королевы-матери, сформировавшаяся из завидовавших новому первому министру, стала усиливаться день ото дня. Те, кто были теснее всего связаны с ней, были вызваны ко двору, а так как господа де Марийаки были одними из самых преданных, они и получили наибольшие знаки отличия. Один из них даже стал претендовать на то, чтобы стать первым министром. Но при этом королева-мать призвала к себе на службу и епископа Люсонского, который позже станет известен под именем кардинала де Ришельё, и он вдруг засверкал так, что блеск де Марийака тут же поблек на его фоне.
Герцог де Люинь
Чем больше были амбиции Марийака, тем труднее ему было терпеть Ришельё, запросы которого оказались не меньшими, чем его собственные. Амбиции умножались на зависть, и все это давало в итоге такую страшную ненависть, что они просто не могли переносить друг друга. Смерть герцога де Люиня, открывшая двери к руководству кабинетом министров, еще больше усилила эту взаимную ненависть, но Ришельё очень скоро взял верх над всеми, включая саму королеву-мать.
Маршал Луи де Марийак
Де Марийак и его брат организовали против него массу интриг, и, если бы гений этого человека оказался чуть меньшим, ему не удалось бы избежать падения. Но он все выдержал, а так как он никого так просто не прощал и хотел еще больше упрочить свою власть, он решил снести головы тех, кого больше всего боялся, а посему он не удовлетворился тем, что вынудил королеву-мать бежать из Франции, но решил еще и уничтожить де Марийаков.
* * *
Вот почему он так часто спрашивал меня, не встречался ли я с ними. На самом деле он решил испытать мою преданность или, что более вероятно, ему захотелось избавиться от маршала, который был человеком безупречным, а посему он однажды сказал мне:
– Вы убеждали меня, что для вас не существует родственников, когда речь идет о служении мне. Вот теперь я и решил вас проверить. Вот приказ, – продолжил он, подавая мне пакет, – об аресте маршала де Марийака, и я хочу, чтобы вы знали, о чем идет речь. Отнесите его ему и помните о том доверии, которое вам оказано. Я заслуживаю того, чтобы вы сохранили мне верность. Уверяю вас, эти слова потрясли меня. Взяв пакет, я сказал:
– Монсеньор, если Ваше Преосвященство хочет удостовериться в моей преданности и в моем умении хранить секреты, я сделаю то, что должен сделать.
Я не отказался подчиниться, но все же попросил принять во внимание, что, если он поручит это дело, направленное против одного из моих близких, кому-то другому, я не стану от этого менее преданным ему.
– Идите, я вам говорю, – ответил мне господин кардинал, – и остерегайтесь, если я вынужден буду сделать то, о чем вы говорите.
Мне пришлось повиноваться. При этом, признаюсь, я никогда не садился в седло с таким чувством сожаления. Мне так хотелось предупредить того, кто был в Париже, о беде, угрожавшей его брату. Но все же чувство долга восторжествовало над родственными обязательствами. Я даже проявил проворство и вручил мой пакет на шесть часов раньше, чем могли подумать.
Арест этого маршала наделал много шума. Все обвиняли господина кардинала в излишней жестокости, а посему он вынужден был приостановить суд, который был расположен сделать все, что тот захочет. Что касается меня, то я, после того как продемонстрировал ему всю силу своей преданности, подумал, что мне позволят ходатайствовать за маршала, тем более что моя просьба показала бы ему в большей степени мою честность, чем желание противопоставить хоть что-нибудь столь могущественному обвинителю. Но я не открыл ему всех своих чувств, которые, как у великих людей, так и у всех прочих, лишь являются результатом слабости. В ярости, он сказал мне, что удивлен, что один из его слуг выступает против него, и его негодующий взгляд заставил меня так задрожать с головы до ног, что могу сказать, что такого страха я не испытывал никогда ни в траншее, ни в открытом бою.
Я не решился в тот день больше появляться ему на глаза, а когда назавтра утром я все же явился, он сделал вид, что не замечает меня. Когда же его взгляд попадал на меня, он отводил его так быстро, что мне показалось, что он боится. У меня было немало врагов в его доме, и мою немилость быстро заметили, тем более что нашлись люди, которые слышали наш разговор и то, что он мне сказал. Господин граф де Суассон[13], который был противником кардинала, воспользовался этим, чтобы предложить мне перейти к нему на службу. Хотя он и был принцем крови, что могло дать мне немалые преимущества, я ответил тем, кто обратился ко мне от его имени, что у меня слишком много обязательств по отношению к господину кардиналу, чтобы иметь желание поменять хозяина. Другой, возможно, рассказал бы Его Преосвященству об этом предложении, но я, подумав, что в моем положении это может быть неправильно воспринято, решил этого не делать.
Ля Ферте, отец того, кто стал маршалом Франции, был на стороне этого графа, но он был неверным слугой. Граф не делал и шага, о котором он тут же не докладывал бы кардиналу, и он узнал, не знаю уж как, о сделанном мне предложении и тут же донес об этом. Кардинал принял меня за предателя и, посмотрев на меня недобрым взглядом, спросил, есть ли мне что сказать ему. Я ответил, что мне нечего сказать, так как он своими словами навсегда закрыл мне рот.
– Неужели этим же я закрыл вам и сердце? – воскликнул он. – Неужели после этого вы не захотели отомстить мне?
– Вам, Монсеньор? – ответил я удивленно. – Как такая мысль могла бы прийти мне в голову? Вы же мой хозяин, которому я обязан всем…
– Это все мне известно, – перебил меня он, – но все же, какие у вас дела с графом де Суассоном и что вы затеваете с ним вместе?
По этим словам я понял, что меня кто-то выдал.
– Монсеньор, – ответил я, – если я вам не рассказал ничего, это не потому, что я хотел что-то сохранить от вас в тайне. Просто я подумал, что достаточно будет выполнять свои обязанности, не становясь при этом доносчиком. Господин граф де Суассон предложил мне перейти к нему на службу, но те, кто рассказал вам об этом, должны были бы передать и мой ответ на это предложение.
– Я все знаю, – сказал господин кардинал, – и я вам советую честно во всем признаться, если вы хотите, чтобы я простил вас.
– Я не собираюсь просить прощения, Монсеньор, – ответил я, – я лишь хочу, чтобы вы были справедливы ко мне. Я сказал, что у меня уже есть хороший хозяин и я не хочу менять его на другого. И я буду повторять это все время, пока Ваше Преосвященство будет нуждаться в моих услугах…
– Это все, что вы хотите мне сказать? – перебил меня господин кардинал. – Ну что же, хорошо, только смотрите не раскайтесь потом, когда уже будет поздно.
Я ему сказал все то, что мог сказать невиновный человек, а так как он сомневался в том, что я говорю правду, он еще целых восемь дней даже не смотрел в мою сторону. В течение этих дней он задействовал Ля Ферте, чтобы тот все еще раз перепроверил. Ля Ферте сделал все возможное, но он узнал лишь то, что со мной говорил Месьер – человек, преданный своему хозяину, из которого невозможно ничего вытянуть, – и что он сам обратился к принцу. Он сам ему сказал, что я – отважный парень, что я имел возможность продемонстрировать это, а также что я – очень верный, однако у меня не сложились отношения с кардиналом, к которому у меня могут быть претензии, и что это удобный случай, чтобы заполучить ценного человека, и что он может со мной поговорить от его имени. Граф де Суассон, который был человеком простым, также рассказал, что ничего не получилось, что Месьер говорил со мной, но безрезультатно.
Это вернуло мне милость господина кардинала, но вовсе не свободу господину де Марийаку. Напротив, королева-мать, постоянно затевая все новые и новые дела с этим министром, окончательно погубила его. А так как предлогов для его ареста явно не хватало, стали искать преступление в области хищения государственных средств, в чем при особом желании тогда можно было обвинить практически любого. И действительно, кто может быть совсем уж невиновным, если он отвечает за то, что делают его солдаты? Вот под таким ничего не значащим предлогом кардинал и осуществил свою месть. Он направил к маршалу своих комиссаров, и они стали задавать ему тысячи вопросов по различным пустякам. Он четко отвечал пункт за пунктом, что весьма обременяло судей, но кардинал, видя, что они находятся в нерешительности, напомнил им о том, что им стоило бы быть повнимательнее в выполнении своих обязанностей, и они сделали все так, как было нужно. Они приговорили его к смертной казни через отсечение головы, и в тот же день приговор был приведен в исполнение на Гревской площади. Я, зная деликатность господина кардинала, спросил его, могу ли я поносить траур. Он холодно ответил мне, что я волен делать все что хочу, что для меня означало, что ничего делать не надо.
* * *
Месяц или два спустя мне предложили весьма выгодный брак, к которому господин кардинал постарался меня склонить, но скорее из-за неприязни к графу де Суассону, чем по какой-то иной причине. Дело в том, что девушка, которую мне предложили, была племянницей и наследницей барона де Купе, известного противника его семьи.
Дело в том, что граф однажды отправил капитана своих гвардейцев, и тот начал донимать барона под предлогом того, что он сказал что-то нелюбезное в адрес некоей дамы, которую граф уважал. Это стало причиной скандала. Все дворянство, принявшее участие в этом противостоянии, было собрано по письменной просьбе барона, и было принято решение, что его ранг защищает его от подобных нападок. Было решено также, что его должны оставить в покое, а тот, кто нарушит это постановление, будет называться человеком, лишенным чести. Это решение было выполнено, и граф оказался в одиночестве. Он сделал все возможное, чтобы снова быть принятым в благородные круги общества, но никто не хотел с ним общаться. Тогда он попросил для себя командование армией, когда противник подошел к Корби, но все войска уже были под чьим-то командованием, однако он все равно надеялся, что конъюнктура будет к нему благоприятной. Чтобы преуспеть в этом деле, он пошел на жуткие траты, накрыв двенадцать столов по двадцать пять приборов на каждом, пригласил всех, предлагал каждому деньги.
Таким способом он добился дружбы многих, но при этом родственники и друзья барона де Купе так его и не простили, а так как они только и думали что о мести, они обратили свой взор на меня, когда встал вопрос о замужестве его племянницы. Они были уверены, что господин кардинал меня поддержит. Ему даже рассказали обо всем, и он мне сказал, что это лучший для меня вариант. Я был удивлен подобным предложением, ведь у меня не было ничего, что могло бы выделить меня в качестве жениха, и я сразу решил, что за этим что-то скрывается. Однако, увидев девушку, я понял, что она прекрасна, но излишне свободна от предрассудков, так как уже на второй встрече она показала мне, что мы уже почти муж и жена и я не должен неправильно интерпретировать ее некоторые небольшие вольности. Уже этого было для меня достаточно, а присмотревшись к ней повнимательнее, я решил, что она беременна, и это меня тут же совсем охладило. И я не ошибся, она действительно оказалась беременной, ее родственники спешили выдать ее замуж, и они сочли неправильным то, что я отошел в сторону, и даже надавили на барона де Купе, чтобы он побранил меня. Чтобы очернить меня перед господином кардиналом, они сказали, что граф де Суассон отговорил меня от этого брака, что я встал на его сторону и что они считают, что я полностью в его руках и это отстраняет меня от них. Это последнее они могли говорить спокойно, но господин кардинал подумал, что все, что они говорят, это правда, и приказал бросить меня в тюрьму, даже не выслушав моих объяснений.
Я обратился к Ля Удиньеру, который закончил карьеру капитаном гвардии и который был одним из моих друзей. Я попросил его прийти ко мне, и я сказал ему, что со мной все кончено, если он не замолвит за меня словечко, ибо мои враги наговорили на меня господину кардиналу. Я сказал, что кардинал поступает жестоко по отношению к человеку, который верно служил ему, который не мог его оскорбить в ситуации, когда самозащита была необходима и вполне законна, что я прошу разузнать, чем я вызвал такое недовольство, что если я виновен, то готов предстать перед судом и даже умереть, но я невиновен и не могу спокойно смотреть на потерю его уважения и милости.
Ля Удиньер пообещал мне сделать то, что я у него просил. На следующий день он снова пришел ко мне и сказал, что у него для меня есть лишь нехорошие новости: что господин кардинал так зол на меня, что решил отрубить мне голову, что он говорил, что пригрел змею в своем доме, что я шпионил на графа де Суассона, по приказу которого я не только отказался жениться на племяннице барона де Купе, но и выступил против него. Я не смог удержаться от смеха при таких обвинениях, а потом сказал, что даже самые великие люди иногда ошибаются, как простые смертные, и попросил от моего имени передать, что я не хочу, чтобы мне отрубали голову, что не хочу и слышать о графе де Суассоне, что не желаю племянницу барона де Купе только потому, что она беременна, причем не от меня, и находится уже на четвертом месяце, а Его Преосвященство не может требовать такого от своих подчиненных.
Ля Удиньер передал слово в слово наш разговор господину кардиналу, и он был очень удивлен, когда узнал, что эта девушка была беременна. Он внимательно посмотрел ему в глаза, ничего не сказал, но его молчание не длилось долго.
– Возможно ли, Ля Удиньер, – сказал он, – чтобы меня обманули, чтобы эти жалкие создания посмели меня обмануть?
Ля Удиньер ответил ему, что знает меня как честного человека, что если я что-то говорю, что так оно и есть на самом деле, и что есть способ все прояснить, что нужно вызвать племянницу к Его Преосвященству или отправить к ней опытную женщину, что еще лучше. Господин кардинал посмеялся над этим предложением, но в то же время послал за бароном де Купе. Он поставил перед ним вопрос ребром: беременна ли его племянница и господин ли де Суассон разорвал помолвку? Такие вопросы обеспокоили бедного барона, он попытался пойти на попятную и отвечать уклончиво, но господин кардинал пригрозил ему, и тот вынужден был пасть ему в ноги и просить прощения. Господин кардинал отправил его в тюрьму и в тот же момент приказал выпустить меня. Увидев меня, он протянул мне руку и сказал, что постарается исправить то, что сделал. Я поцеловал ему руку и сказал, что благодарен ему за заботу о себе, добавив, что мне хотелось бы, чтобы он поверил, что я не способен на предательство.
* * *
Так я снова вернул себе его милость. Через несколько дней господин кардинал сказал мне, чтобы я начистил сапоги и был готов отправиться в путешествие. Нужно было направляться в Брюссель, куда вынуждена была уехать мадам де Шеврёз[14] после того, как она попыталась повлиять на образ мыслей королевы-регентши.
Ее подозревали в том, что она интригует, вступив в сговор с группой высокопоставленных дворян, и я должен был раскрыть эти интриги. Однако, чтобы никто не заподозрил об истинной цели моего путешествия, мне приказали переодеться в капуцина, чтобы все думали, что я им и являюсь. Соответствующую одежду мне должны были подготовить за два-три дня до отбытия. Кроме того, я должен был поселиться у капуцинов на улице Сент-Оноре, как будто я прибыл туда из какого-то провинциального монастыря.
Отец Жозеф
Настоятель, который был человеком отца Жозефа[15], фаворита кардинала, принял меня как положено, и, получив инструкции от самого отца Жозефа, я отправился в Брюссель, куда мне следовало прибыть пешком. Это было необходимо, чтобы быть похожим на молодого монаха, верного своему предназначению.
Я быстро устал от ходьбы и от необходимости попрошайничать во имя любви к Господу, я просто проклял это путешествие. Тем не менее я прибыл на место через пятнадцать дней непрерывной ходьбы. Я был в таком состоянии, что два дня не мог подняться. Я нашел на месте какую-то жалкую кровать, хотя был привычен к приличным постелям, упал на нее, но вскоре должен был идти в церковь. Мне стало казаться, что кардинал отправил меня в настоящее чистилище.
Мадам де Шеврёз
Тем временем я познакомился с несколькими французами, которые тоже прибыли в монастырь. Указав им на одного человека, которого мне часто приходилось видеть в монастыре, я спросил у них, кто это такой. Мне ответили, что это маркиз де Лаи к, который и был тем человеком, которого я искал. Это был фаворит или даже возлюбленный мадам де Шеврёз, или, лучше сказать, он был им несколько лет назад, но с тех пор она решила заключить брак с господином де Шеврёзом, то есть она, по сути, соединила в одно шикарное рагу любовника и мужа. При отправлении из Парижа я был проинструктирован, что он был фаворитом эрцгерцога[16], и целью господина кардинала было оторвать его от него, вызвав в нем ревность.
Де Лаик, к которому мне не терпелось приблизиться, сам опередил меня, подошел и начал задавать вопросы по устройству монастыря. Я не упустил возможности воспользоваться этим случаем, мы разговорились, и я рассказал ему, что моя мать – валлонка, а с моим отцом обошлись несправедливо. Он слушал меня с удовольствием, а потом стал приходить достаточно часто. До поры до времени я не решался раскрыться, но он опять опередил меня, спросив, не соглашусь ли я передать несколько писем во Францию. Я ответил, что с удовольствием оказал бы ему услугу, но не решаюсь, так как опасность выглядит очевидной. Он сделал все возможное, чтобы меня успокоить, но я для верности еще поупорстовал. Он продолжал настаивать, утверждая, что я должен это сделать ради родины моей матери, то есть ради Фландрии. Я еще поделал вид, что сомневаюсь, сказав, что я и сделал бы, что меня просят, но я связан обязательствами в отношении Господа, и что мне будет трудно объяснить свое возвращение во Францию. На это он ответил, что если проблема только в этом, он ее решит за меня, а мое дело – лишь дать согласие, и он сделает все, что нужно.
Я еще долго не давал согласия, мы еще долго говорили о Господе, но потом я согласился. Было решено, что мне нужно полечиться на водах в Форже, и письма, о которых шла речь, будут направлены туда. При этом мне дали одного монаха в сопровождающие, и мы пошли в Форж, а на полпути господин кардинал в ответ на письмо, которое я ему написал, прислал ко мне курьера, которому я и передал пакет, полученный от де Лаика. Он его вскрыл, потом аккуратно вновь запечатал, ознакомившись с содержимым, и снова отправил его мне, приказав срочно сообщить о визите к тому, кому все это было предназначено.
Пакет предназначался некоему Пьеру, так называемому адвокату, жившему на улице, проходившей возле площади Мобер. Он одновременно со мной вышел из Парижа навстречу мне, но мы еще не увиделись, а рядом со мной уже был человек, который должен был проследить за ним и посмотреть, что за этим последует. Этот Пьер ничего не опасался и, вернувшись в Париж, отправился к графу де Шале[17], что позволило сделать вывод о том, что пакет предназначался именно ему.
Это подозрение еще больше укрепилось, когда выяснилось, что Пьер был его слугой, а потом ответ граф де Шале написал от руки, и кардинал узнал его почерк, как только ему доставили его письмо. Он был очень удивлен тем, что там прочитал. В письме речь шла о заговоре против короля, о плане выдать его супругу за герцога Орлеанского[18], а самого кардинала заговорщики вообще планировали убить. Этого было достаточно, чтобы подписать смертный приговор Шале, и король потребовал, чтобы это немедленно и сделали, но кардинал посчитал, что торопиться не надо и следует выявить всех сообщников, и король вынужден был согласиться при условии, что графа не выпустят из вида и не позволят ему скрыться. Однако, чтобы выманить его из Парижа, было задумано какое-то путешествие в Бретань, а я вернулся в Брюссель со своей депешей.
Ничего не подозревавший граф де Шале отправил послание в Испанию, и так король Испании также оказался заподозренным в заговоре, целью которого было уничтожение кардинала. Однако выяснилось, что королева[19] практически невиновна и у нее не было и мыслей выходить замуж за герцога Орлеанского. Напротив, она хотела женить его на инфанте Испании, своей сестре, о чем и написала в Испанию. Король же Испании ответил де Шале, но у того не оказалось возможности порадоваться этому – курьер был перехвачен на обратном пути, и по приказу кардинала ему перерезали горло.
* * *
Когда все это произошло, я находился в Брюсселе. Я знал, что роль моя в произошедшем велика и что меня ждут неприятности, если это вдруг станет известно. Я продолжал скучать в монастыре, ожидая новых приказов кардинала. Маркиз де Лаик оставался моим хорошим другом, но не говорил мне, что то, что произошло, было плодом его интриги, так как он собирался воспользоваться мной еще раз и боялся меня спугнуть. У него была дочь, о которой он мне часто рассказывал, и было видно, что он ее очень любит. Если бы он не был так впутан в испанские дела, было бы уместно заговорить с ним о примирении с господином кардиналом. Но я не решался заговорить об этом после того, что произошло, это ясно показало бы, что я не такой уж верный человек. А заговорить о мадам де Шеврёз – это было бы явной ошибкой. Видя себя бесполезным в этих делах, я не прекращал просить господина кардинала, чтобы он отозвал меня, но, так как он знал, что большая часть грандов была недовольна, и так как он боялся их контактов с испанцами, он оставил меня там, чтобы узнать, не откроется ли что еще.
* * *
Два полных года я прожил жизнью, которую я проклинал по тысяче раз за день. Мне приходилось лицемерить, но я это очень не любил, а посему не чувствовал себя в своей тарелке. Я часто сожалел о том, что покинул господина де Сент-Оне, что прибыл в Париж, я думал, что мог бы стать капитаном, а сейчас же я даже сам порой не всегда понимал, кто я: господин кардинал ничего для меня не сделал. Что меня мучило больше всего, так это то, что я много раз слышал о войне, и меня влекло туда, как я уже говорил, и жизнь, которую я вел, казалась мне от этого еще более невыносимой. Однако я виделся с господином де Лаиком очень часто, меня знали у него и у мадам де Шеврёз. Но вот однажды прибыли три дворянина, и один из них стал пристально смотреть на меня.
– Боже мой, – сказал он остальным, – это же Рошфор, в этом можно не сомневаться.
Я не ожидал такого и быстро пошел прочь, повернув на первую попавшуюся улицу. У меня была сумка за спиной, и я бросил ее в какую-то дверь. Потом я направился к старьевщику и попросил у него какую-нибудь одежду, за которую я готов был заплатить сколько угодно. Он принял меня за монаха, но захотел заработать, помогая капуцину переодеться, а посему он продал мне вещи втридорога. Я купил у него рубаху, шейный платок, он подобрал мне парик, шпагу и сапоги, и это было то, что нужно. Потом я бросился на почту, взял себе лошадь и помчался из города с максимально возможной скоростью. От страха у меня словно выросли крылья.
Я миновал Фландрию, где меня уже начали искать, так как тот, кто узнал меня, был шталмейстером графа де Шале, который укрылся в Брюсселе не потому, впрочем, что он был сообщником своего хозяина, а потому, что боялся ареста и предпочел на некоторое время удалиться из Парижа, чем рисковать оказаться в тюрьме. Он прекрасно знал меня, а посему был удивлен, увидев меня столь сильно замаскированным. Он захотел пойти за мной, чтобы спросить, почему я вырядился капуцином. Но, увидев, что я убегаю, он подумал, что на это у меня должны быть причины, а так как он знал, что я – человек господина кардинала, он все рассказал маркизу де Лаику.
Маркиз де Лаик сначала не поверил и даже пошел к капуцинам, в надежде меня там найти. Но ему сказали, что я еще не приходил, и тогда он попросил, чтобы ему сообщили, когда я вернусь в монастырь. Но при этом он все же предупредил господина эрцгерцога, так как это дело могло касаться интересов государства. И действительно, он пошел к нему со шталмейстером графа де Шале, и тот повторил свой рассказ обо мне. Эрцгерцог отдал приказ капитану своих гвардейцев отправить людей в монастырь, а еще он приказал на всякий случай закрыть ворота города, чтобы попытаться меня перехватить, если я еще не сбежал.
Так как меня не знали и так как я успел переодеться, чтобы обмануть тех, кто должен был меня ловить, ему сообщили, что я должен еще находиться в городе. Когда наступила ночь, я еще не вернулся, и они стали понимать, что я сумел спрятаться. Они думали, что я еще в городе, а посему выпустили постановление, которое обязывало выдать меня, но никто на это не отреагировал. Тогда они послали за мной в погоню, но было уже поздно.
* * *
Господин кардинал был очень удивлен, увидев меня, так как я вернулся без его приказа. Он подумал, что я сделал это потому, что мне просто надоело жить в Брюсселе, и он очень серьезно отругал меня. Но, узнав о том, что произошло, он сменил гнев на милость и сказал, что я все правильно сделал. Через несколько дней он-то и рассказал мне о том, что происходило после моего исчезновения, и о том, как зол был эрцгерцог, что меня не нашли. Он сказал мне также, что моего компаньона бросили в тюрьму и он рискует никогда больше оттуда не выбраться.
Приехав, я обнаружил кое-какие изменения при дворе. Господин маркиз д'Умьер, отец того, кто сейчас является губернатором французской Фландрии и маршалом Франции, был отстранен от своей высокой должности, и он приходил каждый день к господину кардиналу, чтобы получить ее назад. Но господин кардинал отвечал ему, что нужно обращаться к королю, из уст которого шло это отстранение. Подобная немилость была связана с тем, что кардинал не любил тех, кого возвышал не он лично. Маркиз был рыжим, а так как в то время парики были редкостью и он знал, что король не любит рыжих, он причесывался стальной гребенкой и тем самым как бы подкрашивал себе волосы. Король ничего об этом не знал, но однажды во время охоты пошел сильный дождь, и вся подкраска смылась, обнажив настоящий цвет волос. Этого оказалось достаточно, чтобы маркиз был отстранен от должности, а потом уже ничто не могло ему помочь, так как король не любил отрекаться от своих слов.
Я удостоился кое-каких ласк от господина кардинала после того, как уже говорилось, как я объяснил ему необходимость своего возвращения. Но либо ему было удобно всегда держать меня при себе, либо он не хотел меня повышать, но в результате он довольствовался лишь тем, что время от времени награждал меня, не давая никакой должности. После возвращения я получил от него две тысячи луидоров[20], но в моем положении это меня совсем не обрадовало. Я много тратил, и хотя получал сто тысяч экю в год, их не хватало.
Я видел, что поступаю неправильно, но не мог ничего поделать. Чтобы иметь что-то более солидное, я попросил для себя роту гвардейцев, когда освободилось это место, но господин кардинал сказал мне, что я не понимаю, что прошу, что любой капитан гвардии лишь мечтал бы оказаться на моем месте и что у него есть ко мне дело.
Короче, он все так представил, что я ему еще должен был быть обязан за отказ, что я его еще буду благодарить за эту милость, в которой я не видел ничего особенного. При этом он дал мне еще одно аббатство с шестью тысячами ливров ренты, и я поставил туда одного из моих братьев, а то моя мачеха начала уже всем говорить, что я ничего не могу добиться от господина кардинала, что он меня бросил, а я два года провел в тюрьме за долги.
Так она описывала то время, когда я находился в Брюсселе. Хотя я и слышал эти разговоры, но я решил не отказываться от своего долга. На ее месте многие благодарили бы меня, но она, узнав, что за это надо немного заплатить, еще больше ополчилась на меня. Она не только начала жаловаться, что я не делаю никакой разницы между родственниками и нашим кюре, которому я все сделал бесплатно, но и стала обвинять меня, что я дал ему больше, чем следовало бы. Она проконсультировалась в Орлеане и решила, что соглашаться на аббатство – это спекуляция, и всем объявила, что не хочет этим заниматься.
* * *
Это не помешало мне сделать все, что я хотел, для ее старшего сына. Узнав, что он попусту теряет время в деревне, я поместил его в Академию, а потом, оплатив его пансион, представил его господину кардиналу и спросил, куда его можно пристроить. Мне хотелось определить его в мушкетеры, но, зная, что у меня не очень хорошие отношения с господином де Тревилем, который ими командовал, я решил этого не делать. Да мой брат и сам был больше склонен к службе в гвардии, чем к тасканию мушкета в каком-нибудь полку. Когда я понял это, я поместил его в гвардию, и через шесть месяцев господин кардинал дал мне для него младший офицерский чин[21]. Давая его, он мне сказал, что в этом-то и заключается разница между тем, что принадлежит ему, и тем, что ему совершенно неинтересно.
Это прекратило на некоторое время стенания моей мачехи, во всяком случае она стала возмущаться не так открыто, опасаясь, что в нее в ответ бросят камень. Но мой брат был убит во время первой же осады во Фландрии, и она возобновила ругательства в мой адрес. Она стала говорить, что я погубил ее сына ради каких-то своих интересов, что без этого я не стал бы искать ему должность, что для этих же целей я вызвал в Париж еще двух своих братьев, что я и третьего хочу подвергнуть той же участи.
Все советовали мне не обращать внимания на эту сумасшедшую, но я это делал скорее для себя, чем для нее. Я попросил господина кардинала отдать мне младший офицерский чин моего убитого брата, чтобы я мог передать его старшему из тех, кто остался. Можно сказать, что я занимался детьми, не имея возможности произвести хотя бы одного на свет.
Это все сильно истощало мою казну, а если добавить к этому и мою собственную расточительность, то это позволяло господину кардиналу часто повторять, что я напоминаю ему бездонную корзину.
– Мне вечно не хватает денег, Монсеньор, – сказал ему я, – но имейте жалость к бедному отцу, у которого есть еще шесть детей. Он засмеялся в ответ и больше не отказывал в том, что я просил. Из этого я вытянул пятнадцать тысяч ливров в год, не считая двух аббатств, двух младших офицерских чинов в гвардии, которые были мне даны. Одну из моих сестер он поместил в Монмартрское аббатство, и это не стоило мне ни су[22], но я стал смотреться как маленький фаворит. Но при всем при этом я не всегда выглядел довольным своей судьбой, и я говорил, что у меня нет ничего и после меня ничего не останется.
– Монсеньор, – говорил ему я, – если бы я мог иметь маленькую комнатку в Сорбонне и докторскую долю, как было бы здорово.
– Ты всегда недоволен, – сказал мне он, – ты мне стоишь больше, чем четверо других, однако ты вечно жалуешься.
– Бог свидетель, Монсеньор, – ответил ему я, – я так молод, и мне так многого не хватает.
– Почему ты не экономишь? – спросил он.
– Aх, Монсеньор, – ответил я, – вы же знаете, что у меня много детей, я прошу только тогда, когда действительно нуждаюсь, несмотря на то что вы мне даете, у меня нет ни су накоплений.
– Я тебя понимаю, – сказал он, – ты просишь у меня гарантированного хлеба на случай, если я умру, а об этом надо думать.
Я искренне поблагодарил его за слова, которые мне очень понравились. Потом прошло дней пятнадцать, в течение которых Его Преосвященство, казалось, и не вспоминал о том, что я сказал, а я не мог докучать ему каждый день и просто молча выполнял свою работу. Некоторое время спустя он пригласил меня в свой кабинет, взял маленькую шкатулку, открыл ее и сказал:
– Ты просил у меня хлеба насущного, и настало время дать его тебе.
Одновременно с этим он достал пергамент, связанный двумя ленточками, и протянул его мне.
– Держи, – сказал он, – это тысяча экю ренты одного Лионского банка, и я решил даровать тебе эту пожизненную ренту, так как ты не выглядишь хорошим управляющим своим состоянием.
Несложно себе представить, как я был рад этому подарку. Это было лучше, чем если бы мне просто подарили двадцать тысяч экю, так как я бы все тут же потратил и не смог бы ничего накопить.
Этот подарок Его Преосвященства спровоцировал страшную зависть в его доме, стали говорить, что все подобные милости достаются новичкам, а старых вечно обходят вниманием. Но это было еще ничего по сравнению со злобой моей мачехи. Она сказала, что бесполезно пускать пыль в глаза, что мое злое естество не изменится, что я гнусный притворщик, что я все делаю только для себя, чтобы обмануть законных наследников, что я сам сделал этот счет в банке. Мой отец приехал в Париж, я пожаловался ему на ее поведение, но это был такой несчастный человек, он был настолько ослеплен своей женой, что мне показалось, что говорить с ним равносильно тому, что биться головой об стену.
* * *
Мы часто бывали в Рюэле, где господин кардинал имел очень красивый дом. Это были прекрасные места для охоты, я же охоту очень любил, а посему ничуть не скучал. Де Бомон служил капитаном в Сен-Жермене, он был одним из моих друзей, и мне часто доводилось охотиться вместе с ним. Однажды он пришел и предложил мне развлечься, мы загнали оленя в лесу, а после этого он пригласил меня посетить его лесной домик. Я сказал, что сегодня никак не могу, и он пошел туда один. По дороге он встретил камердинера одного местного дворянина. Тот шел с ружьем, и де Бомон поинтересовался, знает ли он, что это запрещено. Тот, увидев, что перед ним всего один человек, ответил, что прекрасно знает, но взял ружье, чтобы подстрелить кролика. Де Бомон, шокированный таким ответом, спросил, знает ли тот, с кем разговаривает.
– Как я могу вас не знать, – сказал ему этот плут, – вы слишком заметная личность, чтобы вас не узнать.
Де Бомон был одноглазым и совсем потерял самообладание при подобном ответе. Однако он заметил, что нарушитель встал в защитную стойку, и тогда он сделал вид, что в лесу еще кто-то есть и он готов прийти ему на помощь. Камердинер немедленно развернулся и вернулся в дом своего хозяина, где в тот момент случайно находился я. Он ничего не рассказал о том, что произошло, но так как мы сидели за столом, он спустился на кухню. Вскоре мы услышали шум во дворе, и это заставило нас подняться, чтобы пойти посмотреть, что происходит.
Я был удивлен не меньше, чем хозяин дома, так как двор был полон людей в синих полукафтанах. Это были гвардейцы де Бомона. Камердинер говорил с ними, но при этом они не знали, кто он. Они рассказали, за кем пришли. И тогда, вместо того чтобы пойти с ними, он убежал в дом и там спрятался. При этом хозяин дома, не знавший, что происходит, взял ружье и был готов выстрелить. Я остановил его и двинулся к гвардейцам, которые все прекрасно меня знали, и спросил, в чем дело. Они рассказали мне, что произошло. Я попросил их не двигаться, пока я не вернусь, и пошел все объяснить хозяину дома. Я предложил ему, чтобы один гвардеец вошел в дом вместе со мной. Это было непросто, но он доверился мне. Гвардейцы все вокруг обыскали, понимая, что камердинер не мог уйти далеко. Они осмотрели все уголки, но безрезультатно, а потом решили, что его унес сам дьявол. Лишь после того, как они удалились, камердинер хозяина дома выбрался из своего тайника.
Этот человек, кстати, не стал дальше скрываться у своего хозяина и, попросив у него отпуск, уехал к себе на родину, которая находилась в десяти – двенадцати лье от Парижа. Он нашел там своего старого отца. Тот был тяжело болен и страшно обрадовался, что может его увидеть перед смертью. Он был бедным человеком, и рядом с ним не было никого, и он попросил, чтобы сын дал ему попить. Он это просил много раз в течение четверти часа. Камердинер дал ему попить один или два раза, ничего не говоря, но ему стало лень это делать, и он принес отцу сразу целое ведро, сказав, что не может постоянно бегать туда-сюда. Для несчастного отца это было ужасно, он стал упрекать сына в бездушии, а тот вдруг взял ведро и опрокинул его на отца, сказав, что пусть он обопьется, если ему так хочется.
После этого он поехал в Париж и там натолкнулся на президента Сегье[23], тот впал в бешенство от подобной наглости и приказал бросить его в тюрьму. Тогда было принято допрашивать всех заключенных, и на допросе либо его физиономия показалась слишком злобной, либо это Бог наказал его за ужасное поведение, но судьи решили переправить его на родину, чтобы там узнать побольше о его жизни и проступках. Комиссар, занявшийся этим, нашел его отца уже мертвым, но тот успел рассказать о страшном поступке своего сына многим людям, так что не было ни одного человека, кто вступился бы за него. Комиссар составил доклад, соблюдая все формальности, виновного предали суду и приговорили его к повешению. Перед виселицей он признался во всех своих страшных преступлениях, и его колесовали, как это делалось раньше с самыми страшными негодяями.
Это, без сомнения, хороший урок для тех, что думает, что сможет избежать Божьего наказания. Некторые люди склонны думать, что могут выкрутиться из любой передряги, но потом погибают из-за пустяка. В конце концов, этот человек пострадал из-за случайного столкновения с президентом Сегье, а без этого он ходил бы с высоко поднятой головой, думая, что ему нечего бояться.
* * *
Как я уже говорил, я добился чина лейтенанта гвардии для моего брата. Он участвовал в двух или трех осадах, которые имели место в очередной военной кампании. Господин кардинал, пожелав узнать, хорошо ли он выполняет свой долг, спросил об этом у маршала де Граммона, прибывшего к нему утром. Камердинер, стоявший у двери, потом рассказал мне, что маршал ему ответил, что это очень хороший мальчик. Я бы еще кое-что предпринял, чтобы сделать для него еще что-нибудь, но мне было неловко обращаться с просьбами слишком часто. К тому же у него был еще и младший брат, и он тоже уже находился в возрасте, позволявшем отправиться на войну. Я представил его господину кардиналу и попросил, как я это уже делал для старшего, куда-то его пристроить. Господину кардиналу он понравился, и он сказал, что мне повезло, что у меня такие высокие и хорошо сложенные братья.
– Младший офицерский чин в гвардии, Монсеньор, – сказал я, – для него был бы столь же хорош, как и чин лейтенанта для его старшего брата. Такое место сейчас как раз вакантно, и я заверяю Ваше Преосвященство, что, когда настанет время, он докажет, что у него достаточно и доброй воли, и храбрости. Кардинал подумал немного и сказал:
– Ты хочешь столкнуть меня с господином д'Эперноном[24]. Но знаешь ли ты, что он не любит, когда вторгаются в сферу его компетенции, он же даже вступил как-то в спор с самим королем из-за какой-то роты гвардейцев?
– Если он будет слишком придираться к вам, Монсеньор, – ответил я, смеясь, – нас уже тут три брата, а ведь есть еще и другие, и, когда они подрастут, они все смогут постоять за ваши интересы.
– Хорошо-хорошо, – сказал мне господин кардинал, – найди его и скажи от моего имени, что он должен тебя наградить.
Я не преминул поблагодарить его за такую милость и тут же отправился к господину д'Эпернону. Он сказал мне, что для такой малости, о которой идет речь, было бы достаточно рекомендации господина кардинала, но раз я пришел лично, то и этого вполне хватит.
* * *
Конечно, ничто не могло сравниться с добротой, которую мой хозяин проявлял ко мне, и единственной проблемой для меня было то, что я не мог отблагодарить его за все, что он для меня делал. Однако я искал для этого любые возможности.
Герцог д'Эпернон
Однажды, например, мне ради этого пришлось вступить в перепалку с несколькими людьми. Дело в том, что один англичанин начал плохо говорить о кардинале. Похоже, что избыток выпитого вина мешал ему контролировать свои слова, а может быть, у него на это были какие-то свои тайные причины. В любом случае, я сказал ему, чтобы он не говорил так о моем хозяине, в противном случае я заставлю его замолчать. Однако он продолжал, мое терпение лопнуло, и я бросил ему что-то в лицо. Он хотел выхватить шпагу, я выхватил свою, но наши друзья развели нас в стороны и попытались утихомирить. Это было невозможно. Потом появился некий третий и предложил мне свои услуги. Я всех поблагодарил, сказал, что ни о чем не жалею, что не могу помешать этим двум господам проводить меня до дома, но что игра должна быть равной.
На следующее утро, когда я был еще в постели, мой слуга доложил мне, что меня спрашивает какой-то господин. Не сомневаясь, о чем идет речь, я приказал впустить его. Он вошел и сел около моей кровати. Я его узнал. Это был один из тех, кто вчера находился с моими двумя противниками. Я дал ему знак ничего не говорить, пока мой слуга не выйдет. После ухода слуги он поприветствовал меня, а потом заявил, что я оскорбил его друга, очень достойного человека, что это оскорбление можно смыть лишь кровью, что меня ждут, а посему я должен прийти и привести с собой двух своих друзей.
Из всего разговора проистекала лишь одна трудность – нужно было втянуть в ссору еще двух человек. Я не знал, на ком остановиться, и долго оставался в замешательстве, но потом вдруг подумал, что у меня есть два брата, которые, как и я, ощутили на себе благодеяния господина кардинала, и я решил не привлекать посторонних, так как речь шла о битве за его интересы. Я предупредил братьев, мы все вместе отправились в Булонский лес, который был местом для подобных встреч, там мы выхватили шпаги и стали драться. Сначала мой младший брат был ранен, но и он успел ранить и обезоружить своего противника. Я сделал то же с моим противником, и мы двое бросились на помощь нашему третьему брату, так как его противник проткнул его и он упал мертвым у его ног. Для братьев это был сигнал к отмщению, и кровь, лившаяся из раны младшего, нас не остановила, в результате этот человек стал просить пощады, когда мы на него навалились, но я счел, что не нужно оставлять его в живых.
Так мы победили: у нас лишь один пал на поле боя, а у них все трое. Однако это оказалась не единственная наша потеря. Рана младшего брата тоже оказалась смертельной. Он сначала сопротивлялся силой своей молодости, и я даже был удивлен, когда он вдруг испустил дух у меня прямо на руках. Никогда мне не было так грустно. Я видел себя причиной смерти этих двух многообещающих мальчишек, которых я сам, если можно так выразиться, привел на бойню. Можно себе представить, что почувствовала моя мачеха при этом известии. И мне нечего было ей ответить. Я мог бы многое сказать в свое оправдание, но мне показалось, что лучше будет дать высказаться другим. Тем более что помимо этого несчастья, которое само по себе было немалым, было и еще одно, не дававшее мне покоя ни днем ни ночью.
* * *
Хотя господин кардинал и был главной причиной нашего боя, дуэли были запрещены, и он не желал меня больше видеть, словно я был каким-то убийцей. Мне пришлось спрятаться, и мне рассказали, что меня повсюду ищут, чтобы передать в руки правосудия, и этим уже занимается господин генеральный прокурор. Ля Удиньер, остававшийся моим другом, первым предупредил меня об этом и сообщил, что господин кардинал так взбешен, что он даже не решился замолвить обо мне слово. Я тоже не стал его ни о чем просить, опасаясь, что Его Преосвященство догадается, что он виделся со мной. Мне подумалось, что полезнее будет, если он будет делать вид, что ничего обо мне не знает, а сам постарается проследить за обстановкой. Так продолжалось почти три месяца, что весьма долго для человека, вынужденного прятаться. При этом если у меня и были враги или, лучше сказать, завистники, то они не теряли зря времени, и невозможно даже представить, сколько всяких сказок они успели понарассказать обо мне господину кардиналу.
Граф де Молеврье из Нормандии оказался из их числа, хотя я почитал его своим другом и даже дал ему повод считать меня таковым. Благодаря мне, например, он получил младший офицерский чин в гвардии, в котором ему сначала отказали. Потом я представил его господину графу д'Аркуру, чтобы он мог пойти вместе с ним в армию, и могу утверждать, что лишь моя протекция помогла ему. Это был благородный человек из дворянства мантии[25], каких тысячи в провинции. Но к моменту, когда я попал в опалу, он уже превратился в моего смертельного врага. Действительно, мне из многих источников доносили, что он плохо говорил обо мне господину кардиналу. Я был в ярости и только и мечтал о том, чтобы выпутаться из своих проблем, связанных с дуэлью, и восстановить справедливость.
Ля Удиньер был одним из тех, кто рассказывал мне обо всем, и вот однажды он пришел ко мне и сказал, что мне не следует быть злопамятным, так как господин кардинал и без меня наказал этого нормандца. Я захотел узнать, что случилось, и Ля Удиньер поведал мне следующее: когда граф в очередной раз пришел к Его Преосвященству, чтобы наговорить на меня, кардинал вдруг заявил, что это подло – так отзываться об отсутствующих, что он меня знает значительно дольше, чем его, что я никогда не клеветал на людей, что я отважный человек, а не какой-то там фанфарон и что моя опала, возможно, не будет вечной. Я не мог поверить в такой поворот, однако я увидел в нем самое доброе предзнаменование. После этого мне оставалось лишь набраться терпения, а оно, как известно, лучшее лекарство.
Потом прошел еще месяц, но ничего не поменялось. Мне уже начало все это надоедать, и я стал подумывать, что ошибся в своих прогнозах, но тут Ля Удиньер прибыл от господина кардинала и сказал мне от его имени, чтобы я ничего не боялся и позволил бросить себя в тюрьму. Он также сказал, что кардинал проинформирован о моем положении и что он по-прежнему считает меня своим другом.
Не стану говорить, насколько меня обрадовали подобные слова. В ответ я попросил Ля Удиньера передать Его Преосвященству, что я несказанно признателен ему за его доброту. Как бы то ни было, в тот же день я оказался в тюрьме, не имея никаких других гарантий, кроме слов господина кардинала. Те, кто знал, что я сделал, и не ведал того, что сказал мне господин кардинал, подумали, что я совсем потерял рассудок, и страшно жалели меня. Другие, из числа тех, кто не желал мне добра, в частности граф де Молеврье, воспользовались этим, чтобы усилить клевету против меня, но, так как я, как отметил господин кардинал, никогда в жизни не делал никому зла, их было не так много.
Самым опасным из них оказался граф, он был женат на родственнице президента де Байёля, и он старался сделать все, чтобы меня погубить. Если бы этот высокопоставленный господин относился ко мне столь же враждебно, я бы очень рисковал. Но я продолжал верить в лучшее, и дело, в конце концов, было представлено так, что люди, которых мы убили, поджидали меня с братьями в Булонском лесу, когда мы шли из Версаля, что мы вынуждены были защищаться и шпаги вынули лишь по необходимости. Было приведено еще немало деталей подобного же рода, нашлись даже «свидетели» из числа людей, которых я даже не знал, и мое оправдание оказалось делом недолгим и нетрудным. Я не знал точно, кто и как позаботился обо мне, но мне думалось, что это было делом рук господина кардинала. Я и мысли не мог допустить, что человек, настолько добрый ко мне, оставил бы меня столь надолго в беде; к тому же это именно он предупредил меня, чтобы я ничего не боялся.
Выйдя из тюрьмы, я бросился к ногам Его Преосвященства и заявил, что готов вновь повторить все то, что произошло со мной, готов даже сложить голову на эшафоте, но я никогда никому не позволю плохо отзываться о нем.
– Послушайте, – сказал он, поднимая меня, – это я вас вытянул из этой передряги, и пусть этого никто не знает, но если я и послал за генеральным прокурором, чтобы он возбудил против вас дело, так это лишь для того, чтобы вас спасти. Я вас даже не предупреждаю, что я заинтересован в том, чтобы никто об этом так ничего и не узнал. Только что практически за то же самое казнили графа де Бутвиля и графа де Шапелля, а первый из них был родственником первого принца крови, и оба они были связаны с первыми семействами королевства.
Эти слова вернули меня в то же состояние, из которого он меня только что вывел, и я снова бросился на колени и обхватил руками его колени.
– Монсеньор, – сказал я, – когда же мне предоставится такое счастье – умереть за такого замечательного хозяина? Когда же мне будет разрешено драться с теми, кто объявляет себя его врагом?
Ему понравился мой порыв, и он позволил мне высказать еще очень много подобных слов.
То, что он мне сказал по поводу графа де Бутвиля и графа де Шапеля, было чистой правдой. Граф де Бутвиль[26] был отцом нынешнего герцога Люксембургского, родственником принца де Конде или, что точнее, его супруги, но эта честь стоила ему слишком дорого. Нужно сказать, что герцог Энгиенский, его старший сын, женился на мадемуазель де Брезе, племяннице кардинала, и его отец был вынужден пойти на этот брак, чтобы обеспечить себе жизнь или, как минимум, свободу. Его сын рассматривал этот брак как цепи, которые на него навесили, он презирал свою жену и упрекал ее в тысячах разных вещей. С ее рождением все было нормально, и она, без сомнения, происходила из старинного семейства. Тем не менее герцог Энгиенский обратился к специалисту в области генеалогии, чтобы узнать детали, и тот сообщил ему, правда то или нет, что семейство де Майе, из которого она была родом, имело в основе незаконнорожденного ребенка от архиепископа Турского. Для герцога этого оказалось достаточно, чтобы не только унизить свою жену, но еще и посмеяться над кардиналом. А так как ничего не могло произойти, чтобы кардиналу об этом тут же не доложили, он так рассердился, что только и ждал с тех пор предлога, чтобы отомстить. Предлог очень скоро представился, де Бутвиль, вопреки запрету, участвовал в дуэли, и он был схвачен до того, как успел скрыться в Лотарингии. Граф де Шапель, который участвовал в дуэли вместе с ним, также был арестован, и они оба были переданы в руки палача, причем кардинал сделал вид, что все решило справедливое правосудие, но на самом деле это он отомстил из своих личных интересов.
* * *
После моего помилования господин кардинал, который стал любить меня больше, чем обычно, дал мне множество знаков отличия и даже спросил, нет ли у меня еще брата, которого я хотел бы устроить на службу. Я ответил, что у меня есть два брата, что один из них владеет последним аббатством, которое господин кардинал был так добр мне подарить, но второго я не хочу вмешивать в наши дела, так как я уже имел несчастье быть обвиненным в смерти троих моих братьев и не хочу больше подставляться под подобные упреки.
Я также сказал, что у меня есть сестра, которая вроде бы достаточно красива, что я хотел бы выдать ее замуж за одного из моих друзей – дворянина из Бретани, но для этого мне нужен положительный ответ моего отца и моей мачехи. Кардинал слушал все это с доброй улыбкой. При этом я знал, что моя мачеха не перестает упрекать меня в том, что я дал все одному из своих братьев, а другому – ничего, и я просто обязан что-то сделать для несчастного. Я решил дать ей возможность высказаться, ожидая ответа по поводу моей сестры, а тем временем уже прошло три месяца, как мне его не давали. Наконец, мой отец приехал в Париж по судебным делам и письменно сообщил мне о месте своего жительства. Я тут же пришел к нему и после дежурных приветствий спросил, почему от него так долго не было ответа.
– Из-за ее матери, – ответил мне он, – которая думает, что вы хотите ее обмануть.
– Но, месье, – спросил я, – неужели вы верите в подобное?
– Бог мой, – сказал он, – я не знаю, что и сказать. Когда речь идет о согласии между женщиной, которую любишь, и сыном, перед которым имеешь обязательства, всегда чувствуешь себя в таком затруднительном положении.
– У вас нет обязательств передо мной, месье, – сказал я, – но мне кажется, что вы могли бы хотя бы отдать мне должное.
Я не хотел двигаться дальше из боязни показать ему недостаточно уважения. Его судебный процесс был против господина де ля Вьевиля, потомки которого сейчас являются герцогами и губернаторами Прованса. Это было, если позволительно будет так сказать, как поединок глиняного горшка с горшком из железа, это было очевидно, и я сказал отцу, что он должен как-то к этому приспособиться. Он ответил, что был бы рад, но не может, а я обратился к господину кардиналу, попросив его вмешаться, хотя у меня и так уже было перед ним немало обязательств. Он в тот же день поговорил с господином де ля Вьевилем, но тот хотел засудить моего отца, приговорив его к штрафу, а посему он ответил, что готов пойти на все, но не может влиять на ход начавшегося процесса.
Господин кардинал после этого решил не настаивать и сказал мне, что мой отец должен договариваться, но господин де ля Вьевиль этого не хочет, но из любви ко мне он позаботится о моем отце. Я все передал отцу, который показал, что очень этому обрадован. Тем временем судебные процедуры пошли своим чередом, и мой отец хорошо продвинулся в своих делах, но господин де ля Вьевиль вдруг предпринял кое-какие насильственные действия в деревне, которая была у нас возле Ножана. Более того, он не только обвинил моего отца во лжи, но и выразил сомнение в благородном происхождении нашей семьи, заявив, что мы не дворяне вовсе.
Как-то вечером господин кардинал поинтересовался, как идет процесс, и я рассказал ему обо всем, на что он мне ответил, что удивлен позицией господина де ля Вьевиля, дворянство которого ничуть не лучше нашего. А еще он добавил, что, если бы я знал, что однажды Генрих IV сказал о его отце, я бы знал, как ему ответить. Господин кардинал не бросал слов на ветер, и я стал умолять его рассказать мне все, что он знает. Тогда он рассказал, что в свое время господин де Невер, желавший отблагодарить отца де ля Вьевиля, умолял Генриха IV сделать его кавалером Голубой ленты[27]. А тогда существовал обычай, согласно которому рыцари, когда им вручали ленту этого ордена, должны были сказать: «Domine, non sum dignus»[28]. Господин де ля Вьевиль тоже так сказал, на что король тут же ему ответил, что прекрасно об этом знает и что орден ему вручается исключительно по просьбе господина де Невера.
Господин кардинал не мог бы доставить мне большего удовольствия, даже дав мне сто тысяч экю. На следующий день я побежал к адвокатам, рассказал им все, что смог узнать, и это коренным образом повлияло на ход процесса.
Мы позволили судьям посмеяться вдоволь, и они были этому очень рады, тем более что в дополнение к этому им еще и дали денег. Я тоже был очень рад, мой отец тоже и, во что вообще трудно поверить, господин де ля Вьевиль тоже. История с «Domine, non sum dignus» вернула ему рассудок, и он решил, что люди, которые и так знают достаточно много, не станут копаться в его генеалогии, шедшей из Фландрии. Об этом, кстати, можно было бы поговорить, но он явился к господину кардиналу, потом ко мне, сказав, что удивлен тем, что выяснилось, что он не знал, что это дело касается и меня тоже, и что если бы он это знал, то и не подумал бы судиться. Я прекрасно понимал, почему он так говорит, но вовсе не горел желанием его щадить. Я сказал ему, что доволен, что ради меня он сделал то, чего не стал делать ради господина кардинала. А еще я сказал, что его действия ввели моего отца в большие расходы, что я готов пойти на мировую, но он должен сам сказать, как он это себе представляет. Эти слова разозлили его, и он удалился, ничего не ответив.
Мы продолжили судебные процедуры, но уже без оскорблений и ругани с обеих сторон. Процесс вел советник Тюркан, человек, которого считали беспомощным и который предпочитал заниматься судебными делами вместо того, чтобы оставаться со своей женой, которая была ему неверна. Он считался нашим другом, а вот главный судья к таковым не относился, и он всячески подначивал советника, утверждая, что тот все читает по бумажке, в которой за него уже написали все слова. Тюркан оказался человеком страстным, хотя его жена и утверждала обратное. У него на столе стояли два канделябра, и он вдруг схватил один из них и бросил его в главного судью, закричав, что человек, подозревающий его в мошенничестве, заслуживает этого. Главный судья вынужден был пригнуться и закричал, что советник хочет его убить. Начался страшный беспорядок, который остановил процесс. Главный судья побежал жаловаться, а господин Тюркан ушел домой, куда ему и принесли приказ сложить с себя свои полномочия.
После этого наши друзья предприняли определенные действия, чтобы все уладить, а так как обе стороны были утомлены процедурами, чтобы прийти к этой цели, не потребовалось больших усилий. Было договорено, что никто не будет больше вспоминать о том, что было сказано, и это выглядело лучшим из возможных решений, так как обо всем этом невозможно было вспоминать без боли в сердце.
* * *
Когда дело закончилось, мой отец вернулся к себе домой, но до его отъезда я попросил его еще раз подумать о моем предложении относительно моей сестры. Он мне пообещал поговорить об этом с моей мачехой. Через два дня, когда он уже был у себя, я получил от него письмо, в котором говорилось, что он готов отдать дочь в те руки, о которых я ему говорил, но при условии, что это ему ничего не будет стоить. Я не мог понять недальновидности этих людей, которые не хотели видеть прямой шанс для своего ребенка, жалея дать за него двадцать тысяч франков. Что это было, жадность или банальная низость? После смерти моих двух братьев и моего выхода из тюрьмы господин кардинал, чтобы утихомирить мою мачеху, позволил ей продать должность ее старшего сына. Она ее продала и получила за это неплохие деньги, гораздо большие, чем требовались для замужества дочери. Однако вскоре я получил из дома еще одно письмо, где было объяснено, что раз я считаю это дело таким выгодным, то я не должен отказывать в небольшой помощи, что это сущая безделица для меня и что у меня есть обязательства перед моей сестрой. Никогда я не испытывал такой ярости, как тогда. Я написал домой все, что думаю по этому поводу. При этом, по всей видимости, на моем лице было написано столько нескрываемого разочарования, что господин кардинал заметил это. Он спросил, что случилось, но я решил, что он может подумать, что я просто хочу вытянуть у него еще некоторую сумму, а посему не стал вдаваться в подробности, ответив лишь, что это мои домашние дела и что о них не стоит и распространяться. Он мне не поверил и сказал, что хочет знать, о чем идет речь. Я попытался сопротивляться, но потом вынужден был рассказать все.
– Я думаю, – сказал он после этого, – что это дело серьезное. И вот что, я помогу тебе еще раз из любви к тебе, но при условии, что ты не будешь больше говорить, что это твои дети, а то после всего, что я для них сделал, мне уже начинает казаться, что они мои.
Если бы нужно было броситься в огонь ради него после всех этих благодеяний, я бы это сделал не раздумывая и от чистого сердца. Но я чувствовал себя несчастным, так как был всего лишь бедным бесполезным слугой, который своим рвением пытается показать свою страсть к службе. Тем временем моя сестра вышла замуж за того, за кого я хотел. Потом прошло несколько лет, но Господь не послал им детей. Через пять или шесть лет ее муж вдруг стал очень набожным, а она, испытывая удовольствие от подчинения его желаниям, тоже стала такой набожной христианкой, что стала служить примером для всей Бретани. При этом рвение их обоих доходило до самых крайних проявлений. Он стал священником, она – монахиней, они стали миссионерствовать в своем крае, а потом она удалилась в монастырь в Мёлане, для которого сделала очень много добрых дел.
* * *
Через некоторое время после того, как господин кардинал оказал мне услугу, о которой я только что рассказал, его охватила столь сильная меланхолия, что его невозможно стало узнать. Испытывая к нему огромное уважение, я не мог не выражать своей озабоченности. Мне очень хотелось принести ему хоть какое-то облегчение. Он говорил, что ему ничего не надо, но я не мог не видеть обратного: с тех пор, как я находился возле него, я так хорошо изучил его натуру, что, можно сказать, знал его до самых скрытых уголков его души. После такого ответа я немного отошел в сторону, однако заметил, что его печаль все усиливается, а вовсе не уменьшается, и это меня еще больше обеспокоило.
Это длилось уже два месяца, и я несколько раз прогуливался в Люксембургском саду, где мне нравилось бывать. Я обычно оставлял своих людей у ворот, а сам гулял по аллеям сада пешком. Однажды поздно вечером, когда я уже собирался уходить, я заметил одного человека, выходившего из Люксембургского сада. Я сразу узнал в нем того, с кем я виделся в Брюсселе, его там часто использовали в секретных делах. Время было позднее (было уже часа два ночи), и мне подумалось, что люди такого рода не будут выходить из дома так поздно без особой цели.
Я тут же предупредил об этом господина кардинала, который выразил сожаление, что я не проследил за этим человеком. Я ответил, что хотел это сделать, но рисковал бы быть замеченным, а я не хотел вызывать у него подозрений. Он сказал, что все правильно, а потом стал расспрашивать о его возрасте, цвете волос, росте, короче говоря, обо всем, что могло бы помочь его идентифицировать. Я все рассказал ему, одновременно был отдан приказ на почту, всем посыльным и всем извозчикам, чтобы те оповестили, если этот человек задумает покинуть Париж. Кроме того, были разосланы люди на все перекрестки, чтобы следить, не будет ли он собираться в дорогу, нагружая вещи в какую-либо повозку.
После всего этого я подумал, что этот человек и мог быть причиной грусти кардинала, и, видя, что он хотел поставить кого-то на часы возле Люксембургского сада, я сказал, что готов оказать ему эту услугу, что я знаю этого человека и что от меня он не ускользнет. Кардинал ответил, что все это так, но он тоже может меня узнать, а тогда он испугается и может скрыться. Чтобы лишить его желания взять кого-то другого, я сказал, что вряд ли он меня узнает, что я могу переодеться так, что ему и в голову не придет, что это я. Я заявил, что могу переодеться в бедняка, что я буду сидеть на земле и это позволит мне спокойно всматриваться в лица прохожих. Кардинал одобрил мою идею и выразил желание посмотреть, что из этого получится. Тогда я притащил два старых костыля, одежду, больше похожую на отрепья, и изобразил такого бедняка, как будто я действительно был им всю жизнь. Кардинал сказал, чтобы я принимался за дело и, если я преуспею в нем, я окажу ему самую большую в жизни услугу.
Я выбрал себе точку на углу улицы де Турнон, и принялся стонать, словно мне действительно было очень плохо. Многие жалостливые люди кидали мне монеты, но проезжало немало карет, и я стал опасаться, что мой человек проедет так, что я его не увижу, не приблизившись поближе. Я приблизился как можно ближе к воротам, и швейцарские гвардейцы, которым мои стоны разрывали уши, даже захотели меня прогнать. Я пообещал им не производить больше так много шума, и они успокоились.
Так я просидел на своем посту три дня и три ночи, так никого и не увидев, а потом я подумал, что он может войти со стороны Кармских ворот, и поменял местоположение. В тот же день я его увидел. Он пришел со своим ключом и сам открыл ворота, что меня очень обрадовало. Господин кардинал приставил ко мне человека, который регулярно подходил и спрашивал, не заметил ли я кого, а еще были люди на улицах, готовые пойти за ним, если надо будет за кем-то проследить. Через час я увидел еще одного человека, который прошел через ворота точно так же. Он был весь укутан в плащ, и я не смог его узнать, но я сообщил людям кардинала, что они должны будут проследить за ним, когда он будет выходить. Это и было сделано, причем так четко, что он ничего не заметил.
Этот человек оказался господином де Сен-Маром[29], обер-шталмейстером Франции, сыном маршала д'Эффиа. Господин кардинал не очень хорошо его знал, но сказал, что это очень неблагодарный человек. Он очень быстро продвинулся при дворе, он принимал участие в интригах герцога Орлеанского, который только этим и занимался, а теперь плел очередную из них. Что касается второго человека, то за ним тоже проследили, и кардинал узнал, что он живет в пригороде Сен-Жермен на улице де Канет. За ним долго следили, и он не мог сам сделать и шага, чтобы об этом не стало известно. Так обнаружилось еще несколько встреч, в которых принимал участие горбун виконт де Фонтрай[30], известный интриган.
Маркиз де Сен-Мар
Во власти кардинала было всех их задержать, так как заговор явно плелся против него лично. Но он пока слишком мало знал, а ему хотелось иметь на руках четкие доказательства их виновности, и он послал меня в Байонну, занять позицию, чтобы видеть всех, кто приезжает из Испании. За всеми ежедневно велась слежка, и господин кардинал вскоре передал мне, что де Фонтрай обратился на почту за лошадьми, а это значит, что очень скоро он может попытаться уехать из страны. Человек из Брюсселя через несколько дней последовал за ним, и я сообщил господину кардиналу, когда они проехали через Байонну.
Это была большая неосмотрительность с их стороны – ехать одной и той же дорогой, но Бог, ослепляющий людей перед тем, как их серьезно наказать, позволил фламандцу и вернуться обратно по той же дороге. У меня был приказ задержать его и люди, готовые помочь мне в этом. Он был очень удивлен, когда его схватили и выдвинули против него обвинения, которые могли привести его на эшафот (он оказался французом, а не фламандцем, как я думал). К сожалению, он успел принять яд, который находился при нем, мы не смогли ему помешать, и он умер через два часа.
Я сделал все возможное, чтобы его спасти, но доктора не смогли приехать вовремя, и яд сделал свое дело.
Я обнаружил в сапоге погибшего оригинал договора, который де Фонтрай подписал в Испании от имени герцога Орлеанского, герцога де Буйона[31] и маркиза де Сен-Мара. Я тут же вскочил в седло и помчался к Его Преосвященству, чтобы показать ему бумаги и лично рассказать о том, что произошло. Двинулся я в Лангедок, где кардинал в это время вместе с королем вел осаду Перпиньяна. Я нашел его там совсем больным и физически, и морально. Так как де Сен-Мар настроил короля против него, ему сказали, что он должен покинуть Нарбонн, где он находился, чтобы перебраться в Прованс и Дофинэ, губернаторы которых были ему преданы. Де Сен-Мар вполне мог убить его в этой поездке, и говорили, что он пообещал это герцогу Орлеанскому, который смертельно его ненавидел. Но, упустив одну возможность, когда однажды они находились лицом к лицу в течение четверти часа, де Сен-Мар так и не выполнил своего обещания.
Я был встречен Его Преосвященством как ангел-спаситель, и он не сомневался, что человек, о котором я говорил, умер, а так как у меня был договор, он его отправил королю, сняв предварительно с него копию.
Так как он показал мне свою обеспокоенность, я решил поступить иначе: я сохранил у себя оригинал, а отправил копию. Я понимал, что всякое может произойти, что у меня его могут отнять, и тогда нечем будет подтвердить мои слова. А кардинал мне сказал, что в нынешнем положении дел нужно срочно раскрыть глаза королю, а для этого нужны оригиналы документов.
Я отправился в путь, а граф де Шаро, который находился при генеральном штабе и был признателен кардиналу, пообещал тайно поговорить с королем о том сюрпризе, который я ему везу. При встрече он спросил, как поживает господин кардинал. Я передал ему то, что должен был сказать, но я не верил ему.
Поэтому я не сказал ему самую важную вещь, и лишь когда господин кардинал прибыл из Тараскона, он сказал королю, что отбывает ко двору, на что король ответил, что не нужно торопиться, а стоит лучше поправить свое здоровье.
Именно поэтому кардинал отправился в Прованс и Дофинэ. Однако, будучи самым великим политиком за последние несколько веков, он понял, что не может влиять на образ мыслей короля иначе, кроме как показав себя должным образом. А так как король был тихим и скромным, неспособным решать многие вещи, маршал де Граммон, который был предан кардиналу, остался и сражался при Онкуре[32], и его поражение оставило границу Пикардии без прикрытия. Когда король узнал об этом, он снова обратился к кардиналу, дав ему приказ срочно вернуться ко двору. При этом король сам устремился ему навстречу, хотя осада Перпиньяна еще не была закончена, а кардинал еще не выздоровел.
Как раз в это время я передал королю договор, о котором шла речь. Он мне сказал, чтобы я возвращался, позаботившись о том, чтобы меня не видели. Я нашел господина кардинала в дороге, и он уже не выглядел таким больным, как раньше. Когда я вернулся от короля, господин де Сен-Мар был схвачен, а вместе с ним был арестован и господин де Ту[33], которому тот доверил свои секреты. Король обласкал кардинала, но этот великий человек, испытывая огромное сожаление по поводу того, как относился к нему король после того, что он для него сделал, заболел еще сильнее и вынужден был накладывать себе пиявки и обращаться к хирургам. Но это ничего не значило: в кардинале, несмотря на болезненное тело, всегда был удивительно здоровый дух. Он мог пробивать стены, но при этом всю дорогу в Париж швейцарские гвардейцы буквально несли его на руках.
Я был безутешен, видя моего доброго хозяина в таком состоянии, в то время как почти все при дворе веселились. Многие радовались проблемам кардинала и даже желали его смерти, чтобы наладить свои личные дела. Слабость короля давала им на это надежды. Король же в это время большую часть времени проводил у себя в комнате за молитвами.
А тем временем было начато следствие против господина де Сен-Мара и господина де Ту, которых отправили в Лион, в замок Пьер-Ансиф. Молодость одного, а господину де Сен-Мару было всего двадцать два года, и порядочность другого вызывали у всех чувство сострадания, а так как кардинала не все любили, стали больше говорить о его жестокости, чем о справедливости. Говорили, что он от природы очень мстителен, не обращая внимания на виновность обоих, вспоминали о маршале де Марийаке. Его Преосвященство, которого продолжали информировать обо всем происходящем, говорил мне иногда, что чувствует себя несчастным, так как простому человеку позволительно желать смерти человеку, который хотел его убить, а для него это непозволительно, что при этом он еще должен бороться с посягательствами на авторитет королевской власти, а его почему-то считают несправедливым. Порой мне казалось, что он готов был расплакаться, говоря об этом. Я уверял его, что он не должен считаться с мнением народа, который часто сам не знает, что говорит и что делает, а он отвечал мне, что вынужден много лет работать в обстановке такой несправедливости, и именно поэтому он чувствует себя несчастным, так как все считают его тираном.
Было видно, что он очень страдал, говоря об этом, и этого было достаточно, чтобы судить о величии его души. Однако головы королевского фаворита господина де Сен-Мара и господина де Ту все же слетели, а герцог де Буйон был задержан в Италии и тоже рисковал лишиться головы, но потом был выпущен на свободу, когда его жена пригрозила отдать Седан испанцам. Все были удивлены, что господин кардинал его простил, получив все доказательства его злого умысла. Он не первый раз пытался расшатать государство и примыкал к прямым врагам Его Преосвященства. Он участвовал в интригах графа де Суассона, дал ему убежище и вместе с ним при помощи испанских войск одержал победу над французами в битве при Марфе[34]. Все это говорило лишь о том, что, когда речь шла о величии короля и государства, Его Преосвященство не обращал внимания на несправедливости в свой адрес.
* * *
Как бы то ни было, это был человек, рожденный для возрождения величия Франции, которого все добрые французы должны считать бессмертным. Но Господь, дающий свой срок всему, решил отправить его в мир иной, к большому сожалению всех его верных слуг. За два или три месяца до этого я уже предвидел все, чем может закончиться его болезнь, и я был в отчаянии, видя, что многих это радует. Даже король, которому враги кардинала постоянно нашептывали гнусные вещи про него, понимал, что его счастье зависит от состояния больного. Это было нечто странное, но его первый министр, взявшийся за дела при ужасном состоянии государства, подчинил гугенотов, утихомирил Португалию, Каталонию, Эльзас и Австрию, спас Италию, совершил столько чудес, что можно было подумать, что человек, сделавший столько всего, обладал какими-то сверхъестественными способностями. Умирая, он сказал мне, что всегда считал меня выше остальных его слуг, что он сожалеет, что не сделал для меня больше. Он сказал, что, если бы он был уверен в короле, он бы посоветовал ему использовать меня в самых наиважнейших делах, что у меня имеются все необходимые качества, чтобы преуспеть в жизни. Если бы при его жизни я был чувствителен к проявлениям его уважения, я бы мог использовать это в том состоянии, в котором он находился. Все его щедроты пришли мне на память, но при мысли о том, что через миг этот человек, перед которым дрожала вся Европа, не сделает уже больше ничего, я так испугался, что страдал два дня, и лишь потом я кое-как смог пережить все это. Не успел он закрыть глаза, как король стал делать вид, что не одобряет всего того, что он сделал. Он тут же вернул тысячи людей, которые были отправлены в ссылку, что вызвало у меня такое отвращение ко двору, что я решил не оставаться там и четверти часа. Но нашлись люди, которым я потребовался. В частности, герцог Орлеанский обратился ко мне через Эгремона, который был одним из его приближенных, и тот, чтобы меня искусить, сказал, что я должен подумать о его карьере, которая, без сомнения, была у него лучше, чем у меня, что у него уже есть более двухсот тысяч экю состояния, что живут лет до пятидесяти и до смерти он успеет нажить еще вдвое больше. Но он не уточнил, что нажил это состояние способами, которые были мне чужды. Он играл в триктрак со своим хозяином и постоянно посмеивался над ним, а герцог, наделав немало ошибок, давал к этому поводы. Так он заработал немало денег, но Господь, который не допускает, чтобы процветали те, кто использует такие нечестные методы, сделал так, что он потом потерял в судебных дрязгах все то, что заработал игрой.
Герцог Гастон Орлеанский
Господин герцог Орлеанский оказался не единственным, кто хотел бы видеть меня возле себя. Принц де Конде заговорил со мной через герцога де Ларошфуко, который вернулся ко двору после ссылки. Но для такого политика это было странно – обращаться ко мне через человека, который был одним из главных врагов моего бывшего хозяина. Я уже готов был уехать, как вдруг королева попросила меня отправиться в Брюссель, чтобы оказать ей там небольшую услугу. Я был удивлен, так как считал, что она не должна была любить выдвиженцев кардинала, который сделал ей немало неприятностей. Не говоря об этом много, скажу лишь, что он удалил столько людей в своих интересах, он так мало уделял ей внимания или, точнее выражаясь, он так много внимания уделял интересам государства, считая, что она получала письма из Испании, и разыскивая их повсюду. Такое, как мне казалось, не должно прощаться. Мне даже показалось, что мне сделали это предложение, чтобы меня погубить, что мадам де Шеврёз потребовала моего вызова в Брюссель, чтобы расплатиться со мной за все, что я там натворил. Оставаясь при этом мнении, я поблагодарил королеву за честь, которую она хотела мне оказать. А потом я сказал, что меня использовали в эпоху кардинала де Ришельё при этом дворе, что у меня там так много врагов, что использовать меня – это лучший способ завалить все дело.
* * *
Таким образом, я попытался скрыть свой страх. Но королева, предупрежденная мадам де Шеврёз, как я и догадался, о том, что со мной произошло в Брюсселе, сказала мне, что знает о том, что заставляет меня так говорить, что я должен оставить все страхи, что я поеду от ее имени, а посему мне нечего бояться, и она дает мне в этом свое королевское слово. Такое явное желание воспользоваться моими услугами, несмотря ни на что, вызвало у меня еще большее подозрение, так что я вновь поблагодарил королеву, и она отправила вместо меня некоего Морвиля, которого ей предоставил кардинал Мазарини, который после смерти моего хозяина стал первым министром.
Задача состояла в том, чтобы установить контакт с Ля Портом, доверенным лицом герцогини де Шеврёз, и узнать у него лично, может ли он добраться до графа де… – фаворита эрцгерцога, чтобы в случае смерти короля иметь армию, готовую поддержать регентство королевы. Можно было бы воспользоваться и самой герцогиней де Шеврёз, чтобы добраться до этого фаворита, но кардинал Мазарини, который прекрасно знал о ее влиянии на королеву, не хотел еще больше возвышать ее роль этой новой услугой. Он сумел доказать, что Ля Порт проведет переговоры гораздо эффективнее, и королева, которая не испытывала уже к мадам де Шеврёз прежней нежности, уступила ему.
Морвиль, приехав в Брюссель, легко установил контакт с Ля Портом, пообещав, что добьется для него поста первого камердинера короля. И этот человек, который, благодаря мадам де Шеврёз, добрался от места простого закройщика до ее постели, начал предавать свою благодетельницу и любовницу. Граф де… был в гораздо лучших отношениях с мадам де Шеврёз, чем мог подумать Ля Порт. Она оказывала ему всяческие знаки внимания, и Ля Порт в конце концов обо всем рассказал своей любовнице. Невозможно представить, что почувствовала тогда герцогиня, но она высказала Ля Порту все, что думала, но тот, будучи человеком достаточно разумным, решил, что ее отношения с графом де… больше походят на взаимную дружбу, начал упрекать ее в недостатке доверия и добавил, что человек, который разочаровывается в столь деликатной области, может отомстить. Герцогине не понравились подобные упреки, и она уже была готова прогнать его, но не решилась это сделать из страха, что, вернувшись во Францию, он расскажет королеве о ее жизни и обо всех ее интригах. Кроме того, она опасалась, что он может занять место рядом с супругой маршала де Шомберга[35], которая в то время как раз отклонила любовь короля.
Граф де…, ревновавший к Ля Порту, был удивлен, что после всего того, что произошло, она так мало использовала его. Эта ревность могла довести его до чего угодно, и он в конце концов решил избавиться от него, подсыпав ему яд. Но Ля Порт, будучи человеком испанского менталитета, все время был начеку, и это спасло ему жизнь. Он принимал только проверенную пищу, и до своего возвращения во Францию он продолжал предпринимать эти меры предосторожности.
Пока происходили все эти интриги, король очень плохо себя чувствовал, и было видно, что он долго не протянет. Мадам де Шеврёз, имевшая столько влияния на королеву, ждала этой смерти, считая, что она положит конец ее ссылке и даст начало новому витку ее карьеры. Именно поэтому, желая еще больше привязать к себе королеву, она решила сама сделать то, что должен был сделать Ля Порт. Но она боялась, что его присутствие станет препятствием к ее отношениям с графом де…, и она отправила его во Францию.
Он согласился на это, испытывая большое сожаление по поводу того, что оставляет ее своему сопернику, но надеясь на то, что если он и не стал счастливым в любви, то хотя бы преуспеет в карьере. В самом деле, обещание поста первого камердинера короля его очень сильно заинтересовало, и он готов был получить это место любой ценой. Поэтому, едва приехав в Париж, он нашел королеву и рассказал ей, что не смог преуспеть в переговорах и этим теперь занялась мадам де Шеврёз. Королева, уже начавшая испытывать к кардиналу Мазарини то большое доверие, которое мы будем наблюдать потом, передала ему все услышанное. Кардинал сказал ей, что это не доведет ее до добра, если король узнает о происходящем, что его непрязнь к мадам де Шеврёз непреодолима, что нужно держаться от нее подальше, что нужно еще раз повидаться с Ля Портом, который не выглядит подозрительно, так как его считают отверженным, что он может быть полезным во многих вещах, а с мадам де Шеврёз сейчас лучше дел не иметь.
Королева Анна Австрийская
Королева, знавшая о правдивости этих слов, легко в это поверила. Она сообщила мадам де Шеврёз, что очень обязана ей за ее заботы, но в них нет никакой необходимости. Тем временем кардинал Мазарини задействовал Ля Порта в окружении королевы, чтобы лишить его благоприятного впечатления, которое могло у него остаться от мадам де Шеврёз. Он сказал, что только преданной службой можно заслужить обещанное ему место.
* * *
Однако к чести Мазарини надо сказать, что он предпринял и другие меры для того, чтобы обеспечить регентство. Так как он опасался господина Денуайе, государственного секретаря по военным делам, он захотел его удалить, и он воспользовался им, чтобы сделать первое предложение королю. Надеясь убить одним выстрелом двух зайцев, он хотел, чтобы король либо смирился с предложением в пользу королевы, либо пришел в ярость и уволил того, кто ему об этом сказал. Господин Денуайе поддался на эту уловку и дал себя втянуть в это дело. Но он понимал, что преуспеть будет трудно, а посему решил надавить на слабое место короля, то есть привести к нему духовника, чтобы тот мог перед лицом Господа простить всех своих врагов. Он надеялся, что перед лицом смерти король забудет обо всем, что доставляло ему неприятности в жизни, что он вернет ко двору всех своих противников, связанных с королевой.
Духовник все сделал как надо, либо просто исполняя свой долг, либо понимая, что оказывает специальную услугу. Но он очень быстро получил приказ удалиться, ибо король понял, что все, что происходит, является лишь результатом деятельности господина Денуайе. Он его также отослал и отдал его пост государственного секретаря по военным делам господину Ле Телье[36], который ныне является канцлером Франции.
Вспоминая карьеру этого министра и маркиза де Лувуа, его сына, я хотел бы сказать пару слов, чтобы показать, что когда человек имеет немалые заслуги, он может подняться наверх самым неожиданным способом.
Кардинал Мазарини
Господин Ле Телье был сыном представителя дворянства мантии, и он был воспитан им для того же предназначения. Получив небольшую должность, он чувствовал себя способным на большее и мечтал о месте королевского прокурора в Шатле, что было уже чем-то довольно значительным. Тот, кто продавал эту должность, готов был выбрать его из многих претендентов при условии, если он быстро предоставит требуемую сумму. Но ему не хватало десяти тысяч экю, и возникла опасность, что место уйдет к другому, но тут весьма вовремя появился господин Ле Пеллетье, который дал ему недостающие деньги. Так были устранены последние препятствия, и вскоре он завоевал такую хорошую репутацию и окружил себя таким уважением, что его стали считать таким мудрым человеком, каких уже давно не бывало. Однако это не помешало случиться одному весьма странному происшествию. Однажды днем он ехал по городу на муле, и вдруг произошли какие-то беспорядки, в которые его должность обязывала вмешаться. Но пажи из королевской конюшни не узнали, кто он такой, схватили его мула за поводья и силой оттащили в конюшню. Там разобрались во всем и потребовали, чтобы пажи попросили прощения. Господин Ле Телье был так добр, что не захотел их наказывать, а вскоре его пригласили оставить свой пост и войти в состав Королевского совета.
Таким образом, он стал известен моему хозяину, которому доложили немало хорошего о нем. Когда он появился в Совете и показал все свои незаурядные способности, он получил, как я уже говорил, должность государственного секретаря. В связи с этим он должен был передать четыреста тысяч франков господину Денуайе, и он ему их отправил, но тот отказался их брать, утверждая, что при дворе сейчас все нестабильно и малейшее изменение может вернуть ему эту должность. Деньги вернули, а господин Денуайе через некоторое время умер. Кардинал Мазарини, желая сделать приятное королеве-матери, передал ей эту сумму, думая, что она попадет к королю, минуя наследников. Понятно, что такие деликатные поступки должны были совершаться с великой осторожностью. А потом во Франции началась гражданская война, и господин Ле Телье остался верен интересам королевы-матери и кардинала Мазарини, которого он рассматривал как своего благодетеля.
Король Людовик XIII
Мазарини до своей смерти успел полностью овладеть мыслями молодого короля[37], который примечал людей, хорошо ему служивших, и тех, кто служил ему плохо. Именно поэтому король, испытывая дружеские чувства к господину Ле Телье, поручил ему арестовать господина Фуке[38]. Господин Ле Телье не был с ним в хороших отношениях, что стало причиной того, что многие подумали, что он приложил руку к свержению Фуке, но он, желая доказать обратное, даже отказался принимать участие в суде над ним.
У короля больше не было первого министра после смерти кардинала Мазарини, и если и существовал кто-то, кто мог бы им считаться, то это, без сомнения, был господин Ле Телье. У него было два сына и одна дочь, которая была замужем за маркизом де Виллекье, который сейчас стал герцогом д'Омоном. Что касается сыновей, то старшего, маркиза де Лувуа[39], он оставил в миру, а другого[40] отдал служить Церкви – тот стал коадъютором при архиепископстве Реймском, где находился кардинал Антуан, – и таким способом обеспечил ему в будущем герцогство и пэрство. Старший сын имел право преемственности на должность государственного секретаря. Его услуги сейчас еще столь свежи в памяти, что не стоит о них и говорить. Все, что произошло в Европе, было осуществлено при его участии, и он сейчас пользуется такой же репутацией, какая в свое время была у моего хозяина. Однако, если мне позволено будет сделать замечание о разнице той и этой эпох, я скажу, что мой хозяин не имел рядом великого короля и вынужден был большинство вопросов решать сам, тогда как нынешний король силен сам по себе и сам обеспечивает успех всех предприятий, которые зарождаются в его кабинете.
Как бы то ни было, такое множество заслуг отца и сына не могло быть лучше вознаграждено, как тем, кем они стали сегодня. Отец стал канцлером Франции, что является лучшей должностью при дворе. Сын стал государственным секретарем, министром, фаворитом, одним словом, тем, на кого король может положиться как в мирное время, так и во время войны. Однако не надо забывать обстоятельства, которое доказывает признательность отца и сына. Господин Кольбер[41], который возглавил финансовое ведомство, умер примерно два года назад, и они отдали его должность господину Ле Пелетье, сыну того человека, о котором мы упоминали выше, в благодарность за то, что тот в свое время сделал.
* * *
Если я и остановился чуть подробнее на рождении и карьере господина канцлера и маркиза де Лувуа, его сына, то это с единственной целью сказать о них хорошо. Рассказывая потом о больших делах, которые имели место при их министерском правлении, надо знать, кто управлял и что это были политически опытные люди. Возвращаясь же к тому, что касалось непосредственно меня, напомню, что я отказался вести переговоры в Брюсселе и решил удалиться от двора. Однако король, отправив в ссылку господина Денуайе, не поступил так же строго ни с кардиналом Мазарини, ни с Шавиньи[42], выступавшим в общих интересах. Они же поступили следующим образом: вместо того чтобы предложить королю сделать королеву регентшей, они сказали, что, пока он еще может сделать это, он должен сделать все так, как ему хотелось бы, чтобы все обстояло после его смерти[43].
Жан-Батист Кольбер
Король нашел их предложение разумным, но столкнулся в его реализации со многими трудностями. Он думал оставить опеку над своими детьми королеве или герцогу Орлеанскому, своему брату, но последний не обладал для этого нужными качествами, а королева была испанкой, а посему он выбрал середину, объединив их с целью, чтобы они совместно лучше исполняли свой долг. В результате оба оказались недовольны тем, что король для них сделал, и начались интриги, чтобы заставить его изменить свою последнюю волю. Все, кто находился при дворе, видели, что происходит, но не могли понять, кто же одержит верх. Также никто не мог решить, кто будет управлять королевой, если она все же получит абсолютную власть, так как перед ней каждый день представали все новые и новые люди. Кардинал Мазарини делал все возможное, чтобы склонить чашу весов в свою сторону, и королева все же объявила, что нуждается в нем, а он воспользовался последними часами жизни короля. Он убедил его, что женщина-мать всегда руководствуется чувствами, что она не может не делать разницы между интересами своих детей и своих близких, что они отличаются от интересов герцога Орлеанского, который уже несколько раз оказывался замешанным в интригах против короля и вполне может продолжить интриговать против его детей. После этого король подписал подготовленную кардиналом декларацию и умер.
* * *
Я уже готовился покинуть двор, но в том момент пока еще не сделал этого. Так уж получилось, но я стал служить герцогу де Ришельё[44], которому мой хозяин оставил свое имя и свой герб.
Некоторые утверждали, что он был его сыном, появившимся на свет от герцогини д'Эгийон, но он оказался слишком недалек, чтобы быть сыном столь великого человека, и это является лучшим доказательством того, что это неправда.
Как бы то ни было, поняв, что он скорее влачит, чем гордо несет доставшееся ему славное имя, я взял отпуск, не объясняя ему причины. Моей целью теперь была война, в которой я хотел принять участие, а она шла со всех сторон наших границ. Я чувствовал себя еще достаточно сильным и крепким, а посему отправился к господину Ле Телье, который хорошо знал меня, что позволяло мне на что-то надеяться, но он доложил обо мне господину кардиналу, а тот запретил давать мне какую-либо должность.
Скорее всего, последовал какой-то специальный приказ, так как господин Ле Телье больше со мной не разговаривал, хотя до этого имел обыкновение это делать. Более того, от него передали, что он был бы рад оказать мне услугу. В его устах, я это прекрасно знал, это означало, что он ничего не будет делать. Пока я злился на то, что он так долго играл со мной свою игру, господин де Шатр вдруг сказал мне, что может найти мне нового хозяина, который заменит мне все, что я потерял. Я ответил ему, что это было бы весьма уместно, главное, чтобы это не был герцог Орлеанский. Тогда он назвал мне имя герцога де Бофора, но я ему ответил, что очень его всегда уважал, но он был противником господина кардинала, а посему он не сможет полностью доверять мне, а я никогда не смогу служить ему от всего сердца. Он спросил, хорошо ли я подумал, отказываясь от дружбы с теми, кто противостоял господину кардиналу де Ришельё, тем более что теперь я нахожусь в опале у первого министра и в моих интересах было бы быть с теми, кто его ненавидит. Господин де Бофор, по словам господина де Шатра, относился именно к таким людям, так как кардинал лишил его милости королевы-матери, а еще он умел ценить человеческие заслуги. Кроме того, господин де Шатр сказал, что мог бы замолвить за меня словечко перед герцогом, с которым мы одинаково ненавидим Мазарини, и это может служить отличным поводом для взаимного доверия.
Мне не хотелось оставлять двор, и я желал отомстить за спектакль, который со мной разыграли благодаря кардиналу, а посему я принял это предложение. Обо мне поговорили с господином де Бофором, и он сказал, что был бы рад меня видеть. После этого мне было сказано прибыть в Ане, куда должен был приехать герцог, и я отправился из Парижа с одним своим другом, дом которого находился как раз по дороге.
* * *
Мы послали своих слуг вперед, а сами двинулись за ними следом. Мы поехали через Булонский лес и Сен-Клу. Когда мы проезжали мимо бывшего дома маршала де Бассомпьера[45], того, где сейчас находится женский монастырь, оттуда вдруг бросили камень в моего друга. Он повернулся, чтобы посмотреть, кто это сделал, и увидел на террасе дома, о котором я говорил, каких-то людей, и было похоже, что это были женщины.
– Черт возьми, – сказал мне он, – они над нами смеются.
В это время люди бросили в нас еще несколько камней, и мы поняли, что это были не женщины, а мужчины, которые теперь и не думали прятаться. Мой друг взял в руку пистолет, но тут камень попал ему в руку, и пистолет выстрелил. Пуля прошла мимо, и он выхватил второй пистолет, но тут нас предупредили, что это были люди герцога Орлеанского, который отдыхал тут вместе со своим двором. К сожалению, это сообщение дошло до нас слишком поздно, и мы решили, что нас обязательно будут преследовать, а посему пришпорили лошадей и бросились спасаться. Вскоре мы заметили, что за нами в погоню мчится пять или шесть всадников. Наши лошади не были свежими, но мы все равно пришпорили их еще раз и полетели вперед во весь опор. Казалось, лошади наших преследователей неслись по воздуху, и они настигли нас еще до того, как мы успели скрыться в Булонском лесу. Мы понимали, что у нас нет шансов спастись, и тогда мы остановились и повернулись к ним лицом. Мой отважный друг использовал единственный выстрел, который у него оставался. Но тут один из преследователей узнал его и крикнул, что предлагает мир. В тот же момент он бросился с ним обниматься, а остальные убрали пистолеты. После этого мы сказали, что не знали, что это герцог Орлеанский, а если бы знали, то вели бы себя иначе. Они ответили нам той же монетой, то есть сказали, что, если бы сразу узнали нас, тоже повели бы себя иначе. Но я сомневаюсь, что так и было бы, так как принц, который развлекается подобным образом, как герцог Орлеанский, вряд ли может остановиться, даже если его об этом попросят.
Мир восстановился, но они захотели, чтобы мы поехали с ними, от чего я стал всеми силами отказываться, так как мог показаться подозрительным в этой компании и хотел побыстрее прибыть на назначенную мне встречу. Но все, что я говорил, оказалось бесполезным, и мы вынуждены были пойти к господину герцогу Орлеанскому, который с пятью или шестью своими приближенными предавался развлечениям. Он посмотрел на меня, как если
бы я не был человеком кардинала де Ришельё, как если бы я не отказал ему. Он приказал нам сесть за стол, за которым, напившись, он вдруг решил доставить себе настоящее удовольствие принца, то есть совершить что-то невероятное. Он решил съесть омлет на животе Валлона, полковника Лангедокского полка, очень толстого человека, у которого и не было шанса похудеть, так как вместо того, чтобы хоть иногда садиться на диету, он лишь ел и ел. Валлон улегся во весь свой рост на стол, слуги положили омлет ему на пузо, а он был настолько пьян, что даже не почувствовал, как он горяч, либо счел правильным не показывать этого.
После подобной еды герцог Орлеанский вдруг заявил, что нужно возвращаться в Париж и пойти к Ля Невё, знаменитой куртизанке. Отказаться я не мог. Мы сделали все, что могли в том состоянии, в котором мы находились, взбесив хозяйку дома, а герцог Орлеанский, чтобы восстановить мир, сказал, что доставит всем удовольствие, и послал за комиссаром под предлогом того, что в доме слишком шумно. Комиссар явился, а герцог Орлеанский спрятал нас в соседней комнате и вышел ему навстречу с одним Валлоном. Они оба улеглись в постель к Ля Невё, которая была посередине, а комиссар, не узнав его, приказал ему встать, а когда тот отказался, приказал своим людям поднять его силой. Люди бросились выполнять приказ, но были очень удивлены, когда мы все вышли из соседней комнаты, сняв шляпы и показывая высочайшую степень уважения к тому, кто лежал в постели. Однако еще больше их удивила одежда герцога Орлеанского, которую мы принесли, но особенно их поразила Голубая лента. Комиссар стал догадываться о своей ошибке, а потом он бросился к ногам герцога, умоляя о прощении. Герцог сказал, чтобы он ничего не боялся и что все хорошо. Мы не знали, что он собирается сделать, но скоро узнали. Он позвал других куртизанок, которых комиссар еще не видел, заставил их выстроиться возле постели и повернуться задами. Потом он обязал комиссара и его людей отдать должное тому, что предстало перед их взором, и это он назвал почетным штрафом.
* * *
После этого нам было разрешено идти кто куда хочет, а так как я потерял уже очень много времени и боялся, что господина де Бофора уже нет в Ане, я поехал в ночь из страха, что он неправильно поймет мое опоздание. Но на месте я нашел, что он еще не приехал, чему я был очень рад. Но прошло два дня, а о нем так ничего и не было слышно, и я не мог понять, что это могло означать. Я находился в большом нетерпении и начал скучать, и я начал часто выезжать на большую дорогу смотреть, не едет ли кто. Наконец я увидел мчащегося во весь опор человека, и, не сомневаясь, что это кто-то от герцога, я захотел его остановить, чтобы узнать новости. Но он даже не притормозил, пролетел мимо и проскользнул в замок. Ворота за ним быстро закрылись, и я остался удивленный, ведь скоро должна была наступить ночь. Я попытался войти, начал стучать в ворота, но бесполезно. Я прождал час, но никто так и не появился, и я уже готов был вернуться обратно, как вдруг я услышал чей-то плач. Одновременно с этим подвесной мост опустился, и я узнал, что все это связано с тем, что арестовали герцога де Бофора[46].
Герцог де Бофор
Герцог был в хороших отношениях с королевой-матерью, и она оказывала ему знаки внимания и доверия, в которых невозможно было сомневаться. Однажды, когда она подумала, что король должен вот-вот умереть, она передала ему детей в руки, что вызвало зависть у всех принцев. Герцог де Бофор хорошо воспользовался этим, и если он и не был министром, то имел массу привилегий, но после того, как он впутался в интриги с Шатонёфом, направленные против кардинала Мазарини, последний приказал арестовать часть заговорщиков и сослать остальных. Кто-то из них донес Мазарини, что видел, как я говорил с господином де Шатром, он поместил меня в число подозрительных, и я был удивлен, что, приехав в Ане, я оказался в Бастилии. Господин де Шатр, которому было что терять, не мог получить свободы иначе, как отказавшись от должности генерал-полковника швейцарцев, которой он обладал.
В самом деле он не так долго находился в тюрьме, как я. У меня не было могущественных защитников, которые имелись у него, я был забыт в моем несчастье, и единственным моим утешением могли бы быть посещения моих родственников. Но мой отец и моя мачеха, увидев, что я оказался замешан в государственные дела, решили не подставляться под ярость первого министра и даже запретили моим братьям видеться со мной. Невозможно описать, каково было мое отчаяние, но так как нет ничего, к чему нельзя было бы приспособиться, я провел десять лет в компании лишь нескольких книг, которые мне позволили взять с собой. Однако господин де Бофор был выпущен из Венсенского замка, в котором он был заключен, и, увидев, что все в королевстве недовольны кардиналом Мазарини, он вновь взялся за интриги, но уже с большим успехом, чем раньше.
* * *
Я к тому времени уже так долго находился в тюрьме, что уже и не думал, что кто-нибудь помнит о том, что я еще жив, но тут вдруг ко мне в камеру вошел один человек, в котором я узнал посланца кардинала Мазарини. Он мне сказал, что пришел освободить меня, но при условии, что я пообещаю, что буду информировать кардинала обо всех интригах герцога де Бофора. Я даже не стал сомневаться в том, что ответить на это. Я заявил, что это предложение объясняет, почему я был арестован, что меня, по всей видимости, заподозрили в близости с герцогом, но Бог свидетель, я не имел с ним никаких дел, а посему ничто не заставит меня обманывать человека, не сделавшего мне ничего плохого. Посланец стал пытаться заставить меня изменить мое решение, но я ответил, что ремесло шпиона меня не прельщает, и он удалился, чтобы доложить своему хозяину обо всем, что я ему сказал.
Предложение, которое мне было сделано, наглядно показало мне, что герцог де Бофор уже на свободе и его очень боятся. После этого я стал искать способ тоже получить свободу, и, подумав серьезно, я решил воспользоваться единственным имевшимся у меня шансом. У меня был человек, который приносил мне книги, а так как он приходил достаточно часто, никто уже не обращал на него особого внимания, так вот я попросил его приносить мне материал, из которого можно было сделать веревку, достаточно длинную, чтобы спуститься из моей камеры в крепостной ров. Сделав веревку и преодолев все трудности, которые ждали меня в этом предприятии, я под покровом ночи спустился в ров и пошел в Париж через ворота Сен-Мартен. Когда наступил день, я взял себе меблированную комнату в пригороде Сен-Жермен. Там я получил информацию обо всем, что происходит, и понял, что в городе все буквально бурлит из-за того, что кардинал издал указ, облагавший всех повышенным налогом. Ненависть к нему была так велика, что заставила людей забыть о любви к родине, которой угрожала настоящая революция.
Венсенский замок
В самом деле, Парламент выступил против Мазарини, и некоторые его члены даже потребовали расправы над ним. Народ, возмущенный указами кардинала, поддержал Парламент, и все уже шло к открытому бунту[47]. И тут в дело вмешалась королева-мать, и ее вмешательство послужило сигналом к оружию. Улицы заполнились баррикадами, ремесленники вышли на улицы и вооружились, такова была всеобщая ненависть к первому министру. Королева-мать хотела успокоить беспорядки, но неудачно: она послала на улицы солдат гвардии, но их появление лишь вызвало еще большее раздражение восставших.
Я решил, что в таких обстоятельствах мне уже не опасно выходить на улицу. Я вышел, и меня тут же узнал один мальчишка, который раньше служил у меня. Он радостно поприветствовал меня, но я, вместо того чтобы поприветствовать его в ответ, принялся ругаться. Вокруг собрались люди, и они стали задавать мне сотни вопросов, а я стал рассказывать им о своих злоключениях и о жестокостях, с которыми со мной обошлись. Самые отчаянные из них предложили мне пойти с ними, чтобы я возглавил их, если начнутся боевые действия, так как я, по их мнению, лучше их всех знал военное дело.
Открытого бунта удалось избежать, когда королева решила выпустить заключенных и вернуть их на занимавшиеся ими места. После этого все немного успокоилось, и я стал опасаться, что то, что произошло со мной, вызовет новые проблемы с первым министром. Действительно, после того как со мной обошлись без суда и следствия, я стал бояться, что меня могут обвинить в том, что я был главарем мятежников. Хотя королева-мать и объявила, что всем все прощается, я прекрасно понимал, что для того, чтобы погубить человека, всегда можно было найти предлог, и я занялся поисками протекции. Поддержка Парламента в данном случае показалась мне наиболее надежной. Его не только поддерживал народ, который был настолько простодушен, что был уверен, что он все делает в его интересах, но его еще поддерживали и некоторые провинции, настроенные против кардинала Мазарини. Парламент получил мое ходатайство, которое представил герцог де Бофор, который очень нравился парижанам, считавшим его врагом Мазарини.
Мое ходатайство было ратифицировано, и, увидев себя в относительной безопасности, я связался с герцогом де Бофором и со всеми, кто больше всего ненавидел кардинала.
* * *
Если бы я захотел рассказать обо всех интригах, которые плелись против него, надо было бы делать эти «Мемуары» многотомными, но я решил говорить здесь только о том, к чему я имел непосредственное отношение. Но я все же скажу, что Парламент сделал против него столько, что он решил его наказать. Он не мог его разогнать, так как, как я уже говорил, его поддерживали парижане, которые готовы были поверить всему, что им говорили. Поэтому дело выглядело не просто трудным, но и находившимся за пределами его возможностей. В городе находилось более ста тысяч вооруженных людей, и даже все войска короля не могли противостоять им.
Однако герцог Энгиенский, ставший после смерти своего отца принцем де Конде[48], вернувшись из Фландрии, пообещал ему встать на его сторону, привел свою армию и блокировал город. В те времена это был самый населенный в мире город, и когда его блокировали, начались бедствия, и все стали думать, что неправильно так страдать и голодать из-за горстки каких-то людей, и был назначен час смотра имевшихся в наличии сил. Потом собранные войска построились, а их командиры, которые все были советниками (так как войска состояли из одних буржуа), решили повести их вперед против настоящих генералов. Однако никто не знал, как это должно делаться, и случился такой беспорядок, что это вызвало смех даже у тех, кто разбирался в том совсем чуть-чуть больше. При этом из рядов вышел один человек и заявил, что командовать нужно совсем не так, а сам он шесть месяцев был солдатом в гвардии. Каждый был счастлив услышать, что среди них есть хоть один человек, который хоть что-то понимает в военном деле, и ему тут же отдали командование с криками: «Да здравствует Парламент и наш новый офицер!» Он был сделан генерал-майором пехоты, и он получил генеральскую трость из рук советника Ведо де Граммона.
Луи де Бурбон, принц де Конде
Новый командующий тут же запутался в боевых порядках. Однако каждый восхищался тем, что он делал, офицеры полка привели его на торжественный обед и посадили во главе стола. Там говорили о способах, как снять блокаду, и все, что предложил командующий, было принято как предсказание оракула. Однако это не помешало принцу де Конде атаковать Шарантон, куда парижане направили три тысячи человек под командованием де Кланлё, а потом из города для подмоги вышло еще двадцать тысяч человек. Я был там, как и остальные, и я имел честь быть одним из главных офицеров кавалерии, которая поддерживала пехоту.
Принц де Конде вышел против нас тремястами – четырехстами кавалеристами, но, так как наш боевой порядок был поставлен неправильно, мы не выдержали и отступили к городу. Это бегство было обязано командованию, которое поставило нас в арьергард. Как бы то ни было, если бы принц де Конде захотел, он мог бы уничтожить всю нашу пехоту, но он довольствовался тем, что взял Шарантон, где он потерял герцога де Шатийона, своего родственника.
Мне было стыдно возвращаться в город после такого неудачного дела. Я не был первым, кто бежал, но мне было неприятно, что я оказался в такой компании и принял участие в таком позорище. С этого времени мы еще пытались помериться силами, но мы были опять биты, хотя нас было десять против одного. Чести мне это не прибавило, хотя возглавлял я не регулярные войска, а городскую милицию. А тем временем Парламент не уменьшил ненависти к кардиналу, но решил приспособиться. Многие говорили, что следует обратиться за помощью к эрцгерцогу, принц де Конти, которого произвели в генералиссимусы, был того же мнения, и назначили маркизов де Нуармутье и де Лаика, чтобы к нему поехать. Я тоже оказался в их числе, но не как полномочный представитель, а как помощник, который должен был им подчиняться.
На этот раз я уже не боялся показываться и не сомневался, что нас примут хорошо. В самом деле, эрцгерцог пообещал двинуть свою армию, чтобы освободить Париж, и я был оставлен подле него, чтобы напоминать ему о данном обещании. Не прошло и восьми дней, как я заметил, что граф де…, который продолжал оставаться его фаворитом, мешает нашим планам. Он не хотел, чтобы такой человек, как я, находился здесь, и он попросил Лаика, который был его другом, сделать так, чтобы меня побыстрее отозвали, и все, что я понял из всего этого, так это то, что мадам де Шеврёз, которая, как казалось, сожалела о потере кардинала и которая находилась в хороших отношениях с графом, пыталась помешать вхождению войск на территорию королевства, чтобы сделать договор более выгодным для себя. А тем временем наше путешествие стало вызывать обеспокоенность при дворе, а так как эрцгерцог запаздывал с подмогой, Парламент начал сожалеть о том, что обратился к иностранцам, и дело было быстро завершено.
* * *
Каждый преследовал свои собственные интересы: у одних были деньги, у других – должности, и лишь у меня одного не было ничего, кроме одних лишь обещаний дать мне что-нибудь. Тогда-то я и понял, что не стоит слишком доверять словам грандов, которые готовы обещать все что угодно, когда им от нас что-то нужно, и забывают обо всем, как только необходимость в нас отпадает. В конце концов я оказался бы в совсем жалком положении, если бы не моя лионская рента. Это было единственное, что у меня осталось, так как мои браться забрали себе все остальные блага, которые я в свое время получил. Этого было маловато, чтобы чувствовать себя большим сеньором, но и не позволяло оказаться совсем нищим. Мне не у кого было что-либо попросить, и я вынужден был сократить штат слуг до одного камердинера и одного лакея, тогда как во времена службы у кардинала де Ришельё у меня всегда было шесть-семь слуг. Это было странно, так как я, как говорится, умел хорошо плавать в больших водах, но мне еще предстояло узнать настоящую причину происходившего. Это Мазарини, ненавидевший меня за то, что я сбежал из тюрьмы и встал на сторону его противников в недавних событиях, отобрал мою ренту и сделал еще много других ходов подобного же рода. Он провернул все это так, что меня даже не предупредили об этом, и я узнал, что ренты больше нет, лишь тогда, когда пришел за деньгами. Я был очень удивлен, увидев имена кредиторов, которых я даже не знал, но я счел это недоразумением и обратился к прокурору, который сказал то же самое и заверил, что все скоро образуется. Однако он попросил у меня долговые обязательства, а я в свое время не позаботился о том, чтобы их иметь, а посему обратился к тому, кто обычно выдавал мне деньги, но он перенес встречу на следующий день. Назавтра я вновь пришел, но мне сказали, что он уехал из Парижа к умирающей сестре.
Так мне что-то говорили дней пятнадцать, пока я не понял, что этот человек связан с Мазарини и просто избегает меня. Наконец мне сообщили, что видели его на улице, и я вновь пришел, моля Бога, чтобы его отсутствие не длилось слишком долго. Но мне опять стали говорить то же самое, и я заявил, что знаю, что он уже вернулся, что его видели, и что я буду ждать хоть целый день, пока с ним не поговорю. Он находился неподалеку и, услышав, что я говорю, крикнул, чтобы меня впустили. Потом он извинился передо мной за то, что уезжал без предупреждения, сказал, что только что приехал, что вечером он поищет мои бумаги и что завтра они у меня будут в то время, какое мне будет удобно. Я вновь принял все это за чистую монету, но, когда я пришел на другой день, мне сказали, что он заболел и что его состояние не позволило ему выполнить обещание. Мне опять сказали прийти завтра, но мое терпение уже лопнуло, и я вновь отправился к прокурору. Он сказал мне, что я должен обратиться в Лион, а его миссия закончена, и, чтобы доказать это, он показал мне копию приказа об отставке. Это означало, что мое дело, как говорится, откладывается в долгий ящик. Я написал в Лион и оправил мой договор по почте, чтобы тот, кому я писал, мог быстро решить все проблемы. Я ждал новостей, но безрезультатно, мой договор где-то потерялся, и у меня потребовали другой.
Все это заставило меня потерять очень много времени, а потом мне сообщили из Лиона, что мой плательщик вернулся и я должен обращаться к нему. Я написал ему, и он ответил, что долговые обязательства у него. Я попросил дать мне их копии, он мне их передал, но там оказались имена всего шести кредиторов, которых я не знал и о которых даже не слышал. Я попытался найти их, но трое оказались защищены какими-то привилегиями, один захотел подать на меня жалобу в суд, другой – в Высший Совет, а третий – самому королю. Итак, после трех месяцев бесполезных поисков я оказался один на один с судебным чиновником, который испытывал такое отвращение к своей работе, что я подумал, что если дело когда-нибудь сдвинется с мертвой точки, то это будет чудом. Через некоторое время он через одного из своих лакеев передал мне, чтобы я не ждал слишком многого от суда. Я спросил его почему, на что он мне ответил, что приходил человек от кардинала Мазарини и он передал ему соответствующий приказ. По описанию, которое он мне дал, я понял, что это был Беллицани, верный слуга своего хозяина.
Невозможно описать, что я почувствовал после этого. В результате я поговорил в суде на повышенных тонах, но так и не получил вразумительного ответа, и тогда я решил пожаловаться канцлеру Сегье, который пообещал разобраться в моем деле.
Прошло еще два дня, но ничего так и не изменилось. Похоже, Мазарини поговорил и с канцлером. Я все ходил и ходил, но без результата. А тем временем деньги у меня кончились, и я вынужден был занимать деньги у своих друзей, которые еще испытывали сострадание ко мне. А еще я написал своему отцу, прося у него помощи, но так и не получил от него ответа. Я бы совсем пропал, если бы все оказались такими же, как он. Мне посоветовали подать прошение королеве-матери, женщине жалостливой, которую парижане ненавидели лишь потому, что совсем ее не знали. Я попросил ее вмешаться и заставить господина канцлера завершить судебный процесс, но королева, к моему несчастью, переложила все дела на кардинала Мазарини, а это значило, что я пытался получить помощь от того, кто создал все мои проблемы.
* * *
Со мной случилось то, что случается со всеми несчастными: я был брошен теми, кого считал своими друзьями, и через два-три месяца я оказался в такой нищете, что стал стыдиться самого себя. Не зная больше, куда обратиться, я решил поехать к своему отцу в надежде, что он не откажет в помощи тому, кто столько сделал для его семьи, если тот обратится к нему лично, а не письмом. Я с трудом нашел средства, чтобы добраться до него. Надо сказать, что представлял я собой весьма жалкое зрелище. Старые слуги даже не поверили, что это я, когда я приехал, а мои отец и мачеха с трудом узнали меня. Они дали мне поесть, осыпая меня всевозможными упреками и утверждая, что это мое поведение довело меня до подобного состояния. Нищета – это страшная вещь. Она бьет по рассудку так же сильно, как и по организму, а посему я даже не нашел, что им ответить, и если бы я периодически не вздыхал, они вообще подумали бы, что я потерял способность что-либо чувствовать и понимать.
Мне было так плохо в их доме, что если бы я знал, куда податься, то я бы не остался там и четверти часа. К сожалению, выяснилось, что наш бедный кюре умер два года назад, и мне стало казаться, что Небо решило окончательно добить меня своей немилостью. Я старался договориться со своим отцом, просил его помочь мне и одолжить денег, чтобы я мог вернуться в Париж. Я сказал ему, что мое дело ясное, и мне не могут вечно отказывать в правосудии, что травля временна, что кардиналу Мазарини рано или поздно надоест этим заниматься. Я говорил ему еще много подобных вещей, чтобы убедить его в том, что его деньги не пропадут, что я обязательно ему их верну, но он меня резко оборвал.
– Вы, наверное, принимаете меня за идиота, – сказал он. – Идите рассказывать ваши сказки кому-нибудь другому. Я знаю, почему вас лишили ренты, просто ваши кредиторы не хотят иметь дело с человеком, с которым они рискуют все потерять и нажить себе неприятности.
Если бы я мог убить себя, не разгневав Господа, я сделал бы это от отчаяния, охватившего меня после подобных слов. Я стал упрекать его, я стал говорить вещи, не делавшие мне чести, какие нельзя ни при каких обстоятельствах говорить своему отцу.
После этого он и моя мачеха приняли решение, что я не должен больше есть с ними за одним столом, а чтобы у меня не было в этом сомнений, они приказали слуге накрывать мне в моей комнате, да и то лишь после того, как поедят они сами. Таким образом, мне была оказана честь питаться объедками вместе со слугами. Но еще больше меня взбесило злорадство моих братьев, которые так выросли, что считали себя выше всех вокруг. Один из них имел теперь двадцать пять или тридцать собак, пять или шесть отличных лошадей, и это все было получено с моей помощью, но он даже не приглашал меня с собой на охоту.
Так я прожил три месяца в этом доме, где со мной обходились подобным образом, к концу которых я уже не мог терпеть и решил вернуться в Париж. Мне было трудно получить от отца средства на это путешествие, но не отъехал я от него и на два лье, как новый кюре побежал вслед за мной и передал мне десять пистолей. Он сказал, что давно хотел мне их дать, но оставил их на сохранение у одного из друзей, он не мог получить их раньше. Он сказал также, что его предшественник имел столько обязательств передо мной, а он сам имел столько обязательств перед ним, что это и стало причиной того, почему он дает мне эти деньги.
В своей жизни я получал немалые суммы от господина кардинала, но могу вас заверить, что никогда не испытывал таких чувств, какие охватили меня в тот момент. Я сказал кюре, что с радостью приму то, что он мне дает, что Бог еще предоставит мне возможность продемонстрировать ему свою признательность. А еще я сказал, что он буквально спасает мне жизнь. Потом мы стали осыпать друг друга благодарностями, и вслед за этим я продолжил путешествие.
* * *
Вскоре я прибыл в Париж и нашел там гражданскую войну в полном разгаре. Принц де Конде двинулся в Сен-Мор, и его двор был не меньшим, чем королевский. Этот принц, который так хорошо послужил кардиналу Мазарини, получил в благодарность тюрьму, из которой он смог выйти лишь по счастливой случайности. После этого он возобновил войну, в которой его поддержало множество людей, ненавидевших Мазарини. Если бы я находился в достойном экипаже, я бы тут же поехал к нему предложить свои услуги, но все у меня так отличалось от того, что было раньше, и мне не оставалось ничего иного, как желать ему успехов в его начинании.
Тем временем Парламент вновь начал действия против Мазарини, и тот даже вынужден был покинуть королевство, чтобы спастись от преследований народа, который требовал его отставки. Увидев в этом удачное стечение обстоятельств для себя лично, я обратился ко двору с прошением, в котором я изложил все обстоятельства своего дела, рассказав обо всех несправедливостях, которые обрушились на меня в последнее время. Мне ответили, и мое дело было решено в мою пользу. В результате справедливость была восстановлена, и я получил сразу весьма значительную сумму, и я тут же отправил двадцать пистолей нашему кюре, вернув, таким образом, его деньги и дав ему еще десять пистолей в знак благодарности.
К сожалению, бегство первого министра представляло собой лишь гримасу, которая должна была позабавить народ. У него еще оставалось много людей в Совете. Принц де Конде, в свою очередь, имел мощную поддержку в Парламенте и среди народа. Его репутация, базировавшаяся на большом количестве одержанных им побед, притягивала к нему людей. Он был возмущен тем, как с ним обошлись, но его главным побудительным мотивом было желание сделать себе еще лучшую карьеру, чем у него была, что и показало его дальнейшее поведение. Одновременно со старанием показать всем, что непримирим с Мазарини, он тайно вел с ним переговоры, что говорило о том, что, если удовлетворят его требования, он не только готов поддержать его, но и даже восстановить с ним дружеские отношения. Не знаю почему, но их переговоры не увенчались успехом, а амбиции принца были таковы, что он выдвигал все новые и новые требования по мере того, как удовлетворялись предыдущие. В результате я узнал, что кардинал отправлял ему много раз сообщения о том, что его требования выполнены, но это приводило к еще большей смуте. Чтобы рассказать обо всем, что происходило, нужно быть историком, а не человеком, который всего лишь пишет свои воспоминания, а посему я ограничусь лишь тем, что скажу, что после многочисленных поездок туда-сюда противники вновь взялись за оружие. Принц де Конде контролировал много крепостей, и он послал туда своих людей, чтобы возглавить оборону в случае осады, особенно в Монтрон, находившийся в самом сердце Франции и выглядевший по тем временам неприступным. Я не мог оставаться безучастным в этой войне, и я обратился к господину де Бофору, который сначала был на ножах с принцем де Конде, а теперь помирился с ним при посредничестве герцога Орлеанского.
Надо сказать, что герцог Орлеанский окружил себя такими людьми, как кардинал де Рец[49], герцог де Роан[50] и Шавиньи, а эти трое имели каждый свой личный интерес, и они много раз мешали заключить мир, что им было нетрудно сделать, так как принц де Конде не решался им противоречить. Кардинал Мазарини, вернувшись ко двору, увидел, что готовы начаться большие волнения, решил предпринять последнее усилие и удовлетворить герцога Орлеанского и принца де Конде, если они не станут слишком сильно потакать тем, кто собрался вокруг них. Он сказал принцу де Конде отправить к нему одного из своих людей, которому он доверяет, но который еще не участвовал в переговорах, чтобы это не выглядело подозрительным для тех, кто желал помешать их успешному завершению. Принц де Конде вызвал одного из своих дворян и дал ему письменные рекомендации, сообщив кардиналу, что не стоит слишком долго думать и что он не хочет сворачивать со своих позиций. Это было довольно жестко, так как после этого кардиналу оставалось лишь одно: выбрать либо мир, либо войну. В результате он подписал договор, сказав этому дворянину, что он просит принца де Конде сказать герцогу Орлеанскому, интересы которого также не были забыты, чтобы тот ничего не говорил своей жене[51], потому что она всегда сможет их предупредить, а те сделают все, чтобы помешать договору.
Если бы принц де Конде последовал этому совету, это позволило бы избежать многих неприятностей, но он отнесся к этому несерьезно. Он ознакомил с договором жену, а она – кардинала де Реца, герцога де Роана и Шавиньи. Эти три господина спросили, о чем он думал, когда его подписывал, ведь все преимущества в нем находятся на стороне принца де Конде, что именно он приобретает главные милости притом, что он и так уже имеет очень много в стране, и его амбиции чрезмерны. Короче говоря, они попросили его еще раз подумать над подписанием или разрывом этого договора, от чего зависит благополучие государства и мир во всем мире.
Одновременно с этим они сказали герцогине Орлеанской еще больше. Они ей сказали, что цель принца де Конде состоит в том, чтобы завладеть короной, что его победы сделали его любимцем народа, что он хочет заключить ее мужа в монастырь, где он будет находиться под контролем до конца жизни, что ее участь будет не лучшей и что единственный способ помешать всему этому – это разрыв договора, а она может повлиять на своего мужа, пустив в ход весь свой шарм, но при этом ее предупредили, что они ей ничего не говорили и она может поступать, как ей вздумается.
Сражение
Эти слова произвели сильное воздействие на умы и того, и другой. Герцогиня Орлеанская нашла возможности воздействовать на мысли своего супруга, договор был расторгнут, и при этом герцог Орлеанский не высказал ни одной веской причины для этого. Принц де Конде увидел, что очень ошибся, не последовав советам кардинала, но так как не было больше иного решения и надо было срочно принимать меры, он поднял войска. Так началась вторая гражданская война. Кардинал, захотев отобрать у него Монтрон, двинул туда свои войска. Это не могло не привести к столкновению, и полковник армии принца де Конде, которого звали Конкрессо, был захвачен графом де Бужи, и никто не знал, как с ним обращаться – как с военнопленным или как с бунтовщиком. Герцогиня де Лонгвиль[52], находившаяся в Монтроне, испугавшись, что де Бужи выберет последний вариант, написала ему письмо, в котором изложила все, что она хотела бы. Офицеры ничего не понимали, но это повлияло на их решение. Однако это не стало законом для кардинала, он взял другого офицера, попавшего ему в руки, но после того, как господин принц де Конде начал репрессии, он не решился обойтись с ним с такой же строгостью.
* * *
Герцог Орлеанский ревновал к принцу де Конде, но не отделился от его интересов по многим соображениям. Он также создал армию, сделав ее генералом герцога де Бофора. Я служил у него адъютантом во время всей кампании, был все время рядом, и никто не сможет лучше меня рассказать о том, что происходило. Гонения со стороны первого министра, казавшиеся неразрешимыми, закончились, напротив, он либо каждый день стал делать ему подарки, либо искать возможности встретиться с ним.
В насмешку герцога даже стали звать Королем нищих[53], но при всем при этом никто не оказывал ему столько дружеских знаков, как та, о которой я хочу рассказать. Она появилась однажды утром с девушкой семнадцати-восемнадцати лет и сказала, что это ее единственная дочь, и она была бы самой счастливой женщиной в мире, если бы он переспал с ней и сделал ее беременной. Герцог де Бофор не был похож на своего отца, больше любившего мужчин, чем женщин, и ответил, что был бы очень рад сделать первое, но никак не второе, что подобное не зависит только от него, но он сделает все возможное. И, чтобы показать свою готовность, он положил девушку рядом с собой.
У герцога была сестра, которая была замужем за герцогом де Немуром[54], человеком, обладавшим массой прекрасных качеств. Господин принц де Конде, у которого были интересы в провинции Гиень, дал ему командование своими войсками, и они должны были действовать согласованно с войсками герцога де Бофора. Однако отсутствие самого принца де Конде породило смертельную вражду между этими двумя высокопоставленными дворянами[55], и причин тому было множество. В конечном итоге, они уже были готовы задушить друг друга, а это отрицательно влияло на ход дел и стало одной из причин всех неудач. В результате принц выехал из Ажана, чтобы уйти за Луару. Он тщательно скрывал свой уход, заявив, что будто бы направляется в Бордо, где у него были дела. Граф д'Аркур, командовавший королевской армией в Гиени, был об этом предупрежден, выделил несколько отрядов, и они захватили переправы через реку. Однако принц обманул их, двигаясь и днем, и ночью, и успел переправиться, когда они подошли.
Получилось так, что маркиз де Леви, находившийся на его стороне, располагал охранной грамотой графа д'Аркура, выданной ему на предмет возвращения вместе со слугами к себе домой в Овернь. Узнав об этом, принц де Конде договорился, что под защитой этой охранной грамоты он проследует за ним под видом слуги, сопровождающего маркиза. Маркиз подождал его в Ланже, и они двинулись по Оверньской дороге. Одновременно с этим принц де Конде, знавший, что кардинал Мазарини приказал контролировать Луару, связался с Бюсси Рабютеном, находившимся с двумя ротами кавалерии в Шарите, и тот пообещал обеспечить ему свободный проход. И действительно, он отвел своих людей к Бак д'Аллье, где принц де Конде беспрепятственно переправился через реку.
Его движение совершалось с исключительной поспешностью, ехать приходилось днем и ночью, почти не сменяя лошадей и нигде не задерживаясь. Все были измучены, включая лошадей, а посему пришлось купить новых в Оверни, но дороги были так плохи, что невозможно было проявлять все необходимые меры предосторожности. Отовсюду мчались королевские курьеры с приказами взять принца де Конде живым или мертвым, и получилось так, что один из них, проезжая мимо, узнал графа де Гито, фаворита принца. Гонец не остановился, но заподозрил, что между увиденными им всадниками может находиться и принц. Вскоре все разъяснилось, ибо гонец встретил еще и камердинера принца, ехавшего в тысяче шагов позади остальных, однако герцог де Ларошфуко появился весьма вовремя, и это позволило избежать ловушки, в которую мог попасть принц.
Короля проинформировали об этой встрече, равно как и кардинала Мазарини. В результате последний быстро направил конный отряд к Шатийон-сюр-Луар, но принц так и не был схвачен. Ему удалось добраться до Шатийона, а потом до Лори, где находилась его армия. Он нашел дела в еще худшем состоянии, чем думал. Герцоги де Немур и де Бофор готовы были в любой момент напасть друг на друга, их неприязнь росла день ото дня, хотя присутствие поблизости короля и его армии должно было бы обязать этих военачальников поставить общее дело превыше своих личных раздоров.
Жители Жержо, города, принадлежавшего герцогу Орлеанскому, пообещали герцогу де Немуру предупредить его, если появится армия короля, чтобы он имел время отправить к ним гарнизон. Они сдержали слово, и он выделил пятьсот – шестьсот человек из войск герцога Орлеанского, чтобы они шли в этот город. Но тот, кто ими командовал, ошибся дорогой, и войска короля успели подойти, и тогда жители Жержо сообщили, что их обманули и они теперь вынуждены будут открыть ворота города. Им в подмогу выслали еще войска, но было уже поздно, и они вынуждены были вернуться обратно.
Герцог де Немур был возмущен произошедшим, приняв все это за предательство, и решил излить желчь на герцога де Бофора, обвинив его в сговоре с противником. Герцог де Бофор дал опровержение, ответив ему примерно тем же. Принц де Конде, прибывший через несколько дней после того, о чем я рассказал, попытался примирить их, но герцог де Немур и слышать ни о чем подобном не пожелал. Тогда принц двинул армию против войск короля, которыми командовали виконт де Тюренн и маршал д'Оккенкур. Их две армии находились на расстоянии друг от друга, и принц атаковал армию маршала, не дав ему времени собраться и отступить к расположению виконта де Тюренна. Вся кавалерия маршала была резрезана на части, и, если бы пехота не сумела быстро бежать с поля боя, разгром был бы полным. Потом принц двинулся на виконта де Тюренна, но тот смог остановить его победоносные войска.
Один из людей принца де Конде был взят в плен за несколько дней до этого и, зная, что при дворе о маршале отзываются весьма нелестно, считая его главным виновником произошедшего, предложил ему свои услуги. Д'Оккенкуру, о котором идет речь, были обещаны сто тысяч экю при условии, что он приведет с собой часть имевшихся в его распоряжении войск. Д'Оккенкур, согласившись на это, сказал, что если у принца де Конде есть деньги, то имеется еще граф де Гранпре и еще два-три полковника. Действительно, они тоже были согласны на такие же условия, но принц де Конде не смог найти средства, и договор с ними не состоялся.
Виконт де Тюренн
Принц де Конде после этого отправился в Париж. Там он был встречен рукоплесканиями. Даже женщины выражали ему свое уважение, и многие уже готовы были ему его продемонстрировать, если бы он проявил такую же смелось в боях на личном фронте, какую он проявлял на полях сражений. Сестра полковника Конкрессо, о котором я говорил выше, была из их числа. Она сказала ему, что хочет сообщить ему что-то личное, о чем нельзя знать посторонним, но он может прийти к ней, и тогда все узнает. Отказаться было невозможно, но вместо того, чтобы говорить о важных вещах, как он ожидал, она стала говорить ему о своей слабости и предложила воспользоваться этим. Принц был человеком жалостливым, и он пошел ей навстречу прямо в кабинете, в котором даже не было кровати.
Я прибыл в Париж именно в тот день, когда это с ним произошло, имея при себе письмо от герцога де Бофора, которое я должен был ему передать. Я нашел его дома, и он пригласил меня отобедать вместе с ним. За столом он сказал Конкрессо, который находился тут же, что одна дама написала ему и пригласила его к себе, и он не упустил случая, что он был принят в кабинете, украшенном великолепными зеркалами, что она не отказала ему ни в чем, и он теперь очень доволен. Конкрессо спросил, что это была за дама, а принц спросил, не догадывается ли он сам. Конкрессо сказал, что, возможно, это была его сестра, и первым стал над этим смеяться. Однако принц де Конде, испугавшись, что ему не поверят, достал из кармана письмо и показал его всем.
Принц де Конде имел вокруг себя много приспешников, все они были страшные развратники, и они плохо влияли на него, а это плохо влияло на дела. В самом деле, герцог Лотарингский вскоре вошел во Францию, и виконт де Тюренн оказался между его войсками, войсками принца де Конде и войсками герцога де Виттемберга. Двор уже думал, что все потеряно, не зная, что и делать в случае, если его армия будет разбита, но принц де Конде, подхвативший к тому времени нехорошую болезнь, которую в приличных кругах принято называть насморком, не смог узнать о связи двора с герцогом Лотарингским, которому было дано много денег. Виконт де Тюренн получил разрешение этого герцога отступить к Мелуну, чему принц де Конде конечно же помешал бы, если бы находился при армии.
Война разгоралась, и при этом постоянно предлагались различные варианты договоров между двумя сторонами. Я два или три раза ездил в Сен-Жермен к герцогу де Бофору, которому Мазарини пообещал дать чин адмирала и двести тысяч экю наличными, если он оставит принца де Конде и убедит герцога Орлеанского сделать то же самое. Я при этом должен был получить командование гвардейской ротой. Столь хорошие предложения вполне могли привлечь герцога, но мадемуазель де Монпансье, на которой принц де Конде хотел женить своего сына, разрушила все.
* * *
Когда армия была уже у ворот Парижа, мы еще находились в городе, и я там случайно встретил свою сестру, которую война вынудила покинуть свой монастырь. Что меня удивило, она была в экипаже и в светской одежде, а еще она была вместе с мужем, которого она нашла в тот момент, когда меньше всего об этом думала. Он тоже вынужден был оставить свой духовный сан. Она не вспоминала больше о своей былой набожности, но что самое удивительное, что она, не имевшая детей в течение пяти-шести лет, что они жили вместе, на этот раз вдруг забеременела. Я показал ей всю степень своего удивления, но она сказала, что вынуждена следовать за мужем и что Бог, связавший их, не позволяет ей ослушаться его.
Чтобы дополнить свой рассказ об этом деле, наделавшем много шума в Париже, скажу, что они прожили вместе еще три или четыре года, воспитывая сына, которого она родила. Однако потом мой зять умер, и моя сестра захотела завладеть всем его немалым имуществом, но его родственники восстали против этого, заявив, что ребенок незаконнорожденный. Потом был большой процесс, который так называемые наследники хотели провести в Бретани, но мы предоставили брачный договор, составленный в Париже, и дело было слушано в парижском суде, который считался главным в области законности брачных союзов.
Так называемые наследники наняли ушлого адвоката, и тот пустил в ход всю ту риторику, какую обычно используют в подобных делах. Он стал говорить про надругательство над религией, про то, что священник не может быть женат официально, что ребенка нужно не только признать незаконнорожденным, но и наказать его мать за совершенный ею фарс и т. д. и т. п. Можно было бы продолжать перечислять его доводы и дальше, да нет смысла. Все это весьма удивило мою сестру, и многие слова адвоката даже заставили ее покраснеть. А потом заговорил ее адвокат, и сказал, что удивлен тем, что все представлено в столь черных красках, что супруги не жили отдельно те пять-шесть лет, пока у них не было детей, что муж был священником, что их брак был освящен церковью, а значит, сам Бог благословил его, что ребенок похож на отца и его рождение обговорено в брачном договоре, заключенном с его матерью, и что в таких условиях любые подозрения в адрес матери не могут не выглядеть подозрительными.
Судьи долго обменивались мнениями, и все завершилось лишь тогда, когда вмешался я лично. Но это не помешало некоторым людям, не знавшим меня, потом говорить, что другой адвокат провел бы дело гораздо лучше, что нам просто повезло, что не они были судьями. При этом они ошибались, так как мы выиграли процесс лишь с преимуществом в один голос.
* * *
Дело моей сестры вернуло меня к рассказу о себе, к чему уже давно следовало бы вернуться, как давно следовало бы вернуться к делам, в которых я принимал непосредственное участие. Принц де Конде после всего, о чем я рассказал, решил довести дела до самой крайности, лишь бы не отказываться от всего того, что он хотел иметь. У других грандов аппетиты были не меньшими, и они каждый день собирались, чтобы придумать, как заставить королеву прогнать от себя ненавистного кардинала и при этом получить максимальные выгоды. При этом герцоги де Бофор и де Немур продолжали открыто враждовать, и было решено, что первый из них, кто явится на заседание Совета, тот займет там главное место. Герцог де Бофор выразил недовольство по поводу подобного решения, так как бастарды Франции и так должны были иметь приоритет в королевстве перед иностранными принцами[56]. Но ему сказали, что поступить иначе не получится и ему нужно поторопиться, чтобы приехать первым. Собственно, после этого он так и сделал.
Наконец, после стольких усилий, направленных на уничтожение кардинала, принц де Конде решил выйти из Парижа, чтобы помочь своим войскам, которым угрожали более многочисленные войска короля. За ним последовали восемь или десять тысяч вооруженных горожан. Его появление заставило отступить графа де Миоссанса, который двигался со стороны Сен-Клу, но, будучи недовольным сделанным, принц повернул к Сен-Дени, где стоял королевский гарнизон. Эта крепость не имела большого значения и была быстро взята, впрочем, и сохранить ее не удалось по той же причине. Принц де Конде, ощутивший ненадежность парижан, когда он имел с ними дело под Шарантоном, и теперь не нашел их более отважными. Собранная из горожан пехота дрогнула и едва не бросила его под Сен-Дени, но принц остановил ее и заставил вторгнуться в крепость через давние и никем не охраняемые проломы в стене.
Через несколько дней принц де Конде вернулся в Париж, но потом снова отбыл в армию, узнав, что король вновь начал кампанию. Он обнаружил, что противник уже соорудил понтонный мост у Сен-Дени и начал переправлять часть своей армии, пока другая ее часть пошла вдоль реки. После этого принц решил отступить к Шарантону, где, как он думал, можно будет разместиться на косе, где река Марна впадает в Сену, что создавало отличную укрепленную позицию. Виконт де Тюренн, с которым он имел дело, атаковал его арьергард. Принц де Конде, видя, как на него давят, решил, что не успеет дойти до Шарантонского моста, и остановил свой авангард, дошедший уже до пригорода Сент-Антуан. Случайно найдя готовые укрепления, сооруженные парижанами, чтобы обезопасить себя от грабежей, чинимых войсками герцога Лотарингского, принц решил, что это – единственное место, где он сможет избежать поражения, что сама судьба находится на его стороне, и велел сконцентрировать там свои войска. Армия короля была сильнее армии принца, но маршал де ля Ферте, который командовал ее частью, был еще далеко, и это почти выравнивало силы противников. Король расположился на высотах Менильмонтан, откуда можно было наблюдать, словно с верхнего яруса театра, за битвой, которая, судя по всему, должна была завершиться неизбежным поражением принца. Он хотел этим убить сразу двух зайцев: с одной стороны, его присутствие должно было придать смелости его солдатам, с другой стороны, это помешало бы парижанам дать убежище принцу де Конде. И действительно, принц хотел обратиться за разрешением на пропуск своего обоза через город, но получил отказ и вынужден был поставить его на кромке Сент-Антуанского рва.
Маршал де ля Ферте, узнав, что виконт де Тюренн будет давать бой, поспешил переправиться через Сену, но, так как это было не сиюминутным делом, битва началась без него. Виконт де Тюренн отважно атаковал как человек, не сомневающийся в своей победе. До этого момента я был достаточно высокого мнения о храбрости герцога де Бофора, и я был уверен, что его проблемы с герцогом де Немуром основываются больше на личной неприязни, чем на чем-то объективно серьезном. Но тут я увидел, что он сделал все возможное, чтобы удалиться в город и избежать участия в сражении. Более того, он начал жаловаться, что его солдаты не слушаются его и принц де Конде не может этому помешать, так как у него нет денег. Как бы то ни было, но сражение началось, и оно шло так, что в течение некоторого времени невозможно было понять, кто одерживает верх. При этом виконт де Тюренн, уверенный, что маршал де ля Ферте вот-вот появится, явно торопился, чтобы не дать ему принять участие в предстоящей победе.
Мадемуазель де Монпансье
В нескольких местах были воздвигнуты баррикады, и принц предпринимал нечеловеческие усилия для поддержания боевого настроя своих солдат. Он успевал всюду и среди огня отдавал приказания с таким присутствием духа, какое редко встречается и всегда бывает так необходимо в подобных обстоятельствах. В конце концов королевские войска захватили последнюю баррикаду, и принц уже потерял почти всех своих людей, но тут ему на помощь пришла мадемуазель де Монпансье, которая приказала коменданту Бастилии палить из пушек по королевским войскам. Потом, прибыв к Сент-Антуанским воротам, она не только склонила парижан впустить принца в город, но и убедила их выйти из города и стрелять по врагам, пока его войска не войдут внутрь.
Не могу утверждать, что это сражение было самым кровопролитным, но я не раз потом слышал подобное мнение от старых офицеров. Могу лишь сказать, что численность некоторых эскадронов сократилась в пять раз. Было множество убитых и раненых, и герцог де Ларошфуко оказался в их числе[57]. Удар пришелся ему прямо в глаз, и он потерял зрение. Его перенесли в Париж, через который проходила армия принца де Конде. Герцог был уверен, что умрет, а посему попросил, чтобы его исповедовали перед церковью Сен-Поль, но приглашенный для этого викарий сказал, что это бесполезно, если он не признает свою главную ошибку, заключавшуюся в том, что он выступил против короля. При этом должен сказать, что все священники, вызванные по аналогичным вопросам, говорили то же самое, но не все они делали это исключительно из желания содействовать установлению мира. Меня Бог миловал в этом сражении, хотя часть, при которой я сражался, понесла огромные потери. Однако то, что я сказал о герцоге де Бофоре, не способствовало укреплению моего уважения к нему, и я решил уйти от него. Собственно, это я и сделал за три дня до его дуэли с герцогом де Немуром, в ходе которой последний был убит. Если бы принц де Конде захотел, он не допустил бы подобного несчастья, но его устраивал такой способ избавления от этого человека, который, так же как и он, любил герцогиню де Шатийон, но преуспел в этом гораздо больше. Когда ему доложили, что герцог убит, он даже не стал делать вид, что расстроен. Напротив, он закрылся со своими фаворитами, и из их комнаты были слышны раскаты хохота.
* * *
Покинув господина де Бофора, я решил не служить больше никому, кроме короля, то есть я решил служить в его войсках, если бы меня туда приняли. К счастью, теперь особых препятствий для этого я не встретил. Я получил командование кавалерийской ротой и одновременно приказ прибыть к господину кардиналу. Он спросил меня, может ли он мне доверять, и я ответил, что он может в этом не сомневаться.
После этого он отправил меня в Бордо с поручением добиться того, чтобы принц де Конти[58] разошелся со своим братом. При этом меня предупредили, чтобы я опасался встречи с графом де Марсеном[59] и с другими верными людьми принца де Конде. При встрече принц де Конти выслушал мои предложения, которые показались ему более выгодными, чем то, что он имел до того. Мы с ним договорились о том, что он женится на мадемуазель Мартиноцци[60], племяннице кардинала. Чтобы лучше спрятаться в городе, я был переодет в одежду монаха-францисканца, а еще я имел приказ встретиться с отцом Фором, большим другом Его Преосвященства, и также выполнял его секретные поручения в Бордо. Отец Фор был великим проповедником, и это признавалось всеми. Он исполнял роль исповедника во многих высокопоставленных семьях и преуспевал в этой ипостаси, что принесло ему епископство в Амьене, где он, кстати, служит и поныне. Принц де Конти, следуя нашему договору, прибыл ко двору, где кардинал осыпал его милостями и поженил его через несколько дней прямо в кабинете короля в Фонтенбло. Он безропотно покорился под милостями кардинала, давшего ему большую пенсию. Принц де Конти, рассерженный тем, что его стали презирать за его женитьбу, и возмущенный письмом, которое ему написал принц де Конде, проклял его на словах, умер через несколько дней[61].
* * *
Кардинал Мазарини обходился со мной достаточно хорошо после успеха моих переговоров, но это было ничто по сравнению с тем, что делал для меня кардинал де Ришельё. Их жизненные принципы были различными: один хорошо обращался только со своими друзьями, а другой – со всеми, не делая различий. А потом я отправился в армию, находившуюся во Фландрии, и там мы добились нескольких побед, но они могли быть гораздо большими, если бы не противоречия между виконтом де Тюренном и маршалом де ля Ферте[62].
Маршал де ля Ферте
Я находился под командованием последнего, и он принял меня по-дружески, а потом все сложилось так, что он уже не мог жить без меня. В ответ я решил оказывать ему больше знаков почтения, и мое уважение перестало быть одинаковым для обоих. Он был рад видеть мою признательность, а посему посвящал меня во все свои дела, в том числе он рассказал мне о том, как недоволен он был своей первой женой[63]. Я спросил, не будет ли неприлично осведомиться о причинах такого к ней отношения. Он ответил мне, что скотина сдохла (это его собственные слова) и он теперь избавлен от участия в ее глупостях. Потом он рассказал мне, что женился на ней без ее желания и в день бракосочетания сказал ей, что, если она будет продолжать следовать примеру некоторых своих родственниц, мира в семье не видать. Он потребовал, чтобы она отказалась от всех своих привычек, а главное – прекратила общаться с определенными людьми. Маршальша сказала, что будет ему во всем подчиняться, но через некоторое время он стал свидетелем обратного, и он был вынужден ускорить ее конец. Я был очень удивлен такой откровенностью, шедшей от человека, репутация которого говорила о том, что у него ее обычно не так и много. Я не стал вникать в его секреты, так как он считался ревнивым человеком, способным на все, если бы кто-то посмел взглянуть на ту, на ком он женился во второй раз[64]. Но он узнал, что я находился в дружеских отношениях с неким человеком, который часто посещал ее в его отсутствие, и даже шли разговоры, что они любовники. Я сделал вид, что я глух и нем. В конце концов он вынужден был объясниться и сказал мне, что считает меня своим другом, способным хранить тайны, что мадам маршальша регулярно видится с человеком, который ему не нравится, что я знаю этого человека и обязан предупредить его, что для него весьма опасно бросать тень на такого человека, как он. А еще он сказал, что письмо может потеряться, а посему он хочет, чтобы я поехал лично, встретился с его женой и передал ей, что даже если она сочтет его подозрения странными, то она сама дает ему на это повод.
Я был удивлен, что он выбрал меня для такого интимного дела, а посему выразил ему мои чувства по этому поводу. На это он ответил мне, что давно меня знает лично, а также знает о важных переговорах, в которых меня использовал господин кардинал де Ришельё, и это дает ему основания считать, что я умею хранить тайны. Он сказал, что надеется на меня, что в награду даст мне командование полком, так как не думает, что кардинал ему в этом откажет.
Зная, что мне предстоят непростые переговоры, я отправился в Париж, где встретился со своим другом, который заявил, что маршал сошел с ума, что он видится с его женой точно так же, как и с многими другими женщинами, то есть без всякой иной цели, кроме как приятно провести время. Я нашел его ответ недостаточным, годным лишь для того, чтобы отделаться от меня, и сказал, что удивлен подобной манерой разговора с друзьями. Я сказал, что не знаю, в чем состоит смысл его интриги, и я не из любопытных, но я боюсь, что это дело может наделать много шума. Я заметил, что мужья обычно последними узнают о неверности своих жен, что не все мужья делают это достоянием общественности, но я ошибусь, если скажу, что маршал относится к их числу. А еще я добавил, что он убил свою первую жену по одному лишь подозрению в измене, что я прошу его хорошенько подумать над тем, что я сказал, что он имеет дело с жестким человеком и т. д. Я особо подчеркнул, что нельзя оскорблять дворянина, оставаясь безнаказанным, что все было бы ничего, если бы речь шла о ком-то нам равном, но тут речь идет о маршале Франции, способном на самое хладнокровное убийство.
Мой друг выслушал все мои соображения не перебивая, но, увидев, что я закончил, сказал:
– Я думал, что вы мне друг, но теперь я расстроен тем, что ошибался. Если бы я любил мадам де ля Ферте, я подумал бы, что вы были бы первым, к кому я обратился бы за помощью. Вы знаете, что мы охотно делаем подобные вещи друг для друга, но не надо прижимать меня к стенке, как это сейчас делаете вы. Скажу вам одно – господин маршал излишне ревнив, а к его жене меня влечет лишь игра и ничего больше.
Несмотря на то что он сказал, мне показалось, что он в значительно большей степени влюблен, чем пытается казаться, но я счел, что выполнил свой дружеский долг. Потом я встретился с мадам маршальшей, хорошо знавшей меня, и поговорил с ней. Она ничего не захотела слушать и страшно вспылила. Она сказала, что не удивлена методами маршала, что он ищет предлог, чтобы ее погубить, как он это сделал со своей первой женой, но у нее есть люди, которые смогут за нее отомстить, что она пока ничего не говорит, но, если она захочет, она может за себя постоять, что ее муж чрезмерно ревнив, но все вокруг знают, что она не какая-нибудь кокетка, что если она с кем и видится, то это лишь игра, и ее не нужно обвинять в том, чего нет на самом деле.
Она бы говорила еще и еще, если бы я ее не остановил. Я счел необходимым это сделать, сказав, что ее муж не поручал мне слушать ее оправдания, что для нее лучшим способом успокоить мужа является прекращение встреч с человеком, который кажется ему подозрительным, что, если она видится с ним ради игры, она быстро утешится, так как таких же любителей поиграть еще очень много в Париже.
Она ответила мне, что я могу все переворачивать, как мне хочется, что ее муж грубиян и ревнивец, что она очень несчастна с ним, но она последует его воле, что она не будет больше видеться с тем, о ком идет речь, что она выгонит всех, кто к ней приходит, включая слуг. Подобные слова наглядно продемонстрировали ее досаду, а я откланялся, очень сомневаясь в том, что она выполнит все то, что пообещала. Однако она все же прекратила игры у себя и несколько дней не выбиралась в свет. Но потом она устроила свидание с тем, о ком шла речь, и сразу компенсировала для себя все потери.
Маршал был об этом предупрежден шпионами, которыми он ее окружил, и решил уничтожить ее вместе с любовником. Для этого он отправил трех драгунов из своего Парижского полка с приказом убить его и отравить ее. Первое было сделать легче, чем второе: мой друг, возвращаясь однажды поздно вечером от маршала д'Этре, был атакован и убит. После этого драгуны попытались скрыться, но один из них случайно упал в сточную канаву возле улицы Сен-Луи, был схвачен и отправлен в тюрьму. Там его пытали, раздробив ему пальцы, чтобы выведать имена сообщников, с которыми было совершено это убийство. Узнав все, что нужно, начальник криминальной полиции Тардьё передал всю информацию господину кардиналу и спросил, что он должен делать. Maзарини, имевший обязательства в отношении маршала, приказал уничтожить показания, а самого драгуна велел задушить в тюрьме. Так и было сделано, а кардинал после этого решил предупредить маршальшу, чтобы она впредь была осторожнее и постаралась вновь завоевать доверие своего мужа. Она была смертельно напугана гибелью своего любовника и, заботясь о себе, обратилась за протекцией к королеве-матери, после чего стала сопровождать ее во всех ее благотворительных поездках. Вернувшись, маршал нашел ее очень изменившейся, счел, что все, что о ней говорили, было наговором, и принял ее в свои объятия. Однако она не захотела оставить все произошедшее без последствий, и мужу пришлось попросить у нее прощения за свои подозрения.
А война тем временем продолжалась, но самое сердце Франции было от этого избавлено, так как принц де Конде был вынужден отступить к испанцам во Фландрию. Многие серьезные люди последовали за ним, пожертвовав всем, чтобы продемонстрировать ему свою верность. Я же отправился в Париж, чтобы напомнить маршалу де ля Ферте о сделанном им обещании относительно командования полком. Он мне его вновь подтвердил и даже стал содействовать решению этого вопроса. Однако господин кардинал сказал мне, что это может вызвать много протестов, что лучше он даст мне денег и что я должен еще подождать. Я знал, что этому не стоит особенно верить, и счел, что мое дело проиграно, и лишь через два года я узнал, что все это разыграл со мной сам маршал. Кардинал потом сам мне все рассказал. А пока же мне оставалось лишь ждать, и случайно получилось так, что я связался с компанией графа д'Аркура, младшего сына нынешнего герцога д'Эльбёфа.
Новый мост в Париже
Случилось так, что я оказался замешан в одном дебоше, где все напились до крайности, а потом было предложено пойти грабить на Новый мост. Это было новое развлечение, введенное в то время в моду герцогом Орлеанским, и я сказал, что не хочу в этом участвовать, но меня заставили пойти вопреки моей воле. Шевалье де Риё, младший сын маркиза де Сурдака, который тоже не хотел, но тоже вынужден был пойти, сказал мне, что знает, как избежать участия в этом сомнительном развлечении. Он предложил забраться на бронзовый монумент лошади и смотреть оттуда на то, что происходит. Сказано – сделано, и мы оба залезли на шею монумента. Остальные в это время принялись подстерегать прохожих и отбирать у них плащи. В результате кто-то из ограбленных пожаловался, прибыли лучники, и развлекающиеся бежали со всех ног. Мы тоже хотели бежать, но шевалье де Риё упал на мостовую, а я запутался и остался висеть на некоторой высоте от земли. Лучники без труда обнаружили нас, покалечившийся шевалье де Риё начал кричать от боли, мне помогли спуститься вниз, а потом нас отконвоировали в Шатле[65].
Невозможно жить и не иметь врагов, а посему тут же нашлись те, кто решил сыграть на этом недоразумении, и кардиналу Мазарини тут же было доложено об этом в самом невыгодном для нас свете, и он приказал, чтобы с нами поступили со всей строгостью. Нас допросили, как настоящих уголовников, особенно меня, так как королевский судья по уголовным делам ненавидел меня, считая, что я в свое время донес на него кардиналу де Ришельё. Если бы я чувствовал себя виновным, я стал бы отмалчиваться, но мне не в чем было себя упрекнуть, и я стал ему отвечать, чему он оказался очень рад, думая, что теперь-то сможет со мной рассчитаться. И тут я заметил, что его секретарь записывает гораздо больше того, что я говорил, поэтому я потребовал, чтобы мне прочитали протокол перед тем, как я буду его подписывать. На это мне ответили, что так не положено и специальных правил для меня никто изобретать не намерен. Подобные слова сделали меня еще более подозрительным, и я сказал, что ничего подписывать не буду, после чего меня бросили в карцер. Одному Богу известно, какова была степень моего отчаяния, когда я увидел, что со мной обращаются, как с убийцей или грабителем с большой дороги. При этом я не видел ни одного варианта, как можно было бы выбраться из подобного положения, а поговорить я мог лишь со стражниками. Я решил упросить одного из них отнести письмо к кому-нибудь из моих друзей, а для этого попросил чернила и бумагу, но мои обещания щедро вознаградить его после выхода из тюрьмы нисколько не тронули его. Более того, он наговорил мне кучу всяких гадостей, которые могли бы привести в состояние полной безнадеги любого человека.
Шевалье де Риё натерпелся не меньше меня, а так как нас обоих обвиняли в одном и том же преступлении, королевский судья по уголовным делам вынужден был поместить его рядом, в глубокую яму, опасаясь, что он догадается, что все дело заключается лишь в его отношении лично ко мне. Этот шевалье вполне стоил своего брата, который принимал участие в развлечении на Новом мосту и имел за душой много других преступлений, и он был совершенно уверен, что это Бог наказал его за все его проступки. Он пообещал, что изменит образ жизни, если сможет выйти из тюрьмы, но и не вспомнил об этом, когда Бог услышал его мольбы, и продолжил участвовать в дебошах, проел и пропил все, что имел, и удалился в церковь Сен-Сюльпис, чтобы иметь хоть какие-то средства к существованию. Однако такая жизнь не соответствовала его склонностям, и он оставил сутану, прожил несколько лет в свете, но потом вторично стал священнослужителем от страха то ли перед людским судом, то ли перед судом Божьим. Он стал священником в Нормандии, где о его прошлом ничего не было известно.
* * *
Возвращаясь к моим делам, скажу, что кардинал, желавший покончить с воровством в Париже, приказал королевскому судье по уголовным делам подать ему информацию о нашем деле и, просмотрев ее, сказал, что надо нас судить. Однако дело было слишком публичным и не могло быть обойдено вниманием двора, а так как шевалье де Риё принадлежал к высшему свету, за него вступились, чтобы не иметь проблем с его высокопоставленным семейством. Обратились к королевскому судье по уголовным делам, и тот объявил, что хоть наше дело и одно, но наша вина в нем совершенно разная. Меня обвинили в том, что я не только сам предложил пойти на Новый мост, но и лично совершил все то, в чем нас обвиняли. Нашлись и «свидетели», так что я оказался обвиненным в тысячах разных вещей, о существовании которых даже и не подозревал. Мне же была уготовлена роль жертвы королевского судьи по уголовным делам, и я, без сомнения, стал бы ею, если бы Господь не послал мне помощь оттуда, откуда я ее и не ждал.
Однажды в мою камеру вошли стражник и его жена. Она явно имела ко мне сострадание, так как смотрела на меня с нескрываемой жалостью. Тогда она не решилась говорить в присутствии своего мужа, но потом, вернувшись во второй раз, она показала мне письмо, которое я должен был незаметно взять. К сожалению, сделать это было невозможно, так как я находился под постоянным наблюдением, но эта добрая женщина нашла возможность незаметно уронить его, а я потом его подобрал, когда все ушли. В письме было написано, что она понимает, что королевский судья по уголовным делам настроен против меня, что я погибну, если не сообщу о себе кому-то из влиятельных людей. Для этого она обещала пронести ко мне в камеру перо, чернила и бумагу, чтобы я мог написать письмо, которое она готова была доставить адресату.
Жена стражника сдержала свое слово. Я написал два письма: одно – господину кардиналу Мазарини, другое – господину де Марийаку, сыну того, кто был в свое время хранителем печати. Последнему жена стражника передала оба письма, и тот пообещал оказать мне услугу, отдавая себе отчет в том, в какой беде я оказался. Его слова жена стражника передала мне, и я нашел, что он поступает очень благородно. Действительно, это было удивительно с его стороны – оказывать услугу человеку, который был связан с кардиналом де Ришельё, по вине которого погиб на эшафоте его дядя-маршал. Напомню, я тогда был гонцом, принесшим приказ об аресте.
Как бы то ни было, он сдержал слово и подал от моего имени жалобу в суд. В жалобе было сказано, что королевский судья по уголовным делам – мой личный враг, а теперь он мстит мне. Там было сказано, что он сфабриковал свидетельские показания и дал инструкции шевалье де Риё и другим свидетелям, чтобы те все свалили на меня, я же при этом совершенно невиновен в том, в чем меня обвиняют.
Влияние господина де Марийака, имевшего много родственников и друзей в суде, сыграло свою роль, и моему делу был дан законный ход. При этом лучники, схватившие меня, были вызваны предстать перед комиссаром Парламента, и ни один из них не решился прийти. Но я добился их вызова, а также вызова трехчетырех заключенных, которые подтвердили, как все происходило. В результате мое дело было отобрано у королевского судьи по уголовным делам, а Парламент получил выговор от короля за затяжку процедуры. Господин де Марийак доложил Совету о несправедливостях, творившихся в моем деле, и моим судьей был назначен старшина советников Шатле, которому было приказано собрать правдивую информацию, и мои враги были посрамлены.
* * *
Я вышел из тюрьмы, пробыв в ней четыре месяца, из которых два с половиной месяца – в карцере. В первую очередь я пришел к господину де Марийаку. Он принял меня хорошо и отдал мне письмо, которое было мной написано господину кардиналу Мазарини, которое он так и не решился ему передать. Потом я пошел поблагодарить жену стражника, которой я решил сделать хороший подарок, но я был весьма удивлен, когда она от него отказалась.
То, что со мной произошло, дало мне возможность задуматься о своей жизни, а так как я был больше человеком света, чем человеком, думающим о предстоящей смерти, я решил, что должен измениться. При этом мне почему-то пришла в голову мысль, что эта женщина влюбилась в меня и я должен ответить ей соответствующим образом, не думая о том, что я только что пообещал Господу. Как я говорил, я был удивлен, когда она отказалась от моего подарка, но еще больше меня удивил ее ответ на мое предложение. Она вдруг заявила мне, что я не заслуживаю оказанной мне Божьей милости, что я должен думать о том, как его теперь отблагодарить, а не гневить в очередной раз предложением адюльтера. Она сказала, что помогла мне лишь из-за того, что видела творившуюся со мной несправедливость, но то, что я предлагаю ей за это, – страшный грех. Замечу, что я был очень благодарен ей за то, что она наставила меня на путь истинный, и до сих пор испытываю к этой женщине огромное уважение. Однако еще одна мысль никак не покидала меня. Я решил отомстить моим лжесвидетелям, и начать я решил с шевалье де Риё. Встретив его случайно на улице, я выхватил шпагу. Он не был храбрецом и принялся убеждать меня, что всегда был моим другом. Я же в ответ несколько раз ударил его боковой поверхностью шпаги, но он даже не подумал доставать в ответ свое оружие. Недовольный этим, я решил обратить свою месть на графа д'Аркура, который, как я считал, тоже плохо обошелся со мной, хотя он и принадлежал к одному из самых благородных семейств. Я решил дать ему понять, что пострадал во многом из-за него. Через некоторое время представился хороший повод. Дело в том, что один капитан, которого звали Депланш, был его соседом в провинции. Этот Депланш имел около тридцати тысяч ливров ренты, а также в свое время получил дворянство и герб, а граф д'Аркур положил глаз на его земли, находившиеся по соседству с его землями.
Я решил воспользоваться этим и сделал предложение Депланшу, который не знал меня, но я быстро дал ему понять, что делаю это от всего сердца, исходя из того, что творит его враг. К сожалению, этот человек оказался самым страшным пьяницей из всех, кого мне доводилось знать, и он поблагодарил меня не иначе, как предложив мне выпить вместе с ним. Не желая слышать ни о чем другом, он уговорил меня пообедать с ним вместе. Он сказал, что очень мне обязан, но очень скоро я понял, что он не торопится предпринимать какие-либо действия. Я даже подумал, что ему не хватает храбрости и он просто боится связываться с графом. Не успели мы доесть суп, как он успел опрокинуть два или три полных стакана, а потом вдруг начал говорить о графе д'Аркуре в самых невыгодных для того выражениях. Я заметил ему, что не так нужно мстить своему врагу, который совершил против него столько враждебных действий, что нужно предстать перед ним и посмотреть, насколько он смел не на словах, а на деле. Депланш, пивший все больше и больше, сказал, что он именно это и собирается сделать, а потом спросил трех офицеров своего полка, находившихся рядом, не хотят ли они составить ему компанию. Они согласились, и он приказал готовить лошадей. Я подумал, что мы уже едем, но потом понял, что капитан не собирается вставать из-за стола так быстро. Было уже шесть часов вечера, а он так еще и не встал из-за стола, и он был настолько пьян, что забыл обо всех делах и стал ссориться с одним из офицеров, да так, что если бы я не вмешался, ссора не закончилась бы одним лишь обменом угрозами. Я попытался вернуть его в нормальное состояние, но он уже не слышал моих доводов. Офицер, с которым он поссорился, ушел, не желая, чтобы их перепалка развивалась дальше. Двое других, опасаясь, что я восприму это как трусость, тихо сказали мне, что капитан глупеет, когда выпьет, и мы все рискуем стать жертвами его плохого расположения духа. Я счел правильным поверить им, отправил назад приготовленных лошадей, и все мы разошлись по домам, Депланш же начал бить своих слуг, а потом набросился на хозяина заведения, где мы обедали.
На следующий день утром я еще был в постели, когда он вошел в мою комнату и, не вспоминая про свое поведение накануне, спросил, хочу ли я еще ехать вместе с ним. Я ответил, что хочу и что ему достаточно лишь сообщить мне, когда он выезжает. Он сказал, что готов ехать сразу же, как только получит известия от остальных, к которым он уже послал. После этого он поторопил меня, чтобы я скорее вставал, и начал широкими шагами ходить по моей комнате, словно обдумывая что-то важное. Наконец он прервал молчание и сказал, что опасается связываться с графом д'Аркуром, ищущим предлог, чтобы конфисковать его земли. Эти слова наглядно показали мне, что должны чувствовать люди, подобные ему, с самого рождения, какие бы документы о дворянстве им ни удалось заполучить, и я уже готов был отказаться от дел с таким слабым человеком, если бы в этот момент в комнату не вошли вчерашние офицеры. Я им передал то, что сказал мне Депланш, на что они лишь пожали плечами. Однако, будучи людьми чести, они стали настаивать на том, что лучше умереть, чем терпеть оскорбления, и что речь не идет о том, чтобы идти оскорблять в ответ графа д'Аркура, но о том, чтобы выгнать его со своей земли, чтобы он понял, что его и не думают бояться.
Чтобы ободрить его, они позволили ему позавтракать и выпить немного вина. Это произвело нужный эффект, мы сели на лошадей и отправились в Нормандию. Хотя этот человек, на мой взгляд, должен был думать только о своем деле, мы не сумели помешать ему остановиться на целый день в Манте, где он нашел хорошее вино, закупил около сотни бутылок, и весь этот груз должен был ехать вместе с нами.
Опасаясь, что граф д'Аркур узнает о нашем движении, мы решили приехать ночью, а посему пустились в путь только на следующий день. Наконец мы добрались до земель д'Аркура. Граф узнал о нашем приезде, но решил, что приехал один Депланш со своими слугами, и устроил ему засаду. Когда мы проезжали вдоль длинной изгороди, нас встретили двумя ружейными выстрелами, и одна из пуль пробила головку луки моего седла. Я сумел повернуть лошадь и бросился на того, кто стрелял, пока он не успел перезарядить ружье. Если бы я захотел, я бы мог убить его, но я удовлетворился тем, что избил его прикладом ружья. Он узнал меня и стал просить прощения из уважения к своему хозяину, с которым мы были знакомы.
– Твой хозяин, – сказал ему я, – повинен в том, что я так обошелся с тобой, но я тебя отпущу, если ты пообещаешь мне передать ему это.
Он не мог мне отказать и, избегая Депланша и его офицеров, погнавшихся за остальными, прибыл в замок графа д'Аркура. Он был в таком неприглядном виде, избитый и оборванный, что можно было сразу понять, что с ним случилось. Вернувшись, Депланш и его друзья выразили свое недовольство тем, что я отпустил этого человека. Они считали, что надо было передать его в руки правосудия, но я, думая лишь о своей личной мести, был очень доволен тем, что я сделал. И действительно, граф д'Аркур был взбешен тем, что произошло, и, собрав своих друзей, решил напасть на дом Депланша, остававшийся без всякой защиты. Это не могло пройти незамеченным, а мы в ответ обратились к графу де Креки Берньёллю, который был с ним в плохих отношениях, и предложили ему свои услуги в борьбе против маркиза де Сурдака, с которым тот вел давнюю войну. Они воевали по-настоящему, и порой с каждой стороны выступало по полторы тысячи человек и происходили настоящие сражения. Однако разница между этой милицией и регулярными войсками была столь существенна, что в тот день, когда граф де Креки Берньёлль пошел в атаку, маркизу де Сурдаку было достаточно одного выстрела из фальконета[66] со стены замка дю Нёбур, чтобы все так называемые солдаты обратились в бегство. Потом каждый говорил, что это, испугавшись, понесла его лошадь, а так как всем было одинаково стыдно, все делали вид, что верят в это. Поучаствовав, таким образом, в войне с маркизом де Сурдаком, я отправился на земли графа д'Аркура и убил там двух или трех куропаток. Его слуга примчался, чтобы попросить меня уехать, говоря, что его хозяин уже вернулся в Париж, но я был уверен, что это неправда.
* * *
Я счел, что уже достаточно сделал для демонстрации своей злопамятности, тем более что Депланш должен был вернуться в армию, а я был вынужден сопровождать его до Парижа, так как он боялся ехать один. Приехав, я явился ко двору, где господин кардинал спросил меня, откуда я прибыл, и у меня возникло впечатление, что он знал, что произошло. Тем не менее я не решился сказать ему правду, опасаясь, что он сделает мне строгий выговор или даже еще хуже. Но я был очень удивлен, когда вместо ярости, к которой я готовился, он сказал, что я все правильно сделал, что он меня за это уважает, что Фолльвилль-ле-Санс, местный дворянин, находившийся у него на службе, все ему рассказал, что мне нечего бояться, напротив, я могу рассчитывать на его протекцию. Я поблагодарил его за доброту и спросил, что мне теперь делать. Пока я был в тюрьме, он отдал другому мою роту. Он сказал, что мне не стоит беспокоиться, что я должен служить ему. Он каждый год ездил на границу, сопровождая короля, который уже стал вполне взрослым и стал уже показывать признаки того, кем он потом стал. Действительно, он уже обожал войну, но ему пока тяжело было сидеть в седле целый день под дождем и под солнцем.
Так как я проводил больше времени при дворе, чем на войне, я не возмущался тем командованием, которое мне дал господин кардинал. Я очень привязался к нему. При этом находилось немало людей, которые старались представить все так, будто я играю некую злую роль, и среди них могу отметить д'Артаньяна и Бемо, которых раздражало то, что они всю жизнь крутились возле Его Преосвященства, не получая повышения.
Действительно, они представляли собой весьма ничтожные фигуры, достойные жалости и не знавшие порой, где взять денег на обед. Они мечтали об отставке, но так как они были гасконцами и не могли предпринять столь далекое путешествие без денег, они все время искали способ их раздобыть. Они нашли всего десять пистолей, один из них умер командиром первой роты королевских мушкетеров, а другой имеет сегодня не более трех миллионов состояния. Как бы то ни было, все, что они могли сказать, не могло меня оттолкнуть, и я сопровождал Его Преосвященство в его поездке с королем к границе.
Граф д'Аркур был в отъезде, и я передал ему через одного из своих друзей, что, если он недоволен, ему надо лишь сказать об этом, на что он мне ответил, что я сам не знаю, что творю, но как-нибудь он соберется и научит меня. Это была бравада, над которой я лишь посмеялся, и многие другие люди посмеялись вместе со мной. Однако мои друзья посоветовали мне быть осторожным, но я не поверил им, считая, что граф не способен на низость. Но те, кому я излагал свои мысли, мне говорили, что тот, кто хотел меня погубить, когда я был в тюрьме, может это сделать и когда я на свободе. Как бы то ни было, я был уверен, что если он и попытается отомстить мне, то это не будет сделано низкими способами, о которых меня предупреждали. Действительно, никто не мог показать мне какие-нибудь подготовленные тайные засады, хотя через несколько дней со мной произошло одно происшествие, но там у меня было время успеть выхватить шпагу, и если со мной обошлись дурно, то это явно было больше похоже на случайность, чем на подготовленное убийство. Был при дворе один дворянин из Нормандии, которого звали Броте. Он был человеком храбрым, но с таким самомнением, что оно затмевало все те хорошие качества, которыми он обладал. Он получил наследство от маркиза де Броте, своего близкого родственника, который тоже был высокого мнения о себе, утверждая, что убил в бою двадцать пять испанцев, одного за другим. Но граф де Гробендон, губернатор Буа-ле-Дюка[67], лишь посмеялся над этим заявлением и ответил, что было бы неплохо подтвердить эти слова, а для этого следовало бы взять с собой двадцать четыре француза и встретиться в открытом бою против двадцати пяти испанцев. Броте был шокирован таким ответом, однако, спросив разрешения у принца Оранского, в войсках которого он служил, пошел на назначенный поединок, но сражался так неудачно, что был убит вместе с двадцатью двумя своими товарищами. Два оставшихся в живых попросили пощады и были доставлены в Буа-ле-Дюк, где Гробендон велел их убить, и это завершило его безоговорочную победу. При этом он сказал, что все сражавшиеся предварительно договорились драться до последней капли крови, а эти двое не сдержали обещания, а посему совершенно справедливо было за это наказаны.
Как бы то ни было, Броте только и говорил об этом бое своего родственника, говорил на каждом углу, чтобы показать всем, что члены его семейства преисполнены отвагой, добавляя при этом, что если бы люди Гробендона имели дело лично с ним, то они бы так просто не отделались.
Я слышал от него эту сказку несколько раз, и это заставляло хохотать всю роту. Однако меня мой жизненный опыт научил, что не нужно смеяться над глупостями других, так что я был единственным, кто сохранял хладнокровие, не желая вступать в какие-либо конфликты. К сожалению, мне все же пришлось взять шпагу в руки, причем совершенно неожиданно и не по моей воле. Соображения чести не позволяли мне раскрыть Броте глаза, но тут явно было что-то другое. Он был явно настроен против меня, и тогда я сказал ему, что лучше будет не вынимать шпаги, что меня не в чем обвинить, и дело тут не в трусости, так как я уже не раз доказал свою храбрость в иных обстоятельствах. Говоря это, я держался от него на расстоянии, чтобы не начинать бой, но он проигнорировал мои объяснения, фурией бросился вперед и ранил меня в бок. Я не почувствовал крови, но очень разозлился и, решив отомстить, нанес ему удар шпагой в бедро. Но и он тут же ответил мне, снова ранив меня, после чего я упал, а он меня обезоружил.
Я подозревал, и мне об этом говорили, что он действовал по поручению графа д'Аркура, и мои подозрения лишь усилились тем, что произошло на следующий день. Мне сказали, что он передал мою шпагу графу, и они, чтобы отпраздновать победу, устроили такое пиршество, что все, кто там присутствовал, вернулись домой в плачевном состоянии. При этом граф д'Аркур уже имел дурную репутацию, третируя свою жену, не имея к этому никаких веских аргументов. Действительно, он не жил жизнью высокопоставленного человека, а проводил время как обычный дебошир, и это было главной причиной его дурного обращения со своей женой, причем говорили даже, что он бьет ее. Не знаю, правда ли это, но он был братом герцога д'Эрбёфа, известного тем, что он вообще погубил свою жену дурным обращением. Однако фактом является то, что эта дама была богатой наследницей, не могла больше выносить его нрав и решила уйти в религию, где она и находится по сей день.
* * *
Мое ранение оказалось серьезным, и я не мог быстро поправиться. У меня были задеты легкие. Господин кардинал, ненавидевший графа д'Аркура и его семейство, всегда выступавшее против него, выступил за меня и сказал в присутствии всех, что Броте следует спрятаться, ибо если он попадет к нему в руки, то он научит его уважать приличных людей. Из дружеских чувств он послал ко мне своего хирурга и сумму в пятьсот экю. Это было для него так нехарактерно, тем более в отношении человека, который не был его слугой, что все были весьма удивлены. И я тоже был удивлен, не понимая, с чем это может быть связано, но тут ко мне пришел Депланш и рассказал, что господин кардинал послал его, чтобы сказать, что, как только закончится кампания, он поедет домой со своими друзьями и сделает все возможное, чтобы позлить графа. К этому он добавил, что Его Преосвященство, видя, что я выздоравливаю, желает, чтобы я присоединился к этой экспедиции как только смогу. Действительно, когда я пошел к нему поблагодарить за его милости, он сказал мне, что было бы хорошо, если бы я предпринял это путешествие. Заодно он рассказал мне, как я уже говорил, что маршал де ля Ферте играл со мной, делая вид, что добивается для меня командования полком. Я сразу понял, что такая откровенность связана с каким-то недовольством, которое кардинал испытывал к маршалу.
Военная кампания закончилась, Депланш взял четырех храбрых ребят из своей роты и сержанта, которого он переодел в слугу, чтобы его не узнали, и мы все вместе поехали к нему домой. По дороге к нам присоединился еще один дворянин из Перигора, который тоже был капитаном в своем полку. Уже находясь с нами, он получил письмо от своего полковника, которым был граф де Тонешарант, в котором тот просил отпуск для одного из солдат. К несчастью, письмо пришло, когда этот человек сидел за столом, где пары алкоголя добавили жесткости его нраву, который и без того был весьма непростым, и он сказал человеку, доставившему письмо, что господин граф де Тонешарант может давать отпуска своим солдатам, если захочет, но он не хотел бы это делать. Мы видели, что он очень взволнован, и мы спросили, в чем дело. Он показал нам письмо, которое оказалось таким невинным, что я сказал ему, что он явно перебарщивает, говоря так, что я лично не знаю господина графа, но если мне позволено будет высказать свое мнение, то я считаю, что нельзя так отзываться о своем полковнике, тем более что он спрашивает его о деле, которое касается скорее самого полковника, чем простого капитана, что последний не может давать отпуск без одобрения первого, а тут полковник показывает себя настолько благородным, что советуется с капитаном, что отказ заставит его воспользоваться своей властью, и этим он может потерять его дружеское расположение, и вообще капитанам лучше ладить со своим начальством.
Не знаю, как у меня хватило выдержки спокойно сказать ему все это, но он вдруг начал доказывать, что капитаны имеют право давать или не давать отпуск своим солдатам, а вовсе не полковники. Он так разозлился тем, что я не разделяю его точку зрения, что стал обвинять меня во всех грехах. Мы находились в Планше, что близ Эврё, на землях, которые принадлежали ему, и до места назначения нам было еще шесть или семь лье. Не успел он закончить свои обвинения, как я швырнул ему тарелкой в голову, вино вскружило нам головы, он бросился на меня, а наши товарищи, сидевшие с нами за столом, попытались нас разнять. К счастью для одного и для другого, у нас при себе не было шпаг, и мы обменялись лишь несколькими ударами кулаками, и кровь не пролилась. Однако мы были так взбешены, что потребовалось много усилий, чтобы растащить нас в разные стороны. После этого мне не хотелось продолжать пушешествие, и я приказал своим слугам готовить лошадей. Присутствовавшие сделали все возможное, чтобы нас примирить, но безуспешно. Я вышел, а так как было уже поздно, все, что я мог сделать, это было поехать спать в Пасси, находившемся на большой Парижской дороге. Он хотел последовать за мной, но его друзья, которые не видели в моем поведении ничего оскорбительного, помешали ему, и они остались допивать свое вино.
На другой день утром он сказал своим друзьям, что находится в полном отчаянии из-за того, что произошло, что они должны меня удержать, что он хочет попросить у меня прощения. Услышав такие слова, все поверили ему и бросились седлать лошадей. Они помчались галопом и настигли меня в Манте, где я остановился. Когда я увидел их взмыленных лошадей, я не мог понять, что заставило их мчаться так быстро, я подумал, что на меня хотят напасть, а посему я спрятался за дверь своей комнаты с двумя пистолетами в руках, но Депланш, летевший впереди всех, протянул мне руку и попросил забыть все, что вчера произошло, заверив, что, изрядно выпив, мы все становимся неразумными.
Я не стал упорствовать в своем гневе, когда мне это сказали. К тому же я должен был выполнить волю господина кардинала, по приказу которого, как я уже говорил, я и пустился в это путешествие. Я вернулся вместе со всеми, мы обнялись, а потом еще два дня оставались в Планше. Когда же мы, наконец, прибыли на место, нам сказали, что граф д'Аркур находится в своем замке. Я пригласил Депланша выйти сразу, но он сказался больным. Тогда я взял ружье и со своими слугами пошел на земли д'Аркура. Я не столько хотел поохотиться, сколько показать себя, и я стрелял в воздух, чтобы привлечь к себе внимание.
Один из людей графа вышел мне навстречу, чтобы разобраться, что происходит. Увидев меня, он меня узнал и побежал с этой новостью к своему хозяину. Граф д'Аркур, увидев, что я один, вывел всех своих людей, но не возглавил их, а я, увидев, что имею дело лишь с какими-то канальями, начал отступать. Меня живо преследовали, но я быстро достиг изгороди, которая шла вдоль дороги. Люди графа продолжили преследование и даже произвели издалека несколько выстрелов в мою сторону. Потом вдруг раздался мощный залп, который, впрочем, больше напугал, чем нанес урона.
В это время я увидел Депланша со своими солдатами, и они стали утверждать, что не хотели меня убить, а целились в людей графа д'Аркура. Я не был так глуп, чтобы принять это за чистую монету, но сказал им, что верю. После этого мы вернулись в дом Депланша, где все стали смотреть на урон, который был нанесен мне и моим людям. У меня попросили прощения, но такими словами, что я подумал, что все это произошло явно не случайно. Мой камердинер перед сном рассказал мне, что слышал разговоры, что у изгороди уже было убито два или три человека, и нам лучше будет убраться отсюда подобру-поздорову. Эти слова вернули меня к действительности, и я задумался. В то, что он говорил, нетрудно было поверить, и я решил оставить человека, с которым я не мог чувствовать себя в безопасности. Однако для этого нужен был предлог. Я отправил слугу в Брион, чтобы он посмотрел, нет ли для меня писем, а сам дал ему письмо, которое я сам же и написал, из которого якобы должно было следовать, что у меня возникли срочные дела в Париже. Таким образом, я оставил этого предателя так, что никто ничего не заподозрил, и слава Богу, что я так сделал, ибо один солдат, изрядно выпив, сказал моему камердинеру со слов капитана, что мы еще хорошо отделались. Он не сказал ничего больше, хотя мой камердинер надавил на него, чтобы тот выражался яснее, но мне и так все стало ясно.
* * *
А тем временем произошло все именно так, как я и думал. Господин де Тонешарант, узнав о поведении своего капитана, предоставил отпуск солдату, но не удовлетворился этим, а поклялся наказать капитана, как только представится удобный случай. В те времена сделать это было сложнее, чем сейчас, когда полковники стали абсолютными хозяевами, а раньше король нуждался в офицерах, и оказывать на них давление было сложно. В самом деле, офицеров было мало, не то что сейчас. Как бы то ни было, господин де Тонешарант затаил злобу против своего капитана, но ничего не мог осуществить до заключения мира. Но, когда пришло время, он сразу отодвинул его на пятое или шестое место в полку. Депланш не мог не пожаловаться на такую несправедливость, а граф де Тонешарант, предвидя это, заранее обратился к королю, рассказав ему о грубости этого человека, добавив даже и сверх того. Впрочем, к этому у него были все основания, так как, выпив вина, капитан сразу же начинал плохо отзываться о Боге и о вышестоящем начальстве, считая всех своими врагами.
Будучи представленным подобным образом королю, он стал претендовать на то, что давно служит, что рота его всегда была на хорошем счету, что он никогда не забывал о своем долге и т. д. Король спокойно выслушал его, а потом заявил, что ему теперь остается так же хорошо послужить Господу. Он сказал, что сначала нужно перестать быть безбожником и злоупотреблять вином и лишь после этого можно будет вновь предстать перед ним. Депланш, знавший в глубине души, что король говорит чистую правду, не посмел после этого настаивать на своем и ретировался. Он удалился в провинцию и не выбирался больше оттуда, кроме как для женитьбы в Париже на дочери господина де Брийяка, советника Большой палаты, но эта женитьба не изменила его, и через пять-шесть лет он умер от пьянства.
Как я уже говорил, я сразу заподозрил с его стороны что-то неладное, и господин кардинал, которому я обо всем рассказал, мгновенно вступился за меня. А после этого он отправил меня в Брюссель с секретным поручением, о котором я не имею права рассказывать и в котором у меня не было и шанса преуспеть. Господин принц де Конде в то время продолжал оставаться с испанцами. Пока же я находился в вышеназванном городе, умер Бове, отец мадам графини де Суассон, который был шталмейстером этого принца.
Это был сердечный человек, но он был слишком высокого мнения о себе, и это стало причиной всех его неприятностей. Однажды он шел от господина принца де Конде и задел одного дворянина, шедшего на прием. Этот дворянин не стал ничего говорить из уважения к хозяину дома, но, выйдя от принца, он обратился к одному из своих друзей, попросив его найти от своего имени господина Бове с целью узнать причину подобного оскорбления. Бове не мог пропустить это мимо ушей. Он выбрал себе друга в сотоварищи, и они стали драться двое на двое. Один из противников был вскоре убит, но у него даже не оказалось времени, чтобы воспользоваться этим преимуществом, так как он получил пистолетную пулю точно в голову и умер через несколько дней. Господин принц де Конде был предупрежден об этом происшествии и навестил его еще до того, как он умер. Увидев, что нет больше никакой надежды, он сказал, что в таком состоянии нужно думать о душе. Он также сказал, что знает о том, что умирающий давно жил с одной женщиной и от него у нее были дети. Кстати, именно от нее и родилась мадам де Суассон, но при этом Бове никогда не был официально женат. Принц сказал, что не может лучше выразить ему свое уважение, как передав ей какие-то добрые слова от него. Бове был совсем без сил, уже двадцать четыре часа он не мог говорить, но слова принца де Конде заставили его встрепенуться.
– Нет, Монсеньор, – прошептал он, – я ничего никогда не обещал этой женщине, и я ей ничего не должен.
Господин принц де Конде сказал ему, что ему все известно и он ориентируется не на слухи, на что Бове вновь повторил то же самое, и принц оставил его в покое.
* * *
Пока все это происходило, война продолжалась с прежней силой. Однако бедствия теперь имели место не только на границе, но и в самом сердце королевства, где слабость министров угрожала разрушением суверенной власти и экономики королевства. Говоря так, я хочу подчеркнуть, что наглость некоторых частных лиц, которые считали, что им все позволено, доходила до того, что они устанавливали свои маленькие государства в государстве, которые обязывали почитать. В самом деле, в каждой провинции было по два-три человека подобного рода, и они лишь смеялись над распоряжениями короля, если они не соответствовали их личным интересам. Это была большая беда для кардинала, и еще большая для короля, который был в тысячу раз душевнее и все принимал близко к сердцу. Но время пришло, и это стало не так заметно. Хотя он оставался еще совсем молодым, но уже стал отлично разбираться в политике и не боялся начинать реформы, которые явно не всем нравились.
Говоря о наглости, я хотел бы привести пример одного сумасшедшего, который женился на одной из моих родственниц, и я оказался в этом замешан.
Этого человека звали маркиз де Прансак, и он происходил из нового дворянства, и если он и имел титул, то лишь потому, что был сыном и внуком председателя суда в Бордо. В остальном, если верить генеалогии, могу сказать, что отец его дедушки был простым торговцем и никогда не имел больше двух тысяч франков. В самом деле, он жил в маленьком домике и занимался продажами под вымышленными именами. Из детей у него был единственный сын, которому он дал хорошее воспитание и образование, так как не хотел, чтобы тот тоже занимался торговлей. Обучаясь философии, он увидел дочь председателя суда и быстро влюбился в нее, а так как он мог видеть ее только в церкви, он даже заболел. Он был единственным ребеном, как я уже говорил, и его отец был гораздо богаче, чем казалось. Он никак не мог понять, что происходит с его сыном, и стал вытягивать из него его секрет. Он ему сказал, что если дело только в этом, то нужно набраться смелости и добиваться этой девушки. Он пошел к ее отцу и попросил ее руки для своего сына. Председатель суда спросил, кто он такой, а оценив его внешний вид, который был вполне средним, приказал лакеям выгнать его. Этот маленький человек вовсе не удивился такому презрительному отношению и, чтобы покончить с этим делом, спросил, что он дает за свою дочь при замужестве, и что бы это ни было, он дает в три раза больше за своего сына наличными деньгами. Председатель суда, не ожидавший такого поворота, внимательно посмотрел на него, после чего стал разговаривать с ним более уважительно, но все же поинтересовался, может ли тот осуществить все то, что обещает. Маленький человек ответил, что в этом можно не сомневаться, пригласил его к себе и показал сундук, в котором лежали более восьмисот тысяч франков.
Свадьба состоялась очень скоро, благодаря отцу нашего сумасшедшего. Я оставляю читателю самому решить, не перебарщиваю ли я, называя его так, после того, как я расскажу всю историю полностью. Он знал о себе все лучше, чем кто-либо другой, но счел, что карета, какой бы красивой она ни была, выглядит лучше, когда на ней изображен герб, а посему он выбрал такие, которые ему больше всего понравились, и разделил их на шестнадцать частей, каждая из которых имела отношение к самым лучшим домам. Потом он взял великолепную ливрею, привлекшую всеобщее внимание в Париже. В этом городе немало людей, которые живут за счет дураков, один из них, увидев, что тот пошел вверх, сделал ему генеалогическое древо, которое якобы доказывало, что он происходил по прямой мужской линии от семейства ле Дрё, младшей ветви королевского дома, а значит, он имел право носить в первой и четвертой четверти герба символы Франции, а во второй и третьей – символы дома Дрё. Он был восхищен подобным открытием и спросил меня, что я думаю по этому поводу. Это так ему нравилось, что я не решился спорить, но я подумал, что он совсем сошел с ума, когда в тот же день он заказал себе великолепную карету с гербами по бокам. Он поменял и всю серебряную посуду, также поместив на новую «свои» гербы. Чтобы ничего не забыть в доказательстве величия своего происхождения, и он составил контракт, согласно которому он стал называться Светлейшим принцем Л… де Дрё, добавив к этому свое имя Редон.
Как бы то ни было, маркиз де Прансак снова поменял свою ливрею, взял ливрею мадемуазель де Монпансье, с подкладкой, часть которой была зеленой, а часть – синей, увеличил свой штат на четыре пажа, несколько лакеев и даже стал выглядеть выше многих принцев, которые не могли иметь подобных карет. Теперь ему не хватало только обращения Ваше Высочество, чтобы стать настоящим принцем, но он уже сам начал верить во все это. Чтобы посмеяться, я первым так и стал его называть, и ему это так понравилось, что он не садился за стол без меня. Тот, кто устроил ему все это, тоже получил щедрую компенсацию, и он стал называть его Королевским Высочеством. Маркиз де Прансак находил, что он прав, и давал этому знаки надменным покачиванием головы. Но, желая доставить себе удовольствие, я начал ему противоречить. Я сказал, что только дети короля могут называться Королевскими Высочествами, что даже господа принцы де Конде и де Конти так себя не называют, и таких примеров множество. Эти слова немного поколебали самовлюбленность Его Высочества де Прансака, но мой противник продолжил обхаживать его и привел пример принца Оранского, называющего себя так. Я ответил, что только голландские газетчики его так называют. Я сказал, что мадам принцесса Оранская, как дочь и сестра короля Англии[68], может так именоваться, но никак не ее муж.
Его Высочество де Прансак нашел, что я прав, но сказал голосом, полным надежды и радости, что время все уладит. Все были удивлены, когда увидели, какие гербы он себе выбрал для кареты, а он, не зная, как все это доказать, немного изменил их и стал отделываться отговорками.
Когда король восстановил мир в своем королевстве своим браком с инфантой Испании, он отдал приказ генеральному прокурору Парламента узнать, почему маркиз де Прансак вдруг решил быть принцем крови. Генеральный прокурор, чтобы выполнить этот приказ, пришел к нему с судебными исполнителями, сломал карету с королевскими лилиями, перебил всю посуду с гербами и подверг допросу. Никогда еще человек не был так обеспокоен, он послал за тем, кто втянул его во всю эту историю, но тот успел скрыться. Он также отправил ко мне, и я из любопытства пришел посмотреть, как он будет выкручиваться. В остальном этот человек был, скорее, достоин жалости, он выглядел как сумасшедший и сказал мне, чтобы я не переставал относиться к нему уважительно, что его дело еще не проиграно, что он еще покажет, что такое оскорблять принца крови.
Однако генеральный прокурор надавил на него, решив приговорить к пятидесяти тысячам экю штрафа и лишить его и его наследников дворянских привилегий. Адвокаты посоветовали ему отречься от своих претензий, с чем он в конце концов с огромным трудом согласился. Тем не менее никто больше не хотел работать с ним, и тогда он заявил, что это я и еще один человек убедили его в том, что он является принцем крови, что он нам поверил. Он попросил прощения у короля, которого он якобы и в мыслях не имел оскорбить, попросил пощады и стал умолять не добивать его окончательно. Я был вызван для дачи показаний, и мои друзья даже подумали, что меня арестовали, но мне удалось доказать, что я и не думал поддерживать сумасшедшего, над которым, напротив, я лишь смеялся. Я доказал, что прекрасно знаю о его происхождении, но ничего не мог поделать, чтобы изменить его намерения. Мой допрос сыграл свою роль: мои слова о слабости его рассудка подействовали на судей, и они обошлись с ним не так сурово, и он в конце концов ограничился извинениями перед двором и штрафом в тысячу экю.
Конечно, он должен был сменить имя и герб. Что касается имени, то он оставил только свое, а вот права ношения герба он лишился на четыре-пять лет. Как бы то ни было, чтобы показать, что он еще молод, хотя ему было уже под семьдесят, он стал строить глазки мадам герцогине де Со. Он ездил из Сен-Жермена, где он жил, в Месс-о-Миним, чтобы только ее увидеть, возвращался самым счастливым в мире лишь оттого, что она просто бросила на него взгляд. Эта была все-таки герцогиня, и кто-то предупредил ее мужа, герцога де Со, но тот сам посоветовал ей периодически посматривать на этого сумасшедшего, а это сделало его еще более безумным, да таким, что, если бы это продолжалось еще месяц или два, его можно было бы отправлять в сумасшедший дом.
* * *
Из-за того что мне не хотелось два раза возвращаться к этой истории, я вынужден был пропустить несколько лет, и теперь мне надо вернуться к ним, чтобы рассказать о том, что происходило лично со мной. У меня были неплохие отношения с господином кардиналом, и, хотя я не преуспел в своей миссии в Брюсселе, он снова стал использовать меня для выполнения его секретных поручений. В данном случае речь шла о том, чтобы отговорить графа де Марсена от службы у принца де Конде, которому он до сих пор был был верен, ожидая получения маршальского жезла. В самом деле, мало было людей, которые бы так хорошо разбирались в военных делах, кто мог бы лучше него выполнить любое задание. Однако вместо благодарности принц де Конде все затягивал свое решение, ссылаясь на то, что тот не выполнил его приказ. Граф де Марсен хотел объясниться, хотел показать, что это обстоятельства вынудили его поступить иначе, но принц, слывший самым жестким из всех людей, не стал его и слушать и демонстративно отвернулся. Марсен предпочел удалиться, опасаясь, как бы не было еще хуже.
Господин кардинал, имевший хороших шпионов в Брюсселе, был осведомлен обо всем и решил воспользоваться этой размолвкой. Для этого я и был туда отправлен. Дело это было непростое и могло стоить мне жизни, если бы меня узнали, но я переоделся в торговца из Льежа и поселился на самой отдаленной улочке. После приезда я сказался больным и сказал, что у меня есть письмо, которое нужно передать графу де Марсену, который был родом из моих мест. Я так убедительно сыграл эту роль, что хозяин дома поверил мне и пообещал отнести письмо. Я попросил передать письмо лично графу в руки, и он так и сделал. В ответ граф де Марсен, догадавшийся о моей хитрости, попросил моего хозяина позаботиться обо мне. Он сказал, что если я в чем-то буду нуждаться, то достаточно будет послать кого-то к нему, а сам он сможет прийти навестить меня лишь завтра. Хозяин дома вернулся с этими добрыми новостями, но не нашел меня на месте: я в это время находился в засаде в десяти домах от места, где я остановился, чтобы посмотреть, не придут ли вместо ответа солдаты, чтобы меня арестовать. Я простоял там еще почти час после его прихода, но, видя, что ничего не происходит, я вернулся в дом. Хозяин спросил меня, где я был, ведь я говорил ему, что нахожусь в таком состоянии, что не могу выходить. Он беспокоился о том, не хочу ли я заболеть еще сильнее. Я ответил, что ходил на мессу, но что я так ослаб, что думал, что уже никогда не смогу вернуться обратно. После этого он рассказал мне о господине де Марсене, и я очень обрадовался его реакции, подумав, что мои усилия могут увенчаться успехом.
Ночь я провел в размышлениях, а господин де Марсен пришел утром и спросил, какие предложения я хочу ему сделать и какие я могу ему дать гарантии. Про гарантии я сказал, что они полные, а чтобы он не сомневался, показал ему верительное письмо от господина кардинала. Он сказал, что это неплохо, однако этого недостаточно и ему хотелось бы иметь гарантии от самого короля. Он заметил, что кардинал управляет королевством, как первый министр, но воля короля важнее, и мне следовало бы иметь более серьезные полномочия, а если их нет, то и не стоит ни о чем беспокоиться. В принципе он был прав, говоря, что кардинал часто ввязывался в дела, а потом отказывался от них в угоду королевскому двору. Это не раз спасало его в годы гражданской войны, в частности он не раз связывался с тем же принцем де Конде, а потом разрывал с ним отношения. Как бы то ни было, я ответил господину де Марсену, что, если он хочет отойти от принца и от всех договоров, которые были заключены с испанцами, король даст ему пятьдесят тысяч экю наличными, губернаторство в одной из центральных провинций королевства, а также титул кавалера одного из высших орденов. У меня были для него и другие предложения, но я не хотел выкладывать перед ним сразу весь товар, как торговцы, которые всегда приберегают на потом свои самые лучшие вещи. Я хотел, чтобы сначала заговорил он, чтобы иметь возможность прощупать его намерения. Он мне сказал, что господин кардинал смеется над ним, делая ему подобные предложения, что они могли бы быть и поинтереснее, что выступление против принца де Конде стоит дороже, что так он не получит и половины того, что может потерять.
Он говорил еще много подобного, что было бы слишком долго пересказывать. Увидев, что он уже начал стрелять орудиями главного калибра, я сказал ему, что не собираюсь оправдываться за господина кардинала, но заметил, что люди его положения часто попадают в затруднительные положения, что излишнее доверие может привести к потере всего, что на его месте любой поступал бы еще осторожнее, но его привязанность к принцу де Конде не нравится кардиналу, который видит, что этот принц ради успеха своих дел готов на любую крайность, что не нужно негативно смотреть на вещи, а лучше проявлять больше искренности, и это может дать свои преимущества. Я сказал, что, если мои предложения его не устраивают, пусть он скажет, чего бы он хотел, а я все передам господину кардиналу, чтобы найти лучший способ удовлетворения. Он ответил, что должен подумать, что наша беседа и так слишком затянулась, что испанцы очень подозрительны, что нельзя давать им ни малейшего повода для подозрений, что он не может больше приходить ко мне в этот дом и просит меня перебраться в Льеж, прийти к нему в замок де Модав, куда он сам приедет через восемь дней. Он сказал, что выдаст мне паспорт, чтобы я мог пройти через испанские посты, если не будет принца де Конде, так как именно он занимается паспортами для французов и никто не смеет действовать через его голову. А еще лучше будет, если я обращусь к секретарю губернатора Нидерландов, как если бы я был льежцем, что такие люди сделают все за деньги. Я поблагодарил его за совет, которым, впрочем, мне и не надо было пользоваться, так как я уже приготовил все, готовясь к поездке в Брюссель (вместо того, чтобы ехать по Парижской дороге, я прибыл туда по Маасу из Льежа на тоговом судне, а посему имел паспорт).
Маршал де Фабер, губернатор Седана, предупрежденный господином кардиналом о моих делах, помог мне миновать Шарлемон, и в Намюре я был вынужден переодеться. Приехав в Льеж, я нашел там человека господина кардинала, служившего его шпионом, и он выдал мне паспорт на имя одного из буржуа города. Так, ничего не боясь, я выехал из Брюсселя и отправился в Модав к указанному времени. Я провел ночь в Лувене, а на следующий день уже был в Тирлемоне, а потом въехал в окрестности Льежа. Шесть дней я прождал в городе новостей от господина де Марсена – каждый день в город приезжали крестьяне из Модава, и от них я узнавал, не приехал ли хозяин замка. Наконец я узнал, что в замке появились его слуги, я двинулся в путь и в тот же день увиделся с ним. Я был переодет в каменщика, и это не выглядело подозрительно, так как у него вечно велись какие-то работы, и хозяин вполне мог встречаться со строителями, обсуждая планы построек. Он узнал меня и спросил, принес ли я обещанную смету. Я сказал, что принес, и достал бумагу из кармана и попытался передать ее ему. Но он сказал, чтобы я оставил ее у себя, и предложил мне обсудить все в его кабинете.
Чтобы не вызывать подозрений, он сказал всем, что я приехал из Кёльна, где я якобы жил. Потом господин де Марсен сделал несколько кругов перед тем, как направиться в свой кабинет, мы там с ним закрылись, и я потребовал ответа на свои вопросы. Он мне ответил, что все хорошо, но одновременно он объяснил мне свои намерения. Он хотел, чтобы его сделали маршалом Франции, губернатором Прованса, кавалером высшего ордена, генералом армии либо в Италии, либо в Каталонии и плюс к этому чтобы ему дали двести тысяч экю наличными деньгами.
Его желания были чрезмерными, я даже был удивлен, однако мои полномочия, как я уже говорил, шли гораздо дальше того, что я ему уже предложил во время нашего первого разговора, и я сказал ему, что написал господину кардиналу после того, как имел честь поговорить с ним, и получил ответ, что вместе губернаторства в Провансе ему дадут маршальский жезл, что ему должно больше понравиться, что меня просили узнать, не согласится ли он на сто тысяч экю наличными, в дополнение к чему ему дадут Голубую ленту. Он был возмущен таким предложением и спросил, делает ли господин кардинал разницу между маршалом Фуко и им, а ведь тому дали пятьдесят тысяч луидоров. Я сказал, что все понимаю, но он не владеет крупной крепостью, какой владел тот, когда подписывал такое соглашение, что кардинал дал такие деньги, чтобы получить эту крепость в свои руки, что надо соотноситься с обстоятельствами.
Еще я сказал ему много чего, чтобы попытаться переубедить, но он не отказался от своих претензий, и, поняв это, я попросил его изложить все письменно, чтобы я мог показать это кардиналу. Моя задача была проста, и мне надо было оправдаться перед Его Преосвященством, который был уверен, что я преуспею в переговорах, а посему, как максимум, назвал сумму в сто тысяч экю. Я боялся, что он обвинит во всем меня, и я хотел предоставить ему доказательства, что это не так. Но господин де Марсен понял мою просьбу иначе и разозлился. Он стал кричать, за кого я его принимаю, делая ему такие предложения, что это приемчики кардинала, который всегда втягивает человека в переговоры, а потом об этом становится всем известно, что это сумасшествие с его стороны – давать мне письменные требования, которые наверняка тут же станут известны в Испании, в Брюсселе и прочих союзных городах, что все это вообще задумано лишь для того, чтобы подорвать доверие к нему. Он сказал, чтобы я убирался как можно быстрее и ему нечего мне больше сказать. Я был удивлен его вспыльчивостью, но все же позволил ему закончить, а когда он умолк, я взял слово и сказал, что намерения кардинала состоят именно в том, о чем я говорил, что мне приходится иметь дело со сложным министром, который думает, что все должно быть так, как он решил, что он очень заинтересован в успехе наших переговоров, что я сделал все возможное, что я сделал предложение, которое мне поручили, что мне тоже хотелось бы, чтобы он вернулся во Францию, где его заслуги будут оценены совсем не так, как в Испании, что я готов показать ему свои инструкции, которые я сохранил, хотя они представляли опасность в случае моего задержания.
Мои слова немного смягчили его, но он не уменьшил свои требования. И тогда, не имея больше надежд, я попрощался с ним и сказал, что возвращаюсь во Францию по той же дороге, по какой прибыл. Прибыв в Шарлевилль, я должен был ждать эскорт, чтобы ехать в Ретель. Так как принц де Конде удерживал Рокруа, все коммуникации между этими городами были перекрыты. Герцог де Нуармутье, бывший губернатором Шарлевилля, которого я знал лично, спросил, откуда я еду. Но я не мог рассказать ему обо всем, а посему сказал, что еду из Спа, воды которого были мне предписаны докторами. Он принял мой ответ за чистую монету, а сам отправился в Люксембург за контрибуцией, а я вынужден был остаться и ждать его возвращения. Было еще немало других людей, которые также ждали его, чтобы проехать дальше, и он тут же выдал нам эскорт, как только вернулся. Но это не сделало нас сильнее, так как нам дали всего тридцать человек, да таких уставших, что и люди, и лошади еле тащились.
Противник разослал мобильные отряды по нашей дороге, так что лишь чудо позволило нам проскочить. Когда мы были в полулье от Пьеррпона, враги, находившиеся в лесу, заметив нас, атаковали с фронта и с фланга. Наш уставший эскорт оказал очень слабое сопротивление и хотел бежать, но их измученные лошади плохо послушались, и они все сдались. Мы попытались защищаться. Нам даже удалось убить двух офицеров противника, но их было больше, и нам пришлось искать спасения бегством.
Каждый хотел вернуться в Шарлевилль, и я поначалу тоже стал делать, как другие. Однако я заметил, что драгуны уже заняли дефиле, через которое необходимо было пройти, а посему бросился в лес и тем самым скрылся от трех всадников, гнавшихся за мной. Я проскочил лес и вылетел из него с другой стороны. Там не было никого, и это внушило мне мысль, что я спасен. В самом деле, я прехал еще два лье, не встречая никаких препятствий, но когда я уже совсем облегченно вздохнул, четыре кавалериста вдруг окружили меня. Один из них потребовал, чтобы я сказал пароль. Я не нашел ничего иного, как крикнуть «Да здравствует Франция», на что он пригрозил, что убьет меня, если я не сдамся. Тем временем остальные приблизились и были уже в десяти шагах от меня, так что бежать было бесполезно, и я предпочел положиться на волю судьбы, которой было угодно, чтобы я стал пленником. Меня отвезли в соседний лес, где находилась основная засада. Их командир спросил, кто я такой и откуда я еду. Я ответил, что я француз и еду из Шарлевилля. Оказалось, что это дворянин, мой земляк, живший в двух лье от моего родного дома, он узнал меня и обошелся со мной очень благородно.
До вечера мы провели время вместе, а потом он снял свою засаду, чему я был очень удивлен, так как логичнее это было бы сделать рано утром. Но он сказал, что дальше ждать бесполезно, так как они находились здесь лишь для того, чтобы перехватить людей, которые бежали от тех, кто атаковал нас первыми, из чего я заключил, что немногим удалось спастись, так как я тут был один. Действительно, остальные уже были в Рокруа, и это было утешением в моем несчастье. Должен сказать, что со мной обходились лучше, чем с ними, так как у них всех отобрали кошельки, а мой еще оставался при мне и был заполнен доверху.
Я сказал господину де Монталю, губернатору Рокруа, что я лейтенант пехотного полка де Грансе, полка, в котором я знал всех офицеров до последнего, так что я смог легко ответить на все его вопросы. После этого я решил ждать возможного обмена, который, как говорили, мог состояться очень скоро. У меня был еще один вариант – предложить выкуп, так как у меня были с собой деньги, но господин де Монталь не захотел их брать, и я был лишен этой надежды. Мы были недалеко от столицы королевства, где у каждого были какие-то знакомства, но я не мог заставить страдать честных людей, не поделившись с ними тем, что у меня было, и это в конце концов завершилось опустошением моего кошелька. Я утешал себя тем, что это составляло лишь половину моей годовой ренты, но нужно было подписать квитанцию, причем своим настоящим именем, которое я скрыл от господина де Монталя, взяв себе имя лейтенанта полка де Грансе. Я не хотел выставлять себя лжецом, и я предпочел лучше быть нищим, чем заставить усомниться в моей искренности. Обращаться же к другим людям было бесполезно, так как многие, кому я одалживал, прятались теперь от меня, не желая возвращать, и я, человек, всегда помогавший всем, остался теперь всеми забытый. Три месяца я вынужден был питаться одним хлебом, который выдавали пленным. В довершение ко всему мое белье было украдено, и я остался в одной рубахе, и чтобы постирать ее, я вынужден был раздеваться догола.
Пока же обмен, о котором столько говорили, все не происходил, а кампания готова была возобновиться, и у меня уже не оставалось никакой надежды. Это было единственное, на что я мог рассчитывать, а моя рубаха уже превратилась в лохмотья, и я уже забыл, что такое вино или пиво. Рассчитывать на чье-то сострадание было бесполезно, так как в положении, в котором мы находились, каждый думал только о себе, но зато все желали мне лучшего, правда только на словах.
В таком жалком состоянии, в котором я находился, трудно было сохранять свободолюбивый дух, и я уже не раз задумывался о том, чтобы рассказать господину де Монталю все, предпочитая погибнуть сразу, чем тянуть с этим еще и еще. Тем не менее я решил потерпеть еще несколько дней, и столь долгожданный обмен вдруг состоялся, но меня он оставил в замешательстве. Маршал де Грансе назвал имена офицеров своего полка, попавших в плен, не поставив туда того имени, которым я назвался, так как реальный человек, носивший это имя, находился в полку. Таким образом, все ушли на обмен, а я остался один.
Мой организм не выдержал, и я свалился, сраженный лихорадкой, которая длилась не меньше двух месяцев. Меня отправили в госпиталь, и у меня уже не оставалось никакой надежды, как на одного офицера из Пикардии, которого я посчитал порядочным человеком и которому я открылся. Я попросил его о двух вещах: во-первых, передать письмо, которое я написал господину кардиналу, в котором я рассказывал о случившемся со мной, во-вторых, переслать мне мою полугодовую ренту, которую я попросил его получить от моего имени. Для этого я передал ему подписанный бланк, чтобы мой почерк узнал тот, кто обычно выдавал мне деньги. Но, вместо того чтобы оказать мне эту услугу, он своровал мои деньги и не передал никакого письма господину кардиналу. Я три месяца ждал ответа от Его Преосвященства, ждал новостей и стал уже сходить с ума. Наконец, когда я понял, что меня обманули, мое отчаяние было столь велико, что я готов был, если бы не боялся гнева Божьего, покончить с собой.
Я был настолько болен, что ко мне пригласили священника. Я подумал, что это должен быть честный человек, и рассказал ему о своих проблемах, то есть о вымышленном имени, которым я назвался, что лишило меня возможной помощи, на которую можно было бы рассчитывать. Об остальном я не решился говорить из опасения, что он может все рассказать. Как бы то ни было, он поехал в Париж, взяв от меня подписанный бланк, как я это сделал для офицера из Пикардии, чтобы получить деньги из моей ренты, которые еще там остались. Ему удалось получить пятьсят экю, хотя мне должны были за полгода. Если бы я доверился ему полностью! Но Богу было угодно, чтобы события пошли совсем иным путем. Я решил, что я теперь не нищий и могу еще подождать окончания моих мучений. Я так решил, так как уже пошли разговоры о скором перемирии, что испанцы повсюду отбиты и не имеют тех успехов, которые они имели в предыдущих кампаниях.
Армия короля находилась под командованием господина де Тюренна, вслед за которым шел маршал де ля Ферте. Однако, когда последний дал бой под Валансьеном[69], виконт де Тюренн не поддержал его. Дело могло бы кончиться совсем плохо из-за ревности между этими двумя военачальниками, которая могла навредить даже самому лучшему из планов, но королевским войскам все же удалось захватить несколько небольших крепостей. Однако все это ничего не стоило без Дюнкерка, который пришлось уступить англичанам после заключенного с ними договора, и виконт де Тюренн двинулся туда со своей армией. Господин де Монталь, узнав о мире, объявил, что все зависит от этого предприятия. Мне об этом рассказали, и я сделал выводы, соответствующие моему происхождению и интересам моего дела. Я понял, что только так я смогу вернуть себе свободу. Как бы то ни было, но город был крайне важен для обеих сторон, и обе стороны делали все, чтобы им овладеть. Испанцы, всегда ведшие войну с большими предосторожностями, на этот раз бросили туда все свои войска, а принц де Конде поддержал их всеми своими силами, и они вместе подошли на расстояние пушечного выстрела от наших линий. Виконт де Тюренн показал себя в этих обстоятельствах прекрасным полководцем, а противник перед атакой решил провести разведку. Дон Хуан Австрийский, командовавший испанцами, оставил командование армией с этой целью. Принц де Конде, со своей стороны, сделал то же самое, но маршал д'Оккенкур, бывший на их стороне, имевший больше отваги, чем осторожности, слишком выдвинулся вперед, по нему открыли огонь, и он был убит мушкетной пулей. Это вызвало отступление тех, кто шел за ним. Виконт де Тюренн, узнавший все благодаря своим шпионам, бросился вперед и одержал победу[70].
Если бы я был в числе сражавшихся, я мог бы подробно рассказать об этом славном деле, но так как всегда находится больше желающих написать о том, чего они сами не видели, чем тех, кто реально был свидетелем, и многие из них пишут неправду, я не хочу повторять их ошибок. Ограничусь лишь тем, что скажу, что виконт де Тюренн вышел к Дюнкерку и вынудил город капитулировать. Взяв эту сильную крепость, он повернул свою армию против тех, кто стоял вдоль моря. Испанцы после этого, не желая потерять всю Фландрию, сочли за лучшее подумать о мире. Я был в курсе этих новостей, понимая, что от всего этого зависит моя свобода. Я даже попросил благородного священника, который и так уже совершил ради меня поездку в Париж, предупреждать меня обо всем, что он узнает. Он первым рассказал мне об итогах сражения и о том, как испанцы стали искать мира. Я был страшно обрадован этим, однако процесс шел еще почти восемнадцать месяцев, и все это время я тоскливо ждал. Я не знал, что думает обо мне господин кардинал, так как уже три года у него не было новостей от меня. Без сомнения, он должен был думать, что я погиб, и это было единственное, что могло прийти ему в голову, так как трудно было предположить, что я жив, но не подаю о себе никаких сигналов. Но я все время надеялся выбраться и пытался передать ему новости о себе, хотя и прошло столько времени. Я знаю, что многие осудили бы меня за такое поведение, но я прошу тех, кто следит за повествованием без излишних эмоций, подумать о том, что вынуждало меня поступать так, а не иначе.
* * *
Как бы то ни было, выйдя из тюрьмы после заключения мира[71], я отправился к господину кардиналу, находившемуся в тот момент в Венсенском замке. Он посмотрел на меня как на привидение, однако поинтересовался, откуда я появился и почему обо мне так долго ничего не было слышно. Я ответил, что у меня были веские на это причины, а потом рассказал ему обо всем и сказал, что ему теперь судить, рад ли он после всего этого меня видеть. В ответ он лишь пожал плечами, как будто разговаривал с умалишенным, и лишь буркнул что-то типа того, что ему жаль меня.
Подобные слова привели меня в бешенство и, найдя Ля Кардонньера, который ныне является генерал-лейтенантом, я сказал ему, что его хозяин невыносим, что он совершенно лишен чувств, что ему ничего не стоит оскорбить дворянина и что еще наступит время, когда я смогу отомстить за подобное к себе отношение. Я был уверен, что говорю с другом, ведь я столько раз одалживал ему деньги, когда он оказывался в беде. Но он вдруг стал ревностно защищать кардинала, потом, слово за слово, дело дошло до ссоры, мы выхватили шпаги и поранили друг друга. Если бы вовремя не вмешался маркиз де Ренель, крови было бы еще больше.
В результате, когда все закончилось, мне пришлось прятаться, так как кардинал при всем дворе заявил, что лишит меня головы, если я попадусь к нему в руки. Я укрылся в монастыре, настоятель которого был моим другом, а Ля Кардонньер начал посещать разных людей, которые, чтобы понравиться кардиналу, стали говорить про меня всякие небылицы.
Однако мое дело наделало в Париже так много шума, что настоятель монастыря посоветовал мне пойти ночью на богослужение, показать там большое рвение и рассказать, что речь идет о спасении жизни человека. Не мне было тогда решать, хорошо это или плохо, но я все так и сделал из страха попасть на эшафот. Но кардинал был итальянцем по происхождению, то есть человеком очень и очень мстительным, и он перекрыл мою ренту, доведя меня до полной нищеты. К счастью, монахи повели себя иначе. Напротив, чем более несчастным я выглядел, тем больше они меня жалели. Что касается меня, то я уже и не знал, что думать о жестокостях судьбы, навлекшей на меня столько бед.
Смерть кардинала Мазарини
Я жил в монастыре до самой смерти кардинала[72]. Будучи добрым христианином, я должен был бы желать только добра человеку, который сделал мне столько зла, который после того, как я ради него на три года лишился свободы, фактически отвернулся от меня. Если бы я был человеком очень набожным, я бы должен был просить Бога о милости к нему, но это было не мое призвание, и я смог лишь не показать свое ликование. Господин граф де Шаро, о котором я упоминал выше, поговорил обо мне с королем, перед которым я потом осмелился появиться, и тот, выслушав про мои приключения, о которых он ничего не знал, хотя я и находился на его службе, сказал, что прощает меня, ибо моя стычка с Ля Кардонньером, по сути, не была дуэлью. Он поклялся на Библии во время коронации, что никогда не будет прощать совершивших злостное преступление, но эту клятву, как мы увидим, он потом нарушит.
* * *
А теперь мне хотелось бы рассказать о господах де ля Фретте и де Шале.
Как-то раз мы играли в жё-де-пом[73] с одним дворянином из Пуату, которого звали Ля Вери. Он был офицером гвардии, и мы с ним играли на улице Вожирар, что неподалеку от Люксембургского сада. В Париже были тысячи улочек, более подходящих для игры, чем эта, но мы ее выбрали, так как оба жили в этом кавртале и могли выйти в домашней одежде. Мы сыграли несколько партий и уже были в самом конце последней, как появился шевалье де ля Фретт и начал бросать наши мячи, лежавшие в корзине. Ля Вери проигрывал и был в плохом настроении, а так как в то время проигравший оплачивал потерянные мячи, он крикнул, чтобы шевалье прекратил это делать. Де ля Фретт был известным бретёром и готов был к ссоре по любому пустяку, и, вместо того чтобы остановиться, он взял корзину и опрокинул ее, разбросав все мячи.
Игра в жё-де-пом
Естественно, началась перепалка, и шевалье де ля Фретт почувствовал себя таким оскорбленным, что бросился на обидчика, несмотря на то что тот был без шпаги. Господа, считавшие очки, бросились их разнимать, и мы получили время пойти домой, чтобы переодеться. Дело в том, что возле сетки не оказалось ни одного человека при шпаге, так как никто не мог и подумать, что она сможет пригодиться. Когда мы вышли, Ля Вери сказал мне, что не желает оставлять дело без последствий и надеется на меня. Таким образом, я, только что выпутавшись из одной переделки, попал в другую, гораздо более опасную. Я направился поговорить с шевалье де ля Фреттом, жившим в доме, где сейчас живет герцог д'Эльбёф. Не успел я его поприветствовать, как он заявил, что нам следует найти еще одного человека, так как два его друга были свидетелями ссоры и просили ничего не начинать без их участия. Мы решили позвать графа де Бомона, младшего сына маркиза д'Антрага. К счастью для него, мы его не нашли, а посему обратились к одному дворянину, которого звали Шилво, которого мы встретили возле дома д'Антрага.
Поединок трое на трое начался, и дрались мы очень яростно. Я был ранен, но, к счастью, никто не был убит. Мы разбежались кто куда мог, полагая, что после этого мы все пропали, на нашу удачу, о поединке никто не узнал. Ля Вери вернулся на службу, как будто ничего не произошло, и никто из нас не испытал ни малейшей неприятности после столь деликатного дела. Я нашел приют у маркиза де Нуармутье, старшего сына губернатора Шарлевилля, о котором я говорил выше, и он рассказал мне, что бояться нечего и я могу показываться на люди, как и остальные участники боя.
Через три недели произошла еще одна ссора с господином де ля Фреттом, которая закончилась уже не так счастливо. Был бал в Пале-Рояле, все придворные на нем присутствовали, и там господина де Шале кто-то толкнул, тот повернул голову, чтобы посмотреть, кто это, но не узнал де ля Фретта и сказал что-то весьма нелюбезное. Если бы у них были шпаги, поединок начался бы незамедлительно, но каждый был одет для бала, а посему де ля Фретт ничего не ответил, а стал ждать, когда его обидчик выйдет. Они решили драться трое на трое завтра, договорившись о месте и времени.
Схватка произошла в укромном месте и могла бы остаться в тайне, но короля о ней предупредили, и он отправил туда шевалье де Сент-Аньяна, чтобы он передал де ля Фретту, что он запрещает ему драться, а если он ослушается, то лишится головы. Шевалье де Сент-Аньян, бывший его кузеном, нашел его и поприветствовал, на что де ля Фретт ответил, что если он его друг, то он не может прервать такую интересную игру, что все ждут лишь заката, и он тоже должен принять в этом участие, а Шале тоже пусть найдет еще одного человека. Шевалье де Сент-Аньян, не посчитавшись с тем, что пришел от имени короля, запретившего дуэли, согласился принять в ней участие, что потребовало от Шале срочно искать еще одного человека. Маркиз де Нуармутье, его двоюродный брат, подумал обо мне и послал за мной, но, к счастью, я в тот вечер играл у одного из моих друзей, а так как в Париже в те времена по ночам было неспокойно, я остался переночевать у него. Это фактически спасло меня, и судьба впервые за долгое время показала мне, что начала относиться ко мне по-доброму. Среди восьми дуэлянтов были де ля Фретт, его брат Оварти, лейтенант гвардии, шевалье де Сент-Аньян, маркиз де Фламмарен, принц де Шале, маркиз де Нуармутье, маркиз д'Антен, брат мадам де Монтеспан, и виконт д'Аженльё. Исход боя оказался пагубным лишь для маркиза д'Антена, который был убит.
Король, узнав об этом, пришел в ярость, особенно в адрес шевалье де Сент-Аньяна, которого он решил наказать сильнее других. Однако судьба всех участников поединка оказалась одинакова: они бежали из королевства инкогнито, так как король отдал приказы по всем портам и границам, чтобы их задержали. Одни бежали в Испанию, другие – в Португалию, третьи – еще куда-то. Но как бы хорошо ни было за границей, это была ссылка, в которой каждый имел время подумать и раскаяться в содеянном. Шевалье де Сент-Аньяна никто не жалел, все считали, что он и так хорошо отделался. Господа де ля Фретт тоже не заслуживали сочувствия, так как у них была репутация бретёров, только и ищущих повода для драки. Остальным сочувствовали в их несчастье и надеялись, что король не долго будет гневаться на них. В самом деле, это были честные люди, заслуживавшие лучшей судьбы. Однако никто не посмел заговорить о них с королем, а герцог де Сент-Аньян, напротив, первым заявил, что проступок его сына не заслуживает прощения, что, если бы он знал, где тот прячется, он лично доставил бы его и передал в руки правосудия. Для придворного это были прекрасные слова, которые должны были очень понравиться королю, но, будучи отцом, можно было бы хоть как-то смягчить выражения. Родственники господ де ля Фретт поступили иначе, они не решились сами предстать перед королем, но стали действовать через других. Герцогиня де Шолн обязала своего мужа, который был послом в Риме, поговорить с Папой, чтобы тот смягчил гнев короля по этому вопросу. Тот послал своего человека во Францию по другим делам, но поручил ему затронуть и эту тему. На это король ответил, что всегда рад откликнуться на просьбу Папы, но только не в этом деле, в котором у него связаны руки, и лишь один Бог может отменить решение, данное им торжественно и при всех. Он сказал, что конечно же не подвергает сомнению авторитет Папы, но перед Богом он является хозяином своего слова, и что и сам Папа согласился бы с ним, если бы потрудился вникнуть во все обстоятельства дела. Эти слова короля лишь повысили уважение к нему, Папа же, поддавшийся уговорам господина де Шолна, был весьма рад отказу и даже поблагодарил за это короля. Тем временем герцог де Сент-Аньян пробился в число фаворитов, отреагировав так на несчастье своего сына, хотя все вокруг и сочли, что хороший отец так себя не повел бы.
* * *
Все это наделало немало шума, как это обычно бывает в самом начале любого дела, но вскоре о нем перестали говорить, так как всеобщее внимание оказалось сосредоточено совсем на другом. Был арестован господин Фуке[74], суперинтендант финансов, который имел таких влиятельных врагов, что сочли за чудо, что его просто не убили. Против него было опубликовано много всевозможного компромата, чтобы сделать его еще более ненавистным народу, но, если честно, многое из этого не имело под собой оснований, что я могу подтвердить, так как сам принимал участие в некоторых делах.
Николя Фуке
Господин Фуке был человеком широкой души, и это было бы прекрасно, если бы не должность, которую он занимал. Господин кардинал Мазарини испытывал к нему явную неприязнь, так как тот часто критиковал самого кардинала, а для итальянца и гораздо меньшего было бы вполне достаточно, чтобы затаить злобу на всю оставшуюся жизнь. Именно поэтому, умирая, кардинал нашептал королю, что этот человек растрачивает деньги из государственной казны, что на них он строит себе дома, превосходящие по красоте королевские замки, что он обставляет их великолепной мебелью, что он раздает пенсии своим людям при дворе, что он купил себе остров Белль-Иль и превратил его в неприступную крепость, что рядом находятся англичане, вечные враги короны, с которыми он наверняка вступил в сговор, и что единственный способ подрубить всему этому корни состоит в том, чтобы избавиться от этого человека. При этом кардинал сказал, что делать это надо осторожно, так как Фуке имеет должность генерального прокурора при парижском парламенте и судьи наверняка будут на его стороне и признают его невиновным.
Так Мазарини отошел в мир иной, оставаясь итальянцем до последнего своего вздоха. Еще за несколько дней до смерти он обнимал господина Фуке, как своего лучшего друга, говорил об услугах, которые тот оказал ему во время гражданской войны, и особенно о пятидесяти тысячах экю, которые тот ему передал, когда он вынужден был скрываться в Льеже. Но так он поступал со всеми, кого задумал уничтожить.
Король, рожденный для великих дел, которых он впоследствии совершил немало, умел хранить тайны, что является одним из главных качеств великих людей. Однако в этом вопросе он решил посоветоваться с господином Ле Телье, верность которого не вызывала у него сомнений, так как он демонстрировал ее в тысячах разных обстоятельств, а также с Кольбером, которого кардинал ему посоветовал в качестве человека, способного управлять финансами. Вместе они решили следовать плану, оставленному покойным кардиналом, то есть пока ничего не предпринимать и затаиться до тех пор, пока Фуке не оставит должность генерального прокурора.
* * *
Если говорить о Кольбере, то это был самый великий министр за многие века, и я хочу рассказать, что у меня произошло с ним.
Моя сестра, о которой я говорил выше, имела большой судебный процесс, касавшийся рождения ее сына и ренты. Ее муж ничего не знал, а моя сестра после его смерти среди бумаг нашла записку, из которой следовало, что он имел ренту в пятьсот ливров, а контракт находится в руках господина Кольбера. Я нашел министра и поговорил с ним об этом. Он попросил посмотреть на эту записку и увидел, что она без даты, а посему он сказал, что она ничего не доказывает, но он разберется и посоветовал прийти через восемь дней. Через восемь дней я пришел, но он мне сказал, что пока ничего не нашел, и так продолжалось два месяца. Все, к кому обращалась моя сестра, говорили то же самое, а потом вдруг появился человек, который сказал, что если она согласится уступить половину ренты, то он быстро все найдет. Я ответил, что не могу так сразу ему ответить, и предложил ему прийти завтра в это же время, и тогда мы все решим. Я нашел это предложение слишком жестким, и не мог понять, от кого оно исходит – от Кольбера или от тех, к кому обращалась моя сестра, и я решил проследить за этим человеком. Я послал за ним своего человека, и он доложил мне, что тот вошел в дом господина Кольбера. Хотя это было всего лишь предположение, я решил, что можно пойти к нему и поговорить начистоту. Я был в ярости и решил воспользоваться тем предлогом, что я хочу узнать новости о нашем контракте, но мне ответили, что новостей нет.
– Это низость, – заявил я, – захватывать так имущество, принадлежащее другим людям, а потом удерживать его силой. Мы знаем, что вы послали к нам человека с гнусными предложениями, я проследил за ним, и он вошел сюда.
Господин Кольбер был очень удивлен тем, как и что я говорю, и он даже поменялся в лице.
– Да, – сказал он, – ваш контракт у меня, но я не собираюсь вечно держать его у себя, как вы это утверждаете. Просто один ваш родственник должен моему родственнику большую сумму, и контракт оставлен в качестве залога.
Это все, что мне удалось узнать. Потом мы с сестрой пошли к адвокатам, и они сказали, что нужно смотреть в книге регистрации, поднимать копии. Мы дали им платежное распоряжение и пролистали все имевшиеся в архиве регистры. Но ничего не смогли найти. Единственное, что нам оставалось, это клятва под присягой, но наши друзья сказали, что тот, кто способен на мошенничество, обманет и на словах, и посоветовали нам завершить процесс примирением. В результате моя сестра вынуждена была уступить ему плату за текущий год, а ей взамен отдали ее контракт.
* * *
Возвращаясь к несчастному Фуке, скажу, что главной задачей было снять его с должности генерального прокурора Парижского парламента, делавшей его почти неуязвимым, а потом арестовать. Но для этого был нужен предлог, и его стали убеждать, что он слишком загружен работой в Государственном Совете, а посему ему следует оставить свое место в Парламенте, которое без него слишком часто пустует. Чтобы подсластить ему пилюлю, король стал относиться к нему лучше, чем обычно. В результате, чересчур уверенный в своем могуществе, господин Фуке совсем не обращал внимания на все более явственно проступавшие признаки будущей опалы. Он считал себя другом короля, необходимым человеком, которого не посмеют и тронуть, и стал искать покупателя на свою должность. Господин де Фьёбе предложил ему миллион шестьсот тысяч франков, но господин Фуке предпочел отдать свое место своему другу господину де Арле, который предложил за нее всего двести тысяч. Подобное благородство поразило и друзей Фуке, и его врагов. Однако, в любом случае, это была смертельная ошибка, так как тут же появились публикации о том, что он успел столько наворовать из королевской казны, что ему было не до таких пустяков, как такая большая разница в цене. Для господина Фуке, естественно, было большим несчастьем, что он перестал нравиться королю, но не меньшей проблемой для него стало и то, что в числе его противников оказался такой человек, как Кольбер. В самом деле как он ни старался, но были найдены фальшивые свидетели, а некий Беррье, человек Кольбера, похитил у него бумаги, которые могли доказать его невиновность. Кроме того, были распущены слухи, что он подкупил почти всех женщин при дворе, так что их родственники и друзья, которые могли бы ему помочь, были отстранены от следствия.
Был пущен слух, что именно поэтому королева-мать изгнала мадемуазель де ля Мотт-Аржанкур[75], хотя я точно знаю, что произошло это из-за ее встреч с маркизом де Ришельё. Эта девушка, служившая фрейлиной королевы, была моим хорошим другом, и многие даже думали, что я был в нее влюблен. Не собираюсь оправдываться, но, на мой взгляд, это была одна из самых красивых женщин при дворе, хотя многие высказывались в пользу мадемуазель де Меневиль, которая тоже находилась при королеве-матери в том же качестве. Что касается меня, то я всегда был далек от того, чтобы делать выбор между этими двумя красавицами.
Как бы то ни было, когда я находился в Фонтенбло, где королева проживала, пока король находился в Бретани, она со слезами на глазах бросилась ко мне и сказала, что все пропало, если я ей не помогу. На мой вопрос, что я должен сделать, она сказала, что я должен принести к ней в комнату мужскую одежду, но так, чтобы этого никто не заметил, так как за ней следят. Я спросил, что все это значит и не замешана ли она в делах господина Фуке, если ей так срочно потребовалось бежать.
– Дело вовсе не в этом, – ответила мне она, – я никогда не была с ним в таких отношениях, чтобы его проблемы касались меня, да еще могли довести меня до такой крайности. Признаюсь, что это любовь заставила меня сделать немало достаточно серьезных ошибок, и теперь я за это наказана. Эта потаскуха де Бове нашептала на ухо королеве-матери, что я имела отношения с ее зятем, она поверила этому и потребовала от моих родственников, чтобы меня отдали в монастырь. Речь идет о графине де Молеврье и ее муже, с которыми вы знакомы. Именем Господа, спасите меня от них, окажите мне услугу, о которой я вас прошу, и помогите мне найти лошадь, на которой я могла бы бежать. Если бы я был в нее влюблен, как утверждали некоторые, я был бы счастлив после таких комплиментов. Но я не испытывал к ней ничего, кроме дружбы, которая меня не стесняла, и я стал искать способ помочь ей, не беспокоя себя ревностью. Я отправил одну из своих лошадей в то место, которое она мне указала, и принес ей мужскую одежду в комнату. Но так как не было никого, чтобы ее взять, я положил ее под кровать, как она мне и сказала сделать, и стал говорить с мадам дю Тийёль, гувернанткой, которая тоже была моим другом. Все комнаты девушек были открыты, и я заметил, прогуливаясь с ней, на туалетном столике расчески, баночки с пудрой и прочими средствами, которыми пользуются девушки. Кроме того, я заметил маленький тюбик помады, который мне захотелось взять, чтобы смазать себе руки, которые казались мне немного шершавыми. Я обнаружил необычный цвет, который мог подходить для губ, и я весьма неосторожно им воспользовался. Очень скоро мои губы заболели, мой рот сжался так, что я не мог говорить, но мадам дю Тийёль нашла все это очень смешным. Я же не мог выговорить ни слова, подбежал к зеркалу, посмотрел в него, устыдился своего вида и убежал, чтобы спрятаться. Убегая, я встретился с герцогом де Рокелором, пришедшим к одной из девушек, и он был очень удивлен моим видом. Он спросил, что со мной случилось. Я наивно рассказал ему о произошедшем, в ответ на что он стал смеяться надо мной, утверждая, что я сам это заслужил, что в моем возрасте я должен был бы знать, что существуют разные виды помады, что та, которую я выбрал, предназначена не для рук, не для волос, что она совершенно для другого. Посмеявшись, он ушел, а потом рассказал королеве-матери про мои проблемы. Тут же все сбежались, чтобы посмотреть на меня, и я стал бы первым смеяться, если бы мог открыть рот. Это происшествие стало темой для разговоров при дворе почти на восемь дней, слух об этом дошел даже до Нанта, где в это время находился король. Я же отмыл рот свежей водой, потом вином, и лишь через некоторое время ко мне пришло облегчение.
Это происшествие не позволило мне появляться на людях несколько дней, и я не мог узнать новостей о мадемуазель де ля Мотт. Когда я первый раз вышел в свет, я узнал, что графиня де Молеврье отвезла ее в монастырь Шалио, что это была настоящая тюрьма для нее, что это произошло после строгого выговора, сделанного королевой-матерью. Я также узнал, что эта девушка была без ума от маркиза де Ришельё, обрушилась на де Бове[76], несмотря на уважение к той со стороны королевы, и обвинила ее в том, что она приставала к королю, когда он был еще очень молод, и просила его переспать с ней. Я не мог поверить в то, что она совершила такое безумство, но все подтвердилось, и я спросил при дворе, правда ли то, что она предъявила Одноглазой, правда ли, что наш великий король был столь жалостлив, что удовлетворил ее просьбу. На это мне сказали, что в этом никто не сомневается, и удивились, что я единственный человек во Франции, кто до сих пор еще не в курсе этого дела.
Как бы то ни было, история борьбы господина Кольбера с господином Фуке продолжалась, но это уже не были маленькие хитрости, ценой которых один пытался уничтожить второго. Кольбер взял из Парламента всех, кого посчитал преданными себе, и сделал их судьями, дал им блага, чтобы купить их голоса, и это сделало участь Фуке очевидной. При этом он убедил короля, чтобы тот взял свою конную гвардию и отправился в Шартр. Это путешествие он совершил не из набожности, а чтобы избежать заступнических просьб за господина Фуке. У последнего не было особого происхождения, но он был женат на одной из дочерей старшего сына графа де Шаро, и он опасался, что эта дама бросится ему в ноги. Но пока король готовился к отъезду, ему доложили, что приговор уже вынесен. Один из его комиссаров, который был советником Парламента в Эксе, даже сказал, что он удивлен, что все прошло так быстро, что смертный приговор был вынесен без особых разбирательств, без взвешивания всех за и против.
На суде Фуке защищал себя сам, не прибегая к помощи адвоката. Речи его были искрометны, доводы убедительны, память безупречна, ответы попадали не в бровь, а в глаз. Конечно, господин Фуке заслуживал смерти, ведь у него нашли бумаги с проектами переворота и множество других подобных вещей, которые были достойны самого сурового наказания. Однако если посмотреть, где были найдены доказательства этих преступлений, то их нашли в каминной трубе, и они легко могли сгореть в огне, на что и указал господин Фуке в свое оправдание. Кроме того, он отметил то, что среди прочих бумаг были найдены некие ходатайства, написанные господину Кольберу, с указанием «Монсеньор» во главе, а это титул, которого у него не было до ареста господина Фуке, что является доказательством, что к нему в дом входили, что его хотели погубить, что эти бумаги ему подсунули и все доказательства его вины были сфабрикованы. Он требовал, чтобы составили список его имущества до вступления в должность, список того, что дала ему жена, что это все превышало миллион, плюс пенсии, которые ему были дарованы, а это уже превышало два миллиона. Этим он пытался доказать, что не совершил ничего криминального, что его большие расходы были вполне оправданны, что все это принадлежит ему и его семье.
Многие судьи больше следили не за словами этого человека, а за тем, что он потерял свою силу и стал вызывать отвращение сильных мира сего, желавших смерти господина Фуке. Все, кто говорил после него, следовали своим интересам, и многие, кто голосовал за смертную казнь, потом стыдились этого. Однако очевидно было, что надо было примерно наказать господина Фуке, а посему придрались и к тому, что он купил себе остров Белль-Иль, обвинили и в хищении государственных средств, и в оскорблении короля, и в заговоре.
Крепость Пиньероль
В конечном итоге его приговорили к ссылке с конфискацией имущества[77]. Такой приговор удивил придворных, и даже поездка короля в Шартр была прервана, а господин Кольбер, испугавшись, что Фуке получит свободу, сделал все, чтобы король заменил своим личным решением ссылку на пожизненное заключение. После этого господин Фуке пробыл некоторое время в башне Венсенского замка, а потом он был переправлен под конвоем в крепость Пиньероль, где он и провел свои последние шестнадцать или семнадцать лет[78].
* * *
Не могу отказать себе в праве рассказать и о встрече господина Фуке с господином де Лозеном[79], которая произошла у них в тюрьме через восемь или десять лет. Де Лозена поместили в ту же башню, что и Фуке, только этажом выше. Встретившись с ним, господин Фуке никак не смог вспомнить, где он его мог видеть, и напрямую спросил об этом, после чего господин де Лозен начал рассказывать ему свою удивительную историю, в том числе о конфликте с королем по поводу мадам де Монако, на которую Людовик XIV обратил внимание. Ее официальным любовником был де Лозен, он был в должности генерал-полковника драгун в армии, которую король отправил в Италию. Оказалось, что де Лозен, отличавшийся вспыльчивым характером, сумел восстановить против себя почти весь двор, а более всего мадам де Монтеспан. Его арест и заключение в Бастилии стали логическим следствием столь безалаберного и необузданного поведения. Наконец, он рассказал о том, как он вышел из Бастилии через двадцать четыре часа, но потом оказался в Пиньероле.
Король Людовик XIV
Господин Фуке слушал все это, как сказку, и никак не мог понять, как король, человек такой просвещенный, мог так обойтись с этим самым гордым из мужчин, опираясь на такие недостойные доказательства. Однако он не показал того, что происходило у него в душе. Он просто внимательно слушал, что ему говорят, но когда речь зашла о предполагаемой женитьбе на мадемуазель де Монпансье, когда король сначала дал свое согласие, а потом забрал назад свое слово, об отчаянии этой принцессы и обо всем, что за этим последовало, он не смог помешать себе проникнуться сочувствием к этому государственному пленнику, с которым его соединила судьба. Когда же господин де Лозен рассказал и о других обстоятельствах своей жизни, это окончательно убедило господина Фуке в правоте его первых ощущениий.
Кольбер, ставший всемогущим после опалы Фуке, настолько завладел доверием короля, что это вызвало ревность господина Ле Теллье, который, будучи опытным придворным, оказал королю большие услуги и тоже претендовал за это на определенные знаки отличия. Кольбер же стал наводить экономию в финансах, обращая особое внимание на откупщиков налогов и фискальных чиновников. С виновными он поступал без малейшего снисхождения, многие были обложены громадными штрафами, многие оказались в тюрьме, вообще лишившись своих состояний.
Если говорить начистоту, то очень хорошо, что в этом деле навели порядок. Однако многие высокопоставленные лица нашли в этом свой интерес. Герцог де Сент-Аньян оказался из их числа, и граф де Сери, его старший сын, договорился о союзе с мадемуазель Монеро, которой отец пообещал за это два миллиона. Этот герцог, как я уже говорил, был в очень хороших отношениях с королем, и господин Кольбер, опасаясь того, что роль фаворита возрастает день ото дня, предложил отдать за его сына свою дочь вместо мадемуазель Монеро. Герцог не был богат и, конечно, хотел устроить брак своего сына более выгодно, но, подумав, он решил не противиться, однако в этот момент граф де Сери умер. И тогда господин Кольбер, желая сохранить дружбу герцога, сказал ему, что если Богу так угодно, то у того остался еще один сын, и его молодость не помешает задуманному браку, так как у него тоже есть младшая дочь. Герцог де Сент-Аньян, которому нужны были деньги, не мог найти партии лучше, а посему не смог отказаться, и когда пришло время, свадьба состоялась, как и было договорено между родителями[80].
Бастилия
Господин Кольбер страстно желал этого брака, потому что господин де Сент-Аньян, как я уже сказал, с каждым днем становился все ближе к королю. Одной из причин этого стало то, что он влюбился в мадемуазель де Лавальер[81], фрейлину герцогини Орлеанской, которая хотя и не отличалась особой красотой, но умела нравиться больше, чем гораздо более красивые. Герцог оказал королю содействие в развитии этой любви, умело скрывая все это от королевы. Эта девушка была родом из Тура, из семьи
больше относившейся к буржуа, чем к дворянству, если называть вещи своими именами. Дело в том, что дворянство было даровано Генрихом III, когда он вынужден был скрываться в Туре в то время, когда гражданские войны разрывали королевство на части, но удостоен этого был лишь брат ее прадеда, и это не распространялось на всю семью. Однако отец этой девушки, отличившийся во время войны, женился на высокопоставленной женщине, вдове советника парижского парламента.
Луиза де Лавальер
Как бы то ни было, она вошла в круг фрейлин мадам герцогини Орлеанской, никто не стал углубляться в подробности ее происхождения, и вскоре у нее появился любовник, который возмечтал на ней жениться. Это был дворянин из окрестностей Шартра, старший сын в своей семье, у которого было двадцать тысяч ливров ренты, так что это была очень выгодная для нее партия. Его звали л'Этрувиль, он был лейтенантом гвардии и имел лишь один недостаток – отца, без согласия которого он не имел права жениться. Будучи обязанным получить это согласие, он оставил мадемуазель де Лавальер, которая попросила его возвращаться как можно быстрее. Не было необходимости об этом говорить, так как любовь не позволяла ему долго находиться вдали от нее, и он съездил только туда и обратно. Но отец не хотел иметь дело с девушкой без большого приданого, среднего происхождения, и потребовалось гораздо больше времени, чтобы с ним договориться, а когда он все же вернулся, он нашел, что все коренным образом изменилось. Не только король влюбился в его любовницу, но и его любовница уже была без ума от короля. Это была первая новость, которую он узнал, приехав в Париж, и он не мог поверить в это, пока не получит подтверждение из уст самой мадемуазель де Лавальер. Но сделать это теперь было непросто, ибо монарх был так влюблен, что поставил около нее своих людей. Эти люди спросили, кто он такой, он назвал себя, думая, что его имя послужит ему пропуском. О нем доложили мадемуазель де Лавальер, но эта девушка была полностью погружена в свою новую любовь и так испугалась, что королю это не понравится, что сделала вид, что не знает его. Такая несправедливость возмутила л'Этрувиля, и он вернулся домой такой расстроенный, что слег. Всем, кто знал его историю, он и в самом деле показал пример того, что любящий человек может умереть от горя. Три недели он только и говорил что о неблагодарности мадемуазель де Лавальер, а потом лишился рассудка, сказав одному из своих друзей, чтобы он передал ей, что она является всему причиной. Господин Кольбер был в курсе всех дел мадемуазель де Лавальер, и как только он понял, что она стала любовницей короля, это сразу выделило его среди всех тех, кто претендовал, как и он, на милости монарха.
* * *
Тем временем, проведя большую часть жизни среди сильных мира сего, я жил словно всеми забытый, и если бы не моя небольшая рента, мне было бы совсем худо. Мой отец был еще жив, но на моей жизни это никак не отражалось. Мне даже казалось, что он спокойно позволил бы мне умереть от голода, не дав мне и стакана воды. Когда я думал об этом, мне становилось нехорошо, но, слава Богу, я не был совсем нищим и принимал все это с терпением, тем более что в этом не было моей вины.
Был уже конец 1663 года, и вдруг я получил письмо от нашего кюре, в котором он просил меня срочно приехать, чтобы успеть еще повидать отца перед смертью. Меня ничего не задерживало, я тут же отправился в путь, и через шесть часов я уже был дома. Отец был удивлен, увидев меня, и сказал, что и сам хотел послать за мной, что его преклонный возраст не позволяет ему надеяться выздороветь, что он хотел бы распорядиться своим наследством, но при этом очень не хотел бы судебных разбирательств между родственниками. Он выразил надежду, что я смогу наладить отношения с его женой и с моими братьями, а потом заявил, что хочет поделить все наследство на равные части, но основное отдать жене, так как она заслужила это и привнесла в его жизнь так много хорошего. Я ничего не ответил на эти несправедливые слова, ибо этим отец лишал меня состояния моей матери, а оно было весьма значительным, не говоря уж о том, что я был старшим из его сыновей. Он же счел мое молчание за согласие с его волей и велел послать за нотариусом.
Состояние отца заставляло меня страдать, и я не стал возражать, надеясь, что он все же поймет несправедливость своего решения. Но когда пришел нотариус, я увидел, что он собирается начать диктовать ему свою волю, и тогда я попросил его подождать, пока мы не обсудим кое-какие детали. Я попросил отца вспомнить, что я его сын, как и другие, но они всегда пользовались гостеприимством в его доме, а я всегда был этого лишен. Я сказал, что его старший сын от второго брака и так имеет достаточно имущества, что сам может помогать своим братьям, что я устроил замужество сестре, которая, благодаря этому, стала вполне обеспеченной женщиной и ни в чем теперь не нуждается. Я попросил отца исключить их из наследства, предложив дать моей мачехе большую пенсию. То же самое я предложил дать и моему младшему брату, если его старший брат откажется ему помогать. Но относительно всего остального я попросил его еще раз подумать, как поступить.
Мое предложение было честным, и речь в нем не шла о том, чтобы обобрать всех остальных. Но мой отец был так влюблен в мою мачеху и в своих детей от нее, что если бы он мог встать и избить меня, я не сомневаюсь, что он так бы и поступил. Он сказал, что видит еще одно доказательство того, что ему всегда обо мне говорили, что я хочу ускорить его смерть, что в его предложении и так содержится множество преимуществ для меня, но он скорее вообще лишит меня всего, чем позволит рассорить семью. К этому он добавил, что не удивляется теперь, почему я все время имел проблемы со своими хозяевами, что любой другой на моем месте уже сам сделал бы себе состояние, но Бог обошелся со мной именно так, как я того заслуживаю, а посему я должен убраться и оставить его в покое.
Уверяю вас, что я и сам в этот момент предпочел бы оказаться где-нибудь далеко-далеко. Я попытался успокоить отца, постарался убедить его, что не прошу ничего, кроме справедливости. Я сказал, что мне не хотелось бы, чтобы все было решено в пользу одной моей мачехи и ее детей, что я нуждаюсь не меньше остальных, потому что уже шли разговоры о том, что Лионский банк будет упразднен и я могу лишиться своей ренты, а мой брат-аббат уже стал богаче нас всех, вместе взятых, и при этом я ни разу не получил от него ни одного су, хотя он прекрасно знал, что я в этом порой очень даже нуждался.
Не знаю, то ли мои чувства заставили меня думать, что мое предложение было самым разумным из всех возможных, то ли это и вправду было так. Однако мой отец придерживался совершенно иной точки зрения, и он так и умер, настроенным против меня.
* * *
Я не чувствовал в этом своей вины, так что это не помешало мне подумать о своих делах и попытаться завладеть его имуществом. Нетрудно догадаться, что моя мачеха тут же начала сетовать на несправедливость всего происходящего, и это делала женщина, которая всегда обходилась со мной так жестоко. Я поступил, как поступал и раньше, то есть дал ей выговориться, а потом предложил ей тысячу экю ренты, но при условии, что она откажется от всех остальных своих претензий. По-моему, это был подарок, который я сделал ей вполне честно, так как она имела право рассчитывать лишь на свое личное имущество, но она твердо стояла на том, что я должен согласиться с решением моего отца.
Ее слова не произвели на меня никакого впечатления, но при этом я не сомневался, что мне будет объявлена настоящая война. Думая о том, как мне защитить свои права, я поговорил с адвокатами и прокурорами, которые посчитали, что я могу забрать все имущество, по крайней мере самую существенную его часть. Я не думал ни о чем другом, кроме как быстрее начать судебный процесс, тем более что я нашел в бумагах указание на то, что имущество моей мачехи было отделено брачным контрактом, что доказывало отсутствие ее прав, так как мой отец не мог нарушить этот контракт, официально не отменив его. Я рассказал ей об этом, думая, что это ее хоть немного образумит, но она ответила мне, что все равно пойдет до конца и что хорошо смеется тот, кто смеется последним. Я не понял тогда, что это могло означать, но небольшое беспокойство все же охватило меня.
Впрочем, эта загадка довольно быстро разрешилась. Чиновник, который занимался инвентаризацией имущества, нашел сумку с бумагами, показал мне ее, и я увидел следующие слова, написанные рукой моей мачехи: «Возмещение, сделанное из моих личных средств, которые мне должен мой муж, на имущество которого я имею первостепенное право». Это меня очень удивило, я достал бумаги из сумки и обнаружил там долговые контракты еще моего деда в пользу отдельных частных лиц. Самый крупный из них составлял пятьдесят тысяч экю, и это уже было совсем не смешно. Я ушел из дома совсем молодым и абсолютно не был в курсе семейных дел, а посему я ничего не мог сказать по этому поводу. Однако я сразу заподозрил в этом какое-то мошенничество, тем более что из бумаг следовало, что, когда мой отец умер, у него не оставалось и десяти франков. В самом деле, было обнаружено лишь восемь с половиной франков наличными деньгами (неплохой капитал для такой большой семьи), что свидетельствовало о том, что моя мачеха обо всем заранее позаботилась. Как бы то ни было, было совершенно невозможно, чтобы мой дед оставил столько долгов, и это притом, что две сестры отца были замужем, и каждой было дано по двадцать пять тысяч приданого. Короче говоря, мне стало очевидно, что мой отец не мог иметь таких долгов, что это были какие-то старые контракты, которые обновили путем тайных сделок с кредиторами, все из которых «случайно» оказались родственниками моей мачехи.
Я рассказал о своих подозрениях знающим людям, и они лишь подтвердили мои догадки. Адвокаты тоже были того же мнения, но они сказали, что перед тем, как начинать судебный процесс, я должен доказать фальшивость этих бумаг. Я обратился к нескольким честным людям из наших мест, которые были в курсе того, что происходило у нас в доме, и они уверили меня, что люди, с которыми сговорилась моя мачеха, никогда ни в чем не сознаются, так как получили за это неплохую компенсацию. Они сказали, что все мои попытки могут оказаться бесполезны, а процесс может затянуться очень надолго. Тогда я написал об этих фальшивых долговых претензиях и развесил объявления в церковных приходах тех, кого я подозревал в обмане, в надежде на то, что приближающееся Рождество заставит их серьезно задуматься о своих неблаговидных поступках.
Моя сестра в этих обстоятельствах показала себя с наилучшей стороны. Она нашла меня и сказала, что хотя это и может поссорить ее с матерью, но она готова свидетельствовать в мою пользу, доказывая, что у отца никогда не было ни су долгов, напротив, перед самой смертью он получил восемь тысяч франков наличными. Она сказала, что может подтвердить это, если мне это поможет, под присягой. Я поблагодарил ее за искренность, но ответил, что не хочу навлекать на нее ненависть ее матери, что мне вполне достаточно ее доброго отношения ко мне и совсем не нужны такие жертвы с ее стороны. Я пообещал ей, что лишь она будет моей наследницей, так как она единственный честный человек в нашей семье. Через пару дней она написала отказ от всего, что ей было положено от моей матери и что никогда не принадлежало моему отцу, отдав все это в мою пользу. Она и своего сына просила в случае своей смерти на это не претендовать. Эту бумагу она передала мне в руки, но я разорвал ее в ее присутствии, заявив, что мы всегда и так найдем общий язык между собой.
Наш процесс, который сначала начался у меня на родине, вскоре был перенесен в Париж. Это произошло по воле так называемого кредитора моей мачехи, который подумал, что ему так будет выгоднее. Я не противился этому, так как был уверен, что в столице у меня не меньше друзей, чем у него, и они не оставят меня одного в таком деле. И действительно, каждый предложил мне свои услуги, и я, ненавидя судебные дела больше всего на свете, с такой горячностью принялся за свой процесс, что не мог даже есть и пить. Моя мачеха потрепала мне немало нервов, но и я со своей стороны доставил ей много неприятностей. Однако заседатели оказались против меня, и все говорили мне, что я проиграю дело, если не смогу доказать несправедливость, которую хотели со мной совершить. Я поднял брачные контракты моих двух тетушек, желая доказать, что, давая им пятьдесят тысяч франков, мой отец наверняка должен был иметь гораздо больше, но адвокаты лишь посмеялись надо мной, когда я сказал, что это и есть мое доказательство.
Я, конечно, оказался в большом стеснении, услышав подобное, и даже подумал, что мне придется платить штраф, когда советник Большой палаты сказал мне, что, если я захочу жениться на его дочери, он сделает так, что я выиграю процесс. Я спросил у того, кто сделал мне это предложение, кто этот советник, на что он мне ответил, что ему запрещено это говорить, тем более что я не согласился, но как только я дам слово, меня познакомят с тестем и с самой девушкой. На это я заметил, что странно было бы обещать жениться, не зная на ком, что перед тем, как что-то сказать, я хотел бы знать, о ком идет речь, что такое предложение выглядит смешным или, если называть вещи своими именами, даже несерьезным, что мой возможный тесть предлагает сделку с правосудием, так как он фактически покупает его в обмен на мою свободу, что я предпочитаю остаться в полной нищете, чем покупать себе имущество таким позорным способом. Этот человек дал мне высказаться, не прерывая меня, потом пожал плечами и сказал, что простил бы подобное двадцатилетнему юнцу, но для почти пятидесятилетнего мужчины это непростительно, что речь идет об одном из самых уважаемых людей в Парламенте, что все дрожат перед ним, что если о нем и злословят, то лишь из зависти и от неумения повернуть дело так, как надо, что я проиграю процесс, так как я сам все делаю именно для этого, что меня приговорят к оплате судебных издержек, когда он узнает мой ответ, а он сам первый скажет, что я именно этого и заслуживаю.
Уверяю вас, что меня задела эта угроза, и, пытаясь представить себе, что может последовать, я подумал, что, может быть, все еще и не так страшно, как представляется, что услуги, которые мне предлагают, могут быть интересны и не так уж нечестны, что такие люди лучше видят возможные результаты процесса, что, возможно, мой процесс можно выиграть, а он просто в компенсацию за это хочет, чтобы я женился на его дочери, что не я дам девушке, а она даст мне, так как без нее у меня не останется ни су. Наконец, если говорить честно, отвращение к моей мачехе проявилось в этом деле в гораздо большей степени, чем я думал, и я сказал этому человеку, что согласен с его доводами, но при условии, что тестем не будет господин Жену, а невеста не какая-нибудь уродина. Я знал господина Жену с очень плохой стороны, так как он причинил много зла вполне честным людям. Человек, решив, что дело уже наполовину сделано, назвал мне имя господина Каная, который был тот еще негодяй, возможно, еще худший, чем Жену. Это имя заставило меня насторожиться, ведь решение суда теперь зависело от моего решения, а отказ явно разозлил бы мстительного отца. Тем не менее я ответил, что пусть будет то, что угодно Богу, но я не стану зятем господина Каная, что он может завалить мой процесс, что он уже много раз делал с другими людьми, что я удивлен, что он так до сих пор не нашел способа выдать замуж свою дочь, что у него было немало таких же «претендентов», как и я, но он непонятно почему выбрал именно меня.
Короче говоря, я наговорил слишком много о том, кто был одним из судей на моем процессе, да еще перед человеком, который обязательно должен был все ему передать. Он и передал все слово в слово. Однако, к его счастью, мой отказ позволил ему выдать свою дочь за одного дворянина, гораздо более богатого, чем я, если бы я даже и выиграл мой процесс. Это был Монтиньи, сын губернатора Дьеппа, и в качестве приданого отцу пришлось сделать лишь совсем незначительную несправедливость. Как бы то ни было, теперь этот муж частенько приезжает в Шартр, чтобы напиваться там, когда заканчивается вино в его доме. Я же, как и следовало ожидать, через две недели проиграл свой процесс с наложением на меня всех судебных издержек, и с тех пор у меня не было врага, который сделал бы мне и половину того зла, как этот Канай.
Судебные издержки, к уплате которых меня приговорили, составляли весьма значительную сумму. Моя мачеха наняла судебного исполнителя, и это грозило мне тюрьмой. Речь шла о двух тысячах ливров, а денег в тот момент у меня было совсем мало, и я не смог найти никого, кто бы мне одолжил такую сумму. Конечно, многие приходили ко мне, поддерживали меня, говорили о несправедливости моей мачехи, но это не могло решить моей проблемы, и мне ничего не оставалось, как положиться во всем на волю Господа.
Так я оказался в тюрьме, где я встретил множество достойных людей, судьба которых походила на мою. С удивлением я обнаружил, что они даже пытаются развлекаться, словно находятся на свободе. Я же был совершенно в другом настроении, я постоянно возмущался, негативно отзывался о своих судьях и о нашем времени, в котором совсем не осталось места для справедливости, а так как в тюрьме, как и везде, было полно шпионов, меня вскоре отправили в замок Пьер-Ансиф под Лионом. Это означало, что мое дело, начавшееся как обычное гражданское, приобрело уголовный характер. Я долго не мог понять, что такого я сделал, за что со мной так поступили, но потом вспомнил, что наговорил много плохого о министре, и иной причины своих несчастий я найти не смог.
* * *
В замке мне было разрешено гулять, и другие заключенные, увидев новенького, поспешили узнать, кто я и за что здесь нахожусь. Я не стал рассказывать всего, а сказал лишь, что я невиновен (так делают многие, думая, что так их быстрее освободят). Среди прочих заключенных я встретил маркиза де Фрезю, с которым я был знаком раньше, и решил поговорить с ним начистоту, не как с другими, чтобы посоветоваться, что мне делать, чтобы как-то исправить свое положение. Он мне сказал, что в таком деликатном деле трудно давать советы и что был бы рад, если бы ему самому кто-нибудь посоветовал, что делать, так как его проблемы весьма схожи с моими. Он удивил меня этими словами, так как ходили слухи, что он хотел продать свою жену пиратам. Я высказал ему свои сомнения, но он заверил меня, что я плохо информирован, и предложил рассказать свою настоящую историю. Так как нам все равно нечего было делать, мы сели на скамейку, стоявшую во дворе, где мы обычно гуляли, и он начал свой рассказ. Когда его жена была еще совсем юной девушкой, он очень сильно влюбился в нее, хотя прекрасно понимал, что девушки часто бывают похожи на своих матерей, но образ жизни ее матери все же не смог отвернуть его от нее. Он не был обязан на ней жениться, но решился на это, будучи уверенным, что это сделает его счастливым. Он попросил ее руки у ее матери, но эта женщина ему отказала. Однако этот отказ лишь еще больше возбудил его страсть, и они вместе решили бежать. Так они и сделали. Потом он нашел священника, который согласился их обвенчать, а после этого ее матери ничего не оставалось, как согласиться. После этого маркиз чувствовал себя самым счастливым человеком на свете, но, к сожалению, его счастье оказалось недолговечным. Случилось так, что его брат влюбился в его жену, а она в него. Он узнал об этом и сначала решил убить их обоих. Однако, посчитав, что это наделает много шума в свете, он стал думать о других способах отомстить, тем более что он еще не мог по-настоящему ненавидеть свою жену, какой бы неверной она ни была, чтобы обагрить свои руки ее кровью. К брату же он не испытывал особой нежности, и он решил убить только его, но любовь к жене не позволила ему это сделать. Тогда, подумав, он решил избавиться от соперника более надежным способом и дал приказ своему слуге убить его, когда тот пойдет на охоту.
А в это время его брат поручил то же самое нескольким солдатам, которым он за это хорошо заплатил. Но все эти коварные замыслы потерпели неудачу. Слуга все плохо подготовил, подозрение пало на ревнивого маркиза, и это покончило с его карьерой в окружении короля. Его брат тоже теперь не мог спокойно встречаться с его женой, и она стала менять любовников одного за другим. Один из них был совсем юнец, и теперь маркиз решил, что именно этот любовник является главной причиной всех его несчастий. Он решил отомстить и, воспользовавшись отсутствием молодого человека, приехал к своей жене, сделал вид, что простил ее, стал обращаться с ней, как с самой любимой женщиной, она поверила ему и сама стала просить побыстрее уехать куда-нибудь вместе. Они тут же отправились в Лион, потом в Прованс, где он задумал продать ее одному пирату, который пообещал за нее неплохие деньги. Однако месть не удалась, и его жене удалось чудом спастись, а он лишь приобрел репутацию страшного злодея и вероломного человека. Юному любовнику его жены только этого и надо было. Он заплатил денег одному человеку, подал заявление в суд, и тот человек лжесвидетельствовал перед судьями.
Хотя я уже узнал большую часть истории маркиза, я не хотел его прерывать. И он открыл мне еще несколько обстоятельств, о которых я не знал, например то, что тюрьма, в которой мы находимся, – страшное место. Из всего этого я заключил, что мое положение еще не самое ужасное, так как я не женат, и я тогда поклялся сам себе, что ни одна из женщин никогда ничего подобного со мной не сделает.
* * *
Я провел три года в замке Пьер-Ансиф, не получая никаких известий ни от друзей, ни от врагов, будучи уверенным, что я обречен на такое существование на всю оставшуюся жизнь. Я был в отчаянии, и чем больше я думал о своей судьбе, тем больше я понимал, до какой степени я несчастен. Иногда я вспоминал о господине кардинале де Ришельё, вздыхая в его память так, как я никогда не вздыхал ни об одной женщине.
Я провел так много времени в такой невыносимой печали, что ее просто невозможно описать, и вдруг господин архиепископ Лионский, брат маршала де Виллеруа, к которому приходила вся корреспонденция из Парижа, так как он был королевским наместником в Провансе, сообщил мне, что я свободен. При этом он мне сказал, что король не позволяет мне покидать город, в котором находилась моя тюрьма. Я поблагодарил его, как будто эта милость шла от него лично, и он воспринял это как само собой разумеющееся. Меня покормили за счет короля, и я стал жить в
Пьер-Ансифе на небольшие остатки моей ренты, которые у меня остались после суда с мачехой. Я вынужден был жить очень экономно, так как у меня все-таки отобрали двести пистолей за судебные издержки.
Однажды господин архиепископ пригласил меня на охоту в свое имение в Вими, которое он называл Нёвиллем. Я знал, что мне было запрещено выезжать за пределы города, и эта моя поездка вообще стоила мне всего, что я имел. Не стоит думать, что я так отзываюсь о человеке только потому, что раздосадован своими потерями. В самом деле этот архиепископ был окружен гвардейцами, а не священнослужителями, и охотился он на одного оленя с сотней собак, и вел образ жизни, не соответствующий его сану, и в Лионе его считали скорее тираном, чем архиепископом. Я своими глазами видел то, во что трудно поверить, тем более в наше время, но от этого это не становится неправдой. Время от времени, например, он посылал за членами Магистратуры под предлогом каких-то приказов, которые он получил из Парижа, а потом говорил им, что его брат-маршал потерял деньги, и это означало, что ему завтра же должны были доставить точно такую же сумму, и никто не осмеливался его ослушаться. Мне его приглашение тоже стоило примерно четверти моей ренты. Обескровив город своими поборами, которые почти никогда не были меньше двух-трех тысяч пистолей, он вынужден был обратиться в Королевский совет, и его указом все местные ренты были сокращены на три четверти.
* * *
Так я потерял все свои деньги, и примерно через десять дней после этого он послал за мной и сообщил, что теперь мне позволено ехать, куда я захочу. Мне от этого разрешения не было никакого прока, так как средств у меня не было, и я продолжил жить в своем постоялом дворе. Туда каждый день приезжали новые люди, так как он находился на перекрестке дорог, ведущих из разных провинций, и я там выглядел просто как человек, у которого немного средств, но мне это было не отвратительно. Пока я жил там, господин де Сен-Сильвестр, офицер с хорошей репутацией в наших войсках, тоже поселился там. Я не был с ним знаком, но мы быстро познакомились. Он прибыл из Франш-Конте, где его полк стоял гарнизоном, встретив в пути одного дворянина из тех мест, которого звали Сервьер, этот дворянин пригласил его пообедать, а Сен-Сильвестр спросил, не будет ли он возражать, если я составлю им компанию. Он согласился и предложил нам сыграть две-три партии в триктрак[82], после вкусной еды.
Я хорошо умел играть в эту игру, а посему согласился, и мы стали играть по пол-луидора за партию. Фортуна улыбалась нам обоим одинаково, и мы проиграли подряд часа четыре, так и не выиграв. В результате мы проиграли до следующего утра. Теперь уже фортуна повернулась ко мне, и к восьми часам я уже выиграл у него сто пистолей. Так как кости уже вываливались у нас из рук от желания спать, он мне сказал, что просит пощады, на что я ответил, что это я ее у него прошу, но не мог об этом сказать, так как выигрывал, но я так же хочу спать, как и он. Так что мы оба были страшно уставшими, мы оставили игру с условием возобновить ее после обеда. Мы легли каждый в свою постель, проспав четыре или пять часов, а потом пошли обедать. Потом мы возобновили игру, и фортуна опять повернулась ко мне лицом, и мой выигрыш дошел до пятисот пистолей. Наконец, думая, что он не сможет заплатить такой большой долг и что нам снова придется играть всю ночь, он попросил меня сыграть несколько партий по триста пистолей. Я охотно согласился и выиграл две первые партии, потом фортуна отвернулась от меня, и я быстро проиграл две следующие. Мы остались при своих и решили сыграть еще одну – решающую. Я проиграл, и у меня осталось всего двести пистолей. Сумма была достаточно большая для такой игры, но хорошо, что он не проиграл восемьсот, так как нет ничего более опасного, чем игра.
* * *
Как бы то ни было, это меня здорово поддержало после потерь, которые я понес с господином архиепископом, и я получил деньги, чтобы вернуться в Париж. Я провел некоторое время, не появляясь при дворе, думая, что после того, что со мной произошло, меня там не встретят хорошо. Действительно, мы живем в таком веке, где министры хотят выглядеть, как Боги, и требуют от всех уважения к себе, как к принцам. Однако я повидался с господином де Тюренном, поведение которого всегда было иным. Он был очень честным и приветливым. Я был знаком с ним еще со времен господина кардинала де Ришельё и имел честь время от времени встречаться с ним потом. Он, как обычно, встретил меня хорошо, сказав, что лучше видеть меня здесь, чем в Пьер-Ансифе, а потом поинтересовался, что я там делал. Я сказал, что был в стесненных обстоятельствах, что господин кардинал де Ришельё сделал для меня, что это теперь многим не нравится, и это стало причиной потери всего моего состояния, что если он позволит мне продолжить военную карьеру, с которой я начинал, то это будет прекрасно, что это моя страсть, что я пробовал при кардинале Мазарини, но фортуна повернулась против меня. Я сказал, что нахожусь в возрасте, когда другие уже думают о заслуженном отдыхе, но я прошу его если он хочет иметь опытного адъютанта, то я именно то, что ему нужно, что я могу решать дела иначе, чем юноши с бурлящей кровью, что в седле я держусь, как двадцатипятилетний, и готов ему это доказать.
Господин де Тюренн долго смеялся над тем, как я предложил ему свои услуги, и сказал, что готов предложить мне товарища. Он имел в виду Клодора, который был капитаном в старой части, а так как я его знал, это было легко. Этот человек был хорошо известен своей службой, но он был еще известен и другим. К несчастью, он был женат на кокетливой женщине. Однажды он вернулся с войны, и один его товарищ пригласил его в Париже в место, известное развлечениями, и он там ее встретил, что говорило о том, что она в его отсутствие не отказывала себе в удовольствиях. Могу себе представить, как больно это ранило его сердце, он отправил ее в монастырь, потом забрал обратно и теперь вновь жил с ней. Это нанесло ему непоправимый вред в войсках, и, если бы я был женат, я не решился бы водить с ним дружбу из опасения, что меня неправильно поймут. Он оказался рад меня видеть, что я хочу еще послужить, и мы стали готовиться к славной кампании в Голландии.
* * *
После женитьбы короля мы имели несколько небольших войн слева и справа, но там не были задействованы все ресурсы королевства. В этих маленьких экспедициях король использовал начальников с весьма средней репутацией, и их ошибки только показывали, что великие полководцы таковыми считаются совсем не зря. Также король имел дело с Процветающей республикой[83], богатства которой превосходили богатства многих монархий, и для этого он выбрал принца де Конде и виконта де Тюренна, двух самых великий полководцев в христианском мире. Это вернуло вторую молодость принцу де Конде, который испытал множество унижений после возвращения от испанцев, после 1668 года его услугами пользовались лишь для завоевания Франш-Конте[84]. Однако зависть маркиза де Лувуа к виконту де Тюренну дошла до ушей короля. В результате, чтобы удалить одного человека, он вернул другого. Действительно, когда король отправил войска в Венгрию, он дал командование графу де Колиньи, а так как не все знают подробности, я уверен, что на меня не обидятся за то, что я об этом расскажу.
Когда король создал Голубую ленту, что произошло, если я не ошибаюсь, в 1660 году, принц де Конде тут же получил эту номинацию, а граф де Колиньи[85] думал, что это будет он или, как минимум, герцог Люксембургский, который в то время именовался еще графом де Бутвилем[86]. Король должен был предпочесть именно их, так как они всегда были на его стороне. Однако он предпочел им Гито[87], своего фаворита, и граф де Колиньи был этим взбешен. При этом он сказал, что Гито не заслуживает того, что для него сделали, что выбрали человека, про которого даже точно неизвестно дворянин ли он, и вообще все это крайне несправедливо. Характер принца де Конде не был суровым, но он заметил, что не стоит так гневаться, что номинировали Гито, а не герцога Люксембургского и его, что тут все дело в политических соображениях, а не в личных качествах, иначе бы все получилось иначе, что он должен быть доволен тем, что у него есть. Для господина принца де Конде это и так была слишком длинная речь, однако граф де Колиньи не удовлетворился этим и удалился, рассорившись с ним.
Франсуа-Анри де Монморанси-Бутвиль
Это, как я уже говорил, стало главной причиной того, что графа назначили командующим войсками, направленными в Венгрию. Это так взбесило принца де Конде, что он чуть не умер от злости. Теперь его любили при дворе и обращались с ним так, как того требовало его происхождение, но король иногда вспоминал былые времена и находил удовольствие в том, чтобы иногда так принизить его, что неудобно становилось даже тем, кого это особо не затрагивало. В самом деле, мне вспоминается, что однажды, когда он находился в комнате короля, завтракавшего перед охотой, он почти час держал его рубашку, которую тот должен был надеть, а король в это время не сказал ему ни слова, хотя рядом был Бонтан, его первый камердинер, и я, и с нами он премило разговаривал.
Маркиз де Лувуа
Как бы то ни было, когда король оказался перед лицом большой войны, он изменил свое поведение. Он стал всячески обласкивать принца, закрывался с ним и с виконтом де Тюренном с утра до вечера, стараясь с их помощью повысить свой уровень понимания военного искусства. Я не буду рассказывать обо всех успехах этой кампании, это было бы излишним для мемуаров, тем более что все еще прекрасно помнят об этих великих событиях. Однако я все же скажу, что мне наконец-то удалось избавиться от врагов, и мы прекрасно провели время, особенно это относится к виконту де Тюренну, который умел предвидеть буквально все. Король оказал немало милостей господину де Тюренну и имел к нему полное доверие, однако маркиз де Лувуа, считавшийся главнокомандующим в армии, часто вступал с ним в столкновения[88].
* * *
Я выполнял свои обязанности адъютанта, что было достаточно несложно.
Герцог де Лонгвиль имел в начале кампании в своей свите несколько дворян, в том числе шевалье де Моншеврёя, брата того, кто сейчас является полковником Королевского полка. Это был хороший человек. Например, мать его хозяина так его любила, что однажды, когда он вернулся из похода, она сама помогла ему снять сапоги. Он нравился и многим другим людям, но игра его погубила. Он проиграл все, что имел, а также и то, что ему не принадлежало, в частности однажды он проиграл все деньги Нормандского полка, которые ему были доверены. Так он не только потерял репутацию, но и получил помутнение рассудка. В самом деле, он дошел до последней крайности, но так и не смог прекратить играть. Едва прибыв в Голландию, он снова взялся за свое, но фортуна совсем отвернулась от него, и он опять проиграл все, после чего мозг его не выдержал, он слег в горячке и умер через несколько дней. Его хозяин не пережил его надолго. Находясь в лагере принца де Конде при переправе через Рейн, он выстрелом из пистолета убил голландского офицера, противник дал ответный залп, и герцог, пораженный в грудь, пал на месте. Так как прошло совсем мало времени между смертями этих двух людей, родственники шевалье де Моншеврёя обратились ко мне с просьбой написать им на родину, что он умер от горя, узнав о смерти своего хозяина. Я нашел эту просьбу весьма забавной, так как прекрасно знал все обстоятельства этого дела, в частности то, что он умер как минимум за четыре-пять дней до нашего перехода через Рейн. Но я сказал, что готов сделать это для них. На самом деле, я еще не знал, почему они попросили меня об этой услуге. Я просто думал, что они хотят скрыть истинную причину его смерти из страха, что это бросит тень на всю их семью. Но, как оказалось, была и другая причина – он проиграл деньги многих других людей, и его родственники не хотели, чтобы все узнали, что он умер, успев проиграть их. Как бы то ни было, дело это оказалось весьма деликатным, и я не до конца разобрался в нем, так как был уверен, что после того, что он совершил, все их потуги не могут иметь большого значения. На самом деле родственники не хотели, чтобы проигранные деньги спрашивали с них, так как земля старшего из них была единственным, чем можно было расплатиться, и если бы мадам де Ментенон не позаботилась об этой семье, она бы совсем пропала.
Я не стал ничего говорить и сделал вид, что поверил этой небылице. При этом я точно не выяснил, что же хотели эти господа, однако очень скоро те, кому я писал, как-то узнали, что шевалье де Моншеврёй умер от безумства, и его родственники подумали, что это узнали от меня, и ополчились на меня. Они не нападали на меня открыто, но, так как они были из Нормандии, а в этой местности подобное считалось предательством, они стали делать все, чтобы погубить меня. Если бы мадам де Ментенон была тогда той, кем она стала сейчас, они бы легко преуспели в этом, и лучшее, что ждало бы меня тогда, это заключение в Бастилию. К счастью, ее влияние не было еще тогда так велико, и все, что они могли реально делать, так это просто надувать губы. Я же, в свою очередь, не стал говорить ничего, ни хорошего, ни плохого, оставил их думать, что им будет угодно, и продолжил заниматься своими делами.
* * *
А тем временем мы продвигались вперед в Голландии и после переправы через Рейн осадили Дуйсбург. Герцог Орлеанский, брат короля, находился при армии, и его происхождение требовало, чтобы он был самым главным после него. Он пошел по одной стороне реки, а король остался на другой. Много говорили, что он не был похож на короля, один был величественным, а другой имел что-то низкое в выражении лица. Он даже походил на женщину, накладывая румяна на лицо, хотя говорили, что делал он это из-за лишая на щеке, из-за которого очень переживал. Как бы то ни было, когда он ложился спать, он, как женщина, надевал чепчик и, стыдясь этого, требовал, чтобы все выходили, когда он готовился ко сну, но всегда оставался какой-нибудь слуга или фаворит, так что в Париже не было ни одного человека, который бы не знал об этом. В остальном, чтобы нравиться французам, нужно было быть храбрым, но этого качества у герцога было в достатке, хотя он избегал солнца, так как боялся загара, но огонь битвы его не пугал. Действительно, он выезжал на все боевые действия, что очень не нравилось шевалье Лотарингскому, его фавориту, но не из-за боязни за жизнь герцога, а из-за того, что ему приходилось разделять опасности вместе с ним.
Возвращаясь к Дуйсбургу, скажу, что там случилось несчастье с Мартине[89], полковником Королевского полка. Когда он был в траншее, раздался пушечный выстрел со стороны расположения герцога Орлеанского, и этот выстрел убил полковника. Король очень сожалел об этом, так как он очень хорошо служил, став первым, кто сделал пехоту похожей на нынешнюю. Однако большинство глупых солдат, которые обычно сами не знают, чего хотят, вместо того, чтобы грустить, радовались этому. Скажу даже, что многие офицеры не расстроились, так как полковник требовал от них многих изменений в их ремесле, что им не особенно нравилось.
Однако радовались зря, смерть Мартине не вернула старых порядков, так как королю очень нравился его максимализм. В Королевский полк поставили человека, который продолжил его линию, отказали многим высокопоставленным людям, которые просили этой должности, а отдали ее графу де Монброну, простому дворянину, который, однако, уже возглавлял вторую роту мушкетеров. Фортуна подняла его так высоко, как никто не ожидал, и даже он сам. Действительно, это было место, которое невозможно занимать без заслуг и фавора. Сначала он служил в Пикардийском полку, где стал капитаном, потом он стал су-лейтенантом в роте мушкетеров кардинала Мазарини. Когда кардинал умер, король взял эту роту себе, а потом эту должность купил себе господин Кольбер-Молеврие[90]. Благодаря его влиятельному брату, эта рота стала называться второй, так как у короля уже была одна такая рота. Однако до де Монброна был еще господин де Казо, который счел несправедливым, что ему не дали командование, а отдали его господину де Марсаку, а потом это место занял де Монброн. Так фортуна впервые улыбнулась ему, а потом господин Кольбер-Молеврие, завидовавший своему брату, стоявшему рядом с королем, оставил свою должность, и господин де Монброн, служивший маркизу де Лувуа, получил разрешение договориться с ним, женился на богатой женщине и стал в состоянии делать что захочет.
Вот каким образом он за пять-шесть лет достиг такой должности, на которой оказался. Но король, дав ему командование своим полком, сделал его одновременно бригадиром пехоты, так как он был очень умным человеком. Я был рад, что король выбрал его для такой значительной должности, так как мы всегда были друзьями, и я был не последним, кто пришел к нему с поздравлениями. Он принял меня очень хорошо и сказал, что был бы рад продемонстрировать мне свою признательность. Я сказал ему, что у меня есть племянник в первой роте мушкетеров, это был сын моей сестры, и я прошу для него чина лейтенанта, если у него в полку есть вакансия. Он тут же все организовал, да так, что меня это обязало больше, чем подарок, который он мне сделал. Он тут же пошел к господину де Лувуа, рассказал ему много хорошего о моем племяннике, которого он до этого даже и не видел. Сделал он это потому, что во времена, когда он еще не был большим сеньором, я оказал ему большую услугу. Он увидел одну даму, которую звали маркиза де Курводон, у которой было около семнадцативосемнадцати тысяч ливров ренты, и подумал, что это его удача, заговорил с ней о замужестве.
Я тоже ходил к этой даме, но лишь для того, чтобы развлекаться, так как у нее всегда собиралось хорошее общество. Я пользовался уже некоторым ее доверием, и она попросила меня рассказать, что я знаю о нем и о его состоянии. Я ответил, что про первое могу ответить тотчас же, а вот про второе мне нужно время, что граф де Монброн человек разумный и заслуженный, а вот чтобы сказать о его состоянии, мне нужно два-три дня, чтобы ответить точнее. После этого я тут же побежал к нему, чтобы посоветоваться, что он хотел бы, чтобы я ответил, чтобы посодействовать их браку. Но мы имели дело с сумасшедшей, которой было невозможно управлять, как мы думали. Она забавлялась таким же образом с десятком других мужчин, всем говорила, что собирается выйти замуж, а сама лишь забавлялась. При этом она была старой и страшной, имея успех лишь у людей с очень большими аппетитами.
* * *
Осада Дуйсбурга, ставшая фатальной для Мартине, стала таковой еще для двух людей, также носивших имена животных[91], что не могло не быть замечено в армии. Одного звали господин Сирон, он был губернатором Сант-Маншу, другого – господин Сури, он был майором швейцарского полка.
Я со своим генералом был далеко от этого, так как он занимал место господина принца де Конде, у которого была отдельная армия и который был ранен при переправе через Рейн. Мы больше маршировали по городам, чем их осаждали. Куда бы мы ни приходили, нам везде либо сразу же открывали ворота, либо открывали их через небольшое время. Так мы взяли множество населенных пунктов, и если бы не небольшое сопротивление под Нимегом, мы вообще забыли бы, что находимся на войне. Причиной того, что противник находился в таком беспорядке, было то, что он был разобщен и не получал никакой поддержки от соседей. Увидев мощную армию короля, голландцы сразу же сдавались, и на них жалко было смотреть. Чтобы было более понятно, скажу, что их министры брали в армию любого, кто готов был носить оружие. Могу рассказать забавную историю про одного итальянца, который на вопрос, служил ли он в армии, ответил, что служил, и, чтобы доказать это, выхватил шпагу и сделал несколько красивых выпадов. Но ему ответили, что раз он итальянец, значит, он католик. Он ответил, что он католик, но его шпага – настоящая гугенотка, и она готова к службе. Его ответ нашли таким удачным, что его тут же сделали подполковником, но владелец шпаги, лишь только получив деньги, тут же куда-то исчез.
В рядах противника царил полный беспорядок, и за три месяца они полностью потеряли три свои провинции. Однако принц Оранский[92] был человеком совсем иного рода. Он отправил маркизу Бранденбургскому, своему дяде, сообщение с предложением союза, объяснив ему преимущества, которые он получит, поддержав республику. Дело в том, что мы заняли несколько бранденбургских городов. Хотя наш король и был хозяином всего мира, его шпионы доложили ему об этих договоренностях лишь через восемь дней после того, как об этом сказал виконт де Тюренн. Я не знаю, по каким каналам он получил эту новость, но он пришел к королю и сказал, что пора заключать мир, пока он еще может быть очень выгодным для нас. Король захотел узнать мнение принца де Конде по этому поводу и отправил к нему гонца в Арнем, где он приходил в себя после ранения. Принц де Конде подтвердил ему то же самое. Король чувствовал правильность этих советов, но он оставил управление всем маркизу де Лувуа, думая, что военный министр лучше все понимает, чем его два самых лучших полководца. Он полностью понадеялся на министра и следовал его советам до последнего. Принц де Конде и виконт де Тюренн были разгневаны на то, что король послушал не их, а маркиза де Лувуа, и если бы они не приложили свои таланты к исправлению этой ошибки, возможно, наш король не был бы таким могущественным, каким он является сейчас.
Вильгельм III Оранский
Господин де Тюренн, подойдя к Арнему, решил отправить приветствие принцу де Конде и осведомиться о состоянии его здоровья. Это задание больше подходило для слуги, чем для адъютанта, однако он отправил меня, поручив мне сказать ему еще кое-что. Я нашел принца сильно страдающим от полученной раны. Даже разговаривая со мной, он вынужден был прерываться от приступов боли. Именно поэтому я постарался по возможности сократить свой визит, чтобы дать ему отдохнуть, но в это время вдруг появился герцог Мекленбургский, которого в прихожей предупредили о состоянии, в котором находится принц. Узнав об этом, герцог сделал очень грустное выражение лица, но все же вошел, вернее сказать, влетел в комнату как сумасшедший. «Fructus belli!»[93] – закричал он, а потом повторил это еще раз десять, подходя все ближе и ближе к кровати раненого. Если бы я мог остаться в комнате до конца этой комедии, я бы ни за что не ушел. Я очень уважал принца де Конде и должен был что-то предпринять. Все, что было в моих силах, это остаться в прихожей вместе с Дерошем, капитаном гвардии, и попросить последнего войти и посмотреть, чем закончится этот фарс. Но он мне ответил, что я принимаю его за дурака, если думаю, что он станет вмешиваться, что я, видимо, совсем не знаю герцога Мекленбургского, если позволяю себе говорить подобные нелепости.
А в это время маркиз Бранденбургский, привлеченный больше деньгами голландцев, чем призывами принца Оранского, пообещал прийти последнему на помощь[94]. Голландцы же не только разорвали мир, но и убили своего главного министра[95], которого подозревали в связях с нами. Многие тогда попали в немилость, и среди прочих некий Монба, с которым я раньше имел дело из-за одного из моих родственников, которого звали Бринон. За десять тысяч экю, которые он одолжил у своей матери, он ему продал участок земли, который стоил сорок тысяч, под обещание покрыть разницу деньгами. Но контракт не состоялся, так как в нем была тысяча юридических тонкостей, так что несчастный мальчик, ничего не понимавший в процессе, дал ему расписку на сорок тысяч франков, думая, что это облегчит выплату остального. Однако ход дел пошел совсем иначе, Монба привел кредиторов, которые сформулировали свои требования, а Бринон перед тем, как продать землю, указал ему на них как на надежных плательщиков, и это стало новым препятствием. Он довел бедного дворянина до такой крайности, что он обратился ко мне. Я поговорил об этом с Монба, который пообещал все решить в две недели, но сказал, что у него нет денег в Париже и он отдаст их в Голландии, если с ним туда поедут. Он злоупотребил доверием несчастного, завербовал его в свою роту и заставил все подписать. Я был в страшной ярости против него, но ничего не мог поделать, так как все было заверено нотариусом, и он мог десять лет не возвращаться во Францию. Что касается моего родственника, он его сгноил в нищете, не дав ему больше ни су.
Я занимался этим делом и должен был проявить хитрость, чтобы не попасть в немилость. А тем временем господин де Тюренн получил приказ двинуться против маркиза Бранденбургского, наступавшего во главе армии численностью в двадцать четыре тысячи человек с явным желанием перейти Рейн, так как в нашем договоре было написано, что мы не имеем права вторгаться в пределы Германии. Господин де Тюренн ответил, что это старые сказки, в которые он не верит, и его офицеры могут делать что хотят. Ему дали приказ проконсультироваться по ряду вопросов с электором Палатина[96], и он отправил меня к нему. Электор захотел, чтобы я отобедал с ним. Мы хорошо посидели, и я был там не единственным французом. За столом, например, был один шутник, и он применял некие новинки, в частности он говорил, приставляя нечто, чему я не знаю и названия, к уху человека, так что никто из присутствовавших не мог слышать, о чем идет речь. Этот человек был авантюристом, обожающим разные приключения и развлечения, которые он делал за счет господина электора.
Когда он думал, что никто за ним не следит, он прятал с тарелки то крылышко дичи, то целые куски, и прятал их в карман, и так он кормил свою жену, не платя за это ничего. Никто пока ничего не замечал, но, к несчастью для него, хозяин дома увидел, как он взял индюшатину, и сказал на ухо господину электору, что предлагает посмеяться. Тот спросил как, но он ответил, что рассказывать долго, но достаточно будет предупредить французских офицеров на выходе из-за стола, чтобы они не поднимали скандал из-за того, что им скажут. Принц принял это за чистую монету и сделал так, как его попросил хозяин дома, и как только все встали из-за стола, хозяин заявил, что знает, что один из нас нечестный человек, что он прихватил с собой стакан из позолоченного серебра из буфета. Так как мы были предупреждены, как я уже говорил, мы не удивились этим словам. Человек же, о котором шла речь, был вынужден встать в один ряд со всеми, и у него была найдена индюшка в кармане. Он ничего не мог сказать в свое оправдание, но все показал господину электору, и все стали смеяться, что не нашли вора стакана, но зато нашли вора дичи. Господин электор чуть не умер от смеха, глядя на весь этот фарс, и мы тоже. Этот же человек сказал:
– Да, Монсеньор, я взял эту несчастную индюшку, но у меня больна собака, она очень привередлива в еде, и я вынужден о ней заботиться.
Этот ответ был найден великолепным, и господин электор был так доволен, что распорядился дать ему целое блюдо.
* * *
После того как я выполнил порученное мне дело, я отправился к господину де Тюренну. В своем рапорте я ему доложил все, что увидел и услышал, в том числе и о человеке с индюшкой. В это время армия двигалась вдоль Некре, и мы уже находились в одном лье от Вимпфена, и все офицеры принялись смеяться над этим, утверждая, что им не платят нормальных денег и что это такое же плутовство нашего казначея. Казначей был одним из моих друзей, и я предупредил его о том, что происходит. Я сказал, что ему нечего бояться, что есть лекарство от всего, и я ему скажу, что нужно делать. Услышав это, он бросился к моим ногам и стал говорить, что будет мне обязан жизнью, так как он действительно хотел подзаработать на обмене денег. Когда он говорил это, я понял, что он умирает от страха. Увидев это, я спросил его, какие деньги он получил в последний раз. Он ответил, что получил из Страсбурга луидоры и пистоли, а из другого места – двести тысяч франков, и он конвертировал деньги с выгодой для себя.
Когда я услышал это, я посоветовал ему самому сделать платежную ведомость, но так изменить подпись, чтобы ее невозможно было узнать, чтобы, когда господин де Тюренн его вызовет, а этого было не избежать, можно было доказать, что были только такие деньги. А чтобы успокоить офицеров, я посоветовал сказать, что к концу кампании им дадут нормальные деньги или документы на обмен. Он сделал все, как я сказал. И действительно, господин де Тюренн послал за ним, увидел сделанную им ведомость и сообщил офицерам, что тем не стоит возмущаться. Таким образом, казначей не только избежал наказания, которого он так боялся, но и получил большую выгоду, так как маркитанты скупали у него экю, давая за них по два-три су. Казначей был мне так обязан, что пообещал в любой момент дать мне денег, если мне будет нужно[97].
Господин де Тюренн не успокоился, перейдя через Рейн. Он еще переправился через Некре и, вынудив маркиза Бранденбургского уйти за Майн, форсировал еще и эту реку. Я не знаю, почему маркиз так поступил, ведь у него было на треть больше солдат, но, видимо, он боялся проиграть сражение, а посему оставил всю свою страну. Как бы то ни было и кто бы ни начал эту войну, он первым стал искать мира, и ему пообещали уйти с его территории при условии, что он больше не будет вмешиваться не в свои дела. Таким образом, бранденбургский вопрос был решен, и господин де Тюренн вернулся к Рейну. Его войска вернулись такими уставшими, что на них жалко было смотреть. Однако не успели они отдохнуть, как пришлось снова начинать боевые действия, так как король собрался взять штурмом Маастрихт, который он не решился атаковать в прошлом году, хотя в окрестностях города все это время стояла одна из армий.
Людовик XIV во главе французских войск под Маастрихтом
Гарнизон города тоже не решался на активные действия. Во время этого бездействия некоторые офицеры даже просили разрешения пострелять из пистолета, чтобы потренироваться в этом. Среди них был некий Соммардик, который, впрочем, не только стрелял, как другие, но и постоянно совершал вылазки, дразня противника. Этим он хотел показать, что у него есть характер и он ничего не боится, а я лишь посмеивался над ним. И вот тогда, чтобы мне все это доказать, он заявил, что если я сомневаюсь, то могу сам выстрелить в него из пистолета с трех шагов. На эти слова все засмеялись, и он, видя это, вновь предложил мне проверить, правду он говорит или нет. Я отказался, но тогда он сказал, что если я не хочу проверить его отвагу сам, то могу хотя бы посмотреть своими собственными глазами на то, что сейчас произойдет. Сказав так, он вскочил на коня и помчался на расстоянии пистолетного выстрела от крепостных укреплений, просто так, без особой цели. В него было сделано около двухсот выстрелов, но он вернулся невредимым, заявив, что это у него такая забава – прогуливаться под выстрелами врагов. Доставив удовольствие всей армии и мне лично, знавшему, зачем он это сделал, он спросил, верю я ему или по-прежнему не верю. Понятно, что увиденное показалось мне каким-то не совсем естественным, но ему я ответил, что это была случайность, что если он повторит это же завтра, то непременно будет убит.
Тем временем все было готово к осаде Маастрихта, во время которой я по приказу господина де Тюренна отправился в Эльзас и Лотарингию. Проезжая через Бесфор, я нашел там губернатора, который был таким новичком в этом деле, что совсем не мог командовать, и я не мог не сказать об этом своему генералу.
Будучи человеком очень умным, он ничего мне не ответил, но маркиз де Флоренсак, младший сын герцога д'Юзе, после этого спросил меня, откуда я родом, если не знаю, что теперь все вопросы решают женщины, а человек, о котором идет речь, – брат мадам де Ментенон, верной хранительницы секретов мадам де Монтеспан, любовницы короля. Потом он дал оценку и военному министру, заявив, что, что бы мы ни думали, он следовал примеру господина де Кольбера, правившего при мадемуазель де Лавалльер, и господин де Лувуа хотел быть тем же при мадам де Монтеспан, так как он сам посодействовал ей в том, что она дошла до такого высокого положения. Все были удивлены, что он рассуждает о подобных вещах так серьезно, ибо он сам происходил из семьи, в которой было принято говорить невесть что, а он был едва ли не первым в семье, кого можно было назвать храбрым. В самом деле, члены семейства д'Юзе крайне редко бывали на войне, а посему в скандальной хронике утверждалось, что он и не является законным сыном своего отца.
Что же касается господина губернатора, то, как мне сказали, он обязал город делать себе большие подарки, и на него даже хотели пожаловаться королю. Я рассказал об этом маркизу де Флоренсаку, а тот ответил, что этому нечего удивляться, так как этот губернатор прошел отличную школу у маршала де ля Ферте, который был в этом деле таким хорошим учителем, что час учебы у него стоил месяца учебы у любого другого. А потом он поведал мне, чем занимался этот маршал, когда сам был губернатором Лотарингии. Он рассказал мне столько, что, если бы я решился пересказать сейчас все, это заняло бы не меньше двух дней. Однако, среди прочего, я узнал такую вещь, которую трудно забыть, и я хочу привести ее в качестве примера, чтобы было понятно, о чем идет речь. Он рассказал мне, что когда этот маршал приехал в Нанси, видные люди города принесли ему много разных подарков, в том числе кошелек с золотыми слитками, каждый из которых весил как два луидора. Это, с одной стороны, было представлением Нанси, а с другой стороны, это предназначалось на нужды города. Когда все ушли, маршал посмотрел на эти слитки, нашел их великолепными, и ему захотелось иметь еще один такой кошелек. Для этого он послал за членами магистратуры, прикинулся, что ничего не понимает, и спросил, от кого был кошелек. Ему ответили, что это было от города Нанси.
– Вы смеетесь надо мной, – сказал он им, – это совсем не так. Однако вы должны сетовать на себя сами, если у вас все так получилось. Пусть это вам будет небольшим уроком, если не хотите получить большой, и старайтесь больше не ошибаться. А чтобы вы лучше поняли, что я говорю сущую правду, я советую вам побыстрее приготовить еще один такой кошелек.
Члены магистратуры поняли, что это должно было означать, и не стали связываться с ним из-за примерно четырехсот пистолей, а принесли ему еще один кошелек со слитками, на этот раз большими, как медали.
Я не решился доложить об этом виконту де Тюренну, как я обычно рассказывал подобные вещи другим, так как он не любил злословия. Он вообще был до крайности скрупулезным человеком, так что всякие мелкие личности противоположного склада даже говорили о нем, что он – человек из другой эпохи. Однако природа иногда все же дает нам людей, опровергающих подобные мнения. Про них можно было бы сказать, что они походят на отца нынешнего герцога дю Люда, который однажды, в присутствии Марии Медичи, которая попросила вуаль, не удержался и позволил себе довольно рискованный каламбур:
– Корабль, стоящий на якоре, не нуждается в парусе[98].
* * *
Тем временем, когда мы заключили мир с Бранденбургом, это не помешало разгореться огню в Германии. Император, имевший интерес в том, чтобы наш король не подходил так близко к Рейну, заключил множество соглашений с различными принцами, обязав их всех объединиться. Герцоги Брауншвейга были очень довольны такому повороту, так как опасались столь сильного соседа, у других были схожие интересы, и король был вынужден не только послать войска в Эльзас, но и сам поехал туда после взятия Маастрихта.
Мария Медичи
Господин де Тюренн отвечал за эту часть границы, и я жил в Меце рядом с домом, который был выделен графу д'Илю, полковнику кавалерии, чей полк стоял рядом. Так как я чувствовал себя не очень хорошо, я ложился спать рано. Однажды я был разбужен сильным шумом, как будто в доме что-то взорвалось. Я быстро вскочил прямо в ночной рубашке, чтобы посмотреть, что случилось, а потом, поняв, что это на улице, я выглянул в окно и увидел графа д'Иля, звавшего на помощь. Я плохо знал этого полковника, который был каталонцем, но знал, что он стал хорошо жить уже после господина кардинала де Ришельё. Но я оделся, схватил шпагу и не успел спуститься вниз, как натолкнулся на громко кричавшего человека. Я спросил его, можно ли чуть-чуть успокоиться и в чем причина беспорядка. К счастью, это был мой знакомый, мы однажды с ним вместе жили в гостинице в Вердене.
– Да, месье, – сказал он, – будьте судьей, вы военный, и вы мне скажете, что это. Этот господин, поселившийся со мной, слишком много выпил и поел, а потом потребовал, чтобы я доставил ему служанку. Что это значит, за кого он меня принимает? Вы же знаете меня как человека чести.
Уверяю вас, что подобные слова заставили меня посмеяться, хотя сначала я был настроен очень серьезно. Увидев, что собралось уже множество народа, я попросил его уйти, пообещав, что сам все улажу. Ему было трудно согласиться на это, он говорил, что имеет дело с дьяволом, который лишь посмеется надо мной. Я сказал ему, чтобы он ничего не боялся, и он ушел к себе в дом, где мы нашли графа д'Иля, закрывшегося с одной из служанок и требовавшего, чтобы она переспала с ним. Я назвал себя и попросил его открыть дверь, но, видя, что он этого не делает, я сказал, что меня прислал господин де Тюренн и что он меня узнает, сразу как увидит. Я предпринял все меры предосторожности, и, чтобы он не сопротивлялся, я сказал, что господин де Тюренн не знает, что происходит, но скоро может узнать, если шум продолжится. Я попросил его подумать о том, что произойдет после этого, ведь он ненавидел любые беспорядки, а если ему нужна женщина, то завтра у него их будет хоть двадцать, если ему так хочется, но сейчас нужно прекратить дебоширить, что человеку чести не стоит так себя вести, что могут подумать, что он напился, и еще есть время все уладить.
Граф д'Иль, услышав мои слова, немного успокоился, однако люди такого сорта всегда, совершив глупость, не хотят потом в этом признаваться, и он мне сказал, что имеет право так себя вести, но прекратит лишь из уважения ко мне. Подобные слова могли стать началом ссоры, но я все постарался замять, примирив этих двух людей. Я сказал, что они не обязаны жить вместе долго, я заставил их пожать друг другу руки, заверив их, что завтра они выпьют вместе. Хозяин был хорошим человеком и сказал, что, если я хочу, он накормит меня завтраком, а граф д'Иль подтвердил, что тоже хотел бы этого. Эти слова и взаимные обещания позволили мне спокойно уйти. Я снова лег в постель и больше не слышал разговоров ни о каких служанках. Только в войсках кто-нибудь, кто был свидетелем этой сцены, постоянно вспоминал об этом. Это стало причиной того, что бедный граф стал объектом насмешек, и когда его видели, обычно говорили, что вот идет наш друг, чьи намерения всегда так благородны. Кончилось все тем, что граф д'Иль попросил господина де Лувуа отослать его в Каталонию, куда тоже начали направлять войска, так как испанцы, увидев, что мы захватили Голландию, попытались перерезать нам пути сообщения. Однако они не преуспели в этом, что заставило их впредь два раза подумать, прежде чем поднимать руку на такого могущественного противника. Граф д'Иль подумал, что там он сможет скрыться от насмешек, но, напротив, он привез в свою страну и свою репутацию.
* * *
Как бы то ни было, пока он воевал с испанцами, мы готовились к тому, что объявил император, сказавший, что театром военных действий будет Эльзас. Господин де Тюренн укрепил Гагенау и Саверн, не считая Брисака, где были построены новые укрепления. Эти приготовления были большой радостью для военных, так как каждый был уверен в успехе. Что касается меня, бывшего уже слишком старым, чтобы верить в успех в данном ремесле, то я не возражал бы, чтобы побольше подумали о народе, чтобы с голландцами обошлись чуть помягче в их предложениях мира. Но с ними обошлись очень жестко, и они решились последовать за принцем Оранским, который черпал величие лишь в войне и хотел, чтобы она любой ценой продолжалась.
Король, который видел, что у него нет полководца, который лучше бы знал Германию, чем виконт де Тюренн, приказал ему там остаться, а сам стал заниматься странными делами. Дело в том, что англичане, которые сначала были на нашей стороне, оставили нас одних, и король Англии объявил, что не может поступить иначе, что государственные интересы обязывают его это сделать. Морские силы англичан, помогавшие нам, ничего не сделали на море[99].
В этих условиях король был вынужден собрать все до единого, что у него оставалось в королевстве, и направить часть людей в Лотарингию, так как боялся, что местный герцог воспользуется благоприятными обстоятельствами, чтобы туда вернуться[100].
Видя, что начинается такая серьезная война, я стал жалеть, что уже не так молод и, имея обязательства перед моим незабвенным хозяином господином кардиналом де Ришельё, я не так много времени посвящал военному ремеслу, о котором я всегда так мечтал. Однако не надо думать, что меня не видели никогда с людьми моего возраста, напротив, я считал, что их компания не сделает меня старше. У меня была борода и совсем седые волосы, которые я прятал под светлым париком, но потом пошла мода полностью бриться. При господине де Тюренне был некий дворянин, которого звали Буагийо, он носил совсем белую бороду и всегда выглядел по старой моде. Это был мой бич, а так как он ставил себе задачу бесить меня, он все время напоминал мне о начале моей службы у господина кардинала де Ришельё. Это был самый прекрасный период моей жизни, но это невозможно было выносить, ибо он всегда добавлял, что в те времена был совсем ребенком, что его дядя еще укачивал его в колыбели. Тут же все начинали смотреть на меня с удивлением, что я такой старый, а пытаюсь казаться более молодым. Они говорили, что мне, наверное, семьдесят пять лет. Я не знал, что на это и отвечать, часто краснел одновременно от ярости и от стыда, несмотря на то что у меня все было нормально со здоровьем. Все эти разговоры никак не кончались, и всегда находился какой-нибудь дурак, который начинал их вновь, что для меня за счастье было получить какой-нибудь приказ, чтобы сесть в седло. Это была моя слабость, и она меня бесила. В самом деле, очень трудно оставить в стороне самолюбие, и, испытав на себе, что это такое, я перестал насмехаться над другими людьми за их недостатки.
Было настоящим удовольствием видеть приезд офицеров в Лотарингию, это были настоящие дворяне, но их принимали скорее за свинопасов, чем за тех, кем они были на самом деле. Многие из них были все в перьях, и они думали, как и я, что так они будут выглядеть моложе. Однако это было бы неважно, если бы они хорошо несли службу. Но они не умели подчиняться дисциплине, слушаться людей, которые стали их начальниками, людей, которые знали не больше их и совершали непростительные ошибки. Конечно, назначая начальников, старались найти людей, хотя бы знакомых со службой, но многие так давно ее покинули, что они либо вообще ничего не умели, либо все позабыли, и создавалось впечатление, что они вообще никогда не служили.
Герцог Лотарингский, старый и опытный полководец, имея дело с подобного рода людьми, не особенно церемонился. Однажды он напал на штаб маркиза де Сабле, предводителя дворянства Анжу, полностью его разграбил, а самого маркиза взял в плен. Если бы у де Сабле было хоть немного амбиций, это бы его очень расстроило, но он проводил все время в загулах, а в армию прибыл по необходимости. Действительно, он ничего в этом не понимал, а герцог де Сюлли, который был его кузеном, поручил ему кавалерийскую роту. При этом сам герцог был так же ничтожен в военном ремесле, как и маркиз. Я могу смело говорить об этом, не боясь быть обвиненным в злословии, так как все знают, что с ним произошло в Венгрии, где во время сражения при Сен-Готарде[101] он так напился, что не мог сесть на лошадь. Он так и остался спать в своей палатке, в то время как наши войска сражались с турками, что стало известно при дворе, и все стали относиться к нему с презрением. Что касается меня, то я готов был бы поверить, что это все было случайным стечением обстоятельств, что это на самом деле сильный и храбрый человек, но для этого он должен был сделать то, что сделал герцог де Виллеруа, который, опозорившись так однажды и увидев, что все над ним смеются, сделал все, чтобы погибнуть следующей зимой во Франш-Конте.
Возвращаясь же к маркизу де Сабле, скажу, что его отвезли в Страсбург, где герцог Лотарингский отдыхал со своей новой женой, которая была из семейства д'Апремон[102]. Это была очень красивая женщина, но у нее была небольшая оспа, но герцог все равно женился на ней из-за ее красоты. Он проиграл процесс против ее родственников, длившийся очень долго, из-за того, что он не взял предназначавшуюся ему женщину, а предпочел жениться на ее дочери. Маркиз де Сабле, увидев большую разницу в возрасте герцога и герцогини, задумал сыграть на неприязни между ними, решив, что сможет так утешиться в плену, если красавица ответит ему взаимностью. Трудно сказать, преуспел он в этом или нет. Я не могу судить об этом так, как те люди, которые в это время находились в Страсбурге, однако скажу, что он выглядел весьма довольным, но, имея дело с такими людьми, я добавлю, что часто рискуешь ошибиться, когда судишь только по внешним признакам. Как бы то ни было, это не бросило тень на старого герцога, а чтобы все успокоились, скажу, что маркиз де Сабле быстро вернулся во Францию, и он сам облегчил ему отъезд. Другой человек был бы благодарен за это, но де Сабле, едва получив свободу, все сразу обнародовал в Париже, где тут же нашлись желающие его утешить.
Что касается герцога Лотарингского, то, не имея больше никого, кто нарушал бы его отдых, он использовал время, в которое не нужно было воевать, на совершенно особые занятия. Он посещал самых низких буржуа и имел больше удовольствия от общения с ними, чем с людьми своего уровня. Я видел его, когда был в Брюсселе, он танцевал и пел на улицах, сделал большой подарок дочери одного адвоката, в которую был влюблен. Так как в Брюсселе было модно дарить короны из цветов, он преподнес ей такую корону, но еще украшенную бриллиантами. Из этого сделали вывод, что его сердце было тогда весьма серьезно затронуто.
У этой девушки была мать, которая не одобряла того, что она общается с человеком со шпагой, и он часто переодевался в гражданскую одежду, чтобы ее увидеть, и его девушка утверждала, что он был главным судьей из Нанси, а мать ей верила.
Такие переодевания были для герцога обычным делом, и никто особенно этому не удивлялся, но практиковалось и другое, от чего только он один получал удовольствие. Он поселился на улице старьевщиков, и я его видел однажды одетого в такую поношенную одежду, что его невозможно было узнать, и он делал вид, что он старьевщик. При этом он сидел на стуле, беседуя со своим соседом, как будто они старые друзья. Его действительно трудно было узнать, и даже один дворянин остановился и спросил у него, сколько стоит охотничья птица, сидевшая у него на привязи. Герцог сказал, что перед тем, как продавать, он хотел бы ее попробовать, и напустил ее на него, на что все охотно посмеялись бы, если бы знали, что перед ними сам герцог Лотарингский. Но так продолжалось недолго, и его раскрыли. Вдруг приехал герцог д'Аркор с несколькими офицерами, а несчастный дворянин, поняв свою ошибку, вскочил на лошадь, пока они приветствовали друг друга, но при этом унес с собой и птицу. Герцог Лотарингский, не любивший что-либо терять, побежал за ним, но у того было шесть ног против его двух, так что усилия оказались напрасны.
* * *
Возвращаясь к войне, скажу, что враги оказались такими сильными, что господин де Тюренн был вынужден отступить, и они встали на зимние квартиры за Рейном. Наши же войска были разбросаны по разным местам, имея приказ наблюдать за происходящим. Господин де Тюренн оставил в каждом месте опытных людей с тем, чтобы, если что случится, они могли бы справиться сами, чтобы ему не нужно было мчаться туда лично. К тому же невозможно было одновременно быть повсюду, и он предпочел остановиться около Филисбурга, где противник наиболее активно показывал свои намерения.
Лично я так устал за две кампании, что слег больным при штабе господина де Пиллуа, бригадира кавалерии. Я уже думал, что умру, но мне чудом удалось выздороветь. На меня уже почти махнули рукой, но тут один офицер противника, взятый в плен и сидевший в заключении неподалеку от моего жилья, сказал, что поможет мне выздороветь, если у меня есть чем оплатить за него выкуп. Это была такая маленькая сумма, что я даже не стал с ним торговаться. Он сделал мне что-то типа бульона из водки, сахара, перца и какого-то порошка из своей табакерки, и через восемь дней я уже способен был вставать и даже садиться на лошадь. Я был готов ехать к господину де Тюренну, который часто писал мне, осведомляясь о моем здоровье, но господин де Пиллуа не позволил мне это сделать, сказав, что я еще не до конца выздоровел.
Таким образом, пока я остался у него и за это время успел оказать ему одну услугу, которая, без излишней скромности, сделала мне отличную репутацию. Дело в том, что враги осаждали небольшой город Хомбург, а так как он вынужден был обороняться, для подмоги были собраны войска, находившиеся поблизости. Набралось всего две с половиной тысячи человек, хотя все думали, что их будет не менее семи-восьми тысяч. Был собран военный совет, и каждый на нем сказал, что в таких условиях ничего невозможно сделать, не подвергая наши войска большой опасности. В этот момент я взял слово и заявил, что хитрость порой бывает важнее силы, а потом я предложил вариант, принесший такой успех, который я и сам не мог ожидать.
Я предложил отправить человека с письмом к губернатору Хомбурга, в котором говорилось бы, что удалось собрать десять тысяч человек и господин де Пиллуа идет с ними на выручку осажденному гарнизону, что он будет завтра к двум часам дня и надо лишь продержаться до этого времени, чтобы посмотреть, как враг будет разбит. Это было всего лишь письмо, но его нужно было передать не губернатору, а сделать так, чтобы оно попало в руки того, кто командовал осадой. При этом человек, который понесет письмо, ничего не должен был знать о моем замысле. Поэтому, хорошо все продумав, я сказал господину де Пиллуа, чтобы он послал за самым богатым человеком в округе. Этому человеку сказали, что если он не доставит письмо, то ему не только сожгут дом, но и самого повесят. Господин де Пиллуа подтвердил, что пройти через позиции противника будет очень трудно, но это обязательно нужно сделать или погибнуть. Одновременно с этим я пообещал хозяину своего дома, который в душе был французом, щедрое вознаграждение, если он сделает следующее: он должен был пойти вперед, дождаться гонца на дороге, сказать, что им по пути, и пойти вместе с ним.
Так и произошло. Они встретились, и тот, кто нес письмо, рассказал о своем задании, о том, что он в любом случае погибнет, так как его примут за шпиона, и этого невозможно избежать, а не выполнить задание он не может, так как в руках господина де Пиллуа остались его жена и дети, и он грозит поджогом дома и смертной казнью. Он сказал также, что все попытки бесполезны, что он обречен и полностью отдает себя на усмотрение Господа, не имея ни малейшего выбора.
Подготовленный хозяин моего дома «вошел в его положение» и стал обвинять господина де Пиллуа в жестокости. Однако потом он сказал гонцу, что, если бы он был на его месте, он пошел бы к тому, кто командует осадой и все рассказал бы ему про угрозы и про письмо. Далее все просто – ему либо позволят его доставить, либо не позволят, но в любом случае его жизнь окажется в безопасности, а заодно и жизни жены и детей, так как господин де Пиллуа подумает, что его схватили при выполнении его задания, а враги ему ничего не сделают, увидев, что он сдался им добровольно. Гонец нашел этот совет великолепным выходом из положения и принялся благодарить за него. Потом хозяин моего дома оставил его и пошел другой дорогой, а сам вернулся назад к господину де Пиллуа, который двигался к Хомбургу со своими двумя с половиной тысячами солдат. Он обо всем доложил ему, и мы стали ждать, поверят ли враги, получив письмо, в его содержание, тем более что гонцу дополнительно и на словах подтвердили, что к осажденным идет очень мощное подкрепление. К счастью, все так и получилось, и противник, не дожидаясь нашего подхода, отступил.
Мы узнали об этом, когда были в трех лье от осажденного города, и господину де Пиллуа оставалось лишь получить потом письмо из Парижа с поздравлениями от двора за столь блистательный успех. Мало кто знал, что это была моя идея, но так как он был генералом, именно он и получил все награды, соответствующие его должности. При этом должен отметить, что это был прекрасный кавалерист и в армии было мало людей, знающих кавалерию лучше него. Он продемонстрировал это через некоторое время, когда отказался идти в атаку, в которую его посылал господин де Вобрюн в день сражения у Зинсхайма. Он это сделал потому, что предвидел, что противник опередит его, а посему предпочел подождать, пока тот выдвинется вперед. Я не хочу утверждать, что в бою нужно именно так и поступать, ибо на войне всегда следует выполнять приказы вышестоящего начальства. Однако этот случай наглядно показал, что господин де Пиллуа разбирается в своем ремесле гораздо лучше господина де Вобрюна, а посему его не наказали за неповиновение, напротив, ему дали пенсию в тысячу экю, так что он не мог потом говорить, что, прослужив столько лет, не получил того, на что можно было бы жить остаток жизни.
* * *
После окончания экспедиции, о которой я только что говорил, один офицер пришел ко мне с просьбой: он ввязался в ссору с господином де Монперу из Руэргского полка, грозившим перерезать ему горло, и он предложил мне быть его секундантом. Однако я, вместо того чтобы идти сражаться, как он хотел, сделал все возможное, чтобы помешать ему проиграть. Этот господин де Монперу был очень храбрый малый, и было весьма трудно приспособиться к его характеру. С ним случались казусы, над которыми все смеялись, но ни один из них не был таким смешным, как то, что король дал ему командование своим полком. Дело в том, что после того, как король ему сказал, что он его ему доверяет, он его попросил дать полку название одной из провинций королевства, что было распространено только для старых частей, добавив, что он так мало значит в своей провинции, а если полк будет просто носить его имя, не будет желающих туда вступать. Король нашел этот запрос весьма странным, особенно от гасконца, обычаи которых всегда скорее заключались в похвальбе, чем в неверии в себя. Как бы то ни было, он не отказал ему в просьбе, и господин де Монперу служил с большим мужеством до того момента, когда наконец случилось то, что обычно бывает с теми, кто часто и долго воюет, я хочу сказать, до того момента, как он был убит.
Я был в возрасте, как я уже столько раз говорил, что жизни мне оставалось немного, но я не видел необходимости жертвовать в мои последние дни своей репутацией. Однако то, что я сделал для этого человека, который пригласил меня к себе быть секундантом, дало повод моим врагам говорить, что я – несчастный человек, а следовательно, бессердечный. Если бы я был таким же безумцем, как прежде, я доставил бы много неприятностей всем этими клеветникам, но, кроме того что возраст уже не так горячил мне кровь, Бог и король запрещали месть, и я выбрал другой способ показать, что у меня больше сердечности, чем у них самих. При первой же возможности, которая представилась, я попросил этих двух господ пойти со мной, чтобы посмотреть на противника, и я повел их так далеко, что они стали говорить, что мне специально дали денег, чтобы их погубить. Я заявил, что удивлен тем, что они так боятся, притом что они так быстры в осуждении других, что я не собираюсь возвращаться (а мы уже приблизились к зоне обстрела очень близко), но они, если боятся, могут меня покинуть. Я действительно взял бы реванш, если бы по возвращении в лагерь рассказал моим и их друзьям, как они меня бросили. В результате они предпочли молчать, так как человек, и они это видели своими собственными глазами, так презирал жизнь. В действительности же я был очень несчастен из-за того, что стал предметом всяких разговоров из-за такой ерунды, ибо сегодня, когда происходят подобные приключения, об этом уже так не злословят. Каждый знает, что маркиз де Креки вызвал одного полковника на дуэль, а этот полковник вместо того, чтобы выразить готовность, как он пообещал, предупредил отца этого маркиза, который был генералом в армии, и они оба пошли на встречу, где нашли маркиза де Креки с его секундантом. Кто был больше удивлен? Конечно же сын, увидевший своего отца, от которого он не мог скрывать цель назначенной встречи, и он бросился к его ногам и пообещал к этому больше не возвращаться. В остальном же, так как в мире есть только черное и белое, все нашли, что этот полковник поступил как мудрый человек.
Однако судьбе было угодно, чтобы я имел возможность еще раз показать всем, что у меня на сердце. Речь идет о некоем фанфароне, которого звали Шатободо, который считался яркой жемчужиной среди самых отважных храбрецов. Я имел на него зуб, а посему старался не общаться с ним, чтобы не дать себе удовольствия с ним повздорить. И он тоже в отношении меня вел себя достаточно спокойно. На самом деле он не был так храбр, как о нем говорили, я же всегда искал возможность рискнуть жизнью, и такой случай мне вдруг представился именно тогда, когда я этого меньше всего ждал.
Вернувшись в армию во время следующей кампании, я прибыл в Сен-Дизье, где тогда находилось так много войск, что я рисковал остаться на улице, если бы не нашел доброго хозяина дома, который за экю сдал мне комнату. Я сложил у него свои пожитки и пошел навестить некоторых своих друзей-офицеров. Однако, пока я прогуливался вместе с ними, господин де Шатободо прибыл в тот же дом, где я уже поселился и, не найдя свободной комнаты, взял и вынес из моей комнаты мои пожитки, а сам в ней расположился. Я узнал об этом, когда вернулся домой. Я не мог и представить, что за человек посмел так поступить, а посему быстро поднялся наверх, чтобы с ним увидеться. Если я был удивлен, увидев его, то и он был удивлен не меньше меня, когда увидел, с кем имеет дело.
Не желая давать ему время для извинений, я закрыл дверь на засов и объявил ему, что занял эту комнату за два часа до него, что эта комната моя, а он должен убираться на улицу. Одновременно с этим я выхватил шпагу, не сомневаясь, что он в ответ сделает то же самое. Однако я был сильно удивлен, когда вместо того, чтобы защищаться, он вдруг заговорил, что не хочет ссориться, что признает, что был неправ, и в доказательство этого готов унести свои вещи, если я ему это позволю. Мне стало жаль его, и я вставил шпагу в ножны, сказав ему, что, по крайней мере, теперь это будет ему уроком на всю оставшуюся жизнь, что я в жизни повидал немало, но тем не менее никогда не позволял себе поступать так, как он, хотя имел для этого массу возможностей. А еще я сказал, что я не стану никому говорить, что у него нет мужества, но у меня еще есть время узнать, исправится ли он.
Так я остался хозяином комнаты, что, не скрою, доставило мне немалое удовольствие. Признаюсь, я хотел большего, но нашел в себе силы, чтобы простить обидчика, чего никогда раньше я делать не умел. Этот случай стал причиной того, что господин де Шатободо оставил нашу армию и перешел служить в армии господина Шомберга, который командовал в Каталонии. Там он возглавил роту Гасконского кавалерийского полка, но, так как он слишком любил удовольствия, однажды он оставил место службы, чтобы поехать к своей любовнице, а на обратном пути его убили микелеты[103].
* * *
Что касается меня, то я продолжал оставаться адъютантом, которого король мог назвать старикашкой, как маркиза д'Аньо или маркиза д'Арси. Однако я был еще очень силен, и господин де Тюренн иногда говорил мне, что жаль, что я начал так поздно в этой профессии, а то из меня могло бы кое-что получиться. В самом деле, я сменял в день по три-четыре лошади, я был как безумный, и меня стали часто называть маленьким генералом армии. Я не заслужил это прозвище трудом, я получал удовольствие от службы, и я знал лишь одного человека, который был недоволен мной. Но я оставляю читателям судить, было ли это по моей вине, и хочу взять всех в судьи этой ситуации.
Был в Аркурском кавалерийском полку один дворянин, которого звали Белльбрюн, у которого я раньше знал отца, который был капитаном в гвардии. Я знал его так хорошо, что надеялся, что он мог бы рассказать сыну о моих представлениях о правилах поведения. Я много раз предупреждал его о некоторых вещах, которые не должны были способствовать улучшению его репутации. В самом деле, он был очень развращенным, а когда он нашел очень порядочную женщину, он не мешал себе видеться и с другими, даже с самыми низкопробными. Это могло производить только плохое впечатление, и с ним произошло то, о чем я его много раз предупреждал: на него стали смотреть в полку как на человека, с которым опасно водить компанию, так как было несколько дел, из которых он не смог выйти с честью. Он не отличался особой отвагой, или это его напрягало так, что он был не в состоянии служить и попросил меня поговорить об этом с господином де Тюренном, чтобы получить от него разрешение уехать. У нас под носом был противник, и, решив, что сейчас не время уезжать, я сказал ему все, что думаю об этом. Он мне не захотел поверить и, видя, что я отказываюсь об этом говорить с господином де Тюренном, решил поговорить с ним сам. Однако господин де Тюренн сказал ему то же, что и я, после чего, будучи недовольным, он уехал, не получив отпуска ни у кого. Я имел право сказать ему то, что я сказал. Я дал ему два дня, а потом я не побоялся рассказать об этом господину де Тюренну.
Господин де Тюренн, который тоже был весьма добрым человеком, тоже сказал подождать два-три дня, но тот так и не одумался. Бог свидетель, что я ничего не говорил против него, напротив, я даже пытался его оправдать, когда господину де Тюренну доложили о его проступке. Однако он все свои неприятности почему-то свалил на меня, и из Парижа, где он находился, мне сообщили, что он угрожал мне. Я счел это сущей безделицей, так как не имел оснований его опасаться. Но очень скоро я понял, что не всегда самые смелые являются наиболее опасными, напротив, больше всего опасаться следует именно трусов.
Я понял правдивость этих слов через некоторое время. Это еще не было возвращением из кампании, но как-то вечером, когда я прибыл в пригород Сен-Жермен, на меня напали трое с обнаженными шпагами, и я его узнал во главе двух других. У меня еще оставалось достаточно хладнокровия, чтобы спросить, возможно ли такое, что дворянин позволяет себе такую подлость. Но он таковым был уже давно, доведя свою жену до крайней нищеты, он разорился сам, был вынужден податься в жандармы, среди которых я не хочу сказать, что нет порядочных людей, но там встречаются отдельные персоны, которых не особенно пугает преступление. Он скомпрометировал себя и там, и по их совету он решился на такой способ мести. Однако я был более озабочен тем, что час был неподобающий, так что я не мог надеяться на помощь в том месте, где они меня подстерегли. Но я имел дело не с самыми отважными людьми, чтобы испугаться. Я встал спиной к одному магазинчику, чтобы не дать им возможности напасть на меня сзади. Когда я думаю об опасности, я удивляюсь, как они могли решиться на такое злодеяние и не взяли никакого другого оружия.
Таким образом, Бог помог мне, дав мне время суметь спастись, я держал их на расстоянии вытянутой шпаги до тех пор, пока не появилась какая-то карета, и это была карета герцога де Ледигьера. Когда мои противники увидели факелы, они убежали, и господин герцог де Ледигьер, который сидел в карете, узнал меня, приказал остановиться и спросил, что происходит. Я не хотел говорить ему имени того, кто на меня напал, считая еще, что это не совсем потерянный человек, принадлежащий все же к благородному роду. Я лишь сказал, что был атакован тремя неизвестными и что, если бы не он, все могло бы очень плохо кончиться. Он вышел из кареты, и мы прошли пешком две или три улицы, никого, впрочем, не обнаружив.
Но так как этот день был днем приключений, мы услышали, приближаясь к новому дому, построенному еще лишь наполовину, жалобный голос какой-то женщины. Господин де Ледигьер приказал своим лакеям войти в это здание, чтобы посмотреть, что там происходит. Сами мы последовали за ними и увидели сцену, которая нас очень удивила. Мы увидели хорошо одетую девушку, с красивой фигурой и с маской на лице, которая рожала одна, с помощью лишь одной девушки, которая не выглядела большим специалистом в этом деле. Мне стало жаль эту несчастную, и я сказал несколько слов, которые многие знают, но господин де Ледигьер, который не так разбирался в этом, стал лишь смеяться над этой авантюрой, не забыв попросить девушку снять свою маску. Я даже думаю, что без меня он сам сделал бы это и наговорил бы массу всего, что было способно ввести в отчаяние любого. Мне стоило большого труда увести его, но я все же помог этой несчастной, которая никогда бы не родила без этого. Так как я видел, что она умирала от страха быть узнанной, если бы все это продолжилось дольше, она пропала бы. Из любопытства на следующий день я пошел в этот квартал, чтобы попытаться найти девушку, одетую таким странным образом или с такой фигурой. Лишь потом я узнал, что мадемуазель, о которой шла речь, была дочерью одного советника, которая считалась весьма целомудренной. Ее ребенок потом был представлен как дитя служанки. Если бы я захотел, я мог бы пролить свет на это дело, но счел, что не стоит губить бедную девушку, которая, без сомнения, совершила в жизни ошибку, и я промолчал, никому никогда не рассказав то, что рассказываю сейчас.
* * *
Однако то, что у меня произошло с Белльбрюном, дало мне повод подумать о своей безопасности, и я готов был даже пойти к господину принцу де Субизу, его начальнику, которому я имел честь быть настолько известен, что вполне мог надеяться найти справедливость. Но, подумав, я решил, что имею дело с жалким типом и мне лучше будет промолчать, но при этом быть осторожнее. Я стал приходить домой раньше, чем обычно, а если приходилось задерживаться, то я брал с собой целый отряд, который сопровождал меня до самой двери. Таким образом, я избежал ловушки и засады, которые мне могли устроить, а мой противник был слишком труслив, чтобы атаковать меня среди бела дня.
Вот уже три года, как я вновь начал участвовать в войнах, и за это время я стал таким специалистом, что сумел собрать всю свою ренту за три года, что было уникально для тех времен, когда гораздо лучше умели тратить. Еще я получал свои сто экю каждые шесть недель, положенные мне за службу, а еще я питался за одним столом с господином де Тюренном, так что денег я не считал. Однако в один прекрасный день я захотел их выгодно разместить, заговорил об этом с одним моим знакомым, и он мне сказал, что нужно идти дальше. Потом он предложил мне вариант: я даю ему деньги, а он добивается для меня части некоей ренты, которую имел один дворянин из Прованса, которому он в свое время одолжил двадцать тысяч франков, чтобы тот купил себе должность губернатора.
Вариант показался мне весьма интересным, и я сам отнес ему свои деньги, хотя до этого я хотел вложить их в какой-нибудь фонд или, по крайней мере, в муниципальную кассу города. Действительно, лучше бы я так и поступил, но моей судьбе, видимо, было угодно, чтобы я всегда оставался нищим. Короче говоря, я не получил ничего, так как должник вскоре умер, а король отдал губернаторскую должность господину де Бриссаку, майору своих телохранителей. Я так плохо продумал меры предосторожности, что вместо гарантий от того, кому я лично дал все свои деньги, я довольствовался тем, что получил человека, его замещающего. Все мои ходатайства пошли на стол к господину де л'Арбусту, члену правительства, но так как у государства и без меня было множество долгов, вся моя компенсация оказалась следующей: король обязал господина де Бриссака мне заплатить, но тот подключил своих влиятельных друзей и смог доказать, что заплатить не может. При этом мне сказали, что не стоит этим огорчать короля, который, получив от майора деньги за должность, будет тогда обязан заплатить мне из своей казны. Таким образом, мои деньги были потеряны, и я лишился всякой надежды на успех.
* * *
Возвращаясь же к моим прочим делам, скажу, что начался 1675 год, и я стал готовиться к возвращению в армию к господину де Тюренну. Он покрыл себя неувядаемой славой в предыдущей кампании. Он дал четыре сражения в таких неравных соотношениях сил, что любой другой их проиграл бы. Но его предусмотрительность и знания заменили ему нехватку солдат, и в последнем сражении он с двадцатью пятью тысячами человек прогнал за Рейн немцев, которых было как минимум семьдесят тысяч. В других местах, где шла война, она также была успешной для нас. Король захватил Франш-Конте, и господин принц де Конде, который противостоял принцу Оранскому, разбил его в кровопролитном сражении у Сенефа, а потом заставил снять осаду Уденарда. В этих боевых действиях погибло бесконечное множество людей, и мир стал выгоден обеим сторонам.
Но тут появилось препятствие, маркиз де Грана вдруг захватил принца Вильгельма Фюрстенбергского[104], нынешнего архиепископа Страсбургского, и это прервало все переговоры, которые уже шли во славу христианства. Он был переправлен в Нойштадт под хорошей охраной, а так как Леопольд I знал, что он был вовлечен в чужие интересы и считался противником империи, он решил от него отделаться. Дело в том, что этот принц был из Кёльна и действовал от имени местного курфюрста, своего друга, у которого он устроился при его дворе и стал советником во всех делах, так что желание убрать его, чтобы заменить кем-нибудь другим, уже давно созрело. Все были удивлены подобным поворотом событий, особенно в том, что касается императора, который всегда считался весьма далеким от любых насильственных действий. К сожалению, некоторые министры насоветовали ему лишить принца Вильгельма влияния, и если бы император был не таким набожным, принца бы уже давно не было на этом свете. Действительно, для решения его вопроса собрались на следующий же день. С одной стороны, хотели придать этому некоторую форму суда. С другой стороны, не желая по-настоящему рассматривать его дело, император захотел, чтобы присутствовало всего три министра, среди которых был принц Лобковиц. В результате принц Вильгельм осужден на смертную казнь с отсечением головы, но было решено, что казнь произойдет тайно, чтобы народ не видел ее и узнал обо всем, когда дело уже будет сделано.
Однако принц Лобковиц[105] не подписал это решение либо из жалости, либо потому, что он получал деньги во Франции, как утверждали его враги, либо потому, что прекрасно понимал, что эта акция будет постыдна для его хозяина. Более того, он предупредил папского нунция[106], которого он попросил встретиться с императором и пригрозить ему гневом Ватикана. Нунций, имевший приказ Римского Папы посредничать с целью освобождения принца, потребовал аудиенции у императора и очень удивил последнего своим знанием всех деталей происходившего, о которых никто не должен был знать. Император спросил его, от кого он это узнал, и сделал все, чтобы найти ответ на этот вопрос. Однако нунций ответил, что он не расскажет ничего, но при этом он еще раз попросил императора подумать о последствиях, которые может иметь это дело. Как я уже говорил, император был набожным и деликатным человеком, он не мог навлечь на себя гнев Римского Папы, и он решил отменить казнь принца Вильгельма, ограничившись тем, что оставил его в тюрьме. Этим он сослужил принцу хорошую службу, ибо тот выбрал профессию священнослужителя, чего, собственно, и хотел нунций, чтобы его спасти, доказывая императору, что тот не имеет права убивать человека, посвятившего себя церкви, и что священнослужителей может наказывать только сам Папа.
Как бы то ни было, если принц Лобковиц нашел способ спасти принца Вильгельма, то себя он погубил. Император понял, что только он мог передать тайную информацию, приказал задержать его и его секретаря, и им был задан ряд вопросов. Никто не знает, с какой степенью пристрастия их допрашивали, но тут в процесс вмешалась еще и императрица, которая не любила Лобковица за то, что он высказывался против ее брака. Действительно, он породил массу неприятностей той, кто разделяет сегодня императорский трон, и если бы она умерла чуть раньше, он, возможно, нашел бы способ выбраться из своего сложного положения. Но тогда все стали его противниками, прислуживая императрице, он был сослан в один из своих замков, где его строго охраняли, а потом, как говорят, отравили ядом.
Все эти события настолько занимали всех, что вопрос о мире отошел на второй план, война возобновилась, и никто уже и не надеялся, что она быстро закончится. С обеих сторон велись масштабные приготовления, чтобы попытаться перетянуть фортуну на свою сторону
Тем временем Голландия совершенно истощилась, что во многом было связано с ошибочными действиями Испании. Например, вместо того, чтобы вручить управление всеми провинциями одному опытному в военных делах человеку, делами правил герцог де Виллаэрмоса[107], который был всего лишь простым капитаном кавалерии, неспособным противостоять великим полководцам, которые имелись у нашего короля. У противника была и другая беда: у него не было денег для снабжения армии и ведения кампании зимой. Все это говорило о том, что голландцы хотят мира, по крайней мере так все думали, но их министры словно смотрели на все какими-то другими глазами, и смертоносная война продолжалась к неудовольствию всей Европы.
* * *
Я занимал все ту же должность, и в моем возрасте трудно было рассчитывать на что-то иное. Узнав, что господин де Тюренн должен уехать на несколько дней, я поехал вперед в своем маленьком экипаже. Проезжая через Куртенэ, я встретил одного офицера из полка маркиза де Грана, которого звали Кюйетт, который был взят в плен в сражении у Сенефа. Он вел в Германию около пятидесяти солдат, которые имели ту же судьбу, что и он. Этот офицер жил в гостинице, и там-то мы и познакомились с ним. Это был очень честный человек, он сказал мне, что он из Лотарингии, был пажом нынешнего герцога Лотарингского. Он составил мне очень приятную компанию, но, как потом выяснилось, она весьма дорого мне стоила. Так как когда мы прибыли в Бар-сюр-Сен, он мне сказал, что у него кончились деньги и что господин де Лувуа заставляет его уже много дней ждать своего паспорта, что он его получит только в Меце, и что ему доставит большое удовольствие, если я сопровожу его и его людей туда, и что, прибыв туда, он мне все тут же вернет.
Я согласился, я сделал для него то, что не сделал бы для человека моей нации, если бы только не знал его очень хорошо. Я дал ему все, в чем он нуждался. Но, прибыв в Мец, он мне сказал, что человек, которого он надеялся там найти, уехал из города, и он не может сдержать слово, которое он мне дал. Он попросил продолжить мою помощь и одолжить ему еще денег, чтобы добраться до Страсбурга, что там он знает тысячи людей. Мне и в голову не пришло, что это очередная сказка, чтобы выманить у меня денег, и я снова дал ему то, что он просил. С тех пор я о нем ничего не слышал, и то, что я сейчас рассказываю, это единственное, что я могу сделать, предупредив тех, кто читает эти мемуары, что словам господина Кюйетта нельзя верить.
* * *
Наконец господин де Тюренн вернулся в свою армию, и у меня не стало больше времени вспоминать об этом господине из Страсбурга по имени Кюйетт. Нам пришлось перейти через Рейн, чтобы обезопасить себя от того, чтобы местные жители не отдали противнику мосты, но так как все окрестности города были разорены, тут же возникли трудности с фуражом, и в течение пятнадцати дней наши лошади питались только травой, собранной вокруг лагеря. Противник чувствовал себя гораздо лучше нас, но зато у нас был великий полководец во главе. Среди немцев же был лишь один, которого нельзя было назвать полным дураком, и он продемонстрировал нам это во время первой кампании, когда он, делая вид, что идет с одной стороны, пошел с другой стороны, а в результате был отброшен к Бонну, где мы ничем не могли ему помочь.
Смерть Тюренна
Как бы то ни было, после того, как обе армии очень долго и трудно маневрировали, они подошли так близко друг к другу, что стало казаться, что уклониться от столкновения уже невозможно. К великому сожалению, в этот момент господин де Тюренн был убит[108] выстрелом из пушки, и произошло это из-за ошибки господина Сент-Илера, генерал-лейтенанта артиллерии. Я говорю об ошибке потому, что господин де Тюренн сказал ему пойти вместе с ним на разведку, чтобы посмотреть, где можно поставить батарею, а генерал, забавляясь, надел красный плащ, из-за чего враги тут же догадались, что это были офицеры, и они стали стрелять по ним.
Другой на моем месте постарался бы представить здесь степень отчаяния во всей армии после этого несчастного случая. Но в действительности мое горе было таким большим, что я даже не мог обращать внимания на других. Однако я знаю, что все смешалось, и все стали думать, что все потеряно, тем более что маркиз де Вобрюн и граф де Лорж, когда нужно было согласовывать свои действия, стали заниматься интригами, чтобы перетянуть всех офицеров на свою сторону. Это было губительно для армии, если бы подобное продлилось еще пару дней, но нашлись мудрые люди, которые объяснили им, что в таких условиях нельзя заниматься интригами, что нужно спасать короля, если дела пойдут плохо по их вине, и отдать командование в руки высших офицеров.
Мы начали отступать к Рейну, где у нас был понтонный мост. Мы оставили много населенных пунктов, сжигая их за собой и превращая мельницы в пепел. Противник быстро узнал о смерти господина де Тюренна, он двинулся за нами и остановил нас при переправе через небольшую речку. Мы упрямо оборонялись, причем одни были возбуждены смертью своего генерала, а другие – надеждой на то, что противник потерял своего командира, но ни те, ни другие так и не смогли преуспеть в своих намерениях. Немцы после перехода через речку потом снова вернулись за нее, оставив много людей, и это стало причиной нашей победы в тот день. Однако мы вынуждены были, несмотря на этот успех, продолжить отступление, а противник преследовал нас до самого Рейна, и мы переходили через него у него на глазах.
Так как моя служба закончилась со смертью господина де Тюренна, я хотел уехать, и многие люди думали о том же, но мы представляли собой войско, способное защищаться в случае, если нас атакуют. Мы были с четырех сторон окружены людьми, желавшими нам зла. Немцы тоже перешли реку вслед за нами и делали на нас набеги. Действительно, имперские войска вторглись в Эльзас, но они не представляли собой единой армии, а были разрознены. Это было наше счастье, иначе все мы могли бы попасть в плен.
Едва мы отбились от одного отряда, как тут же натолкнулись еще на один численностью примерно в триста сабель. Я был удивлен, а те, кто бежал, даже не успели сдаться. Враги обратились ко мне, чтобы узнать, кто мы такие. Богу было угодно, чтобы я не потерял хладнокровия при этой встрече, и я сказал, что я из гарнизона, что мне нужно поверить и я могу показать свой паспорт. Они поверили и отпустили нас. Правда заключается в том, что знание немецкого языка, на котором я говорил почти так же хорошо, как на своем родном, поспособствовало мне в этом деле.
Так счастливо отделавшись, я продолжил движение, прибыл во Францию, где все были уверены, что все потеряно со смертью господина де Тюренна. Даже король вынужден был обратиться к господину принцу де Конде, который был во Фландрии, срочно прибыть на помощь армии в Германии. Это не помешало немцам осадить Гагенау, но принц де Конде подоспел вовремя, и они сняли осаду. То же самое произошло под Саверном, который обстреливали три дня из орудий, забрасывали бомбами. Это немного ободрило королевство, увидевшее, что успех еще возможен[109].
Я уже прибыл ко двору, когда пришли эти хорошие новости. Смерть господина де Тюренна все стояла перед моими глазами, и если бы Богу было угодно мое одиночество, я думаю, что я готов был уйти в монастырь. Но я к этому всегда имел неприязнь, и мне оставался лишь пример этого великого человека. Это удивительно для человека, которому уже было семьдесят лет, быть так привязанным к жизни и не мочь от нее отказаться. Но, по правде говоря, я не выглядел на свой возраст, как я уже, кажется, говорил, и я не избегал женщин. Действительно, я даже стал причиной того, что один дворянин из Пикардии, имя которого я позволю себе умолчать, стал сгорать от ревности к своей жене. Став совсем больным, он переоделся в монаха-францисканца, потому что знал, что она часто ходит на исповедь к представителям этого ордена. Он подговорил ее лакея, чтобы, когда она пошлет его за своим обычным исповедником, он сказал, что тот заболел, но вместо себя прислал своего коллегу. В одежде монаха он вошел в ее комнату, где его невозможно было узнать из-за недостатка света, и стал играть свою роль перед ней. Вместо того чтобы принимать исповедь, он стал выяснять, нет ли у нее привязанности ко мне, а она не могла понять, почему, несмотря на то что она отвечает, он в сотый раз спрашивает ее одно и то же. Он попытался еще разузнать что-то по поводу своих прочих подозрений, и, если верить тому, что она потом рассказала, он не узнал ничего, кроме того, что и так все знали. Но она узнала его по голосу, хотя он и предпринял все меры предосторожности. Однако она была достаточно умна, чтобы не показать этого, так что они обманули друг друга в том, что является самым святым в религии: один, пожелав узнать, верна ли она ему, другая, чтобы вылечить его от болезни, которая грозила повредить его рассудок.
Пока я таким образом проводил время, войска короля отбивались от противника, который уже собирался вступить на территорию королевства. К сожалению, смерть господина де Тюренна оказалась не единственным несчастьем, свалившимся на нас, вдобавок при Триере маршал де Креки[110] был так бит, что трудно даже вспомнить о другом подобном разгроме. Он отправил всю свою кавалерию за фуражом, а когда появился противник, ему просто не с кем было сражаться, и враг прекрасно воспользовался этим. Почти четыре года я вел приятный образ жизни, отдыхал, но это было так страшно скучно, что я решил опять пойти на войну, если представится хоть какая-нибудь возможность. Но все меня знали, и мне было стыдно обращаться к кому-либо в моем возрасте, и я предпочитал оставаться, ничего не делая. Не знаю, это ли сделало меня совсем больным, но это скоро стало весьма опасно, что даже подумали, что я уже не выкарабкаюсь. Я болел дизентерией, но я был еще так силен, как не был и в двадцать пять лет. Я и не подозревал, как мне плохо, и лишь мой камердинер рассказал мне об этом, когда я увидел, что он плачет, как ребенок, из-за того, что хирург сказал, что со мной все кончено. Я сказал «хирург», так как заболел я в деревне, и обычный врач уже находился далеко, и я за ним не посылал. После этого я послал за носилками в Париж, от которого я находился в двенадцати лье. Прибыв туда, я обратился к доктору Жонке, у которого я обычно лечился, и первое, что он меня спросил, не предавался ли я разврату. Я спросил, что он имеет в виду, так как я знал множество способов подебоширить и прекрасно относился к женщинам. Но он сказал, что имеет в виду вино, что от него ничего не нужно скрывать. Я ответил отрицательно, и тогда он сказал, что еще есть надежда, хотя он ничего не может гарантировать, так как я уже немолод. Он посоветовал мне послать за священником. Я поверил ему и отдал себя на волю Господа.
Пять месяцев потом я пил лекарства. В это трудно поверить, что человек, которому уже был почти семьдесят один год, мог так долго сопротивляться болезни, которая губит и значительно более молодых. Но Бог свидетель, что я не лгу. Как бы то ни было, после многочисленных консультаций мой врач сказал, что он использовал уже все, что знал в медицине, что он не может больше ничего сделать, что все лекарства могут скорее добить меня, чем облегчить мое состояние. Он сказал, что является моим другом больше, чем просто доктором. Хотя мой возраст и моя болезнь пугали меня, я попросил его просто иногда заглядывать ко мне. Но так как это был хороший человек, он не стал брать с меня больше денег, и, хотя моя болезнь длилась еще четыре месяца, он продолжал наблюдать за мной. Действительно, я принял такое количество всяких лекарств, но они не помогали, а потом решил обратиться к одному капуцину, про которого мне сказали, что он восхитительный человек. Придя к нему, я пожаловался, что очень давно страдаю, и думал, что он начнет утешать меня, но он с безжалостным видом сказал мне, что видел людей, которые страдали значительно дольше меня, что господин герцог Люксембургский болел такой же болезнью четыре года и что со мной может быть то же самое. Если бы я мог побить его за такие слова, я сделал бы это, но я был так слаб, что малейшее дуновение ветра могло меня свалить. Тогда я спросил его, может ли он посоветовать мне что-нибудь, что дало бы мне облегчение, что я устал, что восемь месяцев я почти не сплю. Он принес мне на следующий день некий чудесный сироп, прекрасный по вкусу. После него я спал двенадцать часов подряд и, придя потом к нему, сказал, что не видел ничего подобного в жизни. Но пока играть победу было рано. Другие его лекарства не имели такого успеха. Я отказался от услуг капуцина, как отказался и от других, но тут в Париже появилась мадам д'Ор, сестра маркиза де Фёкиюйера. Я был знаком с ней и с ее мужем, который был очень храбрым дворянином. Узнав новости обо мне, он пришла ко мне и принесла некий хлеб, похожий на хлеб из колосьев, и я странным образом выздоровел. С этого времени я все время носил его с собой, и могу сказать, что ему я обязан жизнью.
* * *
А тем временем война, длившаяся еще два-три года, наконец закончилась мирным договором, который был подписан в Нимвегене. Наш король получил большие преимущества: он сумел разъединить своих противников, и они вместо того, чтобы выступить совместно, заключали каждый свой отдельный договор[111], что с их стороны было серьезной ошибкой, но они не понимали этого.
Вначале король разъединил своих врагов, а потом воспользовался благоприятной политической конъюнктурой. В результате Люксембург остался за Испанией, а он в порядке компенсации получил Алост[112], на который претендовал. Эта претензия не была такой уж химерой, как говорили многие, так как король взял этот город во время войны, а в договоре было написано, что его завоевания остаются ему, за исключением тех городов, которые он должен был отдать, но они были специально поименованы, а Алост в этот перечень не входил.
Испанцы стали возражать, и возникла необходимость обращаться за решением к королю Англии, который был посредником при заключении мира и его гарантом. Но так как этот король с подозрением относился к испанцам, они предпочли назначить специальных комиссаров, чтобы решить все полюбовно. Наш король, со своей стороны, сделал следующее: он выбрал город Куртре для проведения специальной ассамблеи, которая, впрочем, привела лишь к перепалкам между сторонами, после чего был блокирован Люксембург.
Все полагали, что после этого небольшого перемирия война возобновится с новой силой, а соседние принцы будут так обеспокоены, что делегируют своих послов к обоим королям, чтобы посмотреть, с кем выгоднее быть, чтобы все закончилось для них с наименьшими потерями. Но как они ни старались, в этом невозможно было преуспеть. Наш король хотеть иметь Алост или Люксембург, а испанцы не хотели уступать ни того, ни другого. Дело в том, что, уступая Люксембург, они закрывали себе дверь в Германию, а уступка Алоста означала потерю прибылей, шедших из Фландрии, так как один этот город приносил до полутора миллионов ливров ренты. Кроме того, от него было совсем близко до Брюсселя, а это представляло опасность. Наш король больше хотел получить Люксембург[113], чем Алост, и сам заявил, что это будет лучшим способом разрешения всех противоречий, однако испанцы нашли это подозрительным и продолжили настаивать на своем. При этом Люксембург оставался заблокированным. И тогда король Испании, который не мог противостоять нашему могущественному королю, отдал приказ своим солдатам, встречаясь с нашими, бить их палками и кулаками, но при этом иметь при себе шпагу. В будущие времена будет весьма трудно поверить в подобное, поэтому я и рассказываю все это для наиболее недоверчивых.
Блокада Люксембурга продолжалась, и прибытие графа Валсассина вернуло мужество гарнизону. Он вынудил губернатора предпринять некие меры предосторожности, но все равно, последний совершил ошибку, за которую мог бы лишиться головы, если бы он был во Франции, или, по крайней мере, потерять свой губернаторский пост. При приближении наших войск он разместил скрипачей на крепостном валу, как будто для того, чтобы показать, что это доставляет ему огромное удовольствие. Или же он хотел нам продемонстрировать, что, несмотря ни на что, в городе проходят балы и все веселятся. Однако он не учел, что имеет дело с противником, который умеет танцевать и под другую музыку и храбрость которого была проверена во многих войнах. В любом случае, он не учел того, что его противник не потерпит такого презрительного к себе отношения.
Если бы была предпринята прямая атака, то, возможно, произошло бы то, что имело место с господином принцем де Конде при осаде Лериды[114]. Но так как он имел тысячи успехов во Фландрии, судьба графа д'Аркура, битого в прошлом году, не испугала его, и он решил, что фортуна хочет, чтобы поступил, как в Каталонии и во многих других местах, а посему он поставил своих скрипачей посреди войск, занимавших траншею. Но он не удовлетворился этим и послал к губернатору осажденного города, чтобы сказать, что теперь часто будет играть ему подобные серенады. На это губернатор ответил, что обязательно возьмет реванш, но сейчас просит его извинить и подождать до завтрашнего дня, что его скрипки еще не подготовлены, но он обязательно предупредит, когда все будет готово. Этими скрипками оказалась пальба из пушек, которые начали стрелять, в то время как осажденные совершили мощную вылазку. Принц де Конде встретил их как подобает, отбросил противника до ворот города, но, не будучи поддержанным, вынужден был отступить, оставив семьсот или восемьсот человек убитыми и ранеными.
Как бы то ни было, если бы мне было позволено покритиковать такого великого полководца, то я спросил бы: для чего нужна была вся эта бравада или, точнее говоря, все это бахвальство? Ведь существуют тысячи других способов показать себя, неужели он об этом не подумал?
Но хватит об этом, и вернемся к моему рассказу. Губернатор Люксембурга был храбрым человеком, и это порой играло с ним злые шутки. Он ведь должен был понимать, что то, что простительно иногда солдату или простому офицеру, непростительно тому, кто несет ответственность за командование. Но об этом он как раз и не задумался, не только в этот раз, но и в другой, где были уже совсем другие последствия. И именно в этот раз, как я утверждаю, дело имело бы самые серьезные последствия, если бы он был на нашей службе.
Будучи однажды вечером на балу, он перекинулся парой слов с полковником своего гарнизона, которого звали Кантельмо, тот почувствовал себя оскорбленным и сказал ему, что хочет сатисфакции сейчас же. Губернатор его поймал на слове, не думая, что вокруг города находятся враги. Он покинул бал и назначил встречу на одной из улиц. У каждого был секундант, у губернатора это был граф Валсассина, а у Кантельмо – один из офицеров его полка. Их лакеи держали факелы, чтобы освещать место дуэли. Бой длился недолго. Губернатор нанес удар шпагой Кантельмо в бок, и полковник подумал, что очень серьезно ранен, и упал на мостовую. Так как губернатор увидел его внизу, он потребовал, чтобы тот молил его о пощаде, но в это время секундант Кантельмо бросился вперед и пронзил бы губернатора, если бы лакеи не защитили его факелами. Один из них ткнул его факелом в лицо, и это закончило бой. Секундант упал рядом с Кантельмо, граф Валсассина присоединился к губернатору, и они легко прикончили лежащих.
Если бы маршал де Креки, стоявший перед Люксембургом, имел приказ, он бы легко понял, что несложно взять город, губернатор которого проявляет так мало осторожности, но мы не имели права применять силу и должны были быть любезны с королем Англии, который, выполняя функции посредника, казалось, был повсюду. Мы англичан за это просто боялись. Когда они объявили, что больше не являются нашими союзниками, наши дела не стали хуже, но нужно было быть очень осторожными, чтобы не получить в их лице новых врагов, да еще таких завистливых. Я признаю, что они храбрые люди, но я не думаю, что они могли похвастаться тем, что было у нас; я имею в виду большое количество людей, прекрасно понимающих, что такое война, а над ними короля, который охотно отдается удовольствиям, но не менее охотно оставляет их, если речь идет о славе.
* * *
Я не стану подробно рассказывать, что стало причиной того, что мы сняли блокаду Люксембурга, тем более что об этом говорили повсюду, и это было так недавно, что нет, наверное, ни одного человека, который не был бы в курсе этого.
Через некоторое время после этого, когда я вернулся в Париж, меня свалила очень сильная горячка. К тому времени я уже привык к жизни спокойной и размеренной, и мне трудно было приспособиться к чему-то необычному, но я был вынужден поступить, как поступали другие, ибо мне было очень плохо. Я стал лечиться обычными лекарствами, сел на диету и регулярно делал кровопускания, но горячка все не прекращалась. Тогда мне посоветовали вместо моего врача обратиться к одному англичанину, который приобрел известность в королевстве своими многочисленными успехами в лекарском деле. Действительно, когда он занялся мной и применил свой секрет, горячка исчезла. Говорили, что так он вылечил многих людей, но сначала я опасался к нему обращаться, так как другие говорили, что многие его выздоровевшие больные потом вновь заболевали где-то через два-три месяца. Я думал даже отдать себя в другие руки, но все же решился и попросил его прийти ко мне.
Он пришел, осмотрел меня, а потом насмешил рассказом о маркизе д'Отфоре, первом шталмейстере королевы, человеке, который имел сто тысяч ливров ренты, но был таким жадным, что у него не было ни жены, ни детей, никого, кто мог бы о нем позаботиться. Он мне рассказал, что маркиз находился в подобном моему состоянии, и он ему сказал, что готов поделиться с ним своим секретом. Придя к нему, он увидел, что дела обстоят так плохо, что остается лишь надеяться на волю Господа, но он все же предложил ему свое лекарство. В ответ на это маркиз сначала спросил, сколько будет стоить лечение, а когда услышал ответ, заявил, что это слишком дорого и он не будет покупать лекарство. Это было особенно удивительно, так как он был очень богатым человеком. Тогда англичанин сказал ему, что не имеет привычки торговаться с такими людьми, что обычно он сначала вылечивает больного и лишь потом обсуждает ценовой вопрос, но тут он настаивает на фиксированной цене. К этому он добавил, что обычно это стоит не меньше пятидесяти пистолей, но маркиз вновь стал торговаться, предлагая четыре пистоля, а потом в гневе закричал, чтобы он убирался и что ему не нужно такое дорогое лекарство. Но не успел англичанин прийти домой, как к нему прибежал лакей с пятью пистолями и предложением маркиза о том, что так будут делать каждый день. Так прошло четыре дня, в течение которых он постоянно торговался по поводу денег, а потом он ушел в мир иной.
Мне было нетрудно поверить в этот рассказ. Я и сам нередко бывал свидетелем того, что маркиз – очень жадный человек, и это мне всегда в нем не нравилось.
* * *
Мне удалось поправиться, но и это, и все произошедшее со мной в моей долгой жизни лишний раз подтвердило, что все мы приходим в этот мир, чтобы страдать. Действительно, в жизни нам приходится сталкиваться с одними лишь сожалениями, и в конце концов я сделал то, что следовало бы сделать уже давно. Я ушел в религию, поселился в монастыре, где, будучи уже очень и очень старым, стал смиренно ждать своего последнего часа, часа, когда Господь призовет меня к себе.
Послесловие
В предисловии к «Трем мушкетерам» Александр Дюма довольно туманно рассказывает о том, как он нашел сюжет для своего романа. Он пишет: «Примерно год тому назад, занимаясь в Королевской библиотеке разысканиями для моей истории Людовика XIV, я случайно напал на "Мемуары господина д'Артаньяна", напечатанные – как большинство сочинений того времени, когда авторы, стремившиеся говорить правду, не хотели отправиться затем на более или менее длительный срок в Бастилию, – в Амстердаме, у Пьера Ружа. Заглавие соблазнило меня; я унес эти мемуары домой, разумеется, с позволения хранителя библиотеки, и жадно на них набросился».
Да, жизнь человека, прославившегося как д'Артаньян, обильно расцвеченная различного рода фантастическими приключениями, легла в основу трехтомных «Мемуаров господина д'Артаньяна, капитан-лейтенанта первой роты королевских мушкетеров», появившихся задолго до Александра Дюма, в самом начале XVIII века. Но этот текст был сочинен неким Гасьеном де Куртилем де Сандра (Gatien de Courtilz de Sandras), настоящий же д'Артаньян никаких воспоминаний не писал.
Александру Дюма очень не хотелось полностью раскрывать карты, поэтому он ограничился полуправдой: якобы он случайно нашел книгу в библиотеке, при этом имени ее настоящего автора Гасьена де Куртиля де Сандра (в дальнейшем, для простоты, мы будем называть его просто де Куртилем) он даже не упоминает. И это несмотря на то, что в свое время эта книга господина де Куртиля, действительно изданная в Нидерландах, пользовалась огромным успехом, в том числе и во Франции.
Сказать, что де Куртиль выпустил подложные «Мемуары», нельзя. Этот небогатый дворянин родился в 1644 году в Монтаржи и умер в 1712 году в Париже, служил в роте мушкетеров, и вполне можно предположить, что он лично знал настоящего д'Артаньяна. Все-таки жили они в одно время и вполне могли встречаться по службе или при дворе. Когда настоящий д'Артаньян погиб в 1673 году под Маастрихтом, де Куртилю было двадцать девять лет. «Мемуары» же он выпустил в 1700 году.
Сам де Куртиль тоже пытался преуспеть на военном поприще и даже дослужился до чина капитана. Когда же после окончания очередной войны войска были распущены, он, не имея никакого собственного имущества, которое могло бы дать ему средства к существованию, занялся ремеслом писателя, создающего занимательную литературу для широкой публики. Сочинения его были полны интересных подробностей, в том числе и о короле, что обеспечило им немедленный успех у читателей. Конечно же, королю это не понравилось, и де Куртиль на несколько лет был брошен в тюрьму, откуда ему удалось сбежать в Нидерланды. Там он вновь взялся за сочинительство. Написав «Мемуары господина д'Артаньяна», он в 1702 году неосторожно попытался вернуться на родину, но его тут же схватили и вновь упрятали в тюрьму, откуда он вышел лишь незадолго до смерти. Но и там этот автор оказался неисправим: он умудрился сочинить «Историю Бастилии», ставшую в свое время достаточно популярным чтением. Кстати сказать, известно, что в то время, когда де Куртиль первый раз находился в Бастилии, ее губернатором был господин де Бемо, близкий друг д'Артаньяна, и он тоже вполне мог быть для скандального сочинителя источником бесценной информации о знаменитом мушкетере. Пользовался ли де Куртиль какими-то записками д'Артаньяна или его устными рассказами – это остается загадкой. Сам он утверждал, что использовал подлинные записки д'Артаньяна, якобы найденные после гибели последнего. Но это маловероятно – знаменитый мушкетер хоть и был грамотен, но пером владел куда хуже, чем шпагой, и вряд ли писал что-либо, кроме военных приказов и долговых расписок. В любом случае, несомненно: жизненная основа у «Мемуаров» де Куртиля гораздо реальнее, чем у ставших знаменитыми романов Александра Дюма.
В XIX веке, когда Александр Дюма создавал на основе «Мемуаров» де Куртиля свой цикл о мушкетерах, их неточность уже была хорошо известна. Впрочем, Дюма и не стремился следовать исторической правде. Ему просто очень понравился герой де Куртиля – отважный гасконец, на каждом шагу сталкивавшийся с опасностями и героически их преодолевавший. Понравились и его товарищи со звучными именами Атос, Портос и Арамис. Для большей привлекательности он включил в свои книги ряд полулегендарных сюжетов XVII века, изначально с д'Артаньяном не связанных (эпизод с подвесками королевы Анны Австрийской, легенда о Железной Маске и т. д.).
Может возникнуть вопрос, а к чему мы все это рассказываем? Просто дело в том, что и «Мемуары графа де Рошфора» тоже написал неугомонный Гасьен де Куртиль де Сандра. Впервые это произведение вышло в свет в 1688 году в Кёльне, и называлось оно «Memoires de M.L.C.D.R.» (где L.C.D.R. – это Le Comte De Rochefort, или граф де Рошфор). Но если настоящий д'Артаньян существовал, то граф де Рошфор, его противник и антипод, относится к числу полностью вымышленных персонажей. Впрочем, имя его не было придумано Александром Дюма, как имена слуг мушкетеров (Планше, Грим о, Мушкетон и Базен), Констанции Бонасье и некоторых других. Графа де Рошфора придумал все тот же де Куртиль. С одной стороны, образ этого человека фигурировал в «Мемуарах господина д'Артаньяна» под фамилией Рознас, с другой стороны, именно им были написаны так называемые «Мемуары графа де Рошфора».
После 1688 года книга эта многократно переиздавалась.
У Дюма граф де Рошфор – это человек примерно сорока лет, он является преданнейшим слугой кардинала де Ришельё, дерзким и хладнокровным тайным агентом, хитрым и циничным шпионом («французским Джеймсом Бондом XVII века»), врагом д'Артаньяна, укравшим у него рекомендательное письмо к господину де Тревилю, сообщником Миледи и т. д. и т. п. В романе «Двадцать лет спустя» граф де Рошфор оказывается одним из вожаков Фронды и врагом кардинала Мазарини. В одной из сцен романа толпа, возглавляемая де Рошфором, предпринимает попытку вытащить кардинала из кареты, но при этом граф напарывается на шпагу д'Артаньяна. После этого толпа разбегается, а истекающий кровью граф де Рошфор успевает вымолвить:
– Это судьба. Я три раза излечивался после уколов вашей шпаги. В четвертый раз чуду, как видно, не бывать…
Д'Артаньян восклицает:
– Граф, я не видел, что это вы. Я не хотел бы, чтобы вы ушли из жизни с чувством ненависти ко мне!
И извечные враги пожимают друг другу руки…
Как говорится, фантазия Александра Дюма не знает границ, и у него граф де Рошфор, человек со шрамом, символизирует темные силы, с помощью которых строятся дьявольские козни против отважного героя д'Артаньяна и его не менее отважных и героических друзей.
На самом деле в «Мемуарах графа де Рошфора», написанных де Куртилем, имя д'Артаньяна, равно как и его друга-гасконца Франсуа де Бемо, упоминается всего один раз. Де Куртиль от имени графа пишет:
«Так как я проводил больше времени при дворе, чем на войне, я не возмущался тем командованием, которое мне дал господин кардинал. Я очень привязался к нему. При этом находилось немало людей, которые старались представить все так, будто я играю некую злую роль, и среди них могу отметить д'Артаньяна и Бемо, которых раздражало то, что они всю жизнь крутились возле Его Преосвященства, не получая повышения. Действительно, они представляли собой весьма ничтожные фигуры, достойные жалости и не знавшие порой, где взять денег на обед. Они мечтали об отставке, но так как они были гасконцами и не могли предпринять столь далекое путешествие без денег, они все время искали способ их раздобыть».
Как видим, образ д'Артаньяна не выглядит здесь особо героическим и романтическим.
К сожалению, почему-то принято считать, что качество произведений де Куртиля оставляет желать лучшего. Некоторые критики даже утверждают, что де Куртиль был бездарен.
Об этом можно и поспорить. Во всяком случае, у автора этих строк такого мнения не сложилось.
Относительно же правдивости произведений де Куртиля хотелось бы заметить следующее. Любой автор, даже самый серьезный историк, дает нам лишь свой вариант сути и последовательности событий. Все историки обещают нам правду, но ни один не в состоянии передать ее без каких-либо искажений. Проблема заключается лишь в том, в какой степени и по каким причинам допускаются эти самые искажения.
Что касается Александра Дюма, то надо сказать, что он всегда достаточно вольно обходился с историей и говорил, что она – только гвоздь, на который он вешает свои красочные картины. Конечно, глупо было бы утверждать, что писатель не знакомился с первоисточниками. Безусловно, основывался он не только на произведениях де Куртиля, и в его текстах можно легко найти дополнительные сведения, позаимствованные у десятков других авторов. В результате весь мир знакомится с французской историей по романам Дюма. И пусть эта история не во всем верна, зато она интересна и полна самых захватывающих приключений.
На наш взгляд, Александр Дюма – великий писатель. Более того, его можно даже считать родоначальником нового литературного жанра – эдакой исторической фантастики, в которой автор пишет не о будущем, а о прошлом, используя известные факты всего лишь как иллюстрации к развиваемому сюжету, к собственному взгляду на происходившие события. Конечно, серьезных историков это не может не раздражать. Но это, как говорится, их личное дело.
Мы не будем осуждать Александра Дюма. Он ведь никогда и не собирался день за днем восстанавливать ход истории. Он вообще – не историк, а романист, и написал он увлекательные книги, которыми зачитываются многие поколения людей, для которых история – это что-то связанное со школой, но не более того. А главное то, что Александр Дюма очаровал нас всех приключениями своего героя.
А что же де Курт иль? Ему просто не так повезло, и его имя долгое время оставалось совершенно забытым. Однако его история графа де Рошфора – это множество весьма метких исторических портретов, масса событий, к которым сам вымышленный граф не имел ни малейшего отношения, обилие интриг, заговоров, любовных приключений, придворных сплетен… И ничего демонического, потому что граф де Рошфор не был негодяем, антигероем или «игроком на поле зла», как его часто называют. Напротив, он был благородного происхождения и очень чтил кодекс чести. Просто он полжизни работал шпионом (есть ведь и такая работа), и обязанности свои он выполнял на совесть. Он славно потрудился на кардинала де Ришельё, получая за это по заслугам и даже больше, и был готов предоставить не меньшее кардиналу Мазарини, но итальянец, по версии де Куртиля, просто оказался недальновидным и неблагодарным человеком.
Короче говоря, «Мемуары графа де Рошфора» Гасьена де Куртиля де Сандра – это 448 страниц убористого текста, который, если изложить его современным языком, чуть-чуть подсократить и дать кое-какие пояснения, вполне может превратиться в историко-приключенческий бестселлер, действие которого происходит в XVII веке в старой доброй Франции. Что, собственно, мы и попытались сделать.
Сергей Нечаев
Примечания
1
В оригинале L.C.D.R. (Le comte De Rochefort). – Здесь и далее прим. перев.
Вернуться
2
Перевод сделан по изданию 1691 года.
Вернуться
3
Парламент – так во Франции назывались высшие суды, пользовавшиеся очень большими политическими правами. Первым по времени происхождения и по значению был парижский парламент. Он был образован из непосредственных вассалов короля (крупных баронов и прелатов), высших придворных чинов и ближайших советников короля.
Вернуться
4
Николя де Байёль (1586–1652) – маркиз де Шато-Гонтье, президент парижского парламента, суперинтендант финансов в период с 1643 по 1647 г.
Вернуться
5
В те времена так клеймили воровок и проституток.
Вернуться
6
Экю равнялось шести ливрам, а один ливр – примерно одному франку.
Вернуться
7
Луи де Марийак (1573–1632) – маршал, известный полководец. Был арестован после Дня одураченных (10 ноября 1630 года) и казнен на Гревской площади. Его брат Мишель де Марийак (1563–1632), советник парижского парламента и короля, управляющий финансами и хранитель печати, один из главных противников кардинала де Ришельё, сразу после Дня одураченных был посажен в тюрьму, где оставался до самой смерти.
Вернуться
8
Мера жидких и сыпучих тел во Франции тех времен (примерно 156 литров).
Вернуться
9
Лье сухопутное равнялось двум милям, или 3,3898 км.
Вернуться
10
Один пистоль равнялся десяти ливрам (сто пистолей – это примерно тысяча франков).
Вернуться
11
Мадам д'Эгийон – Мари-Мадлен де Виньеро, герцогиня д'Эгийон (1604–1675), племянница кардинала де Ришельё, дочь его сестры Франсуазы дю Плесси.
Вернуться
12
Речь идет о Кончино Кончини (1575–1617), сыне флорентийского нотариуса, ставшего фаворитом Марии Медичи и самым влиятельным человеком во Франции.
Вернуться
13
Граф де Суассон – Луи де Бурбон (1604–1641), кузен Людовика XIII (его отец приходился королю троюродным братом).
Вернуться
14
Мадам де Шеврёз – Мария де Роган, герцогиня де Шеврёз (1600–1679), в первом браке жена маршала де Люиня, с 1622 года была замужем за Клодом Лотарингским, герцогом де Шеврёзом.
Вернуться
15
Отец Жозеф – Франсуа дю Трамбле (1577–1638), начальник канцелярии кардинала де Ришельё, исполнитель его тайных поручений, в неразборчивости применяемых политических средств превосходивший своего начальника. Имел прозвище Серый кардинал.
Вернуться
16
Эрцгерцог – Леопольд-Вильгельм Австрийский (1614–1662), младший сын Фердинанда II Габсбурга, правитель Нидерландов в 1647–1656 годах, где он руководил войсками в войне против Франции.
Вернуться
17
Граф де Шале – Анри де Талейран (1599–1626), не раз участвовал в заговорах против кардинала де Ришельё. Заговор 1626 года имел целью убийство кардинала и низложение Людовика XIII, и в нем принимали участие ближайшие родственники короля и крупнейшая знать. Граф был схвачен и казнен в Нанте.
Вернуться
18
Герцог Гастон Орлеанский (1608–1660) – младший брат Людовика XIII, третий сын Генриха IV и Марии Медичи. Практически всю жизнь интриговал против своего брата-короля. В 1626 году, после раскрытия заговора де Шале, он согласился вступить в брак с герцогиней де Монпансье, которую ему давно сватал кардинал де Ришельё. За это он получил титул герцога Орлеанского (до этого он был лишь герцогом Анжуйским).
Вернуться
19
Королева – Анна Австрийская (1602–1666), жена Людовика XIII (с 1615 года), дочь короля Испании Филиппа III и Маргариты Австрийской. Считается, что вдохновителями заговора против графа де Шале были брат и супруга Людовика XIII, но наказать их было нельзя по определению.
Вернуться
20
Луидор равнялся двадцати четырем ливрам, то есть примерно двадцати четырем франкам.
Вернуться
21
Ensiegne – младший офицерский чин во французской армии, эквивалентный прапорщику (прапорщиками первоначально назывались знаменосцы), который, применительно к Франции XVII века, может быть переведен как «младший лейтенант».
Вернуться
22
Су – одна двадцатая часть ливра.
Вернуться
23
Пьер Сегье (1588–1672) – герцог де Вилльмор, президент парламента (высшего суда) с 1624 по 1633 год. Его дочь Мари была женой племянника кардинала де Ришельё. До него президентом Парламента был его дядя, Антуан Сегье (1552–1624).
Вернуться
24
Герцог д'Эпернон – Луи де Ногаре д'Эпернон (1593–1639), архиепископ Тулузский. Сын Жана-Луи де Ногаре, герцога д'Эпернона. В 1627 году отказался от сана и начал карьеру военного, командовал французскими войсками во время Тридцатилетней войны. Его брат, Бернар де Ногаре, герцог д'Эпернон, был мужем Анжелики де Вернёй, внебрачной дочери короля Генриха IV и его любовницы Генриетты де Бальзак д'Антраг.
Вернуться
25
Знать среднего уровня во Франции подразделялась на дворянство мантии (noblesse de robe), приобретенное гражданской службой, и дворянство шпаги (noblesse d'^p^e), приобретенное военной службой.
Вернуться
26
Франсуа де Монморанси-Бутвиль (1600–1627) – сын вице-адмирала короля Генриха IV. Он дрался на дуэлях с пятнадцатилетнего возраста. Роковая для него дуэль состоялась на Королевской площади в Париже 12 мая 1627 года. Вместе со своим кузеном, графом Франсуа де Шапелем, который выступал в роли секунданта, он бился против маркиза де Бёврона и маркиза де Бюсси. Де Бутвиль продемонстрировал полное превосходство во владении оружием и, добившись от побежденного извинений, заключил того в объятия. Граф де Шапель к тому времени уже убил маркиза де Бюсси. К несчастью, дуэль происходила днем и на многолюдной площади. Кроме того, она имела место накануне праздника Вознесения. Это, видимо, переполнило чашу терпения кардинала де Ришельё. Большинство дворянства требовало помилования, но кардинал был неумолим. 22 июня 1627 года граф де Бутвиль и граф де Шапель взошли на эшафот. Лишь маркиз де Бёврон сумел спастись бегством.
Вернуться
27
Голубая лента (Le Cordon Bleu) ведет свои традиции с XVI века. Именно тогда рыцари ордена Святого Духа, учрежденного французским королем Генрихом III, носили на груди особый знак на широкой голубой ленте. Членами ордена могли быть только дворяне, которые, разумеется, придерживались славных традиций французского гурманства. После этого, кстати, Le Cordon Bleu стала символом самой изысканной кухни.
Вернуться
28
Domine, non sum dignus – Господи, я недостоин (лат.).
Вернуться
29
Анри Куаффье де Рюзе, маркиз де Сен-Мар (1620–1642) – фаворит Людовика XIII, который был осыпан его милостями. Он стал участником заговора против кардинала де Ришельё и был казнен 12 сентября 1642 года.
Вернуться
30
Луи д'Астарак, виконт де Фонтрай (1605–1677) – гасконец, сын сенешаля Арманьяка. Очень страдал из-за своего физического уродства. Считается, что его ненависть к кардиналу де Ришельё возникла именно из-за того, что тот как-то раз неудачно пошутил на эту тему. Виконт неоднократно принимал участие в заговорах против кардинала, а в 1641 году он был участником заговора против де Сен-Мара. Незадолго до раскрытия заговора он укрылся в Англии, тем самым сумев избежать расправы. Во Францию он вернулся лишь после смерти Людовика XIII и принял участие в заговоре против кардинала Мазарини.
Вернуться
31
Фредерик-Морис де Ла Тур д'Овернь, герцог де Буйон (1605–1652) – генерал французской армии, старший брат знаменитого маршал де Тюренна. Вместе с графом де Суассоном принимал участие в заговоре против кардинала де Ришельё. Потом примирился с Людовиком XIII и кардиналом, но в 1642 году вновь принял участие в заговоре против де Сен-Мара.
Вернуться
32
Сражение при Онкуре было дано и проиграно испанским войскам маршалом де Граммоном 26 мая 1642 года.
Вернуться
33
Франсуа-Огюст де Ту (1607–1642) – государственный секретарь, который, близко сойдясь с де Сен-Маром, был вовлечен в заговор против кардинала де Ришельё. Выступал против договора с Испанией, но после того, как этот договор попал к кардиналу, вместе с де Сен-Маром был приговорен к смерти и казнен 12 сентября 1642 года.
Вернуться
34
Во время этой битвы граф де Суассон был убит.
Вернуться
35
Мари д'Отфор (1616–1691) – фрейлина королевы Марии Медичи, затем приближенная королевы Анны Австрийской. Невзирая на любовь Людовика XIII (чисто платоническую), она была одним из доверенных лиц королевы и участницей многих ее интриг. В 1646 году она стала женой маршала Шарля де Шомберга (1601–1656).
Вернуться
36
Мишель Ле Телье (1603–1685) – военный министр в 1643–1666 годах, канцлер и хранитель печати с 1677 года.
Вернуться
37
Кардинал Джулио Мазарини умер 9 марта 1661 года. Король Людовик XIII умер 14 мая 1643 года, а его место на французском троне занял его сын Людовик XIV, родившийся 5 сентября 1638 года. Регентшей при этом была объявлена его мать, королева Анна.
Вернуться
38
Николя Фуке (1615–1680) – главный прокурор в Париже, а потом суперинтендант финансов Франции, приведший государственный бюджет в полное расстройство и систематически расхищавший государственную казну. Перед смертью кардинал Мазарини, рекомендуя Людовику XIV Жана-Батиста Кольбера, посоветовал королю отделаться от Фуке. Фуке был арестован 5 сентября 1661 года и отправлен в Бастилию. В 1664 году он был осужден к пожизненному изгнанию и конфискации имущества, но потом король заменил изгнание пожизненным заключением. Фуке был отвезен в замок Пиньероль, где и прожил последние пятнадцать лет своей жизни. Считается, что Фуке слишком много знал, и именно поэтому по совету Ле Телье король заменил предписанное судом изгнание на пожизненное заключение.
Вернуться
39
Франсуа-Мишель Ле Телье (1641–1691) – маркиз де Лувуа, старший сын канцлера Ле Телье. Военный министр Людовика XIV с 1668 года. Отличился тем, что реформировал французскую армию, создал офицерский корпус, изменил систему снаряжения и вербовки войск. Был выдающимся знатоком в области военной техники и администрации, а его советы оказывали громадное влияние на внешнюю политику Франции.
Вернуться
40
Шарль-Морис Ле Телье (1642–1710) – младший сын канцлера Ле Телье и брат маркиза де Лувуа, архиепископ Реймский и пэр Франции.
Вернуться
41
Жан-Батист Кольбер (1619–1683) – сын зажиточного купца из Реймса, получивший доступ на государственную службу, обратив на себя внимание кардинала Мазарини, который назначил его своим управляющим. На этом посту он так хорошо показал себя, что кардинал рекомендовал его Людовику XIV, и молодой король назначил его генеральным интендантом финансов, а потом министром. Умер 6 сентября 1683 года.
Вернуться
42
Леон де Шавиньи (1608–1652) – граф, государственный советник по иностранным делам, член Регентского совета, установленного завещанием Людовика XIII.
Вернуться
43
де Шавиньи тщательно скрывали. Когда же королева узнала о содержании декларации, она заявила, что это ее сильно уязвило, что она этого никогда не сможет простить и что ее сторонникам следует прекратить посещения кардинала Мазарини и графа де Шавиньи.
Вернуться
44
Речь идет об Армане-Жане де Виньеро дю Плесси (1629–1715), который был внучатым племанником кардинала де Ришельё и после его смерти получил титул 2-го герцога де Ришельё. Напомним также, что Мари-Мадлен де Виньеро, герцогиня д'Эгийон (1604–1675), была племянницей кардинала де Ришельё, дочерью его сестры Франсуазы дю Плесси.
Вернуться
45
Франсуа де Бассомпьер (1579–1646) – маркиз д'Аруэ, фаворит Генриха IV и Людовика XIII. Участвовал в большинстве войн, которые вели эти короли. В 1622 году стал маршалом Франции. Участвовал в нескольких заговорах и в 1631 году был посажен в Бастилию. Из тюрьмы вышел лишь после смерти кардинала де Ришельё в 1643 году. После этого он прожил еще три года и умер от апоплексического удара.
Вернуться
46
Франсуа де Бурбон-Вандом, герцог де Бофор (1616–1669) – младший сын Сезара де Вандома. Вместе с отцом принимал участие в заговоре против кардинала де Ришельё в 1632 году, за что был сослан в Англию. В 1643 году он был главой заговора против кардинала Мазарини, за что был арестован и посажен в Венсенский замок, откуда ему удалось сбежать лишь в 1648 году. Сначала он скрывался в замке Шенонсо, затем – в Вандоме. Позже, в 1649 году, он принимал активное участие во Фронде, за что парижане дали ему прозвище Король нищих. Наконец, в 1653 году он помирился с кардиналом Мазарини. В 1669 году, поведя французский флот на помощь венецианцам, которые сражались с турками, погиб в битве при Кандии.
Вернуться
47
Парламент, который не разделял взглядов кардинала на финансовые дела, отказался зарегистрировать некоторые из его указов. В ответ на это Мазарини 16 августа 1648 года велел арестовать вожаков парламента. В Париже немедленно были воздвигнуты баррикады и вспыхнуло восстание, известное под названием Фронда. Во главе движения стояли наиболее видные представители французской аристократии, старавшиеся вырвать власть из рук ненавистного первого министра. Пять лет кардинал Мазарини выдерживал борьбу против соединенных сил аристократии, парламента и народа, действовавших против него. Он то уступал (например, он вернул обратно изгнанных членов Парламента), то вновь переходил в наступление. Несколько раз он был вынужден бежать из Парижа и два раза выезжал за пределы Франции (в 1661 и в 1652 гг.), но даже из-за границы продолжал руководить делами во Франции. 3 февраля 1653 года Мазарини торжественно вступил в Париж, и с тех пор он стал править страной еще более деспотически, чем прежде.
Вернуться
48
Принц де Конде – Луи де Бурбон (1621–1686), сын Анри де Бурбон-Конде. До 1646 года (при жизни отца) носил титул герцога Энгиенского. В 1641 году отец женил его на Клер-Клеманс де Брезе, племяннице кардинала де Ришельё, однако этот брак был неудачным. В семнадцать лет начал военную карьеру и одержал ряд побед во время Тридцатилетней войны (самая известная из них – в битве при Рокруа в 1643 году). Позже принял участие во Фронде, сначала на стороне кардинала Мазарини, затем против него.
Вернуться
49
Жан-Франсуа-Поль де Гонди, известный как кардинал де Рец (16131679) – сын Филиппа де Гонди, племянник Жана-Франсуа де Гонди, первого архиепископа Парижского. Участник Фронды. Неоднократно менял стороны, примыкая то к королеве, то к мятежному Парламенту. Получил титул кардинала в 1651 году из рук папы Иннокентия X, не любившего Мазарини. Вел активный светский образ жизни (одной из его любовниц была дочь герцогини де Шеврёз).
Вернуться
50
Луи де Роан (1598–1667) – старший сын Эркюля де Роана, брат герцогини де Шеврёз.
Вернуться
51
Первой женой герцога Орлеанского была Мария де Бурбон, герцогиня де Монпансье (1605–1627). В 1632 году он женился вторично, причем тайно, на Маргарите де Водемон (1615–1672), сестре герцога Карла Лотарингского.
Вернуться
52
Анна-Женевьева де Бурбон-Конде (1619–1679) – сестра принца де Конде, которая в 1642 году вышла замуж за герцога де Лонгвиля, вдовца, который был ее вдвое старше. Принимала активное участие во Фронде, фактически была одним из ее вождей.
Вернуться
53
Roi des Halles («король рынков» или «король нищих») – прозвище герцога де Бофора, данное ему парижанами.
Вернуться
54
Герцог де Немур – Шарль-Амедей Савойский (1624–1652), который был женат на Элизабет де Вандом, сестре герцога де Бофора.
Вернуться
55
В начале 1652 года армия фрондеров потерпела ряд неудач из-за того, что враждовали герцог де Немур, командовавший Фландрской армией принца де Конде, и герцог де Бофор, командовавший войсками герцога Орлеанского. Нелады между обоими командующими достигали опасного уровня, а сил каждого из них по отдельности не хватало на то, чтобы противостоять королевской армии во главе с маршалом де Тюренном. Принц де Конде и герцог Орлеанский тоже никак не могли согласовать свои действия.
Вернуться
56
Герцог де Бофор был внуком Генриха IV по боковой линии, шедшей от внебрачного сына короля и Габриэль д'Эстре, а герцог де Немур был сыном Генриха Савойского.
Вернуться
57
В тот день принц де Конде потерял также маркизов де Фламмарена и Ларош-жифара, графов де Кастра и де Боссю, де Фурно, де Ламартиньера и де Ламотт-Гийоне, а также многих других, все имена которых перечислить невозможно.
Вернуться
58
Принц де Конти – Арман де Бурбон (1629–1666), младший брат принца де Конде.
Вернуться
59
Жан-Гаспар-Фердинан, граф де Марсен (1601–1673) – уроженец Льежа, находился на службе у французского короля, во время Фронды поддерживал принца де Конде.
Вернуться
60
Анна-Мария Мартиноцци (1637–1672) – племянница кардинала Мазарини, дочь его сестры Маргариты, жена принца де Конти.
Вернуться
61
На самом деле принц де Конти женился 21 февраля 1654 года, а умер 21 февраля 1666 года.
Вернуться
62
Маршал де ля Ферте – Анри де ля Ферте-Сеннетерр (1599–1681) был произведен в маршалы в январе 1651 года. Во время Фронды оставался верен кардиналу Мазарини.
Вернуться
63
Его первой женой была Шарлотта де Бов де Контенан, неожиданно умершая в 1654 году.
Вернуться
64
Его второй женой была Магдалена д'Анженн (1639–1714), дочь барона де ля Лупа, как и ее старшая сестра Генриетта д'Олонн, известная своими скандальными приключениями. Маршал женился на ней в 1655 году, и от этого брака у них было шестеро детей.
Вернуться
65
Башня Шатле до 1802 года оставалась одной из самых больших тюрем Парижа, знаменитой своими темницами и пытками. В ней существовали подземные камеры, наполовину заполненные водой, куда узников спускали на веревке и где они не имели возможности ни сидеть, ни лежать, ни даже прислониться к стенам.
Вернуться
66
Фальконет – артиллерийское орудие калибра 45-100 мм в армиях и флотах XVI–XVIII веков.
Вернуться
67
Буа-ле-Дюк – французское название голландского города Герцогенбуш.
Вернуться
68
Женой принца Оранского (1626–1650) была Мария Стюарт (1631–1660), дочь короля Карла I Стюарта и Генриетты-Марии де Бурбон. Ее братьями были короли Карл II Стюарт и Яков II Стюарт.
Вернуться
69
Валансьен, в котором находился испанский гарнизон, был осажден французской армией в июне 1656 года.
Вернуться
70
Так называемая битва при дюнах имела место 14 июня 1658 года под Дюнкерком. В ней 14 000 испанцев под командованием дона Хуана Австрийского и принца де Конде сразились с армией маршала де Тюренна примерно такой же численности. На самом деле исход сражения решил десант с английских кораблей, поддержавший французов, а также фланговый удар кавалерии де Тюренна. Во время битвы было убито и взято в плен свыше 6000 испанцев.
Вернуться
71
Гражданская война закончилась в 1659 году заключением мира с габсбургской Испанией и укреплением королевской власти. Кардинал Мазарини помирился с принцем де Конде, которому во Франции был вынесен заочный смертный приговор за измену. Людовик XIV в 1660 году женился на Марии-Терезии, дочери испанского короля Филиппа IV, а принц де Конде был восстановлен во всех своих титулах и правах, но почти восемь лет оставался не у дел.
Вернуться
72
Кардинал Джулио Мазарини умер 9 марта 1661 года.
Вернуться
73
Jeu de Paume – игра, предшественница тенниса, в которой мяч перебрасывали через натянутый канат, а удары наносились ладонью, а потом специальной перчаткой с перетянутыми между пальцами нитями. Много позже была изобретена первая ракетка – лопатка с прикрепленной к ней ручкой.
Вернуться
74
Ни коля Фуке (1615–1680) – суперинтендант финансов Франции. Был арестован в сентябре 1661 года и отправлен в тюрьму. В декабре 1664 года его приговорили к вечному изгнанию и конфискации имущества, но король нашел этот приговор слишком мягким и заменил вечное изгнание пожизненным заключением. Фуке был отвезен в замок Пиньероль, где и прожил последние пятнадцать лет своей жизни.
Вернуться
75
Люси де ля Мотт-Аржанкур, фрейлина королевы, была любовницей Людовика XIV в 1657 году. Кардинал Мазарини с досадой отнесся к этой новости и сообщил юному монарху, что его избранница была любовницей маркиза де Ришельё. Подобные подробности не понравились королю, и он порвал все отношения с красавицей.
Вернуться
76
Катрин де Бове (1614–1690) – горничная королевы Анны Австрийской. Имела прозвище Кривая Като. Считается, что, когда королю пошел пятнадцатый год, королева сама поручила ей просветить его.
Вернуться
77
Процесс длился больше года, и в итоге девять членов суда высказались за смертную казнь, а тринадцать – за ссылку.
Вернуться
78
Фуке скончался в конце марта 1680 года. Акт о его смерти составлен не был, не проводилось и вскрытия. В 1681 году гроб перевезли в Париж и захоронили на монастырском кладбище.
Вернуться
79
Антуан-Номпар де Комон, герцог де Лозен (1632–1723) – капитан королевской гвардии и генерал-полковник драгун. Был доставлен в Пиньероль 19 декабря 1671 года, поплатившись за то, что грубо оскорбил фаворитку короля мадам де Монтеспан, а позднее имел дерзость претендовать на руку двоюродной сестры короля герцогини де Монпансье. В 1670 году герцогиня торжественно потребовала разрешение короля выйти замуж за де Лозена. Людовик понимал, что нельзя допустить эту свадьбу кузины, так как ее внушительное приданое и статус сделают ее мужа слишком влиятельным. Через год последовал арест де Лозена, и следующие десять лет он провел в Пиньероле, а герцогиня изо всех сил пыталась освободить его оттуда. Известно, что в первой половине 70-х годов де Лозен проделал ход в расположенную над ними камеру господина Фуке, и они стали встречаться и разговаривать друг с другом. Десять лет спустя герцог был освобожден, и любовники тайно обвенчались.
Вернуться
80
Генриетта-Луиза Кольбер (1657–1733), дочь королевского министра Жана-Батиста Кольбера, 20 января 1671 года вышла замуж за Поля де Сент-Аньяна (1648–1714), и от этого брака у них родилось тринадцать детей.
Вернуться
81
Луиза де Лавальер (1644–1710) – фаворитка Людовика XIV. Была фрейлиной Генриетты Орлеанской. Несмотря на то что она не отличалась красотой и несколько прихрамывала, ей удалось обворожить короля своей миловидностью и приветливым нравом. У нее было от него четверо детей, из которых в живых остались двое: Мария-Анна де Бурбон (1666–1739) и Луи де Бурбон, граф де Вермандуа (1667–1683). Когда Людовик XIV приблизил к себе герцогиню де Монтеспан, Луиза де Лавальер удалилась от двора и до конца жизни находилась в монастыре кармелиток.
Вернуться
82
Триктрак – старинная французская игра восточного происхождения (из Персии), разновидность игры в нарды. На квадратной доске, разделенной пополам перегородкой, изображены 24 треугольные клетки поочередно двух разных цветов. Каждому из двух игроков дается 15 белых или черных шашек и пара игральных костей. Выбрасывая поочередно кости, играющие передвигают по одной или по две шашки, начиная от первой клетки слева, в клетку, отстоящую от первой, через столько клеток, сколько очков выпало на костях. Кто первый занял двенадцать клеток, выигрывает одну фишку, обозначаемую посредством одного из 12 отверстий, находящихся на краю доски, а 12 фишек составляют одну партию.
Вернуться
83
Республика Соединенных провинций образовалась в результате победы Нидерландской буржуазной революции XVI века. Она существовала с 1581 по 1795 год. В республику входило семь провинций (Голландия, Зеландия, Утрехт, Гронинген, Гельдерн, Овериссель и Фрисландия), подписавших в 1579 году так называемую Утрехтскую унию, юридически утвердившую существование новой республики. С ростом влияния провинции Голландии на политику республики Соединенных провинций появилось другое название – Голландская республика.
Вернуться
84
Кардинал Мазарини примирился с принцем де Конде в 1659 году. На службе у Людовика XIV принц был восстановлен в своих титулах и правах, но в течение восьми лет оставался не у дел. В 1668 году он за три недели завоевал Франш-Конте.
Вернуться
85
Жан де Колиньи (1617–1686) – граф, верный сторонник принца де Конде во время Фронды.
Вернуться
86
Франсуа-Анри де Монморанси-Бутвиль, герцог Люксембургский (1628–1695) – маршал Франции.
Вернуться
87
Франсуа Гито (1581–1663) – граф де Комменж, капитан гвардии.
Вернуться
88
Маркиз де Лувуа (1641–1691) в 1668 году был назначен военным министром, и Людовик XIV относился к нему с большим доверием. Он был необычайно энергичен в работе, вырабатывал планы операций и всячески поощрял склонность короля к завоеваниям. При этом целый ряд видных полководцев, включая маршала де Тюренна, не мог примириться с бесцеремонными методами, которыми де Лувуа насаждал свою военную реформу.
Вернуться
89
Жан Мартине был полковником и генеральным инспектором армии. Он был очень строг, а посему непопулярен в войсках. Его заслуга заключается в том, что он ввел рекрутский набор, убрав из армии наемников и прочие сомнительные личности. Он одним из первых стал применять штыки во время боевых действий и наладил снабжение французской армии. Считается, что он случайно погиб в 1672 году при осаде Дуйсбурга от ядра, пущенного с французской стороны.
Вернуться
90
Первой ротой королевских мушкетеров командовал знаменитый д'Артаньян (Шарль де Батс де Кастельмор, граф д'Артаньян), убитый при осаде Маастрихта. Вторая рота была сформирована из бывших мушкетеров кардинала Мазарини, подаренных им королю в 1660 году в связи со свадьбой последнего. Тогда ротой командовал господин де Марсак. Они получили название «малых мушкетеров» в противоположность изначальным «большим мушкетерам», или «черных мушкетеров» (по присвоенной им в 1663 году масти коней – до того рота была пешей) в противоположность «серым мушкетерам». В 1665 году король объявил себя ее капитаном, фактическое же командование господин де Марсак передал господину Кольберу-Молеврие, брату всемогущего генерального контролера финансов Жана-Батиста Кольбера.
Вернуться
91
Martinet в переводе с французского значит «стриж», Ciron – «клещ», а Souris – «мышь».
Вернуться
92
Вильгельм III Оранский (1650–1702) – сын Вильгельма II Оранского и Марии Стюарт, дочери Карла I Стюарта. С 1667 года он получил право заседать в Государственном Совете. С начала 70-х годов, с усилением французской угрозы, возглавил армию Голландии. Под его руководством голландцам удалось переломить ход военных действий и остановить продвижение французов. После государственного переворота в Голландии получил в стране полную власть и сумел найти союзников в борьбе против Франции (Англия, Испания и др.). По итогам закончившейся в 1678 году войны Голландии удалось отстоять свою независимость. С 1689 года стал королем Англии и Шотландии.
Вернуться
93
Плоды войны (лат.).
Вернуться
94
Курфюрст бранденбургский Фридрих-Вильгельм пришел на помощь к Голландии, опасаясь за свои прирейнские владения и за судьбу протестантизма в Германии.
Вернуться
95
Речь идет о Яне де Витте (1625–1672), который на протяжении двадцати лет фактически стоял у руля Республики Соединенных провинций. Когда Людовик XIV неожиданно вторгся в пределы республики, народ потребовал передачи всех властных полномочий принцу Оранскому, виня в поражениях правительство де Витта. Сторонники принца натравили на де Витта толпу беснующейся черни. В результате он и его брат были убиты, а их тела растерзаны.
Вернуться
96
Электор (или курфюрст) – титул в Германии, присваивавшийся тем князьям и епископам, которые имели право участвовать в избрании императора так называемой Священной Римской империи. Палатином именовались два княжества в Германии: Нижний (или Рейнский, в 1815 году он был разделен между Пруссией, Баварией и Баденом) и Верхний (вошел в состав Баварии). Титул электора в XVII веке был присвоен князьям обоих Палатинов.
Вернуться
97
Проблема заключалась в том, что луидоры и пистоли долгое время считались настоящими деньгами. В XVII веке луидоры, например, чеканились из золота 917-й пробы, и вес монеты составлял 6,751 г. В начале XVIII века вес луидора увеличился до 8,158 г, а рекордным луидором стала монета весом 9,79 г. Луидоры чеканили до Великой французской революции, и лишь в 1795 году основной денежной единицей во Франции стал франк. Соответственно, до самой революции луидор оставался самым желательным способом оплаты. Постоянные войны, которые вел Людовик XIV, и огромные траты на его двор сильно подорвали финансовую систему страны. Звонкой монеты для оплаты катастрофически не хватало. В результате финансисты лихорадочно искали выход из тупика, и министерство финансов пошло даже на уменьшение веса монеты. Старую монету старались скрыть, новую не принимать в уплату. Франк же, впервые выпущенный в XIV веке, первоначально делался из чистого золота (почти 1000-я проба, вес – 3,885 г) и приравнивался к одному турскому ливру. Выпуск золотого франка продолжался до царствования Людовика XI, когда он был вытеснен золотым экю. В 1575 году был выпущен первый серебряный франк весом 14,188 г. В 1586 году выпуск франка был прекращен, однако чеканка серебряных монет в У2 и У4 франка продолжалась до 1642 года. Франки выпускали из серебра 833-й пробы (в отличие от экю, которые чеканили из серебра 917-й пробы). В середине XVII века серебряный франк был окончательно вытеснен серебряным экю. После Великой французской революции луидоры (основная золотая монета) и экю (основная серебряная монета) были заменены франками, которые стали основным расчетным средством. Монета достоинством в один франк содержала 4,5 г серебра.
Вернуться
98
Этот каламбур основан на игре слов – якорь по-французски будет «анкр» (ancre), что созвучно титулу фаворита королевы Кончино Кончини (маршала д'Анкра), а парус – «вуаль» (voile). Таким образом, второй смысл фразы выглядит так: «Связанный с д'Анкром не нуждается в вуали».
Вернуться
99
Вторая война Людовика XIV против Голландии шла с 1672 по 1679 год. Французы едва не взяли Амстердам, но голландцы прорвали плотины и затопили низменные части страны, а их корабли нанесли поражение англо-французскому флоту. На помощь к Голландии поспешил курфюрст бранденбургский Фридрих-Вильгельм, который потом склонил к войне с Францией и императора Леопольда I. Чуть позже к противникам Людовика XIV присоединились Испания и вся Священная Римская империя. После этого Англия оставила своего союзника (там парламент принудил короля прекратить войну).
Вернуться
100
Король Франции Генрих II присоединил к Франции Мец, Туль и Верден. Лотарингия была занята французами в 1634 году, и только в 1697 году Леопольд-Иосиф-Карл, внук герцога Лотарингского Карла IV (1604–1675), снова получил страну на тяжелых условиях. Ему в 1729 году наследовал его сын Франц-Стефан. Через несколько лет Франция лишила Франца-Стефана престола и отдала его польскому экс-королю Станиславу Лещинскому, после смерти которого в 1766 году Лотарингия была включена в состав Франции, навсегда потеряв политическую самостоятельность.
Вернуться
101
Сражение с турками возле венгерской деревни Сен-Готард имело место 1 августа 1664 года, на северном берегу реки Рааб.
Вернуться
102
Карл IV Лотарингский (1604–1675), шурин Гастона Орлеанского и противник Франции, в первом браке был женат на Николь Лотарингской (1608–1657). Во второй раз, еще при ее жизни, в 1637 году, он женился на Беатрисе де Кюизанс (1614–1663), после чего его отлучили от церкви за двоеженство. В 1665 году он женился в третий раз – на Марии-Луизе д'Апремон (1652–1692), которая была на 47 лет младше его.
Вернуться
103
Микелеты (исп. Miqueletes) – воинственные горные жители, разбойники.
Вернуться
104
Вильгельм-Эгон фон Фюрстенберг (1629–1704) попал в плен к императору Леопольду I в 1674 году. Его брат, Франц-Эгон фон Фюрстенберг (1625–1682), попал в опалу как изменник, был лишен всех званий и доходов и спасся из Кёльна в Париж, где беззаботно жил на пенсию, которую ему дал Людовик XIV. Именно старший брат усердно помогал устроить Рейнский союз, выгодный для Франции, за что был награжден епископством в Меце. Затем он уговорил курфюрста Кёльнского предоставить в распоряжение Людовика XIV Нейсс и Кайзерсверт, за что при помощи французских денег сделался епископом Страсбургским. Император Леопольд I возвел его в 1664 году в имперские князья, а в 1667 году он вступил в коллегию князей-электоров, имеющих право избирать императора.
Вернуться
105
Венцель Лобковиц (1609–1677) – министр императора Леопольда I, противившийся войне с Людовиком XIV. В 1674 году был сослан в Раудниц в Богемии, где умер 22 апреля 1677 года.
Вернуться
106
Нунций (от лат. Nuntius – посол, вестник) – представитель Римского Папы при правительстве какого-нибудь государства.
Вернуться
107
Карлос де Гуэрра Арагон, герцог де Виллаэрмоса (1634–1692) – губернатор испанских Нидерландов в 1675–1677 годах.
Вернуться
108
В мае 1675 года маршал де Тюренн переправился на правый берег Рейна и создал угрозу сообщениям австрийцев у реки Канциг. В июне и июле происходило непрерывное маневрирование двух армий, пытавшихся зайти в тыл друг другу. 27 июля французская армия натолкнулась на аванпосты австрийцев. В завязавшейся перестрелке выехавший на рекогносцировку маршал де Тюренн был убит наповал в районе Засбаха единственным ядром, выпущенным неприятельскими артиллеристами. После этого деморализованная французская армия стала в беспорядке отступать. Австрийцы ее преследовали и были остановлены уже в Эльзасе войсками принца де Конде.
Вернуться
109
Австрийцами командовал граф Раймунд Монтекуколи (1609–1681), происходивший из старинной итальянской фамилии. В 1675 году он действовал против маршала де Тюренна. После смерти последнего французы отступили, а Монтекуколи осадил Гагенау, но приближение армии принца де Конде вынудило его очистить Эльзас. В 1679 году император Леопольд возвел графа в княжеское достоинство.
Вернуться
110
Франсуа де Креки (1620–1687) – маршал Франции. Отличился во время Тридцатилетней войны, в двадцать девять лет уже был генерал-лейтенантом. Воевал во Фландрии и в Каталонии. Звание маршала получил в 1668 году.
После смерти де Тюренна возглавил армию, но в сентябре 1675 года был разбит при Триере и попал в плен.
Вернуться
111
Нимвегенские мирные договоры были заключены в голландском городе Нимвегене для завершения войны 1672–1678 года. В частности, были подписаны: договор между Францией и Республикой Соединенных провинций (11 августа 1678 года), договор между Францией и Испанией (17 сентября 1678 года) и договор между Францией и Священной Римской империей (5 февраля 1679 года).
Вернуться
112
Алост или Алст (флам. Aalst, франц. Alost) – город в Бельгии.
Вернуться
113
В 1555 году Люксембург вместе с Голландией и Фландрией отошел к испанскому королю Филиппу II Габсбургу (он вошел в состав Испанских Нидерландов). В XVII веке Люксембург неоднократно вовлекался в войны между Испанией и Францией. По Пиренейскому мирному договору 1659 года Людовик XIV отвоевал юго-западный край герцогства с городами Тьонвилль и Монмеди.
В 1679–1684 годах Людовик XIV планомерно захватывал Люксембург, но уже в 1697 году Франция вернула его Испании. В 1713 году, после Войны за испанское наследство, Люксембург вместе с Бельгией возвратился Габсбургам, которые теперь правили Австрией. После Великой французской революции французские войска вошли в Люксембург, и вплоть до 1813 года этот регион оставался под властью Франции. В 1815 году решением Венского конгресса было образовано Великое герцогство Люксембург.
Вернуться
114
Испанский город Лерида с гарнизоном в 4000 человек подвергся осаде французов под командованием принца де Конде 12 мая 1647 года. Обороняющиеся держались мужественно, и в результате в середине июня французы сняли осаду, и принц де Конде отвел свои войска.
Вернуться
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg

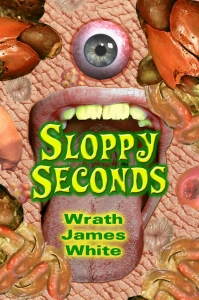




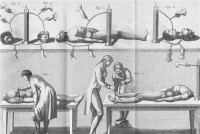




Комментарии к книге «Мемуары графа де Рошфора», Гасьен де Сандра де Куртиль
Всего 0 комментариев